Летиция Коломбани Сплетение
Laetitia Colombani
La Tresse
© Editions Grasset & Fasquelle, 2017
© Studio Omg / EyeEm / Gettyimages.ru
© Васильева С., перевод на русский язык, 2018
© Селиванова Ю., перевод на русский язык, 2018
© Издание на русском языке оформление ООО «Издательство «Э», 2018
* * *
Посвящается Оливии и отважным женщинам
Коса – несколько прядей волос (или несколько волокон), сплетенных вместе.
«…Симона, в чаще твоих волос кроется великая тайна».
Реми де Гурмон«Свободная женщина – прямая противоположность женщины легкого поведения».
Симона де БовуарПролог
Всегда в начале – робкий танец пальцев И дрожкий трепет первого стежка. Хотя уже не раз вправляла в пяльца Холстину новую рука. По хлопку вышивать – для долгой жизни. Цвета сгорят, останется сюжет. По шелку вышивать – шелка капризней, Доверия к шелкам в народе нет. Но что бы ни взяла для дела мастерица, Ее закон – не торопиться. А можно мойрой стать: плести веревку. Три нитки из мотка, за разом раз. Спокойно, механически, неловко… Люблю плести и наблюдать вполглаза, Как эти нити связывают нас. Нет в пальцах музыки, но есть немой балет. Я в нем один – танцор, и я же – зритель. Часами можно выводить на свет Таинственные чьих-то судеб нити. И, завязав последний узелок, Себя чужой судьбе отдать в залог[1].Смита
Деревня Бадлапур, штат Уттар-Прадеш, Индия
Смита просыпается со странным чувством: в животе у нее словно трепещет крылышками бабочка, предвещая что-то очень важное и приятное. Сегодняшний день она запомнит на всю жизнь. Сегодня ее дочка пойдет в школу.
Сама Смита в школе не была ни разу. Здесь, в Бадлапуре, такие, как она, в школу не ходят. Смита – неприкасаемая, далит[2]. Она из тех, кого Ганди называл детьми Господа. Вне касты, вне системы, вне чего бы то ни было. Она принадлежит к совершенно особому виду людей – нечистым, которым не место среди остальных, к недостойным отбросам, которых держат в стороне от всех, как отделяют от плевел добрые зерна. Их миллионы, таких как Смита, живущих за пределами деревень, вне общества, на периферии человечества.
Каждое утро – одно и то же. Будто заезженная пластинка, без конца повторяющая какую-то адскую мелодию. Смита просыпается в лачуге, служащей ей жилищем, неподалеку от возделываемых джатами[3] полей. Она моет лицо и ноги водой, принесенной накануне из колодца, которым им дозволено пользоваться. Упаси боже притронуться к другому – тому, что расположен ближе и удобнее: он предназначен для высших каст. Некоторые и за меньший проступок лишались жизни. Она собирается, причесывает Лалиту, целует Нагараджана. Затем берет тростниковую корзину, ту самую, которая принадлежала ее матери и от одного взгляда на которую тошнота подкатывает к горлу. Пропитанную стойкой, крепкой, неистребимой вонью, корзину, которую она носит дни напролет, как свой крест. Эта корзина – постыдная ноша – ее вечная мука. Проклятие. Кара. Что-то такое она, должно быть, совершила в одной из прежних жизней, и теперь ей приходится расплачиваться, искупать это «что-то». В конце концов, эта жизнь имеет не больше значения, чем предыдущие или последующие, это просто жизнь, одна из многих, говорила мать. Да, именно, такова ее жизнь.
Такова ее дхарма[4], ее долг, ее место в этом мире. Ремесло, передающееся из поколения в поколение, от матери к дочери. По-английски ее профессия называется scavenger, что означает «чистильщик». Благопристойное обозначение реалии, которая таковой не является. То, чем занимается Смита, не определить одним словом. Целыми днями она вручную собирает чужие нечистоты. Ей было шесть лет, столько же, сколько сегодня Лалите, когда мать впервые взяла ее с собой на работу. Смотри, потом сама будешь делать то же самое. Смита помнит запах, напавший на нее, словно осиный рой, невыносимый, нечеловеческий запах. Ее вырвало там же, на обочине. Привыкнешь, сказала мать. Она солгала. К такому не привыкнуть. Смита научилась задерживать дыхание, жить не дыша. Надо дышать, сказал деревенский доктор, видите, как вы кашляете. Надо есть. Аппетит Смита давно потеряла. Она и не помнит уже, как это бывает, когда хочется есть. Ест она мало, самый минимум, горсть риса, разведенного водой, – вот и все, что она навязывает каждый день своему не принимающему пищу телу.
Впрочем, правительство обещало понастроить туалетов по всей стране. Увы, до этого угла они не добрались. В Бадлапуре, как и в других местах, люди испражняются прямо под открытым небом. Повсюду тонны нечистот загрязняют почву, реки, поля. Болезни распространяются со скоростью лесного пожара. Политики знают: прежде реформ, прежде социального равенства, даже прежде работы народу нужны туалеты. Народ хочет иметь право испражняться достойно. Женщины в деревнях дожидаются темноты и идут справлять нужду куда-нибудь в поля, подвергая себя множеству опасностей. Наиболее удачливые обустраивают специальный уголок во дворе или в дальнем конце дома, обычную яму, стыдливо называемую сухим туалетом, отхожее место, которое каждый день чистят вручную далитские женщины. Такие как Смита.
Она начинает свой обход около семи часов. Берет корзину и метелку из тростника. Ей надо вычистить двадцать домов (и так каждый день), так что приходится поторапливаться. Она идет по обочине дороги, опустив глаза, спрятав под платком лицо. В некоторых деревнях далитов заставляют нацеплять на себя воронье перо, чтобы все знали, кто они. В других – им полагается ходить босиком: всем известна история неприкасаемого, которого побили камнями только за то, что он надел сандалии. Смита входит в дома через заднюю дверь, она не должна встречаться с жильцами и тем более разговаривать с ними. Она не только неприкасаемая – она должна быть еще и невидимой. В уплату за свою работу она получает остатки пищи, иногда старую одежду, все это ей бросают на землю. Не касаясь, не глядя на нее.
Иногда она вообще ничего не получает. Одна джатская семья вот уже несколько месяцев ничего не платит. Смита хотела прекратить это, как-то вечером она сказала Нагараджану, что больше туда не пойдет, пусть убирают свое дерьмо сами. Но Нагараджан перепугался: если Смита не станет туда ходить, их прогонят, ведь у них нет своей земли. Джаты придут и сожгут их лачугу. Смита знает, на что они способны. «Вот поотрубаем тебе ноги», – сказали они одному такому же, как она. Позже его и правда нашли на соседнем поле с отрубленными ногами и облитым кислотой.
Да, Смита знает, на что способны джаты.
Поэтому на следующий день она снова пошла туда.
Но сегодняшнее утро не такое, как всегда. Смита приняла решение, оно пришло к ней, как откровение: ее дочка пойдет в школу. С трудом убедила она Нагараджана. Ни к чему это, говорил он. Ну, научится она читать и писать, но ведь здесь никто не даст ей работы. Как ты родился чистильщиком уборных, так им и помрешь. Это передается по наследству, из этого круга никому не вырваться. Это – карма.
Но Смита не уступила. Она завела тот же разговор назавтра, и через день, и заводила все последующие дни. Она не желает брать Лалиту с собой на работу, не станет она показывать ей, как чистить уборные, не собирается смотреть, как ее дочку рвет в канаву, так же, как выворачивало когда-то ее саму. Нет, не будет этого. Лалита должна пойти в школу. Нагараджан в конце концов отступил перед ее решимостью. Он знает свою жену, знает силу ее воли. Эта маленькая темнокожая далитская женщина, которую он взял за себя десять лет назад, сильнее него. В общем, он уступил ей. Пусть. Он сходит в деревенскую школу и поговорит с брахманом[5].
Одержав победу, Смита улыбнулась украдкой. Вот бы и ее мать так же боролась за нее, она с радостью и сама переступила бы школьный порог, села среди других ребят. Научилась бы читать и считать. Но это было невозможно. Отец Смиты не был таким добрым, как Нагараджан, он был раздражительным и жестоким. Он бил свою жену, как и все мужчины здесь. Жена мужу не ровня, любил он повторять, она ему принадлежит, она – его собственность, его рабыня. Она должна подчиняться его воле. Отец скорее стал бы спасать корову, чем жену, это уж точно.
Смите же повезло: Нагараджан ни разу не побил ее, ни разу не оскорбил. Когда родилась Лалита, он даже согласился сохранить ей жизнь. А ведь совсем неподалеку новорожденных девочек убивают. В деревнях Раджастана их живьем закапывают в землю – сразу после рождения кладут в коробку и засыпают песком. За ночь девочки умирают.
Но здесь не так. Смита смотрит на Лалиту, которая причесывает свою единственную куклу, сидя на корточках на земляном полу лачуги. Такая красивая. У нее тонкие черты, длинные, до пояса, волосы, Смита каждое утро расчесывает их и заплетает в косы.
Моя дочка научится читать и писать, думает она, и ей становится радостно от этой мысли.
Да, сегодняшний день она запомнит на всю жизнь.
Джулия
Палермо, Сицилия
– Джулия!
Джулия с трудом открывает глаза. Голос матери раздается снизу.
– Джулия! Scendi! Subito![6]
Джулию так и подмывает спрятать голову под подушку. Она не выспалась – опять читала всю ночь. Но вставать все же надо. Надо слушаться, когда тебя мать зовет, ведь это сицилийская мать.
– Джулия!
Девушка нехотя выбирается из постели. Она встает, наскоро одевается и спускается в кухню, где мамма уже теряет терпение. Ее сестра Адела уже встала и, сидя за накрытым к завтраку столом, красит ногти на ногах. От запаха лака Джулия морщится. Мать наливает ей кофе.
– Отец уехал. Сегодня тебе открывать.
Джулия берет ключи от мастерской и быстро выходит из дома.
– Ты ничего не съела. Возьми хотя бы что-нибудь с собой!
Не обращая внимания на слова матери, она вскакивает на велосипед и уносится, изо всех сил нажимая на педали. От прохладного утреннего воздуха она понемногу просыпается. Ветер хлещет ее по лицу, по глазам. Она подъезжает к рынку, и нос начинает щипать от запаха цитрусовых и свежих оливок. Джулия проезжает мимо рыбного прилавка, на котором разложены только что выловленные сардины и угри. Она сильнее давит на педали, едет по тротуарам, оставляя позади пьяцца Балларо, где уличные торговцы уже зазывают клиентов.
Наконец она приезжает в тупик в стороне от виа Рома. Здесь находится мастерская отца, устроенная в бывшем кинотеатре, здание которого он выкупил уже двадцать лет назад – как раз возраст Джулии. В его тогдашней мастерской стало тесно, надо было куда-то переезжать. На фасаде до сих пор можно различить место, куда наклеивались афиши кинофильмов. Прошли те времена, когда жители Палермо валом валили на комедии с Альберто Сорди, Витторио Гассманом, Нино Манфреди, Уго Тоньяцци, Марчелло Мастроянни… Сегодня большинство кинозалов позакрывалось, как этот маленький, переоборудованный в мастерскую. Кинопроекционную переделали в кабинет, в зрительном зале прорубили окна, чтобы работницам было больше света. Папа сделал все своими руками. Мастерская и похожа на него, думает Джулия: такая же беспорядочная и теплая. Несмотря на всем известную вспыльчивость, Пьетро Ланфреди пользуется любовью и уважением своих работников. Он – любящий отец, но при этом требовательный и властный, сумевший воспитать в дочерях любовь к дисциплине и научить их хорошо делать свою работу.
Джулия достает ключ и открывает дверь. Обычно первым в мастерскую приходит отец. Он сам встречает работниц, для него это важно: «это и означает быть падроне», – хозяином, любит повторять он. У него всегда найдется доброе слово для одной, участливое внимание для другой, он никого не забывает. Но сегодня он объезжает парикмахерские Палермо и его окрестностей. Вернется не раньше полудня. Так что этим утром Джулия – хозяйка.
В этот час в мастерской тихо. Скоро она наполнится шумом множества разговоров, песнями, голосами, но пока здесь только тишина да эхо шагов Джулии. Она идет в раздевалку для работниц, кладет вещи в ячейку со своим именем, достает оттуда рабочий халат и, как обычно, надевает его, словно вторую кожу. Затем собирает волосы, закручивает их в тугой узел, быстро втыкает в него несколько шпилек, после чего повязывает голову косынкой – здесь это обязательно: нельзя, чтобы твои волосы мешались с рабочим материалом. Одетая и причесанная таким образом, она перестает быть хозяйской дочкой: теперь она такая же работница, как и другие, сотрудница фирмы Ланфреди. Ей это нравится, она никогда не желала быть на особом положении.
Со скрипом распахивается входная дверь, и пространство заполняется веселой толпой. Мастерская мгновенно оживает, превращаясь в то самое шумное помещение, которое так нравится Джулии. Среди неясного гула множества перемешавшихся между собой разговоров работницы торопятся в раздевалку, где надевают халаты и передники, после чего, не переставая болтать, расходятся по местам. Джулия идет вместе с ними. У Аньезе осунувшееся лицо: у младшенького режутся зубки, она не спала всю ночь. Федерика с трудом удерживает слезы: ее бросил жених. «Опять?!» – восклицает Альда. «Завтра вернется», – успокаивает ее Паола. У этих женщин не только работа общая. Пока их руки возятся с волосами, они целыми днями разговаривают о мужчинах, о жизни, о любви. Здесь всем известно, что муж Джины пьет, что сын Альды водится с мафией, что Алесия крутила роман, пусть недолго, с бывшим мужем Рины, чего та ей так и не простила.
Джулии нравится быть среди этих женщин, многие их которых знали ее еще девочкой. Она чуть ли не родилась здесь. Мать любит рассказывать, как у нее начались схватки, когда она сортировала пряди в главном цеху – теперь из-за плохого зрения она больше не работает, пришлось уступить место сотруднице поглазастее. Джулия выросла здесь, среди волос: эти – на расчесывание, эти – в мойку, а там ждут отправки готовые заказы. Она помнит, как проводила среди работниц каникулы и среды, смотрела, как они трудятся. Ей нравилось наблюдать за их руками, снующими словно полчища муравьев. Она смотрела, как они бросают волосы на карды, эти огромные квадратные гребенки для расчесывания, как затем моют их в большой ванне, установленной на козлах, – хитроумное устройство, придуманное ее отцом, который не желал, чтобы его подчиненные портили себе спины. Джулию забавлял вид подвешенных к окнам для просушки прядей волос: ни дать ни взять – скальпы, трофеи, добытые индейцами и выставленные на всеобщее обозрение.
Иногда ей кажется, что время здесь остановилось. Где-то снаружи оно продолжает бег, но среди этих стен она чувствует себя под защитой. Это приятное, обнадеживающее чувство, оно вселяет уверенность в странное постоянство вещей.
Вот уже почти целый век ее семья живет благодаря каскатуре – древнему сицилийскому обычаю сохранять выпавшие или отрезанные волосы, чтобы делать затем из них накладки и парики. Мастерская Ланфреди, которую основал в 1926 году прадед Джулии, – последняя в Палермо. В ней трудятся с десяток работниц разных специальностей, они расчесывают, моют и обрабатывают волосы, которые затем рассылаются по Италии и по всей Европе. В день своего шестнадцатилетия Джулия сделала выбор: она оставила лицей, чтобы работать в мастерской вместе с отцом. Она была способной ученицей, учителя хвалили ее, особенно преподаватель итальянского языка, который убеждал ее учиться дальше. Она могла бы продолжить обучение, поступить в университет, но для нее пойти иным путем было немыслимо. Для Ланфреди изготовление париков – больше чем традиция, это страсть, передающаяся из поколения в поколение. Странно, но сестры Джулии не проявили никакого интереса к семейному промыслу, она – единственная из дочерей Ланфреди, решившая посвятить себя этому делу. Франческа рано вышла замуж и вообще не работает: у нее четверо детей. Адела, младшая, еще ходит в лицей и собирается заняться какой-нибудь профессией, связанной с модой или модельным бизнесом, – чем угодно, только чтобы не идти родительской дорогой.
Для особых заказов – на редкие цвета, которые бывает трудно найти, – у папы есть свой секрет: формула, завещанная ему отцом, а тому – дедом, на основе натуральных веществ, названий которых он никому не открывает. Эту формулу он передал Джулии. Он часто уводит ее с собой на крышу, в свою лабораторию, как он это называет. Оттуда видно море, а в другой стороне – Монте Пеллегрино. Облачившись в белый халат и становясь от этого похожим на учителя химии, Пьетро кипятит большие ведра для перекрашивания волос: он знает, как их обесцветить, как затем покрасить в другой цвет, да так, чтобы при мытье краска не полиняла. Джулия часами наблюдает за ним, внимательно приглядываясь к малейшим действиям. Папа обращается с волосами, как мамма с пастой. Он помешивает их деревянной ложкой, затем оставляет на какое-то время в покое, после чего снова возвращается к ним, и так без конца, без устали. В его заботливом отношении к волосам есть и терпение, и строгое соблюдение всех правил, и любовь. Ему нравится говорить, что однажды кто-то наденет их, а потому они заслуживают самого глубокого уважения. Джулия иногда представляет себе женщин, которым предназначаются все эти парики, – мужчины здесь накладных волос не носят, они слишком горды, слишком дорожат тем, что считают мужественностью.
Неизвестно по какой причине некоторые волосы не поддаются секретной формуле семейства Ланфреди. После погружения в ведра большая часть волос становится молочно-белыми, что позволяет их затем окрашивать заново, но всегда есть несколько волосков, упорно не желающих менять свой первоначальный цвет. Они представляют собой серьезную проблему: действительно, ведь это совершенно недопустимо, чтобы клиент обнаружил в тщательно перекрашенной пряди черных или каштановых упрямцев. Эта деликатная задача поручена Джулии ввиду ее острого зрения – она разбирает пряди волосок к волоску, чтобы изъять из общей массы непокорных. Это – настоящая охота на ведьм, облава, которую она ведет каждый день не покладая рук.
Голос Паолы выводит ее из мечтательности.
– Mia cara[7], ты выглядишь усталой. Всю ночь читала?
Джулия не отрицает. От Паолы ничего не скроешь. Она – дольше всех в мастерской, старейшина для работниц. Здесь все зовут ее нонна – «бабушка». Отца Джулии она знала еще ребенком; она любит рассказывать, как шнуровала ему башмачки. С высоты своих семидесяти пяти лет она видит все. У нее натруженные руки, морщинистая, пергаментная кожа, но взгляд по-прежнему зоркий. Паола овдовела в двадцать пять лет и одна вырастила четверых детей, так и не согласившись снова выйти замуж. Когда ее спрашивают, почему, она отвечает, что слишком дорожит своей свободой: замужней женщине все время надо держать отчет, говорит она. «Поступай как хочешь, mia cara, главное – замуж не выходи», – то и дело повторяет она Джулии. Охотно рассказывает она о своей помолвке с человеком, которого выбрал для нее отец. Семья ее будущего мужа разводила лимоны. Нонне пришлось работать на сборе урожая даже в день свадьбы. В деревне времени для безделья нет. Она помнит стойкий лимонный запах, исходивший от мужниной одежды и рук. Когда несколько лет спустя он умер от пневмонии, оставив ее одну с четырьмя детьми на руках, ей пришлось податься в город для поисков работы. Там она встретила деда Джулии, тот взял ее к себе в мастерскую. И вот уже пять десятков лет она работает здесь.
– Мужа в книжках не найдешь! – смеясь, восклицает Альда.
– Оставь ты ее в покое, – ворчит нонна.
Мужа Джулия не ищет. Она не ходит ни по кафе, ни по ночным клубам, которые так любят ее сверстники. «Диковатая у меня дочка», – говорит обычно мамма. Шуму дискотек Джулия предпочитает мягкую тишину городской библиотеки. Она ходит туда каждый день в обеденный час. В чтении Джулия ненасытна, она любит особую атмосферу больших залов со стенами, уставленными книгами, нарушаемую только шуршанием страниц. В этом для нее есть нечто религиозное, какая-то мистическая отрешенность, которая ей по душе. Читая, Джулия не замечает бега времени. Еще девочкой, сидя у ног работниц, она проглатывала романы Эмилио Сальгари. Потом открыла для себя поэзию. Она любит Капрони больше, чем Унгаретти, прозу Моравиа и особенно афоризмы Павезе, своего любимого автора. Ей кажется, что с ними она могла бы прожить всю жизнь. Она даже поесть забывает, частенько остается после обеденного перерыва голодной. Да, это так: Джулия глотает книги, как другие глотают канноли.
Сегодня, когда она возвращается после обеда в мастерскую, в главном зале царит непривычное молчание. Она входит, и все взгляды устремляются на нее. Нонна, бледная, с изменившимся лицом подходит к ней.
– Cara mia, – говорит она, и Джулия не узнает ее голоса, – только что звонила твоя мама. С папой что-то случилось.
Сара
Монреаль, Канада
Звонит будильник, и начинается обратный отсчет. Сара постоянно воюет со временем, с момента пробуждения до отхода ко сну. В тот самый миг, когда она открывает глаза, ее мозг включается, словно процессор компьютера.
Каждое утро она встает в пять часов. Поспать подольше у нее нет времени, каждая секунда на счету. Ее день расписан по минутам, расчерчен по миллиметрам, как те листы бумаги, что она покупает в начале учебного года детям для уроков математики. Далеко в прошлом остались те беззаботные времена, когда в ее жизни не было еще ни карьеры, ни семьи, ни ответственности. Тогда один телефонный звонок мог изменить все планы на день: «А что, если мы вечером?.. Может, съездим?.. Может, сходим?..» Сегодня все организовано, известно заранее. Никакой импровизации, роль заучена, сыграна, и теперь она исполняет ее изо дня в день, из недели в неделю, из месяца в месяц – год напролет. Мать семейства, ответственный работник, working-girl, it-girl, wonder-woman, – ярлыки, которые женские журналы наклеивают на таких женщин, как она, тяжелым грузом ложатся на плечи.
Сара встает, принимает душ, одевается. Ее движения точны, энергичны, слаженны, словно партии в военном оркестре. Она спускается в кухню, накрывает стол к завтраку, всегда в одном и том же порядке: молоко, пиалы, апельсиновый сок, шоколад, блинчики для Ханны и Саймона, мюсли для Итана, двойной кофе для себя. Затем идет будить детей. Сначала Ханну, потом близнецов. Одежду для них еще накануне приготовил Рон, им надо только умыться и одеться, а Ханна наполнит им ланчбоксы, тут все в порядке, все работает без перебоев, как мотор машины, на которой Сара развозит детей по школам – Саймона и Итана в начальную, а Ханну в колледж.
После поцелуев и бесконечных «ты ничего не забыл?», «надень шапку», «успехов тебе на математике», «перестаньте трещать там, сзади», «нет, ты пойдешь на физкультуру» и, наконец, традиционного «в выходные вы идете к вашим отцам», Сара берет курс на свой офис.
Точно в восемь часов она ставит машину на стоянку перед табличкой с ее именем: «Сара Коэн, Джонсон и Локвуд». Эта табличка, которую она с гордостью созерцает каждое утро, обозначает нечто большее, чем место, отведенное ее машине; это – титул, звание, ее место в мире. Достижение, работа на всю жизнь. Ее успех, ее сфера деятельности.
В холле с ней здоровается охранник, затем секретарша – ритуал всегда один и тот же. Здесь все ее уважают. Сара входит в лифт, нажимает на кнопку восьмого этажа, быстрым шагом проходит по коридорам к своему кабинету. Народу еще немного, она часто приходит на работу первой, а уходит последней. Такой ценой она делает карьеру, только такой ценой и можно стать Сарой Коэн, полноправным партнером престижной адвокатской фирмы «Джонсон и Локвуд», одной из наиболее котирующихся в городе. Большинство сотрудников там составляют женщины, однако Сара стала первой из них, кто дослужился до уровня партнера компании, известной своими мачистскими взглядами. Бо́льшая часть ее сокурсниц по адвокатской школе уперлись в стеклянный потолок. Некоторые даже оставили карьеру, сменили профессию, несмотря на долгую и нелегкую учебу. Но только не она. Не Сара Коэн. Стеклянный потолок разлетелся вдребезги под натиском дополнительных рабочих часов, проведенных в кабинете выходных, ночей, посвященных подготовке защитительных речей. Ей вспоминается, как десять лет назад она впервые вошла в этот мраморный холл. Она приехала тогда на собеседование и оказалась лицом к лицу с восемью мужчинами, в том числе с самим Джонсоном, учредителем и управляющим фирмы, – господом богом, который ради такого случая покинул свой кабинет и спустился в конференц-зал. Он не произнес ни слова, только пристально и строго посматривал на нее, внимательно вчитываясь в каждую строчку ее резюме и воздерживаясь от каких-либо комментариев. Сара почувствовала себя не в своей тарелке, но не показала виду, прекрасно владея искусством ношения маски, в котором практиковалась уже не один год. Из конференц-зала она вышла с чувством смутного разочарования: Джонсон не проявил к ней ни малейшего интереса, даже ни одного вопроса не задал. В течение всего собеседования лицо его оставалось совершенно бесстрастным, как у опытного игрока во время партии в покер, лишь в самом конце он расщедрился на сухое «до свидания», оставлявшее мало надежды на будущее. Сара знала, что кандидатов на это место много. Сама она работала в другой фирме, поменьше и поскромнее, где ей ничего не светило. Конкуренты были опытнее, напористее, им и должно было повезти.
Позже она узнала, что Джонсон сам выбрал ее, указал именно на Сару среди всех остальных кандидатов, не посчитавшись с мнением Гэри Кёрста. С этим ей предстояло свыкнуться: Гэри Кёрст не любил ее, а может, наоборот, слишком любил, может быть, ревновал или желал как женщину – какая разница, в любом случае при всех обстоятельствах он выступал против нее, без каких бы то ни было оснований, и ничего с этим нельзя было поделать. Сара знала таких честолюбцев, которые ненавидели женщин, видели в них угрозу для себя, вокруг было немало таких, но она не слишком обращала на них внимание. Прокладывая свой путь, она оставляла подобных типов на обочине. Работая у «Джонсона и Локвуда», она поднималась по иерархической лестнице со скоростью пущенной галопом скаковой лошади и вскоре сколотила себе солидную репутацию в суде. Это была ее арена, ее территория, ее колизей. Едва войдя в здание суда, она превращалась в воительницу, несгибаемую, безжалостную к врагам. Произнося речь, она слегка изменяла голос, делала его чуть ниже, торжественнее. Она говорила короткими, колючими фразами, быстрыми и резкими, как апперкоты. Используя малейшую слабину в аргументации противников, она быстро отправляла их в нокаут. Материалы дел она знала наизусть. Никогда не позволяла выбить себя из седла, никогда не теряла лица. С начала работы в маленьком офисе на улице Уинстон, куда она поступила сразу после получения адвокатского диплома, ею было выиграно подавляющее большинство дел. Сарой восхищались, ее побаивались. В свои неполные сорок лет она была образцом успеха для адвокатов своего поколения.
В фирме поговаривали, что следующим управляющим будет она: Джонсон уже немолод, ему нужна замена. Этого места вожделели все партнеры. Они так и видели себя в его кресле – халифы, пришедшие на смену другому халифу. Этот пост был своего рода посвящением, этаким Эверестом в мире адвокатуры. У Сары было все, чтобы получить его: образцовый послужной список, несгибаемая воля, работоспособность вне всякой конкуренции – нечто вроде булимии, заставлявшей ее постоянно пребывать в действии. Это был спорт, она, будто альпинистка, не успев покорить одну высоту, уже шла на приступ следующей. Она так и представляла свою жизнь – как длительное восхождение, спрашивая себя иногда, что будет, когда она достигнет вершины. Этого дня она, конечно, ждала, но не слишком надеялась на удачу.
Конечно, карьера потребовала от нее определенных жертв. Она стоила ей немало бессонных ночей, а также двух разводов. Сара часто повторяла, что мужчины любят только тех женщин, которые не могут их затмить. И соглашалась, что два адвоката в одной семье – это уже перебор. Однажды она прочитала в иллюстрированном журнале (которые практически никогда не читала) жестокую статистику относительно долговечности браков среди адвокатов. Она показала статью своему тогдашнему мужу, они вместе над ней посмеялись, а через год развелись.
Из-за занятости в фирме Саре часто приходилось отказываться от общения с детьми. Школьные мероприятия, праздники по случаю окончания учебного года, танцевальные спектакли, дни рождения, каникулы, которые проходили мимо нее, стоили ей гораздо больших моральных сил, чем она готова была признать. Сара знала, упущенные моменты невосполнимы, и эта мысль огорчала ее. Ей было прекрасно знакомо чувство вины, которым страдают работающие матери, оно не покидало ее с рождения Ханны, с того ужасного дня, когда ей пришлось оставить ее, пятидневную малышку, на попечение няни, чтобы заняться срочной работой в компании, где она тогда служила. Она быстро поняла, что в той среде, где она вращается, ее материнским переживаниям не будет места. И Сара стала, отправляясь на работу, прятать слезы под густым слоем крем-пудры. У нее разрывалось сердце, но ей не с кем было поделиться своими терзаниями. Как завидовала она тогда легкомыслию своего мужа, этому очаровательному легкомыслию, свойственному мужчинам, которые, как это ни странно, похоже, не испытывают подобных чувств. Без всяких мыслей переступают они порог своего жилища. Отправляясь утром на работу, они уносят с собой только папки с делами, тогда как на нее постоянно давит груз вины, который она повсюду таскает за собой, словно черепаха тяжелый панцирь. Сначала она пыталась бороться с этим чувством, отталкивала его, отрицала, но у нее ничего не получилось. В конце концов она отвела ему определенное место в жизни. Чувство вины стало ее верным спутником, появляясь внезапно, без приглашения. Оно – как рекламный щит в чистом поле, как бородавка на носу – ненужное, бесполезное, но реальное, и от этого никуда не денешься. С ним надо жить.
Перед своими сотрудниками и партнерами Сара не показывала виду. Она взяла себе за правило никогда не говорить о детях. Даже не упоминала о них, не держала на столе их фотографий. Когда ей надо было уйти с работы, чтобы побывать у педиатра или на родительском собрании, которым она не могла пренебречь, говорила, что у нее встреча с клиентом. Она знала, что ранний уход с работы, «чтобы пропустить по стаканчику», будет встречен с бо́льшим пониманием, чем проблемы с нянькой. Лучше соврать, что-то придумать, вывернуться – все, что угодно, только не признаваться, что у тебя есть дети, иными словами, цепи, путы, заботы. Помеха свободе, помеха карьере. Сара помнит одну женщину в фирме, где она работала прежде: та только-только была введена в состав партнеров, но стоило ей объявить о своей беременности, как ее тут же отставили, понизив до простого сотрудника. Это было насилие, скрытое, невидимое, обычное насилие, в котором никто не признается. Сара извлекла из этой истории полезный урок. Оба раза, когда она ждала ребенка, она ни о чем не сказала начальству. Живот у нее оставался незаметным на удивление долго: почти до седьмого месяца никто и не подозревал о ее беременности, даже когда она носила близнецов, как будто дети внутри ее почувствовали, что им лучше не показывать своего присутствия. Это был их маленький секрет, нечто вроде тайного соглашения. Отпуск по беременности Сара взяла самый маленький, какой только можно было взять. Через две недели после кесарева сечения она вышла на работу: безупречная фигура, бледное, но тщательно загримированное лицо, идеальная улыбка. По утрам, прежде чем поставить машину в подземный гараж под зданием офиса, она заезжала на парковку ближайшего супермаркета, чтобы убрать с заднего сиденья два детских автокресла и спрятать в багажник. Коллеги, конечно, знали, что у нее есть дети, но она старалась не напоминать им об этом. Вести разговоры о горшках и режущихся зубках позволительно секретарше, но никак не партнеру фирмы.
Таким образом Сара воздвигла непроницаемую стену между своей профессиональной жизнью и семейной, которые шли обе своим чередом, не пересекаясь, как две параллельные линии. Стена эта была хрупкой, ненадежной, иногда она давала трещину, а в один прекрасный день могла и вовсе рухнуть. Ну и пусть. Ей нравилось думать, что ее дети будут гордиться тем, чего она добилась, кем стала. Количество минут, проведенных с ними, она старалась компенсировать качеством. В семейном кругу Сара была любящей, заботливой матерью. Для всего остального существовал Рон – «Волшебник Рон», как прозвали его ребята, а он смеялся над этим прозвищем, ставшим уже чуть ли не титулом.
Сара наняла Рона через несколько месяцев после рождения близнецов. С предыдущей няней, Линдой, она не поладила. Та постоянно опаздывала, да и вообще не проявляла слишком большого рвения в работе. А однажды и вовсе совершила серьезный проступок, повлекший за собой немедленное увольнение: заехав домой за забытой папкой, Сара обнаружила девятимесячного Итана одного в кроватке в пустом доме. Линда с Саймоном вернулась с рынка час спустя как ни в чем не бывало. Застигнутая врасплох, она стала оправдываться, говоря, что гуляет с близнецами по очереди – через день, поскольку выводить их на прогулку сразу обоих ей трудно. Сара рассчитала ее в ту же секунду. Сославшись в офисе на приступ ишиаса, она за несколько дней перепробовала множество нянь, среди которых оказался и Рон. Обнаружив среди претендентов на такой пост мужчину, Сара сначала отклонила его кандидатуру: в газетах столько всякого пишут… Кроме того, оба ее мужа не слишком отличились в искусстве смены подгузников и кормления из соски, и теперь она сомневалась в том, что мужчина вообще способен преуспеть в таких делах. Но потом она вспомнила собственное собеседование при поступлении к Джонсону и Локвуду, то, что́ ей пришлось совершить как женщине, чтобы ее приняли в эту среду. В конце концов она пересмотрела свое решение. Рон, как и все остальные, имел право попытать счастья. У него было безупречное резюме, солидные рекомендации. Он сам был отцом двоих детей и жил в соседнем квартале. Было совершенно очевидно, что он обладает всеми качествами, необходимыми для этой работы. Сара устроила ему двухнедельный испытательный срок, в течение которого Рон проявил себя с самой лучшей стороны: он часами играл с детьми, божественно готовил, ходил за покупками, занимался уборкой, стирал, освобождая ее от самых тягостных повседневных забот. Дети сразу приняли его – и близнецы, и пятилетняя Ханна. Сара тогда только что рассталась со вторым мужем, отцом мальчиков, и ей подумалось, что мужчина будет кстати в такой неполной семье, как у нее. Кроме того, беря его в няньки, она, возможно, неосознанно защищала свои материнские права от посягательств. Так Рон и стал Волшебником Роном, без которого теперь невозможно было представить себе ни ее жизнь, ни жизнь ее детей.
Когда Сара смотрелась в зеркало, она видела там преуспевающую сорокалетнюю женщину: у нее было трое прекрасных детей, дом в шикарном квартале, карьера, которой многие завидовали. Ее словно срисовали с тех вполне состоявшихся женщин, что улыбаются со страниц глянцевых журналов. О ее ране никто не знал, она была невидима, почти неразличима под безупречным макияжем и элегантными костюмами от лучших модельеров.
И тем не менее рана была.
Как тысячи женщин по всей стране, Сара Коэн была разодрана надвое. Она была бомбой, и эта бомба готова была вот-вот взорваться.
Смита
Деревня Бадлапур, штат Уттар-Прадеш, Индия
– Иди сюда. Умойся. Поторопись. Сегодня важный день. Нам нельзя опаздывать.
Во дворе своей лачуги Смита помогает Лалите умыться. Девочка во всем ее слушается, не говоря ни слова, даже когда вода попадает ей в глаза. Смита расчесывает ее длинные, до пояса, волосы. Она никогда не подстригала их, здесь так принято: свои первые волосы женщины сохраняют долго, иногда до самой смерти. Она разделяет волосы на три пряди и привычными движениями ловко заплетает косу. Затем подает девочке сари, которое шила сама по ночам. Ткань подарила ей соседка. Купить школьную форму ей не на что, но это неважно. Ее девочка пойдет в школу нарядной.
Она встала на заре, чтобы приготовить завтрак: столовой в школе нет, и учащиеся должны приносить еду с собой. Она отварила рис, добавив в него немного карри, которое держит для особых случаев. Пусть Лалите будет вкусно в ее первый школьный день. Чтобы научиться читать и писать, ей понадобится много сил. Смита положила еду в самодельный ланчбокс – тщательно вымытую железную банку, которую собственноручно раскрасила. Лалите не должно быть стыдно перед другими. Она научится читать, как и они. Как дети джатов.
– Попудрись. Займись алтарем. Быстро.
В единственной комнате лачуги, служащей одновременно и кухней, и спальней, и храмом, в обязанности Лалиты входит приводить в порядок маленький алтарь. Она зажигает свечку и ставит ее перед изображениями божеств. Она же звонит в колокольчик после окончания молитв. Смита с дочкой вместе молятся Вишну, богу жизни, хранителю мироздания, защитнику всех людей. Когда нарушается мировой порядок, он спускается на землю, чтобы восстановить его, воплощаясь то в рыбу, то в черепаху, то в вепря, то в человекольва, а то и просто в человека. Вечерами Лалита любит посидеть после ужина у алтаря, слушая рассказы матери о десяти воплощениях Вишну. Воплотившись в первый раз в человека, он защитил касту брахманов от кшатриев[8], наполнив их кровью пять озер. В этом месте рассказа Лалиту всегда пробирает дрожь. Играя, она старается не раздавить ни одного муравья, ни одного паучка: кто знает, а вдруг Вишну где-то рядом, вдруг как раз сейчас он воплотился в одно из этих жалких существ… Бог на кончике ее пальца – подумать только! Эта мысль и радует, и пугает ее. Нагараджан тоже любит слушать Смиту, сидя вечерами у алтаря. Жена у него, хоть и неграмотная, но рассказывать мастерица.
Однако сегодня утром на рассказы нет времени. Нагараджан, как обычно, ушел из дома, как только рассвело. Он крысолов, крысоловом был и его отец. Работает он на полях у джатов. Это древнее ремесло, его навыки – как поймать крысу голыми руками – передаются по наследству. Грызуны уничтожают урожаи, портят землю своими норами и подземными ходами. Нагараджан научился распознавать эти характерные дырочки в земле. Тут нужно внимание, говорил ему отец. И терпение. Только не бойся. Сначала тебя будут кусать. Но ты научишься. Он вспоминает, как в первый раз ухватил крысу, засунув руку в нору. Ему было тогда восемь лет. Острая боль пронизала все его тело. Крыса укусила его в самое нежное место – между большим и указательным пальцем, где кожа такая тонкая. Нагараджан закричал и отдернул окровавленную руку. А отец засмеялся. Ты все неправильно делаешь. Быстрей надо, чтобы застать ее врасплох. Попробуй еще раз. Нагараджану было страшно, он с трудом сдерживал слезы. Еще раз! Шесть попыток, шесть укусов, но он все же вытянул из норы эту огромную крысищу. Отец схватил тварь за хвост, размозжил ей голову о камень, а потом снова протянул сыну. Ну вот, просто сказал он. Нагараджан схватил мертвую крысу, словно охотничий трофей, и отнес домой.
Мать сначала перевязала ему руку, а затем зажарила крысу, и они все вместе съели ее на ужин.
Далиты, такие, как Нагараджан, не получают платы за свой труд, но они могут брать себе то, что ловят. Это такая привилегия, ведь крысы принадлежат джатам, как и поля, и все, что на них находится, – на земле и под землей.
В жареном виде крысиное мясо даже вкусное. Похоже на курицу. Так говорят. Это – курица для бедных, для неприкасаемых. Единственное мясо, которое они могут есть. Нагараджан рассказывает, что его отец съедал крыс целиком, со шкурой и шерстью, оставляя только хвост. Он насаживал зверька на палку, жарил на открытом огне, а потом проглатывал. Лалита смеется, когда он рассказывает об этом. Смита шкуру снимает. Вечерами пойманных за день крыс они едят с рисом, а воду, в которой он варился, Смита использует как соус. Иногда у них бывают еще объедки со стола тех, у кого Смита чистит уборные, она приносит их и делится с соседями.
– Не забудь про бинди[9].
Лалита роется в своих вещах и достает флакончик с лаком, который раздобыла как-то, играя на обочине дороги. Она побоялась тогда сказать матери, что видела, как он выпал из сумки проходившей мимо женщины. Флакон скатился в канаву, и девочка подобрала его и спрятала, прижимая к груди, как сокровище. Вечером она принесла свою добычу домой, сказав, что нашла его. Ее переполняла радость пополам со стыдом: если бы Вишну знал…
Смита берет флакон из рук дочери и рисует у нее на лбу алый кружок. Окружность должна быть абсолютно правильной, это дело тонкое, тут нужна сноровка. Она осторожно постукивает по лаковому кружку кончиком пальца, после чего закрепляет его пудрой. Бинди – «третий глаз», как его здесь называют, – удерживает энергию и способствует сосредоточенности. Лалите сегодня это будет особенно нужно, думает мать. Она рассматривает ровный кружок на лбу девочки и улыбается. Лалита – красавица. У нее тонкие черты, черные глаза, четко очерченный ротик похож на цветок. И как хороша она в своем зеленом сари. Смиту переполняет гордость: ее дочка – школьница. Пусть она питается крысятиной, зато будет уметь читать. Она берет девочку за руку и ведет к большой дороге. Ей придется самой перевести ее на ту сторону: здесь с самого утра носятся грузовики и нет ни дорожных знаков, ни пешеходных переходов.
Пока они идут, Лалита с тревогой поглядывает на мать: ее пугают не грузовики, а этот незнакомый ее родителям новый мир, куда ей предстоит проникнуть в одиночку. Смита чувствует на себе жалобный взгляд дочери; проще всего было бы вернуться сейчас назад, взять тростниковую корзину, отвести девочку с собой на работу. Но нет, никогда она не увидит, как Лалиту рвет у канавы. Ее дочка пойдет в школу. Она научится и читать, и писать, и считать.
– Будь старательной. Слушайся учителя. Слушай, что он будет говорить.
У девочки растерянный вид, она выглядит такой слабенькой, что Смите хочется взять ее на руки и никогда больше не выпускать. Ей приходится сделать над собой усилие, чтобы побороть это желание. Когда Нагараджан ходил на встречу с учителем, тот сказал: «Ладно». Посмотрел сначала на банку, в которую Смита положила все их сбережения – все монеты, которые она много месяцев старательно откладывала специально для этой цели. Потом взял банку и сказал: «Ладно». Смита знает: все так и делается. Деньги здесь – самый убедительный довод. Нагараджан вернулся к жене с хорошей вестью, и они порадовались вместе.
Мать и дочь переходят дорогу, и вот настает момент, когда Смите надо выпустить руку Лалиты. Ей столько хочется сказать своей девочке: радуйся, у тебя будет другая жизнь, не такая, как у меня, ты будешь здоровой, ты не будешь кашлять, как я, ты будешь жить лучше, дольше, тебя будут уважать. От тебя не будет нести этой позорной вонью, этим неистребимым, проклятым духом, ты будешь достойной женщиной. Никто не будет бросать тебе объедки, как собаке. Ты никогда не будешь склонять голову, опускать глаза. Смите так хотелось бы сказать ей все это. Но она не умеет выражать свои мысли, не знает, как поведать дочери о своих надеждах, о своих чуточку безумных мечтах, как рассказать ей о бабочке, что трепещет внутри ее.
И тогда она наклоняется к Лалите и просто говорит:
– Иди.
Джулия
Палермо, Сицилия
Джулия внезапно просыпается.
Сегодня ночью ей приснился отец. Ребенком она так любила совершать объезд вместе с ним. Рано утром они садились на «веспу», причем Джулия устраивалась не позади, а впереди, на коленях у отца. Ей нравился ветер, трепавший волосы, но еще больше нравилось это порождаемое скоростью пьянящее чувство беспредельности и свободы. Ей не было страшно, ведь ее держали отцовские руки – что же могло с ней случиться? На спусках она кричала от удовольствия и восторга. Она смотрела, как встает над сицилийским побережьем солнце, как постепенно оживают предместья, как пробуждается, потягиваясь, сама жизнь.
Но больше всего ей нравилось звонить в двери. Здравствуйте, мы за каскатурой, гордо говорила она. Вручая ей пакеты с волосами, женщины угощали ее иногда каким-нибудь лакомством или дарили картинку. Джулия гордо забирала у них «добычу» и отдавала папе. Тот доставал из сумки маленькие чугунные весы, которые всегда носил с собой, – они перешли к Пьетро от отца, а тому – от деда. Он взвешивал пряди, чтобы определить их стоимость, потом давал женщине несколько монет. Когда-то волосы обменивались на спички, но с появлением зажигалок такой торг постепенно прекратился. Теперь расплачиваются наличными.
Отец часто со смехом рассказывал о старушках, которые не могли уже выходить за пределы собственной комнаты и спускали корзину со своими волосами из окна на веревке. Он махал им рукой, забирал волосы, клал деньги в корзину, которая таким же образом поднималась обратно.
Джулия помнит, как смеялся отец, рассказывая это.
Затем они отправлялись в другие дома. Arrivederci! У парикмахеров им перепадало побольше. Джулии нравилось выражение, с которым отец брал в руки косу, сплетенную из длинных волос, – самый редкий и самый дорогой товар. Он взвешивал ее, измерял длину, оценивал на ощупь мягкость и густоту волос. Потом платил, благодарил и ехал дальше. Надо было поторапливаться: в одном только Палермо у мастерской Ланфреди была сотня поставщиков. Если поспешить, к обеду они уже будут дома.
Этот образ – девятилетняя Джулия на «веспе» – еще какое-то время присутствует в ее сознании.
Но постепенно он становится все более расплывчатым, смутным, словно только что увиденный сон мешается с реальностью, с трудом пробивающейся наружу.
Значит, это правда. Вчера, во время своего объезда, папа попал в аварию. По необъяснимой причине «веспа» съехала с проезжей части. А ведь он прекрасно знает эту дорогу, он ездил по ней сотни раз. Спасатели говорят, что какое-то животное могло выскочить на проезжую часть, но есть вероятность, ему самому стало плохо. Никто не знает. Сейчас он находится между жизнью и смертью в больнице Франческо Саверио. Врачи отказываются делать прогнозы. Надо быть готовыми к самому худшему, сказали они маме.
«К самому худшему». Джулии этого даже себе не представить. Отец – это что-то такое, что не может умереть, что-то вечное, скала, столп, на котором все держится. Тем более ее отец. «Пьетро Ланфреди – это сама природа, мы еще отпразднуем его столетний юбилей», – говорит обычно его друг, доктор Синьоре, попивая вместе с ним граппу. Пьетро, весельчак, жизнелюб, папа, любитель хороших вин, патриарх, хозяин, холерик, увлекающаяся натура – ее отец, ее обожаемый отец не может уйти! Не сейчас. Не так.
Сегодня День святой Розалии. Какая ирония, думает Джулия. Ликующие жители Палермо будут шествовать с процессией по улицам города в честь его небесной покровительницы. Праздник будет пышным, как и каждый год. По обыкновению, отец дал работницам свободный день, чтобы те смогли принять участие в празднествах – прошлись днем в процессии по Корсо Витторио-Эммануэле, а вечером с наступлением темноты полюбовались фейерверком на Форо Италико.
Джулии же не до праздника. Пытаясь не обращать внимания на радостную атмосферу, царящую на улицах города, она вместе с матерью и сестрами едет к отцу. Папа лежит на больничной койке, и по его виду не скажешь, что ему больно. От этой мысли ей становится немного легче. Его тело, такое сильное когда-то, сегодня выглядит хрупким, как у ребенка. Он кажется меньше, чем раньше, думает она, как будто его ушили. Может быть, так и бывает, когда душа покидает тело… Она поспешно прогоняет эту зловещую мысль. Отец здесь. Он жив. Этого и надо держаться. Врачи говорят: черепно-мозговая травма. Это значит: ничего не известно. Никто не может сказать, выживет он или умрет. Он и сам, кажется, еще не решил.
Надо молиться, говорит мамма. Сегодня утром она попросила Джулию и ее сестер сходить вместе с ней на процессию святой Розалии. Святая дева творит чудеса, говорит она, в прошлом она показала это, когда спасла город от чумы, надо пойти и попросить о помощи. Джулии не очень-то по душе подобные проявления религиозного рвения, да и толпа с ее непредсказуемостью внушает опасения. Кроме того, она не верит во все это. Конечно, она крещеная и конфирмацию проходила: она помнит этот день, когда в традиционном белом платьице принимала первое причастие под внимательными и благочестивыми взглядами родных. Это одно из лучших воспоминаний ее жизни. Но сегодня у нее нет никакого желания молиться. Ей хочется побыть рядом с папой.
Однако мать настаивает. Когда медицина бессильна, помощи можно ждать только от Бога. Она говорит с такой убежденностью, что Джулии вдруг становится завидно: она завидует ее простодушной вере, которая никогда не оставляла ее. Мать – самая благочестивая из известных ей женщин. Каждую неделю она ходит в церковь послушать мессу на латыни, из которой не понимает ни слова. «Чтобы вознести благодарность Господу, понимать совсем не обязательно», – любит она повторять. В конце концов Джулия уступает.
Вместе они присоединяются к кортежу и толпе почитателей святой Розалии между собором и площадью Куатро Канти. Именно туда устремляется людской поток, чтобы почтить святую деву, гигантскую статую которой только что пронесли по улицам города. В июле в Палермо жарко, на улицах и проспектах стоит изнуряющая духота. Джулия задыхается в толпе, в ушах у нее гудит, в глазах помутилось.
Мать останавливается, чтобы поздороваться с соседкой, которая интересуется папиным здоровьем – весть о несчастье уже облетела всю округу, – и, воспользовавшись этим, Джулия отстает от процессии. Она укрывается в тенистом переулке, чтобы освежиться водой из фонтана. Дышать становится легче. Она понемногу приходит в себя, но тут на улице, чуть дальше, раздаются голоса. Два карабинера грубо останавливают какого-то крепкого темнокожего мужчину. На голове у него черная чалма, и стражи порядка велят ему ее снять. Мужчина протестует на прекрасном итальянском языке с легким иностранным акцентом. У него все в порядке, заверяет он, показывая свои документы, но жандармы не желают слушать. Они раздражаются, грозятся отвести его в участок, если он будет упорствовать в своем неповиновении властям: под головным убором может быть спрятано оружие, говорят они, а в день праздника такие вещи нельзя пускать на самотек. Мужчина стоит на своем. Чалма означает принадлежность к определенной религии, ему запрещено снимать ее на людях. Кроме того, она не мешает идентифицировать его личность, продолжает он, ведь на удостоверении он снят в том же виде: эта привилегия предоставлена сикхам итальянским правительством. Джулия с волнением наблюдает за сценой. Мужчина очень красив: у него атлетическое сложение, тонкие черты, смуглая кожа и неожиданно светлые глаза. На вид ему не больше тридцати. Карабинеры переходят на повышенные тона, один из них даже начинает толкать его. Затем они хватают его и тащат в сторону жандармерии.
Незнакомец не сопротивляется. Выражая всем своим видом достоинство и в то же время покорность, он проходит в окружении двух жандармов мимо Джулии. На какой-то миг их взгляды встречаются, Джулия не опускает глаз, иностранец – тоже. Затем он исчезает за углом, Джулия смотрит ему вслед.
– Che fai[10]?!
Франческа незаметно подходит к ней сзади, и она вздрагивает от неожиданности.
– Тебя повсюду ищут! Andiamo! Dai[11]!
Джулия следом за старшей сестрой нехотя возвращается к кортежу.
Вечером ей не спится. Снова и снова видит она мужчину с темной кожей. Ей хочется узнать, что же с ним было дальше, что сделали с ним жандармы. Может, избили? Выслали из страны? Она теряется в пустых догадках. Но больше всего ее мучит один вопрос: может, ей надо было вмешаться? Но что она смогла бы сделать? Джулия чувствует себя виноватой из-за пассивности. Непонятно, почему ее так волнует судьба этого незнакомца? Когда он посмотрел на нее, ею овладело странное чувство, раньше она ничего подобного не знала. Что это – любопытство? Сопереживание?
А может, что-то совсем другое, чего она не умеет определить?
Сара
Монреаль, Канада
Сара только что упала. В зале суда, посреди защитительной речи. Она вдруг умолкла, тяжело дыша и оглядываясь по сторонам, как будто внезапно перестала понимать, где находится. Потом попыталась вернуться к своей аргументации, несмотря на бледность и дрожь в руках, которые и выдавали ее состояние. Затем в глазах у нее потемнело, ей стало тяжело дышать. Сердечный ритм замедлился, кровь отлила от лица, будто река, покинувшая русло. И Сара рухнула со всего роста – как считавшиеся несокрушимыми башни-близнецы Всемирного торгового центра. Падение произошло в полной тишине. Она не вскрикнула, не позвала на помощь. Упала бесшумно, можно сказать, почти изящно, как карточный домик.
Когда она вновь открыла глаза, над ней стоял склонившись человек в форме врача «скорой».
– Вам стало плохо, мадам. Мы отвезем вас в больницу.
Мужчина сказал: «Мадам». Сара только-только приходит в себя, но эта деталь от нее не ускользнула. Она терпеть не может, когда к ней обращаются «мадам». Это слово обжигает, будто пощечина. В офисе все это знают – ее можно называть «мэтр», «мадемуазель», но только не «мадам». Какая она «мадам»? Два замужества и два развода давно уже нейтрализовали друг друга. А еще Сара ненавидит это слово за то, что оно говорит: вы уже не девушка, не мадемуазель, вы перешли в другую возрастную категорию. Ее также бесят анкеты, где надо помечать галочкой возрастную группу, к которой ты принадлежишь. Ей уже пришлось отказаться от замечательной группы «30–39 лет» и перейти в гораздо менее привлекательную «40–49». Сара и не заметила, как к ней подкралось сорокалетие. А ведь ей было сначала тридцать восемь, потом тридцать девять, но вот сорока она никак не ожидала. Не думала, что это наступит так скоро. «После сорока молодости уже нет», – она помнит, как прочитала эту фразу Коко Шанель в каком-то глянцевом журнале и как сразу его захлопнула. Она не успела тогда дочитать продолжение: «Но неотразимой можно быть в любом возрасте».
«Мадемуазель», – немедленно поправила врача Сара и села. Она попыталась встать, но мужчина мягким и одновременно властным жестом остановил ее. Она протестует, говорит что-то о деле, в котором выступает защитником. Дело срочное и очень важное – как всегда.
– Падая, вы поранились. Необходимо наложить швы.
Рядом с ней стоит Инес, сотрудница, которую она сама принимала на работу и которая помогает ей в ведении дел. Она сообщает, что заседание суда отложено на другой день. Она только что позвонила в офис, чтобы перенести ближайшие встречи. Инес, как всегда, действует быстро и эффективно: одним словом, не ассистентка, а само совершенство. Она кажется обеспокоенной, предлагает Саре поехать вместе с ней в больницу, но та отправляет ее обратно в фирму. Там от нее будет больше проку: надо подготовить вызов свидетелей на завтра.
Дожидаясь своей очереди в приемном покое Университетского больничного центра Монреаля, Сара думает, что, несмотря на милое название[12], напоминающее о друзьях-приятелях и даже с намеком на любовные отношения, это не слишком приятное место. В конце концов она встает с намерением уйти отсюда. Не собирается она торчать тут два часа из-за трех шовчиков на лбу, хватит обычной повязки, ей работать надо. Какой-то врач догоняет ее, усаживает обратно на место: надо подождать, пока ее не осмотрят. Сара возмущается, но выбора у нее нет, и она подчиняется.
У интерна, который наконец приступает к осмотру, длинные, тонкие пальцы. Он сосредоточенно задает ей множество вопросов, на которые Сара дает лаконичные ответы. Ей непонятно, зачем все это нужно, она нормально себя чувствует, повторяет Сара, но интерн продолжает осмотр. Нехотя, словно подозреваемая, из которой вытягивают признание, она наконец соглашается: да, сейчас она ощущает усталость. Да и как может быть иначе, когда на ней трое детей, дом, за которым надо следить, холодильник, который надо время от времени заполнять продуктами, и все это при работе на износ?
Сара не говорит, что вот уже месяц, как она встает по утрам совершенно изнуренной. Что каждый вечер, придя домой с работы, выслушав отчет Рона о том, как дети провели день, поужинав с ними, уложив близнецов и проверив уроки Ханны, она валится на диван и засыпает, так и не добравшись до пульта недавно купленного гигантского телевизора, который она никогда не смотрит.
Не упоминает она и об этой боли в груди слева, которую ощущает с некоторых пор. Ерунда, конечно… Ей не хочется говорить об этом, не здесь, не сейчас, не с этим незнакомым человеком в белом халате, который так холодно смотрит на нее. Неподходящий момент.
Интерн тем временем кажется озабоченным: давление низкое, и потом, эта бледность. Сара приуменьшает проблему, притворяется, изворачивается, она прекрасно умеет это делать. В конце концов, в этом и состоит ее работа. Всем в офисе известна шутка: «Когда можно понять, что адвокат лжет? Когда у него шевелятся губы». Она справлялась с самыми хитроумными судьями города, так что этому молодому интерну ее не взять. Она немного переутомилась, вот и все. Перегорела? Это слово вызывает у нее улыбку. Модное выражение, но оно тут не к месту, слишком уж оно сильное для определения простой усталости. Плохо позавтракала, недоспала… Недопереспала, хотелось ей пошутить, но строгий вид интерна отбил у нее всякую охоту идти с ним на сближение. А жаль, он довольно красив со своими очочками и вьющимися волосами, почти в ее вкусе. Хорошо, если он так этого хочет, она попринимает витамины. Она с улыбкой говорит ему про убойный коктейль, секрет которого известен ей одной: кофе, коньяк плюс кокаин. Очень действенное средство, ему тоже не мешало бы попробовать.
Но интерн не в настроении шутить. Он советует ей отдохнуть, взять отпуск. «Слинять куда-нибудь» – так он выразился. Сара смеется. Значит, и у врача может быть чувство юмора. Слинять? А как? Продать детей через интернет? Решить, что с этого дня они больше не едят? Объявить клиентам, что у нее забастовка? Она ведет дела такой значимости, что их никому не передать. Остановиться на бегу – это не вариант. Взять отпуск… Да она уже забыла, что это такое, ей и не вспомнить, когда она последний раз была в отпуске: в позапрошлом году или годом раньше?.. Интерн бросает пустую фразу, на которую она предпочитает не отвечать: «Незаменимых нет». Он явно не представляет себе, что это такое – быть партнером у «Джонсона и Локвуда». Не представляет, каково это – быть Сарой Коэн.
Ей надо идти. Интерн пытается задержать ее, чтобы продолжить обследование, но она убегает.
Сара не из тех, кто любит откладывать дела на завтра. Она хорошо училась в школе, была «прилежной ученицей», как говорили про нее учителя. Она терпеть не могла делать уроки в последнюю минуту, ей нравилось приготовить все «наперед», по ее собственному выражению. У нее вошло в привычку посвящать домашним заданиям самые первые часы уик-энда или школьных каникул, чтобы после чувствовать себя свободной. И на работе она всегда на голову опережала остальных, что и способствовало ее столь быстрому продвижению по службе. Она никогда не полагается на случай, у нее все всегда предусмотрено.
Но не здесь. И не сейчас.
Потому что сейчас – момент неподходящий.
И Сара уходит, чтобы вернуться в свой мир – к встречам, телеконференциям, спискам, папкам, защитительным речам, совещаниям, запискам, отчетам, бизнес-ланчам, повесткам, судебным определениям, к трем детям. Она возвращается на передовую, как бравый солдат, надевает привычную маску, которая так ей к лицу, – маску жизнерадостной, преуспевающей женщины. Ей ничего не сделалось – этой маске, на ней по-прежнему ни царапинки. Сейчас она вернется в офис, успокоит Инес и других сотрудников: все в порядке, ничего страшного. И все пойдет как раньше.
В ближайшие недели она сходит на контрольный осмотр к гинекологу. Да, что-то такое есть, скажет та, прощупывая Сару, и на лице ее проступит тревога. Она выпишет ей несколько направлений на обследования с жуткими названиями, от одного звучания которых становится страшно: маммография, МРТ, сканирование, биопсия. Обследования, которые сами по себе – почти диагноз. Приговор.
Но пока еще «момент неподходящий». Сара уходит из больницы, вопреки советам интерна.
Пока все еще хорошо.
Пока о проблеме не говоришь, она как бы и не существует.
Комната не больше детской: Встанет узкая кровать. Здесь за тонкой занавеской Мне работать и мечтать. Кто-то наше производство Смело ставит на поток. Но гордиться тем уродством Я б, наверное, не смог. Глаз боится – руки строят. Мысли где-то далеко… В жизни самое простое Достается нелегко. Можно выучить науку, Но еще нужна сноровка. Набивай нещадно руку: Часть победы – тренировка. Пусть спина моя крючком, И в груди теснится ком, — Только пальцев дивный танец Мне по-прежнему знаком. Иногда от мастерской До чудес подать рукой: Под землей и в небесах Слышу чьи-то голоса. Повторяю, не ленюсь: Просто эхом становлюсь.Смита
Деревня Бадлапур, штат Уттар-Прадеш, Индия
Едва войдя в хижину, Смита замечает странное выражение на лице дочери. Она так спешила поскорее закончить рабочий день, что, вопреки обыкновению, даже не зашла к соседке, чтобы поделиться с ней объедками джатов. Она сбегала на колодец за водой, убрала на место тростниковую корзину и помылась во дворе – ведро, не больше, ведь надо оставить воды Лалите и Нагараджану. Каждый день, прежде чем переступить порог дома, Смита трижды намыливается с головы до ног. Она не желает вносить в дом мерзкий запах, не хочет, чтобы у мужа и дочери эта вонь ассоциировалась с нею. Этот запах, запах чужого дерьма… Она не хочет иметь к нему отношения, не хочет окончательно слиться с ним. И вот она трет, трет, трет изо всех сил руки, ноги, лицо, трет, чуть ли не сдирая кожу, спрятавшись за обрывком ткани, служащим ей ширмой, в глубине двора на самом краю деревушки Бадлапур, на границе штата Уттар-Прадеш.
Смита вытирается, надевает чистую одежду и входит в хижину. Лалита сидит в углу, прижав колени к груди, и не отрываясь смотрит в пол. На лице ее мелькает выражение, которого мать раньше никогда не видела: смесь гнева и грусти.
– Что с тобой?
Девочка не отвечает. Сидит стиснув зубы.
– Скажи. Ну, рассказывай. Говори же!
Лалита продолжает молчать, уставившись в пустоту, будто разглядывая какую-то воображаемую точку, которая видна ей одной, где-то далеко-далеко, в каком-то недоступном месте, где ее никто не смог бы достать, даже мать. Смита нервничает.
– Говори!
Девочка сжимается в комок, прячется внутрь себя самой, словно напуганная улитка в раковину. Чего проще – встряхнуть ее, накричать, заставить говорить. Но Смита знает свою дочку: так из нее ничего не вытянуть. Бабочка у нее в животе превращается в краба. Ее душит тревога. Что же случилось в школе? Этот мир ей совсем незнаком, однако она послала туда свою девочку, свое сокровище. Может, не надо было? Что там с ней сделали?
Она оглядывает Лалиту: сари на спине, похоже, разорвано. Прореха, да, точно, прореха!
– Что ты наделала? Ты испачкалась! Где ты шлялась?!
Смита хватает дочку за руку, отрывает от стены и притягивает к себе. Новое сари, которое она шила часами, ночь за ночью, отказывая себе во сне, только чтобы поспеть вовремя, – это самое сари, которым она так гордилась, теперь порвано, выпачкано, испорчено!
– Ты порвала его! Смотри!
Охваченная бешенством, Смита переходит на крик, но вдруг застывает как вкопанная. В душу закрадывается страшное сомнение. Она тащит Лалиту во двор, на свет, – внутри лачуги темно, свет туда почти не проникает. Она принимается раздевать ее, резкими движениями стаскивая с нее сари. Лалита не оказывает никакого сопротивления, ткань легко разматывается, сари ей чуть великовато. Увидев спину девочки, Смита вздрагивает: она вся исполосована красными метинами. Это следы ударов. Местами кожа рассечена до мяса, и там зияют открытые раны. Кроваво-красные, как бинди у нее на лбу.
– Кто тебя?! Скажи! Кто тебя побил?!
Девочка опускает глаза, и с губ ее слетает одно слово. Только одно.
– Учитель.
Лицо у Смиты становится багровым. От гнева на шее вздувается вена. Лалите делается страшно, она боится этой выпирающей жилы: мать всегда такая спокойная. Смита хватает девочку, трясет, голое тельце качается в ее руках, как былинка.
– За что? Что ты сделала?! Ты не слушалась?!
Она взрывается: ее дочь плохо вела себя в первый день учебы! Теперь, конечно же, учитель не захочет принимать ее обратно. Все надежды рухнули, все старания пошли прахом! Она-то знает, что это означает: снова отхожие места, грязь, чужое дерьмо. Снова корзина, эта проклятая корзина, от которой ей так хотелось уберечь дочку… Смита никогда не бывала грубой, она ни разу в жизни никого не ударила, но тут вдруг почувствовала, как накатывает волна безудержного бешенства. Это новое чувство охватывает ее всю целиком, прорывая дамбу благоразумия и накрывая ее с головой. Она бьет девочку по щекам. Лалита вся съеживается под ударами, защищается как может, закрывает лицо руками.
С полей возвращается Нагараджан. Он слышит во дворе крики и бросается туда. Встает между матерью и дочерью. «Прекрати! Смита!» Он отталкивает ее, берет Лалиту на руки. Та сотрясается от рыданий. Он видит следы ударов у нее на спине, кровавые полосы на израненной коже. Прижимает девочку к себе.
– Она не слушалась брахмана! – кричит Смита.
Нагараджан обращается к дочке, не спуская ее с рук.
– Это правда?
Помолчав немного, Лалита наконец произносит фразу, которая для обоих звучит как пощечина:
– Он хотел, чтобы я подметала класс.
Смита окаменела. Лалита так тихо это сказала, она наверняка не расслышала. Она велит дочери повторить.
– Что ты сказала?!
– Он хотел, чтобы я подметала при всех. Я сказала, что не буду.
В страхе, что ее снова будут бить, девочка сжимается в комок. Она вдруг становится совсем маленькой, словно уменьшившись от страха. Смита с трудом переводит дыхание. Она притягивает к себе девочку, прижимает ее так сильно, как позволяют хрупкие детские плечики, и громко плачет. Лалита прячет лицо на шее у матери, ища забвения и покоя. Так они стоят долго-долго под растерянным взглядом Нагараджана. Он впервые видит свою жену плачущей. Та никогда не сгибалась под ударами судьбы, не сдавалась, всегда была сильной и волевой женщиной. Но сегодня… Прижавшись к своей избитой, униженной девочке, она сама стала таким же ребенком и громко плачет, оплакивая свои обманутые надежды, эту жизнь, которую она так мечтала, но не смогла подарить ей, потому что всегда найдутся джаты и брахманы, которые напомнят, кто они такие и откуда.
Вечером, уложив и убаюкав наконец-то уснувшую Лалиту, Смита дает волю возмущению. Почему он так поступил, этот учитель, этот брахман? Он ведь согласился принять Лалиту вместе с остальными детьми джатов, он взял их деньги и сказал: «Ладно!» Смита знает этого человека, знает его семью, знает их дом – в самом центре деревни. Она каждый день чистит их отхожее место, а его жена дает ей иногда рис. Так почему же?!
Ей вдруг вспоминаются пять озер, которые Вишну наполнил кровью кшатриев. Он тогда защищал касту брахманов. Они образованные, просвещенные, они – жрецы, выше всех остальных каст, выше всех людей на земле. За что же такому набрасываться на Лалиту? Ее девочка не представляет для них никакой опасности, она не несет угрозу ни их знанию, ни их положению, зачем же было вот так вот снова втаптывать ее в грязь? Почему бы не научить ее читать и писать, как других детей?
Подмести класс означает: тебе здесь не место. Ты – неприкасаемая, уборщица, такой и останешься на всю жизнь. Ты умрешь в дерьме, как твоя мать, как твоя бабка. Как твои дети и внуки и все твое потомство. Ничего другого для вас нет и не будет, вы – далиты, человеческое отребье, ваш удел – только жуткая вонь, только чужое дерьмо, дерьмо со всего света, которое вы будете убирать веками.
Лалита не покорилась. Она сказала «нет». При этой мысли Смиту переполняет гордость за дочку. Шестилетняя девочка, чуть выше табуретки, посмотрела брахману в глаза и сказала: «Нет». Тот схватил ее, исхлестал деревянной указкой прямо посреди класса, перед всеми. Лалита не плакала, не кричала, она не проронила ни звука. Когда настало время обеда, брахман лишил ее еды, он отнял железную коробку, которую приготовила для нее Смита. Девочке даже не позволили сесть, ей было разрешено только стоять и смотреть, как едят другие. Она не стала ничего просить, не стала унижаться. Так и осталась стоять одна. Полная достоинства. Да, Смита гордится своей дочкой, может, она и ест крыс, но она сильнее всех брахманов и джатов, вместе взятых, они не покорили, не сломили ее. Они избили ее, исполосовали ей спину, но вот она – какая была. Цельная, не сломленная.
Нагараджан не согласен с женой. Лалита должна была уступить: подумаешь, ну, помахала бы метлой, что тут такого страшного, в конце концов, деревянной указкой-то по спине похуже будет… Смита выходит из себя. Как он только может говорить такое?! Для чего существуют школы? Чтобы учить людей, а не ломать. Она пойдет и поговорит с ним, с брахманом, она знает, где он живет, там есть такая потайная дверца с обратной стороны дома, она каждый день ходит через нее со своей корзиной, чтобы убирать за ним грязь. Нагараджан отговаривает ее: ничего она не добьется, идя на конфликт с брахманом. Он сильнее ее. Все сильнее ее. Если Лалита хочет вернуться в школу, ей придется смириться с насмешками. Только такой ценой она научится читать и писать. В этом мире так водится: за пределы своей касты безнаказанно не выйдешь. За все надо платить.
Смита смотрит на мужа и вся трясется от негодования: она не позволит брахману делать из своего ребенка козла отпущения. Как он может даже представить себе такое? Как может думать об этом?! Ему бы принять ее сторону, возмутиться, восстать против всех на свете – разве не так должен поступать отец ради блага своего ребенка? Да Смита скорее умрет, чем отправит Лалиту снова в школу – ноги ее там больше не будет. Будь проклято это общество, которому ничего не стоит раздавить слабого, женщину, ребенка – всех, кого следовало бы, наоборот, всячески оберегать.
Пусть, отвечает Нагараджан. Лалита больше не пойдет туда. Завтра Смита возьмет ее с собой на работу, научит ремеслу, которым занимались ее мать и бабка. Вручит ей свою корзину. В конце концов, женщины ее рода занимались этим веками. Это их дхарма. И напрасно Смита надеялась, что у Лалиты будет иначе. Она захотела свернуть с предначертанного пути, но брахман своей деревянной указкой загнал ее обратно. Разговор окончен.
Вечером Смита молится перед маленьким алтарем, посвященным богу Вишну. Она знает, что не уснет. Снова думает она о пяти кровавых озерах: интересно, а сколько озер надо наполнить их кровью – кровью неприкасаемых, – чтобы освободить от этого тысячелетнего гнета? Таких, как она, миллионы, смирившихся, покорно ожидающих смерти. В следующей жизни будет лучше, говорила ее мать, главное, чтобы не прервалась эта адская цепь перерождений. Нирвана, последняя, высшая ступень, – вот, на что она уповала. Умереть на берегу священной реки Ганг – было ее заветной мечтой. Говорят, что после этого цикл перерождений прекращается. Не рождаться больше, раствориться в абсолюте, в космосе – вот высшая цель. Такое не всем дается, говорила она. Другие обречены на жизнь. И это надо принимать как божью кару. Вечность надо еще заслужить, такой порядок.
Вот далиты и гнут спину в ожидании вечности.
Но только не Смита. Сегодня – нет.
Для себя самой она приняла такую судьбу, как фатальную действительность. Но ее дочку они не получат. Она дает в этом обет, здесь, перед алтарем Вишну, во мраке жалкой лачуги, где уже заснул ее муж. Нет, Лалиту она им не отдаст. Ее протест молчалив, никому не слышен, почти не виден.
Но он есть.
Джулия
Палермо, Сицилия
Прямо как Спящая Красавица, думает Джулия, глядя на отца.
Вот уже неделю, как он спит здесь, на белых простынях больничной койки. Его состояние остается неизменным. Вид у него безмятежный: спит себе, будто ждет прекрасного принца, который его разбудит. Джулия вспоминает, как в детстве отец читал ей на ночь сказку о Спящей красавице. Про злую фею, ту, что произнесла роковое предсказание, он специально читал низким голосом. Она слышала эту сказку тысячу раз, но всегда с облегчением вздыхала, когда принцесса наконец просыпалась. Ей так нравилось слушать отцовский голос в уютной темноте родного дома.
Теперь голос умолк.
Папу окружает тишина.
Мастерская вернулась к работе. Работницы дружно выразили Джулии свою поддержку. Джина приготовила ей кассату[13], которую она так любит. Аньезе купила шоколадных конфет для мамы. Нонна предложила сменить ее у постели папы. Алессия, у которой брат священник, заказала молебен святой Екатерине. Все это небольшое сообщество сплотилось вокруг Джулии, не желая уступать свалившемуся на них горю. Глядя на них, Джулия и сама старается проявлять побольше оптимизма, как это всегда делал отец. Он выйдет из комы, она уверена в этом. Он снова займет свое место здесь. Это все временно, думает она, это ненадолго.
Каждый вечер после закрытия мастерской она идет к отцу. Она взяла в привычку читать ему: врачи говорят, что находящиеся в коме пациенты слышат, что́ говорится вокруг них. И вот Джулия часами читает вслух стихи, прозу, романы. «Теперь моя очередь читать ему, – думает она. – Он столько раз делал это для меня». Она знает: оттуда, где он сейчас находится, папа слышит ее.
Сегодня в обеденный перерыв она отправилась в библиотеку, чтобы взять книг для папы. Когда она вошла в погруженный в тишину читальный зал, произошло нечто странное. Она не сразу заметила ее за книжными полками. И вдруг…
Чалма.
Та самая чалма, которую она видела на улице тогда, в День святой Розалии.
Джулия остолбенела. Незнакомец стоял к ней спиной, она не могла видеть его лица. Он перешел к другим полкам. Заинтригованная, она пошла за ним. Вот он берет какую-то книгу, и она видит наконец его лицо: да, это он, человек, задержанный карабинерами… Похоже, он что-то ищет и не находит. Взволнованная таким совпадением, Джулия какое-то время наблюдает за ним. Он ее не замечает.
В конце концов она подходит к нему. Она не знает, с чего начать: приставать к мужчинам не в ее правилах. Обычно они сами заговаривают с ней. Джулия очень красива, ей часто это говорят. Несмотря на свои мальчишеские повадки, она излучает невинность и чувственность, не оставляющую равнодушными представителей противоположного пола. Ей известно, что означает выражение «раздевать взглядом». Итальянцы большие мастера на это: сначала красивые слова, все такое – она знает, к чему это может привести. Но на этот раз ею овладевает неожиданная смелость.
– Buongiorno.
Незнакомец оборачивается. Он удивлен и, похоже, не узнает ее. Джулия тоже молчит в замешательстве.
– Я видела вас тогда, на улице, во время шествия. Вас еще жандармы…
Ей вдруг становится неловко, и она не заканчивает фразы. А вдруг ему неприятно вспоминать о том случае?.. Она уже жалеет о проявленной смелости. Ей хочется исчезнуть… Зачем только она с ним заговорила? Но мужчина кивает. Теперь он ее узнал.
Джулия продолжает:
– Я боялась, что они посадят вас в тюрьму.
Он улыбнулся с веселым простодушием: что это за странная девица, которая так о нем беспокоится?
– Они продержали меня до вечера. А потом отпустили.
Он прекрасно говорит по-итальянски, только с легким акцентом. Джулия разглядывает его лицо. Несмотря на темную кожу, у него невероятно светлые глаза, теперь она хорошо их видит. Зеленовато-голубые, а может, наоборот – голубовато-зеленые? Странное сочетание.
Джулия совсем расхрабрилась:
– Может быть, я могу вам помочь? Я хорошо знаю эту библиотеку. Вы ищете что-то конкретное?
Мужчина объясняет, что хотел бы взять какую-нибудь книгу на итальянском языке – что-нибудь не очень сложное, уточняет он. Говорит он бегло, а вот с письменным языком ему еще трудно. Хотелось бы подтянуться. Джулия понимающе кивает. Она подводит его к стеллажу с итальянской литературой. Она не знает, что выбрать: современные авторы кажутся ей трудными для восприятия. И она советует ему взять роман Сальгари, который читала в детстве, – I figli dell’aria[14] – самый любимый. Незнакомец берет книгу, благодарит ее. Любой из здешних мужчин постарался бы ее удержать, завязал бы разговор. Воспользовался бы случаем, чтобы попытаться соблазнить ее. Он – нет. Просто поклонился и отошел.
Джулия смотрит, как он выходит из библиотеки с только что взятой книгой, и у нее сжимается сердце. Она злится на себя за то, что у нее не хватило храбрости догнать его. Здесь так не принято. Здесь за малознакомыми мужчинами не бегают. Ну почему она такая? Почему всегда только наблюдает, будто со стороны, как что-то с ней происходит, не решаясь повлиять на ход событий? Сейчас она готова проклясть свою нерешительность и пассивность.
Конечно, у нее были парни, поклонники – несколько историй. Были и ласки, и поцелуи украдкой. Джулия шла у них на поводу, лишь отвечая на проявленный к ней интерес. Она никогда не старалась сама кому-либо понравиться.
Возвращаясь в мастерскую, она думает о незнакомце, о чалме, придающей ему такой странный вид – вне времени и пространства. О волосах, которые ему приходится прятать. И о теле, скрывающемся под измятой рубашкой. При этой мысли она краснеет.
Назавтра она опять идет в библиотеку с тайной надеждой снова встретить его. Хотя книги ей сегодня не нужны, она еще те папе не дочитала. Войдя в читальный зал, она останавливается как вкопанная: он здесь. Стоит на том же месте, что и вчера. Он поднимает на нее глаза, как будто ждал ее. А у Джулии сердце готово выпрыгнуть из груди.
Он подходит к ней так близко, что она чувствует его теплое, сладкое дыхание. Ему хотелось поблагодарить ее за книгу, которую она посоветовала ему взять. Он не знал, что ей подарить, а потому принес бутылочку оливкового масла, которое изготавливают в кооперативе, где он работает. Джулия растроганно смотрит на него; это сочетание мягкости и достоинства потрясает ее. Впервые мужчина заставляет ее так волноваться.
Она с удивлением берет бутылочку. Он замечает, что сам выдавил это масло, а перед этим сам собирал оливки. Видя, что он вот-вот уйдет, Джулия решается на отчаянный шаг. Краснея, она предлагает ему прогуляться по дамбе. Море близко, на небе ни облачка.
Незнакомец чуть медлит с ответом, потом соглашается.
Камалджит Сингх – так его зовут – не слишком разговорчив. Джулии это удивительно: местные мужчины словоохотливы, любят поговорить о себе. Женщинам отводится роль слушательниц. Как объяснила ей как-то мать, надо позволить мужчине блеснуть. Камал другой. Его не так-то просто вызвать на откровенность. Но Джулии он готов рассказать о себе.
Он – сикх, когда ему было двадцать лет, он покинул родной Кашмир, спасаясь от насилия, которому подвергались там представители его религии. После событий 1984 года, когда индийская армия утопила в крови волнения сепаратистов, истребив верующих прямо в Золотом Храме, жизнь его соплеменников подвергалась постоянной угрозе. Камал прибыл на Сицилию холодной ночью, один, без родителей: многие сикхи старались отправлять детей на Запад по достижении ими совершеннолетия. Его приняла существовавшая на острове довольно многочисленная сикхская диаспора. Италия – вторая страна в Европе после Великобритании, которая стала принимать сикхов, отметил он. При помощи службы капоралато, поставляющей предпринимателям дешевую рабочую силу, он нашел себе работу. Он рассказал, как вербовщик набирает нелегалов и доставляет их к месту работы. В возмещение расходов по перевозке (бутылка воды и тощий панино – сэндвич, которые он им дает) он берет процент с их заработной платы, иногда чуть ли не половину. Камал вспоминает, как работал за один-два евро в час. Ему довелось собирать все, что дает здешняя земля: лимоны, маслины, помидоры черри, апельсины, артишоки, кабачки, миндаль. Условия труда обсуждению не подлежат. Принимаешь то, что предлагает тебе вербовщик, или до свидания.
В конечном итоге его терпение было вознаграждено: через три года нелегального существования он получил статус беженца и постоянный вид на жительство. Он нашел ночную работу в кооперативе, производящем оливковое масло. Работа ему нравится. Он рассказывает, как собирает оливки, «расчесывая» ветви чем-то вроде граблей, чтобы не повредить плоды. Ему нравится быть среди этих старых, чуть ли не тысячелетних деревьев. Он говорит, что был околдован их долговечностью.
– Оливки – благородный продукт, – говорит с улыбкой он, – символ мира.
Если власти и узаконили его пребывание в стране, сама страна не приняла его в свое лоно. Сицилийское общество держится от иммигрантов на расстоянии, два мира сосуществуют, не общаясь между собой. Камал признается, что скучает по родине. Когда он говорит о ней, его окутывает вуаль печали – словно летящая мантия.
Сегодня Джулия возвращается в мастерскую на два часа позже обычного. Успокаивая встревоженную Нонну, она рассказывает о лопнувшей велосипедной покрышке.
Но это неправда: оба колеса у нее целы, а вот душа разодрана пополам.
Сара
Монреаль, Канада
Бомба разорвалась. Это произошло только что, там, в кабинете чуть нескладного врача, который не знает, как сообщить эту новость. А ведь у него богатый опыт, на его счету годы практики, но вот никак не привыкнуть… Слишком уж он сочувствует своим пациенткам, этим молодым и не очень молодым женщинам, чья жизнь рушится у него на глазах – стоит только ему произнести это, такое страшное для них слово.
РМЖ – рак молочной железы. Позже Сара узнает и название мутировавшего гена – BRCA2. Проклятие женщин-ашкенази. Как будто и без этого мало всего было, подумает она. Погромы, холокост. Почему опять она и ее соплеменницы? Она прочтет это в одной медицинской статье, черным по белому: опасность заболеть раком молочной железы у евреек-ашкенази составляет один к сорока против одного к пятистам у остальных женщин планеты. Это – научно установленный факт. Есть еще и дополнительные факторы риска: случаи заболевания раком у родственников по восходящей линии, двуплодная беременность. Все знаки налицо, подумает Сара, ясные, очевидные. А она их не увидела. Или не захотела увидеть.
У сидящего напротив нее врача кустистые черные брови. Сара не может оторвать от них глаз. Странно, этот незнакомый человек рассказывает, что рентгенография показала у нее опухоль – размером с мандарин, уточнил он, – а ей никак не сосредоточиться на его словах. Все, что она видит, – это его брови, темные, всклокоченные, словно стая диких зверей. И из ушей у него тоже растут волосы. Через несколько месяцев, когда Сара будет вспоминать этот день, первыми в ее памяти возникнут эти брови – брови врача, объявившего ей, что у нее рак.
Он, конечно, не говорит этого слова, это слово никто не произносит, его угадывают за перифразами, за медицинскими словечками, в которые его упрятывают. Можно подумать, что это не просто слово, а ругательство, нечто табуированное, несущее на себе проклятие. Но речь-то идет именно об этом – о раке.
Размером с мандарин, сказал он. Так. Именно так. А ведь чего только Сара не делала, чтобы оттянуть момент расплаты, не желая признаваться себе ни в пронизывающих болях, ни в страшной утомляемости. Каждый раз, когда у нее возникала подобная мысль, когда она могла бы – или должна была бы? – ее сформулировать, она гнала ее. Но сегодня пора взглянуть правде в лицо. Вот она, расплата, и это на самом деле.
Мандарин – это же что-то огромное и в то же время смешное, думает Сара. Она не может отделаться от мысли, что болезнь подкралась к ней, когда она меньше всего могла этого ожидать. Опухоль коварна и хитра, она действовала исподтишка, готовила свой удар незаметно.
Сара слушает врача, наблюдает, как шевелятся у него губы, но его слова не трогают ее, она будто слышит их через толстый слой ваты, они ее совершенно не касаются. Если бы речь шла о ком-нибудь из ее близких, она перепугалась бы, потеряла голову, была бы раздавлена такой новостью. Странно, но сейчас, когда дело коснулось ее самой, ничего подобного нет. Она слушает врача, не веря тому, что он говорит, словно он рассказывает ей о каком-то другом, совершенно чужом ей человеке.
В конце беседы он спрашивает, нет ли у нее вопросов. Сара качает головой и улыбается, улыбается той самой привычной улыбкой, которой она пользуется в любых ситуациях, улыбкой, которая означает: «Не беспокойтесь, все в порядке». Она, конечно, лукавит, и это всего лишь маска, за которой она прячет свои горести, сомнения и страхи: там их накопилась уже приличная куча, если честно. Но снаружи ничего не видать. Улыбка у Сары замечательная, прекрасно отработанная, обаятельная – само совершенство.
Она не спрашивает у врача о своих шансах, не желает сводить свое будущее к статистическим данным. Кому-то, может, и хочется знать, ей – нет. Никаких цифр, она не хочет, чтобы они втерлись к ней в сознание, в воображение, чтобы они разрастались там, как сама опухоль, подрывая ее моральный дух, ее веру, лишая надежды на выздоровление.
В такси на обратном пути в офис она «определяется на местности». Она – воительница, и она будет бороться. Сара Коэн поведет это дело, как вела другие. Она, не проигравшая практически ни одного процесса, не позволит мандарину, каким бы злокачественным он ни был, запугать себя. В процессе «Сара Коэн против М.» (таким отныне будет его кодовое название) будут атаки и контратаки и, конечно же, удары ниже пояса. Сара знает, противник так просто не сдастся, этот мандарин хитер, это будет самый изворотливый оппонент, с которым ей приходилось сталкиваться. Процесс обещает быть затяжным, это будет война нервов, чередование надежд, сомнений и моментов, когда она будет считать себя побежденной. Надо выстоять – во что бы то ни стало. Такие битвы выигрывают только стойкостью, Саре это хорошо известно.
Как при изучении нового дела, она набрасывает общую стратегию борьбы с болезнью. Она ничего не скажет. Никому. Никто на работе не должен знать. Такая новость произвела бы эффект разорвавшейся бомбы и в ее команде, и, что еще хуже, среди клиентов. Зачем их зря волновать. Сара – опора всей фирмы, один из столпов, ей надо держаться, иначе все здание даст крен. И потом, она не хочет, чтобы ее жалели, не нужно ей ничье сострадание. Да, конечно, она больна, но это не причина для того, чтобы менять свою жизнь. Надо будет вести себя очень четко, стараясь не возбудить подозрений, выдумать специальные секретные коды, чтобы записывать в ежедневник походы в клинику, найти причины для оправдания своего отсутствия на работе. Придется проявить изобретательность, методичность, хитрость. Придется уйти в подполье, стать бойцом невидимого фронта. Она будет скрывать свою болезнь примерно так же, как скрывают внебрачную связь. Это она умеет – разбивать свою жизнь на сектора, научилась за долгие годы практики. Она будет дальше возводить стену, все выше и выше. В конце концов, она с успехом скрывала обе свои беременности, скроет и рак. Он будет ее тайным ребенком, незаконнорожденным сыном, о существовании которого никто не будет даже подозревать. Чем-то, в чем нельзя признаться, чего нельзя показать.
Вернувшись в офис, Сара включается в повседневную работу. Незаметно наблюдая за коллегами, она пытается уловить их реакцию – взгляды, интонации. И с облегчением убеждается в том, что никто ничего не заметил. Не написано же у нее на лбу это страшное слово – «рак». Никто не видит, что она больна.
И того, что душа у нее изодрана в клочья, тоже никто не знает.
Смита
Деревня Бадлапур, штат Уттар-Прадеш, Индия
Уехать.
Эта мысль возникла у Смиты внезапно, как будто ее внушили свыше. Уехать из деревни.
В школу Лалита больше не вернется. Учитель избил ее, после того как она отказалась подметать класс перед своими товарищами. Пройдет время, и эти дети станут фермерами, а она будет чистить у них уборные. Нет, об этом не может быть и речи. Смита не позволит этого. Как-то она услышала фразу Ганди, ее произнес врач, с которым она познакомилась в диспансере, в соседней деревне: «Никто не должен касаться руками человеческих экскрементов». Махатма, по-видимому, хотел этим сказать, что статус неприкасаемых незаконен, что он противоречит конституции и правам человека, но с тех пор ничего не изменилось. Большинство далитов безропотно принимают свою судьбу. Другие, вроде Бабасахиба[15], духовного лидера неприкасаемых, обращаются в буддистскую веру, где нет каст.
Смита слышала об этих грандиозных коллективных церемониях, когда далиты тысячами переходили в другую веру. Для пресечения этого движения, подрывающего основы власти, были даже изданы специальные законы, согласно которым желающие сменить религию обязаны получить на это разрешение, иначе им грозят юридические санкции. Смешно: все равно что просить у тюремщика разрешения на побег из тюрьмы.
Смита никак не может решиться на такой шаг. Она слишком любит своих богов, которым поклонялись и ее родители. Больше всего на свете она верит в заступничество Вишну: сколько себя помнит, утром и вечером обращает она к нему свои молитвы. Ему поверяет свои мечты, свои сомнения и надежды. Как ей отказаться от него? Без Вишну в душе у нее станет пусто, и ничем эту пустоту не заполнишь. Она осиротеет больше, чем осиротела после смерти родителей. А вот к родной деревне она почти не привязана. Эта загаженная земля, которую ей без отдыха приходится чистить изо дня в день, ничего не дала ей. Ничего, кроме голодных крыс, которых приносит по вечерам Нагараджан. Невеселая добыча…
Уехать, бежать из этих мест. Другого выхода нет.
Утром она будит Нагараджана. Он крепко спал, она же так и не сомкнула глаз. Она завидует его безмятежности: по ночам ее муж похож на озеро, гладь которого не нарушит ни одна волна. Сама же она часами не находит покоя. Ночная тьма не облегчает ее мук, а наоборот, словно отражает их, усиливая их действие. В темноте все представляется трагичнее, безысходнее. Часто в молитвах она просит, чтобы боги остановили этот вихрь мыслей, не дающий ей покоя. Иногда она так и лежит всю ночь с широко раскрытыми глазами. Нет у людей равенства перед сном, думает она. Ни перед чем у них нет равенства.
Нагараджан просыпается с ворчанием. Смита стаскивает его с постели. Она все обдумала: им надо уехать из деревни. Им самим от этой жизни ждать нечего: она все отняла у них. А вот Лалите еще не поздно, ее жизнь только начинается. У нее все есть, кроме того, что отнимут у нее другие. А Смита этого не допустит.
Жена бредит, думает Нагараджан, опять не спала всю ночь. Смита настаивает: им надо переехать в город. Она слышала, что там далитам полагаются специальные места в школах и университетах. Места для таких, как они. Там Лалита сможет попытать счастья. Нагараджан мотает головой: город – это иллюзия, пустой сон. Далиты там живут как бездомные, прямо на тротуарах или в бидонвилях, которые размножаются на окраинах больших городов, словно бородавки на подошвах. Здесь, по крайней мере, у них есть еда и крыша над головой. Смита кипятится: здесь они едят крыс и собирают дерьмо. А там они найдут работу, будут вести достойную жизнь. Она готова попробовать, она – храбрая, выносливая, она пойдет на все, примет все, что ей предложат, – только бы кончилась эта жизнь. Она умоляет его. Ради нее. Ради всех них. Ради Лалиты.
Нагараджан окончательно проснулся. Она что, совсем с ума сошла?! Думает, что может вот так распоряжаться собственной жизнью? И он напомнил ей жуткую историю, которая случилась несколько лет назад и взбудоражила всю деревню. Дочка соседа, тоже из далитов, решила уехать в город учиться. Джаты поймали ее, отвели на дальнее поле и в течение двух суток насиловали ввосьмером. Когда она вернулась к родителям, то с трудом могла ходить. Родители подали жалобу в панчаят – сельский совет. Но там, естественно, заправляют джаты. Ни женщин, ни далитов там не найдешь. Каждое решение, принятое советом, имеет силу закона, даже если оно идет вразрез с индийской конституцией. И решения эти никогда не оспариваются. Совет предложил семье денег в возмещение моральных издержек и за то, что они заберут заявление, но девушка не захотела брать плату за свой позор. Отец сначала встал на ее сторону, но затем уступил давлению общины и в конце концов покончил с собой, оставив семью без средств к существованию и обрекая жену на вдовство. Вместе с детьми ее выгнали сначала из дома, а потом и из деревни. Они так и кончили в полной нищете в придорожной канаве.
Эта история Смите известна. И нечего о ней напоминать. Она знает, что здесь, в ее родных местах, изнасилованные женщины считаются виноватыми. С женщинами тут вообще не считаются, а уж с далитами и подавно. К ним нельзя прикасаться, даже смотреть на них нельзя, а вот изнасиловать – пожалуйста. И это делают без стыда и без совести. Мужчину наказывают за долги, насилуя его жену. А того, кто заводит какие-то отношения с замужней женщиной, наказывают, насилуя его сестер. Изнасилование – мощное оружие, оружие массового поражения. Некоторые считают это эпидемией. Много шуму наделало недавнее решение сельского совета в одной деревне неподалеку отсюда: двух молодых женщин осудили за то, что их брат уехал с чужой женой, принадлежавшей к тому же к высшей касте. Несчастные сестры должны были быть публично раздеты и изнасилованы. Приговор был приведен в исполнение.
Нагараджан пытается образумить Смиту: бежать – значит подвергать себя риску самого страшного наказания. Они ведь и Лалиту не пощадят. Для них что ее жизнь, что жизнь ее ребенка – все равно. Они изнасилуют их обеих, а потом вздернут на дереве, как месяц назад тех двух молодых далитских женщин из соседней деревни. Смита уже слышала эти цифры, от которых ее бросает в дрожь: каждый год в стране убивают два миллиона женщин. Два миллиона становятся жертвами мужского зверства, погибают при всеобщем попустительстве. Всем наплевать на них.
Кто она такая перед этой повальной жестокостью, этой лавиной ненависти? Она что, думает, что сможет избежать этого? Что она сильнее других?
Но этим страшным доводам не сломить упорства Смиты. Они уйдут ночью. Готовиться к отъезду она будет тайком. Сначала они доберутся до Варанаси, священного города, расположенного в ста километрах отсюда, а там сядут на поезд и поедут через всю Индию, в Ченнаи. Там живут родственники ее матери, они им помогут. Город стоит на берегу моря, рассказывают, будто один человек организовал там рыбачью общину для таких же чистильщиков уборных, как она. А еще там есть школы для детей неприкасаемых. Лалита будет учиться читать и писать. И им не придется больше есть крыс.
Нагараджан недоверчиво смотрит на Смиту: а на какие деньги они поедут?! Билеты на поезд стоят дороже, чем все их имущество. Свои жалкие сбережения они отдали брахману, чтобы тот принял Лалиту в школу, теперь у них ничего не осталось. Смита понижает голос: она вконец измотана бессонными ночами, но, как ни странно, сейчас, в темной лачуге, кажется сильнее, чем когда бы то ни было. Надо пойти и забрать у него деньги обратно. Она знает, где они лежат. Она видела однажды, как жена брахмана прятала их сбережения на кухне; она тогда как раз пришла к ним чистить их уборную. Она же каждый день туда ходит. Нужно только выбрать момент и… Нагараджан взрывается: да какой демон вселился в нее?! Из-за ее ужасных идей они все погибнут – она погубит и себя, и всю семью! Да лучше он будет всю жизнь ловить крыс, лучше подхватит бешенство, чем станет потакать ее безумным планам! Если Смиту поймают, это будет конец для всех, и притом самый страшный! Такая опасная игра не стоит свеч. В Ченнаи их ничего хорошего не ждет, как, впрочем, и в других местах. Им не на что надеяться в этой жизни, разве что в следующей. Если они будут хорошо себя вести, возможно, цикл реинкарнаций будет к ним милостив. Нагараджан втайне мечтает воплотиться в следующей жизни в крысу – не в такую, каких он ловит голыми руками в поле и потом вечером жарит, лохматую и голодную, а в одну из священных крыс храма Шри Карни Мата в Дешноке, что рядом с пакистанской границей, куда водил его однажды отец. Их там тысяч двадцать, этих серых крыс. Их считают священными, местные жители охраняют и кормят их, приносят им молоко. За ними ухаживает жрец; им отовсюду несут подношения. Нагараджан помнит, как отец рассказывал ему историю богини Карни Маты: она потеряла ребенка и умоляла вернуть его, но тот перевоплотился в крысу. В честь этого потерянного сына и был построен храм. Охотясь целыми днями в полях на этих грызунов, Нагараджан в конце концов проникся к ним уважением, они стали ему удивительно близки – так полицейский проникается уважением к бандиту, за которым гоняется всю жизнь. В конечном счете, думает он, эти твари похожи на него: они так же хотят есть и стараются выжить. Да, неплохо было бы перевоплотиться в крысу из храма в Дешноке и всю жизнь только и делать, что лакать молоко. Эта мысль помогает ему уснуть после трудового дня. Такая вот странная колыбельная, но что поделаешь, какая есть.
У Смиты же нет никакого желания дожидаться будущей жизни, ей нужна эта, нынешняя, – для себя и для Лалиты. Она напоминает мужу об этой женщине из касты неприкасаемых, поднявшейся на самую высокую ступень, – Кумари Маявати сегодня самая богатая женщина в стране. Неприкасаемая, ставшая губернатором! Говорят, что она перемещается по своему штату на вертолете. Она не стала гнуть спину, не стала ждать, когда смерть избавит ее от этой жизни, она боролась – за себя, за всех них. Нагараджан только больше нервничает. Смита же и сама знает, что ничего не изменилось. И эта женщина, поднявшаяся благодаря выступлениям в защиту неприкасаемых, больше ничего не может для них сделать. Она бросила их. Летает в облаках, а они копошатся в дерьме – вот правда! И никто не вытащит их отсюда, не освободит от этой жизни, от этой кармы, ни Маявати и никто другой, только смерть принесет освобождение. А пока они останутся здесь, в этой деревне, где они родились и где прожили всю жизнь. С этими словами, прозвучавшими, как удар мачете, Нагараджан вышел из лачуги.
Пусть, подумала Смита. Не хочешь бежать со мной, я убегу без тебя.
Джулия
Палермо, Сицилия
В живом вскипает кровь И зреют голоса. Спадают вновь и вновь На землю небеса. Надежды долгой нить Обрежь лучом зари. Запомнить и… забыть. Входи. Дыши. Твори[16].Камал и Джулия видятся теперь каждый день. У них вошло в привычку встречаться в библиотеке в обеденное время. Часто они ходят гулять на море. Джулию очень интересует этот человек, так непохожий на тех, кого она знала прежде. В его повадках, его манерах нет ничего от сицилийцев, и, возможно, именно это ее в нем и привлекает. Мужчины из ее семьи властны, многословны, раздражительны и упрямы. Камал совершенно другой.
У нее никогда нет уверенности, что она снова увидит его. Каждый день в полдень, входя в читальный зал, она ищет его глазами. Иногда она его находит. Но бывают дни, когда он не приходит. И эта дивная неопределенность лишь разжигает любопытство Джулии. Где-то в животе у нее что-то трепещет, от этого она просыпается ночью, – странное, чудесное ощущение. Она снова и снова перечитывает стихи Павезе – единственное лекарство от ломки, которую она уже испытывает в разлуке с ним.
Все произошло однажды в полдень, когда они гуляли. Джулия повела его дальше, чем обычно, на пляж, куда не заглядывают туристы. Ей захотелось показать ему это место, куда она иногда приходит почитать. Эту пещеру никто не знает, говорит она; во всяком случае, ей нравится так думать.
В этот час бухта совершенно пустынна. В пещере тихо, влажно и темно, здесь чувствуешь себя в безопасности. Не говоря ни слова, Джулия раздевается. Летнее платье соскальзывает к ее ногам. Камал стоит неподвижно, застыв, словно перед цветком, который боишься сорвать, чтобы не повредить его лепестков. Джулия протягивает ему руку, в ее движении кроется нечто большее, чем желание ободрить его: это приглашение к действию. Он медленно разматывает чалму, вынимает гребенку из спрятанных под ней волос. Те рассыпаются, словно моток шерсти, доходя ему до пояса. Джулию бьет озноб. Она никогда не видела мужчину с такими длинными волосами – здесь такие бывают только у женщин. Однако в Камале нет ничего от женщины. Он кажется невероятно мужественным со своими черными как смоль волосами. Он целует ее, нежно, едва касаясь губами: так целуют ноги у идола.
Джулия не знала ничего подобного. Камал ласкает ее, словно молится, с закрытыми глазами, как будто от этого зависит его жизнь. Руки у него огрубели от ночной работы, но тело мягкое, нежное, будто огромная кисть, одно прикосновение которой вызывает дрожь.
Они долго не могут расплести объятия. Женщины в мастерской любят посмеяться над мужчинами, которые сразу засыпают после этого, но Камал не из таких. Он прижимает Джулию к себе, словно сокровище, с которым не может расстаться. Она могла бы часами лежать вот так, прижавшись к его нежной коже своим пылающим телом – светлое на темном.
Теперь они встречаются там, в пещере, у моря. Камал работает ночами в своем кооперативе, Джулия днем в мастерской, так что они могут видеться только в обеденное время. Они любят друг друга в полдень, и поэтому в их свиданиях есть привкус запретности. Вся Сицилия в это время трудится, суетится в офисах, банках или на рынках. Они – нет. Эти часы принадлежат им, и они пользуются, наслаждаются ими сполна, пересчитывая родинки, рассматривая шрамики друг у друга на коже, смакуя каждый сантиметр любимого тела. Любить днем – это совсем не то же, что любить ночью: обнаженное тело при свете дня выглядит более дерзко, более откровенно.
Джулия находит, что их встречи напоминают па тарантеллы. В детстве во время летних праздников она любила смотреть, как танцоры сходятся, касаются друг друга, снова расходятся… Так и их взаимоотношения с Камалом подчиняются рабочему ритму: она занята днем, он – ночью. Досадное несовпадение, но такое романтичное.
Камал – человек-загадка. Джулия ничего не знает о нем, вернее, знает очень мало. Он никогда не говорит о своей прежней жизни, той, которую он оставил, приехав сюда. Иногда, когда он смотрит на море, взгляд его теряется где-то вдали. И тогда снова появляется вуаль печали, окутывая его с ног до головы. Для Джулии вода – это жизнь, постоянно обновляющийся источник удовольствия, одна из форм чувственности. Она любит плавать, ощущать, как вода скользит по телу. Как-то она попыталась заманить в море и его, но он отказался купаться. Море – это кладбище, сказал он ей, и Джулия не стала его расспрашивать. Она ничего не знает о том, что пришлось ему пережить, что отняла у него вода. Может быть, настанет день, когда он сам все расскажет. А может, и нет.
Когда они вместе, то не говорят ни о будущем, ни о прошлом. Джулии ничего от него не надо, ничего, кроме этих украденных у солнечного дня часов. Значение имеет только настоящий момент, этот миг, когда их тела сплетаются воедино, соединяются, как два элемента одного пазла, идеально совпадая друг с другом.
О себе Камал никогда не говорит, но о своей стране рассказывает охотно. Джулия могла бы слушать его часами. Он – словно раскрытая книга о таком дивно чужом для нее крае. Она закрывает глаза и словно отправляется в путешествие на корабле, где, кроме нее, нет ни одного пассажира. Камал рассказывает о горах Кашмира, о берегах реки Джелам, об озере Дал и о его плавучих отелях, о красной листве на деревьях осенью, о пышных садах, о бескрайних полях тюльпанов у подножия Гималаев. Джулия просит его рассказывать еще и еще, она хочет узнать как можно больше. «Рассказывай, – говорит она, – рассказывай дальше». Камал говорит о своей религии, о своих верованиях, о рахате – своде правил поведения сикха, запрещающем им стричь волосы и бороду, а также пить, курить, есть мясо, играть в азартные игры. Он говорит о своем боге, который проповедует честную, чистую жизнь, едином боге, боге-создателе – не христианском, не индуистском, не принадлежащем никакой конфессии, просто единственном, и все. Сикхи думают, что любая религия может привести человека к нему, и поэтому все они достойны уважения. Джулии нравится эта вера – без первородного греха, без рая, без ада, которые, как считает Камал, существуют только в этом мире. И Джулия думает, что он прав.
Сикхи, поясняет Камал, считают, что женщины наделены такой же душой, как и мужчины. Поэтому к обоим полам у сикхов одинаковое отношение. Женщины могут читать в храме божественные гимны, совершать любые обряды, например крещение. Их следует уважать, почитать за ту роль, которую они играют в семье и обществе. Чужую жену сикх должен воспринимать как сестру или как мать, чужую дочь – как собственную. Показательным знаком этого равенства является то, что сикхи используют одни и те же имена и для мужчин, и для женщин. Они отличаются только второй частью: у мужчин это «Сингх», что означает «лев», а у женщин – «Каур», «принцесса».
Principessa[17].
Джулии нравится, когда Камал ее так называет. Ей становится все тяжелее и тяжелее расставаться с ним и возвращаться на работу. Как чудесно было бы целыми днями оставаться вместе, думает она. Ей кажется, что она могла бы всю жизнь провести вот так: любя его и слушая его рассказы.
Однако она знает, что не имеет права быть здесь. У Камала и кожа не та, что у Ланфреди, и бог другой. Она представляет себе, что сказала бы мамма: темнокожий мужчина, да еще и нехристь! Она пришла бы в ужас. А потом новость облетела бы всех соседей.
Так что Джулия любит Камала тайно. У них нелегальная любовь, беспаспортная.
В мастерскую после обеда она возвращается все позже и позже. Нонна начинает кое-что подозревать. Старая работница уже заметила, как она улыбается, как по-новому блестят ее глаза. Джулия говорит, что каждый день ходит в библиотеку, однако возвращается запыхавшаяся, с пылающими щеками. Однажды Нонне даже показалось, что она заметила у нее на косынке и в волосах песок… Работницы начинают судачить: уж не любовник ли у нее завелся? И кто же это? Парень из местных? Моложе ее? Старше? Джулия так упорно все отрицает, что это само по себе выглядит уже признанием.
Бедный Джино, вздыхает Альда, это разобьет ему сердце! Здесь всем известно, что Джино Баттальола, хозяин соседней парикмахерской, без ума от нее. Вот уже несколько лет, как он ее обхаживает. Каждую неделю он приносит в мастерскую состриженные волосы, но иногда заходит и без повода – просто чтобы поздороваться с ней. Всех здесь это забавляет, особенно подарки, которые он ей дарит, и все без толку. Джулия остается холодной, как камень, но Джино не теряет надежды и без устали таскает ей булочки с фигами, которые с аппетитом съедают работницы.
Каждый вечер после закрытия мастерской Джулия идет в больницу к отцу, чтобы почитать ему. Иногда она злится на себя, за то что в таких трагических обстоятельствах чувствует себя такой живой. Ее тело ликует, дрожит от возбуждения, она наслаждается жизнью, как никогда до этого не наслаждалась, а в это самое время ее отец борется со смертью. И все же ей это очень нужно, и она будет продолжать держаться за это, чтобы не поддаваться горю и унынию. Кожа Камала – вот бальзам, целебная мазь, лучшее средство от горестей этого мира. Ей хотелось бы стать просто телом, одним лишь наслаждающимся телом, ибо наслаждение не дает ей согнуться под бременем невзгод, позволяет ощущать себя живой. Ее раздирают противоречивые чувства: она ощущает себя то совершенно раздавленной, то впадает в сильнейшее возбуждение. Словно канатоходец, она балансирует, клонясь в сторону при малейшем дуновении. Странно, думает она, как близко в жизни расположены самые мрачные и самые светлые моменты. В одно и то же время она и дарит, и отнимает.
Сегодня мамма попросила ее поискать в папином кабинете в мастерской одну бумагу. Больница затребовала документ, которого она никак не может найти: «О боже, как все это сложно», – сетует мамма. Отказаться Джулия не смогла, хотя у нее нет никакого желания переступать порог этой комнаты. Она не входила туда с самой аварии. Ей не хочется, чтобы кто-то прикасался к вещам отца. Пусть он, когда выйдет из комы, найдет свой кабинет в том же виде, в каком оставил его. Так ему будет понятно, что все его ждали.
Она толкает дверь переоборудованной в кабинет кинопроекционной. Медлит какое-то время, прежде чем войти. На стене в рамке – фотография Пьетро, рядом – его отец и дед: три поколения Ланфреди руководили мастерской. Чуть дальше приколоты кнопками к стене другие снимки: Франческа в младенческом возрасте, Джулия на «веспе», Адела в день первого причастия, мама в свадебном платье с чуть застывшей улыбкой на лице. А еще Папа Римский, не Франциск, а Иоанн-Павел II, которого он почитал больше других.
Комната осталась такой, какой отец оставил ее утром, перед аварией. Джулия обводит взглядом его кресло, картотеку, глиняную пепельницу, в которую он бросает окурки: она сама вылепила ее в детстве ему в подарок. Теперь его мир кажется опустевшим, но в то же время на удивление обитаемым. Ежедневник на столе раскрыт на страшной дате – 14 июля. Джулия не в силах перевернуть эту страницу. Словно отец вдруг весь, целиком, вместился в эту записную книжку фирмы «Молескин» с обложкой черной кожи, словно частичка его самого скрывается между этими строчками, в этих чернильных буквах, даже в этом пятнышке, застывшем внизу страницы. Джулии кажется, что он здесь – в каждой молекуле воздуха, в каждом атоме обстановки.
Какой-то миг она боролась с искушением повернуться, закрыть за собой дверь и уйти. Но не сдвинулась с места. Она обещала маме принести эту бумагу. Медленно открыла первый ящик, потом второй. Третий, самый нижний, оказался закрыт на ключ. Джулию это удивило. Ее охватило какое-то предчувствие. У папы нет секретов, Ланфреди вообще нечего скрывать. Тогда почему закрыт этот ящик?
В голове у нее вихрем кружатся вопросы. Воображение пускается вскачь, как безумная лошадь, почуявшая свободу. А что, если у отца есть любовница? Какая-то тайная жизнь? А может, это «Спрут», мафия дотянулась до него своими щупальцами? Хотя Ланфреди в такие игры не играют. Тогда почему Джулию одолевают сомнения – словно тяжелое предчувствие, словно черная туча, затянувшая горизонт?
После недолгих поисков она наконец находит ключ в ящичке для сигар – мамином подарке. Джулию бьет озноб: имеет ли она право на это? Еще есть время передумать.
Дрожащей рукой поворачивает она ключ. Ящик открывается, внутри лежит стопка бумаг. Джулия берет ее, и земля уходит у нее из-под ног.
Сара
Монреаль, Канада
Сначала все шло по плану.
Сара взяла две недели отпуска – на операцию. Врач настаивал на трех: неделя на госпитализацию и две на отдых дома, которые Сара сократила до одной. Больше она взять не может, иначе это вызовет подозрения у сотрудников. Вот уже два года как она не отдыхала, да и у детей в это время нет каникул. Кто додумается взять три недели отпуска посреди ноября, в то самое время, когда слушания дел сыплются как из рога изобилия? Ни на работе, ни дома она ничего не сказала. Детям объяснила, что ей предстоит «оперативное вмешательство», «ничего страшного», добавила она, чтобы не волновать их. И постаралась устроить так, чтобы близнецы провели эту неделю у своего отца, а Ханна – у своего. Та сначала воспротивилась, но потом все же подчинилась воле матери. Сара заранее предупредила их, что навещать ее в больнице им будет нельзя, объяснив это тем, что детей туда вообще не пускают. Невелика ложь, сказала она себе, почувствовав укол совести. Она хочет оградить их: зачем им ходить в это место, в этот едко пахнущий белый ад (ей самой в больнице больше всего становится не по себе именно от этих запахов – смеси антисептиков с хлоркой, от которой у нее возникают спазмы в желудке). Она не хочет, чтобы дети видели ее такой – беззащитной, слабой.
Особенно Ханна, она такая чувствительная. Трепетная, будто лист на ветру. Сара давно заметила в дочери это свойство – умение сопереживать. Любая боль, любое страдание этого мира отзывается в ней ответным чувством, становится ее болью, ее страданием. Это как будто такой дар, некое шестое чувство. Когда она была маленькой, то, увидев, как кто-то поранился или кого-то ругают, сразу начинала плакать. Она плакала над телерепортажами, над мультфильмами. Сара иногда беспокоится: что с ней будет, как она будет жить с такой обостренной чувствительностью, которая стоит ей и самых больших радостей, и самых сильных страданий? Ей так хотелось бы сказать дочери: защищайся, закаляйся, мир жесток, жизнь – тяжелая штука, не позволяй себя растрогать, ранить, будь, как все, эгоисткой, бесчувственной, непробиваемой.
Будь, как я.
И все же она понимает, что у дочки трепетная душа, и с этим надо как-то считаться. Поэтому нет, ничего она ей не скажет. В свои двенадцать лет Ханна слишком хорошо поймет, что скрывается за словом «рак». Главное – она догадается, что битва еще не выиграна. Сара не хочет взваливать на ее плечики этот груз, этот страх, который неотделим от болезни.
Конечно, ей не удастся скрывать все вечно. Однажды дети начнут задавать вопросы. И тогда придется что-то им говорить, объяснять. Но чем позже, тем лучше, думает Сара. Это как разбежка перед прыжком – пусть так. И вообще, это ее дело, она так решила.
Отцу и брату она тоже ничего говорить не будет. Двадцать лет назад от этой же болезни умерла мать. Не хочет она, чтобы они заново проходили эту «полосу препятствий», эти эмоциональные взлеты и падения: надежда – отчаяние, улучшение – ухудшение, слишком хорошо она знает, что означают эти слова. Она будет сражаться в одиночку. И молча. Сил у нее хватит.
В офисе никто ничего не заметил. Только Инес отметила, что у нее усталый вид: «Вы побледнели», – сказала она, когда Сара вышла на работу после двухнедельного отсутствия. К счастью, на улице зима, тела прячутся под рубашками, свитерами, пальто. Саре надо только избегать вещей с открытой шеей да краситься больше, чем раньше, и дело в шляпе. Она придумала гениальную систему кодирования записей в своем ежедневнике: для походов в больницу – одно сокращение (ПВБ), для обследований, сдачи анализов и рентгена, которые она назначает всегда между полуднем и двумя часами, – другое (Обед Р), и так далее. В конце концов коллеги решат, что она завела себе любовника. Если честно, эта мысль ей даже нравится. Иногда она и сама ловит себя на том, что воображает, как в обед встречается с мужчиной… Одиноким мужчиной в приморском городке. Это было бы так мило. Но на этом ее фантазии и останавливаются, потому что мысли неуклонно приводят ее обратно в больницу, к процедурам, обследованиям.
Среди младших сотрудников обсуждение идет полным ходом: «Она опять сегодня куда-то уходила… вчера ее не было полдня… да, и еще она отключает телефон…» Неужели у Сары Коэн есть какая-то своя жизнь вне работы? И с кем это она встречается то в полдень, то утром, то после обеда? Кто-то из коллег? Из партнеров? Инес склоняется к мысли о женатом мужчине, кто-то другой предполагает, что это может быть женщина. Иначе зачем столько предосторожностей? Похоже, что ее план работает.
Во всяком случае, пока.
Выдаст ее одна мелочь, как это часто бывает в детективах, когда какая-нибудь ерунда смешивает убийце карты. У Инес болеет мама. Сара должна была бы это знать. Если хорошенько вспомнить, Инес сказала об этом давно, в прошлом году. Сара сказала тогда, что ей очень жаль, и больше не вспоминала об этом: этот факт затерялся где-то в глубинах ее перегруженного мозга. Кто осудит ее за это? Ей столько надо обдумывать. Если бы у нее было время остановиться на минутку у автомата с кофе, побродить по коридорам, присесть за стол, чтобы пообедать, – чего она никогда не делает, – факт всплыл бы снова. Но все дело в том, что ее разговоры с окружающими ограничиваются самым важным – делами. В этом нет ни презрения, ни враждебности, просто недостаток времени, занятость. Сара не делится ни с кем своей жизнью и в чужую тоже не лезет. Каждый имеет право на личное пространство. В других обстоятельствах, в иной жизни она, возможно, завязала бы какие-то отношения с коллегами, может быть, у нее даже появились бы друзья. Но в этой ни для чего, кроме работы, нет места. С сотрудниками Сара всегда любезна и обходительна, но никакой фамильярности она не допускает. Никогда.
Инес похожа на нее. Она скрытна, никогда не распространяется о своей жизни. Сара ценит это ее качество. Она видит в ней ту юную адвокатессу, какой сама была когда-то. Она же и выбрала ее на собеседовании по приему молодых сотрудников. Инес показала себя пунктуальной, трудолюбивой и очень деятельной. В группе у нее самые блестящие результаты. Она далеко пойдет, Сара ей так это и сказала однажды, если, конечно, приложит усилия.
При таких условиях как могла Сара знать, что именно в этот день Инес приведет свою мать в больницу на обследование?
В ежедневнике у нее на этот день было записано: «ПВБ Х». Это «Х» означало не какого-то мужчину «Икс», не Хью из бухгалтерии, не даже Херберта, молодого, красивого сотрудника из параллельной команды, который так похож на того знаменитого американского артиста. Нет, «Х» – это просто доктор Хаддад, ее онколог, в котором, увы, нет ничего голливудского.
Когда неделю назад Инес попросила в порядке исключения отгул, Сара согласилась. И вскоре об этом забыла: с некоторых пор она может кое-что упустить, виной тому, несомненно, состояние хронической усталости, в котором она пребывает.
Через мгновение они встретятся в приемной онкологического отделения университетской клиники. Одинаковое удивление застынет на их лицах. Сара не сможет вымолвить ни слова. Инес же ради приличия познакомит ее с матерью.
– Это Сара Коэн, мы работаем вместе.
– Очень приятно, мадам.
Сара будет вежлива, она ничем не выдаст своего смятения. Инес не понадобится много времени для того, чтобы понять, что делает ее босс среди бела дня, в будни, здесь, в коридоре онкологического отделения, держа под мышкой свежие рентгеновские снимки. В один миг все версии покатятся к чертовой матери: любовная связь, женатый мужчина, обеды наедине, тайные свидания, пять-шесть любовников кряду. Все раскроется.
В тщетной попытке спасти положение Сара скажет, что пришла навестить подругу и вот, кажется, заблудилась. Но она знает, что Инес не обманешь. Та быстро соберет воедино все элементы этого пазла: ее странное для всех двухнедельное отсутствие в прошлом месяце, участившиеся с некоторых пор деловые встречи вне офиса, ее бледность, худоба, тот обморок в суде – улик вполне достаточно, и все они сами по себе становятся доказательствами.
Сара готова сквозь землю провалиться, исчезнуть, распасться на атомы, улететь, как эти супергерои, наделенные чудесной силой, от которых близнецы просто сходят с ума. Но поздно.
А впрочем, что это она, как идиотка, дрожит тут от страха перед своей подчиненной? Можно подумать, что ее застали за чем-то постыдным! Да, у нее рак, но это не преступление. И потом, с какой стати она должна оправдываться перед Инес? Она вообще ничего не должна – ни ей, ни кому бы то ни было.
Чтобы поскорее нарушить наступившее неловкое молчание, Сара прощается с коллегой и ее матерью и удаляется, стараясь придать походке как можно больше уверенности. По пути к ожидающему ее такси в мозгу ее свербит один-единственный вопрос: как поступит Инес дальше? Расскажет всем о том, что случилось? Сару так и подмывает вернуться, отыскать ее в коридорах, попросить никому ничего не говорить. Но она не позволит себе это сделать. Это означало бы признать свою уязвимость, показать Инес свою слабость, дать ей власть над собой.
Она выбирает совершенно иной путь: завтра она придет в офис, вызовет к себе Инес и предложит стать ее помощницей в деле Бильгувар, самом горячем на данный момент с самым важным клиентом компании. От такого неожиданного предложения, в сущности – повышения по службе, молодая сотрудница отказаться не сможет. Она будет польщена, почувствует себя обязанной Саре. Более того: она попадет к ней в зависимость. Неплохой способ купить ее молчание, думает она, заручиться ее верностью. Инес честолюбива, она поймет, что болтать, рискуя навлечь на себя гнев начальства, не в ее интересах.
Сара покидает больницу, уверенная в эффективности только что выработанного плана. Он почти безупречен.
Она только забыла одну вещь, которую усвоила за годы работы: не стоит плавать с кровоточащей раной среди акул.
Как лес, растущий в тишине, Неспешная идет работа. Она одна – моя забота, Случайно не мешайте мне. Сижу я в старой мастерской Вдали от суеты людской. Пока я кое-что плету, Хватая нитку на лету, Я думаю, что, может быть, Могу чужую жизнь прожить. Объехать мир, всмотреться в лица, С которыми, как мне ни жаль, На сердце руку положа, Мне никогда не веселиться. Я лишь звено в цепи событий. Ручей, потерянный в реке. Вся жизнь моя – три долгих нити И волосы в руке.Смита
Деревня Бадлапур, штат Уттар-Прадеш, Индия
Нагараджан уснул. Смита лежит рядом с ним, затаив дыхание. Первый час он спит очень беспокойно. Она знает, ей надо подождать, иначе она его разбудит.
Сегодня ночью она уедет. Она так решила. Или, вернее, так решила за нее жизнь. Она и не думала, что ей придется так скоро осуществить план, но случай представился – будто дар небес: у жены брахмана разболелся зуб, и она вынуждена была в это самое утро пойти к деревенскому доктору. Смита чистила зловонную яму, служащую им уборной, когда увидела, как та выходит из дома. Решение пришло к ней в считаные секунды: больше такого удобного момента не будет. Осторожно проскользнула она в кладовку рядом с кухней, приподняла миску с рисовой крупой, под которой хранились семейные сбережения. «Я ничего не ворую, – сказала она себе, – я просто возвращаю то, что принадлежит мне по справедливости». Она взяла ровно столько, сколько дала тогда брахману, ни рупией больше. Взять чужое – пусть хоть одну монетку, пусть у самого богатого богача, – это против ее правил, да и Вишну такого не потерпит. Смита не воровка, она скорее умрет от голода, чем украдет хоть яйцо.
Она спрятала деньги под сари и поскорее вернулась домой. Лихорадочно собрала кое-что из вещей – самое необходимое, лишнего она брать не будет. Они с Лалитой обе такие хрупкие, им нельзя слишком нагружаться. Кое-что из одежды да из продуктов: рис и несколько лепешек в дорогу. Она приготовила их наспех, пока Нагараджан был в поле. Смита знает, что он их не отпустит. Они больше не разговаривали на эту тему, но она знает, что он думает по этому поводу. Поэтому у нее нет иного выхода, кроме как дождаться ночи и привести план в исполнение, молясь, чтобы жена брахмана тем временем ничего не заметила. Как только она обнаружит исчезновение денег, жизнь Смиты окажется под угрозой.
Она преклоняет колени перед маленьким алтарем, посвященным Вишну, и молится, прося его заступничества. Она просит, чтобы тот не оставил их с дочерью в их долгом путешествии, пока они будут идти пешком, ехать на автобусе, на поезде все две тысячи километров до Ченнаи. Это будет тяжелое, опасное путешествие, и в успехе его Смита не уверена. Она чувствует, как ее обдает невидимой горячей волной: она больше не одинока, словно вдруг миллионы неприкасаемых встали на колени здесь, перед маленьким алтарем, и молятся вместе с ней. И тогда она дает Вишну обет: если им удастся бежать, если жена брахмана ничего не заметит, если джаты их не поймают, если они доберутся до Варанаси, если сядут в поезд, если доедут живыми до Юга, то они пойдут поклониться ему в храм Тирупати. Смита слышала об этом сказочном месте, о храме, стоящем на горе Тирумала, в двух сотнях километров от Ченнаи, куда ежегодно стекается множество паломников. Говорят, их там миллионы, и все несут приношения Шри Винкатешваре, Господину Горы, самому почитаемому воплощению Вишну. Ее бог, бог-заступник, не покинет ее, она знает это. Она берет в руки изображение четырехрукого бога, перед которым молится, – цветную картинку с потрепанными, загнутыми уголками, и прячет ее на груди под сари. Теперь он с ней, и ей ничего не страшно. Ее вдруг как будто накрыла и окутала невидимая мантия, оберегая от любой опасности. Под такой защитой Смита будет непобедима.
Деревня в этот час погружена во мрак. Дыхание Нагараджана стало ровным, он только легонько посапывает носом. Это не храп, скорее слабое урчание, похожее на мурлыканье тигренка, свернувшегося под боком мамы-тигрицы. У Смиты сжимается сердце. Она любила этого мужчину, привыкла к тому, что он всегда рядом. Она злится на него за малодушие, за этот горький фатализм, который он привнес в их жизнь. Ей так хотелось бы уехать вместе с ним. Она разлюбила его в тот самый миг, когда он отказался от борьбы. Любовь, как птица, думает она, взмахнет крылом и улетит, как прилетела когда-то.
Она отбрасывает одеяло и вдруг чувствует головокружение. А может, эта поездка – чистое безумие? Если бы не ее бунтарский, непокорный характер, если бы не эта бабочка, что бьется у нее в животе, она могла бы отказаться от всего, смириться со своей судьбой, как Нагараджан и их братья – неприкасаемые. Лечь обратно в постель и дожидаться рассвета в тупом оцепенении, без сна, без сновидений, как дожидаются смерти.
Но обратной дороги нет. Она взяла деньги под глиняной миской у брахмана, и назад уже ничего не воротишь. Так что придется пускаться в путь, бежать без оглядки, далеко-далеко, может, в никуда. Ее пугает не смерть, даже не боль, не страдания – она вообще за себя не боится, разве что чуть-чуть. А вот за Лалиту… Тут она боится всего.
У меня сильная доченька, повторяет она, чтобы приободриться. Она знает это с самого ее рождения. Когда после родов деревенский акушер осматривал девочку, та его укусила. Его это развеселило: беззубый ротик оставил у него на руке едва заметный след. С характером будет девочка, сказал он. И вот эта шестилетняя неприкасаемая, маленькая, чуть выше табуретки, сказала «нет» брахману. Стоя посреди класса, посмотрела ему прямо в глаза и сказала «нет». Чтобы родиться храбрецом, не обязательно быть высокого рода. Эта мысль придает Смите силы. Нет, она не бросит Лалиту в грязи, не отдаст ее этой проклятой дхарме.
Она подходит к спящей дочери. Что за чудо – детский сон, думает она. Лалита спит так безмятежно, что ее жалко будить. Личико у нее спокойное и такое красивое – прелесть! Во сне она кажется младше, чем на самом деле, совсем малышка, почти младенец. Ах, как хотелось бы Смите, чтобы всего этого не было, чтобы ей не надо было этого делать – будить дочку посреди ночи, чтобы бежать из дома. Девочке ничего не известно о планах матери; ей и невдомек, что сегодня вечером она видела своего отца в последний раз. Смита завидует ей, ее невинности. Сама она уже давно позабыла, что такое сладко спать. Ночь для нее – это бездонная пропасть, а ее сны так же черны, как грязь, которую она убирает. Может быть, там все будет иначе?
Лалита спит, прижав к себе свою единственную куклу, подаренную ей на день рождения, когда ей исполнилось пять лет, – маленькую «Королеву бандитов» в красной косынке с лицом Пхулан Деви[18]. Смита часто рассказывает ей историю этой женщины из одной из низших каст, которую выдали замуж в одиннадцатилетнем возрасте и которая прославилась тем, что восстала против своей участи. Став предводительницей банды разбойников, она защищала угнетенных, нападала на богатых землевладельцев, насиловавших на своих землях девушек из низших каст. Ее банда грабила богатых и раздавала награбленное бедным, и вскоре она стала народной героиней, некоторые даже считали ее воплощением богини войны Дурги. Ее арестовали, обвинив в сорока восьми преступлениях, заключили в тюрьму, но потом выпустили, после чего она была избрана в парламент, а потом убита посреди улицы тремя неизвестными в масках. Лалита обожает эту куклу, как и все местные девочки. Ее можно купить на всех рынках.
– Лалита. Просыпайся. Нам пора!
Девочка расстается с недосмотренным сном, который принадлежит ей одной. Она поднимает на мать сонный еще взгляд.
– Не шуми! Одевайся. Быстро.
Смита помогает ей собраться. Девочка не противится, тревожно поглядывая на мать: что это на нее нашло среди ночи?
– Это сюрприз, – шепотом поясняет Смита.
Ей недостает смелости сказать, что они уезжают и больше никогда сюда не вернутся. Это – билет в один конец до станции под названием «Лучшая жизнь». Никогда в их жизни не будет больше этого ада – деревни Бадлапур, Смита поклялась себе в этом. Лалите не понять, она, конечно, будет плакать, может, даже заупрямится. Смита не может так рисковать, не может поставить под угрозу весь свой план. Поэтому она и лжет. Да и ложь-то совсем маленькая, успокаивает она себя, она просто приукрашивает действительность.
Перед уходом она бросает последний взгляд на Нагараджана: спит ее тигр, тихо спит, ничего не подозревая. На свое опустевшее место рядом с ним она кладет листок бумаги. Нет, это не письмо – она не умеет писать. Она просто перерисовала адрес своих родственников в Ченнаи. Может быть, их отъезд придаст Нагараджану мужества, которого ему не хватило сегодня. Может быть, он найдет в себе силы и отыщет их там. Кто знает?
В последний раз взглянув на лачугу, на жизнь, расставаясь с которой она не испытывает почти никакого сожаления, Смита берет дочку за ледяную ручку и устремляется во тьму.
Джулия
Палермо, Сицилия
Чего-чего, а этого Джулия никак не ожидала.
На папином письменном столе – содержимое нижнего ящика. Вот они – извещения судебных приставов, напоминания о сроке уплаты ссуды, бесконечные заказные письма. Правда оглушила ее, словно пощечина. И вся эта правда вмещается в одно слово: банкротство. Мастерская погрязла в долгах. Предприятие Ланфреди разорено.
Отец никогда ничего не говорил. Никому не доверил своей тайны. Правда, если хорошенько вспомнить, однажды в разговоре он обмолвился, что традиция каскатуры уходит в небытие. Сицилийцы, замученные современной жизнью, перестали хранить волосы, сказал он тогда. Это правда, теперь никто ничего не хранит, использованные, состарившиеся вещи выбрасывают на помойку и покупают взамен новые. Джулия помнит этот разговор во время семейного обеда: скоро, сказал он тогда, мы начнем страдать от нехватки сырья. В шестидесятые годы у мастерской Ланфреди было полтора десятка конкурентов в одном только Палермо. Теперь все они позакрывались. Отец гордился, что остался последним. Джулия знала, что мастерская испытывает определенные трудности, но и представить себе не могла, что они на грани разорения. Она даже не рассматривала никогда такую возможность.
И все же от правды никуда не денешься. Судя по счетам, работать им остается самое большее месяц. При отсутствии волос работницы начнут простаивать. Мастерская не сможет больше им платить. Придется объявлять о банкротстве и закрываться.
Эта мысль Джулию убила. Вся ее семья многие десятилетия жила на доходы от мастерской. Она думает о матери, слишком старой, чтобы идти работать, об Аделе, которая еще учится в школе. Старшая ее сестра – семейная женщина, ее муж – страшный мот, все, что зарабатывает, просаживает в карты. Папе нередко случается оплачивать их счета в конце месяца. Что с ними станет? Семейный дом куплен в ипотеку, на все их имущество будет наложен арест. А работницы? Они же окажутся на улице. Ведь у них такая узкая специализация, на Сицилии нет больше ни одной мастерской, куда они могли бы пойти работать. Что же будут делать все эти женщины, с которыми она делила и радости, и невзгоды? Они же ей – как сестры!
Она подумала о папе, лежащем в коме там, в больнице. И вдруг окаменела. В мозгу возникла ужасная картина: отец на своей «веспе» в то злополучное утро собирается объезжать поставщиков. Загнанный в угол, отчаявшийся, вот он едет все быстрее и быстрее по крутой дороге… Она гонит от себя эту проклятую мысль. Нет, он не мог так поступить, он не бросил бы их – жену, дочерей, работниц – в таком тяжелом положении. У Пьетро Ланфреди всегда было обостренное чувство чести, он не из тех, кто пасует перед несчастьем. Джулия знает, что эта маленькая палермская мастерская, которую основал его дед, а затем держал его отец, – все для него: это его гордость, его успех, смысл всей жизни. Неужели он смог бы спокойно смотреть, как его работниц увольняют, предприятие ликвидируют, как дело всей его жизни обращается в дым?.. Ах, какое тяжелое сомнение закрадывается сейчас ей в душу, словно гангрена, поражающая пораненную руку или ногу.
Корабль идет ко дну, думает Джулия. А вместе с ним все, кто остается на борту, – она сама, мамма, сестры, работницы. Как «Коста Конкордия»: капитан сбежал, конец неизбежен. И нет ни шлюпок, ни спасательного круга – не за что ухватиться, чтобы не утонуть.
Из раздумий ее вывели голоса работниц в главном цеху. Как всегда по утрам, устраиваясь на рабочем месте, они болтают о том о сем. На какой-то миг Джулия позавидовала их беззаботности: они еще не знают, что их ждет. Она закрывает ящик, как закрывают крышку гроба, и медленно поворачивает ключ. Говорить с ними серьезно сегодня у нее не хватит духу, а врать не хочется. Не может она сегодня работать рядом с ними как ни в чем не бывало. И в поисках убежища она поднимается наверх, на крышу, в отцовскую лабораторию. Садится лицом к морю, как любил сидеть отец. Тот мог часами сидеть вот так и любоваться морем. Это зрелище не может надоесть, говорил он. Сейчас Джулия одна, а морю нет никакого дела до ее горя.
В полдень она идет к Камалу в пещеру, где они обычно встречаются. Она ничего не говорит ему о своих муках. Утопить горе в шелке его кожи – вот что ей нужно. Они любят друг друга, и на какой-то миг окружающий мир кажется ей не таким уж жестоким. Она плачет, но Камал ни о чем ее не спрашивает. Он только целует ее соленым, как морская вода, поцелуем.
Вечером Джулия возвращается домой. Под предлогом разыгравшейся мигрени она сразу поднимается к себе и, закрывшись на ключ, ныряет в постель.
Этой ночью сон ее полон странных видений: разгромленная отцовская мастерская, опустевший проданный дом, растерянная мать, выставленные на улицу работницы, выброшенные в море волосы – целое море волос… Джулия вертится в кровати, она не хочет думать обо всем этом, но эти картины вновь и вновь возникают в ее сознании, словно навязчивый сон, от которого никуда не деться, словно адская пластинка снова и снова играет зловещую музыку. Рассвет избавляет ее от мук. Она встает с ощущением, что не спала вовсе. Ее подташнивает, голову будто сдавило тисками, ноги как лед, в ушах шумит.
Пошатываясь, она идет в ванную в надежде, что горячий или ледяной душ поможет ей справиться с этим кошмаром, взбодрит измученное тело. Она шагает к ванне и останавливается как вкопанная.
В ванне сидит паук.
Маленький паучок с тонким тельцем и хрупкими, будто кружевными, лапками. Он, должно быть, поднялся по канализации и очутился в этой чугунной эмалированной ловушке, в этом гигантском белом пространстве, откуда нет выхода. Сначала он, должно быть, боролся, пытаясь забраться наверх по гладким стенкам, но тонкие лапки все время соскальзывали, и он снова и снова скатывался на дно. В конце концов он понял всю тщетность своих усилий и вот теперь застыл в неподвижности и покорно ждет, как распорядится судьба, какой предоставит ему выход.
И тут Джулия заливается слезами. Но не от вида этого черного паучка на белой эмали – хотя она и боится этих тварей, которые вызывают у нее отвращение и какой-то утробный ужас, – а от осознания, что она сама попала в такую же ловушку, из которой ей не выбраться, и никто ее не спасет.
Ах, как хорошо было бы залезть снова в постель и никогда оттуда не вылезать. Исчезнуть, испариться. Она не знает, что ей делать с этим свалившимся на нее горем, с этой гигантской волной, захлестнувшей ее с головой. Однажды в детстве, когда они всей семьей купались в Сан-Вито-Ло-Капо, она чуть не утонула. Море, в этом месте обычно спокойное, было в тот день на редкость бурным. И вот одна волна, выше, чем остальные, повалила ее. Несколько секунд она барахталась в пене, оторванная от всего мира. В рот набился песок – она до сих пор помнит это ощущение, – песчинки вперемешку с мелкими камешками. На какой-то миг она перестала понимать, где небо, а где земля, действительность утратила всякие очертания. Поток потянул ее ко дну с такой неотвратимостью, будто кто-то дернул ее за ногу. Находясь в полубессознательном состоянии, столь характерном для падений с высоты и аварий, когда на несколько мгновений действительность опережает мысль, она решила, что ей не вынырнуть. Что это – конец. Она уже почти сдалась. Но в этот миг отцовская рука ухватила ее и вытащила на поверхность. Она пришла в себя, удивленная и потрясенная. Живая.
На этот раз ей, увы, не выплыть.
Судьба преследует семью Ланфреди, думает Джулия, как землетрясение, которое несколько раз подряд тряхнуло Италию, и все в одном и том же месте.
Несчастный случай с отцом здорово подкосил их.
А гибель мастерской добьет.
Сара
Монреаль, Канада
Сара чувствует: в офисе что-то изменилось. Это очень тонко, трудно определимо, почти неразличимо, но это так.
Взгляд, интонация, с которой с ней здороваются, слишком нарочитый интерес, звучащий в простом вопросе «Как дела?», или столь же нарочитое отсутствие интереса. И потом, тон – чуть неловкий, а также взгляды. Одни улыбаются ей вымученной улыбкой, другие стараются ее избегать. И ни капли естественности – ни в ком.
Сначала Сара не понимала, какая муха их всех укусила. Может, что-то не так в ее одежде, какая-то упущенная деталь? Хотя она, как всегда, одевается безупречно. Она помнит, как учительница в ее школе пришла однажды в класс с мешком для мусора в руке. Поставила его на стол самым естественным образом и только тут поняла, что, выходя из дома, выбросила в помойку свою сумку. Она так и шла до самой школы, ничего не замечая. Ребята в классе, конечно, прыснули со смеху.
Впрочем, сегодня одежда Сары в идеальном порядке, она придирчиво оглядывает себя в зеркале в туалете. Кроме осунувшегося лица и этой худобы, которую ей удается прятать, болезнь ни в чем себя не проявляет. Так откуда тогда эта сдержанность в отношении к ней со стороны коллег? Ничего подобного раньше не было. Вот уже несколько дней, как установилась между ними эта странная дистанция, установилась незаметно и не по ее вине.
Но достаточно было одного слова ее секретарши, всего одного слова, и Сара все поняла.
«Мне так жаль», – сказала та почти шепотом, сокрушенно глядя на нее. Сара не сразу сообразила, о чем она говорит: случилась какая-то катастрофа, теракт, в котором она пострадала? Ураган, авария? Или кто-то умер? Но тут до нее дошло, что речь о ней самой. Да-да, это она – жертва, пострадавшая, родственница усопшего.
Сара остолбенела.
Если знает секретарша, то и все остальные точно в курсе.
Инес проболталась. Нарушила соглашение, тут же, без предупреждения. Раскрыла ее тайну. Новость разнеслась с быстротой молнии, пролетела по коридорам, заполнила офисы, разлетелась по залам заседаний, кафетерию и наконец добралась до последнего этажа, до самого верха иерархической лестницы – до кабинета самого Джонсона.
Инес, в которую Сара так верила, которую выбрала, взяла на работу, Инес, которая каждое утро улыбается ей, с которой она занимается одними и теми же делами, которую она приняла как родную, да, Инес, та самая Инес нанесла ей удар ножом в спину, предала ее самым гнусным образом.
И ты, Брут?
Их общую тайну Инес доверила тому, кто лучше всех смог бы справиться с ее распространением: Гэри Кёрсту, главному завистнику, честолюбцу и женоненавистнику, который люто ненавидит Сару с самого ее появления в компании. Она действовала «в интересах фирмы» – так будет оправдываться предательница, изображая фальшивую печаль, а потом еще и добавит: «Мне так жаль». Сара ни капли не верит ее сожалениям. Конечно, ей самой надо было быть осторожнее. Инес умная, «дипломатичная», как теперь любят говорить, – изящное словечко, означающее на деле «плутовка», или «куда ветер дует», или еще «предательница». Инес далеко пойдет, да, Сара так и сказала ей однажды. Если приложит усилия.
Она пошла к Кёрсту для очистки совести – чтобы рассказать о просчетах, допущенных Сарой в их совместном деле – деле Бильгувара, имеющем важные финансовые последствия для фирмы. Ну, конечно, кто же осудит ее за эти просчеты, учитывая ее состояние.
Никаких «просчетов» Сара никогда не допускала. Конечно, с начала лечения ей стало труднее сосредоточиться, внимание несколько ослабло, она может иногда забыть какую-то деталь, фамилию, не сразу найти нужное слово в разговоре, но это никоим образом не сказывается на качестве ее работы. Она не пропускает ни одной деловой встречи, ни одного совещания. Внутренне она чувствует, что стала слабее, но работает с удвоенной силой, чтобы не показать этого. «Просчеты», «ошибки» – да не совершала она ничего подобного! И Инес это знает.
Тогда почему? Почему она предала ее? Сара слишком поздно поняла причину, и эта мысль обдала ее холодом: Инес хочет на ее место. Она хочет стать партнером, как она. Возможности карьерного роста в компании невелики, молодым сотрудникам нелегко продвигаться по службе. Ослабший партнер – это приоткрытая дверь в будущее, возможность, которую нельзя упустить.
У Кёрста тоже есть свой интерес: он всегда завидовал доверительным отношениям, которые сложились у Сары с Джонсоном. По всему видно, что следующим управляющим он назначит именно ее. Если только этому повышению ничего не помешает. А он, Гэри Кёрст, так хорошо смотрелся бы в этом кресле, на самом верху иерархической лестницы. Продолжительная болезнь, да еще и опасная, злокачественная опухоль, которая поражает вас, а потом то отступает, то снова возвращается, – это же идеальное оружие, оно бьет врага наповал. Кёрсту даже рук не придется пачкать, все получится само собой. Как в шахматах: стоит убить одну пешку, и все остальные передвигаются на одно поле вперед. Эта пешка – Сара.
Достаточно шепнуть одно словечко, только одно, в нужное ухо. И дело сделано.
Теперь это общеизвестно: Сара Коэн больна.
Больна, а значит – уязвима, слаба, значит, может не довести дела до конца, работать не в полную силу, подолгу отсутствовать в офисе.
Больна, а значит, ненадежна, значит, на нее нельзя рассчитывать. Хуже того: через месяц, через год – кто знает? – она и вовсе может отдать концы. Сара однажды услышала в коридоре эту жуткую фразу, произнесенную шепотом: действительно, кто знает?
Больна – это хуже, чем беременна. По крайней мере, беременность кончается. А вот рак коварен, он может давать рецидивы. Это как дамоклов меч у вас над головой, как нависшая черная туча.
Сара знает, адвокату положено быть блестящим, продуктивным, напористым. Он должен уметь успокаивать, убеждать, соблазнять. В такой крупной адвокатской фирме, как «Джонсон и Локвуд», на карту ставятся миллионы. И она прекрасно представляет себе, какими вопросами задаются теперь все вокруг. А можно ли и дальше рассчитывать на нее? Доверять ей важные дела, на которые может уйти несколько лет? Будет ли она тут, когда эти дела дойдут до суда?
Бессонные ночи, работа без выходных – способна ли она выдержать это? Будут ли у нее для этого силы?
Джонсон вызвал ее к себе в кабинет, наверх. Вид у него обиженный. Ему хотелось бы, чтобы она сама пришла с ним поговорить, он предпочел бы услышать эту новость из ее уст. Они всегда доверяли друг другу, почему же она ничего ему не сказала? Сара вдруг впервые заметила, какой у него неприятный голос. Ее просто тошнит от этого снисходительного, притворно-отеческого тона, которым он сейчас говорит с ней, да и всегда говорил, если вдуматься. Ей хочется ответить, что это ее организм, ее здоровье, и она не обязана ни перед кем отчитываться. Если у нее еще остается хоть какая-то личная свобода, то это – свобода никому ничего не говорить. Она могла бы послать его к дьяволу с его наигранным беспокойством за нее, уж она-то знает, что именно его беспокоит: ни как у нее дела, ни как она себя чувствует, ни даже будет ли она здесь через год, нет, все, что его интересует, – это способна ли она, как прежде, разгребать его чертовы дела. Короче говоря, может ли она быть по-прежнему дееспособной.
Конечно же, ничего из этого Сара не сказала. Она остается невозмутимой и уверенно успокаивает Джонсона: нет, она не собирается уходить в длительный отпуск. Она вообще не собирается никуда уходить. Она будет на месте, возможно, больная, но будет ходить на работу, исполнять свои обязанности, вести дела.
Она слушает сама себя, и вдруг у нее создается впечатление, что она выступает на новом, только что начавшемся странном процессе – своем собственном. Словно, стоя перед судьей, она ищет аргументы в защиту самой себя. Да что же это такое?! В чем она виновата?! Какую совершила ошибку? В чем ей оправдываться?
Возвращаясь к себе в кабинет, она пытается убедить себя, что все останется по-прежнему. Напрасно. В глубине души она знает, что Джонсон уже начал процесс. Ее процесс.
Возможно, главный ее враг – совсем не тот, на кого она думала сначала.
Смита
Штат Уттар-Прадеш, Индия
Зажав в ладони ручку Лалиты, Смита бежит по спящей деревне. У нее нет времени на разговоры, ей некогда объяснять дочке, что та будет всю свою жизнь вспоминать этот миг, когда она решилась изменить линию их судеб. Они бегут, стараясь не шуметь, чтобы их не услышали и не увидели джаты. Когда те проснутся, они будут уже далеко, надеется Смита. Нельзя терять ни секунды.
– Быстрее!
Им надо добраться до шоссе. Там, в кустах у придорожной канавы, Смита спрятала свой велосипед и узелок с провизией. Только бы никто их не утащил. Им еще надо проехать несколько километров до трассы, где они сядут на автобус до Варанаси, один из этих замечательных государственных автобусов, выкрашенных в зеленый и белый цвета, проезд в которых стоит всего несколько рупий. Комфорт там весьма относительный, как и безопасность (по ночам шоферы глушат себя бхангом[19]), однако цена билетов ставит их вне конкуренции. До священного города меньше ста километров. А там они отыщут вокзал и сядут на поезд до Ченнаи.
Первые лучи зари окрашивают горизонт. Со страшным шумом несутся по шоссе грузовики. Лалита дрожит как лист, Смита чувствует, что ей страшно: девочка ни разу в жизни не уходила так далеко от деревни. Там, за дорогой, – чужой, неизведанный мир, опасность.
Смита раздвигает ветки, за которыми спрятала велосипед: он на месте. А вот приготовленный ею узелок валяется поодаль в канаве весь разодранный: видимо, им поживилась какая-то собака или голодные крысы. От съестных припасов почти ничего не осталось… Придется ехать дальше на голодный желудок. Ничего другого не остается. Искать что поесть в дороге теперь уже некогда. Совсем скоро жена брахмана соберется на рынок, приподнимет миску с рисом… Интересно, она сразу заподозрит, что это она, Смита? И что она будет делать потом? Разбудит мужа? А потом они побегут за ней? Нагараджан, наверное, уже понял, что они сбежали. Нет, на поиски еды у нее нет времени, надо скорее ехать дальше. Бутылка с водой цела, этим они и позавтракают.
Смита устраивает Лалиту на багажнике и садится на велосипед. Девочка обхватывает ее руками за бедра и вцепляется в нее, как испуганный геккон – этих зеленых ящериц полно в индийских жилищах, дети их просто обожают. Смита не хочет показывать дочке, что ее тоже трясет. Их то и дело обгоняют с оглушительным ревом гигантские фуры, а дорога-то узковата. Правила тут не соблюдаются: кто больше, тот и прав. Смита, дрожа, изо всех сил стискивает руль, чтобы не упасть, – это было бы ужасно. Еще немного, и они доберутся до автострады, соединяющей Лахнау и Варанаси.
И вот они сидят на обочине дороги. Смита вытирает чистой тряпкой лицо себе и Лалите. Обе они с ног до головы покрыты пылью. Они ждут автобуса уже два часа. Интересно, придет ли он вообще сегодня? Расписания здесь очень приблизительные. Когда автобус наконец подъезжает к остановке, к нему устремляется целая толпа. Внутри уже полно народу, так что сесть в него – задача не из легких. Некоторые карабкаются сразу на крышу: они так и поедут под открытым небом, вцепившись в боковые штанги. Смита хватает Лалиту за руку и худо-бедно втаскивает ее внутрь. На заднем сиденье есть полместа – вдвоем они поместятся. Теперь ей надо пробраться назад к двери, чтобы забрать оставшийся снаружи велосипед. Опасное предприятие. В проходе толпятся десятки пассажиров, кому-то не хватило сидячего места, кто-то злобно переругивается друг с другом. Одна женщина везет с собой кур, что вызывает недовольство у ее соседа. Лалита, крича, тычет пальцем в окно: какой-то человек, оседлав их велосипед, катит прочь, энергично крутя педалями. Смита бледнеет: если броситься за ним в погоню, автобус может уйти без нее. Водитель уже включил зажигание, мотор урчит. Ей приходится смириться и вернуться на свое место, глядя на удаляющуюся старую железяку, которую она когда-то купила, а теперь надеялась продать, чтобы купить еды.
Автобус трогается. Лалита прижимается лбом к заднему стеклу, чтобы ничего не упустить. И вдруг оживляется.
– Папа!
Смита вздрагивает и оборачивается: на шоссе выскочил Нагараджан и теперь бежит за отъезжающим автобусом. Силы покидают Смиту. Муж бежит за ними, на лице у него странное, непонятное выражение: сожаление, растерянность, нежность? Но автобус набирает скорость, и расстояние между ними быстро увеличивается. Лалита плачет, стучит в стекло, оборачивается на мать в надежде, что та поможет.
– Мама, скажи, пусть остановят!
Но Смита знает, что остановить автобус нельзя. Она просто не сможет пробраться к водителю. А если ей это и удастся, тот не захочет останавливаться. Или их просто высадят – и все. Она не может так рисковать. Фигура Нагараджана становится все меньше, скоро он превратится в крошечную точку, и тем не менее он все бежит за ними в напрасной погоне. Лалита всхлипывает. Наконец отец исчезает из виду. Может быть, навсегда. Девочка зарывается лицом в шею матери.
– Не плачь. Он приедет к нам туда.
Голос Смиты звучит твердо, словно она хочет и саму себя убедить в том, что говорит. Однако в этом не может быть никакой уверенности. Интересно, сколько еще потерь ждет их в пути? Утешая плачущую дочку, она касается спрятанной под сари картинки с Вишну. Все будет хорошо, успокаивает она себя. Испытаний будет много, но с ними Вишну, вот он, совсем рядом.
Лалита уснула. Слезы высохли у нее на щеках, оставив белесые следы. Смита смотрит на проносящиеся за грязным стеклом пейзажи. Ветхие лачуги, поля, автозаправка, школа, остовы грузовиков, стулья под вековым деревом, импровизированный рынок, сидящие на земле торговцы, прокатчик мопедов последней модели, озеро, склады, развалины храма, рекламные щиты, женщины в сари с корзинами на голове, трактор. Здесь, по сторонам этой дороги, в этом хаосе без названия – вся Индия, в которой смешались древность и современность, священное и мирское, грязь и чистота.
С трехчасовым опозданием – движение на шоссе было перекрыто увязшим в грязи грузовиком – автобус все же прибыл на автовокзал города Варанаси. И сразу изверг из себя все содержимое: мужчин, женщин, детей, чемоданы, кур и все то, что пассажирам удалось в него впихнуть – над собой, под собой и между собой. Там была даже коза: один из пассажиров снял ее с крыши на глазах у изумленной Лалиты, которая никак не могла понять, как козочка туда попала.
Не успели Смита с дочерью сойти с автобуса, как их закрутило в потоке большого города. Повсюду машины, автобусы, рикши, грузовики с паломниками, направляющиеся к Гангу и Золотому Храму. Варанаси – один из старейших городов мира. Сюда приезжают, чтобы очиститься, собраться с мыслями, сыграть свадьбу, чтобы предать огню умершего родственника, а иногда и самому умереть. На гхатах[20] – ступенях, сплошь покрывающих берега Матери Ганги, как называют здесь священную реку, и спускающихся к самой воде, жизнь и смерть, день и ночь ступают рядом в бесконечном хороводе.
Лалита никогда не видела ничего подобного. Смита часто рассказывала ей об этом городе, где она как-то побывала еще ребенком вместе с родителями, совершившими туда паломничество. Тогда они вместе прошли путем, называемым Панчатиртхи Ятра, совершая в строгом порядке омовения в пяти местах священной реки. Свое паломничество они завершили по традиции в Золотом Храме. Смита повсюду следовала за своими родителями и братьями. Это путешествие оставило в ее душе сильнейшее впечатление и запомнилось на всю жизнь. Особенно поразил ее Маникарника-гхат, где сжигают мертвых. Она до сих помнит, как пылал костер, на котором лежало тело какой-то старой женщины. По традиции, перед кремацией его омыли в водах Ганга, а затем высушили. Смита испуганно смотрела, как языки пламени сначала осторожно лизали его, а затем огонь вдруг охватил тело целиком и стал пожирать с ужасным треском. Странно, но родные усопшей не выглядели печальными, они чуть ли не радовались тому, что их бабушка достигла мокши[21] – получила освобождение. Одни из них болтали между собой, другие играли в карты, третьи даже смеялись. Неприкасаемые в белых одеждах трудились там непрестанно, день и ночь: сжигание трупов – нечистая работа (если такое понятие вообще существует), и выполнять ее надлежало, естественно, им. Кроме того, они должны были доставлять дрова для костров – тонны древесины, которые они подвозили на лодках к самым гхатам. Смита помнит эти горы огромных поленьев, дожидавшихся своей очереди у причалов. А в нескольких метрах оттуда пили воду из реки коровы, абсолютно равнодушные к тому, что происходит на ее берегах. Еще чуть дальше мужчины, женщины, дети совершали ритуальные омовения: по традиции, чтобы очиститься, они должны были погрузиться в воды Ганга с головой. Тут же под звуки религиозных песнопений и народных песен игрались свадьбы – веселые, яркие. Кто-то мыл в реке посуду, кто-то стирал белье. Местами вода была совершенно черной, на поверхности ее плавали цветы и масляные светильники – жертвы паломников, – а рядом виднелись разлагающиеся остовы животных и человеческие кости: остающийся после кремации пепел по традиции высыпают в реку, но поскольку многие семьи не могут позволить себе полное сожжение, то в реку часто бросают полуобгоревшие, а иногда и едва обгоревшие трупы. Сегодня у Смиты нет провожатых, нет родной руки, за которую она могла бы ухватиться, – только ручка идущей за ней дочери. Железнодорожный вокзал находится в самом центре города, далеко от места, куда привез их автобус.
На улицах Лалита как зачарованная смотрит на витрины магазинов, где выставлены такие необычные для нее предметы – один диковиннее другого. Здесь пылесос, там соковыжималка, тут целая ванная комната с умывальником, а дальше – туалет. Такого Лалита никогда не видела. Смита вздыхает, им бы надо поторапливаться, а девочка со своим любопытством их задерживает. Навстречу им идет вереница школьников, на них коричневая форма, они держатся за руки. Смита перехватывает задержавшийся на них завистливый взгляд дочери.
Вот наконец и вокзал Варанаси-Кантт. У входа толпится народ: это один из самых посещаемых вокзалов страны. Внутри, в главном зале, людское море стекается к окошкам билетных касс. Мужчины, женщины, дети стоят, лежат, сидят повсюду, ждут часами, а иногда и сутками.
Смита пробирается сквозь толпу, стараясь не попасться в лапы маклерам. Пользуясь растерянностью или наивностью туристов, те вымогают у них по несколько рупий в обмен на никому не нужные советы. Смита встает в одну из четырех очередей, в каждой из них стоит человек по сто, не меньше, придется запастись терпением. Лалита устала, они ехали целый день, на пустой желудок, а проехали всего-то сотню километров. Но самое тяжелое впереди, Смита знает.
Уже стемнело, когда она добралась наконец до окошка. Услышав, что ей нужны два билета до Ченнаи на сегодняшний день, железнодорожный служащий с удивлением воззрился на нее. Билеты бронируют заранее, за много дней до поездки, отвечает он, перед самым отбытием мест в поезде не бывает. Или, может быть, у нее оформлено бронирование?.. Смита чувствует, как последние силы оставляют ее: неужели ей придется ночевать здесь, в священном городе, где у нее нет ни одного знакомого? Денег, которые она стащила у брахмана, едва хватит, чтобы оплатить два билета в третьем классе да купить чего-нибудь поесть. Снять комнату или даже койку в ночлежке ей не на что. Смита настаивает, им надо уехать сейчас же, как можно скорее. Она решительно добавляет к деньгам на билеты несколько монет, отложенных на еду. Кассир с сомнением смотрит на нее, бурчит что-то сквозь желтые зубы. Затем куда-то уходит и возвращается с двумя билетами «спального класса» – самого дешевого – на завтрашний поезд. Ничего больше он сделать не может. Позже Смита узнает, что такие билеты продают всем желающим, поскольку число пассажиров в вагонах этого класса не ограничивается, и вагоны эти всегда переполнены сверх всякой меры. Служащий просто воспользовался ее доверчивостью, чтобы вытянуть из нее несколько лишних рупий, она поймет это потом, но будет уже слишком поздно.
Лалита, окончательно выбившись из сил, уснула у нее на руках. Смита с трудом прокладывает себе дорогу сквозь толпу в поисках места, где можно было бы посидеть. Повсюду на перронах, в здании вокзала люди готовятся к ночлегу: устраиваются, укладываются, а самые везучие и засыпают. Смита садится в уголке прямо на полу неподалеку от какой-то женщины в белой одежде с двумя маленькими детьми. Лалита только что проснулась. Она хочет есть. Смита достает бутылку, воды там осталось на донышке, но ничего другого на этот вечер у них нет. Девочка плачет.
Женщина в белом рядом с ними кормит детей галетами. Она смотрит на Смиту, на плачущую у той на руках девочку. Потом придвигается ближе и предлагает разделить с ними ужин. Смита с удивлением поднимает на нее глаза; она не привыкла получать помощь, да и подаяния никогда не просила. Несмотря на свое положение, она всегда сохраняла чувство собственного достоинства. Если бы дело касалось ее одной, она, конечно, отказалась бы, но Лалита такая маленькая, такая хрупкая, без еды ей этой поездки не выдержать. Смита берет банан и галеты, которые протягивает ей женщина в белом, и благодарит ее. Лалита с жадностью набрасывается на еду. Женщина купила у разносчика еще и чая с имбирем и теперь предлагает Смите сделать несколько глотков, на что та охотно соглашается. Горячий чай с пряным вкусом возвращает ее к жизни. Женщина – ее зовут Лакшмама – завязывает разговор. Она хочет знать, куда они едут вот так, вдвоем. У них, что ли, нет мужа, отца или брата, который проводил бы их? Смита отвечает, что они едут в Ченнаи: муж ждет их там, привирает она. Лакшмама с дочерьми направляются во Вриндавану, небольшой городок к югу от Дели, известный как «город белых вдов». Она рассказывает Смите, что несколько месяцев назад у нее от гриппа умер муж. После его смерти его родные, у которых она жила, отказались от нее. Лакшмама с горечью рассказывает о печальной судьбе, уготованной вдовам в этих местах. Они считаются проклятыми, на них возлагают вину за то, что они не сумели удержать в этом мире душу умершего мужа. Их могут даже обвинить в колдовстве, при помощи которого они якобы наслали на супруга болезнь или смерть. Они не имеют права ни на страховку, если муж умирает в результате несчастного случая, ни на пенсию, если он погиб на войне. Самый вид их приносит несчастье, даже пересечься с их тенью считается дурной приметой. Их не пускают ни на свадьбы, ни на праздники, они вынуждены прятаться, носить белые траурные одежды, постоянно каяться. Часто собственные семьи вышвыривают их на улицу. Лакшмама с содроганием вспоминает жестокий обычай под названием «сати», обрекавший их на самосожжение на погребальном костре мужа. Ту же, которая отказывалась это сделать, избивали, всячески унижали, прогоняли прочь. Бывало, что родственники мужа, а иногда и собственные дети насильно бросали вдову в костер, чтобы избежать таким образом необходимости делить наследство. Перед тем как их вышвырнут на улицу, вдовы должны снять с себя все драгоценности и наголо побриться, чтобы не привлекать больше внимания мужчин: вступать в новый брак им запрещено, в каком бы возрасте они ни овдовели. В тех провинциях, где девочек выдают замуж совсем маленькими, некоторые становятся вдовами в пятилетнем возрасте и обречены таким образом всю оставшуюся жизнь просить подаяния.
«Вот так, нет мужа – и ничего больше нет», – вздыхает Лакшмама. Смите это известно: у женщины не бывает своего имущества, все принадлежит мужу. Выходя замуж, она все отдает ему. С потерей мужа кончается и ее жизнь. Вот и у Лакшмамы больше ничего нет, кроме украшения – подарка родителей ко дню свадьбы, – которое ей удалось спрятать под сари. Она помнит этот торжественный день, когда ее родные, ликуя, вели ее, всю усыпанную драгоценностями, в храм, где должен был состояться обряд бракосочетания. Ее семейная жизнь начиналась роскошно, зато закончила она ее в полной нищете. Лучше бы уж муж бросил ее, признается она, по крайней мере, тогда она не стала бы парией, может, и родные проявили бы к ней сострадание, теперь же она не видит от них ничего, кроме презрения и злобы. Хорошо было бы родиться коровой, тогда ее все уважали бы. Смита не решается сказать ей, что сама, по собственному выбору, бросила мужа, оставила родную деревню и все, что знала прежде. Сейчас, слушая Лакшмаму, она задается вопросом: а не совершила ли она ужасную ошибку? Молодая вдова признается, что хотела даже убить себя, но отказалась от этой мысли, боясь, что родные ее мужа ради сохранения наследства убьют ее детей, как это иногда бывает. Она предпочла изгнание и уехала вместе с ними во Вриндавану. Говорят, что тысячи таких, как она, находят там пристанище в благотворительных ашрамах – «вдовьих домах» или просто на улице. За чашку риса или супа они поют в храмах молитвы Кришне, зарабатывая таким образом на скудное существование: едят они один раз в день, не имея права на большее.
Смита слушала вдову, не перебивая. Та едва ли старше ее. На вопрос, сколько же ей лет, Лакшмама ответила, что не знает: думает, что не больше тридцати. Выглядит она молодо, думает Смита, и глаза у нее такие живые, но в глубине их прячется тысячелетняя скорбь.
Настало время Лакшмаме садиться на поезд. Смита благодарит ее за еду и обещает помолиться Вишну за нее и детей. Она смотрит, как та с младшим сыном на руках и с тощим мешком с пожитками идет к перрону, ведя за руку старшего. Белая фигура постепенно растворяется в толпе отъезжающих, а Смита тем временем, дотронувшись до спрятанного под сари образка, просит Вишну сопутствовать молодой вдове и ее детям и хранить их в пути и в изгнании. Она думает о миллионах вдов, оказавшихся в таком же положении, брошенных и обобранных, забытых всеми в этой стране, где явно не любят женщин, и вдруг ей становится радостно от того, что она, Смита, пусть и рождена неприкасаемой, но осталась непримиримой, несгибаемой, и впереди ее ждет лучшая жизнь – возможно.
«Лучше бы мне вовсе не рождаться на свет», – призналась ей Лакшмама перед расставанием.
Джулия
Палермо, Сицилия
Когда Джулия объявила матери и сестрам о банкротстве, Франческа расплакалась. Адела ничего не сказала: она, как и все подростки, выказывает ко всему такое равнодушие, будто ничто в этом мире ее не касается. Мамма сначала не произнесла ни слова, но потом ее прорвало. Обычно такая набожная, такая благочестивая, она принялась обвинять небо за то, что оно так ополчилось против них. Сначала муж, теперь мастерская… Что они такого сделали, чем согрешили, что заслужили такую кару?! Что будет с ее детьми? Адела еще учится в школе. Франческа так неудачно вышла замуж, у нее едва хватает денег на малышей. А Джулия вообще не умеет ничего, кроме того, чему обучил ее отец. Которого сейчас даже нет рядом с ними.
Ночью мамма плачет, плачет долгими часами, оплакивая мужа, дочерей, дом, который у них скоро отнимут. Над собой она не плачет никогда. С первыми лучами солнца ей в голову приходит мысль: Джино Баттальола уже много лет влюблен в Джулию и мечтает на ней жениться. Это ни для кого не секрет. У его семьи водятся денежки, у них парикмахерские по всей стране. Родители Джино всегда крайне дружелюбно относились к Ланфреди. Так, может, они согласятся выкупить их ипотеку?.. Мастерскую этим, конечно, не спасти, но они по крайней мере сохранят крышу над головой. Девочкам будет где жить. Да, этот брак – спасение для них, думает мамма.
Она делится своими соображениями с Джулией, но та категорически их отвергает. Никогда она не станет женой Джино Баттальолы. Лучше уж она будет спать под открытым небом! Нет, конечно, он ей не неприятен, ей не в чем его упрекнуть, но он какой-то пресный – просто никакой. Он часто бывает у них в мастерской. Такой неряшливый, волосы вечно торчат во все стороны – ну точно как тот смешной герой из папиной любимой комедии «Чудовища» режиссера Дино Ризи.
Это прекрасная партия, не унимается мамма. Джино такой добрый, и деньги у него есть; Джулия никогда ни в чем не будет нуждаться. Ни в чем, кроме самого главного, отвечает та. Она не желает никому подчиняться, не желает сидеть в клетке, пусть даже прутья в ней будут из чистого золота. Не хочет она этой жизни ради приличия. Другие так всю жизнь прожили, и ничего, замечает мамма, и Джулия знает, что она говорит правду.
Ее мать была счастлива в браке, хотя на самом деле она не выбирала себе мужа. В тридцать лет она все еще оставалась девицей и в конце концов приняла предложение Пьетро Ланфреди, который за ней ухаживал. Со временем пришла и любовь. Несмотря на взрывной темперамент, отец Джулии был добрым человеком и сумел завоевать расположение жены. Может, и с ней так будет.
Джулия поднимается к себе и закрывается на ключ. Не может она решиться на такой шаг. У Камала такая горячая кожа, и не надо ей ничего другого. Ей не хочется залезать в холодную постель с ледяными простынями, как героине этого сардского романа, который так потряс ее. «Каменная болезнь», так он назывался. Отчаявшись полюбить человека, за которого вышла замуж, женщина бродит по улицам в поисках потерянного возлюбленного. Джулии не нужно такое бесплотное существование. Ей вспоминаются слова нонны: «Поступай как хочешь, mia cara, главное – замуж не выходи».
Но есть ли у нее другой выход? Допустить, чтобы мать с сестрами оказались на улице? Как жестоко со стороны жизни, думает она, взваливать ей на плечи груз ответственности за всю семью, целиком.
В тот день у нее не хватило мужества встретиться с ожидавшим ее Камалом. Сама не зная почему, она пошла к маленькой церкви, которую так любил отец, и вдруг с дрожью осознала, что начинает говорить и думать о нем в прошедшем времени. Нет-нет, он же живой, спохватывается она.
Она никогда не молится, но сегодня ей необходимо побыть наедине с собой. В этот час в церкви пусто. Тишина и покой внутри создают впечатление отрешенности от внешнего мира и погружения в собственную душу. Может, это все от прохлады, от легкого запаха ладана, от гулкого эха шагов по каменным плитам? Джулия стоит затаив дыхание. Еще в детстве, входя внутрь храма, она чувствовала волнение, как будто ей предстояло проникнуть в какое-то священное, таинственное место, где обитает множество душ, поселившихся там в течение множества веков. Горят свечи, горят постоянно, и она задается вопросом, кто же это находит время, чтобы среди мирской суеты поддерживать эти призрачные огоньки.
Она кладет монетку в ящик для пожертвований, берет свечу, ставит ее на подсвечник рядом с другими. Зажигает ее и закрывает глаза. Тихо начинает молиться. Она просит у неба вернуть ей отца, дать сил принять эту жизнь, которую она не выбирала. Да, тяжело даются несчастья семье Ланфреди, думает она.
Только чудо поможет им выпутаться из этой ситуации.
Но чудес в этой жизни не бывает. Джулия знает это. Чудеса случаются в Библии или в книжках, которые она читала в детстве. Но она больше не верит волшебным сказкам. Несчастье, случившееся с отцом, с размаха зашвырнуло ее во взрослую жизнь. Она не была готова к этому. Как приятно было наслаждаться юностью – как будто лежишь в горячей ванне, и так тебе хорошо, что и вылезать неохота. Но вот оно пришло – время взрослеть, и как же это тяжело. Сон закончился.
Этот брак и правда – единственный выход. Джулия сто раз и так и этак вертела в голове этот вопрос. Джино выкупит висящую на их доме ипотеку. Если мастерская обречена, то семью, по крайней мере, можно будет спасти. Так и мамма говорит, да и папа хотел бы этого. Последний довод окончательно убеждает Джулию.
Тем же вечером она написала Камалу. На бумаге слова будут выглядеть не так жестоко, подумала она. В письме она рассказала все про мастерскую, про нависшую над семьей угрозу. И сказала, что выходит замуж.
В конце концов, они не давали друг другу никаких обещаний. Она никогда не представляла себе будущего рядом с ним, не воображала, что эта связь будет длиться вечно. Они принадлежат к разным культурам, у них разные боги, разные обычаи. Правда, кожа у них так хорошо сочетается. И тела просто идеально подходят одно к другому. Рядом с Камалом Джулия чувствует себя такой живой, какой никогда себя не чувствовала.
Ее смущает это страстное желание, которое мучит ее, не давая уснуть ночью, заставляя вставать по утрам в ознобе и каждый день снова и снова возвращаться к нему. Этот мужчина, с которым она совсем недавно познакомилась, о котором почти ничего не знает, волнует ее, как не волновал никто и никогда.
Это не любовь, думает она, пытаясь саму себя убедить в этом. Это что-то другое. И от этого надо отказаться.
Она даже не знает, куда отправить написанное письмо. Не знает, где он живет. Как-то раз он обмолвился, что снимает комнату где-то на окраине вдвоем с еще одним рабочим. Неважно. Джулия отнесет письмо в пещеру, где они обычно встречаются. Положит под раковину рядом с камнем, где столько раз они сжимали друг друга в объятиях.
На этом их история и закончится, думает она, волею случая, так же, как и началась.
Ночью Джулии не уснуть. Ее сон остался там, в ящике папиного стола. Часы проходят один за другим. Бессонная ночь полна тревоги, ей кажется, будто день никогда не настанет. Даже на чтение у нее нет сил. Так и лежит она неподвижно, как камень, в плену у темноты.
Скоро ей надо будет объявить работницам о закрытии мастерской. Она знает, что сделать это придется ей: ни на сестер, ни на мать она не может рассчитывать. Эти женщины для нее больше, чем просто сослуживицы, это – друзья, и вот ей предстоит их уволить. И ничем она не сможет помочь их горю, разве что поплакать вместе с ними горькими слезами. Она знает, что значит мастерская для каждой из них. У некоторых в этих стенах прошла вся жизнь. Что станет с нонной? Кто возьмет ее на работу? Алессия, Джина, Альда – им уже по пятьдесят, критический возраст для рынка занятости. А что будет делать Агнезе, которая одна растит детей, после того как ее бросил муж? А Федерика, оставшаяся без родителей? Кто ей поможет?.. Джулия всячески оттягивала этот момент, как откладывают на потом болезненную процедуру. Но пора решаться. Завтра поговорю с ними, думает она. Эта мысль добила ее, окончательно лишив сна.
А около двух часов ночи случилось нечто.
Кто-то среди ночи бросил камень ей в окно.
Джулия вздрогнула и вышла из оцепенения, в которое все же погрузилась. Тут раздался стук второго камня.
Джулия подходит к окну: внизу, на улице, стоит Камал. Смотрит на нее снизу вверх. В руке у него ее письмо. Он зовет ее:
– Джулия! Выйди! Нам надо поговорить!
Джулия зна́ком велит ему замолчать. Она боится, как бы не проснулась мать или соседи – все они спят чутко. Но Камал не двигается с места. Он настаивает, ему нужно с ней поговорить. Делать нечего, Джулия одевается, быстро спускается вниз и выходит к нему на улицу.
– Ты с ума сошел, – говорит она ему. – Зачем ты пришел сюда, сумасшедший?
Тут-то и свершилось чудо.
Сара
Монреаль, Канада
Началось все незаметно. Сначала ее забыли пригласить на совещание. «Мы не хотели тебя беспокоить», – скажет позже ответственный за это сотрудник.
Затем ей ничего не сказали о новом деле. «У тебя и так есть о чем подумать». Такие вот формулировки, даже похоже на сочувствие. Но Саре не нужны знаки внимания, она хочет работать дальше, хочет, чтобы ее уважали, как прежде. Не надо ее оберегать. И тем не менее с некоторых пор она чувствует, что ее стали меньше привлекать к жизни компании, к принятию решений, к разбору дел. Что-то ей забывают сказать, по каким-то вопросам обращаются к другим.
С тех пор как стало известно о ее болезни, Кёрст пошел в гору. Сара все чаще видит, как он обсуждает что-то с Джонсоном, смеется его шуткам, ходит с ним обедать. Инес тоже стала проявлять больше инициативы, позволяет себе больше вольностей в работе с делами, перестала советоваться с Сарой. Когда же Сара указывает ей на это, молодая сотрудница с деланым огорчением отвечает, что той «не было на месте», или что она была «недоступна», что означает «в больнице». Пользуясь ее отсутствием, Инес принимает за нее решения, выступает на совещаниях. В последнее время она очень сблизилась с Кёрстом, даже стала курить, чтобы, как думает Сара, выходить на перекур вместе со своим новым наставником. Может, и выкурит себе какое-нибудь повышение, кто знает?
В больнице у Сары начался курс терапии. Несмотря на советы онколога, она отказывается брать на эти дни отгулы. Отсутствовать на работе – значит уступить кому-то свое место, свою территорию – рискованная игра. Она должна продержаться во что бы то ни стало. Каждое утро она мужественно встает и идет на работу. Она не позволит этому раку отнять у нее то, что она выстраивала годами. Она будет сражаться, драться не на жизнь, а на смерть, чтобы сохранить власть. Только эта мысль и заставляет ее не падать духом, придает ей сил, упорства, энергии, которые ей так сейчас нужны.
Онколог, правда, предупредил ее: лечение будет тяжелым, и не только само по себе, но и из-за побочных эффектов. Он перечислил их все, составив для нее таблицу, где указал, когда именно у нее начнутся приступы тошноты, как скажется терапия на ее волосах, ногтях, бровях, коже, руках и ногах. Все, что ее ждет, день за днем, в течение нескольких месяцев, которые занимает курс лечения. Сара ушла от него с десятком рецептов – по одному на каждый побочный эффект, с которым ей придется помериться силами.
Но вот о чем он не сказал, о чем никто ни разу не заикнулся, так это особый эффект, гораздо более нежелательный, чем синдром «руки-ноги», гораздо более ужасный, чем приступы тошноты или когнитивные нарушения, чем этот туман, в который она иногда погружается. Побочный эффект, к которому она оказалась не готова и который не облегчить никакими рецептами, – исключение из жизни, эффект, идущий рука об руку с болезнью, медленное, болезненное отстранение, которое она испытывает теперь на себе.
Поначалу Саре не хотелось называть своим именем то, что происходит в фирме. Она предпочитала игнорировать «забывчивость» своих коллег, это необычное равнодушие в глазах Джонсона. По правде говоря, «равнодушие» – не совсем то слово, скорее это можно назвать некой отстраненностью, странным охлаждением отношений, которое чувствуется в их разговорах. Понадобилось несколько недель и множество деловых встреч, на которые ее не позвали, совещаний, о которых ее не известили, дел, которых ей не поручили, клиентов, с которыми ее не познакомили, чтобы она смогла наконец с уверенностью сказать: да, ее медленно, но верно отстраняют от дел.
И эти действия имеют название, которое ей трудно произнести: дискриминация. Термин, который она сотни раз слышала в ходе судебных разбирательств и который ее саму не касался, по крайней мере, она так думала. Тем не менее она наизусть знает его определение: «Любое различие, проводимое между людьми ввиду их происхождения, пола, семейного положения, беременности, внешности, имени, состояния здоровья, инвалидности, генетических характеристик, нравов, сексуальной ориентации или идентичности, возраста, политических взглядов, профсоюзной деятельности, принадлежности или непринадлежности к той или иной этнической группе, нации, расе или определенной религии». Этот термин связан с термином «клеймо», в том смысле, как определяет его социолог Ирвинг Гоффман: «Признак, делающий индивида отличным от категории, к которой его можно было бы отнести». Индивид, являющийся носителем такого признака, носит на себе некое «клеймо» и таким образом отличается от других, которых Гоффман называет «нормальными».
Вот так и Сара: теперь на ней «клеймо». Она поняла, что в обществе, где превалирующими качествами считаются молодость и здоровье, больным и слабым нет места. Она, принадлежавшая некогда миру сильных, вдруг пошатнулась и оказалась в противоположном лагере.
Как этому помочь? Как бороться с болезнью, она знает, у нее есть оружие, терапия, на ее стороне врачи. А от исключения из жизни какие могут быть лекарства? Ее медленно оттесняют к выходу, запирают в шкафу; что ей делать, чтобы изменить ситуацию?
Драться, да, конечно, но как? Подать на «Джонсона и Локвуда» в суд за дискриминацию? Это значит, что ей придется уволиться. Но если она уйдет, ни о какой помощи, ни о какой социальной защите не может быть и речи. Искать новое место? Да кто ее возьмет на работу с раком? Открыть собственное дело? Перспектива соблазнительная, но требующая больших денежных вложений. Банки дают кредиты только здоровым, это ей известно. Кроме того, пойдут ли за ней клиенты? Она же ничего не сможет им обещать, даже того, что через год будет в силах защитить их интересы.
Ей вспомнилось то ужасное дело, несколько лет назад, женщина, которую защищал один из ее коллег. Она работала секретаршей у одного частного врача. Ее мучили головные боли, и она обратилась к своему работодателю. Тот осмотрел ее, направил на дополнительное обследование, и вечером того же дня вызвал к себе, чтобы объявить ей об увольнении: у нее оказался рак. Он, естественно, сослался на причины экономического характера, но все было ясно как день. Процесс длился три года, женщина в конце концов вышла победительницей. А немного позже умерла.
Насилие, применяемое в отношении Сары, не так очевидно. Оно не имеет названия. Оно коварно, а потому труднодоказуемо. И все же оно вполне реально.
Однажды, январским утром Джонсон вызывает ее к себе в офис, наверх. С наигранной заботой интересуется ее делами.
– В порядке, спасибо. Да, прохожу химиотерапию.
Он рассказывает о каком-то дальнем родственнике, который двадцать лет назад тоже лечился от рака, а теперь находится в прекрасной форме. Саре плевать на все эти истории чудесных исцелений, которыми ее пичкают со всех сторон, – кидают, словно кость собаке. Для нее это ничего не изменит. Ей хочется ответить, что у нее от того же самого умерла мать, что сама она больна и чувствует себя хуже некуда, и пусть он засунет свое фальшивое сочувствие куда подальше. Он не знает, что это такое, когда весь рот у тебя обметан язвами так, что ты не можешь есть, когда к концу рабочего дня ноги так болят, что тебе не ступить и шага, когда ты так измотана, что любая лестница кажется непреодолимым препятствием. Вся его жалость – сплошная фальшь, на самом же деле ему нет никакого дела до того, что через несколько недель на голове у нее не останется ни волоса, что она так похудела, что ей страшно смотреть на себя в зеркало, что она все время боится – боится боли, смерти, что она не спит ночами, что ее рвет по три раза в день, что иногда, просыпаясь утром, она не знает, сможет ли удержаться на ногах. Да пошел он со своим участием! И его родственник тоже.
Но, как всегда, Сара сохраняет корректность.
Джонсон переходит к главной теме разговора: он хочет дать ей помощника для дела Бильгувара. Сара раскрыла рот от удивления и даже не сразу нашлась, что ответить. Бильгувар – ее давний клиент, она много лет ведет его дела, и ей для этого не нужны никакие помощники. Джонсон вздыхает, напоминает ей о том совещании, на которое она опоздала, – единственный раз в жизни. Ей тогда пришлось встать ни свет ни заря, чтобы до начала рабочего дня пройти очередную томографию в больнице, а томограф вдруг возьми и выйди из строя, – ну, не повезло, такое случается раз в три года, сокрушался тогда техник. Сара летела на работу со всех ног, примчалась вся запыхавшаяся, когда совещание только-только началось. Но Джонсону, конечно, все эти объяснения совершенно ни к чему, Сара может оставить их при себе. На их счастье, Инес была на месте. Эта никогда не опаздывает, отметил он, ведет себя безупречно. А еще был случай, напомнил он, когда Саре стало дурно прямо во время судебного разбирательства, заседание суда пришлось тогда перенести на другой день. Тут в голосе его зазвучали медовые нотки, которые Сара ненавидит больше всего, и он заговорил о том, что понимает-что-у-нее-курс-лечения, что все-здесь-желают-ей-полного-и-скорейшего-выздоровления. Джонсон большой мастер на готовые и ничего не значащие, пустые фразы. Он считает, что Саре-нужна-поддержка, в этом суть-и-предназначение-компании, работа-в-команде. И вот, чтобы-поддержать-ее-в-этот-трудный-для-нее-период-он-назначает-ей-в-подмогу… Гэри Кёрста.
Хорошо, что Сара в этот момент сидела, иначе она бы упала.
Только не это!
Лучше бы ее уволили, выставили на улицу. Или дали пощечину, оскорбили, по крайней мере, это было бы коротко и ясно. Что угодно, только не это запирание в шкаф, не это медленное, невыносимое умерщвление. Она чувствует себя быком на арене, которого вот-вот принесут в жертву. Она знает: протестовать бесполезно, ни один из ее доводов ничего не изменит. Ее судьба решена, и это решение принято Джонсоном. Какая ему теперь от нее польза – от больной? Ставить на нее он больше не желает.
Кёрст разделается с делом Бильгувара в два счета. Он отнимет у нее самого крупного клиента. Джонсон это понимает. Они вдвоем рвут ее на куски, ее – лежачую. Саре хочется закричать, позвать на помощь, как она кричит, играя с детьми: «На помощь! Грабят!» Но это будет глас вопиющего в пустыне. Никто ее не услышит, никто не поможет. Бандиты прекрасно одеты, с первого взгляда и не скажешь, что тут происходит, все выглядит вполне респектабельно. Это насилие класса люкс, оно носит костюм-тройку и пахнет дорогим одеколоном.
Вот он и дождался реванша, этот Гэри Кёрст. Завладев делом Бильгувара, он станет самым влиятельным партнером фирмы, лучшим преемником Джонсона. Он-то не болен, не ослаблен, он на пике формы, как вампир, насосавшийся чужой крови.
Беседа окончена. Взглянув на Сару с выражением крайнего сожаления, Джонсон бросает жестокую фразу: «У вас усталый вид. Шли бы вы домой, отдохнули…»
Сара возвращается к себе в кабинет совершенно раздавленная. Она знала, что у нее будут неприятности, но такого удара не ожидала. Новость, которую она узнала через несколько дней, ее уже не удивила: Кёрст назначен новым управляющим. Он заменил Джонсона на высшем посту, возглавил компанию. Это назначение прозвучало погребальным звоном по карьере Сары Коэн.
В тот день она вернулась домой днем, в совершенно непривычное для себя время: в доме никого, тишина. Она села на край кровати и расплакалась, думая о той женщине, которой была совсем недавно, еще вчера, – сильной и волевой, занимающей важное место в этом мире и которую сегодня этот мир выбросил.
Ничто больше не может удержать ее от падения вниз.
Падение, которое уже началось.
Сегодня утром, словно парка, Я волос порвала. Работа многих дней – насмарку. Печальные дела. И тут я вспомнила случайно, Начав свой труд сначала: Царица саван погребальный Плела и распускала. Как Пенелопа терпелива, Поверив сердцем в чудо, Вещицу сделаю красивую, Внимательнее буду.Смита
Варанаси, штат Уттар-Прадеш, Индия
Смита резко просыпается на перроне, где задремала, прижимая к себе свернувшуюся калачиком Лалиту. Солнце только еще встает. Сотни пассажиров несутся, сметая все на своем пути, в направлении только что поданного поезда. Всполошившись, она будит девочку:
– Бежим! Поезд пришел! Скорее!
Она торопливо собирает пожитки: боясь воров, они спали прямо на сумке. Хватает Лалиту за руку и бросается к вагонам третьего класса. На перроне страшная толчея, настоящее людское море, люди толкаются, опрокидывают, топчут друг друга. Со всех сторон раздаются крики: «Давай, давай!!!» Смита цепляется за ручку вагонной двери, на нее давят, но она держится изо всех сил, пытаясь протолкнуть Лалиту впереди себя и в то же время боясь, что девочку задавят в этой толпе. Вдруг, засомневавшись, она обращается к тощему мужчине, пробивающемуся в вагон рядом с ней. «Это поезд на Ченнаи?» – кричит она. «Нет! – отвечает тот. – На Джайпур. Не верьте табло, они часто врут».
Смита снова хватает Лалиту – та уже почти пролезла в вагон – и с огромным трудом пробирается обратно, как лосось, плывущий против течения.
Пробегав какое-то время по вокзалу, получив несколько противоречивых ответов на свои вопросы, тщетно попытавшись разузнать что-то у полицейского, Смита с Лалитой нашли наконец поезд на Ченнаи и залезли в вагон «спального класса». Это оказался старый вагон без кондиционера, с удобствами прошлого века, кишмя кишевший мышами и тараканами. С трудом втиснувшись в переполненное купе, они заняли единственное свободное местечко на деревянной скамье. На нескольких квадратных метрах уже сгрудилось десятка два пассажиров. Даже на самом верху, на багажных полках, сидят, свесив ноги в пустоту, какие-то мужчины и женщины. Путь предстоит долгий, в таком положении они должны будут проехать две тысячи километров. Поезд обычный, дешевый, не экспресс, останавливается на всех станциях, а потому едет медленно. Ехать через всю Индию, что за безумие, думает Смита. Здесь, в этих вагонах последнего класса, толкаясь, задыхаясь, изнемогая, путешествует все человечество. Целые семьи, младенцы, старики, сидя прямо на полу или стоя, стиснутые так, что не пошевельнуться.
Первые часы путешествия проходят без осложнений. Лалита спит, Смита клюет носом в полусне без сновидений. Вдруг девочка просыпается: ей нужно выйти. Смита начинает пробираться вместе с ней в конец вагона. Рискованное предприятие: на полу устроилось столько народу, что трудно кого-нибудь не задеть. Несмотря на все меры предосторожности, она наступает на одного из пассажиров, который разражается яростной бранью в ее адрес.
Когда они наконец добираются до туалета, оказывается, что дверь закрыта на два оборота. Смита пытается открыть ее, стучит. «Зря стараешься, – бросает ей сидящая на полу беззубая старуха с темной, словно старый пергамент, кожей. – Они там уже несколько часов как заперлись. Целое семейство, всё искали, где пристроиться, чтобы хоть поспать. До конечной станции не выйдут». Смита снова принимается стучать в дверь, то возмущаясь, то умоляя открыть. «И нечего тут надрываться, – снова говорит старуха, – другие уже пытались – не получилось».
«Но моей девочке правда очень нужно», – вздыхает Смита. Старуха тычет пальцем в угол вагона: пусть присядет там. Или пусть ждет ближайшей остановки. Лалита застыла в ужасе: она не хочет справлять нужду на глазах у чужих людей, в свои шесть лет она уже обладает обостренным чувством собственного достоинства. Смита пытается ей втолковать, что другого выхода нет. На ближайшей станции выходить рискованно, остановка слишком короткая. На предыдущей остановке одна семья так вот вышла, а на перроне было столько народу, что они не смогли вернуться обратно в поезд. Так он и ушел, а они остались неизвестно где, на незнакомой станции, без вещей.
Лалита мотает головой. Она лучше потерпит. Через час или два будет длинная стоянка в Джаблапуре. Она продержится.
Пока они пробираются обратно к своему месту, вагон наполняется вдруг жуткой вонью – смесью мочи и фекалий. Так бывает на каждой станции, где останавливается поезд: местные жители имеют обыкновение справлять свою нужду на железнодорожных путях. Смите хорошо знаком этот запах, он везде одинаков, ему неведомы границы, он не разбирает чинов, каст и достатка. Смита привыкла, но все равно задерживает дыхание, как делала это во время работы, закрывает себе и Лалите нос платком.
Этому больше не бывать. Она поклялась себе. Больше она не будет жить не дыша. Дышать свободно, с достоинством – вот как она будет жить. Наконец-то.
Поезд трогается. Мерзкий запах рассеивается, сменяясь другим, менее удушливым, но таким же тошнотворным – запахом потных тел, стиснутых в замкнутом пространстве. Скоро полдень, в переполненных купе, где лишь обычный вентилятор гоняет зловонный воздух, жара становится невыносимой. Смита дает попить Лалите, сама делает несколько глотков.
День тянется во влажном оцепенении. Одни чистят башмаки посреди купе, другие смотрят сквозь приоткрытую дверь на проносящиеся мимо пейзажи или прижимаются к решеткам окон в надежде хоть как-то освежиться, но получают только новую порцию раскаленного тропического воздуха. Какой-то человек ходит по поезду, окропляя головы пассажиров водой в знак благословения. Нищий попрошайка метет полы, выпрашивая за свою работу хоть несколько монеток и рассказывая всем и каждому свою печальную историю. Он вместе с родными работал в поле где-то на севере, когда богатые землевладельцы пришли к его отцу, который был им должен. Они избили его, переломали ему руки и ноги, вырвали глаза, а затем повесили за ноги, вся семья это видела. Лалиту от этого страшного рассказа начинает трясти, а Смита велит нищему идти мести куда-нибудь в другое место: здесь же дети!
Рядом с ней полная женщина, обливаясь потом, рассказывает, что едет в храм Тирупати, чтобы сделать подношение Вишну. Смита прислушивается. Сын женщины заболел, врачи считали его безнадежным. Один целитель посоветовал ей принести жертву в храме, и сын выздоровел. Теперь вот она едет, чтобы поблагодарить Вишну за это чудо, возложив к подножию его статуи угощения и цветы. Ради этого она пустилась в дальний путь и должна проехать тысячи километров. Она жалуется на условия поездки, но тут же добавляет: «Так надо: богу решать, насколько труден будет путь к нему».
Наступила ночь. Все в вагоне начинают устраиваться на ночлег, чтобы обрести хоть какое-то подобие отдыха. Деревянные скамейки превращаются в кушетки. Но спать на них все равно неудобно. Смита в конце концов забывается, прижавшись к тельцу Лалиты, рядом с полной женщиной. Она думает об обете, который дала Вишну перед бегством. Она должна сдержать слово.
И тут, глубокой ночью, лежа на жесткой кушетке в поезде, бегущем где-то между штатами Чхаттисгарх и Андхра-Прадеш, она принимает решение: завтра они с Лалитой не поедут, как собирались, дальше в Ченнаи. Когда поезд остановится на вокзале Тирупати, они сойдут и поднимутся на священную гору, чтобы поклониться своему богу. Неожиданно успокоившись, Смита засыпает с мыслью: Вишну ждет их.
Ее бог тут, совсем рядом.
Джулия
Палермо, Сицилия
Джулия вышла на улицу к Камалу посреди ночи. Оказавшись лицом к лицу с ним, она вдруг почувствовала, что дрожит. Что он скажет? Что любит ее? Что не хочет, чтобы они разлучались? Конечно, он попытается удержать ее, помешать этому глупому браку. Все будет как в мелодрамах, которые целыми днями смотрит мамма: слезы, пылкие объятия, душераздирающие слова прощания. И все же расстаться им придется.
Но Камал не рыдает, он вообще не выказывает никакого волнения. Скорее это возбуждение, нетерпение. Глаза его горят странным огнем. Он говорит тихим голосом, скороговоркой – так обычно делятся каким-нибудь секретом.
– Возможно, у меня есть решение, – говорит он, – насчет мастерской.
Не вдаваясь в дальнейшие объяснения, он берет ее за руку и ведет к морю, к той самой пещере, где они обычно встречаются.
Джулия с трудом различает в темноте его черты. Он прочитал ее письмо, говорит он. Закрытия мастерской можно избежать. Есть выход, который мог бы их спасти. Она смотрит на него и не верит: что на него нашло? Что за странная сила им овладела? Обычно такой спокойный, Камал весь дрожит от возбуждения. Он продолжает: сикхам запрещается остригать волосы, но индуистов этот запрет не касается. Те как раз, наоборот, стригутся тысячами, принося свои волосы в жертву божествам в храмах. При этом священным считается само действие – бритье наголо, а волосы просто потом собирают и продают на рынке. Для некоторых это даже стало профессией. Если здесь не хватает сырья, значит, надо ехать за ним туда. Импортировать. Это единственный способ спасти мастерскую.
Джулия не знает, что и сказать. Ее словно ударило током, и все же ей не верится. План Камала кажется безумием. Волосы из Индии, какая странная идея… Конечно, обработать их должным образом она сумеет. У нее есть отцовская формула, она сможет их обесцветить до молочно-белого цвета, который позволит потом придать им любой оттенок. Для этого у нее есть и знания, и умение. Но сама идея ее пугает. «Импортировать» – это слово кажется ей непонятным, оно словно заимствовано из другого языка, чужого, на котором не говорят здесь, в маленьких мастерских. Волосы, которые обрабатывают у Ланфреди, – сицилийские, и так было всегда: это местные волосы, с ее острова.
Когда иссякает один источник, надо искать другой, говорит Камал. Итальянцы свои волосы больше не сохраняют, зато индийцы приносят их в жертву. Ежегодно тысячами идут они в храмы. Их волосы продаются тоннами. Это просто манна небесная, неисчерпаемый источник сырья!
Джулия не знает, что и думать. Идея кажется ей соблазнительной, но уже через секунду – совершенно нереальной. Камал утверждает, что может ей помочь. Он знает язык, знает страну. Он мог бы стать связующим звеном между Индией и Италией. «Какой он чудесный! – думает Джулия. – Похоже, он и правда думает, что на свете нет ничего невозможного». Она сердится на себя за свою недоверчивость и отчаяние.
Домой она возвращается с пылающей головой. Мысли мечутся, как обезьяна в клетке, – обуздать их нет никакой возможности. Ей теперь точно не уснуть – не стоит и пытаться. Она включает компьютер и остаток ночи посвящает лихорадочным поискам.
Камал сказал правду. В интернете она находит множество фотографий, изображающих индусов – мужчин и женщин – в храмах. Они приносят туда свои волосы, надеясь взамен получить от богов кто богатый урожай, кто удачную женитьбу, кто крепкое здоровье. Чаще всего это бедняки или неприкасаемые, у которых, кроме волос, нет других ценностей.
А вот статья про одного английского бизнесмена, который нажил состояние на импорте волос. Теперь его имя знают во всем мире. Он летает повсюду на вертолете. На его завод в окрестностях Рима волосы из Индии поступают тоннами. Сырье доставляют самолетами в аэропорт Фьюмичино, а затем переправляют в промзону на севере столицы, где в огромных цехах оно проходит обработку. Англичанин утверждает, что индийские волосы – лучшие в мире. Лежа на краю бассейна у себя на вилле в окрестностях Рима, он рассказывает, как их дезинфицируют, расчесывают, затем обесцвечивают в специальных баках и наконец окрашивают в разные цвета, делая белокурыми, каштановыми, рыжими или золотистыми, так что они уже ничем не отличаются от волос европейцев. «Мы превращаем черное золото в белокурое», – самодовольно заверяет он. Затем пряди сортируют по длине, пакуют и рассылают по всему миру, в мастерские, где из них делают парики или накладные шиньоны. Пятьдесят три страны, двадцать пять тысяч парикмахерских салонов – от таких цифр голова закружится! Его предприятие стало уже многонациональным. А ведь сначала над ним смеялись, признается он, не верили, считали сумасшедшим. Но фирма процветает. Сейчас она насчитывает пятьсот сотрудников, производственные мощности, расположенные на трех континентах, покрывают восемьдесят процентов мирового рынка волос, с гордостью заключает он.
Джулия озадачена. Как у этого англичанина все просто. А сможет ли она сделать то же, что и он? Получится ли у нее провернуть все это? И кто она такая, чтобы считать себя способной на такие дела? Превратить семейную мастерскую в промышленное предприятие – да это просто утопия! Но ведь англичанин сделал это. Если у него вышло, может быть, и у нее тоже получится?
Один вопрос терзает ее больше всех остальных: что сказал бы папа? Поддержал бы он ее на этом пути? Он всегда говорил, что надо смотреть шире, быть дерзким и предприимчивым. Но с другой стороны, он упорно держался своих корней, своей идентичности. «Это волосы с Сицилии», – любил он повторять, показывая на разноцветные пряди. Так не будет ли развитие предприятия предательством по отношению к нему?
Джулия думает о своей фотографии в отцовском кабинете рядом с карточками отца и деда, о трех поколениях Ланфреди, занимавшихся мастерской. И тут ей приходит в голову, что настоящим предательством было бы отказаться от борьбы. Разрушить труд жизни предков – разве это не предательство?
Ей вдруг захотелось поверить. Нет, они не утонут. Мастерская не обречена. И она никогда не выйдет за Джино Баттальолу. Идея Камала – шанс на спасение, подарок судьбы. В тот день, когда она стояла перед открытым ящиком отцовского письменного стола, ей подумалось, что все это – как «Коста-Конкордия», но теперь ей кажется, что она видит, как из темноты спешит ей на помощь судно: сейчас с него бросят спасательный круг, и она будет спасена.
Она думает о Камале: нет, не случайно встретила она его тогда, в День святой Розалии. Он был ниспослан ей свыше. Небо услышало ее молитву.
Вот он – знак, чудо, которого она ждала.
Смита
Тирупати, штат Андхра-Прадеш, Индия
– Тирупати! Тирупати! – кричит какой-то человек в вагоне.
Вскоре поезд останавливается на вокзале Тирупати, скрипят по рельсам тормоза. И сразу же на перрон извергается поток паломников, нагруженных одеялами, какими-то вещами, металлическими барабанами, провизией, цветами, подношениями, с детьми на руках и стариками на спинах. Все спешат, стремятся к выходу и дальше – к священной горе. Смита, не в силах сопротивляться захватившему ее людскому потоку, крепко стискивает в ладони ручку Лалиты. Опасаясь, что девочку все же оторвут от нее, она в конце концов берет ее на руки. Вокзал похож на муравейник, кишащий десятками тысяч насекомых. Говорят, что ежедневно пятьдесят тысяч паломников прибывают сюда, чтобы поклониться Господу Венкатешваре, «Господину Семи Холмов», одному из воплощений бога Вишну, а в праздники это число удесятеряется. Считается, что Венкатешвара может исполнить любую просьбу, с которой к нему обратятся. Гигантская статуя божества находится в храмовом святилище, на самой вершине священного холма, возвышающегося над раскинувшимся у его подножия городом.
Здесь, рядом с этими тысячами и тысячами пылко верующих душ, Смиту охватывает восторг, и в то же время ей страшно. Она чувствует себя маленькой, ничтожно маленькой среди этой толпы совершенно чужих людей, объединенных одним порывом. Все они прибыли сюда в надежде обрести лучшую жизнь или в благодарность за оказанную им милость: рождение сына, исцеление близкого человека, богатый урожай, счастливый брак.
Некоторые, чтобы добраться до храма, бегут к автобусу: за сорок четыре рупии тот доставит паломников прямо на вершину горы. Хотя всем известно, что настоящее паломничество совершается пешком. Смита приехала сюда из такой дали не для того, чтобы искать легких путей. Как того требует обычай, она снимает с себя и Лалиты сандалии. Таких, как она, много – люди разуваются в знак смирения, чтобы босиком подняться по ступеням, ведущим к дверям храма. «Три тысячи шестьсот ступеней, почти пятнадцать километров, три часа пути!» – уточняет расположившийся на обочине торговец фруктами. Смита переживает за Лалиту, девочка устала, они мало спали в переполненном поезде, без удобств. Ничего, им нельзя отступать. Они пойдут, как смогут, пусть даже на восхождение уйдет целый день. Вишну хранил их, он привел их сюда, и теперь им нельзя сплоховать, ведь они совсем близко от него. Смита покупает на несколько рупий кокосовых орехов, и Лалита с аппетитом ест их. Один орех они разбивают на самой первой ступени – это подношение божеству, так велит обычай. Некоторые зажигают маленькие свечки и ставят их на каждой ступени: нужно иметь немало мужества и сильную волю, чтобы пройти весь путь до храма вот так, согнувшись пополам. Другие мажут ступени огненно-красной и желтой краской на основе воды, отчего лестница словно горит огнем. Самые благочестивые и самые волевые проделывают весь путь на коленях. Вон целая семья медленно продвигается таким образом, морщась от боли после преодоления каждой ступени. Какое самоотречение, с завистью думает, глядя на них, Смита.
Уже на первой четверти пути Лалита начинает проявлять признаки усталости. Они то и дело вынуждены останавливаться, чтобы попить и отдышаться. Через час девочка совершенно выбивается из сил. Смита водружает хрупкое тельце себе на спину и продолжает восхождение. Она и сама так худа, что силы вот-вот оставят ее, но впереди у нее есть цель, к которой она стремится всей душой, – это образ горячо любимого бога, перед которым она вскоре предстанет. Ей кажется, что Вишну удесятеряет сегодня ее силы, чтобы она смогла подняться до самого верха и пасть перед ним ниц.
Лалита спит уже какое-то время, когда Смита заканчивает восхождение. Она садится перевести дух перед вратами храма. Высокие стены ограждают священное пространство. Гигантская белая гранитная башня дравидийской архитектуры устремлена в небо. Смита никогда не видела ничего подобного. Тирумала – это целый мир, и народу здесь больше, чем в каком-нибудь городе. По традиции, здесь не торгуют ни алкоголем, ни мясом, ни сигаретами. Попасть сюда можно, купив билет: самый дешевый стоит двенадцать рупий, объясняет Смите пожилой паломник. И она понимает, что проделанный ими тяжелый путь – лишь начало того, что их ждет дальше. Не один час придется им прождать, прежде чем у них появится надежда войти в святилище.
Поздно, темнеет. Смите нужен отдых. Она должна хоть немного поспать, по крайней мере, попытаться уснуть. Какой-то человек отделяется от толпящихся у стен храма торговцев цветами и сувенирами и подходит к ней. Он обратил внимание на ее растерянный, утомленный вид. Здесь есть бесплатные ночлежки для паломников, говорит он. Он может показать им дорогу. Он внимательно разглядывает ее, затем его взгляд задерживается на Лалите. Он отведет их туда, если они будут любезны с ним. Смита хватает дочку за руку и тащит ее прочь от этого хищника. А на лицо такой приятный, просто ангел… При мысли, что им придется ночевать на улице, ее кидает в дрожь: две женщины, одни, без мужчины, – такая легкая добыча. Нет, им обязательно надо найти пристанище на ночь. Это вопрос жизни и смерти. Сидящий на обочине садху[22], одетый в желтое лонги[23] – цвет вишнуитов, – показывает ей, куда идти.
Первый ночлежный дом закрыт, во втором нет свободных мест. При входе в третий какая-то старуха объявляет, что осталась всего одна койка. Какая разница. Смита и Лалита столько пережили вместе, что стали уже единым целым. Они входят в обшарпанную комнату, где рядами стоят десятки грубых коек, укладываются, прижавшись друг к другу, и, не обращая внимания на стоящий в помещении гвалт, проваливаются в глубокий сон.
Сара
Монреаль, Канада
Уже три дня, как Сара не встает с постели.
Вчера она вызвала врача, чтобы тот выдал ей больничный лист – первый за всю ее карьеру. Она не хочет возвращаться в офис. Не может больше терпеть это лицемерие, с которым ее постепенно отстраняют от дел.
Сначала было неприятие – она не могла поверить. Потом ею овладел гнев, какое-то дикое бешенство. Затем пришел полный упадок сил, бесконечная, беспросветная апатия.
Сара всегда была хозяйкой своих поступков, своих жизненных установок, она была тем, что называется здесь «executive woman», а если точнее, «лицом, занимающим ведущее положение на предприятии или в компании, принимающим решения и отвечающим за их исполнение». Отныне она ничего не решает, а лишь подчиняется обстоятельствам. Она чувствует себя преданной, как отвергнутая женщина, которую выгоняют, потому что она не дала того, чего от нее ждали, потому что ее сочли непригодной, несостоятельной, бесплодной.
Она, справившаяся со «стеклянным потолком», натолкнулась теперь на невидимую стену, отделяющую мир здоровых от мира больных, слабых, уязвимых, к которому она теперь принадлежит. Джонсон и иже с ним хоронят ее заживо. Они уже бросили ее тело в яму и, лживо улыбаясь и выражая фальшивые соболезнования, бодро ее закапывают. С профессиональной точки зрения она уже мертва. Она знает это. Словно в кошмарном сне, она присутствует на собственных похоронах, не в силах ничему помешать. Она может сколько угодно вопить, кричать, что она тут, живая лежит в гробу, – никто ее не слушает. Ее страдания все больше становятся похожи на кошмар наяву.
Они лгут, все лгут. Говорят ей: «Будь сильной», «Ты выкарабкаешься», «Мы с тобой», но их поступки указывают совсем на другое. Они просто выбросили ее. Изъяли из обращения и выбросили. Как выбрасывают на свалку испорченную, ненужную вещь.
Она всем пожертвовала ради работы, и вот теперь сама – жертва, возложенная на алтарь результативности, рентабельности, успеха. Здесь так: либо функционируй, либо дохни. Ей, значит, подыхать.
Ее план не сработал. Выстроенная стена рухнула; ее подорвали амбиции Инес, помноженные на карьеризм Кёрста. И все это с благословения Джонсона. Она-то думала, что тот защитит ее или, по крайней мере, попытается. А он бросил ее безо всякого сожаления. Отнял у нее единственное, что помогало ей держаться, единственное, что давало ей силы вставать по утрам, – ее социальную значимость, ее профессиональную жизнь, иллюзию, что она что-то собой представляет, что у нее есть место в этом мире.
Случилось то, чего она так боялась: Сара слилась со своим раком. Стала олицетворением собственной опухоли. Теперь, глядя на нее, люди видят не блестящую, элегантную, преуспевающую женщину сорока лет, а воплощение болезни. Она для них не заболевший адвокат, а больная, работающая адвокатом. Существенная разница. Рак пугает. Он изолирует, отдаляет. От него пахнет смертью. Столкнувшись с ним, люди отворачиваются, зажав нос.
Неприкасаемая, поставленная вне общества – вот кем стала Сара.
Так что нет, не вернется она туда, на эту арену, где ее приговорили к смерти. Они не увидят, как она падает. Она не выставит себя на всеобщее обозрение, не отдастся на съедение львам. Что у нее еще осталось, так это чувство собственного достоинства. И возможность сказать «нет».
В то утро она не притронулась к подносу с завтраком, приготовленному для нее Роном. Близнецы пришли ее поцеловать и сразу залезли к ней в постель. Но прикосновение их теплых, гибких тельц не вызвало в ней никакого отклика. Ханна упрашивала ее встать, испробовала для этого все средства. Она и подбадривала ее, и угрожала ей, и стыдила – все напрасно. Она уже знает, что вернувшись вечером с занятий, найдет мать в том же положении.
Так Сара проводит все дни – в болезненной летаргии, в прогрессирующем оцепенении, медленно отдаляясь от мира. Прокручивая в голове, словно фильм, события последних недель, она думает, что можно было бы сделать, чтобы изменить ситуацию. Ничего, в этом нет сомнения. Партия разыграна без ее участия. Игра окончена. Это всё.
Считать, что все хорошо, что ничего не изменилось, жить по-прежнему нормальной жизнью, следовать, так сказать, тем же курсом, держаться, притворяться… Она думала, что у нее это получится. Она считала, что сможет управлять болезнью, вести ее, как вела свои дела, методично, проявляя старание и волю. Но этого оказалось мало.
Лежа в полусне, она пытается представить себе, как отреагируют коллеги на известие о ее смерти. Мрачное занятие, но ей оно нравится: так нам нравится иногда слушать печальную музыку, когда у нас горе. Она так и видит их вытянутые физиономии с выражением фальшивого огорчения. Они будут говорить: «Опухоль оказалась коварной», или: «Она знала, что обречена», или еще: «Было уже поздно», а то и хуже того: «Она слишком долго тянула с лечением», возлагая таким образом на нее всю ответственность, всю вину за собственную участь. Но это неправда. Убивает, медленно точит Сару Коэн не только опухоль, которая завладела ее телом и правит там бал, жестокий бал с непредсказуемыми антраша, нет, ее убивает равнодушие тех, кого она считала своими товарищами, соратниками по компании, для которой она столько сделала. Это было смыслом, сутью ее жизни, тем, что японцы называют «икигаи». Отними у нее это, она и сама перестанет существовать. Останется только пустая оболочка, лишенная внутреннего содержания.
Она все еще удивляется своей наивности. Ведь она думала, что ее болезнь дестабилизирует компанию, а правда оказалась куда как более жестокой: компания прекрасно обходится без нее. Ее парковочное место отдадут кому-нибудь другому, как и офис, – они еще будут грызться, чтобы заполучить его. И эта мысль ее убивает.
Врач, обеспокоенный ее состоянием, прописал ей антидепрессанты. По его словам, депрессия-это-частая-реакция-на-известие-о-серьезном-заболевании. При-раке-она-может-оказаться-неблагоприятным-фактором. Надо-взять-себя-в-руки. Идиот несчастный, подумала тогда Сара. Это не она больная – все общество нуждается в лечении. Оно должно оберегать слабых, всячески содействовать им, а на деле оно поворачивается к ним спиной, как к старым слонам, которых стадо бросает на произвол судьбы, обрекая на одинокую смерть. Как-то она прочитала в детской книжке про животных такую фразу: «Хищники выполняют в природе полезную функцию, так как они уничтожают слабых и больных». Ее дочка тогда расплакалась. Сара утешала ее, говоря, что у людей другие законы. Она считала, что живет в безопасности, в цивилизованном мире. Она ошибалась.
Так что пусть ей выписывают сколько угодно лекарств, они все равно ничего не изменят, разве что самую малость. В мире всегда найдутся Джонсоны и Кёрсты, готовые утопить ее снова.
Сволочи!
Дети ушли, в доме снова стало тихо. Сара встает. Добрести до ванной – это все, на что она способна по утрам. В зеркале ее кожа напоминает лист бумаги – такая же бледная и тонкая, почти прозрачная. Ребра у нее торчат, ноги – как палки, того и гляди переломятся, будто спички. А ведь раньше у нее были красивые ноги, округлые ягодицы аппетитно проступали под строгими костюмами прекрасного кроя, а уж ее грудь всегда считалась грозным оружием соблазнения. Чего уж тут говорить: Сара нравилась мужчинам. Очень немногие смогли устоять перед ее обаянием. У нее бывали приключения, разные истории, было даже два настоящих романа – с обоими мужьями, которых она действительно любила, особенно первого. А теперь кто скажет, что она красива – с этой-то мертвенно-бледной физиономией, худым телом, в спортивном костюме, который стал ей велик и болтается, как саван на привидении? Болезнь незаметно делает свое дело, скоро она будет вынуждена брать вещи у своей двенадцатилетней дочери. Это все, что она сможет носить, – детские одежки. И какой любви она может ожидать в таком виде? Чьей? И тут Саре подумалось, что она все отдала бы, только бы кто-то, неважно кто, обнял ее. Почувствовать себя женщиной, снова, на несколько мгновений в руках мужчины. Ах, как бы это было хорошо.
Одной груди у нее нет – поначалу она не хотела признаваться себе, что это – горе, несчастье. По своему обыкновению, она накинула вуаль на эту неприятность, в тщетной попытке отгородиться, отстраниться от нее. Ничего такого, повторяла она себе, пластическая хирургия делает чудеса. Слово, правда, показалось ей уродливым само по себе: «ампутация», оно вписывается в один ряд с такими словами, как «экзекуция», «мутиляция», «оккупация», «деструкция». Может, конечно, и «реабилитация», если повезет. Но кто может ей это обещать? Когда Ханна узнала про ее болезнь, то сначала очень расстроилась. А потом подумала и сказала: «Ты у нас амазонка, мама». А какое-то время спустя написала доклад на эту тему (Сара читала его, чтобы кое-что поправить). Она до сих пор его помнит:
«Слово «амазонка» происходит от греческого слова «мазос» – «женская грудь» с приставкой «а», означающей «лишенный чего-то». Эти античные женщины отрезали себе правую грудь, чтобы она не мешала им стрелять из лука. Это был целый народ воительниц, которых одновременно и боялись, и почитали. Для продолжения рода они сходились с мужчинами соседних племен, но детей воспитывали сами. Мужчин они использовали на домашних работах. Они много воевали и часто одерживали победы».
В победоносном завершении своей войны Сара, увы, не уверена. Ее тело, которое она столько лет принуждала, игнорировала, о котором не заботилась, иногда даже морила его голодом – у нее же никогда не было времени ни на еду, ни на сон, – теперь отыгрывается на ней. Самым жестоким образом оно напомнило ей о своем существовании. Сара теперь – тень, жалкое подобие себя самой. То, что она видит в безжалостном зеркале, – лишь бледная копия той, кем она была когда-то.
Больше всего ей жалко волос. Она теряет их теперь пригоршнями. Онколог предупреждал (тоже еще оракул нашелся): начиная со второго сеанса химиотерапии они начнут выпадать. Сегодня утром она нашла у себя на подушке несколько десятков маленьких мертвецов. Этого она боится больше всего. Алопеция – облысение – лицо болезни. Лысая женщина – больная женщина: неважно, что на ней потрясающий джемпер, туфли на высоченных каблуках, обалденная сумка, – никто этого не заметит, все увидят только ее голый череп – ее признание, исповедь, ее боль. Обритый наголо мужчина может выглядеть сексуально, но лысая женщина – больная, и всё, думает Сара.
Итак, рак отнял у нее все – работу, внешность, женственность.
Сара думает о своей матери, побежденной той же болезнью. Забраться бы обратно в постель и тихо угаснуть в тишине, чтобы встретиться с ней там, в ее подземном жилище, разделить с ней вечный покой. Зловещая мысль, но утешительная. Иногда приятно думать, что все имеет свой конец, что даже самые страшные муки проходят – завтра пройдут.
Думая о матери, она вспоминает, какой та была всегда элегантной. Даже совсем больная, она никогда не появлялась на людях без макияжа, непричесанной, с неухоженными ногтями. Ногти – особенно важная деталь. Мать часто говорила: руки всегда должны быть в порядке. Для многих это было неважно, так – кокетство, пустяк, но для нее означало: у меня еще есть время, чтобы заняться собой. Я активная женщина, у меня масса забот, трое детей (рак), я разрываюсь от повседневных дел, но я не сдалась, не исчезла, вот я, по-прежнему здесь, женственная и ухоженная, вся как есть, видите мои пальцы? Я есть.
Сара есть. Стоя перед зеркалом, она смотрит на свои поврежденные ногти, на поредевшие волосы.
И тут она чувствует, как внутри ее начинает что-то пульсировать, дрожать, словно какая-то крохотная частичка ее самой, где-то глубоко-глубоко, вдруг восстала, отказалась сдаваться, погибать. Нет, она не умрет. Она не сдастся.
Она – амазонка, воительница. Амазонку так просто не возьмешь. Она сражается до последнего вздоха. Она никогда не сдается.
Надо, надо бороться. В память о матери, ради дочери, сыновей, ведь она нужна им. Во имя всех войн, которые она вела до того. Она должна жить дальше. Нет, не ляжет она больше в эту постель, не позволит смерти завладеть ею. Пусть та уже тянет к ней свои лапы. Она не даст себя похоронить. Не сейчас.
Сара быстро одевается. Достает из шкафа вязаную шапочку – надо спрятать волосы. Шапочка детская, с изображением какого-то супергероя. Неважно, зато будет тепло.
Одевшись, она выходит из дома. Идет снег. Под пальто у нее целых три свитера, надетых один поверх другого. В таком виде она кажется совсем маленькой – прямо шотландская овечка, сгибающаяся под тяжестью собственной шерсти.
Сара уходит. Сегодня – так она решила.
Она знает, куда идет.
Джулия
Палермо, Сицилия
Итальянцам нужны итальянские волосы.
Фраза упала, как нож гильотины. Джулия только что поделилась с матерью и сестрами, собравшимися в гостиной родительского дома, своим планом спасения мастерской: им придется импортировать волосы из Индии.
Все предшествующие дни она не покладая рук трудилась над разработкой этого плана. Изучала рынок, готовила документы для банка – придется брать кредит, без этого не обойтись. Она работала день и ночь, жертвуя сном, неважно: на нее возложена чуть ли не божественная миссия, она чувствует это. Она и сама не знает, откуда у нее взялась эта вера, эта неожиданная энергия. Может, все оттого, что рядом с ней Камал? А может, это отец, все еще находящийся в коме, дает ей и сил, и уверенности? Джулия просто горы готова свернуть – от Апеннин до Гималаев.
И движет ею не жажда наживы: что ей делать с миллионами, которыми так похваляется английский бизнесмен? Не нужны ей ни бассейны, ни вертолеты. Все, чего она хочет, – это спасти отцовскую мастерскую, уберечь семью от разорения.
Ничего не получится, говорит мамма. Ланфреди всегда пользовались только сицилийским сырьем. «Каскатура» – древний местный обычай. Нельзя безнаказанно попирать традиции, заявляет она.
Традиции их погубят, отвечает Джулия. Счета не оплачены: еще месяц, и мастерскую закроют. Надо пересмотреть производственную цепочку, выйти на международный рынок. Мир меняется, это надо принимать как данность и меняться вместе с ним. Семейные предприятия, не желающие развиваться, закрываются одно за другим по всей стране. Сегодня надо смотреть шире, дальше, выходить за границы страны, это вопрос выживания! Развиваться или умереть, другого выбора нет. Джулия говорит и чувствует, как за спиной у нее вырастают крылья: она – словно адвокат, выступающий на важном процессе. Эта профессия всегда ее привлекала – профессия образованных людей из хорошего общества. Среди Ланфреди адвокатов нет, только рабочие, а ей так хотелось бы защищать справедливость, быть влиятельной, известной. Она иногда мечтает об этом, и эта мысль воспаряет ввысь, присоединяясь к ее прежним забытым мечтам.
Джулия запальчиво расписывает прекрасное качество индийских волос, признанное множеством экспертов. Волосы азиатов – самые прочные, волосы африканцев – самые хрупкие, а вот у индийцев волосы – самые лучшие, как по текстуре, так и по простоте перекрашивания. После обсцвечивания и окраски они ничем не отличаются от волос европейцев.
В разговор вступает Франческа: она согласна с матерью, из этого ничего никогда не выйдет. Итальянцы не захотят носить импортные волосы. Джулию это не удивляет. Ее сестра всегда принадлежала к скептикам, к тем, кто видит все в черном, сером цвете, к тем, кто отвечает «нет», даже не думая, что может быть и «да». Те, кто всегда замечает какую-нибудь некрасивую деталь в пейзаже, пятнышко на скатерти, кто живет в ожидании неприятностей, словно радуясь этим фальшивым ноткам в симфонии окружающего мира, словно только в этом они и находят смысл своей жизни. Франческа – прямая противоположность Джулии, ее негативное изображение, в фотографическом смысле слова: сила их свечения обратно пропорциональна.
Если они не нужны итальянцам, они найдут другие рынки сбыта, не унимается Джулия: есть американцы, канадцы. Мир велик, и волосы нужны везде! Накладки, шиньоны, парики – спрос на этот товар только растет. Надо выплывать на этой волне, а не тонуть.
Но Франческа снова обрушивается на Джулию со своими сомнениями и недоверием. Она всегда говорит, что думает, ее сестричка. Как она собирается все это проделать? Она же никогда не выезжала за пределы Италии, даже на самолете никогда не летала. Не видела ничего дальше Палермской бухты. Так как она думает провернуть это дело? Чудесным образом?
Но Джулии хочется верить в свою мечту. Интернет сократил расстояния, весь мир теперь у них в руках, как этот яркий глобус, который им подарили в детстве. Индия совсем рядом, вот она, тут, за дверью. Она долго изучала цены, она знает, сколько стоят волосы, ее проект вполне реален. Для его осуществления требуются только отвага и вера. А этого ей не занимать.
Адела ничего не говорит. Сидит в уголке и смотрит, как спорят сестры: при любых обстоятельствах она остается нейтральной, равнодушной к тому, что происходит в мире, одним словом – подросток.
Надо закрыть мастерскую, а здание продать, берется опять за свое Франческа. Это позволит покрыть часть долга за ипотеку. А жить на что? – спрашивает Джулия. Она, что, думает, так легко найти работу? А работницы, о них она подумала? Что ждет этих женщин, трудившихся на них все эти годы?
Спор переходит в ссору. Мамма знает, что должна положить этому конец, разнять дочек, чьи голоса звенят на весь дом. Они никогда не понимали друг друга, с горечью думает она, никогда не находили общего языка. Их взаимоотношения – это сплошные ссоры, следовавшие одна за другой, но эта, кажется, – самая серьезная. Она должна рассудить их, а для этого ей надо принять какое-то решение.
Да, правда, о работницах надо подумать, говорит она, это вопрос чести и уважения. И все же Франческа права в одном: итальянцам нужны итальянские волосы.
Эта фраза прозвучала погребальным звоном по всем планам Джулии.
Она выходит из дома совершенно без сил. Она знала, что ей придется сражаться за свой проект, но и представить себе не могла, что встретит такое сопротивление. Она чувствует себя как после ночного праздника: ей и муторно, и в то же время она протрезвилась. Без согласия матери и сестер она ничего не сможет сделать с мастерской. Они только что разрушили все выстроенные ею воздушные замки. Все ее воодушевление рассыпалось в прах, а на смену ему пришли сомнения и страх.
Она пойдет в больницу, к отцу, только там она может укрыться. Интересно, что бы он сказал на все это? Как бы поступил? Как было бы хорошо спрятаться сейчас у него в объятиях и долго-долго плакать – как маленькая. Уверенность покидает ее. Она не знает, что ей делать дальше – упорствовать в своих планах или похоронить их навсегда, сжечь на алтаре во имя всех этих умирающих традиций. Она разбита, измучена, она так устала от бессонных ночей, что смогла бы уснуть прямо здесь, на этой койке, рядом с папой. Уснуть и спать сто лет, как он, – вот чего ей хочется.
Джулия закрывает глаза.
И тут она видит себя наверху, в лаборатории. Отец тоже здесь, сидит и смотрит на море, как раньше. Он выглядит совершенно здоровым, безмятежным, умиротворенным. Улыбается ей, как будто ожидал ее прихода. Джулия садится рядом с ним. Она рассказывает ему о своих терзаниях, о своем горе, об этом чувстве собственного бессилия, которое душит ее. Говорит, что очень переживает из-за мастерской.
«Никому не позволяй сбивать себя с пути, – отвечает он. – Ты должна верить и дальше. У тебя сильная воля. Я верю в твои силы, в твои способности. Не отступай. В жизни тебя ждут большие дела».
Какой-то резкий звук будит ее, и Джулия вскакивает. Она заснула прямо здесь, рядом с отцом, в больничной палате.
Приборы, которые поддерживают в нем жизнь, звенят. К его кровати бегом мчатся медсестры.
И в этот самый миг Джулия чувствует, как рука отца шевельнулась в ее ладони.
Смита
Храм Тирупати, штат Андхра-Прадеш, Индия
Заря занимается над горой Тирумала.
Смита с Лалитой стоят в очереди паломников перед входом в храм. К ним подходит какой-то мальчик и протягивает несколько ладду – сладких шариков, приготовленных из сухофруктов и концентрированного молока. Состав и вес лакомства имеют особое значение, ведь его рецепт был продиктован самим богом Вишну, говорит он. Их готовят жрецы в храме и раздают паломникам. Съесть ладду – одна из ступеней процесса очищения. Смита благодарит бога за этот ниспосланный им чудесный завтрак. Приободрившись после нескольких часов сна и сладкого ладду, она чувствует себя готовой к новым жертвам. Она еще не говорила Лалите, что ждет их внутри храма. Если богатые несут туда в виде подношений еду и цветы, украшения, золото и драгоценные камни, то бедняки отдают Господу Венкатешваре единственное, что у них есть, – свои волосы.
Этому древнему обычаю тысячи лет: принести в жертву свои волосы – значит отречься от своего «я», предстать перед божеством во всем смирении, во всей наготе.
Войдя в храм, Смита с Лалитой попадают в решетчатые коридоры, где тысячи далитов днями напролет ждут своей очереди. Ждать можно очень долго, до двух суток, поясняет им человек, сидящий на полу у входа. Те, у кого есть хоть какие-то деньги, покупают билет, чтобы пройти быстрее. Паломники целыми семьями тут прямо и спят, чтобы не пропустить свою очередь. После бесконечного многочасового ожидания в этих импровизированных клетках они оказываются наконец в калианкате, огромном, четырехэтажном здании, где суетятся, делая свою работу, сотни цирюльников. Настоящий муравейник, где жизнь не замирает ни днем, ни ночью. Самая большая парикмахерская в мире, говорят здесь. Смита узнаёт, что стрижка стоит пятнадцать рупий. Да уж, даром ничего не делается, думает она.
В огромном зале, сколько хватает глаз, мужчины, женщины с младенцами на руках, дети, старики подставляют головы под бритвы цирюльников, читая нараспев обращенную к Вишну молитву. Увидев сотни голов, которые обривают одну за другой, Лалита пугается. Она плачет. Ей не хочется расставаться с волосами, они ей так нравятся. Защищаясь, девочка прижимает к себе куклу, этот тряпичный комок, с которым она не расставалась в течение всего путешествия. Смита наклоняется к ней и ласково шепчет на ухо:
– Не бойся. С нами бог. У тебя вырастут новые волосы, еще красивее, чем эти. Не волнуйся. Я пойду перед тобой.
Ласковый голос матери немного успокаивает девочку. Она смотрит на других детей, которых только что обрили: они проводят ладонью по голой голове и смеются. Похоже, что им совсем не больно, наоборот, им весело от того, какими они теперь стали. А матери, с таким же голым черепом, как и у них, мажут их желтым сандаловым маслом, которое, как считается, защищает кожу от солнечных лучей и инфекций.
Подошла и их очередь. Цирюльник зна́ком велит Смите подойти ближе. Та благоговейно повинуется. Она опускается на колени, закрывает глаза и начинает еле слышно молиться. Что она шепчет Вишну посреди огромного зала – это ее секрет. Этот миг принадлежит только ей. Она мечтала о нем целыми днями, мечтала много лет.
Цирюльник быстро меняет лезвие: порядок в храме строгий – на каждого паломника полагается отдельное лезвие. В его семье все были цирюльниками, это ремесло передается от отца к сыну на протяжении многих поколений. Изо дня в день он совершает одни и те же манипуляции, повторяет одни и те же жесты – столько раз, что они снятся ему по ночам. Ему снятся океаны волос, в которых он иногда даже тонет. Он велит Смите заплести волосы в косу – так будет проще и брить, и собирать потом волосы. Затем он смачивает ей голову водой и приступает к бритью. Лалита с беспокойством поглядывает на мать, но Смита улыбается ей. С ней Вишну. Он тут, совсем рядом. Он благословляет ее.
Пока пряди одна за другой падают к ногам Смиты, она закрывает глаза. Вокруг нее тысячи таких, как она, вот они, стоят в той же позе, молят бога о лучшей жизни, отдают ему единственное, что имеют, – свои волосы – украшение, дар, полученный ими от неба, который они теперь ему и возвращают, здесь, молитвенно сложив руки и преклонив колени на полу калианкаты.
Когда Смита открывает глаза, череп у нее блестит, как яйцо. Она встает и чувствует вдруг невероятную легкость. Совершенно новое, почти пьянящее чувство. По всему ее телу пробегает дрожь. Она смотрит на собственные волосы, лежащие теперь у ее ног угольно-черной горкой. Это все, что осталось от нее прежней, – одно воспоминание. Теперь и душа ее, и тело чисты. Она чувствует покой, благодать. Она – под защитой.
Настала очередь Лалиты идти к цирюльнику. Она чуть-чуть дрожит. Смита берет ее за руку. Мастер, заменяя лезвие, с восхищением поглядывает на девочкину косу, спускающуюся до самого пояса. Волосы у нее великолепные, шелковистые, густые. Глядя в глаза дочке, Смита шепчет молитву, которую они столько раз читали перед маленьким алтарем у себя в лачуге, там, в Бадлапуре. Она думает об их участи, о том, что они сегодня бедны, но, может быть, когда-нибудь у Лалиты будет своя машина. Эта мысль придает ей сил, она улыбается. Ее дочка будет жить лучше, чем жила она, и все благодаря той жертве, которую они принесли здесь сегодня.
Они выходят из калианкаты, яркий свет слепит их. Теперь, без волос, они еще больше похожи друг на друга, похожи, как никогда. Обе они кажутся младше, чем есть, тоньше. Они держатся за руки и улыбаются друг другу. Они дошли. Чудо свершилось. Смита знает, Вишну сдержит слово. В Ченнаи их ждут родные. Завтра начнется новая жизнь.
Смита идет к Золотому Храму, держа дочку за руку. Она не грустит. Нет, правда, совсем не грустит, потому что она уверена в одном: бог сумеет отблагодарить их за принесенную сегодня жертву.
Джулия
Палермо, Сицилия
«Они не знали, что это невозможно, и сделали это».
Джулии вспомнилась эта фраза Марка Твена, прочитанная и понравившаяся еще в детстве. Сегодня она размышляет над ней в аэропорту Фальконе-Борселлино, с волнением ожидая прилета самолета, который должен доставить с другого края света первый груз волос.
Папа так и не очнулся. Он умер в тот день в больнице, когда она была рядом с ним, проснувшись после странного сна, которого не забудет до конца своих дней. В самый последний миг он пожал ей руку – как будто прощаясь. Как будто говоря: давай, действуй. Он передал ей эстафету – и ушел. Джулия поняла это. Пока врачи пытались его реанимировать, она пообещала ему, что спасет мастерскую. Это их тайна – ее и его.
Она настояла на том, чтобы церемония прощания прошла в его любимой часовне. Мамма сначала была против: там слишком тесно, говорила она, всем не удастся сесть. У Пьетро было столько друзей, его все любили, кроме того, у него столько родственников по всей Сицилии, и потом, его работницы… Ничего страшного, ответила Джулия, те, кто его любит, могут и постоять. И мамма в конце концов уступила.
С некоторых пор она перестала узнавать свою дочку. Джулия, обычно такая послушная, такая спокойная, такая мягкая, проявила удивительное упрямство. Ею овладела какая-то необычная решимость. Ввязавшись в битву за спасение мастерской, она не собирается идти на попятный. Чтобы найти выход из тупика, она предложила устроить среди работниц голосование. Такое уже бывало в других местах, сказала она, на других предприятиях, тоже оказавшихся под угрозой закрытия. Кроме того, будет вполне закономерно узнать и их мнение на этот счет. Ведь это и их касается. Мамма согласилась. Сестры тоже.
Чтобы молодежь не попала под влияние старших, было решено, что голосование будет тайным. Работницам предложили выбрать между переориентацией мастерской, подразумевавшей работу с волосами, импортированными из Индии, и ее закрытием, за которым неизбежно последует увольнение с жалким выходным пособием.
Конечно, первый вариант рискованный, всегда могут возникнуть непредвиденные обстоятельства, и Джулия не стала скрывать этого от них.
Голосование проходило в большом цеху мастерской в присутствии маммы и Франчески с Аделой. Подсчет голосов взяла на себя Джулия. Дрожащей рукой она разворачивала каждый из листков, брошенных в папину шляпу: она сама придумала этот ритуал – последняя почесть, отданная отцу. «Так он как будто с нами», – сказала она.
Вопрос был решен большинством голосов – семеро против трех. Джулия долго будет помнить этот миг. Она с трудом скрывала охватившую ее радость.
Камал помог ей установить в Индии связь с одним человеком из города Ченнаи. Тот получил коммерческое образование в университете и теперь колесит по всей Индии, скупая в храмах волосы. Вести с ним дела нелегко, но Джулия проявляет в переговорах редкую твердость. «Можно подумать, дорогая, что ты занималась этим всю жизнь!» – подтрунивает над ней нонна.
В свои двадцать лет Джулия возглавила мастерскую. На сегодняшний день она самая молодая предпринимательница квартала. Она разместилась в отцовском кабинете. Со стены на нее смотрят фотографии предков и приколотая рядом с ними ее собственная карточка. Она еще не решилась вставить ее в рамку. Успеется.
Когда ей становится грустно, она поднимается наверх, на самую крышу, в лабораторию. Садится лицом к морю и думает об отце, о том, что бы он сказал, как бы поступил. Она знает, что не одна. С ней папа.
Сегодня рядом с Джулией стоит Камал. Он сам захотел проводить ее в аэропорт. В последнее время они встречаются не только в обеденный перерыв. Он проявил себя верным союзником, оказывал ей неоценимую поддержку, с энтузиазмом встречал каждую ее идею, был активным, изобретательным, предприимчивым. Он был ей любовником, а стал единомышленником и доверенным лицом.
Наконец показался самолет. Глядя на медленно растущую точку в небе, Джулия думает, что вот оно – их будущее, все целиком, в грузовом отсеке этого пузатого самолета. Она хватает Камала за руку. В этот миг ей кажется, что они не два отдельных существа, блуждающие случайными путями по меандрам жизни, а мужчина и женщина, прочно связанные друг с другом. И неважно, что скажут мамма, родные, соседи, думает Джулия. Сегодня она чувствует себя женщиной рядом с этим мужчиной, который помог ей раскрыться. И эту руку она не собирается отпускать. В ближайшие годы она еще часто будет сжимать ее – на улице, в парке, в родильном доме, во время сна, в час любви, в минуты печали, когда будет рожать их детей. Эта рука надолго задержится в ее ладони.
Самолет приземляется, останавливается. Потом с него быстро сгружают контейнеры и отвозят их к месту сортировки, где суетятся грузчики.
На складе Джулия расписывается в накладной, и груз поступает в ее распоряжение. Вот он, заветный пакет, не больше обыкновенного чемодана. Дрожа всем телом, она берет канцелярский нож и вспарывает ему брюхо. Появляются первые волосы. Она осторожно берет одну прядь: волосы длинные, очень длинные, угольно-черного цвета. Женские, вне всякого сомнения, шелковистые и густые. Они были куплены месяц назад в храме Тирупати, уточнил отправитель посылки, самом посещаемом месте паломничества в мире, независимо от конфессий: Мекка и Ватикан ему уступают. Это сравнение особенно впечатлило Джулию. Она думает об этих людях – мужчинах и женщинах, – которых она не знает и никогда не увидит, пришедших в храм, чтобы принести в жертву божеству свои волосы. Их жертва – это божий дар, думает она. Ей хочется обнять их в знак благодарности. Эти люди никогда не узнают, куда отправились их волосы, какой невероятный путь им пришлось проделать. Правда, их одиссея еще только начинается. И в один прекрасный день кто-то, где-то далеко-далеко – бог знает где, наденет на себя эти волосы, расчесанные, вымытые и обработанные ее работницами. Этот человек не будет и подозревать о том, какую битву пришлось ей выдержать. Он будет носить эти волосы и, возможно, гордиться ими, как гордится сегодня Джулия. При этой мысли она улыбнулась.
Держа в своей ладони руку Камала, она думает, что вот оно, ее место в жизни, она нашла его. Мастерская отца спасена. Он может спать спокойно. Когда-нибудь династию продолжат ее дети. Она научит их ремеслу, провезет дорогами, по которым ездила когда-то на «веспе» вместе с отцом.
Иногда она видит это во сне. Но Джулии уже не девять лет. Да и отцовской «веспы» больше нет и не будет, однако она твердо знает, что будущее состоит из надежд. И что отныне оно принадлежит ей.
Сара
Монреаль, Канада
Сара идет заснеженными улицами. Сейчас, в начале февраля, температура, как на Северном полюсе, но Сара радуется зиме: она обеспечивает ей алиби. Из-за холода ее вязаная шапка теряется среди множества таких же головных уборов, которыми прохожие спасаются от стужи. Навстречу ей попадается группа школьников, они идут, держась за руки. На одной из девочек такая же шапка, как у нее; она заговорщически-весело смотрит на Сару.
Сара идет дальше. В кармане у нее визитка, которую дала ей несколько недель назад одна женщина в больнице. Они сидели в очереди на процедуры и, естественно, разговорились, как будто на террасе кафе. И проговорили весь день. Разговор очень быстро стал задушевным, как будто болезнь делала их ближе друг другу, протягивая невидимую нить от одной к другой. Сара читала много признаний в Интернете, на форумах и в блогах, ей иногда даже казалось, что она состоит в каком-то клубе особо сведущих людей, тех, кому все известно, кто уже прошел через «это». Там были и старые бойцы, «джедаи», для которых эта война была уже не первой, и новички, только-только заболевшие, – «падаваны». Этим, как и Саре, предстояло многое узнать, многому научиться. Так вот тогда, в больнице, та женщина, принадлежавшая, очевидно, к «джедаям», которой пришлось побывать не в одном сражении, хотя она и не распространялась о своей болезни, упомянула этот салон накладных волос, как принято его называть, где работают очень компетентные и деликатные люди. Она дала Саре визитку салона, чтобы та воспользовалась ею, «когда придет время». В борьбе за выживание не надо забывать и о самоуважении, говорила она. «Ваше отражение в зеркале должно быть вам союзником, а не врагом», – сказала она напоследок со знающим видом.
Сара убрала карточку и больше о ней не думала. Она пыталась всячески оттянуть этот момент, но реальность нагнала ее.
Время пришло. По заснеженным улицам Сара идет в тот самый салон. Она могла бы взять такси, но решила все же пройтись пешком. Этот путь для нее, как паломничество, она должна пройти его сама, словно совершая ритуал перехода в другое состояние. Она идет туда, и это очень много для нее значит. Она принимает свою болезнь. Не отталкивает, не отрицает. Смотрит ей прямо в лицо, такой, какая она есть: не наказание, не удар судьбы, не проклятие, с которым надо смириться, а скорее событие, факт ее биографии, испытание, которое ей предстоит преодолеть.
Сара подходит к салону, и ее охватывает странное чувство. Это не дежавю, не предчувствие, нет, ощущение это более глубокое, оно пронизывает не только ее мысль, но и все существо: ей кажется, что она уже шла этой дорогой. Хотя на самом деле она впервые оказалась в этом районе города. Она не может объяснить своих чувств, но ей кажется, что там ее что-то ждет, и уже давно. Что у нее там назначена встреча.
Она толкает дверь салона. Ее вежливо встречает элегантная женщина и ведет по коридору в небольшую комнату, обстановку которой составляют кресло и зеркало. Сара снимает пальто, кладет сумку. Немного медлит, прежде чем снять шапку. Женщина смотрит на нее молча. Потом говорит: «Я покажу вам наши модели. Вы уже представляете себе, что бы вам хотелось?»
В ее голосе не слышно ни подобострастия, ни жалости. Тон ровный, без фиоритур. И Сара в тот же миг почувствовала себя уверенней. Нет сомнений: эта женщина знает, о чем говорит. Она повидала на своем веку десятки, сотни женщин в таком же положении. Она их видит целыми днями. Однако в этот миг Саре кажется, что она одна такая на всем свете, во всяком случае, с ней обращаются именно так. Не драматизируя, не опошляя – это целое искусство, и женщина владеет им в совершенстве.
Ее вопрос озадачил Сару. Она не знает. Не думала. Ей хотелось бы… что-нибудь живое, натуральное. Чтобы было похоже на нее. Это, наверное, глупо: ну как могут подойти ей чужие волосы – к ее лицу, к ее личности?
Женщина на некоторое время уходит и возвращается, неся несколько картонных коробок в форме шляпных картонок. Открыв первую, она достает из нее парик бронзово-рыжего оттенка. Синтетический, японский, поясняет она. Она энергично встряхивает его вниз волосами: парики иногда мнутся в коробках, надо вернуть ему естественную форму, говорит она. Сара неуверенно примеряет парик и не узнает себя под массой густых волос. Нет, это не она, что это за лохматый шар? Что за маскарад? Хорошее соотношение цены и качества, комментирует женщина, но это далеко не лучший наш товар. Из второй коробки она достает еще один парик, опять искусственный, но более высокого качества. Сара не знает, что и сказать, стоит задумчиво перед отражением в зеркале, которое опять явно не похоже на нее. Парик неплох, ей не в чем его упрекнуть, разве что в том, что он выглядит париком. Нет, это невозможно, лучше уж платок или шапка. Тогда женщина берется за третью коробку. Здесь – последняя модель из натуральных волос, поясняет она. Вещь редкая и дорогая, но некоторые женщины готовы платить дорого. Сара с удивлением рассматривает парик: волосы того же цвета, что у нее, длинные, шелковистые, очень мягкие на ощупь и густые. Это волосы из Индии, говорит женщина. Они проходят обработку в Италии, точнее, на Сицилии, их сначала обесцвечивают, затем красят, после чего в маленькой мастерской, волосок к волоску, закрепляют на тюлевой основе. Тут была использована техника плетения, это дольше, но гораздо прочнее, чем при имплантации крючком. Восемьдесят часов работы, около ста пятидесяти тысяч волосков. Исключительный товар. «Прекрасная работа», как говорят профессионалы, с гордостью добавляет женщина.
Она помогает Саре надеть парик: всегда спереди назад, сначала кажется, что это трудно, но быстро привыкаешь, говорит она, со временем даже не понадобится смотреть в зеркало. Она, конечно, может постричь его на свой вкус в любой парикмахерской. Уход простой, как за своими волосами: шампунь и вода. Сара поднимает голову и разглядывает себя в зеркале. Перед ней стоит новая женщина, похожая на нее, но в то же время совсем другая. Странное ощущение. Она узнает тем не менее свои черты, бледную кожу, глаза, темные круги под ними.
Это она, да, конечно, она. Она трогает пряди, укладывает их и так, и этак в попытке – нет, не подчинить, а скорее приручить их. Волосы не оказывают сопротивления, великодушно, покорно поддаются укрощению. Они медленно очерчивают овал ее лица, доверяясь новой хозяйке. Сара гладит их, ласкает, расчесывает, радуется их готовности к сотрудничеству, она почти благодарна им за это. Каким-то неуловимым образом эти чужие волосы становятся ее волосами, прекрасно сочетаясь с ее лицом, фигурой – всем обликом.
Сара вглядывается в свое отражение. Ей кажется, что эти волосы вернули ей то, что она утратила. Силу, достоинство, волю, все, что делает ее Сарой – сильной, гордой. И красивой. И вдруг она чувствует, что готова. Она оборачивается к женщине и просит ее побрить ее наголо. Она хочет сделать это здесь. Сейчас. Она начнет носить парик прямо с сегодняшнего дня. Ей не будет стыдно вернуться домой в таком виде. И потом, ей легче будет его надевать, когда под ним не будет волос, так проще. В любом случае рано или поздно это придется сделать, так пусть это произойдет здесь, сейчас, пока у нее есть на это силы.
Женщина кивает. Вооружившись бритвой, она опытной, мягкой рукой делает все, что надо.
Сара открывает глаза и на какое-то время застывает в удивлении. Свежевыбритая голова кажется меньше, чем раньше. Она похожа теперь на свою дочку, когда той был годик и у нее еще не отросли волосики. Младенец – вот на кого она стала похожа. Она пытается представить себе реакцию детей – вот уж кто удивится, увидев ее такой. Может, она и покажется им в этом новом виде, когда-нибудь. Позже.
А может, и нет.
Она водружает парик на свой гладкий череп – так, как ей показывала женщина, – и поправляет принадлежащие отныне ей волосы. Здесь, перед отражением в зеркале, она больше не сомневается: она будет жить. Она увидит, как вырастут ее дети, как они превратятся сначала в подростков, потом повзрослеют, сами станут родителями. Больше всего на свете ей хочется знать, какие у них будут вкусы, способности, таланты, кого они полюбят. Сопровождать их на жизненном пути, быть доброй, нежной, любящей мамой, которая всегда рядом, – вот чего ей хочется больше всего.
Она выйдет победительницей из этого сражения, возможно, израненной, но не сломленной. И какая разница, сколько месяцев, лет ей придется лечиться? Какое значение имеет время? С этого мгновения всю свою энергию, каждую минуту, каждую секунду она посвятит борьбе с болезнью – борьбе не на жизнь, а на смерть.
Никогда она не будет больше Сарой Коэн, той влиятельной, уверенной в себе женщиной, у многих вызывавшей восхищение. Она не будет больше непобедимой, не будет супергероем. Она станет сама собой, Сарой, женщиной, которой немало пришлось вынести в этой жизни, но она продолжает жить со своими шрамами, слабостями и ранами. И прятать их она больше не будет. Ее прежняя жизнь была сплошной ложью, новая будет настоящей.
Когда болезнь немного отпустит ее, она создаст собственную адвокатскую фирму – у нее осталось еще несколько клиентов, которые по-прежнему ей верят и пойдут за ней. Она возбудит процесс против «Джонсона и Локвуда». Она – отличный адвокат, один из лучших в городе. Она всем расскажет о дискриминации, которой подверглась на работе, – ради тысяч таких, как она, мужчин и женщин, заранее приговоренных к смерти своими коллегами и вынужденных таким образом выносить на своих плечах двойной груз. Вот за них она и будет сражаться. Это – лучшее, что она может сделать. Такая у нее будет война.
Она научится жить иначе, будет общаться с детьми, высвобождать дни для совместных праздников, ходить на школьные спектакли в конце учебного года. Она не пропустит больше ни одного дня рождения. Вместе с ними будет ездить на каникулы, летом – во Флориду, зимой – кататься на лыжах. Никто и никогда больше не отнимет у нее этого – мгновений общения с ними, которые тоже составляют ее жизнь. Не будет больше никакой стены, никакой лжи – никогда. Никогда больше не будет она разрываться надвое.
А пока надо бороться с этим мандарином. У нее есть оружие, оно дано ей природой: это мужество, сила, решимость и ум. А еще семья, дети, друзья. И, конечно, врачи, медсестры, онкологи, радиологи, фармацевты – все они каждый день сражаются за нее, плечом к плечу. Саре вдруг кажется, что она находится в самом начале какой-то колоссальной эпопеи, что вокруг нее вибрирует, кипит невиданная энергия. Она чувствует, как по телу ее пробегает горячая волна, что-то новое вскипает внутри ее, словно трепещет крылышками бабочка.
За дверями салона ее ждут большой мир, жизнь, дети. Сегодня она сама заберет их из школы. Она представляет себе их удивление: такого почти никогда не бывало. Ханна, конечно, разволнуется. Близнецы побегут ей навстречу. Они заметят ее новую стрижку, новые волосы, станут что-то говорить по этому поводу. И тогда Сара все им объяснит. Она расскажет про мандарин, про работу, про войну, которую им придется вести всем вместе.
Уходя из салона, Сара думает о той женщине с другого края света, из Индии, которая отдала ей свои волосы, о сицилийских мастерицах, которые так тщательно расчесали и обработали их. О той, которая сплела из них парик. И ей подумалось, что весь мир трудится сообща ради ее выздоровления. Ей вспоминается фраза из Талмуда: «Спасший одну жизнь, спасает весь мир». Сегодня весь мир спасает ее, и Сара благодарна ему за это.
Она думает, что она здесь, да, здесь и сейчас – живая.
И будет живой еще долго-долго.
При этой мысли она улыбается.
Эпилог
Мой труд окончен: вот парик. Лежит передо мной. И я ни с чем не схожее испытываю чувство. Так светится малыш улыбкой неземной, Когда карандашом малюет густо-густо. И будет греть меня уверенно и долго Сознание исполненного долга. Я думаю сейчас о женских волосах: Откуда их судьба брала. Проделан путь большой. На жизненных весах Одна из чутких чаш едва ли перевесит. Сплетенные в парик, они увидят свет, Я с ними мысленно его увижу тоже. Не выходя за дверь, – как будто двери нет В уютной мастерской, на спаленку похожей. Всем женщинам Земли я посвящу свой труд. Их волосы – судеб связующие нити. Пусть женщины в любви рожают и живут (Всему наперекор влюбляйтесь и живите). Пусть гнется много раз уставшая спина, Но не сломается от тяжести она. И я плечом к плечу в сражениях стою. Мне ваши радости и горести знакомы. И каждую из вас в себе я узнаю, Как будто мы живем по тайному закону. Я – тоненькая нить, связующая вас. Так волос в парике, с другим сплетенный, тонет. Но для внимательных неравнодушных глаз Понятна и близка, видна как на ладони. Настанет новый день, и с ним начнется вновь Плетенье париков – большой волшебной гривы. Вплету я в волосы разлуку и любовь, И чью-то седину, и завиток игривый.Благодарность
Жюльетт Жост – за ее энтузиазм и доверие.
Моему мужу Ури – за его несокрушимую поддержку.
Моей матери, первой моей читательнице с самого детства.
Саре Камински, которая была со мной на всех этапах создания этой книги.
Хьюго Борису – за его более чем ценную помощь.
Франсуазе из мастерской «Капилария» в Париже – за то, что она открыла мне свои двери и рассказала о своем ремесле.
Николь Жекс и Бертрану Шале – за их мудрые советы.
Сотрудникам Инатеки, помогавшим мне в моих изысканиях.
И наконец, моим первым учителям и преподавателям французского языка, которые с детства привили мне любовь к писательству.
Примечания
1
Перевод стихотворений Юлии Селивановой.
(обратно)2
Общее наименование ряда каст, занимающих низшее место в кастовой иерархии Индии. Неприкасаемые не входят в систему четырех основных сословий (варн) индуистского общества.
(обратно)3
Одна из земледельческих каст Индии и Пакистана (особенно многочисленны в Пенджабе и примыкающих к нему округах штата Уттар-Прадеш).
(обратно)4
Одно из важнейших понятий в индийской философии и индийских религиях, совокупность установленных норм и правил, соблюдение которых необходимо для поддержания космического порядка.
(обратно)5
Члены высшей варны (сословия) индуистского общества. Из их среды на протяжении многих столетий выходили писцы, священнослужители, ученые, учителя и чиновники.
(обратно)6
Спускайся! Немедленно! (ит.).
(обратно)7
Дорогая (ит.).
(обратно)8
Представители второй по значимости (после брахманов) варны индуистского общества, состоящей из владетельных воинов. Из этой варны в Древней Индии обычно выбирались цари.
(обратно)9
В индуизме – знак правды, цветная точка, которую индианки рисуют в центре лба, так называемый «третий глаз».
(обратно)10
Что ты делаешь? (ит.).
(обратно)11
Давай! Скорее! (ит.).
(обратно)12
Французское сокращение CHUM (Centre Hospitalier de l’Université de Montréal – Университетский больничный центр Монреаля) выглядит так же, как квебекское жаргонное словечко «chum» – приятель, кореш.
(обратно)13
Один из самых популярных десертов Сицилии, слоеный торт из бисквита, пропитанного ликером, в сочетании с сыром (рикоттой), фруктами и марципаном.
(обратно)14
«Сыны воздуха» (1904) – приключенческий роман итальянского писателя Эмилио Сальгари.
(обратно)15
Индийский юрист, политический деятель, лидер неприкасаемых. Основной автор проекта индийской конституции.
(обратно)16
Отрывок из стихотворения итальянского поэта Чезаре Павезе «Vera la morte e avra i tuoi occhi».
(обратно)17
Принцесса (ит.).
(обратно)18
Индийская политическая деятельница, первоначально лидер бандформирования, известная в СМИ под прозвищем «Королева бандитов». Дважды избиралась депутатом индийского парламента, где защищала интересы представителей низших каст и неприкасаемых. Убита предположительно наемными убийцами в 2001 г.
(обратно)19
Тонизирующий напиток на основе конопли.
(обратно)20
Каменное ступенчатое сооружение, служащее для ритуального омовения индуистов и как место кремации. Строились и перестраивались постепенно в течение нескольких тысяч лет. Располагаются на берегах всех священных рек Индии.
(обратно)21
В индуизме и джайнизме освобождение из круговорота рождений и смертей (сансары) и всех страданий и ограничений материального существования.
(обратно)22
Термин, которым в индуизме и индийской культуре называют аскетов, святых и йогинов, более не стремящихся к осуществлению трех целей жизни индуизма: камы (чувственных наслаждений), артхи (материального развития) и даже дхармы (долга).
(обратно)23
Разновидность дхоти, традиционной мужской одежды, распространенной в Южной и Юго-Восточной Азии, в частности в Индии, и представляющей собой прямоугольную полосу ткани длиной 2–5 м, обертываемую вокруг ног и бедер с пропусканием одного конца между ног.
(обратно)

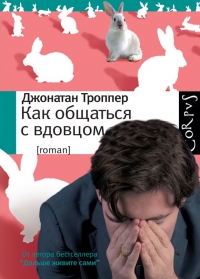
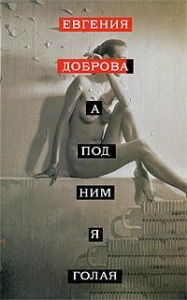
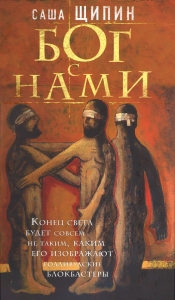
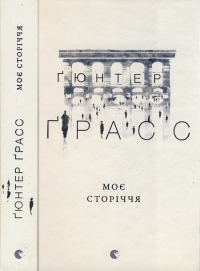





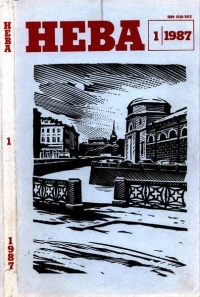
Комментарии к книге «Сплетение», Летиция Коломбани
Всего 0 комментариев