Ференц Мора
Предисловие
Роман Ференца Моры «Дочь четырех отцов», на первый взгляд, не готовит читателю никаких неожиданностей. Сюжет, композиция, язык кажутся предельно прозрачными, легкими для восприятия. Немолодой археолог, заключив с издательством договор о написании романа, в поисках сюжета отправляется в деревню, где встречает юную почтальоншу, влюбляется в нее и терпит фиаско, так как девица, в свою очередь, влюблена в помощника нотариуса — прекрасного юношу, своего ровесника — вот, собственно, и вся центральная сюжетная линия. Казалось бы, куда проще? Единственное, что может насторожить внимательного читателя, это странное несоответствие легкого развлекательного сюжета, пограничного между анекдотом и мелодрамой, и огромного количества примечаний, несущих информацию из самых разных областей человеческого знания. Что это — самоцель, демонстрация собственной эрудиции или сознательный прием, организующий книгу, дающий ключ к более глубокому ее пониманию? Ответ на этот вопрос может дать только текст самого романа. Однако, прежде чем обратиться к нему, сделаем несколько шагов назад, «вглубь» — к истории создания книги и к биографии ее автора.
Ференц Мора (1879–1934) начал писать и публиковаться довольно рано, не собираясь при этом становиться профессиональным писателем. В Будапештском университете он занимался в основном естествознанием и географией и намеревался стать школьным учителем. Однако жизнь сложилась иначе. В 1902 году Мора переехал в Сегед и стал сотрудником известной газеты «Сегеди напло» («Сегедский обозреватель»), что в большой степени определило его дальнейший путь. Не менее значимым оказалось и другое событие: в 1904 году молодого журналиста пригласили работать в знаменитую сегедскую библиотеку имени Шомоди, а с 1917 года Мора стал директором библиотеки и музея. Библиотечным делом он с неизменным увлечением занимался до самой смерти. По его собственному признанию, в художественном творчестве он постоянно черпал из двух равноправных источников, одним из которых были жизненные впечатления, приобретенные, в частности, во время поездок по стране и археологических «вылазок», а другим — библиотека, не только библиотека Шомоди, но библиотека как философская категория, как свод мудрости, накопленной человечеством. Круг интересов самого Моры был чрезвычайно широк, писательская деятельность на протяжении всей жизни сочеталась с самыми разнообразными научными штудиями.
С конца 900-х — начала 10-х годов Мора пишет и публикуется постоянно. Один за другим появляются очерки, статьи, стихотворения, замечательные рассказы и сказки для детей. В 1913 году он становится главным редактором «Сегеди напло». В 1914 году началась мировая война… Мора не был политиком. И все же именно «Сегеди напло» оказалась едва ли не единственной из провинциальных газет, «с первой минуты оплакивавших мир» — так сказал о ней один из современников Моры, замечательный поэт Дюла Юхас. Антимилитаристская линия проводилась Морой чрезвычайно последовательно; надо сказать, что от редактора провинциальной газеты это требовало необычайной твердости духа и неимоверных усилий. Мора не был политиком, однако был убежденным демократом, а потому не мог не приветствовать венгерскую социалистическую революцию 1919 года, в которой видел, прежде всего, продолжение традиций буржуазной революции 1848 года. В Сегеде, занятом войсками Антанты, советская власть продержалась не долго. В мае 1919 года имя Моры исчезло с титульного листа «Сегеди напло». Тем не менее статьи его продолжали появляться вплоть до окончательного закрытия газеты в 1922 году. В этих статьях Мора упорно проводил идею необходимости демократических свобод, выступал против расцветающего национализма. Мора не был политиком, однако идеи «искусства для искусства» для него не существовало. Альтернатива: «ангажированное искусство — чистое искусство» присутствовала скорее в сознании столичных писателей. Вообще разрыв между столицей и провинцией в Венгрии начала века был чрезвычайно значителен, она во многих отношениях была страной одного города. В частности, в столице сосредоточивалась практически вся литературная жизнь, одним из центров которой стал журнал «Нюгат» («Запад»), объединивший вокруг себя огромное большинство талантливых литераторов. Мора был одним из немногих, не имевших к «Нюгату» никакого отношения. Тут сыграло свою роль стечение обстоятельств — жизнь вне столицы. Однако дело не только в этом. Речь должна идти о сознательно занятой позиции: Мора был далек от духовных исканий начала века, его творческая установка состояла скорее в ориентации на культуру и образ мышления века прошлого. В «Послесловии к предыдущему изданию», которым открывается книга, Мора приводит список своих литературных предшественников — каким его видела критика: «Кое-кто видел во мне нового Йокаи, другие искали истоки моего творчества у Гардони, третьи полагали, что я учился у Миксата, а может — и у Анатоля Франса…» Список, разумеется, шутливый, однако, как большинство шуток Моры, имеет и второй план. Сюда вошли только писатели-традиционалисты, далекие от литературного экспериментаторства.
После закрытия «Сегеди напло» Мора становится постоянным сотрудником будапештской газеты «Вилаг» («Мир»). Имя его было известно и раньше, однако настоящая популярность приходит именно в этот период. Одна за другой выходят его книги, в том числе четыре романа «для взрослых» — первым в этом ряду был роман «Дочь четырех отцов» (в более ранних изданиях он назывался «Смерть художника», история перемены названия изложена автором в «Послесловии к предыдущему изданию»).
В конце 1920 — начале 1921 года книжное издательство «Культура» заказало Ференцу Море роман. Предложение застало Мору врасплох; он долго колебался, сомневаясь в своих силах, но в конце концов поддался на уговоры. После долгих мучений, связанных с поиском сюжета, он решил остановиться на трагической судьбе своего друга, художника Эдена Хеллера. Хеллер покинул Сегед и отправился в близлежащую деревню в надежде слиться с крестьянским миром, обрести вдохновение и сюжеты для картин. Результат начинания оказался плачевным: спустя некоторое время художник погиб при загадочных обстоятельствах. Подозрение пало, в частности, на крестьянку, позировавшую Хеллеру, а также на ее мужа, однако твердых доказательств обнаружить не удалось, и следствие оказалось безрезультатным.
«Тут уникальная психологическая коллизия, — писал Ференц Мора, — утонченная, городская душа художника растворяется в деревенской среде и, таким образом, начинает жить двойной жизнью: изысканной, культурной, городской и деревенской, крестьянской одновременно; из этой двойственности и вырастает трагедия художника. Для писателя все это <…> такой материал, который прямо-таки вынуждает писать».
«Всеми фибрами души я чувствовал, что это — тема неограниченных возможностей, вроде Америки — страны неограниченных возможностей, как нас учили в детстве. <…> В этой теме заключено все, чего только может пожелать современный романист. На переднем плане — город с его псевдокультурой. В центре повествования — гениальный художник, который не в силах противостоять низменному инстинкту любви. Темный фон — отсталая деревня, бескультурье, озлобленные крестьяне. Человек я, вообще-то, сдержанный, но в эту минуту был готов расцеловать самого себя». А это уже говорит Мартон Варга, герой романа «Дочь четырех отцов», которого предложение издателя тоже застало врасплох, который тоже мыкался в поисках сюжета и в конце концов решил написать роман «Смерть художника». Предыстория романа, описанная в книге Моры, почти полностью совпадает с тем, что было на самом деле. Игра, таким образом, начинается сразу, текст перерастает собственные рамки и оказывается в весьма своеобразных отношениях с действительностью.
Герой и автор (заметим, что биографии их во многом совпадают) оказываются в одинаковой ситуации, но ведут себя по-разному. Мора мучается, рефлектирует и в конце концов отказывается от первоначального замысла, сочтя, что большой психологический роман ему не по силам. Он не расторгает договора, но пишет совсем другую книгу, в отличие от героя, который лихо берется за перо. Тут пролегает граница между героем и автором: действительность и книга, автобиография и вымысел расходятся. Центральный персонаж весьма близок автору, не только биографически, но и душевно, и все же он в значительной мере пародиен, Мора постоянно подтрунивает над ним; это ироническое самоостранение определяет атмосферу романа.
Находясь на «периферии» литературной жизни, Мора, как уже было сказано, избегал литературного эксперимента. В романе «Дочь четырех отцов» нет сложного пересечения точек зрения персонажей, наложения временных пластов и т. п. — приемов, чрезвычайно характерных для современной Море романистики. На первый взгляд, в книге все предельно прозрачно; легкое, последовательное изложение ведет за собой читателя, нисколько его не утруждая. Однако при ближайшем рассмотрении композиция романа оказывается не так уж проста. Она напоминает матрешку: «внутри» каждой сюжетной линии обнаруживается другая — и так вплоть до самой маленькой, «срединной» матрешки, которой оказывается не что иное, как роман «Смерть художника». История отношений героя с прекрасной почтальоншей Андялкой включает в себя историю написания романа, которая, в свою очередь, включает в себя полудетективную линию расследования убийства художника; в категориях романа о художнике переосмысливает собственную любовную историю героиня книги Андялка и т. д. Роман «Смерть художника» так или иначе преломляется в сознании всех героев книги Моры. «Отравляет атмосферу» — так обозначает это явление Мартон Варга. (Надо сказать, что главные персонажи книги очень заботятся о том, чтобы ни в коем случае не говорить и не вести себя «как в романах». Однако никому из них не удается этого избежать.) Добавим к сказанному ауру реальной истории создания, цитаты, свободно кочующие из «Послесловия…» в основной текст, а тем самым — из уст Мартона Варги в уста Ференца Моры, а также потенциальные оценки критики, введенные в книгу, и убедимся, насколько обманчивой может оказаться внешняя простота и бесхитростность.
Итак, роман в романе. Два основных сюжета — «внешний», сформированный историей героя книги Ференца Моры, и «внутренний», сформированный историей художника Турбока, героя книги Мартона Варги. Оба сюжета сводятся к довольно банальным любовным коллизиям, оба в равной мере тяготеют к мелодраме и к анекдоту. В одной из повестей Моры есть любопытный пассаж — остросюжетная история неожиданно завершается рассуждением о том, что автор сам не очень верит в рассказанное, более того, ему кажется, что аналогичный сюжет в свое время попадался ему в каком-то из школьных учебников. Мора обнажает прием, характерный для многих его произведений: банальность сюжета — не просчет, а сознательный ход, старый анекдот можно изложить так, что он станет неузнаваем, важнее всего стиль, интонация и — особенно — дополнительные оттенки, которые можно извлечь при таком пересказе. Другое дело — банальность мышления, этого Мора не прощает, все и всяческие штампы неоднократно становятся в книге предметом осмеяния. Жизнь, как правило, вносит свои коррективы: художника Турбока, вопреки сложным концепциям, выстраиваемым героями (одна «литературнее» другой), попросту хотели ограбить; Андялка, вопреки романтической схеме, сложившейся в сознании Мартона Варги, любит «шалопая Бенкоци».
Книга Моры необычайно обаятельна. Обаяние это создается языком, неповторимой интонацией героя-повествователя, блестящими характеристиками второстепенных персонажей — городских чиновников, крестьян, сельских «интеллигентов». И все же это не самое значимое в ней. Один из главных, если не главный герой книги — роман «Смерть художника». Мора неоднократно размышлял о том, к какому жанру следует отнести «Дочь четырех отцов», и затруднялся дать однозначный ответ. Вот что сказано по этому поводу в «Послесловии к предыдущему изданию»: «Я прочил эту книгу в романы, но совсем не уверен, что так оно и вышло. Где-то ближе к концу я даже высказал свои сомнения, написав, что с критики станется заявить: никакой, мол, это не роман. <…> Я же по сей день не могу сказать, роман это или теоретическое и практическое руководство по писанию романов, которое посвящает всех желающих в тайны ремесла…» «Руководство по писанию романов», оно же — увлекательная игра с жанровыми возможностями: в словах Моры кроется ключ к пониманию книги. Сюжетная линия, которая, на первый взгляд, казалась центральной, оказывается, скорее, поводом для рассуждений о жизни и литературе. В этом свете перестает быть загадкой обилие примечаний, автор делится опытом — и практическим, и интеллектуальным. «Роман требует болтовни», — писал Пушкин в письме к Бестужеву. Идея, уходящая корнями в XVIII столетие, в XIX, что называется, «витала в воздухе». Мора, разумеется, не был знаком с пушкинской перепиской, зато он, безусловно, был знаком с романом «Евгений Онегин», пользовавшимся в Венгрии конца XIX века огромной популярностью. Свободные рассуждения о разного рода предметах, непринужденная «болтовня» героя-повествователя — важнейшие моменты книги Моры. Что же такое настоящий роман — «Смерть художника», сочинение Варги, где господствует действие, где мелодрама должна восприниматься всерьез, где нет остраняющего голоса автора (между прочим, довольно злая пародия на определенный тип литературы, в Венгрии бытовавший и весьма распространенный), или книга Ференца Моры, построенная прямо противоположным образом? Читателю предоставляется решить это самому.
Формулировка «теоретическое и практическое руководство по писанию романов» может вызвать представление о научном трактате, по кусочкам введенном в художественное произведение. В действительности дело обстоит совсем иначе. Отказавшись давать своей книге жанровое определение, Мора в том же «Послесловии к предыдущему изданию» пишет: «…зато я уверен, что из всех моих книг эта — самая веселая». Шутка, игра, пародия — ключевые понятия, во многом определяющие атмосферу романа. Сюда следует отнести прежде всего массу смешных эпизодов, связанных в основном с деревенской жизнью, — это и разговоры героя с деревенским хитрецом Мартой Петухом, и беседы с крестьянами на исторические темы, и занимательные истории кума Бибока, и археологические «подвиги» батраков, и многое, многое другое. Сюда же относится остроумный комментарий повествователя, а также эффектный комический прием: наличие постоянного «зазора» между восприятием ослепленного любовью героя, перетолковывающего все в свою пользу, и точкой зрения читателя, воспринимающего факты объективно, сразу просчитывающего логическую ошибку. Примеров тому можно привести великое множество. На этом приеме строится, например, вся любовная линия романа, отношения внутри «треугольника»: Андялка, Варга, Бенкоци. Варга до последней минуты не видит того, что происходит у него под носом, поэтому так трогательны его комментарии, выворачивающие наизнанку самые недвусмысленные события.
Всем этим, однако, «веселость» книги не исчерпывается. «Дочь четырех отцов», кроме всего прочего, чисто литературная шутка. Это пародия, имеющая сразу несколько объектов. Один из них — так называемый «роман о художнике» («художник» здесь следует понимать широко — как «творческая личность» вообще) — жанровая разновидность, чрезвычайно популярная в Венгрии начала века. Популярность этой тематики была вызвана целым рядом причин, одной из которых было повальное увлечение Ницше, в частности его концепцией гения. «Романы о художниках» были разные, в том числе и довольно яркие, однако нередко обращение к этой теме было всего лишь данью моде. Вот над этим Мора и посмеялся.
Другой объект пародии восходит к литературе прошлого столетия — это романтическая модель, неоднократно использованная многочисленными эпигонами: человек культуры, горожанин в природном мире, естественной среде, со всеми вытекающими для него и для естественной среды последствиями. Своеобразие художественного мира Ференца Моры состоит также и в том, что здесь очень мало однозначных решений и оценок. Слово в любой момент может повернуться неожиданной стороной, шутка нередко оказывается «с двойным дном». Так обстоит дело и с литературной пародией. Мора подшучивает над романтической схемой, однако трагедия, вызванная появлением в деревне «человека из города», все-таки происходит. Если художник Турбок пал жертвой отнюдь не романтических страстей, а самого что ни на есть меркантильного интереса, то нелепая гибель крестьянина Андраша Тота связана именно с вторжением в его жизнь чужеродного начала — сперва в лице Турбока, потом в лице Мартона Варги. Так же обстоит дело и с основной мишенью пародии — мелодрамой. Тут «смех сквозь слезы» наиболее очевиден. Герой, теряя возлюбленную, страдает по-настоящему, внешний комизм происходящего этого вовсе не отменяет.
В сферу литературной шутки входят и упомянутая игра с критикой, предвосхищение ее оценок, и остроумные, меткие характеристики писателей — предшественников и современников. Но ирония Моры не исключает внимания и интереса. Просто он обладал поистине замечательной способностью подмечать комические черты и — главное — не поддаваться повальным увлечениям. Именно это, последнее, качество и обеспечило «особую» позицию Моры — как литературную, так и идеологическую.
Уместно ли говорить об идеологии в связи с изящной безделушкой? (Ведь «Дочь четырех отцов» легко воспринять именно так.) Теория литературы учит нас четко разграничивать юмор и сатиру. Если следовать этой классификации, книга Моры, на первый взгляд, явит собой образчик «чистого» юмора. «Самая веселая книга», шутка — и не более того? Обратимся к тексту.
«…Если уж венгерский писатель вдруг захочет писать не о любви, тогда пусть прославляет национальную доблесть и будоражит национальное чувство. Это его святой долг. Правда, впоследствии ни одна собака не станет читать этих проникнутых благородным пафосом строк, но это уже — не его забота, это личное дело публики».
Что это — случайный, «проходной» пассаж, каким он выглядит в тексте, или сознательно заявленная позиция? Для того чтобы ответить на этот вопрос, нужно представлять себе, что происходило в послевоенной в пореволюционной Венгрии. Одной из определяющих черт сложившейся ситуации был бешеный разгул национализма и шовинизма; идея «особого пути» Венгрии, соображения об особенностях венгерского духа, о непревзойденной национальной доблести приобрели огромную популярность. Мора пишет «веселую книгу», играет в литературные игры, он не решает социально-политических проблем. Слова о венгерском писателе брошены как бы вскользь, между прочим — и все же в них сказано очень многое. В таком же шутливом, «случайном» виде встают за текстом инфляция, коррупция и многое другое. Из оговорок, придаточных предложений, замечаний в скобках, «по ходу дела», которыми пестрит вся книга, складывается картина, мягко говоря, не идиллическая, а шутка оказывается не так безобидна, как могло показаться вначале.
«Дочь четырех отцов» — первый «большой» роман, роман «для взрослых», написанный Ференцем Морой. За ним последовали другие. Ни один из них не носил игрового характера. Однако, парадоксальным образом, именно первый, шутливый, игровой роман вобрал в себя многое из того, что было развито Морой позднее. Отдельные мысли, знаменитые «скобки» Моры подробно развивались в последующих книгах, формировали сюжеты. Об иррационализме венгерской жизни 20-х годов, о странных фантомах, которые неожиданно приобретают способность определять человеческое существование (в частности, о той же национальной идее), говорится в сатирической повести «Воскрешение Ганнибала». Повесть была написана в 1924 году, а опубликована впервые в 1949-м. Мора не изменил своей шутливой интонации, однако описанные события, будучи совсем не шуточными, говорили сами за себя. В 24-м году издателя для повести не нашлось.
Смысловым центром романа «Песнь о пшеничных полях» (1927) становится проблема «потерянного поколения», непроходимая пропасть между невоевавшими «отцами» и воевавшими «детьми» — она опять-таки есть в «Дочери четырех отцов», комически представленная рассуждениями Марты Петуха и кума Бибока.
Один из проектов сюжета, выработанных Мартоном Варгой в процессе предварительных размышлений, основывался на историко-археологическом материале. По ряду причин, изложенных в романе, проект пришлось заменить другим. Аналогичная история произошла в процессе работы над «Дочерью четырех отцов» с Ференцем Морой. Исторический роман «Золотая гробница» был написан гораздо позже, в 1933 году. Книга эта поражает сочетанием скрупулезно выписанных деталей жизни времен императора Диоклетиана и сознательных анахронизмов в изображении психологии действующих лиц, Последнее временами создает почти комический эффект. Археолог и писатель-юморист наконец объединились в одном лице. Главного героя зовут Квинтипором — заметим, что имя это мелькает на страницах «Дочери четырех отцов».
Творческой биографии Моры сопутствовало странное явление. Каждый раз, когда задумывался роман, современники (и читатели, и издатели) ожидали чего-то грандиозного, настоящего эпического полотна, романа — символа эпохи. Так видел свои будущие произведения и сам автор (заметим, что ровно то же самое происходит с Мартоном Варгой). В итоге, как правило, получался вариант значительно более облегченный, о чем лучше всего сказал устами своего героя сам Мора: «На свете есть множество романов лучше моего, хотя и он не лишен достоинств; я прекрасно понимаю, что взламывать витрины книжных лавок из-за него не станут. Это не роскошный ананас — ходовой товар мирового рынка, а всего лишь летнее кисло-сладкое яблоко. Но ведь есть на свете и такие гурманы, которые находят в яблоках особый букет, не свойственный ни одному, даже самому роскошному южному плоду». Однако как бы то ни было, «Дочь четырех отцов» — безусловная удача, быть может, именно благодаря тому, что писалась эта книга не как серьезный роман, а как полушутливое размышление о романе, испытание возможностей жанра.
В. БелоусоваПослесловие к предыдущему изданию
Это еще что такое? — нахмурит брови читатель. — Надо полагать, этот господин не знает, что порядочные люди не читают предисловий: им и без того известно все, что в них написано.
Тут писатель начинает отпираться, оправдываться, искать смягчающие обстоятельства — и все затем, чтобы заранее убедить читателя в том, что намерения у него самые благие и он вполне заслуживает прощения. Но читатель — он тоже себе на уме, его так просто не собьешь. Вознамерившись прочитать роман, он первым делом заглянет в конец, и если конец придется ему по вкусу, тогда уж начнет читать с начала, но к предисловию из принципа не притронется.
Сам я читатель достаточно опытный, чтобы полностью отдавать себе отчет в бесполезности предисловий. Именно потому я и пишу послесловие — у послесловия куда больше шансов на успех. Это как эксгумация: не всегда интересно, но всегда может оказаться интересно.
Кроме того, книга эта написана в таком странном жанре, что без предварительных замечаний не обойтись, а нормальному роману такое совсем не пристало. Что это за жанр, я и сам не могу сказать, впрочем, это уже дело не столько мое, сколько критики. Я прочил эту книгу в романы, но совсем не уверен, что так оно и вышло. Где-то ближе к концу я даже высказал свои сомнения, написав, что с критики станется заявить: никакой, мол, это не роман.
Предположения мои оправдались, с нее действительно сталось. Мой друг Элемер Часар[1] твердо установил, что «Смерть художника» — не роман. Правда, при этом он добавляет, что это больше, чем роман.
Я же по сей день не могу сказать, роман это или теоретическое и практическое руководство по писанию романов, которое посвящает всех желающих в тайны ремесла, зато я уверен, что из всех моих книг эта — самая веселая. Не говорю — самая любимая, потому что самая любимая всегда та, что еще не написана, но удовольствия она мне доставила массу. Я получал удовольствие, пока писал ее, не испытывая при этом так называемых мук творчества; рассказ мой тек свободно и прихотливо, совсем как Тиса, и с такими же разливами — а потом с неменьшим удовольствием читал отзывы критики. В одном из них говорилось, что я оптимист, другой воздавал хвалу моему пессимизму, третий превозносил меня за цинизм, четвертый — за наивность. Кое-кто видел во мне нового Йокаи, другие искали истоки моего творчества у Гардони, третьи полагали, что я учился у Миксата, а может — и у Анатоля Франса; не скрою, довольно приятно осознавать, что ты вылеплен из столь замечательного теста. Кроме того, к великому моему удовлетворению, выяснилось, что сюжет чрезвычайно слаб, зато пером автор владеет прекрасно, другими словами, манера изложения несколько устарела, зато сюжет поистине захватывающий, точнее говоря, стиль чересчур многословен, зато язык красочен и богат, наконец, что сказать автору совершенно нечего, но он так непосредственно излагает всякие пустяки, что сердиться на него невозможно.
У меня хватило ума извлечь из пирога критики изюминку, и отныне я тешу себя мыслью о том, что знаю, кто я есмь. Однако более всего я был потрясен, обнаружив в витринах пештских магазинов свою самую веселую книгу, перепоясанную яркой рекламой следующего содержания:
Внимание — новинка! Трагическая история жизни художника!
Было это, я думаю, году в 1926-м; венграм тогда страшно надоело веселиться, если что и могло заманить их в книжную лавку, так это заупокойный колокол трагедии…
— Ну да, — сказал издатель этого, третьего по счету издания, — вы сами во всем виноваты, разве можно было давать роману такое ужасное название? Далась вам эта смерть!
— Простите, — защищался я, — но что я могу поделать, если художник на самом деле умер. Более того, он сам ничего не мог поделать, так как умер не совсем по собственной воле.
Издатель сказал, что я могу быть совершенно спокоен: он вовсе не подозревает меня в убийстве, хотя писатели и имеют обыкновение говорить, будто издатели способны на все.
— И все же роман следует назвать иначе. — Он хлопнул рукой по столу. — Я и в двадцать шестом году не стал бы издавать его с таким заглавием, а сейчас — и подавно! Если мы не изменим заглавия, считайте, что книга пойдет прямо в макулатуру.
— Но позвольте, — я пришел в замешательство, — лучше уж принять на себя обвинение в убийстве; надо же учитывать, что публика…
Издатель кивнул:
— Я вас понимаю и вовсе не предлагаю вводить публику в заблуждение. Под новым заглавием в скобках будет стоять старое.
В таком случае я не вижу особой разницы между новым и старым изданием, но разве издателя переспоришь?
В «Смерти художника» так и сказано, прямо на первой странице, — психология книгоиздателя непостижима.
Я сдался.
— Ну хорошо, «Рождение художника» подойдет? Вы полагаете, люди так уж сильно обрадуются тому, что одним художником стало больше? Не говоря уж о том, как обрадуются этому художники.
— Нужно какое-нибудь такое название, чтобы отражало и содержание и настроение романа, — задумался издатель.
— Тогда пускай будет так: «Напиши роман»!
— Боже упаси! — издатель вскочил. — Романистов и так уж развелось больше, чем читателей. Только таких приказов и не хватало!
Так мы совещались до тех пор, пока мне не пришло в голову вполне безобидное новое заглавие. Во-первых, оно соответствовало действительности — я разумею, романной действительности, во-вторых, не должно было никого напугать.
Историю перемены заглавия я зафиксировал сознательно: лет сто спустя кто-нибудь сможет переработать ее для «Трудов по истории литературы».
Ференц МораДочь четырех отцов (Роман)
Недавно на глаза мне попался «Святой Илларий» господина Петера Бода[2], где сведены под одной обложкой Альберт Великий[3], Авиценна, Беда Достопочтенный[4] и другие столь же замечательные мужи; книга эта облагораживает, радует душу и будит мысль[5]. Оттуда я почерпнул, что на свете есть три вещи, которые не дано постичь разуму смертного. Первая из них — дуновение ветра, ибо никому не известно, откуда берутся и куда деваются ветры. Вторая загадка — немецкая речь, потому что немцы, завидев пожар, тут же начинают требовать хвороста[6] (ну это, положим, он вряд ли мог почерпнуть из Альберта Великого, скорее всего славный венгерский поп слыхал об этом от лесорубов). Наконец, третья — и самая загадочная загадка — это женская психология, ибо женщина, соглашаясь, все равно отвечает: «нет».
Я же могу назвать еще одну совершенно загадочную штуку, которой Петер Бод не знал и знать не мог. Ведь во времена «Венгерских Афин»[7] еще не было книгоиздателей, другими словами, не родился тот человек, который скупал бы выдумки одного безумца, чтобы с выгодой продавать их множеству безумцев, готовых все это читать.
Да-да, психология книгоиздателя представляется мне столь же непостижимой, сколь психология женщины.
Если позволите, я расскажу, как пришел к такому выводу.
Я поэт-лирик и археолог, специалист по каменному веку. Представьте себе, эти занятия вполне совместимы. Возьмем, к примеру, Нерона: он писал стихи, будучи императором; согласитесь, что археология — занятие куда более безобидное. Археологи, в сущности, всего лишь извлекают из земли то, что предали земле императоры. Ганс Сакс[8], как известно, был сапожником, что не помешало ему взойти на немецкий Олимп и обосноваться там на сорока томах собственных сочинений. Разве что заказчики могли попрекнуть его тем, что сапоги слажены значительно хуже стихов. (Но об этом история литературы умалчивает, да и вообще сапоги скорее всего тачали подмастерья.)
В моем случае дело обстояло примерно так же: две мои профессии доставляли неприятности только мне самому. Мои стихи еще лет двадцать назад называли ископаемыми. Что правда, то правда, хоть я и разменял пятый десяток, тем не менее то, что я пишу, всегда можно понять. Впрочем, люди от века любят только новые напевы; тот, кто их не освоит, пусть пеняет на себя: ему не останется ничего иного, как мурлыкать себе под нос. Правда, я вошел в пару литературных обществ, но тем дело и кончилось. Старики приняли было меня в свой круг, заметив, что с молодыми мне не по пути. Мы уже сидели за столом одной компанией, и тут они во мне разочаровались, уяснив, что мысли мои нипочем не желают становиться на ходули. Они, бедняжки, всегда предпочитали ходить босиком, но зато на своих двоих, а таким манером, как известно, далеко не уедешь. На Олимп можно попасть двумя путями: либо взлететь на крыльях, либо вползти на брюхе, я вовремя понял, что классика из меня не выйдет. Моя поэтическая карьера завершится на книжной полке какой-нибудь провинциальной старой девы. Я попаду в общество романов госпожи Крукер, не исключено, что меня заложат листиком лаванды, мои стихи будут декламировать на праздничных вечерах добровольной пожарной дружины, потом старые глаза перестанут видеть даже через очки, и я постепенно буду погребен под толстым слоем пыли, и какая-нибудь случайная мышь выгрызет несколько рифм из нижней строфы, а потом явятся наследники и, перебирая затянутый паутиной хлам, выбросят мою книжку в мусорную корзину, приговаривая при этом: — Пал Эркень. Черт его знает, кто он такой! Чего только не читала эта бедная тетушка!
Да, с псевдонимом вышла промашка! Как-то раз мое стихотворение собрались включить в школьную хрестоматию. А ведь это чего-нибудь да стоит, это пусть маленький, но все же шажок к бессмертию. Вы только представьте себе: могила поэта давно уже поросла травою, а маленькому школьнику все еще дерут уши за то, что он не может назвать основную идею стихотворения, написанного некогда за двадцать пять крон. (Впрочем, столько причитается только членам Академии; членам Общества Кишфалуди[9] «Вашарнапи уйшаг»[10] платит по двадцать крон. А членам Общества Петефи[11] и вовсе приходится довольствоваться пятнадцатью.)
Так вот, мой маленький школьник избежал сурового наказания. Попечитель учебного округа, просматривая сборник, доставленный ему для предварительного ознакомления, вдруг поперхнулся:
— Пал Эркень… Кхе-кхе-кхе… Это имя не внушает доверия. Куда вы там смотрите?!
Так меня не пустили к бессмертию даже на порог. Историю же эту я знаю от самого попечителя, как-то раз он поведал мне ее в клубе.
— Слушай, — сказал он, — ты не знаешь случайно сочинителя по имени Пал Эркень?
— По-моему, его имя встречалось в газетах, но давно. Последнее время что-то не попадается.
— Я не читаю газет, дружище. Там сплошные актрисы, художники, писатели и прочая шушера. Ну скажи на милость, какое мне дело до того, что приснилось какому-нибудь Ференцу Герцегу?[12] Никогда ведь не напишут, о чем мечтается, к примеру, попечителю учебного округа. Мне-то что, плевать я на них хотел. Но Пала Эркеня я все же прикончил. Вот этим самым красным карандашом.
И грозно постучал «этим самым карандашом» по стенке бокала. Тогда я сказал, улыбаясь:
— Мне попадались как-то сборники стихов этого господина.
— Это твое личное дело, дружище. — Господин попечитель нацелил на меня красный карандаш. — Ты почему-то решил, что обязан знать всякую ахинею. А я вот, дружище, хоть ты тресни, не могу прочесть ни одного нынешнего стихотворения. Нутро мое не принимает этих новомодных поэтов. Пал Эркень! Если уж Пал, так был бы хоть Пал Ямбор[13]. Вот это был поэт так поэт, дружище! Помню, я еще в школе частенько его декламировал. Жаль, исключили Ямбора из учебного плана. Многим нравятся еще стихи этого, как его, — Сабольчки[14], а меня так вечно клонит в сон, когда дети их читают. Я всегда говорю преподавателям словесности, чтоб как можно больше занимались старыми сочинителями. Взять, к примеру, того же Пала Ямбора — как неуважительно обошлась с ним история литературы! Я-то внес свою лепту, написал о нем докторскую диссертацию, читал?
— Как-то не довелось.
— Напрасно, дружище. Если у меня завалялся экземплярчик, непременно пришлю тебе. Смело могу сказать — неплохая штучка. Большой был поэт, дружище. Тут тебе и вдохновение, и благородный пафос. «Тридцать венгров в Буду идут…», постой-ка, как там дальше? Ничего не поделаешь, приятель, стареем, стареем. Да еще эти бесконечные дела, эти бумажки… ага, вспомнил! «Тридцать витязей к Буде идут, гибель отважных ждет; тридцать героев — бесстрашный Конт их за собою ведет». Вот это поэзия так поэзия, ничего не скажешь, а?
В самом деле, что тут скажешь? Не объяснять же ему, что «Конта» написал не Пал Ямбор, а Янош Гараи![15] Бедняга сконфузился бы, а что толку? Возможно, будь я попечителем, я и сам путал бы двух славных поэтов. Я не посмел сознаться моему уважаемому другу Хонигбону — ибо так звали сего длинноусого куруца[16], — что носитель подозрительного имени Пал Эркень — не кто иной, как я. Псевдоним этот я выбрал еще в гимназии — так подписана моя первая публикация. Красивое, романтическое имя, сразу видно, что избрано в очень юном возрасте. Но в этом городе, где я прожил уже почти десятилетие, никто не знает меня в качестве Пала Эркеня. Люди здесь подобрались все достойные, здоровые и здравомыслящие, не имеющие привычки ездить в Пешт слушать стихи, а потому, читая в газетах, что там-то и там-то выступал со своими стихами Пал Эркень, они и представить себе не могут, что этот прохвост и я — одно и то же лицо. Сам я, разумеется, никому ни о чем не рассказывал. В результате ко мне здесь все неплохо относятся. Не скажу, чтоб обо мне были особенно высокого мнения, к примеру, вице-губернатор ни разу не счел нужным пригласить меня на охоту, но, с другой стороны, в ответ на мое приветствие он всегда приподнимает шляпу, а при встрече с председателем судебной палаты лишь слегка касается ее пальцем. Я избран членом общего собрания, клубного комитета, школьного управления, почетным председателем общества пчеловодов, наконец, пару лет назад меня избрали еще и в общество лодочников. Все это тем более почетно, что я не пью и не играю в карты. Словом, здесь меня считают вполне приличным, порядочным человеком. Так зачем же мне портить собственную репутацию, признаваясь, что я поэт? Будь я драматургом или романистом, тогда — другое дело, это можно бы и обнародовать. С тех пор как газеты стали так много писать о том, сколько можно заработать, сочиняя пьесы, наш аптекарь Скурка неоднократно заявлял в пивной: если, мол, господь бог не нашлет на нас какой-нибудь чумы, что способствовало бы процветанию аптечного дела, то он, Скурка, бросит эту трущобу и станет либо кандидатом от правящей партии, либо драматургом в Пеште. Что же до романистов, то они здесь в большом почете с самых похорон Миксата — наш город, согласно желанию губернатора, был представлен там депутацией из четырех членов общего собрания. (Вообще-то губернатор свел знакомство с Миксатом, еще будучи кандидатом от рабочей партии. Во время знаменитых партий в тарок он стоял у Миксата за спиной советчиком. А последний, выпуская парламентские сводки, щедро вкладывал в уста нашего губернатора самые остроумные идеи — разумеется, в случае карточного выигрыша.) Поскольку ни один лирический поэт до сих пор такой чести не удостоился, то и сама лирическая поэзия здесь не в почете. Если бы каким-то образом выяснилось, что я пишу стихи, да еще не в «Янко Перчинку»[17], меня бы скорее всего стали презирать и перестали принимать. И уж конечно исключили бы из общества лодочников.
Мне же совсем не хочется быть белой вороной. Вкусив в молодости богемной жизни, я пришел к выводу, что мой идеал — жизнь филистера. С годами я приспособился ко всем и всяческим проявлениям филистерства, за исключением двух вещей: зонтика и романтики. (Ибо романтика, на мой взгляд, типичное проявление филистерства.) Звезды первой величины из меня не вышло, значит, не остается ничего другого, как плыть по Млечному Пути обыденного существования. Я хочу быть Мартоном Варгой, рантье, — и никем иным. Мартон Варга — мое настоящее имя; я думаю, не стоит объяснять, почему, став поэтом, я предпочел укрыться за псевдонимом. Человек по имени Мартон Варга[18] в Венгрии может быть военачальником, государственным деятелем, даже директором банка (в последнем случае ему рекомендуется подписываться одной фамилией), но никак не поэтом.
А вот ученому такое имя вполне пристало, особенно ученому, подвизающемуся в столь невинной области, как моя. По правде говоря, ученый я недипломированный. В университете все занимало меня в одинаковой степени, а посему я не мог ни на чем остановиться. Я заглатывал вперемешку естественную историю, историю искусств и просто историю, языки, астрономию и многое другое, но во всякой бочке меда неизменно обнаруживалась ложка дегтя. От лингвистики меня отвратил педантизм фонетического раздела. Заняться всерьез естествознанием мне помешала редиска. Биология учит нас, что красная, синяя, желтая окраска необходима цветам для того, чтобы привлекать насекомых, посредством коих заключаются браки между цветами. Это понятно. Цвет плодов также имеет своей целью соблазн. Черные ягоды бузины видны издалека, воробьи склевывают их, потом разлетаются в разные стороны, мякоть съедают, а семена рассеивают по белу свету — так бузина завоевывает себе жизненное пространство. Это я тоже могу понять. Но какой резон овощу рядиться под землей в красные одежды? Уж не для того ли, чтобы червяку не приходилось слишком долго искать?
В общем, ничего из меня не вышло, зато голова моя стала кладезем никому не нужных сведений. А время шло, и старики мои так и не дождались моего счастливого союза с университетским дипломом. Оставшись один, я расторг нашу затянувшуюся помолвку и бросил университет, где сначала чуть ли не каждый профессор хотел видеть меня своим ассистентом, а потом все как один с трудом меня выносили из-за моих вечных дотошных расспросов. Отец оставил мне небольшой участок земли — при скромных запросах вполне можно было прожить, и я перебрался туда со всеми моими книжками, телескопами, микроскопами, со всеми своими пестрыми мечтами. План мой состоял в следующем: днем я собирался пахать и сеять, а вечером — писать современные «Георгики»[19]. Однако на исходе третьей недели произошло событие, положившее конец моему вергилианству: мой батрак, распахивая один из холмов, нашел каменный топор. Тогда я велел срыть холм до основания и обнаружил захоронение времен каменного века. Я тут же выписал кучу специальной литературы, а потом отправился в Швейцарию, чтобы осмотреть цюрихский музей, после чего, благо недалеко, заехал в Данию, к Стинструпу[20], знаменитому специалисту по кьёккенмёддингам[21], а оттуда рукой подать до Монтелиуса[22], знавшего скандинавский бронзовый век, как родное дитя. Вернувшись домой, я знал больше университетского профессора, но меньше альфёльдского свинопаса. Ибо последний еще во младенчестве узнает, где следует искать сокровища в ночь накануне Святого Георгия, мне же, чтобы обнаружить кучку древнего пепла, выветренные кости, ушки от горшка и прочие подобные сокровища, приходилось раскапывать один холм за другим. Чтобы приобрести свободу передвижения, я обратил свое именьице в деньги и избрал для дислокации этот город, так как отсюда можно было раскинуть паутину археологических разысканий сразу на три-четыре области.
Два-три года продолжалась моя страстная любовь к археологии, приведшая к спокойному, прочному браку. Я отказался от мысли найти могилу Аттилы[23] — одному моему молодому коллеге больше везло в этом отношении: он находил ее трижды, причем в последний раз на гробе было написано Attila rex, но крепко полюбил эту тихую, достойную науку, где никто и никогда тебя не надует, кроме тебя самого. Лукавство начинается вместе с письмом. Если бы когда-нибудь удалось найти скрижали с десятью заповедями, вполне вероятно, выяснилось бы, что Моисей слегка подправил соображения Иеговы. (К примеру, по части девятой заповеди.) Но ни в каменном, ни в бронзовом веке не родился на свет такой хитрец, который повелел бы положить к себе в могилу каменный топор или бронзовый серп, дабы поставить в тупик какого-нибудь из своих потомков пять тысяч лет спустя. Другое дело, что наши предки не могут нести ответственности за тот поклеп, что на них возводят. Похоронит, к примеру, какой-нибудь первобытный человек своего отца в скрюченном положении: и покойник занял немного места, и сыну поменьше копать костяной лопатой. И вот пять тысяч лет спустя приходит ученый и заявляет: подумать только, сколько поэзии было в поступках пещерного человека! Он возвращал покойника матери-земле в том же положении, в каком тот появился на свет из материнского чрева! Кстати, именно так и выходят в академики, нужно только придумать что-нибудь в этом роде.
Академиком я не стал, ибо никогда не отличался бурной фантазией. Именно поэтому мои работы не раз привлекали внимание зарубежных археологов. Кое-что заметили и у нас. Стало известно, скажем, что я откопал самое древнее в мире осиное гнездо. Оно лепилось к глинобитной хижине каменного века и стало с годами твердым как кирпич. Гнездо ничем не отличалось от нынешних. Осам, должно быть, было стыдно, что их архитектура за пять тысячелетий не сдвинулась с места. Мне же эта история снискала славу. Тут-то меня и избрали почетным председателем общества пчеловодов. (А что было бы, если бы я нашел не осиное гнездо, а первобытный улей!)
Так я жил-поживал до самой весны, вкушая скромные радости будней и потихоньку забывая о том, что я не только Мартон Варга, но еще и Пал Эркень. Вообще-то писательские амбиции живучи, как бездомные котята; их можно закопать, утрамбовать землю, но мяуканье еще долго будет терзать вам уши. И все же в один прекрасный день они замолкнут, особенно под гнетом вашего приближающегося сорокалетия.
Тут-то и пришло письмо из одного будапештского издательства. Оно было адресовано Мартону Варге, но по сути обращено к Палу Эркеню. Издательство заказывало мне роман.
Меня явно с кем-то перепутали, — улыбнулся я про себя. Я никогда и ничего не писал в прозе, за исключением эссе. В последних, как правило, говорилось о чем-нибудь вроде формы венгерских мечей бронзового века в сопоставлении с микенской культурой и прочих мало кому интересных вещах.
Разумеется, отвечать я не стал, а письмо показал только одному человеку — моей машинистке, с которой мы прекрасно ладим. Собственно говоря, она студентка, учится в университете, причем куда более старательно, чем я в свое время. Получив разрешение пользоваться моей библиотекой, она в благодарность решила навести в ней порядок. Таковы студентки, а в особенности те, что изучают классическую филологию. Проходят десять подвигов Геракла и немедленно решают перещеголять героя одиннадцатым. Видит бог, если бы у меня был такой вздернутый носик и такие блестящие глазки, как у Герминки, я предпочел бы лаврам Геракла лавры Елены.
Говорил я об этом Герминке, разумеется, исключительно в шутку. Она лучше, чем кто бы то ни было, знала, что единственный огонь, который во мне пылает — холодный огонь, или свет разума. Черепаха — и та создание более романтическое. Мы с Герминкой именно потому и сдружились так славно, что никто из нас не краснел, копаясь в древностях александрийской эпохи. А между тем среди них попадаются довольно неприличные вещицы.
Итак, девушка посмеялась над письмом вместе со мною. Она веселилась даже больше моего, поскольку не подозревала о моем тайном грешке. Последним поэтом, которого она боготворила, был Альбий Тибулл. Я самолично помогал ей выискивать у него аблативусы абсолютусы.
Так-то оно так, да только неделю спустя получаю я второе письмо. Дескать, извините, господин писатель, почта у нас работает плохо, да и Вы, должно быть, очень заняты, а все же было бы хорошо, если б Вы выкроили время и написали для нас роман.
Мне как раз нужно было ехать в Будапешт делать доклад об уймайорских захоронениях на заседании Археологического общества. Что ж, если я все равно буду в Пеште, — рассудил я, — то почему бы не навестить этого окаянного издателя и не сказать ему, что я о нем думаю. Пусть отвяжутся от меня со своими романами, не мое это дело.
Однако гнев мой улетучился, как только поезд выехал в чисто поле. Черешневые деревья стояли в свадебном уборе, золотые чашечки калужницы гостеприимно сзывали пчел, в садиках возле дорожных будок трудились молодайки в алых платочках — и в душе моей зазвучала музыка. В самом деле, с какой стати грубить издателю, который всего лишь проявил ко мне внимание? Ежели он готов удовлетвориться томиком стихов, я охотно предоставлю ему что-нибудь из старых запасов, а вот с романом ничем помочь не могу — не мой профиль.
Задумано было прекрасно, а вышло совсем по-другому. Беда в том, что я вечно всем уступаю. К примеру: присматриваю я в витрине красивый галстук, захожу в магазин, объясняю, что мне нужно, приказчик выставляет на прилавок шкатулку, но нет в ней черного в синюю крапинку, за которым я охочусь вот уже второй год и который наконец увидел в витрине. А лежит в ней лимонно-желтый в красный горошек, и когда я смотрю на него, мне начинает казаться, будто кто-то рядом со мной скребет пальцем по оконному стеклу.
— Вот, сударь, это то, что вам нужно, — приказчик выхватывает двумя пальцами лимонно-желтую мерзость, — очень красивый и модный цвет.
Я готов расплакаться от злости, и все же покорно тащу лимонно-желтый домой. Ну ладно, галстук можно, на худой конец, подарить дворнику. Гораздо хуже обстоит дело с ресторанами. В моем представлении, один из неотъемлемых атрибутов земли обетованной — свиные отбивные, которые там едят никак не реже трех раз в день. (Уверяю вас, в этом нет никакого святотатства. Извольте прочитать «Centum fontes» Адамуса Вебера[24] (Нюрнберг, 1686), и вы узнаете, что думают по этому поводу разные ученые мужи от Иоанна Златоуста до Атаназия Кирхера[25]. Большинство из них утверждает, что праведники там, на небесах, ходят в алых шелках, разговаривают по-древнееврейски, но свинины отнюдь не гнушаются. Vide fons trigesimus, pg. 273[26].) Попавший туда да проверит, так ли это, я же твердо знаю одно: в нынешних ресторанах как следует зажаренная отбивная — такая редкость, что впору подумать, будто в нашем бренном мире это — предмет экзотический. Я не такой уж большой гастроном, и все же каждый раз, видя в меню свиную отбивную, склонен верить, что жизнь, несмотря ни на что, прекрасна.
— Что прикажете подать к мясу: картофель, огурцы? — спрашивает официант.
— Салат из капусты, будьте добры.
И он приносит мне телячьи почки с морковью: то самое блюдо, от которого, будь я чуточку храбрее, бежал бы на край света. И вот я жертвую желудком телячьим почкам, безнадежно изуродованным морковью, ибо что мне остается? Не вступать же, в самом деле, в пререкания с официантом!
С романом вышло точно так же. Я представился, издатель очень тепло приветствовал меня и сказал, что давно обо мне знает.
— Откуда же? Мои стихи?
— О да, как же, стихи ваши мне тоже попадались. Но меня больше привлекла одна из ваших статей по археологии.
— Вы археолог? — Я прямо-таки подскочил от восторга — нечто подобное, вероятно, испытывают миссионеры, случайно сталкиваясь друг с другом среди папуасов.
— Боже упаси! — лицо издателя, и без того достаточно круглое, совершенно расплылось от смеха. — Неужто, глядя на меня, можно такое подумать? Видите ли, дело было так: пару лет назад, а может пять или шесть, путешествовал я в ваших краях. В купе я оказался один, с собою у меня не было ни книги, ни газеты — словом, скука невыносимая. И тут я заметил, что из-под сиденья высовывается уголок какой-то тетрадки. Я вытащил ее и с ходу начал читать: там говорилось о трепанации черепа в доисторическую эпоху.
— Да-да, припоминаю, это была полемика с профессором Обермайером.
— Понятия не имею, что это было. Нельзя сказать, чтобы я особенно увлекся, да и, не обессудьте, мало что понял. Но зато тут же пометил в записной книжке, что когда-нибудь надо будет заказать этому человеку роман.
— Но позвольте, на каком же основании? — Я почувствовал, что глаза у меня лезут на лоб.
— А фантазия-то ваша, дорогой мой! Тот, кто может столько порассказать о дырявой черепушке, просто обязан писать романы.
Ну вот, час от часу не легче! Если бы какой-нибудь ученый коллега похвалил одну из самых серьезных моих статей за бурный полет фантазии, я хладнокровно всадил бы ему под ребро бронзовый меч, хотя по натуре отнюдь не кровожаден. Но не набрасываться же мне, в самом деле, на книгоиздателя! Я изобразил на лице улыбку и сказал, что у господина издателя очень любопытный взгляд на вещи.
— Да вот беда, этот блокнот затерялся у меня в столе и попался мне на глаза совсем недавно. Мы тут же вам написали. За то время, что пропало даром, мы с вами запросто могли бы изготовить парочку недурных романов. Ну да ничего, я еще успею выудить из вас все, что нужно. Мадемуазель Лотти, бланк для договора, будьте любезны.
Он смотрел на меня, как паук-птицелов на колибри. Он свободно мог бы меня проглотить, появись у него такое желание, однако удовлетворился подписанным договором.
— Так, благодарю вас, теперь все в порядке. Времени у вас предостаточно, ровно шесть месяцев. Вы, с вашей фантазией, можете за это время не то что один — десять романов написать. До свидания. Осторожно, там лестница.
Откровенно говоря, я пришел в себя довольно быстро. Расправляясь с обедом в «Паннонии», я полностью согласился с издателем в том, чего он не сказал, но наверняка подумал, будучи с виду человеком умным и интеллигентным: романы лучше писать после сорока. Ведь роман — совсем не то, что стихи. Тут одного чувства мало, а может, оно и вовсе ни к чему. Романист должен много пережить, видеть людей насквозь, иметь определенный взгляд на вещи, а откуда возьмется все это в двадцать лет? Для романа необходима зрелость, а человек созревает как раз к сорока годам. А до тех пор он всего лишь молокосос и лакомится сахарным петушком лирики.
На ужин я был приглашен в Буду, в гости к одной красивой женщине. Несколько лет назад я посвящал ей стихи, но с тех пор мы оба об этом благополучно забыли. Она по-дружески, без всякого стеснения спросила меня, над чем я работаю.
— Пишу роман, — ответил я, пожав плечами, — сегодня как раз подписал договор.
— Роман? Вы? — она с искренним недоумением обратила ко мне взор, некогда сжигавший меня, как самое жаркое пламя.
— Чему вы удивляетесь, дорогая? — спросил я не без некоторой обиды. — Быть может, писать романы — мое призвание. Я и так уже совершил глупость — столько лет писал стихи вместо романов. А ведь с моей фантазией только и писать романы. Вы же сами, дорогая, знаете, какая у меня богатая фантазия.
Тут мы дружно посмеялись.
— Ах, негодник! — Красавица заткнула мне рот кусочком бисквита, пропитанного вином.
В поезде я не сомкнул глаз. Всю дорогу глядел в окно на звездное небо, но не звезды представали моему взору. В небесах фосфоресцировали обложки зарубежных изданий моего романа. Точнее, мое имя на обложках, так как названия у романа еще не было. Von Martin Varga. Od Martin Varga. Di Martino Varga. Par Martin Varga. By Martin Varga… И как знать? В Венгрии только что взошла звезда Сельмы Лагерлёф[27]. Может, нам еще доведется отдать шведам визит? Af Martens Varga. Да, да, именно так. Не Пал Эркень, а Мартон Варга! Пал Эркень был всего лишь пеной на забродившем виноградном соке, вязкой белой пеной без вкуса и запаха. Пену сняли и выплеснули, ее поглотила земля — лучшего Пал Эркень и не заслуживал. Остался Мартон Варга — благородное вино. Оно выдерживалось долго, и это сразу чувствуется. Такое вино будут пить и сто лет спустя.
Не стану больше стыдиться, пусть табличка с моим именем украшает врата Олимпа! Наверное, меня все-таки станут отвечать на экзаменах. Надо будет в каком-нибудь романе намекнуть профессорам, чтоб ставили за меня только пятерки. Не то явлюсь с того света и устрою педагогам экзамен по истории литературы.
И все же издатель с кем-то меня спутал, когда понадеялся получить с меня роман. Трех месяцев из шести как не бывало, а творение мое все еще пребывало в эмбриональном состоянии. Ожидать преждевременных родов не приходилось, а вот выкидыша — в любой момент.
Конечно, дело было не в недостатке таланта. Скорее наоборот, талант мой был слишком велик и значителен. Будь я одним из тех посредственных сочинителей, которых у нас хоть пруд пруди, я накропал бы роман за неделю. Но талант обязывает. Великану не пристало играть в бирюльки. На пальме не родится жалкая слива. Я не могу поставить свое имя под какой-нибудь любовной белибердой. Не спорю, и любовь существует на свете, но вольно же романистам представлять дело так, как будто на свете не существует ничего другого. (Заметим, что лирики здесь ни при чем, поскольку их все равно никто не читает.) Любовь — не более чем аперитив, никому не возбраняется опрокинуть стаканчик-другой, но потом надо браться за дело. Ведь есть же на свете, к примеру, и пьяницы, но где сказано, что романы следует писать о тех, кто всю жизнь шатается из корчмы в корчму?
Вот для зарубежных коллег — это пройденный этап. Они больше не пишут романов об отдельных личностях, они пишут только о человечестве. Один из них присылает на Землю жителей Марса, другой отправляет землян на Луну. (У нас в этом жанре работают разве что кандидаты в депутаты во время выборов.) Попадаются и такие, что сводят человечество с ума посредством эликсира бессмертия, кое-кто уничтожает население земного шара, наслав на него эпидемию болезни бери-бери. Я слишком мягок для подобных штучек, и вообще, на случай Страшного суда у меня есть в запасе оправдание: я никогда в жизни никого не убивал, в том числе и пером. Да и у нас, у скифов, эти так называемые романы «большого дыхания» только переводные и не залеживаются в книжных лавках. А если уж венгерский писатель вдруг захочет писать не о любви, тогда пусть прославляет национальную доблесть и будоражит национальное чувство. Это его святой долг. Правда, впоследствии ни одна собака не станет читать этих проникнутых благородным пафосом строк, но это уже — не его забота, это личное дело публики.
Ну а в моем романе будет и слава предков, и национальное чувство, и все же его захочет прочитать каждый: он будет захватывающим, словно вышел из-под пера Уэллса. Героями будут покайские первобытные люди, которых я собственноручно выкапывал из-под земли почти восемь лет. Сотни костяных гарпунов, жемчужных раковин, куча каменных топоров… Скелетов там тоже был целый вагон. Один из них, по-видимому, принадлежал какому-то могущественному вождю; на каждом пальце у него было по костяному кольцу, на шее — янтарное ожерелье. Череп его напоминал череп буйвола, а зубами он запросто мог бы грызть железо, если бы в ту пору знали, что это такое. Но увы, эти несчастные дикари умели убивать друг друга только дубинами и камнями. И вот, представьте себе: между выпуклыми надбровными дугами буйволоподобного черепа торчит медный наконечник стрелы. Надо думать, он и положил конец славному правлению. Каким же образом, спрашивается, попал сюда медный предмет? А вот каким: как-то раз чернокожий человек с головой, похожей на голову буйвола, преследовал медведя до самой Матры[28]. Там, в шалаше под сенью листвы, увидел он золотоволосую женщину, схватил ее в охапку и побежал, не останавливаясь, до самого дома, что стоял на берегу Тисы, а дома ждали его чернокожие жены с волосами, похожими на щетину. Тем временем матрайский медвежатник, услышав вопли похищенной, поспешил домой и преследовал похитителя целых полтора дня, но, увидев на берегу Тисы земляную крепость, повернул обратно, ибо что он мог поделать с большим господином, что живет не в какой-нибудь жалкой хижине из веток, а в саманном доме, укрепленном настоящими рвами, и одних жен у него больше, чем у матрайского медвежатника медведей. И побрел медвежатник домой, и был он грустен и голоден, а потому насадил на вертел целого кабана и разложил под ним большой костер. В глубокой тоске поворачивал он вертел; выходило весьма неуклюже — дело-то ведь было женское, — и вдруг заметил в костре камень, что плавился, будто медвежье сало. Страшно удивился охотник: никогда еще не доводилось ему видеть жидкого камня. Однако голод уже тогда играл в истории человечества куда большую роль, нежели жажда знаний, а потому охотник первым делом съел кабана. Потом он прикорнул на медвежьей шкуре, и приснилась ему золотоволосая женщина. Проснувшись утром, он вспомнил о странном камне и решил посмотреть: а вдруг его можно съесть. Камень лежал на прежнем месте и светился, как заходящее солнце. Охотник потрогал его, камень оказался мягким. Тогда он отщипнул кусочек и сунул его в рот, но тут же выплюнул: жевать было трудно, да и смысла не имело — ни вкуса, ни запаха. А что, если там, внутри, зернышко, как в миндальном орехе? Охотник попробовал его лущить, однако внутри ничего не оказалось. Тогда он отшвырнул обломки ногой — они были довольно тяжелыми и, сталкиваясь друг с другом, не стучали, как камни, а звенели. Он поднял один из обломков, взвесил его на ладони и подумал, что эту штуку можно было бы метнуть черному человеку прямо в висок. Другой осколок оказался заостренным: чуть-чуть подправить — и выйдет отличный наконечник для стрелы, куда лучше каменного. Эх, как славно было бы всадить такую стрелу в черного человека, и подходить бы не пришлось так близко, как с дубиной. Кабы только не куча жен вокруг! А вдруг и с ними можно справиться? Ведь если из этого камня получится наконечник для стрелы, значит, из него получится и жемчуг. С жемчугом-то совсем просто: покатал немножко на ладони, а потом проткнул острой косточкой. Охотник тут же взялся за дело; когда солнце коснулось верхушек деревьев, у него уже была готова целая пригоршня медных жемчужин. И каких! Они так сверкали на солнце, что на них больно было смотреть. Нет на свете обладательницы речного жемчуга, которая за медную жемчужину не предала бы своего супруга. Итак, если жемчуг в наличии, все остальное — игрушки. И вот матрайский охотник складывает в подол рубахи жемчуг нового образца и подкупает черных женщин; они прячут охотника в зарослях ивняка, и когда черный человек ложится на живот, собираясь напиться из Тисы, медная стрела вонзается прямо в буйволоподобный череп. Однако охотнику этого мало; он сзывает черных людей из соседних земляных крепостей, объявляет себя королем и требует, чтобы отныне ему посылали самых жирных сомов и самых пухленьких черных женщин — не то всем плохо придется. На непокорных он напустит медную птицу, зато тот, кто будет послушен, сможет каждый вечер приходить к королю и обсасывать косточки, которые он бросает под стол. Правда, золотоволосая женщина слегка косится на своих черных товарок, но ревность ее напрасна. Охотник успокаивает ее, пообещав слепить жемчуг в два раза крупнее, чем прочим, и вообще — он выполняет культурную миссию. Охотникам тогда уже случалось приврать.
Не спорю, в моей истории тоже есть любовь, но это — всего лишь изюминка. Главное — тесто, а тесто в данном случае — общественная наука, проблема зарождения конституционной монархии в недрах каменного века, на заре века бронзового. Эта тема интересна всякому образованному человеку, независимо от классовой принадлежности. Она поучительна прежде всего для политиков, однако ремесленники тоже смогут извлечь из нее некоторую пользу, особенно медеплавильщики. Более того, здесь есть кое-какие находки в области стратегии, благодаря которым книга может рассчитывать на благосклонность тех, кто, как правило, вообще не одобряет романов. Основное же достоинство ее в том, что она послужит прославлению родной земли. Не найди матрайский медвежатник меди, многое сегодня было бы иначе, а многого и вовсе не было бы. (Заметим: не было бы медных картелей. Таким образом, нам обеспечена симпатия коммерсантов.) Самые суровые критики будут вынуждены признать, что этот роман — не то что прочие. Кстати: полноправным критиком я готов считать только того, кто лучше меня разбирается в бронзовом веке.
Словом, задумано было великолепно, но выйти — ничего не вышло. Первым камнем преткновения оказались имена действующих лиц. До метрик в те времена еще не додумались, но мне-то нужно было как-то называть моих героев. Я мог, бы дать им символические имена: Сила, Хитрость, Красота, но вышло бы слишком похоже на Ведекинда[29]. Тогда я попробовал наречь буйволоподобного именем Околункулу, однако это звучало слишком уж по-сарацински и, соответственно, являлось фактической неточностью. Правда, в Ментоне в 80-е годы обнаружили скелеты негроидного типа, но они были явно делювиального происхождения[30]. В анатомическом строении человека бронзового века не было уже ничего негроидного. А если так и назвать черного человека Буйволоподобным? Тоже неверно. Это я могу так его назвать, а современники никак не могли, потому что на их языке буйвол назывался как-то иначе.
И вторая непреодолимая трудность — язык. Было бы забавно, если бы матрайский охотник, увидев плавящийся камень, сказал что-нибудь вроде: «Черт возьми, да это ж медь, вот здорово, что я ее нашел!» В самом деле, как назвал человек первый металл, попавшийся ему на пути? Что напевал он, будучи в хорошем расположении духа, как ругался, разозлившись, как морочил голову возлюбленной, желая получить от нее поцелуй? Понятие «любовь», безусловно, было ему незнакомо. Он не мог сказать женщине: «дорогая» или «прелесть моя», не подставлял ей бородатой щеки: «один поцелуй, моя радость; надеюсь, вы не пожалеете об этом». Первобытный человек не просил поцелуя и ни на что не надеялся, он просто брал то, что ему было нужно, а потом либо прогонял женщину, либо заставлял ее чесать себе перед сном пятки. Когда ему было весело, он скалил зубы, будучи не в духе — рычал, разозлившись — ревел; этой гаммы чувств хватало с избытком.
Таким образом я убедился, что моя великолепная тема не стоит выеденного яйца. С безымянными, бессловесными героями, способными только скалиться, рычать да реветь, не напишешь романа на десять листов. Композитору они вполне могли бы пригодиться для какой-нибудь симфонии, я же решительно не знал, что с ними делать.
Не лучше обстояло дело и с исторической тематикой. Сперва я упорно пытался справиться с Аттилой, но в конце концов он уложил меня на обе лопатки: мне так и не удалось разобраться в карте Каталаунской битвы[31]. Впрочем, можно было и раньше додуматься, что с военными у меня ничего путного не выйдет. Тут меня посетила счастливая мысль сделать героем романа какого-нибудь древневенгерского барда и сочинить что-то вроде «Цюрихских новелл» Готфрида Келлера[32]. Тема эта как раз по мне, ведь вжиться в образ собрата-поэта все-таки проще, чем в образ номада бронзового века. Выписав из Национального музея Словарь древних венгерских поэтов, я проштудировал все шесть томов вместе с примечаниями и испытал легкое разочарование: все мои собратья по перу, а точнее, по лютне, чьи имена таились в заглавных буквах стихотворных строк, оказались людьми невероятно набожными, занимались они в основном тем, что бранили священников (протестанты — католиков, католики — протестантов) и оплакивали гибель Израиля. В конце концов выбор мой пал на поэта, к которому не могла бы придраться ни одна из существующих церквей. Я избрал безымянного певца, от которого дошло до наших дней всего лишь четверостишие: «Ныне Матяша избрали // Всей страною нашей править. // Богоданный наш правитель // Будет править нам на благо». О нем никому и ничего не известно, следовательно, я могу со спокойной душой сочинять все что угодно, лишь бы это соответствовало духу эпохи. Он будет у меня последним венгерским гусляром при дворе короля Матяша[33]. Против него станут интриговать нахлебники-итальянцы, в конце концов они заставят великого короля поверить, что волоокий юноша поет королеве Беатрикс[34] любовные песни. Где здесь правда, а где наговор — сказать не могу, так как сам не успел ничего решить. Академия в очередной раз переиздала первый том Словаря древних венгерских поэтов, а я, на свою беду, его прочитал. Там говорилось, что, согласно новейшим исследованиям, песню на избрание короля Матяша следует вычеркнуть из сокровищницы древней венгерской поэзии. Жалкая подделка, восемнадцатый век.
За Келемена Микеша[35] я после этого и браться не стал, хотя тема эта была помечена в моем блокноте в числе возможных. Почем я знаю, вдруг, когда все будет готово, дотошный историк литературы возьмет и выяснит, что никакого Келемена Микеша не было в природе, а выдумал его заодно с куруцкими балладами Кальман Тали[36] в пику Габсбургам. И потом, даже если мне удастся избежать этой Сциллы, не стану ли я жертвой Харибды-критики? Недавно один критик обвинил автора исторического романа в излишнем историческом педантизме. (Nota bene: случайно мне довелось прочитать роман этого педанта. Король Ласло Кун[37] развлекался там с цыганками при свете фонарей в майшайской чарде, а кардинал Гентилий де Монтефлор[38], восседая в кресле, зачитывал буллу церковных проклятий.)
Откровенно говоря, был еще один фактор, подвигнувший меня раз и навсегда отказаться от исторической темы. Наш губернатор как-то сказал мне с глазу на глаз:
— Времена нынче, видишь ли, дурацкие, а исторический роман — деликатная штука. Не угадаешь ведь, кто победит: свободные королевские избиратели или легитимисты. Выйдет книга в неподходящий момент — ее, чего доброго, конфискуют. Я думаю, самое разумное — оставить в покое историю, пока положение хоть малость не прояснится. Ты не подумай, я не вмешиваюсь, хотя кое-что в литературе и смыслю. Знаешь, я ведь самому Миксату подсказал несколько отличных тем. Поверь, я желаю тебе только добра.
У меня и в мыслях не было сомневаться в благорасположении губернатора, да и с чего бы? С тех пор как стало известно, что я работаю над романом, о чем я, разумеется, оповестил всех, включая своего газетчика, сильные мира сего стали со мною особенно любезны. С губернатором мы выпили на брудершафт, мало того, вице-губернатор намекнул, что собирается пригласить меня на охоту, если, конечно, она в этом году вообще состоится: порох чертовски вздорожал, разве что сахарозаводчики могут платить такие деньги, порядочному человеку это не по карману. Что ж, я никогда не сомневался в том, что вице-губернатор самый смекалистый из всех нас. Он рассуждал о дороговизне только потому, — что не был уверен, получится у меня роман или нет. Про себя он решил так: если дело не выгорит, то незачем вводить его в столь избранное общество, которое время от времени посещает сам старый барон Эшелович, мало того, последний как-то раз привез поохотиться настоящего русского великого князя. Конечно, десять раз подумаешь, прежде чем вводить в этот круг какого-то писаку, ведь запаха чернил не отбивает даже можжевеловка. Только ради этого уже стоило мечтать об успехе романа. Тогда я поблагодарил бы вице-губернатора за любезное приглашение и сказал бы, что в жизни не брал в руки ружья. Единственное оружие, которым я когда-либо сражался, была мухобойка. Да и той я чаще попадал не по мухам, а по разным частям собственного тела.
Но что толку в этих прекрасных мечтаниях, если над моим будущим социальным романом собрались такие же тучи, как и над историческим!
А ведь я взялся за дело с присущей мне основательностью. Тот, кто большую часть жизни классифицировал древние черепки, так привыкает к этому занятию, что дышать не может без какой-нибудь системы. Первым делом я отбраковал те темы, которые мне решительно не подходили. Мое мнение о любви вам уже известно. Так же обстоит дело и с юмором, я начисто лишен этого чувства. С виду я улыбчив, но в глубине души склонен к меланхолии и скрываю это лишь потому, что люди не любят постных лиц, я же, в свою очередь, не люблю быть обузой для окружающих. Посему я выдавливаю из себя улыбку, когда приходится выслушать плохой анекдот, но от писателей-юмористов стараюсь держаться подальше. Жизнь — серьезная штука, шутки над нею неуместны. К Миксату, скажем, у меня душа не лежит: он даже смерть ни в грош не ставит. Или взять, к примеру, Анатоля Франса; я так и не смог одолеть его романа, но от одной попытки у меня неделю разламывалась голова. Уму непостижимо, как такой талантливый и к тому же образованный человек — он ведь даже в археологии знает толк, — которому сам бог велел строить храмы и ваять колоссов, позволяет себе пробавляться детскими каракулями на стенах домов.
Нет, я не надену дурацкого колпака, это уж точно. Писателю не пристало быть шутом при Его Величестве Народе, он призван быть его апостолом и пророком. Смеяться люди умеют и сами, они легкомысленны и поверхностны по природе своей; их нужно учить смотреть на вещи глубоко и серьезно. Примером в этом отношении могут послужить великие скандинавы. Я предпочитаю всем остальным Кнута Гамсуна[39], великого психолога, в котором угадываю брата по духу. От одного звука этого имени перед глазами у меня встает такая картина: длинношеяя гагара сидит, нахохлившись, на туманной отмели Ньюфаундленда и, стиснув клюв, угрюмо созерцает серые хлопья пены. Проходит час за часом, а она все не двигается с места, и ни одно перышко не шелохнется в ее оперении. Внезапно дрожь проходит по длинной шее. Ага, думает человек, сейчас она наконец схватит рыбу, которую подстерегала так долго. Ан нет: до сих пор она созерцала пену, склонив голову вправо, а теперь склонит ее влево. Тем временем наступает вечер, опускается туман, он, того и гляди, скроет необыкновенную птицу, и никто никогда не узнает, что она, черт побери, хотела всем этим сказать.
Этот северный туман уже начал окутывать и нашу литературу, пока еще, впрочем, не слишком густо. Призрак романтики в духе Йокаи все время мелькает то здесь, то там блуждающим огоньком. Человек я вообще-то скромный, но у меня есть серьезные основания видеть тут свою миссию. Венгерский Гоголь уже имеется в наличии, венгерский Анатоль Франс — тоже, ну а я стану венгерским Кнутом Гамсуном. (Только не гагарой, а пеликаном, применительно к нашим условиям.)
Будь ты хоть гагарой, хоть пеликаном, но какой-никакой сюжет все же должен мелькать в словесной пене, чтобы, по крайней мере, видимость была, будто есть, что вылавливать. Сом не клюнет — не беда, зато лещ обеспечен. Не так уж это и трудно. Нужно только раскрыть пошире глаза и протянуть руку, ведь вокруг нас — сплошные сюжеты. К примеру: ветер задул свечу в руке у дворника, и тот, обознавшись в темноте, обозвал старым ослом собственного домохозяина за то, что тот чересчур громко звонит. Этот дворник — самый настоящий трагический герой, точно так же, как трагическая героиня — красавица, чей нос украсил прыщ в тот самый момент, когда после длительной душевной борьбы она все же решила отправиться на свидание. Тему для романа можно найти везде и всюду: на базаре, в табачной лавке, на теннисном корте, у обедни и даже у себя дома. Вспомните только, сколько раз вам приходилось слышать, да и говорить: «надо же, ну прямо как в романе» или: «будь я писателем, непременно сделал бы из этого роман». Так-то оно так, да только с этими сюжетами все равно что со старыми ключами, которые годами перекладываешь из одного ящика стола в другой: авось пригодятся. Эти ржавые ключи вечно лезут под руку, когда роешься в хламе, отыскивая пуговицу от рубахи, зато как только попадется замок, к которому нужно подобрать ключ, найти их становится совершенно невозможно. Это трагедия не одних только ключей и замков, это трагедия романиста, вокруг которого назойливой мошкарой вьются идеи: захочешь поймать, глядь — а в руке пустота. Ту же, что случайно удалось ухватить, все равно приходится по той или иной причине отпустить на волю. С героями — та же история. Один не годится потому, что все хором скажут: таких не бывает, расскажите, мол, господин автор, вашей бабушке; другой не годится потому, что его сразу же узнают. А ведь люди в большинстве своем не любят, чтобы, знакомясь с ними, говорили: «А-а, вы и есть тот самый. Знаем-знаем, что вы за жулик».
Так и вышло, что корабль моего романа уж третий месяц ждал у моря погоды, как говорят в таких случаях моряки. И вообще, это был не корабль, а черт знает что: у меня до сих пор не было припасено для него ни единой доски.
Престиж мой тем временем стремительно возрастал. Угольщик уже трижды посылал ко мне с просьбой позаботиться о дровах на зиму — дело было в начале июня, двадцать восемь градусов Цельсия в тени, — ведь зимой дров нипочем не достанешь, того и гляди, на растопку пойдет крыша комитатской управы. Белокурая аптекарша пообещала утопиться, если я не возобновлю своих лекций по астрономии. (Прошлым летом это занятие пришлось прекратить: пока я разглагольствовал о рогах Сатурна — мужа ее звали Фердинандом, — она, не отрываясь, смотрела на звезды гусарского подполковника.) Как-то раз я слонялся по Главной площади, повесив голову и грызя в задумчивости ус, и столкнулся со стайкой воспитанниц высшего женского училища.
— Ничего удивительного, — прощебетала одна из них, когда я, покраснев до ушей, попросил прощения и ретировался, — говорят, роман будет на триста страниц. Боже, как же мне хочется, чтобы он написал и обо мне!
— Какая у него прекрасная голова, прямо ренессансная, — прошептала другая. — (Однажды мой приятель-этнограф шутки ради поместил мою фотографию в книге о венгерских русинах. Впоследствии кто-то из специалистов выделил мою физиономию как наиболее характерную для крестьянина-русина.) — Самое интересное, что седина у него — венчиком, совсем как нимб.
Третий голосок прозвучал не столь благоговейно. В нем явственно чувствовался металл.
— Говорят, он получит за роман сто тысяч крон.
Тут я осторожно оглянулся. Это была дочка директора финансового управления, я узнал ее по волосам, таким же рыжим, как у отца. Ага, теперь понятно, почему сей сборщик податей стал раскланиваться со мной так почтительно, словно с каким-нибудь бунчужным пашой. Он видит во мне нового налогоплательщика, равного которому не найдется во всем уезде.
Боюсь, однако, что с моих налогов зарплаты чиновникам не повысишь. Предприятие мое расползается, как ветхий шелк: чем чаще к нему притрагиваешься, тем меньше от него остается. Я боюсь взглянуть на календарь: не хочу видеть, как стремительно уходит время. Впрочем, я при всем желании не мог бы на него взглянуть, поскольку он исчез с моего письменного стола. В самом деле, куда он, черт возьми, подевался? Ведь стоял же здесь, на столе, с самого Нового года рядом с черепом кельтского макроцефала. Я всегда помечал в нем даты заседаний Археологического общества.
С большим трудом я обнаружил календарь на столике, за которым обычно работала Герминка. Как он сюда попал? Странички были сверху донизу исписаны красным карандашом. Мой почерк мельче; из всех видов письма он более всего напоминает турецкое, но не то, что встречалось раньше на боснийских мундштуках, а настоящие куфические письмена[40], которые даже в Турции разбирает только сам великий муфтий. Эти же круглые, красивые буквы явно были написаны рукою моей приятельницы Герминки. «Вторник, 9 часов утра, пристань». «Среда, 5 часов вечера, роща; третья скамейка налево». «Воскресенье, у вечерни, Непомукский Св. Я.».
Дождавшись ее прихода, я поинтересовался, что это за головоломки.
— Да так, ерунда, — она улыбнулась и покраснела, — я учусь играть в теннис и записываю, когда свободен мой партнер. Ведь с тех пор, как вы изволили заняться романом, у меня стало много свободного времени.
Ну как же, пристань — самое подходящее место для тенниса, а Святой Ян Непомукский — самый подходящий партнер для юных филологинь. Тренироваться же лучше всего во время вечерни, потому что все находятся в церкви, и никто не видит, как он слезает с постамента.
Я ничего не сказал девице, только шутливо погрозил ей пальцем. В сущности, я был зол на самого себя за то, что мой роман как будто заражал окружающую атмосферу. До сих пор эта девица была благоразумна, как сама Минерва, и вот, на тебе, ее тоже потянуло на романы. Нечто в этом роде случилось и с Рудольфом, моим лакеем, бывшим солдатом, прошедшим Сибирь, сыном старой прачки, что служила у моей бедной матушки. Он ассистировал мне при раскопках, ежедневные же его обязанности состояли в том, чтобы прибирать мою комнатушку, стелить постель, готовить воду для бритья, а также расставлять по полкам черепки и ржавые железки.
До сих пор мы были вполне довольны друг другом, но вот в один прекрасный день я обнаружил, что исчезла гальштатская урна. Вещь была очень ценная, с резными фигурными украшениями: первобытная женщина наматывала нить на протянутые руки первобытного мужчины в шлеме. Зачатки матриархата на заре времен. Лет десять назад Британский музей предлагал мне за эту урну столько денег, что на них можно было бы откупить у Австрии весь Гальштат.
— Рудольф, ты не трогал случайно ту большую серую урну?
— Трогал.
— Куда же ты ее дел? В комнате ее что-то не видно.
— Я посадил в ней желтофиоль для Мари.
— Какой еще, к черту, Мари?
— Да дворниковой дочки. Очень уж ей хотелось желтофиоли, вот я и купил на рынке рассаду. А цветочные горшки страсть какие дорогие; величиною всего-то с мой кулак, а просят за него шестьдесят крон. Вот я и подумал, что этот старый горшок будет в самый раз, нужно только провертеть дырочку в дне. Я подумал, барину она так и так теперь ни к чему, мы ведь, слышно, завязываем с этим ремеслом и будем истории сочинять.
Вот пожалуйста, вторая жертва романтики! А ведь я все еще не брался за этот проклятый роман!
Разумеется, я ничего не сказал Рудольфу: не затевать же, в самом деле, ссору с собственным лакеем! Я велел ему, раз уж так вышло, отнести Мари крышку от урны, для комплекта.
— Фактически! — ответил Рудольф на изощренном солдатском наречии. — Отличная выйдет поилка для цыплят.
У Диодора Сицилийского во «Фрагментах»[41] есть размышление о том, кто ближе к истине: греки, для которых Случай — божество мужского пола, или римляне с их богиней Фортуной. Не будучи достаточно компетентен в теологии, судить не берусь. Одно могу сказать: мне помог Счастливый Случай в сутане.
В конце концов я дошел до того, что попытался выудить тему из газет. Я выписал на месяц с десяток пештских изданий — на любой вкус. Из них я почерпнул, что в Венгрии нет ни одного порядочного человека; одни считали последним порядочным человеком Иштвана Тису[42], другие — Дезе Иштоци[43], но все сходились на том, что после них не осталось никого, кроме мошенников, жуликов, лоботрясов, поджигателей и прочих потенциальных висельников. Когда же мне хотелось поверить, что и в этой стране попадаются приличные люди, я шел в клуб и покупал «Берлинер тагеблатт»: нельзя сказать, чтобы там нас особенно расхваливали, но, во всяком случае, не поливали грязью с таким усердием, как наши собственные газеты.
Как-то вечером сидел я в клубе в укромном уголке и зевал над немецкой газетой. Тут в клуб вошла компания священников-законоучителей. Мы обменялись приветствиями. Я был знаком со всеми, кроме одного, пожилого, широкоплечего и краснолицего в сутане. Попы расселись неподалеку от меня и начали веселиться на свой поповский манер. Поп в сутане взял слово, речь его сопровождалась дружным хохотом. Наверняка деревенский поп, — подумал я, — и наверняка рассказывает пештские анекдоты. По моим многолетним наблюдениям, деревенские попы всегда знают самые свежие пештские анекдоты.
Я допил кофе, закурил свежую сигару и подозвал официанта. В этот самый момент до слуха моего донеслись слова деревенского попа:
— Это я слыхал еще от Турбока, царство ему небесное.
То была настоящая молния в ночи; в последний раз я сталкивался с таким явлением в гимназическом возрасте, да и то на страницах романов Йошики[44]. Тема найдена, роман готов! Благослови господь этого славного попа, произнесшего имя Турбока именно сейчас, а не пятью минутами позже, когда я, по всей вероятности, уже лежал бы в постели, спасаясь от мучительных романных проблем чтением последнего номера «Ревю археологик». Разумеется, теперь об уходе не могло быть и речи, и я заказал еще один кофе. Я чувствовал, что меня посетило наконец вдохновение, и понимал, что его ни в коем случае нельзя упустить.
Упомянутый Турбок был довольно известным пештским художником, мастером жанровой живописи. Мы даже встречались с ним пару раз. Однажды он поехал на этюды, стал кочевать с палаткой из деревни в деревню в поисках натуры. Так и кочевал, пока не застрял в одной из деревень. Он влюбился в собственную натурщицу, какую-то крестьянскую мадонну, и не смог расстаться с нею, даже когда она вышла замуж. Более того, он окончательно переселился туда, потратив все заработанные деньги на участок земли, и собирался построить виллу. Поговаривали, что он хочет забрать свою мадонну у мужа в обмен на землю, но кончилось все тем, что художника нашли повешенным в зарослях ивняка; ни кошелька, ни золотых часов при нем не оказалось. Слухов ходило великое множество; говорили и о самоубийстве, и о беглых солдатах, которых видали в этих краях, а мужа натурщицы и вовсе арестовали. Допрашивали его довольно долго, но доказать ничего не смогли, а потому пришлось его отпустить.
Всеми фибрами души я чувствовал, что это — тема неограниченных возможностей, вроде Америки — страны неограниченных возможностей, как нас учили в детстве. («Страна неограниченных возможностей», — говорил господин учитель Грайна. Бедняжка, из него и там не вышло бы хорошего учителя географии: он очень плохо видел и, рассказывая про Китай, обычно попадал указкой в Венгрию.) В этой теме заключено все, чего только может пожелать современный романист. На переднем плане — город с его псевдокультурой. В центре повествования — гениальный художник, который не в силах противостоять низменному инстинкту любви. Темный фон — отсталая деревня, бескультурье, озлобленные крестьяне. Человек я вообще-то сдержанный, но в эту минуту был готов расцеловать самого себя. Такой радости я, пожалуй, не испытывал даже тогда, когда решил, что мне удалось расшифровать надпись на золотом кувшине из надьсентмиклошских сокровищ Аттилы. Теперь нужно без промедления браться за работу. Первоочередная задача, разумеется, сбор материала. Хорошо было Александру Дюма, он умел высасывать сюжеты из пальца. В те времена стоило только закурить чубук, и история начинала виться сама собой, вместе со струйкой дыма. С другой стороны, таким образом дальше «Монте-Кристо» не уедешь. Йокаи вот тоже изобразил в «Золотом человеке» балатонский ледоход лет за десять до того, как впервые увидел Балатон. Разумеется, все это ребячество и нелепость. Мы, прошедшие школу Флобера и Золя, знаем, что, не изучив предмета, нельзя написать ни единой строчки. Ныне существует не только экспериментальная физика, но и экспериментальный роман. Если бы мне захотелось описать ледоход, я отправился бы на Балатон, прихватив с собой метеорологические приборы и логарифмическую линейку.
Вешаться, как Турбок, я, разумеется, не собирался, а вот так называемые «показания очевидцев» собрать можно. Можно поехать в деревню, порасспросить тех, кто был в курсе событий; быть может, удастся поговорить кое с кем из прямых участников истории, само собой разумеется, так, чтобы никто не догадался, что меня туда привело; в противном случае нотариус вышлет меня домой по этапу. Как бы все это устроить? Губернатор или бургомистр вряд ли тут чем-нибудь помогут. Знаю! Мне поможет первобытный человек, несостоявшийся в качестве героя романа! Ему не придется ни действовать, ни разговаривать, он должен будет всего лишь лежать тихо-спокойно в своей тысячелетней могиле, пока я его не найду.
Короче говоря, у меня возникла мысль отправиться в деревню в качестве археолога. Я не был там ни разу, не знал ни одного человека, хоть деревня эта и находилась от нас в двух шагах. Правда, один из этих шагов приходилось делать на лошадях, а другой — на пароме, так что осенью, во время распутицы, проще было добраться до Вены, чем туда. Но сейчас осенней слякоти нет и в помине, потому что стоит июнь, лето только начинается, а это — самое подходящее время для поисков могилы нашего прародителя Арпада[45]. Эти поиски и послужат мне предлогом, а там, кто знает, может, я и вправду ее найду. Ибо, на мой взгляд, в обудайской версии нету ни слова правды. Всадникам не с руки было хоронить кого-то в горах, все это выдумали будайские швабы, чтобы их земли вскапывали за государственный счет.
Ну, а если я не найду могилы Арпада, то уж скрытые пружины дела Турбока обнаружу непременно. По собственному опыту знаю: там, где раскопки, там — вся деревня, потому что всякому интересно знать, что делается под землей. Пару дней народ, как правило, относится к тебе с подозрением, опасаясь, что городские господа хотят вывезти из деревни клад, зато потом подозрение сменяется искренней симпатией, в особенности тогда, когда становится ясно, что человек ничего не нашел, а, наоборот, потерял кучу денег в виде зарплаты батракам, нанятым для раскопок. Тут все единодушно признают его дурачком и решают избрать депутатом.
Как будто бы все в порядке, остается только выяснить, действительно ли этот поп оттуда, откуда я думаю. Официант успокоил меня, так, мол, оно и есть, он знал его еще темешварским капелланом, очень приятный человек, а после полуночи капли в рог не возьмет.
К счастью, до вечерни было еще далеко. Господа священники стали собираться по домам, но я услышал, что мой поп задерживается, поскольку заказал извозчика только к одиннадцати.
Я не имею привычки напрашиваться на знакомство, причиной тому не высокомерие, а застенчивость. Однако необходимость прибавила мне отваги, я подошел к честной компании и представился деревенскому священнику как член клубного правления. «Ежели вам угодно остаться, то я, с вашего позволения, пересяду за ваш столик, чтобы было веселее».
— А я, господин учитель, поп в квадрате, — гость поклонился мне, приветливо улыбаясь.
Лицо у него было умное и красивое, чеканный профиль напоминал бронзовые монеты императора Марка Аврелия. Ни в голосе его, ни в манерах не было никакого особого святошества. Он вполне сошел бы за аббата, вот разве что нос придавал ему некоторый венгерский колорит. И вообще — он производил впечатление очень симпатичного человека, но никак не попа в квадрате, в отличие от иных пузатых деревенских священников, особенно когда на них сутана.
Надо полагать, он заметил мое недоумение, потому что поспешил объясниться:
— Я потому поп в квадрате, что фамилия моя — тоже Поп: Фидель Поп.
Я боялся, как бы господа законоучители не заговорили о романе, но, к счастью, они очень скоро откланялись с извинениями: им предстоял трудный день, начинались экзамены на аттестат зрелости, а директор Хонигбон запросто может учинить какую-нибудь неприятность. Когда он трезв, тогда все в порядке — он задает только один вопрос: что пили древние римляне? А вот в подпитии становится совершенно непредсказуем. Есть опасение, что завтра будет именно так, потому что сегодня он присутствует на партийном ужине и уж наверняка выпьет там не меньше, чем древние римляне.
Когда мы остались вдвоем, патер Фидель велел принести еще один бокал, наполнил его и чокнулся со мной:
— Ваше здоровье, дорогой господин учитель!
— Ваше здоровье, сударь, — ответил я, — но я не учитель.
— Не-е-ет? — поп удивился и задумался на минуту. — Ну так твое здоровье, привет.
— Будь здоров.
— Что-то есть в тебе учительское. — Он поставил опорожненный бокал на столик. — Может, ты раньше преподавал?
— Я собирался стать учителем.
— Ах, вот оно что, знаешь, учительство ведь накладывает неизгладимый отпечаток, вроде как церковный сан.
Я поведал ему о своем благородном ремесле (разумеется, умолчав при этом о литературе). Инициативу проявлять не пришлось, поп спросил сам:
— А к нам чего не заглянешь? У нас ведь тоже можно предков поискать.
— Времени все не хватает, — я старался говорить как можно равнодушнее, чувствуя при этом, что лицо у меня горит все сильнее. (Я не умею врать, не краснея; очевидно, это наследие филологического периода моей жизни.) — Собственно, вопрос в том, есть ли у вас курганы?
— Более чем достаточно. Прямо на въезде в деревню — Семь холмов, в каждом можно найти по вождю. Что не помешало бы нашей бедной стране, а то у нее вождей нехватка.
Лучшего нельзя было пожелать. Мне бы хватило и Арпада, ну а семь вождей — совсем хорошо.
Мы условились обо всем в пять минут. На той неделе поп пришлет за мною бричку, а до тех пор я должен привести в норму желудок, потому что это для деревенской жизни необходимо, а все остальное — не моя забота.
— А жизнь свою застраховать стоит? — коварно пошутил я на прощание.
— Зачем? Хочешь, чтобы тебя захоронили в качестве восьмого вождя?
— Помнится, у вас горожан не особенно жалуют, Не у вас ли нашли повешенным некоего художника по имени Турбок?
— Ах, дело Турбока! Как же, у нас, скоро семь лет тому. Чепуха. Если у человека здоровый желудок, если он умеет пить, переносит табачный дым и знает толк в фербли[46], тогда он может ничего не бояться: таких у нас очень даже уважают.
— Боюсь, что мне не хватит квалификации. Что до курения — тут я корифей. А вот желудком маюсь постоянно, о картах же знаю лишь одно: что изобрел их метр Жакман Гренгоннёр[47] для увеселения французского короля Карла Безумного, впрочем, кажется, новейшие исследования это опровергли; что же касается выпивки, то я по сей день смыслю в этом ровно столько, сколько Ной до того, как изведал силу вина[48].
— У нас всему научишься, дружок. Этому научиться нетрудно, куда проще, чем копать. Поверь мне, бедняга Турбок был бы жив до сих пор, если бы учился пить, а не пахать.
— Скажи, — поинтересовался я на прощание, — а как он, собственно говоря, к вам попал, этот Турбок?
— У нас в церкви есть старая картина — Святой Рох; люди говорят: Рох Безголовый. Голова у него в свое время, конечно, была, но картину столетиями коптили свечи, и вот какой-то из моих предшественников решил помочь делу скребком и соскреб бедняге голову вместе с копотью — так вот и получился Рох Безголовый. Мне всегда было стыдно читать под ним литанию, но приход у меня бедный, тут мудрено что-нибудь обновить. Святой Иосиф был в таком же состоянии, но того подправили: среди прихожан много Йожефов, они накопили денег. А Рох давно уж не в моде, не упомню, окрестил ли я за последние тридцать лет хотя бы трех Рохов, значит, на пожертвования рассчитывать не приходится. И вот однажды является ко мне старый крестьянин по прозванию Рох Доминус Черный и предлагает пятьсот крон, чтобы привести картину в порядок. Старика как-то застукали на воровстве и посадили на шесть месяцев, тогда он дал обет: если добрый боженька приведет ему вернуться домой, он установит новую купель. Но купель обошлась бы ему в тысячу крон, а поскольку из шести месяцев он отсидел всего три, то сторговался с добрым боженькой на голове Святого Роха. Турбок в это время как раз писал портрет канижского барона, я навестил его, мы сговорились — так он и попал к нам.
Мы пожали друг другу руки на прощание, но, сворачивая за угол, поп окликнул меня:
— Мартон, милый, ты у меня будешь как сыр в масле кататься, но сигарами тебе не мешает запастись дома, нашу сигару джентльмен в рот не возьмет. Обдираловка, да и только, что для горла, что для кармана.
Ага, — подумал я, — выходит, деревенские попы знают не только самые новые, но и самые старые анекдоты. Эту шутку, насчет обдираловки, я слышал от своего отца еще сопливым мальчишкой. В те времена можно было купить сотню кубинских сигар за те же деньги, которых сегодня едва достанет на одну штуку, да и ту выдают по карточкам, и любой окурок той, прежней, казался вкуснее, чем нынешняя гаванна. Легкие, что ли, были лучше?
Я взял чистый блокнот и написал на нем: «Т. I». Сюда будем заносить все факты и свидетельства, касающиеся самого Турбока. Для начала я пометил следующее: «Не снисходил до деревенской интеллигенции». Блокнот с пометой «Т. II» я посвятил картине нравов. «Народ в деревне жадный и вороватый. Надуют хоть господа бога. Поп. Мыслит материалистически, немного циничен».
Бричка прибыла за мной в полдень, но выехать мы смогли только вечером. У меня оставалась куча недоделанных дел, и я сказал вознице, чтобы он не терял из-за меня полдня и поворачивал обратно, а я найму городскую повозку. Возница был старый венгр, коренастый, с сивой гривой и пышными усами; одет он был по-летнему: босой, в синем фартуке, в руках веревочная плеть. Когда я предложил ему повернуть обратно, он взглянул на меня очень строго.
— А вот энто никак нельзя, — ответил он, тыча рукояткой плети в большой палец ноги. — Господин поп наказали мне без вас не вертаться.
— Так вы господина священника возница? — я окинул взглядом непрезентабельную бричку.
— С чего это вы, сударь, однако, взяли, — в голосе его послышалась обида, — я сам себе возница. Поп у нас бедный, откуда у него лошадь. Я его завсегда подвожу, коли надо. Коли стрясется у нас что-нибудь едакое, что без попа не обойтись, преставление, к примеру, тут и мне перепадает.
(Вот вам, пожалуйста, взаимная помощь, как фактор эволюции — мне вспомнилась книга князя Кропоткина[49], которую я вот уже третий год вижу на столе у генерального прокурора уезда, а также главного санитарного врача. В деревне не хватает Рохов, зато в городе переизбыток Кропоткиных. И прокурор и врач выиграли Кропоткина в лотерею, устроенную пожарниками, и оба говорят, что автор — ужасный анархист. Мне по этому поводу сказать нечего: я не имел возможности даже пролистать эту книгу, так как ни в одном из экземпляров не были разрезаны листы.)
Я направил старика в корчму, возле которой разрешалось ставить повозки, вручив ему записку и растолковав, что по этой бумажке ему дадут выпить-закусить, но питьем и закуской следует распорядиться так, чтобы подать бричку к дому не позже, чем зазвонят к вечерне.
— Если я правильно фиксирую, мы отправляем стопы в деревню? — Мой лакей извлекает на свет божий ящик с инструментами для раскопок, а заодно и изящную речь, предназначенную для охмурения крестьян. Здесь, в городе, беседуя со мной, Рудольф говорил по-венгерски не хуже Альберта Аппони[50], потому что у него и в мыслях не было говорить красиво. Но, сопровождая меня в деревню или в пушту, он желал импонировать местным жителям (несмысленным хамам, как он их называл), а потому старался говорить так же, как господа депутаты, чему обучался, читая парламентскую колонку «Фриш уйшаг»[51]. В такие моменты он называл норовистую лошадь нравственной, бабочку называл мотылем и сообщал батракам, что я являю собой колодезь идейного таланта. Я пытался отучить его от этих глупостей, но, будучи во всем остальном юношей вполне разумным, в этом он ни за что не хотел уступить. Он говорил, что выучился такому разговору в солдатах, будучи атутантом фактического принца. По-видимому, это должно было означать, что он состоял в денщиках у настоящего герцога. Естественно, на фоне такого важного господина мой «идейный талант» существенно бледнел.
Я уже говорил, что, на мое счастье, приступы красноречия случались с Рудольфом исключительно в деревне. Вот и сейчас, стоило мне сказать, что он фиксирует неправильно, потому что еду я один, в гости, а он остается следить за домом, юноша тут же убрал свой ископаемый стиль куда подальше.
— То-то Мари обрадуется, — сказал он. — Бедняжка с утра сама не своя: куда-то подевалась ее любимая собачонка. Теперь у меня будет время поискать.
Я живо представил себе любимую дворникову собачонку. Это была маленькая, уродливая, заплывшая жиром моська.
— Тебе что, в самом деле нравится эта собачонка, Рудольф?
— Чтоб ее черти взяли, коли она им нравится. — Рудольф в раздражении переложил мою лопатку с места на место. — Если господу богу будет угодно, чтоб мы с Мари поженились, первым делом швырну эту мерзкую тварь в Тису. Просто Мари пообещала, что пойдет за меня, коли собачка ее найдется.
Вот каким вероломным может сделать человека любовь! Это наблюдение я внес в блокнот с пометой «Т. III». Он предназначался для рассуждений общего порядка, которыми будет расшита ткань моего романа. Пусть это и не самое важное, а все-таки хорошо, когда в книге есть пара-тройка мыслей, которые можно процитировать за дружеским столом. Такие вещи очень способствуют росту популярности.
Сборы были долгими: и для раскопок необходимо основательное снаряжение, и для литературного творчества — не меньшее! Проще всего было собраться мне самому: достаточно было взять с собой поношенный костюм и старомодный галстук с застежкой-крючком. Галстук-самовяз я обычно завязываю на руке, а потом, когда дело сделано, натягиваю через голову на шею. Дома этого никто не видит, но в другом месте меня могут высмеять, поэтому в дорогу я всегда беру с собой галстук на крючке. Карта, компас, рулетка и миллиметровка нужны, чтобы начертить план курганов; скребок и метелочка из перьев — для скелетов, которые я люблю обрабатывать собственными руками; шпагат и проволока для скрепления черепков одного предмета; деревянные ящики для крупных вещей, бумажные пакеты — для мелких; небольшое сито для просеивания золы, в которой можно обнаружить прелюбопытные предметы; разумеется, ни в коем случае не забыть лупу и фотографический аппарат. Потом — сахар, чтобы завести дружбу с детишками. Кроме того, хорошо иметь под рукой пару чистых блокнотов, хотя класть их совершенно некуда, потому что тома «Этнографии» занимают очень много места. Надо будет проверить, так ли ведут себя крестьяне, как описывают ученые-этнографы: я не хотел бы схлопотать от критики за верхоглядство. Неплохо было бы найти местечко для Диалектологического словаря, но тут Рудольф оказался бессилен. Ладно, придется доставить следом, он мне непременно понадобится. Я вырос в народной среде, но диалекты уже изрядно позабыл, придется немного подучиться.
Блокноты с пометой «Т», числом около десяти, пришлось рассовать по карманам. Основное затруднение представляли деньги для платы поденщикам. Если взять с собой крупные купюры, тамошние венгры сочтут меня либо евреем, либо мелким хозяином, маскирующимся под настоящего барина. Кроме того, могут возникнуть сложности с разменом. В конце концов я отправил Рудольфа в банк с двумя купюрами по десять тысяч и небольшим рюкзаком, который на обратном пути оказался доверху набит мелочью по пятьдесят и сто крон. Теперь мои поденщики отнесутся ко мне с доверием, так как сразу увидят, что я самый настоящий бедный барин из города.
К восьми мы были готовы, тут как раз зазвонил колокол, и бричка, скрипя, остановилась у крыльца. По-видимому, корчма пришлась пышноусому вознице по вкусу: когда он спросил, сяду я рядом с ним или сзади, язык у него слегка заплетался.
— Рядом с вами, дядя, — я вскочил на деревянные козлы, — хоть расскажете мне, что видали хорошего в этом свинском городе.
Рудольф затолкал ящик в задний угол брички и пожелал мне «спокойной ночи и полезных изучений» — последнее предназначалось для усатого: пусть знает, что везет не какого-нибудь никчемного человечишку, — после чего мы тронулись в путь.
Мы миновали уже три перекрестка, когда мой возница наконец заговорил:
— Славное винцо, однако, у этой Аго Чани. Захаживаете туда?
— Да нет.
— Не-ет? Я потоку спрашиваю, что господа там тоже попадаются. Зентайский мастер вот был, зонты делает, слыхали небось. Не сам только, а сын его, потому что тот, слыхать, еще зимой сыграл в ящик. Жалко, обстоятельный был человек. Такую латку мне на зонт поставил, небось дольше зонта проживет. Слыхали про такого?
— Да нет, дядюшка. Уж лет двадцать, как я не видал ни одного зонтичных дел мастера.
— Что ж, бывает. Я вот тоже всего раз в жизни видал панораму[52], язви ее, у меня тогда кошель из кармана стянули, так с тех пор и не отыскался. А позвольте спросить, сударь, вы-то сами кто такой будете?
Как мне ему отвечать? Сказать, что я археолог, нельзя: он, пожалуй, решит, что я ругаюсь, да и сгонит с повозки. Сказать, что романист, тоже нельзя — во-первых, он и этого не поймет, а во-вторых, это тайна. А что, если назваться художником? Вдруг да расскажет мне что-нибудь стоящее о деле Турбока.
— Ремесло у меня самое обычное. Я художник.
— Художник? Ну, дай вам бог здоровья, сударь. Что ж тут сделаешь, кому-то ведь надо и художником, так-то. А то что бы получилося, кабы все делали одно и то же? Прав я али нет?
— Очень даже правы.
— Ну то-то. А скажите, нечто художеством можно прожить? Вы-то, как я погляжу, одеты исправно.
— Да так, перебиваемся.
Давно я не произносил этого бедняцкого слова. Услышь я его случайно, оно, вполне возможно, резануло бы мне ухо. Но здесь оно пришлось как нельзя кстати: мой попутчик тут же признал меня своим и по-свойски осведомился, не найдется ли у меня спичек.
— Как не быть. И спички есть, и сигара найдется. Прошу.
— Сигары не надоть. Разве только какая особенная?
Мы закурили и немного помолчали, потом старик заговорил снова:
— В деревне у нас тоже художник есть. Вернее сказать, был.
Ну вот мы, слава богу, и напали на след.
— Ее прозвали Мари Малярша, хоть на самом деле звать ее Мари Визханё, а по мужнину имени — Тот, Андраша Тота Богомольца жена. Так ее, когда молодая была, ажно в самый город возили рисовать. А в поповском доме она так переднюю стенку разрисовала — сам епископ подивился. А как заболела, невмоготу стало по лестницам лазать — тут и пришлось бросить. И стала она теперича такая церковная крыса, вроде как те старухи, которым господь детишек не дал, хоть ее-то время еще и не вышло.
В общем, получил я совсем не то, чего ожидал, и все же увлеченно слушал старика, чей голос скрипел немилосердно, хотя всю вторую половину дня он только и делал, что промачивал горло. (От этого его одолела икота, которую он умело использовал в качестве знаков препинания; запятые обозначались сопрано, точки — глубоким басом.)
Но для меня его речь все равно звучала музыкой, хотя каждое третье слово я понимал с трудом.
Предо мною вставал призрак моего детства, в городе он не мог ко мне подступиться: не знал дороги, бедняжка. Там звенели трамваи, пищали автомобильные шины, гудели фабричные гудки. Большие каменные дома преграждали ему дорогу, он то и дело поскальзывался на натертом паркете, официанты отдавливали ему ноги. Но вот мы уехали из города, и путь ко мне оказался открыт. Здесь нет ничего, кроме собачьего лая, кваканья лягушек и родного запаха земли. Какое-то время я еще пытался вспомнить, как звать ту бациллу, благодаря которой земля источает запах, но в голову мне лезла только какая-то «одорифера». А что за «одорифера», я забыл и постепенно забывал, куда и зачем еду. Призрак моего детства вспрыгнул на козлы и уселся ко мне на колени. К тому времени, когда мы свернули на плотину, господина Мартона Варги, известного археолога и будущего романиста, уже не было и в помине. Остался Марцика, который удрал с урока физкультуры и теперь шел домой, на хутор, а на хуторе как раз сегодня началась жатва. Пока он доберется до дому, жнецы уже усядутся вокруг миски под большим орехом, отец уйдет с газетой на пасеку, а мать возьмет в руки перепеленка, пойманного жнецами, и станет поить его изо рта. Да вот только хутор еще далеко, а солнце уже клонится к закату, ох как хорошо, что Палко Жирош догнал его и посадил в свою двуколку, запряженную ослом. Конечно же, в ней он и сидит, в этой памятной с детства двуколке, и козлы покрыты той самой ветхой солдатской шинелью, которую дядюшка Палко выслужил в Падуе. Видеть я ее не вижу, потому что уже темно, но зато чувствую под собой медную пуговицу, овальную, как буханка, из тех, что уже тогда попадались только на отслуживших солдатских шинелях. А сидеть на этой медной буханке с годами удобнее не стало.
Фонари на мосту еще освещают нам путь. Длинные, острые тени тополей падают в реку, словно гигантские пальцы неизвестного сеятеля, что разбрасывает золотые звезды в черные борозды воды. Вниз по реке тихо плывет баржа с зерном. Ее похожий на гроб силуэт растворяется в темноте, только зеленый фонарь продолжает светиться, словно огромный светляк, летающий над водою. Как-то раз мы стояли на берегу вдвоем с прекрасной женщиной и смотрели на такую баржу до самой зари. Горел зеленый фонарь, и блестели зеленые глаза женщины, что стояла рядом со мною. Она озябла и протянула мне руки, ладонями вверх, чтобы я поселил в это гнездышко свои поцелуи, а они бы потом вылетели из гнезда и порхали вокруг нее даже после расставания со мною. Это было родство душ — единственный случай в моей жизни. Где она теперь, эта женщина? Помнит ли обо мне? Кто-то из немцев сказал, что воспоминания — водоросли, растущие на слезах. Мне же остался на память лишь ревматизм, который я приобрел той волшебной ночью при свете зеленого фонаря. Впрочем, последний тоже неравнодушен к влаге: он всегда оживляется от сырости, что твоя иерихонская роза.
Вот и теперь правая рука заныла, стоило ей почувствовать водяные испарения. Это пришлось весьма кстати, потому что господин Пал Эркень, лирик, уже готов был снова заявить о себе. Диву даешься, до какой степени может оглупить человека кваканье лягушек при лунном свете. Кстати, у какого вида лягушек сейчас брачный период? Рана эскулента или Бомбинатор игнеус? Вот это другое дело, дружище, держи себя в руках, отныне твоя цель — не сонет, а роман.
Попутчик мой тем временем задремал у меня на плече. Я попытался высвободиться — он всхрапнул и встрепенулся.
— Знаете часовщика, что на пшеничном базаре, на углу?
— Знаю.
— У него в окне часы выставлены. Здоровые такие часы, какие на комод становят. Вроде как из золота, но вы не думайте, никакое оно не золото, куды там. Так у энтих часов маятника нету, а заместо маятника — качели. Сидит на них прынцесса из фурфора, а с ней страшный такой сарачин. Он, может, тоже из фурфора, только тогда это не белый фурфор, а черный. Как на них ни глянешь — знай себе качаются. Я завсегда слежу, коли в город еду, ан ни разу не видал, чтоб они не качалися. Во какая затейливая наука, верно? Уж не знаю, кто энто выдумал, но вот, должно быть, был человек! Мериканец, как пить дать, мериканец.
— Очень может быть, — согласился я, — мне бы, к примеру, ни за что такого не выдумать.
— То-то и оно, а ведь вы человек из себя ученый, и друг ваш так сказывал. Ну тот, что багаж в телегу клал. Ну а сколько в луне фунтов-то, верно, знаете?
Он указал кнутовищем на полную луну, выплывшую на небосвод из-за поворота. Можно было подумать, что ее вырезали ножницами из золотой бумаги — настолько чисты были контуры.
— Понятия не имею. Ее покамест на фунты не мерили.
(Не рассказывать же ему о новейших вычислениях Пикеринга[53] из последнего номера «Глобуса». Кроме того, не прошло и недели, как Кристи[54] опроверг их в «Обсерватории». Мне всегда внушала уважение скорость, с которой астрономы опровергают друг дружку. Нам, археологам, требуется на это не меньше года. Разумеется, астрономы привыкли к быстрым темпам: как-никак они имеют дело со скоростью света.)
— А в ней-то ровно один фунт и есть. Кругленький вес, из четырех четвертушек. — Возница торжествующе подмигнул мне маленьким, как у ежа, глазом.
Потом он разом посерьезнел и добавил:
— Это, понятное дело, шуточки. Загадка такая. Кум Бибок вычитал в мериканской венгерской газете, а может статься, сам придумал, он у нас большой придумщик. Я своим крестьянским разумением так понимаю: луна — она дюже далёко, может статься, и не у нас вовсе, а где-нибудь в загранице. Но по божьему соизволению светит и нам заодно. А вона и часовня наша виднеется, как раз в той стороне, где луна.
Когда мы поравнялись с густым ивняком, конь наш внезапно вскинул голову и заржал, бричку сильно тряхнуло.
— Ты чего это, Бадар? — старик замахнулся кнутом. — Кой черт бесишься?
— Чего-то он, видно, испугался.
— А чего ему пугаться? Вот когда я был мальчишкой, тогда — другое дело, тогда призраки из воды вылазили да огненные люди. Потом они отседова убралися, с тех пор как господа водяные анжинеры понаставили здесь своих суружений. Таперича сюда токмо городские шлюхи таскаются, небось и сейчас господин помощник нотариуса с ними забавляется.
Из ивняка и в самом деле донесся непристойный женский визг. Вознице пришлось спешиться и вести разволновавшуюся лошадь под уздцы до самого парома: насыпь была высокая, а берег довольно крут.
— Чтоб тебе руки-ноги поотрывало, — пробормотал старик сердито.
Кому же, позвольте спросить? Лошади или господину нотариусу? Пожалуй, речь шла о господине нотариусе, потому что старик, шлепнувшись возле переправы обратно на сиденье, успокоил себя следующим образом:
— А и то сказать, правый он. Пока молодой, тебе и карты в руки. А поживешь с наше — кому будешь нужон? Может, я чего не так сказал?
— Все так, — улыбнулся я.
Старик явно счел меня своим ровесником. На вид ему было сильно за шестьдесят, он мне в отцы годился.
Тут мы въехали на паром, и старик немедленно вступил в беседу с паромщиками.
— А что, дядя Йошка, нынче и цыганята не мерзнут, — обратился он к одному из них, цыгану, отирая пот рукавом.
Воздух и в самом деле звенел от жары. Даже на воде было немногим легче.
— Да уж, нынче матушка-земля и та испеклась, — отвечал паромщик. — Упарился небось в городе-то, Андраш?
— Есть маленько, — сказал мой возница, которого, как выяснилось, звали Андрашем. — Не всем же такое везение, как дяде Йошке, чтоб целыми днями на воде холодиться.
— Тут, должно быть, славное купание? — ввернул я словечко. Не исключено, что от этого паромщика можно будет что-нибудь узнать: он наверняка не раз возил Турбока на своем пароме.
— Купаются.
— А вам доводилось?
— Ну а как же. Как свалюсь в Тису, так и купаюсь.
— Когда же вы последний раз купались, дядя Йошка? — поинтересовался мой приятель Андраш.
— Погодьте-ка, это сколько ж лет прошло с последнего потопа? Тогда-то я и вывалился из лодки последний разочек.
— С потопа? — Андраш погрузился в размышления. — Сколько ж лет тому? Должно, сорок три года, потому как я родился как раз три года спустя апосля того, как сюда наезжал Ференц Йошка[55].
Не ухватись я за канат, со мной стряслось бы то же самое, что с дядей Йошкой во время наводнения, памятного ему тем, что тогда он в последний раз искупался. Выходит, этому шестидесятилетнему Андрашу, который мне в отцы годится, столько же лет, сколько мне? Да, должно быть, этого человека жизнь здорово потрепала.
Я не успел выкурить и половины сигары, как мы уже въехали в деревню. Все вокруг было залито жидким серебром: и белые домишки, и церковь с покосившейся колокольней в обрамлении черных пастбищ. Кезди-Ковач[56] дорого дал бы за такой пейзаж, впрочем, я и сам был под впечатлением, хотя вообще-то не люблю картин с изображением лунной ночи: от них всегда веет мертвечиной. В действительности же ночью больше жизни, чем днем. Днем бодрствуют люди и животные. Ночью оживают деревья, тени, комья земли, крыши домов, телеграфные провода — словом, целый мир, более величественный и грандиозный, нежели мир одушевленных существ.
Представители дневного мира спали все как один, собаки — в том числе. Бричка наша проскрипела по всей деревне, потому что церковь вместе с домом священника находилась на другом ее конце, но при этом не залаяла ни одна собака.
— Мою бричку всякий знает, так чего им тявкать зазря! — пояснил Андраш.
Поп поджидал нас у калитки. Толстая, растрепанная служанка приняла мои пожитки. Было так светло, что можно было пересчитать веснушки у нее на лице, однако, несмотря на это, она светила мне фонарем. Таковы законы гостеприимства.
Я пожелал вознице спокойной ночи и поблагодарил его.
— Чего там, всегда пожалста. — Он слегка повернулся на козлах. — Как соберетесь обратно, повестите. Оно, конечно, бричка у меня тряская, да ить она токмо живому тряская. А вот как-то раз вез я удавленника, так тому тряско не было.
Лишь только бричка скрылась в облаке пыли, я спросил у попа, как звать этого пышноусого человека.
— Андраш Тот Богомолец.
— Какой же он, скажи на милость, богомолец, если всю дорогу костил почем зря все Святое семейство?
— Так ведь он богомольцев к святым местам водит, ему, дружище, без ругани не обойтись, иначе порядка не будет. Кстати, это его подозревали в убийстве Турбока.
Если бы семь вождей разом встали из Семи холмов и призвали меня к ответу за все, что произошло со страной, я не был бы потрясен сильнее. Подумать только: я сидел в бричке с одним из главных героев моего романа; этому усачу пристал бы терновый венец трагического героя, а его сильнее всего занимает, качается ли по ночам фарфоровая принцесса со своим сарацином!
— Ах, чтоб тебя! — всполошился вдруг патер. — Беда, дружище. Пиво-то мы в бричке забыли. Беги-ка, Юли, за дядюшкой Андрашем, пусть отдаст то пиво, что привез из города!
— Оставь, дружище, — я попытался удержать попа. — Заберем завтра.
— Ну это вряд ли — я Андраша знаю. Но если тебя устроит немного имбирной, тогда и я обойдусь нынче без пива.
За свою жизнь я перепробовал множество дурацких напитков — когда по необходимости, а когда из любопытства, — но ни один из них не шел ни в какое сравнение с имбирной палинкой. Ее рецепт придумали на родине гремучих змей, причем выбрали для изготовления сего эликсира змею не простую, а бешеную.
Разумеется, чтобы не обидеть радушного хозяина, мне пришлось похвалить этот напиток.
Мы устроились в большом сводчатом сарае, возле кастрюли с куриным паприкашем; керосиновая лампа коптила и освещала лишь небольшое пространство вокруг стола. Собственно, сервирован был только угол стола, остальная его часть была завалена книгами. На письменном столе, на канапе, на стульях, шкафах и подоконниках — всюду, насколько можно было разглядеть в полумраке, лежали книги. Причем ни одна из них не лежала как следует, все в полном беспорядке валились друг на друга. Должно быть, вдоволь нанюхались имбирной палинки.
— Много у тебя книг, — сказал я попу.
— Барахла много. В молодости я был большой любитель собирать книги, собрал черта и дьявола; понимаешь, я ведь рано уразумел, что епископа из меня так или иначе не выйдет, а чем-то ведь заняться надо.
— Много читаешь?
— Черта с два. Я, дружище, уж лет пять не читаю ничего, кроме «Тысячи и одной ночи»; могу показать, коли не веришь.
С этими словами он направился к кровати — только тут я заметил, что в углу стоит топчан, — и вытащил из-под него потрепанную книгу. По зеленому цвету коленкора я моментально узнал издание Поля Грева.
— Видишь, я держу ее здесь, чтоб всегда была под рукой. Вот и нынче ночью заснул над историей о трех горбунах. Эта книга не смущает, не то что какой-нибудь Бернард Шоу.
— Ага, — сказал я, — выходит, ты все-таки почитываешь еще кое-что кроме «Тысячи и одной ночи».
— В глаза не видел его книг, а знаю о нем от своей приемной дочки; она как что прочтет, сразу мне рассказывает. Ну, с приездом!
У меня хватило такта не расспрашивать о приемной поповне, и я поспешно утопил в вине следующую мысль: «Надо же, и здесь люди впадают в романтику!» Впрочем, чему тут удивляться: человек пять лет подряд пережевывает истории про Гаруна аль Рашида. Да, у меня у самого была «Тысяча и одна ночь», но мне она была нужна для дела: я изучал по ней древние пути торговли слоновой костью, эта проблема интересовала меня в связи с чибракскими раскопками скифских поселений. (Результаты опубликованы в «Археологическом вестнике», с кучей опечаток; вместо «бусы» всюду получилось «усы», лет сто спустя Будапештский Японский институт археологии непременно сделает на этом основании вывод о том, что все скифы были усаты, и женщины — в том числе.)
— Славное винцо, правда? — Поп с досадой хлопнул стаканом о жестяной поднос.
— Да, такое приятное, легкое, — заявил я из вежливости с видом знатока, потому что знал, что так принято, хотя, наверное, никогда в жизни не пойму, как вино может быть легким.
— То-то и оно, так его и разэтак. Ну да ладно, завтра добудем у нотариуса чего-нибудь получше. Есть у него. такое двухлетнее столовое, гладит горло, что твой бархат. Давай не будем больше травиться, пойдем лучше спать.
Он обнял меня за плечи и проводил в отведенную мне комнату; комнатенка была чистенькая, уютная, из распахнутого окна, выходившего на Тису, доносился сладкий запах мяты.
— Ах, как хорошо! — я вздохнул полной грудью с невольной аффектацией, без которой не обходится ни один горожанин; по-моему, первые часы, проведенные в деревне, способны пробудить поэта даже в школьном инспекторе.
— Да, это потому, что ветер с луга. — Поп плотно закрыл окно. — Но на рассвете он всегда меняет направление и приносит такой адский запах, что мухи дохнут: с той стороны у нас мыловарня.
Он потрепал меня по подбородку, встряхнул спичечный коробок, лежавший на тумбочке, проверяя, есть ли в нем спички, потом ласково улыбнулся и положил руку мне на плечо:
— Ложись поскорее, а то в деревне ночь разменивают рано.
Ага, — подумал я, — это надо будет записать в «Т. VI» как местный речевой оборот. Эти слова скажут Турбоку первой же ночью в деревне. Он помрачнеет и содрогнется, почувствовав здесь какой-то мрачный символ.
Записать я ничего не успел, потому что, едва добравшись до кровати, немедленно заснул и открыл глаза лишь тогда, когда забытая мною свеча зашипела, собираясь погаснуть. За окном уже занималась заря. Да, ночь здесь разменивают быстро, ничего не скажешь.
По будням в деревенской церкви бывает только «бормотная» месса. Ни органа, ни кантора, и хорошо еще, если кто-нибудь из прихожан зайдет помолиться, а то случается и так, что поп остается в храме один на один с господом богом. Первый находится там потому, что это — его прямая обязанность, второй — в силу своей вездесущности. Две-три древние старушонки с трясущимися головами, что притаскиваются сюда время от времени, в счет не идут. Эти церковные крысы — такая же неотъемлемая принадлежность церкви, как кисти — шелковой шали. Без них не обходится ни обедня, ни вечерня, ни крестины. Праведные души, они во время оно непременно будут восседать среди агнцев одесную Всевышнего и точно так же клевать носом, как в этой церквушке. Но это не беда: все хороши, когда спят, доказательством тому может послужить хотя бы то, что господь бог, согласно Библии, предпочитает беседовать со спящими.
Что же до господина священника, то он старается не переполошить прикорнувших праведниц возней около алтаря. (По крайней мере, не будут кашлять при чтении Евангелия.) Он старается двигаться как можно тише, для каковой цели и носит туфли на суконной подошве, боится, что лампада звякнет о дискос, и ворчит на карапуза-служку:
— Тише, Шати. Это тебе не колокол, а колокольчик, не тряси его так сильно!
И то правда, к чему звонить? В городе — другое дело, там господь бог далеко. Но здесь, в этом маленьком беленом домишке, он так близко, что кажется, будто слышно его дыхание. Не оно ли колышет кружевные покровы алтаря, синее пламя восковых свеч и бумажные цветы перед изображениями святых. Тишина такая, что слышно даже, как откалывает коленца на спинке скамьи жук-щелкун, совсем как жонглер Богоматери у Анатоля Франса[57].
Шати, который, кстати, разгуливает в одной рубашонке, опускает колокольчик; скуластая татарская мордочка выражает глубокую обиду. Была у него одна стоящая обязанность из всех прочих — так что же, теперь и этого нельзя?
Динь-дилинь, динь-динь-динь…
Поп сердито оборачивается. Старухи вскидывают склоненные головы и в недоумении взирают на алтарь. Что бы это могло быть? Ведь наш господин священник не то, что нынешние молодые капелланы, которые заканчивают службу, не успев как следует начать. На второе пришествие вроде не похоже. Жук — и тот застыл в ожидании. Шати ни за какие коврижки не согласился бы поднять глаза, но уголок рта у него невольно ползет вверх. Ребенок не меньше, чем любой дипломат, любит быть единственным, кто ориентируется в ситуации. (Правда, с дипломатами это случается реже.)
Динь… дилинь-динь-динь… динь!
Поп, вздохнув с облегчением, продолжает шептать молитву. Церковные крысы вновь погружаются в нирвану, слава тебе господи, никто не собирается урезывать их время. Просто-напросто двери распахнулись от ветра, а какой-то ягненок с колокольчиком на шее как раз решил пощипать травку, пробивающуюся между плитами церковного двора, должно быть, ягненок Беры Банкира приплелся сюда вслед за своим маленьким хозяином. Поп говорил мне, что служку-татарчонка звать Шати Бера Банкир.
— Неужели он уже может прислуживать? — спросил я попа еще в ризнице, перед службой.
— Он может ровно столько, сколько требуется от деревенского служки — носить служебник и звонить в колокольчик. Между прочим, весьма примечательное маленькое создание: все время молчит — слова не вытянешь, но знает обо всем, что делается в деревне, потому что целыми днями торчит на улице.
Мальчонка одним глазом смотрел на служебник, а другим косил на дверь. Когда господин поп подаст знак, служебник нужно будет перенести с одной стороны алтаря на другую. Но с ягненком ведь тоже надо что-то делать, чтобы не путался под ногами во время службы.
— Dominus vobiscum![58] — Поп Фидель повернулся лицом к пастве и сложил руки. Только тут я заметил, какие мозолистые у него ладони, видимо, от частой колки дров. Если он понадобится мне в качестве эпизодического персонажа, непременно наделю его гладкими, ухоженными, белыми руками. (Насколько мне известно, нежные руки — неотъемлемая принадлежность всех литературных персонажей духовного сословия, начиная с «Аббата Константина»[59].)
Свое «ite missa est»[60] поп произнес почти беззвучно, но получил громкий ответ.
«Бе-е-е, бе-е-е», — подбодрив самого себя, ягненок, покачиваясь на неверных ножках, вошел в дверь, но через пару шагов почтительно остановился. Он бессмысленно таращил невинные глаза, тыча влажной мордочкой в каменные плиты, потом недовольно помотал головой, явно не одобряя этого странного пастбища без травы, и наконец улегся, подогнув под себя ноги, и принялся слизывать выступившую на стене селитру.
Никому не было до него дела. Старухам и в голову не приходило его прогонять: это ведь был агнец Божий, дружок маленького Иисуса; Шати, которому все это вообще пришлось чрезвычайно по душе, с удовлетворением посасывал мизинец.
Поп осенил широким крестом все собрание: Шати, старушек, ягненка и жука. Перепало и мне — я принял благословение, сидя на последней скамье и с трудом подавляя зевоту. Да, что ни говори, ранние вставания — не для меня.
Тетушки протерли глаза и, уповая на грядущее спасение, одна за другой приложились губами к кресту («изготовлен в 1892 году Вероникой Мочар во имя спасения страждущих в чистилище»), с которого давно стерли краску покаянные и богобоязненные поцелуи запекшихся старческих губ. Шати убирал видавшую виды фелонь в ящик комода, я же тем временем разглядывал кадильницу, выполненную в раннем романском стиле, — место ей, безусловно, было в музее; будь приход чуточку побогаче, ее наверняка давно бы уже выбросили и заменили кадильницей из нейзильбера, — и тут в ризницу робко заглянула ладная, румяная молодайка, что называется, кровь с молоком. Одета она была красиво и опрятно: черная кофта, на голове — белый шелковый платок, на ногах — кожаные туфельки без всяких бантиков, какие пристало носить уважающей себя женщине. Ножки у нее были нежные и белые — им явно не доводилось увязать ни в дорожной грязи, ни в раскаленном песке на кукурузном поле. Красивые, стройные ножки, не знавшие колючей стерни. Она была очень недурна, со своими ямочками на щеках, хотя и несколько странновата. Глаз я не мог разглядеть, так как стояла она потупившись, но верхние веки казались тяжелыми, как у старых итальянских Мадонн; во время разговора она клонила голову набок и становилась немного похожа на кудахчущую наседку.
— Слава Иисусу. Ваше преподобие, поскорее берите святые дары да приходите к нам: Матяш Бера помирает.
— Кто? — опешил поп. — Бера Банкир? Да я разговаривал с ним всего час назад, когда заходил за Шати. Он сказал, что идет к вам прочищать колодец.
— Так оно все, голубок, и было, — женщина отерла большим пальцем уголки рта, — у нас-то беда и приключилась. Сомлел он в колодце, али что, насилу поняли, что кричит он, мол: «Тягайте меня обратно, люди!» А как поняли, так зараз и вытягали, глядь — а у него уж вся рубаха в крови и из носу кровь так и льет. Ни жив ни мертв был, бедняжка, а как в дом внесли, так он уж ручкой еле мог пошевелить, а язык и вовсе не ворочался. Тут я и надумала: приведу-ка по-быстрому попа, может, успеет соборовать. Я и куму звонарю сказывала, чтобы звонил по покойнику.
Тут в самом деле раздался надрывный колокольный звон — аккомпанемент предсмертным терзаниям. Поп поспешно натянул стихарь, а епитрахиль протянула ему женщина, видно было, что она здесь вполне своя.
Я не спускал с нее глаз, наблюдая, как она движется, как поводит плечами, как изгибает стан. Чтобы понять, кто она такая, не надо было быть сыщиком Лекоком[61]. До времени ставшая церковной крысой Мари Малярша собственной персоной, настоящее имя — Мари Визханё, жена Андраша Тота Богомольца. Ну, Мари, душа моя, ты прославилась в качестве натурщицы, но даже представить себе не можешь, какая слава ожидает тебя в качестве героини романа. Ты способна дать пищу для размышлений, не то что твой пышноусый старец! Во всяком случае, теперь мне известно, на чьей совести смерть художника!
Поп тем временем надел шляпу и в некоторой растерянности обернулся к Шати, который таращил глаза, стоя в дверях. Волнение его сказалось лишь в том, что теперь он сосал палец, громко причмокивая.
— А ты, малыш? С тобой-то мне что теперь делать?
Глаза у Шати заблестели, он вынул палец изо рта.
— А… а… а… колокольчик взять можно?
— Можно, сынок. — Поп отвернулся.
Мари Малярша отерла слезы уголком платка. (Тут я наконец увидел, какие у нее глаза. Они оказались черными, пресловутый «черный глаз», хотя с эстетической точки зрения такие глаза как раз наиболее безукоризненны.)
— Ах ты, бедный лягушонок!
Сперва я собирался пойти вместе с ними, но потом подумал, что лучше изучать Мари с глазу на глаз. Я сказал попу, что подожду его, а тем временем рассмотрю как следует церковь.
— Ладно. Я скоро вернусь. Знаешь, по правде говоря, я здесь вообще ни при чем, бедняга ведь был реформатом.
— Как же ты взял Шати в служки?
— Шати я крестил. До сегодняшнего утра я и сам не знал, что и отец его, и мать — реформаты. Они нездешние, лет десять назад перебрались сюда из Бекеша[62]. Других иноверцев в деревне не нашлось, ну и стали они ходить в нашу церковь, исповедовались, делали пожертвования вместе со всеми остальными. Пока муж был на войне, жена померла, и хоронил ее опять-таки я. Потом муж вернулся. Сегодня утром заглянул к ним и вижу: Бера мастерит что-то во дворе, он вообще был мастер на все руки. «Это что же будет, Матяш?» — спрашиваю, а он отвечает: это, мол, крест, жене на могилу, а то прежний, что божьей милостью поставили, поломал какой-то бездельник. Все бы ничего, но тут я замечаю, что крест-то и не крест вовсе, а надгробный памятник, как у реформатов положено. Ну да, говорит, родня-то моей бедняжки под такими почивает в Сарваше, пусть и у ней такой будет, вы уж не обессудьте, что он на другие непохожий. «Так вы что, реформаты, Матяш?» — «Не все ли равно, ваше преподобие, бог-то ведь на всех один, главное — был бы человек честный». Сам-то он был честным, это уж точно; все гордился, что исправился после того, как отсидел за подделку кредиток. Кстати, потому его Банкиром и прозвали.
С этими словами он взял святые дары, и милосердный господь отправился с последним визитом к своему рабу, которому больше не рисовать кредиток и не выстругивать надгробий. Правда, поп сказал Мари, чтоб она позвала еще и доктора, но та лишь пожала плечами, исполненная веры в божественное предопределение.
— Он и без доктора помрет, ваше преподобие.
Мальчик с ягненком шли впереди, причем Шатика непрерывно звонил в колокольчик с подобающей случаю торжественностью, но и не без некоторого веселья. За ними следовал поп, держа у груди святые дары, а замыкала процессию Мари, которая несла все, что необходимо для соборования. Время от времени она задерживалась то у одной, то у другой калитки, чтобы оповестить всех о печальном событии — живая газета с траурным объявлением.
Однако все время, что я наблюдал за ними, улица оставалась глухой и немой. Солнце стояло высоко, люди разошлись по своим делам: кто на реку, кто в поле, дети сидели в школе, из открытых окон которой доносились звонкие голоса — время от времени их покрывал сердитый старческий голос: «Ти-ши-на!» Лишь малыши в задранных рубашонках копошились в дорожной пыли, да квохтали в канаве куры. С другого конца деревни доносились ритмические удары кузнечного молота, постепенно они заглушили колокольный звон.
Ну что ж, осмотрим церковь, откуда начинается трагедия моего героя.
Церквушка эта, надо сказать, сама напоминает героиню романа, над которой писатель мудрил до тех пор, пока сам не перестал ее узнавать. Фундамент был заложен очень давно, похоже, здесь кропили святой водой остриженные чубы венгерских язычников. Потом целое тысячелетие ее латали то здесь, то там, пока не явились наконец деревенские мастера-каменщики и не перестроили ее до основания по самым что ни на есть архитектурным законам. Можно было оправиться после восстания Ваты[63], после турок, после татар, но после такого варварства — уже никак. Им пришлась не по нраву каменная резьба случайно сохранившегося романского карниза, и они понатыкали туда храмовых знамен. Готическое окно замуровали и взгромоздили в полученную нишу гипсовую статую какого-то короля-святого, размалеванную до неприличия, в башмаках со шнурками, зеленом доломане и рейтузах гонведа[64]; голову его величества венчала корона, похожая на здоровенное яблоко, а штык он держал так, словно отгонял назойливую муху.
Самое лучшее в наших деревенских церквах — нерукотворное: веселые солнечные лучи, проливающиеся золотом сквозь затянутые паутиной окна. Люди же как будто задались целью доказать, что основа веры — страх.
Четверо евангелистов на потолке напоминали четырех палачей в красном, зеленом, синем и желтом. На большом алтаре была изображена Святая Троица. Бог-отец в желтом, как у святого Иосифа, облачении выглядел так, словно в очередной раз пожалел о сотворении человека и подумывал о новом потопе. Бога-сына, облаченного в синее, как у Девы Марии, одеяние, «художник» не иначе как перепутал с левым разбойником. Над ними вился белый голубь, изображенный скорее всего при помощи карманного ножика. Рай являл собой такое скопище торсов без шеи, косых глаз и вывихнутых членов, что куда там футуристам и кубистам! Бог весть, как сильно нужно отчаяться, чтобы захотеть в такую обитель. После чудовищных святых некоторый отдых глазу давал дьявол, попираемый архангелом на одной из стенок кафедры. Святой Михаил колол врага рода человеческого шпагой, какие во времена Марии-Терезии[65] носили по субботам правоверные евреи; по-видимому, сатане очень нравилась щекотка, во всяком случае, он вовсю скалил зубы. При нем само собой была лопата — та самая, которой подсаживают в печь Вельзевула обреченные души.
Но к чему здесь прикасалась рука Турбока? Ведь искусства — ни на йоту. Я подошел к безголовому Святому Роху. Голова у него оказалась на месте, но таких размеров, что из нее свободно вышло бы две. Место ей было в панораме, на плечах Чингисхана, художник такого нарисовать не мог. А ведь картина явно совсем новая. Зачумленные и ягнята, замок на заднем плане и фигура святого пастыря, бывшего графа, рисунок, колорит — все обличало руку мастера. Но головы были чудовищны.
Нет, тут мне самому не разобраться. Мои познания в области истории искусств весьма поверхностны: я остановился на первой главе — изображениях мамонтов в альтамирских пещерах. Обо всем остальном я знаю ровно столько, сколько можно требовать от современного, относительно образованного человека. Натура обнаженная, но худая и масса разнообразных фруктов вокруг — это ренессанс. Еще обнаженнее, но гораздо толще — это скорее всего барокко, а если кто-нибудь изображен в шлеме — тогда уж точно. Если на картине раскачиваются на качелях, потеряв стыд и совесть, барышни в широкополых шляпах, а перед ними лежат на траве пастушки, в коротких панталонах, — это рококо. Немного, что и говорить; до сих пор мне хватало, но для романа о художнике необходимы знания куда более основательные. И психологией творчества следовало бы подзаняться. Времени, к сожалению, осталось мало, и все же надо будет написать Рудольфу, чтобы привез хотя бы работы Мутера и Тэна[66] по философии искусства. Стоп! Вот хорошо, что вспомнил! Есть такой знаменитый бельгийский роман, называется «Доменик»[67], герой там тоже художник. Постойте, кто же его написал? Фра… Фре… ага, Фромантен. Я читал его в студенческие годы, ужасно скучный роман, но зато оттуда можно было позаимствовать несколько прекрасных изречений для тронной речи, которую я произнес, вступая на пост председателя кружка самообразования. (Тогда-то профессор Кунц и напророчил мне писательскую будущность.) Эту книгу надо будет достать, авось она меня вдохновит. Надеюсь, Рудольф сможет добыть ее в библиотеке клуба. Уж ее-то наверняка не украли, в ней ведь нет никакого свинства.
Пока я записывал названия книг для Рудольфа, его преподобие вернулся. Взор его был подернут дымкой от встречи со смертью, нечто подобное можно увидеть в глазах больничного врача, страдающего болезнью желудка. (Особенно, если пациент скончался от того же недуга.)
— Ну что, кончено?
— Скончался, бедняга. Едва успел прочитать за мною «Отче наш» во отпущение грехов.
— Какие такие у него грехи? Реформатство?
— Какое там, — поп грустно улыбнулся. — Была у покойного еще одна тайна — вот уж этого никто и помыслить не мог. Годами водил за нос всю деревню.
Сердце у меня екнуло. Уж не дело ли Турбока? Я отошел в тень, чтобы скрыть свое волнение от попа.
— Вообще-то это тайна исповеди, но для такой тайны нет канона. Знаешь ли, что было на совести у несчастного Беры Банкира? А то, что Бера Банкир всем лгал. Бедняга, оказывается, подделал не кредитки, а удостоверение, за это и был арестован.
— Ничего не понимаю. Выходит, подделывать кредитки более почетно?
— Бог его знает, народу это почему-то внушает уважение. По их понятиям, здесь надо ловкость иметь и соображение — уж коли кто избрал такое ремесло, значит, человек не последний. Греха особого они тут тоже не видят: никого ведь не убудет с того, что кредиток станет больше, чем было, вот если б их стало меньше — тогда другое дело. Если человек на этом попадется, его только пожалеют. Не везет, значит, бедняге. Это дети, дружище, дети во всем — и в хорошем и в дурном, только так и можно к ним относиться.
Мне хотелось навести разговор на дело Турбока, и я сказал, указывая на местные шедевры изобразительного искусства:
— Такими ужасами только детей пугать. Не обижайся, но будь я министром культуры, непременно учинил бы в твоей церкви большой иконоклазм[68] и не оставил бы здесь ни единой картины, кроме вон того всевидящего ока на арке. Ты только взгляни: ведь каждому бы казалось, что Бог взирает прямо на него, не стой между ним и оком Божьим все эти ужасы времен Торкемады[69].
— Лихо, дружище, а ведь, говорят, здесь попадаются и настоящие сокровища. Большой алтарь, к примеру, расписывал какой-то чешский художник еще во времена Марии-Терезии. Его имя есть в hictoria domus[70], некто Пжибричка или что-то в этом роде, в общем, я помню, что похоже на «апчхи».
— Небось какой-нибудь странствующий школяр из словаков, впрочем, это неважно; коли работы хороши, надо отправить их в музей, а не пугать в церкви детей и беременных баб.
— И на это я тебе отвечу. Крестьянская эстетика гласит: «не то красиво, что красиво, а то красиво, что нравится». Возьми, к примеру, этого несчастного Турбока. Его Святой Рох только что из рамы не выходил. А местным жителям он пришелся не по вкусу. Это, дескать, просто человек, вроде нас. В общем, чуть до революции не дошло, спасибо, доктор сжалился и намалевал новые головы за один вечер. После этого я не разрешал Турбоку ни к чему прикасаться. Мадонну, писанную с Мари Малярши, я даже внести в церковь не рискнул, так на чердаке у меня и хранится, а то мои прихожане, пожалуй, вытолкали бы меня взашей. А ведь что за картина! Поглядишь на нее — словно ангельское пение услышишь.
Итак, кончик нити моего романа был у меня в руках. Прясть дальше будет не так уж трудно: художник мечет бисер перед свиньями.
При ближайшем рассмотрении выяснилось, что от Семи холмов остался один, так как остальные давно распаханы. Но и с этим, единственным холмом меня ожидала Масса хлопот: он принадлежал девяти хозяевам. На мое счастье, он не был засеян, ничего кроме чертополоха да цикория здесь не росло, так что придраться вроде было не к чему.
С восемью из девяти не было никаких хлопот. Все они отвечали звонарю, обходившему их по моей просьбе, что по ним, так хоть бы этого холма и вовсе не было. Зато девятый заявил, что землю свою корежить не даст.
Звали этого достопочтенного венгра Марта Цила Петух. Господь сотворил его Мартоном, но окрестили его Мартой в надежде на то, что женское имя избавит от службы в армии кайзера.
Поп передал Циле Петуху, что ждет его у себя. Последовал ответ, что это никак не возможно, потому как у него срочное дело — надо починить бочонок для выжимок. Это в июне-то, когда виноград только-только завязался!
— Я так и знал, что с ним будет мука, — рассмеялся поп, — делать нечего, придется нам самим навестить старого бесстыдника.
Старый бесстыдник, надо полагать, ожидал нашего визита, так как стоял у калитки. Не станет порядочный человек ни с того ни с сего торчать у калитки в одиннадцать часов утра, даже если его зовут Мартой. Во всяком случае не станет стоять поперек дороги, так что ни одной живой душе ни пройти, ни проехать.
Приветствия наши он принял благосклонно, как и предложенную мною сигару, а вот о раскопках и слышать не хотел.
— Не могу я энтакого дозволить, чтоб землю мою корежили.
— Как это «корежили», черт побери? — сердито поинтересовался поп. — Как вы это себе представляете?
— Так ить про энто мне как раз и неведомо. — С этими словами Марта поглубже натянул шляпу. (Широкополая шляпа — удобная штука: не поймешь, что у человека на уме.) — Почем я знаю, чего энтому барину у меня в земле занадобилось? Пущай барин мне сперва на энто ответит.
Я в двух словах поведал ему, что есть наука археология; школьный попечительский совет наверняка заплатил бы за такую лекцию в двойном размере. Марта Цила Петух тоже был вполне удовлетворен.
— Энто я понял. Таперича пущай барин мне расскажет, чего ему в моей земле занадобилось?
Я взглянул на попа в полном отчаянии. Пусть попробует образумить своего прихожанина. Кому же, как не ему, знать, где таится разум за этим непрошибаемым лбом?
— А что, ежели он найдет короля Аттилу! Это ведь и вам слава!
— Нам энто ни к чему, — Марта покачал головой. — Пущай барин поищет короля Аттилу у себя в землице.
— Прикурите-ка, отец, — я протянул ему горящую сигару, — глядишь — и поймем друг друга.
— Вот за энто спасибочки, — старик кивнул и пристроил свою, незажженную сигару за тесьму на шляпе, мою же, горящую, сунул в рот и принялся быстренько докуривать. — Я ить зла на барина не держу, да только меня и без того налогами обклали.
— Ну и что с того?
— А то с того, что возьмут да и спросят с меня налог за энтого самого короля Аттилу, коли он у меня в землице найдется. Пшли вон, чтоб вам пусто было!
Последнее относилось не к нам, а к двум чумазым поросятам, пытавшимся во что бы то ни стало потереться о Мартины ноги. Но означало это явно то же, что щелчок шпорами во время аудиенции у короля: нам предлагалось удалиться с богом.
— Послушай, — обратился ко мне Фидель, когда мы покинули достойного потомка гуннов, — тебе непременно нужно копать на его участке? Может, хватит остальных восьми полос?
— Все не так просто, дружище. Что, ежели само захоронение приведет нас к земле старика? Скажем, граница перережет пополам скелет. Не оставлять же голову Аттилы в земле!
— Тогда пошли к нотариусу. Уж он-то вправит старому обормоту мозги.
Нотариус оказался человеком большим и толстым. Мы застали его на веранде. Одет он был весьма символически, но все же задыхался от жары и без конца отирал лысину пестрым носовым платком.
— Прошу, господа, прошу, — закричал он, увидев нас, — я уж давненько вас поджидаю, господин председатель, дошел до меня слушок, что гостить у нас изволите, вот я и подумал, что буду иметь удовольствие.
До сего дня меня называли председателем один раз в жизни — когда делегация пчеловодческого общества вручила мне почетный диплом. Признаться, такое обращение довольно приятно. Чувствуешь себя как-то сильнее, значительнее, увереннее. Никогда бы не подумал, что сюда может дойти слух о моих скромных отличиях.
— Присаживайтесь, господа, — нотариус подвинул нам два плетеных кресла. — Осторожно, господин председатель, не порвите брюки, там гвоздь торчит. У нас, у бедных вдовцов, вечно в доме что-нибудь не так. Фидель, милый, там, внизу в буфете, в той коньячной бутылке, где прошлым летом был «котнарь».
Последние слова были обращены к попу, который направился в контору, явно чувствуя себя здесь как дома. Угадать, что он ищет, было нетрудно. Надо полагать, он был здесь частым гостем: стоило ему войти — запела канарейка.
«И здесь романтика! — улыбнулся я про себя. — Попа еще можно понять, но для деревенского нотариуса, к тому же вдовца, канарейки — странное увлечение».
Однако романтика канарейками не ограничивалась. На столе в расписном мезётурском кувшине красовался огромный букет полевых цветов. Причем не тех, что продаются на городских базарах и всегда напоминают мне медведей-попрошаек из зоологического сада. Это были настоящие цветы-дикари, которых горожанин не знает даже понаслышке. Растрепанные алые черноголовники, лиловый вербишник, крупные белые вьюнки, желтые, как сера, звездочки ослинника — все это в обрамлении пронзительно-зеленых листьев курослепа. Тот, кто собирал этот букет, не боялся забредать в воду по колено.
— Цветы собирал не я, а моя приемная дочка, — улыбнулся нотариус, словно прочитав мои мысли.
— Кто бы ни собирал, вкус у этого человека отменный. — Я сгреб в кучу облетевшие лепестки, прилагая все силы к тому, чтобы на сей раз нотариус не прочитал моих мыслей. Ибо думать я мог только одно: ну и странная, однако, деревня — на каждого барина по приемной дочке. Несчастный Турбок, должно быть, тоже называл Мари Маляршу приемной дочкой.
Поп нашел коньячную бутылку, в которой прошлым летом был «котнарь». Ныне в ней была абрикосовая палинка. Я отважно опрокинул стаканчик.
— Что скажете, господин председатель?
Что тут скажешь? Я сказал так: хороша, сразу видно, что своя. Мне всегда казалось, что это высшая похвала абрикосовой палинке.
— С чего бы это? — обиделся нотариус. — Она из Кечкемета, с коньячного завода.
Чтобы загладить вину, мне пришлось опрокинуть еще стаканчик. После третьего у меня стали гореть уши, и мы выпили на брудершафт. А после четвертого вернулись к повестке дня.
— Так, дружище, теперь я займусь этим мужиком, — заявил нотариус и крикнул, высунувшись в окно — Господин Бенкоци, будьте любезны, позовите сюда Марту Цилу Петуха. Да передайте, чтобы шел тотчас, а не то я пошлю за ним жандарма.
— Не дури, братец, — перепугался я, — не нужно причинять старику неприятностей, он ни в чем передо мною не виноват, в конце концов, земля-то его по праву.
— Не вмешивайся, братец, — отмахнулся нотариус, — тебе вообще лучше уйти, пока я буду вести переговоры. Если ты не против, посиди пока в беседке, оттуда все слышно. Фидель, будь любезен, проводи.
В беседке трудился стройный юноша с маленькими черными усиками и пышными черными волосами. Перед ним стоял столик на козлах, на столике лежала регистрационная книга, на книге — шикарная охотничья шляпа — в качестве пресс-папье. Приняв во внимание все это, а также бриджи, нетрудно было угадать, что черноволосый молодой господин — не кто иной, как помощник нотариуса. Я непроизвольно взглянул на его конечности — к счастью, проклятие Андраша Тота Богомольца не возымело силы. Руки и ноги молодого господина были на месте.
— Благослови вас бог! — приветствовал его поп. — Чем занимаемся, юный Бенкоци?
Молодой человек вскочил, в смятении захлопывая книгу.
— Документацию проверяю, ваше преподобие. — Он поспешно стряхнул пыль со скамейки одним из документов. — Извольте садиться. Разрешите представиться: Элемер Бенкоци, помощник нотариуса, гусарский лейтенант в отставке.
Мы пожали друг другу руки и сели; завязалась беседа, но какая-то натянутая. Поп был довольно холоден, помощник нотариуса — угрюм, кроме того, он не снимал левой руки с регистрационной книги, словно оберегая от всякого встречного и поперечного деликатнейшие государственные тайны. Вскоре он и вовсе откланялся, зажав вместилище государственных тайн под мышкой. Стоило ему уйти, как взгляд попа смягчился.
— Совсем неплохой парень этот малыш Бенкоци, но дуралей ужасный. Вообразил себя поэтом и теперь без конца чего-то сочиняет, то новеллу сочинит, то драму — и все это вместо того, чтобы сдавать право. Пари держу, он и сейчас прятал в книге какую-нибудь рукопись. Только прошу тебя, не говори нотариусу, он и так зол на мальчишку за дурость, тем более они в каком-то родстве.
— Не беспокойся, я не болтун, — успокоил я попа, сказав чистую правду. (Именно поэтому с романом мне будет нелегко.)
Подул ветер и извлек из-под скамейки листок бумаги. Я нагнулся — с виду листок напоминал один из документов. Лиловые чернила, красивый почерк. Начиналось так: «Поверь, мой ангел, я подобен безумцу, проклятому богом; в гордом одиночестве скитаюсь я среди людей, словно в джунглях, с тех пор как погас для меня луч путеводной звезды. Одно лишь служит мне утешением — не в один день возвели пирамиду Хеопса…»
Это мог быть отрывок в драматическом роде — в таком случае автор явно претендует на премию Телеки[71], — но мог быть и черновик письма. А если так, то юноша очень талантливый враль: взять, к примеру, то место, где он утверждает, что скитается среди людей, словно в джунглях. Нам с Андрашем Тотом Богомольцем доподлинно известно, где скитается юный безумец вечерами. Впрочем, не будем болтать лишнего и сохраним это в тайне даже от его преподобия.
Я поспешил спрятать найденный мною «документ» в карман, тем более что с веранды донесся резкий голос нотариуса:
— Мне сообщили, что вы снова закапываете пшеницу.
— Пшеницу? Энто как же? Ить у меня одна только рожь и посеяна.
— Пшеница, рожь — мне все едино. Вот бумага, здесь все написано, а кто писал, тот своими глазами видел.
— Быть того не может: он грамоте не обучен, — устами дядюшки Марты торжественно возгласила сама правда.
— Одним словом, вы признаете, что закопали рожь?
— Ничего я не признаю.
— Тем хуже: раз так, мне придется устроить обыск; коли рожь найдется, вам не поздоровится.
— Ищите себе на здоровьичко, коли надо — могу пособить.
— В вашей помощи не нуждаемся. Тайник ваш и без того известен. Здесь сказано, что вы зарыли рожь на Семихолмье.
— Что ж, может, оно и так. Коли господин нотариус говорит, я спорить не стану. Заодно и земельку мне распашете, а я потом дыньки посажу.
Послышалось веселое шарканье. Мне отчетливо представилось, как торжествующий Марта Цила Петух торопится к выходу.
— Постойте-ка! — крикнул нотариус ему вслед. — Уж не думаете ли вы, что я сам стану искать поденщиков в самую страдную пору? Найдете в деревне десять человек, не занятых работой, и приведете их завтра в шесть утра к Семи холмам. Сто пятьдесят крон в день, без кормежки. Все ясно?
— А как же, ясно. — Шарканье послышалось снова.
— Постойте-ка! А денег у вас хватит, чтоб заплатить поденщикам? Это ведь, если не ошибаюсь, выйдет что-то около двадцати тысяч.
Видимо, нотариус поразил Марту Цилу Петуха в самое сердце. Он пробормотал что-то, но слов мы не разобрали.
— Уж не думаете ли вы, что венгерское государство станет раскапывать вам землю под дыни за свой счет? Вот я и говорю: дорого вам ваша рожь обойдется, даже если не отыщется.
Старик опять пробормотал что-то, но до нас снова донеслись только слова нотариуса.
— Про то, что утро вечера мудренее, вам лучше знать. По мне, ложитесь хоть сейчас, а к утру чтоб десять человек были на месте. Можете идти.
Марта, спотыкаясь, побрел к калитке, а нотариус тем временем вперевалку направился к нам.
— Я пригласил бы вас отобедать, друзья, но теперь вам нужно спешить домой, потому что Марта Петух с минуты на минуту будет у Фиделя. Не тревожься, теперь он станет кротким, как ягненок.
(Писать об этом в романе я, пожалуй, не стану — чего доброго, обвинят нотариуса в злоупотреблении властью. Как бы до парламентского запроса не дошло. Вот вам, мол, деревенский судия, который тиранит мужиков, как во времена Йожефа Этвеша[72].)
Несчастная жертва и в самом деле уже поджидала нас, сидя на пороге в тени туи. Вид у Марты был не запуганный, а скорее снисходительный. Ни один городской директор банка не сумел бы говорить в столь покровительственном тоне.
— Я туточки, барин, заново все обмозговал. Аттила так Аттила. Я и людей сам подберу. Меня-то они скорее послушают, нежели городского, вроде вас. Двести крон в день, без кормежки — и к завтрему в шесть утра десять мужиков как один на месте. Ну чего, по рукам, что ли?
По рукам. Пятьдесят крон с носа за посредничество — это еще туда-сюда. Но в отместку я решил слегка припугнуть старика.
— Надо поставить в известность господина нотариуса, так положено.
— Ну-ну, вам-то лучше знать, как и что, — старик пожал плечами, но явно растерялся.
Дойдя до калитки, он обернулся и поманил меня чубуком:
— Знаете, что я надумал: чего вам таскаться к господину нотариусу по энтой жаре-то, я сам ему объявлю, чего надо. Мы скажем, будто землю я копаю, а вы только так, поглядеть захаживаете. Вы уж мне поверьте, так оно лучше будет, ить наш нотариус, он такой человек, что возьмет да и приберет все сокровище к рукам.
— Какое такое сокровище?
— А вот то самое, что вы откопать задумали. Оно, конечно, люди мы бедные, что и говорить, но какой-никакой умишко имеется. Не Аттила вам нужон, понятное дело, а сундук с деньгой. Ну и бог в помощь, да чем скорее, тем лучше!
На следующий день, ровно в шесть утра, у подножия холма действительно стояло десять мужиков. Едва завидев их, Фидель расхохотался.
— Да, с такими, как я погляжу, и против русских не повоюешь. Сплошь старые хрычи, старик, видать, подбирал только себе подобных.
На самом деле подобрал он тех, кого смог. Все, кто помоложе, были на работе: убирали урожай — либо свой, либо чужой. Только старики и были свободны. Я прикинул: вместе им могло быть лет семьсот. Не беда, а для моей кропотливой работы они как раз сгодятся, по крайней мере не проломят Аттиле черепа в спешке. Хуже то, что большинство из них — увечные: кто кривой, кто хромой, кто слеп на один глаз, кто глух на оба уха.
— Все люди служивые, барин, — похвастался Марта Петух, пока я делал смотр моей армии.
— А как же, — подтвердил Фидель, — все как один служили кайзеру во время оккупации Боснии[73].
— Это что! Есть тут и такие, что аж в Кёниггреце сражались[74], — подхватил шутку маленький мужичонка с кошутовской бородой.
Ответом было всеобщее веселье; я тоже улыбнулся.
— Видали теперь, — произнес кто-то у меня за спиной, — я ж так вам и сказывал: кум Бибок за словом в карман не полезет. Недаром он в Мерике бывал, он у нас и наукам обученный.
На слово «Мерика» я обернулся — Андраш Тот Богомолец и впрямь был тут как тут. На плече заступ и лопата, следовательно, он здесь не в качестве зеваки, а в качестве одного из моих гвардейцев. Я протянул ему руку как старому знакомому, он дружески потряс ее и к обычному «бог в помощь» добавил еще и «здрасти». Таким образом всякий имеющий глаза мог видеть, что я не податной инспектор, не реквизитор, не налоговый регистратор и не судебный исполнитель, а абсолютно порядочный, отличный человек — в противном случае Богомолец нипочем не стал бы со мной здороваться. Марте Петуху причитается особая сигара, за то, что он завербовал этого человека, для меня он стоит короля Аттилы. Большое дело, когда писатель имеет возможность в любой момент проверить своего героя лакмусовой бумажкой психологического анализа.
Пока я производил необходимые замеры и разметку, прибыл нотариус. Хитро подмигнув мне, он спросил официальным тоном:
— Все здесь?
— Все, как велено, — отрапортовал Марта Петух не менее официальным тоном, в свою очередь усердно подмигивая мне. Мол, мы-то друг друга понимаем.
До чего лукавы эти деревенские жители — просто диву даешься! В городе мне за целый год столько не подмигивали.
Нотариус вскоре удалился, предварительно внушив мужикам, что господина председателя, то бишь меня, следует слушаться так же, как его самого, потому что я — тоже лицо официальное. Попу стало скучно, и он отправился стрелять ворон, предварительно внушив мне, чтобы я был дома вовремя, не то обед простынет, сегодня у нас цыпленок в сухарях и салат из огурцов. Сам я тоже недолго сторожил мужиков, поминутно отиравших пот. Дело шло медленно: твердый подзол не хотел поддаваться заступу.
— Да, холм-от не обчистишь, как яблоки на пирог, — изрек Марта Петух.
Я покинул их и отправился на болото к чибисам. Пришло время привести мысли в порядок. Я устроился на камышовой кочке, вытащил «Т. VIII» (проблемы композиции) и нарисовал прямую линию с крестом на конце. Это — художник, которому и в романе предстоит погибнуть. Теперь еще одна прямая линия, это — Мари Малярша. В какой же точке эта линия пересекает линию Турбока?
За спиной у меня расшумелись камышевки. Пожалуй, не будет преувеличением сказать, что они хохотали. Я швырнул в них ракушкой, облепленной глиной, — они замолкли. Бессовестные критики! Где-то я читал, что Понсон дю Террайль[75] для начала лепил своих персонажей из воска и расставлял их на сервировочном столике, придвинутом к письменному. (Французский коллега, надо сказать, работал с несколькими тысячами действующих лиц кряду, на письменном столе столько народу не помещалось.) Расправившись с кем-нибудь из них на страницах романа, он немедленно обезглавливал восковую фигурку при помощи перочинного ножа — таким образом он был гарантирован от разного рода неприятностей, к примеру, мог не опасаться сосватать героиню с покойником. (Бедному венгерскому писателю на воск не хватает, вот он и вычерчивает свои сюжеты карандашом. Тут плакать надо, а не смеяться!)
В камышах всегда так: только подумаешь о чем-то, как тут же оно и сбудется. Едва я успел проложить линию Андраша Тота Богомольца, как в гуще камышей отчаянно заголосила какая-то вдовица-чибисиха. (Будь она при муже, вряд ли обошлось бы без домашних репрессий — муж бы такого не потерпел.)
Я сунул блокнот с тремя линиями судьбы в карман и пошел в камыши на голос, утопая по колено в тине — нужно же было выяснить, что там у чибисов стряслось.
А стряслось вот что: пушистый, дрожащий чибисенок вывалился из гнезда и увяз в тине, и теперь к нему подбирался уж. Над камышовыми метелками носилась взад-вперед мать-чибисиха с взъерошенным хохолком. «Чьи-вы? Чьи-вы?»
Не бойся, дурачок, никто тебя еще не схватил да и не схватит. Я срываю початок рогоза, бью ужа по голове, и он погружается обратно в свою водяную преисподнюю. Но это только полдела: предстоит еще вытащить глупого чибисенка из болотной тины. Теперь я в грязи не только по колено, но и по локоть; что ж, Провидение тоже вынуждено мараться, если хочет оставаться самим собой.
Только выкарабкавшись из тины и отряхнувшись, я увидел, что большую часть самопожертвований спокойно можно было оставить при себе. Прямо за чибисовым гнездом шла твердо утоптанная тропинка, если бы я вовремя огляделся, был бы Провидением с сухими ногами.
Вернувшись на прежнее место, я принялся размышлять, нельзя ли усмотреть в истории с ужом какого-нибудь символа для романа. Головки ослинника кивали одобрительно и ласково. Надо было достать блокнот, но тут на руку мне приземлилась водяная стрекоза, прогонять ее было грешно. Это не та головастая разбойница, что покачивается летним днем на кончиках сухих стеблей и морочит вас опалово-прозрачными крыльями. У этой стрекозы крылья мягкие и черные, и порхает она беззвучно, словно мотылек. Немцы называют это мистическое создание «Wasserjungfrau»[76]. Кто знает, может, она и вправду героиня какого-нибудь романа, не зря же ей дано столь романтическое имя! (Впрочем, с венгерским наименованием дело обстоит по-другому, мы, слава богу, нация вполне реалистическая. Когда я был ребенком, эту ундину называли попросту траурницей.)
Стрекоза внезапно снялась с моей руки и изящно заскользила вдаль, словно ожившая черная фиалка. Я смотрел ей вслед до тех пор, пока понемногу не отяжелели веки и весь мир не сузился до зеленой полоски. Вскоре исчезла и она, до меня доносилось лишь гудение диких пчел, а потом я заснул окончательно.
Разбудил меня Андраш Тот Богомолец. Он стискивал мне шею, стоя рядом со мной на коленях.
Убийца! Я моментально пришел в себя и почувствовал, что глаза мои лезут из орбит от ужаса. К чести своей могу сказать, что в ужас меня поверг не мой собственный убийца, а убийца художника.
— Насилу растолкал вас, барин, — заскрипел надо мною знакомый голос, и убийца убрал руки. Черт побери, шея здесь ни при чем, он просто теребил меня за жилет. — Я чего вас искал-то: там господин доктор пришли и наказали позвать господина председателя.
Я вскочил на ноги, привел себя в порядок, проверил, на месте ли блокнот и карандаш.
— Ну пошли, Андраш.
— Гляньте-ка, — в руке у Андраша был мой бумажник. — Это, случаем, не ваш портмонет? Тут, в камышах, валялся, ну я и подумал, надобно взять, энто тебе не дырявая фляга, небось хозяин отыщется.
И правда, это был мой красный бумажник, очевидно, он выскользнул из кармана, когда я нагнулся за чибисенком. В нем была пара тысчонок крон, но их утрата задела бы меня куда меньше, чем утрата мотива корысти. Ведь именно на нем собирался я строить характер убийцы художника. Теперь с этой мыслью придется расстаться. Не остается ничего другого, кроме беса ревности. Правда, мужья в современной литературе руководствуются, как правило, соображениями экономического материализма, и бес этот давно получил отставку, но, может быть, в деревне его удастся реанимировать.
Дерзость, с которой я обратился к убийце, поразила меня самого:
— Скажите-ка, Андраш, вы знали художника?
— Энто которого?
— Турбока, или как там его звали, бедолагу?
— Энтого-то? Как не знать, коли меня за него едва не засудили, думали, я извел беднягу. Только не художник он был, а жувописец.
— А что он был за человек?
— Он-то? Да маленький такой человечишко, рыжеватый, во рту вечно цигарку держал, но курить не курил.
Уже неплохо, отсюда, безусловно, можно сделать вывод о том, что у художника были слабые нервы. Вот у меня сигара всегда дымится, правда, спичек уходит куча, но тому виною не я, а нынешние сигары. Впрочем, это не то, что мне хотелось бы узнать.
— А красоток этот Турбок любил?
— С чего бы ему их не любить, посудите сами. Вот будь он попом — тогда другое дело. Наезжала к нему барышня из города, что твоя тростинка, в чем душа держится; уж они целовались-миловались, мы с Мари только посмеивались. Мне бы такого дохлого комара и даром не надо, да у каждого, знать, своя придурь.
Этот Богомолец либо самый большой плут на свете, либо самый большой болван. Как же мне спросить, была ли его жена любовницей художника?
— А его любили?
— Да вот, видите ли, мямля он был, голос такой писклявый, и в спине будто хребта нету, но баб охаживать очень даже умел.
Черт бы побрал этого Андраша с его манерой выражаться — ничего не поймешь.
— И часто ему приходилось иметь с ними дело?
(Кажется, «охаживание» имеет приблизительно такой смысл. Так называется по-венгерски флирт.)
— Так ить он меня не звал, когда дело имел, но вот что я сам видел — то видел: покамест у нас жил, все норовил бабу мою ущипнуть, а она его по рукам лупит да лупит, так что господин Турбок быстро завял, а Мари знай себе смеется.
— А потом оплакивала его, да?
— А вот энто уж ее дело, плакала не плакала. Сказывать она мне про то не сказывала, а сам я, жив буду, не спрошу. Выбрался я из каши, что она заварила, с той поры мы с ней, можно сказать, и не разговариваем вовсе, разве что очень надо.
Ну что ж, больше тут говорить не о чем. Голову даю на отсечение, что этот человек — не убийца, а жертва. Не осмеливается спросить жену, грешна она или нет: боится, что это так, и все же хочет верить, что не так. Довольно типичная для мужей ситуация. У меня есть друг, который предпочел бы умереть с голоду, нежели полезть в отсутствие жены за ключом от буфета в бельевой шкаф, где хранятся под рубашками письма, адресованные жене. Уж десять лет, как его терзают сомнения, но он предпочитает терзаться до самой смерти, лишь бы в один прекрасный день не обрушиться в пропасть.
Тут пробивался такой росток сюжета, который со временем вполне мог вырасти в полноценный ствол. Теперь слово за Мари Маляршей.
Мари стояла на холме, над медленно увеличивающейся ямой, она принесла мужу обед в чистой красивой салфетке. Одета она была так же опрятно, как вчера, только платок был не шелковый, а обыкновенный. За юбку ее цеплялся Шати, а руку сжимал неизвестный мне господин.
— Это еще кто? — спросил я Богомольца, указывая на мужчину в длинном сюртуке времен Франца-Иосифа. — Кантор или раввин?
— Это доктор. С ним с последним господин Турбок прогуливались. А назавтра доктор пошел в военные доктора, кто-то говорил, будто его при Жемисли убили[77], так то была неправда, он там в плен попал.
Длинный и тощий был этот доктор, руки-ноги вроде на месте, но впечатление было такое, что он пооставлял свои конечности где-то там, в плену, а потом приладил на их место чужие. Как будто из четырех-пяти человек соорудили одного нового и увенчали конструкцию маленьким черепом с черными усами. То же было и с одеждой: каждая деталь сама по себе элегантна, а все вместе — карикатура. Основательно потертый не то учительский, не то поповский сюртук времен Франца-Иосифа сверху завершался белым шлемом, вроде тех, что носят английские солдаты в тропиках, снизу — белыми парусиновыми туфлями и длинными чулками. (Объяснением мог служить валявшийся рядом велосипед, звонок которого затмил в глазах Шатики даже ягненка.) Иссиня-черные усы были закручены на такой манер, словно мир по сей день стоял навытяжку перед кайзером Вильгельмом. Из чего следовало, что доктор нечасто бывает в городе, в противном случае он знал бы, что портрет кайзера давно уже исчез даже из цирюлен, точнее, не исчез, а был перекроен в короля Матяша: нынче даже цирюльники научились осторожности и избрали такого славного мужа, которого всякий режим охотно признает своим.
Кстати, в облике доктора было еще кое-что от кайзера Вильгельма: необычайно суровый, строгий взгляд. Вскоре я понял, что причиной тому было полное отсутствие ресниц.
— Приветствую вас, милорд! — он издалека протянул мне руку, другой рукой вставляя в глаз монокль, стеклышко не хотело держаться само, и доктору приходилось все время его придерживать. — Искренне счастлив видеть в этом богом забытом месте истинно культурного человека. Балканы, Азия, доложу я вам. Да что Азия? Какой-нибудь деревенский аксакал в Ташкенде интеллигентнее нашего премьер-министра.
Я скромно представился и вежливо ответил, что тоже очень рад. Там, где есть такие прекрасные культурные люди, как его преподобие, господин нотариус и господин доктор, жаловаться грешно.
— Эх, мосье, — он с горечью махнул рукой, — и об этом я мог бы много вам порассказать.
Дабы предупредить всяческие разоблачения, я поспешно откланялся, сказав, что меня, должно быть, уже заедались к обеду.
— Пойдемте вместе, минхер. — Доктор поднял свой велосипед. На прощание он пожал руку Мари Малярше. — Значит, это мы с вами еще обсудим, господина!
Женщина ничего не ответила, только прижала к себе Шатику с такой нежностью, что мне сразу вспомнилась Мадонна, отправленная Фиделем на чердак. Она должна быть очень хороша, если Турбок изобразил ее такой, да еще с маленьким Иисусом на коленях! Ибо Шатика был слишком чумаз для вифлеемского младенца.
Доктор жил неподалеку от нотариуса, домик его, выкрашенный желтой краской, стоял посреди густого сада. Здесь росли, помимо прочего, и оливы, пропитавшие своим ароматом всю деревню. Окна в домике были затянуты сеткой от комаров, на одном из них красовался градусник, на другом — «ведьмино» зеркальце: не выходя из дому, можно было видеть всю улицу от начала до конца, со всеми прохожими, квохчущими курами, гусями, щиплющими одуванчики, и поросятами, копошащимися в канаве, — ничего иного эта игрушка, предназначенная для дворцовых башен, и не могла показать. Но культурный человек даже в преисподней остается верен себе.
— Доставьте мне удовольствие, зайдите на минутку, пане председатель. Позвольте предложить вам аперитив.
Я с содроганием подумал об имбирной палинке и абрикосовой эссенции. Но не мог же я нанести оскорбление культуре отказом переступить ее порог. В конце концов, деревня не страдает переизбытком духовной жизни, а посему игнорировать доктора не стоит. Особенно если учесть, что он может дать богатую пищу для блокнота «Т. I». Что ж, отведаем и этого змеиного яда!
В прихожей на подзеркальнике стояли традесканции в горшках, в маленькой столовой, куда я был приглашен, — аспидистры. Доктор, по-видимому, любит природу. Пианино, старомодный граммофон с трубой — доктор, по-видимому, любит музыку. На стенах множество картин в самодельных рамках, выпиленных лобзиком, тут и акварель, и масло — постойте-ка, где-то я видел на днях такое же дилетантство? Ну да, конечно, в церкви, именно в таком стиле намалевана голова Святого Роха. Тут, правда, нарисованы не святые, но по сути — все то же самое. Здесь изображены сплошные юные девицы. Даже не девицы, а одна девица — голубоглазая, белокурая, где в шляпке, где в платочке, а где с пучком. Рот чуточку великоват, возможно, потому, что на всех картинах она смеется. Ставлю дутый бронзовый браслет, что она окажется приемной дочерью доктора!
И все-таки я слегка вздрогнул, когда доктор обронил, указывая на картины и впервые опустив иностранное обращение:
— Моя приемная дочь!
Так, пришел черед «змеиного ликера». До сих пор разговор о приемной дочке повсюду сопровождался палинкой. Отныне каждый раз, как увижу сироту, моему внутреннему взору будет представать стопочка палинки.
Но я напрасно боялся. Доктор сообщил, что, вернувшись из плена, стал противником алкоголя, а там, за границей, даже состоял гласным ложи Добрых тамплиеров[78].
— Зато в плену у татар научился готовить такой аперитив, по сравнению с которым тот нектар, что пили на Олимпе, — жалкая кислятина. Отведайте, эфенди.
Он опустил ложку в банку из-под компота, наполненную какой-то желтой замазкой, и выудил оттуда несколько белых шариков.
— Пожалуйста, суди. Чеснок на меду. Даже Мечников такого не знал, а между тем ничто так не способствует размножению фагоцитов.
Каждая клеточка моего тела выражала протест.
Еще ребенком я признавал только один вид меда — «кошачий», так называли у нас безвкусную смолу, выступающую на коре черешневых деревьев: ее, по крайней мере, можно было грызть. Настоящего меда я терпеть не мог. Что же до чеснока, то мне случалось получить от него удовольствие, но лишь в том случае, когда запах исходил от другого человека. Это давало мне возможность убедиться, что я не такой, как прочие, и никогда до такого не опущусь.
Но что оставалось делать? Не спорить же, в самом деле, с этим гостеприимным господином, к тому же медиком, бескорыстно предлагавшим мне средство для продления жизни. Я зажмурился и послал татарскую закуску по назначению.
— Еще немного, синьор?
Повинуясь строгому приказу бунтующего нутра, я нашел в себе силы отрицательно покачать головой.
— Великолепный букет, не правда ли, сир?
Кивнул я уже из-за калитки. Доктор между тем все кричал, высунувшись в окно:
— Вот увидите, домуле, как у вас разыграется аппетит!
Тут он не соврал. Добравшись до дому, я первым делом спросил Фиделя:
— От имбирной отравы что-нибудь осталось?
— Ах ты, бедняга! — Фидель всплеснул руками. — Этот старый отравитель попотчевал тебя медовым чесноком!
Когда имбирный напиток немного привел меня в чувство, я спросил попа, почему он называет отравителя стариком?
— Потому что так оно и есть. Он ровно на неделю старше меня.
— Но ведь усы-то у него совсем черные.
— А как же — пока краска свежая. Спустя неделю они становятся рыжими, спустя две недели стали бы, седыми, кабы не зеленели. Когда на него находит, он, красит только один ус, и тогда мы зовем его «др. Биколор».
Впервые я увидел Ангелу в Иванов день. Поденщики мои к тому времени существенно продвинулись в недра земли — метра этак на полтора. Андраш Тот уже уповал на то, что вскорости мы докопаемся до Мерики, а там, надо полагать, нету дополнительного налога, чтоб тому, кто его выдумал, ни дна ни покрышки.
Вот только сундук с деньгами короля Аттилы никак не желал обнаруживаться. (А ведь тогда еще не было министра финансов. Во всяком случае, Прискос Ретор[79] о таковом не упоминает.) Пока удалось найти всего лишь ослиную челюсть. Поп, естественно, поздравил меня с находкой, добавив, что теперь осталось только обнаружить филистимлян, которых Самсон этой челюстью сокрушил. Доктор пришел в ярость — что случалось всегда, когда речь заходила о Священном писании, — и процитировал армянскую Библию, виденную им в Азербайджане; там говорилось, что Самсон сокрушил ослов челюстью филистимлянина. «Само собой разумеется, это тоже неправда, как и все прочее в Библии, мосье, ведь ослы, как известно, существуют и по сей день». В ответ на это нотариус заметил, что в мире одним ослом больше, чем можно было бы предположить.
Мужики тоже выдвинули относительно челюсти массу предположений. Марта Петух настаивал на том, что челюсть некогда принадлежала коню Миклоша Толди[80], «подналяжем, братцы, вот посмотрите, докопаемся и до того, кто на нем езжал». Однако он остался в меньшинстве, потому что большинство разделяло точку зрения кума Бибока, который стоял на том, что «энто тот самый вороной, на котором девский барон себе баронство выслужил, при Марии-Терезии дело было». И было это вот как: старому барону турки горло перерезали, а Мария-Терезия тут возьми да и объяви: дам, мол, титул тому, кто ответит мне на три вопроса. Ну вот, собралось там графьев да баронов видимо-невидимо, да все как один — ослы, а потому Мария-Терезия их всех на голову и укоротила. Собрался тут девский чабан, сел на своего воронка и поскакал к Марии-Терезии. А был тот чабан парень из себя видный, усы густые, так что Мария-Терезия, завидев его, как сидела на девяти подушках, так сразу с трех и свалилась.
— Что при свечах выбирать негоже? — так спросила Мария-Терезия в первый раз.
Пошел чабан к своему воронку (тот у ворот был привязан), поспрошал его, глядь — идет с ответом.
— Сукно, — говорит, — да жену, и то и другое на свету рассмотреть надобно.
— Молодец, чабан, скажи-ка нам теперь: какая семья самая что ни на есть наилучшая? — так спросила Мария-Терезия во второй раз.
Сходил чабан к воронку, поспрошал его и говорит Марии-Терезии:
— Та, где жена слепая, а муж глухой.
— Ну, чабан, а знаешь ли ты, на кого старуха более всего похожа? — так спросила Мария-Терезия в третий раз.
Явился чабан к коню, поспрошал его, тот нашептал ему в одно ухо, парень и пошел себе, ржет воронок ему вслед, хочет в другое ухо нашептать, да поздно, не слышит парень, вот и ответил Марии-Терезии так:
— Старуха более всего на собаку похожа: у обеих блохи, обе клубочками спят, обе полаяться любят.
Осерчала Мария-Терезия, потому как сама уже старухой была, и говорит чабану:
— Ну, чабан, быть тебе девским бароном, но знай, ответствовать так было надобно: старуха — что голубка: в одиночку спать не любит, рада поворковать и к тому льнет, кто ее не гонит. Ответил бы так, быть бы тебе королем.
Господа долго смеялись над поучительной историей Бибока, я же с трудом выдавил из себя улыбку: меня мучительно грызла зависть. Подумать только, ведь фантазия простого крестьянина — самый что ни на есть Пегас по сравнению с моей, которая только и знает, что роется в блокнотах, словно лошадь Миклоша Толди в отбросах! Каждое утро я запрягаю беднягу, а вечером, глядя на таксометр, вижу все тот же результат: времени потеряно много, а мы все торчим на одном месте, если еще не отброшены назад: то одно, то другое забывается, то и дело приходится возвращаться.
Как будет называться роман? «Смерть художника» — такова была моя первая мысль, однако от нее пришлось отказаться. Художник-то помрет, это неизбежно, но стоит ли с самого начала отпугивать сентиментальных читательниц? (О читателях мужского пола венгерский писатель может не беспокоиться. Последние читают исключительно детективы, во всяком случае, до тридцати и после пятидесяти, а между тридцатью и пятьюдесятью — книгу Ивана Надя, откуда каждый может почерпнуть сведения о собственном дворянском происхождении. Тот, кому это все же не удается, справедливо обвиняет венгерскую науку в верхоглядстве. Только у нас такое возможно, чтобы в геральдическую книгу, изданную сорок лет назад, не вошли родовые гербы, придуманные для украшения визитных карточек под нынешний Новый год. A. m. d. g., ad maiorem democratiae gloriam[81].)
Сто потов сошло с меня, пока я вписал в «Т. IX» еще дюжину возможных наименований, на которые непременно должна была клюнуть публика, одна беда — все они были неоднократно опробованы до меня. Постепенно до меня дошло, что у разных Курц-Малеров[82] все это уже было. В конце концов я решил оставить название напоследок. Если правительство имеет право определять свои издания задним числом, то почему бы невинному романисту не последовать его примеру?
Гораздо хуже обстояло дело с именами. Имена нельзя оставлять напоследок, может выйти большая путаница. Они важны еще и потому, что играют не последнюю роль в формировании характера персонажа. Если героя зовут Якоб, характер его кроится совершенно иначе, нежели характер героя по имени Раймонд; какой-нибудь Ференц не станет совершать таких поступков, как Отто. А ведь это только имена, что уж говорить о фамилиях! Непосвященному не понять, как мучается добросовестный художник, заполняя своим детищам анкеты.
Имена ныне должны быть правдоподобными, в нашем реалистическом мире писателя запросто могут высмеять вместе с его Лорантами и Камиллами. Духу времени соответствуют Янош Киш, Терике Надь, Мано Грюн, а Эстелла Какукмезеи приемлема лишь в том случае, если писатель намекнет, что в школе барышню звали Гизи Штайнер. Правда, на этой почве могут возникнуть юридические осложнения, особенно теперь, когда люди чрезвычайно чувствительны. Конечно, такое может случиться и с осторожным писателем, изобретающим имена самые фантастические. Помнится, несколько лет назад было целое дело, когда один из наших драматургов назвал героя крестьянской драмы, этакого деревенского Ромео, Андрашем Тейбетёком. Сделал он это специально для того, чтобы не прогневать многочисленных Яношей Кишей. Пьеса с успехом обошла всю страну, но вот какая-то бродячая труппа показала ее в Ароксаллаше, где обнаружился кузнец по имени Андраш Тейбетёк, деревенский староста, отец шестерых детей.
С трудом удалось уговорить его не убивать актера из-за того, что тот под его именем обещал жениться на дочке трактирщика Рези. Но дело против писателя он все-таки возбудил. Думаю, процесс продолжается до сих пор, поскольку суд испросил мнения специалистов, а они не могли прийти к единому мнению.
После долгой душевной борьбы я решил оставить Турбока Турбоком; человек он был одинокий, никакой родни у него не осталось, да и не собирался я писать о нем ничего плохого. Кроме того, у меня он не повесится, а утопится, его выловят сетями рыбаки. Этот вид смерти больше соответствует вкусу читательниц и к тому же дает повод для красочного описания рыбной ловли на закате.
Но вот что делать с Андрашем и Мари? Может, обойтись вообще без фамилий? Когда речь идет о крестьянах, такие вещи можно оставлять без внимания: роман — не налоговая книга и не рекрутский список. С другой стороны, для крестьян имена «Андраш» и «Мари» — то же, что «Буренка» для коровы или «Бобик» для собаки. Так было заведено еще в древние времена, господина звали Кнейус Оппиус Корницинус Додабелла Петрикус, а раба всего лишь Квинтипор. Что, собственно говоря, и, не имя вовсе, ибо в переводе означает: «пятый сын».
В самый разгар моих метаний ко мне постучался поп.
— Не хочешь ли перед ужином поразмяться? Сейчас; подойдут нотариус с доктором. Мы пойдем смотреть, как прыгают через костер.
Что ж, пожалуй. По крайней мере, проветрю слегка свою бедную голову, которая за двадцать лет занятий археологией ни разу не доставляла мне неприятностей, а последние месяц-два из-за этого романа болит не переставая. (Поэзия здесь ни при чем, это был всего лишь эпизод, с точки зрения медицины абсолютно нейтральный. От лирической поэзии человек худеет, зато нервы у него в полном порядке; поэзия одическая, напротив, полнит — но полет без крыльев изнуряет симпатическую нервную систему.)
О прыжках через костер я только и знал, что они не являются ритуальным действом некой религиозной секты, хотя когда-то, вероятно, эти костры жгли в честь бога Солнца в день летнего солнцеворота. Я читал об этом у Ипои[83], но самому мне до сих пор не доводилось видеть этой христианизированной языческой мистерии, в которой было что-то специфически венгерское. Еще правитель Геза отвечал священникам, упрекавшим его в попустительстве язычникам, что он вполне в состоянии содержать двух богов: того, что из Азии, и того, который на кресте; раз ни один из них не жалуется, так пусть и попы помолчат. Народ следовал примеру своего правителя, только оказался более сметливым: он умел курить фимиам двум богам сразу. Костры предназначались богу Солнца, но одновременно и Иоанну Крестителю, ибо так выходило по церковному календарю. Какое-то время, по-видимому, старались соблюдать дипломатию по отношению к обоим богам, но со временем азиатский бог был забыт, и костры окончательно и бесповоротно стали Ивановыми огнями, а ритуальный жертвенный танец — танцем Саломеи[84]. Довольно типичный для нашей дипломатии случай.
Впрочем, теперь и тысячелетняя мода на костры Святого Иоанна тоже проходит. Кто в наше время поверит, будто девушка, перепрыгнув через костер на Иванов день, станет в семь раз краше, а парень — в семь раз сильнее! В наше время и девушки и парни знают гораздо более надежные косметические средства. Да и хворост сильно вздорожал с тех пор, как вся страна побывала в таком пожаре, что по сей день мается от ожогов. Как же сохранился в этом тихом уголке занесенный с Волги обычай? А так же, как и сама эта деревня, которая существует не меньше тысячи лет, гораздо дольше, чем город, оставаясь такою же, как была. Время плавно катило свои волны, вроде той прозрачной речки, что течет мимо крытых камышом домишек; пена приносила новые нравы, а старые надежно сохранял ил. Девушки здесь по сей день туго перетягивают грудь — должно быть, еще во времена реформации этому обучали их прародительниц суровые проповедники, боровшиеся против мирских соблазнов и давно благополучно забытые вместе со всею своей верой. Правда, завивка, как и прочие измышления дьявола, девушкам очень даже по нраву. Зато здесь сохранился прекрасный обычай: когда молодые возвращаются из церкви и садятся за стол, мать невесты сажают на маленький стульчик в углу, носом к стене, к гостям — спиной, так она и должна сидеть целый вечер. Это называется «школить тещу»; если сумею найти повод, непременно вставлю это в роман. Надо полагать, такой обычай скорее войдет в моду, чем бережливость.
Когда мы добрались до плотины, на выгоне уже горели костры, правда, дыма было больше, чем огня, потому что горящие угли заваливали желтыми охапками молочая. Возле каждого костра стояло четыре-пять человек, девушки — отдельно, парни — отдельно, детишки — отдельно; каждый два-три раза перепрыгивал через костер, а остальные тем временем, взявшись за руки, водили хоровод под плавные звуки песни:
Святый, святый Янош[85], ты цветешь, не вянешь! Ночь твою встречаю, тебя величаю: свет покуда ярок, но сгорит огарок! Клоним, клоним веточку черешни в светлый омут вешний! Сломим, сломим недотрогу — приворожим сердце друга![86]Рыжеватые язычки пламени выбрасывали снопы искр в горьковатый дым горящей травы, фигуры внезапно высвечивались и тут же исчезали во тьме; раскачивались тени тополей, девушки выводили нежную мелодию, время от времени в нее врывались озорные выкрики парней; звучали странные слова, смысл которых выветрили столетия, золотой челнок луны плыл, то появляясь, то исчезая в серебристой пене облаков, — все это на минуту навеяло мне мысли о цветущих туранских лугах, которые, думается, в действительности расцветали далеко не так быстро, как в воображении наших туранистов[87]. (Кроме того, они, должно быть, быстро превращались в бесплодные солончаки.) Старики, сидевшие на корточках в сторонке и наблюдавшие за играми молодежи, тоже выглядели по-турански. Ну в точности фигурки с чашами из курганов Южной Сибири, которые, оживи их, оказались бы теми же Андрашами Тотами Богомольцами и Мартами Петухами. Этими профессиональными наблюдениями я не преминул поделиться с доктором, который взял меня под руку.
— Yes[88], мне приходилось видеть этих каменных святых в барашковых шапках. Но вот эти танцующие девы, — он указал на луг, — о, это совсем не то, что киргизки. У тех холмы и долины распределены в должной пропорции, а здесь все плоские, как доска для разделки теста.
— Доктор, — обернулся нотариус, — вы, кажется, собираетесь заняться сравнительной географией?
Однако занятия не состоялись: стоило нам приблизиться к какой-нибудь компании, как девушки с визгом и смехом разбегались врассыпную.
— Напра-во! — скомандовал доктор. Мы резко повернулись и успели увидеть девушку, прыгающую через костер. Она подпрыгнула высоко, и в свете пламени на секунду блеснула ослепительная белизна ног, повергнув меня в изумление: до чего же, черт возьми, изящные ножки у этой девицы!
Удивительно все-таки, как быстро опрощаешься в деревне. Я уже приучился пить (медовый чеснок — исключение, к доктору я вообще больше зайти не рискнул), по вечерам играть вчетвером в лорум[89], а сейчас вот выяснилось, что еще и развязно выражаться. У меня вырвалось как бы само собой:
— Хотел бы я знать, какому принцу прислуживала мамаша этой красотки?
Тройное «тс-с-с» зашипело мне в уши, и разом погрозили три пальца.
— Это моя приемная дочка! — сказали хором все трое.
Странная манера — иметь одну приемную дочь на троих, впрочем, думал я не об этом, а о том, какую глупость сморозил. Пришлось спешно заглаживать вину.
— Прошу прощения, я не хотел сказать ничего плохого. Просто меня поразило, что у крестьянской девушки могут быть такие ножки. Право же, щиколотка у нее изящная, как у герцогини.
Не знаю, что бы я делал, если бы меня спросили, где это я видел щиколотку герцогини — до сих пор ни одна из них мне своих ножек не демонстрировала. Да и вообще, не верится, чтобы господь бог выкроил для герцогинь особую ножку. Насколько мне известно, в истории лишь единожды упоминается нога высокопоставленной особы — речь идет о супруге Пипина Короткого[90], королеве Берте. Упоминается она так: «au grand pied», «Берта Большая Нога».
К счастью, господа не отличались особой дотошностью и вполне удовлетворились моими оправданиями.
— Well[91], — сказал доктор, — это не крестьянская девушка. Это мадемуазель Ангела, она работает у нас на почте. Вы еще не встречались с ней, господин председатель?
— Нет, хотя был на почте дважды. За окошком сидела какая-то пожилая дама, высокая и седая.
— All right[92], это ее мать, госпожа Полинг, вдова.
— Его коллега. — Нотариус пихнул меня локтем в бок, давая понять, что доктор сейчас рассвирепеет.
Однако доктор, против ожидания, не рассвирепел.
— Stimmt[93]. Я лечу людей, а она — коров, лошадей, гусей, кур. Муж ее был ветеринаром, у него она и выучилась. — Поверьте, господин нотариус, мы преспокойно могли бы обменяться пациентами.
— Да ладно вам, — примирительно сказал поп. — Лучше проводим Ангелу домой.
Однако босоногая почтальонша, заметив наше приближение, вырвалась из круга и убежала.
Короткая юбчонка развевалась на бегу, в свете пламени костров то и дело мелькали ослепительно белые ножки. Доктор проглядел все глаза и, надо полагать, не прочь был пуститься следом, но вовремя вспомнил, что он — человек культурный, и побрел по-стариковски рядом со своими собратьями, — приемными отцами. Тут только я заметил, каким усталым и обрюзгшим стариком становится доктор, когда думает, что никто на него не смотрит.
Однако у последнего костра, возле самой околицы, он приободрился снова. Там сидела Мари Малярша, прижимая к себе Шати, на коленях у которого покоилась голова ягненка. Таким образом, сходство с Мадонной было полным.
— Добрый вечер, красавица, — доктор остановился, а поп с нотариусом пошли дальше. — Пойдемте прыгать через костер? Прыгаю я не хуже вашего Андраша.
— Прыгайте на здоровье, — женщина взглянула на него исподлобья. — Всяк скачет, пока жив. А мне вот не до прыжков.
Я тем временем попробовал подружиться с Шати. Мальчик забавлялся оловянным солдатиком величиной с палец. При ближайшем рассмотрении оловянный солдатик оказался не оловянным, а сделанным из желудей. Крупный желудь, две палочки по бокам, две внизу — туловище солдата. Сверху желудь поменьше — голова. На голове желудевая чашечка — шлем. Настоящий желудевый Вильгельм Телль.
— Что это у тебя, Шати? — я склонился к нему.
— Желудевый гусар, — ребенок с гордостью продемонстрировал мне свое сокровище.
— Кто тебе его сделал?
— Матушка Мари.
— Славный гусар, Шати.
— Нет, не славный. Штыка-то у него нету, — ребенок помрачнел; скорбь его была куда сильнее, чем скорбь королей, чьим солдатам не хватает штыков.
Я вспомнил, что у меня есть булавка для галстука; обычно она лежит в бумажнике: оттуда ее проще доставать, когда нужно поправить сигару, которая не желает раскуриваться. Я вытащил булавку и приладил ее гусару.
— Ну вот, теперь у него есть штык, Шати!
Передавая ребенку игрушку, я случайно коснулся руки женщины. Теплая, мягкая, изнеженная рука — это чувствовалось сразу.
— Вы, видать, тоже детишек любите?
— Только чужих, — улыбнулся я.
— Своих-то нету?
— У меня и жены нет.
Женщина подняла на меня большие темные глаза и убрала руку.
— Спокойной ночи, Шати, — я погладил ребенка по головке. — Пусть тебе приснится лошадка для твоего гусара.
Доктор тем временем, по-видимому, попытался погладить Мари, потому что послышался звонкий шлепок. Мари шлепнула доктора по рукам, как поступала в свое время с художником. Только тогда она смеялась, а теперь смотрела так, словно вот-вот разрыдается.
На задворках церкви мы распрощались с нотариусом и с доктором, причем доктор вместо «спокойной ночи» сказал нам по-русски «здравствуйте».
— Слушай, Фидель, — спросил я попа, — сколько языков знает этот ваш доктор?
— Ни единого, за исключением венгерского. Но, вернувшись из плена, он вообразил, будто умеет говорить на всех языках.
— С женщинами он, во всяком случае, общего языка находить не умеет — так мне показалось. Мари Маляршу — и ту трясет, когда он возле нее увивается.
— Старый осел этот доктор, — поп внезапно сделался серьезным. — Представь себе, он и на почтальоншу глаз положил. Но это умная девушка, дружище; когда доктор совсем ошалел, она поцеловала ему руку и просила никогда в жизни не оставлять ее, стать ей дорогим старым другом, она, мол, будет ему любящей дочерью до самой могилы. Так доктор и стал приемным отцом Ангелы.
— Но ведь нотариус, кажется, тоже?
— Тут, видишь ли, совсем другое дело. Нотариус — человек порядочный, вдовец, он хотел просить Андялкиной руки. Ну и спросил ее, как она посмотрит, если он возьмет женщину в дом? Андялка отвечает: это, мол, будет разумно, кто-то же должен вести такое большое хозяйство. «А что бы вы сказали, если бы я нашел женщину по себе на почте?» Тут Андялка отвечает, что поговорит с матушкой и будет счастлива назвать дядюшку нотариуса дорогим отцом. Тогда нотариус глубоко вздохнул и попросил девушку обождать: надо, дескать, все хорошенько обдумать, он ведь как-никак уже старик, у него свои причуды, а обременять никого не хочется. Андялка ничего не сказала матери, но с тех пор зовет старика «папашей нотариусом».
Мне хотелось спросить попа, он-то как попал в приемные отцы длинноногой почтальонши, но я не решился. Впрочем, кто-нибудь так или иначе расскажет: не нотариус, так доктор.
Однако Фидель улыбнулся и положил руку мне на плечо.
— Ты, наверное, хочешь знать, при чем здесь я? Так вот, я не ухаживал за нею и не просил ее руки, а, напротив, сам возложил руки ей на голову, еще у гроба ее отца. Нет, не как добрый самаритянин — чего скрывать? Девочка ведь и не плакала вовсе, а сидела себе тихонечко у гроба и шила траурное платье для куклы, напевая какую-то песенку. Я погладил ее по головке, она засмеялась, тогда я взял ее на руки, и она меня обняла. Не знаю, что чувствует отец, когда его обнимает ребенок; возможно, тот, у кого есть на это право, как раз ничего и не чувствует, знаешь, то, что всегда под рукой, быстро надоедает — у меня, же прямо сердце зашлось, мне все хотелось еще и еще, и я пошел к ним и на другой день, и на третий. Должно быть, в каждом человеке есть запас любви, и ее надобно истратить, все равно на что. Один любит женщину, другой — собаку, третий — цветы, а моя любовь излилась на этого ребенка. Я устроил ее в школу, а потом на курсы, выучил ее английскому и французскому, отправил учиться в Пешт, а когда во время войны она написала матери, что хочет жить дома, рядом с нею, я добился, чтобы у нас открыли почту и определили сюда Ангелу. Потому что работать она хотела во что бы то ни стало, не подвернись ничего другого, с нее бы сталось взять лопату и выйти в поле.
— Красивая девушка.
— Чудесная девушка, дружище. Сам девский барон, когда бывает дома, что ни день наезжает к нам за марками.
— И все-таки он не женится на продавщице марок. А за девского чабана она вряд ли пойдет. Что же станется в глуши с такой интеллигентной, умной, красивой девушкой, как мадемуазель Андялка? Ей же здесь не с кем словом перемолвиться из молодых людей, кроме разве что помощника нотариуса, господина Бенкоци.
— Попал в самую точку, — поп повеселел. — Андялка нынче запретила юному господину появляться на почте, она прямо-таки терпеть его не может из-за его, безделья. Ей, говорит, до сих пор стыдно, что общалась с ним в Пеште, но тогда он казался совсем другим. Я сам слышал, как она назвала его романтическим ослом; мне пришлось сделать ей внушение: дескать, не пристало юной девице разговаривать таким тоном, так она мне едва глаза не выцарапала: нечего, мол, защищать такого никудышного лодыря, из которого никогда ничего не выйдет. Замечательная девушка, дружище, вот увидишь, ты тоже полюбишь ее, как только узнаешь.
Никогда не был особым любителем юных девиц, они всегда казались мне какими-то недозрелыми.
А вот вставить юную девицу в роман не мешает; розовая юбочка будет прекрасно смотреться на темном фоне, такие штучки всегда имеют успех.
Все сошлось одно к одному: на следующее утро звонарь сообщил, что на мое имя пришел денежный перевод, который я должен получить в собственные руки. Сорок семь крон пятьдесят шесть филлеров, по единственно справедливому сантиметровому тарифу, посылал мне «Будапешта семле» за небольшой обзор новейшей литературы о Помпеях.
На этот раз в клетушке сидела приемная дочка. Ну, наконец-то! Поглядим-ка на эту раскрасавицу, которая с помощью жасминного прутика управляет тремя стариками.
Я сразу понял, что четвертым не стану. В круге моих интересов женщинам принадлежал всего лишь узенький сектор, не до конца вытесненный более серьезными вещами, и тут я предпочитал крайности. Это не так уж странно для человека, во всем остальном способного служить живым воплощением горацианского принципа золотой середины. Я никогда не пью горячего чая, всегда воздерживаюсь от мороженого, кофе обычно разбавляю молоком, но ценю либо ярких блондинок, либо жгучих брюнеток. У мадемуазель Андялки волосы были каштановые, коричневые — в тени, — с бронзовым отливом — на солнце, впрочем, длинные и, должно быть, мягкие на ощупь. Она показалась мне скорее высокой, чем низкой, фигура ее — в смысле пропорций — вполне соответствовала киргизскому идеалу доктора, кисти у нее были узкие, а пальцы напомнили мне изящный остов женской руки скандинавского бронзового века. Разумеется, вместо бронзовых браслетов на ней были хлопчатобумажные нарукавники — невольничье клеймо всех конторских барышень. В целом я нашел ее миловидной, хотя лица не мог разглядеть до тех пор, пока не подошел вплотную к зарешеченному окошку и не пожелал ей доброго утра: тут она оторвалась от своей работы и подняла на меня глаза. (Она корпела над каким-то бланком, и на подбородке у нее, помнится, была красная клякса.) Личико оказалось славное, далекое от канонов красоты, загорелое и местами веснушчатое, глаза неопределенного цвета, но необычайно лучистые, взгляд веселый, но немного насмешливый, нос — никак не античный, но и не опереточно-курносый, а чуть-чуть вздернутый, рот немного великоват, но улыбка, которой было встречено мое приветствие, — очаровательна.
— О, я-то уже знаю господина председателя. — Белые зубки так и засверкали. Зубки мелкие, но один из нижних резцов чуточку выдается вперед. На том я закончил опись и приложил все усилия к тому, чтобы выглядеть светским львом — как-никак я имел дело с приемной дочкой моего гостеприимного хозяина.
— Откуда же вы меня знаете?
— Про вас что ни день говорят приемные папочки, и потом я как-то видала вас издали.
Гляди-ка, ни один из старых потаскунов не признался мне, что ежедневно наведывается на почту посмотреть прогноз погоды, вывешенный над дверями. (В тот день ожидался проливной дождь; только потом до меня дошло, что прогноз-то трехлетней давности.) Барышня, разумеется, не была за это в ответе. Признаться, что я тоже как-то имел счастье видеть издали барышнины ножки, было невозможно. О чем же, спрашивается, мне с ней разговаривать?
— Угадайте-ка, господин председатель, когда я вас видела? Вчера вечером, у костров, там, внизу. Правда, я, приметив господ, тут же сбежала, потому что была одета замарашкой. Девушке вроде меня не мешает всемеро похорошеть, а в моем платье через костер не попрыгаешь, хотя его тоже особенно длинным не назовешь.
Тут она встала, давая мне убедиться, что ее платье для прыжков через костер непригодно. Назвать его длинным и в самом деле было трудно. Стройные ножки в белых парусиновых туфлях и серых чулках выглядывали на целую пядь. В чулках они выглядели очень маленькими и красивыми, так и хотелось погладить. Но мне-то зачем их демонстрировать? Ножки живых женщин более не входят в круг моих интересов. Меня давно уже занимают скелеты дам не моложе тысячи лет. (Ну и само собой — те воображаемые ножки, на которых предстоит передвигаться героиням моего романа. Хоть бы они уже научились ходить, что ли!)
— Мое почтение, мадемуазель!
Я смотрел на девушку, она — на меня, но мне показалось, что видит она кого-то другого, за моей спиной. Я обернулся: в дверях стоял юноша, этот, как бишь его? Ах да, господин Бенкоци. Внутрь он не вошел, ему ведь запретили, и ограничился тем, что опустил письмо в ящик.
«До свидания, мадемуазель», — послышалось под стук крышки.
Некоторое время девушка смотрела на меня довольно бессмысленно, но потом встрепенулась и вспомнила, кто я такой.
— Не угодно ли получить деньги, господин председатель?
Сорок семь крон можно не пересчитывать, но «расписка в получении» — та же, что на сорок семь миллионов. Нужно расписаться в книге доставки и на бланке перевода. Причем, когда за рукой твоей следит незнакомая женщина, писать следует аккуратно. Для каллиграфии, в свою очередь, необходимы хорошие перья, но хороших перьев не найдешь ни в одной венгерской конторе. Думается, последним приличным пером в истории нашего отечества было то, которым король подписал коронационную присягу. (Из чего следует вывод: в конторах и в самом деле нельзя держать хороших перьев.)
Чтобы обуздать расшалившееся перо, потребовалось время. Мадемуазель Андялка между тем кликнула почтальона дядюшку Габора, поливавшего георгины, и попросила: «Упакуйте, пожалуйста, дядюшка Габор». Речь шла о том, чтобы вытряхнуть из ящика и упаковать в мешок все письма, брошенные со вчерашнего утра.
Для однодневной почты хватило бы крошечного мешочка: переписка не пользуется в этом обществе особой популярностью. Вся почта состояла из одного-единственного письма, дядюшка Габор перед моим носом протянул его барышне.
— Извольте поставить штемпель, а то у меня руки грязные.
След пятерни уже красовался на конверте, причем такой здоровый, словно рука дядюшки Габора состояла из одних только больших пальцев. Не знаю, как отнесется к этому «ее Благородие госпожа Бимбике Коня», чье имя было выведено рукой, явно дрожавшей в лирическом порыве. Отправитель отнюдь не стремился остаться неизвестным, напротив, он как будто похвалялся перепиской с госпожой Бимбике Коня. Вместо того чтобы написать свое имя на обратной стороне конверта, как делают порядочные люди, он представился на лицевой стороне: «отправитель: Элемер Бенкоци».
Мадемуазель Андялка взяла письмо в руки, и личико ее исказила гримаса отвращения, губки презрительно оттопырились, как будто она хорошо знала, что там, внутри. Штемпель она обрушила с такой яростью, словно хотела поразить письмо насмерть. Однако, когда я наконец смог откланяться, девушка улыбнулась и протянула мне руку непринужденным, естественным жестом. Рукопожатие не оставляло ни малейших сомнений в том, что Андялка воспитывалась в Sacre Coeur[94]: только там можно выучиться такому безыскусному изяществу.
Н-да, ничего общего с рукопожатием Марты Петуха, который вцепился в меня и оттащил в сторонку, как только я пришел к кургану. Большие мозолистые пальцы схватили мою руку мертвой хваткой.
— Слышьте-ка, — сказал он, сверля меня пронзительным взором, — что, кум Бибок правду говорит?
— А что же такое говорит кум Бибок?
— А то он говорит, что вас сюда Рудоль[95] прислал, и ищете вы те ружжа, что невесть когда запрятали. Так что ж, коли отыщете, так наново войну затеете?
— Какой такой Рудоль?
— Так-таки не знаете, — подмигнул старик, — кто ж как не сынок Ференца Йошки, его ишшо Рочильд из-за дочки сгноить хотел.
— Так вы, стало быть, в солдаты к нему хотите?
Старик заметно перепугался. Он решил, что я не сходя с места запишу его в солдаты, и в голосе его зазвучали униженные нотки:
— Да какой там, не гожусь я больше для энтого дела, годы мои не те, да и грудной хворобой маюсь, сухотка называется. А вот ружжо для Рудоля имеется, тут оно, при мне, пойдемте-ка покажу.
Он поманил меня к подножию холма и вытащил из камыша карабин времен дворянских восстаний, во всяком случае, мне так показалось, впрочем, утверждать не берусь: приклад совсем сгнил, а железо проела ржавчина.
— Эта штука, должно быть, долго лежала в воде, — сказал я, чтобы сказать что-нибудь.
— Могет быть, его ведь в колодце нашли; я так понимаю, что тем он дороже. Я б уступил его Рудолю сотен за пять, а вам из них — сотня, за труды.
— Этот хлам, дядюшка, задаром никому не нужен. Попадись он вам на дороге, видит бог, не подняли бы.
— Ну нет, энто вы зря. Нимца из ево стрелять можно, вот только ружейнику отдать поправить.
Рискуя потерять престиж, я все же вынужден был признаться, что не имею к Рудолю ни малейшего отношения. И вообще Рудоля давно похоронили, а если б он и был жив, то вряд ли нуждался бы в ружьях, так как был бы глубоким стариком.
— Что ж, коли вы говорите, значится, так оно и есть, только вот неправда это, сударь.
— Что неправда? Что он умер?
— Во-во, она самая неправда и есть.
— Да почему же?
— А потому, что ежели б он помер, то не затеял бы войны в четырнадцатом годе.
Я не нашелся, что возразить: почему, собственно говоря, разнообразные «синие», «красные» и «белые книги»[96] должны убедить Марту Петуха, если они меня самого не убеждают? Старик, таким образом, одержал надо мной блестящую победу, однако его вера в нравственный порядок вещей, по-видимому, пошатнулась: некоторое время он с сожалением рассматривал карабин, но в конце концов все же зашвырнул его в болото. Если Рудолю в один прекрасный день не хватит ружей, чтобы стрелять «нимца», пусть пеняет на себя!
Стоило старику спуститься обратно в яму, как все прочие немедленно окружили его; надо полагать, он давал им отчет. Впрочем, венгры мои были готовы отложить лопаты по любому поводу. Если дядюшке Петеру приходило желание выкурить трубочку, он обращался к дядюшке Яношу с просьбой о «кясете» и запрашивал дядюшку Иштвана насчет спичек, но вот наступал торжественный миг, и всякий должен был поглядеть, словно ни разу в жизни не видел, как зажигают спичку о рукоять лопаты. Гоняла ли в поле сусликов какая-нибудь приблудная собака, кружился ли над камышами аист, или выскакивал из зарослей клевера заяц, все как один облокачивались на рукояти лопат, и каждый имел что сказать по этому поводу. Нет, что бы ни говорили наши недоброжелатели, а все-таки даже самые простодушные дети этого народа рождены депутатами национального собрания! А что было, когда на горизонте появлялся фининспектор! Он, наверное, давным-давно спал сном праведника, если слово это применимо к фининспектору, а в недрах Семихолмья все еще продолжались дебаты о том, чего это нелегкая принесла господина досмотрщика, сколько у него звезд и чей он крестник.
Нельзя сказать, чтобы меня не раздражало это безделье, но не вгонять же в краску пожилых людей мне, человеку со стороны, да еще в их собственной деревне? Правда, доктор как-то раз попытался их отчитать, но Андраш Тот Богомолец как церковный староста и к тому же прирожденный оратор образумил его следующим образом: «Тише, сударь, земля-то, она ить никуды не убегет»…
Надо сказать, Андраш как человек бывалый, не раз водивший богомольцев аж в самую Радну[97] (до тех пор пока желающим поклониться Божьей Матери в раднайском храме не пришлось менять «визию»), — так вот, этот Андраш в качестве спорщика с лихвой отрабатывал поденную плату. Как правило, он давал тему, а кум. Бибок жадно цеплялся за нее и шпарил дальше.
Вот и сейчас Андраш заверил меня, что ежели богу будет угодно, в этом холме непременно отыщется сам Надьсерварош, слыхали о таком?
— Нет, не слыхал.
— Ну как же, он ведь, чтоб вы знали, доставал от Сабадки аж до самого Кечкемета, — кум Бибок перехватил инициативу, всеми остальными это было воспринято, как команда «вольно!». — Одних храмов там было тридцать три штуки, и все как есть построили предки господина маркграфа, ишшо при Ветхом завете. Ажно при прародителе Арпаде дело было, сударь, здесь ведь уже тогда Палович правил.
Мне оставалось лишь порадоваться возможности расширить свои познания о семействе Паллавицини[98], фигурировавшем, как выяснилось, еще в Ветхом завете, черпая из столь достоверного источника; не думаю, впрочем, чтобы сами они были рады признать своим предком Авраама. Я вновь обратился к оратору с кошутовской бородой:
— А что, Палович этот — важный господин?
— Дюже важный, сударь, уж такой важный, что через его никак моста над Тисой не сервитируют.
Рудольфа бы сюда! Нет, не престолонаследника, а денщика, моего высокоученого Рудольфа. Он наверняка знает, что такое «сервитировать», а я вот понятия не имею. Все-таки я спросил: это как же? Денег не хочет давать, что ли?
Слово опять взял Андраш; надо полагать, он был сильно зол на Паловича, так как голос его скрипел сильнее обычного:
— Это бы, сударь, полбеды, налоги-то народ платит, с энтих налогов правительство могло бы и мост построить, кабы и в правительстве собаки не сидели. Да беда-то в том, что тут Палович командует, а ить он что говорит? Он говорит: не будет вам моста. Ему, глядишь, тоже пришлось бы налог с моста платить, а на кой ему энто надоть? И не будет здесь никакого моста, пока старый Палович не подохнет, кто бы там чего ни болтал.
Раз уж дошло до обмена мнениями, я был не прочь узнать, как судят мужики о мировых проблемах, из-за которых городские патриоты глотку друг другу перегрызть готовы. Но ожидание мое было обмануто, у меня нет пятидесяти лет в запасе, а между тем мировая война, к примеру, станет предметом разговоров никак не раньше. К тому времени юноши состарятся и только тогда поведают следующему поколению, что им довелось испытать в сербских горах и на польских равнинах. Что касается моих стариков, то для них отечественная история остановилась на престолонаследнике Рудольфе, а мировая — на русско-японской войне, хотя излюбленная их тема — буры. («Буряки вот тоже были народец мелкий, а побеждать умели», — задиристо говаривал кум Бибок кривому Митёку, здоровенному верзиле, которому кум Бибок едва доставал до пояса.) Не то чтоб они вовсе не слыхали, что с тех пор еще что-то происходило, но какой интерес говорить о том, что все: и так знают? Вот Мария-Терезия — дело другое и пращур Арпад — тоже, тут не всякий знает, что к чему, тут и в семьдесят лет можно порассказать много новенького. (Меня, к примеру, глубоко поразило известие о том, что на «Тороянской» войне сражался венгерский капитан по имени Аг Иллеш. Правда, лет мне всего лишь сорок — неудивительно, что я многого не знаю. И все-таки есть у меня подозрение, что этот Аг Иллеш — не кто иной, как Ахиллес из Троянского цикла, пересаженный кумом Бибоком на венгерскую почву.)
Слово «родина» они упоминают крайне редко, да и с чего бы? Налоги платят «гасадарству», войну устраивает кайзер («сами знаете, как кайзера не стало, и войны некому затеять»), родина же присутствует только в детских стишках на школьном экзамене: «Слово чудное „отчизна“, всем нам мать она родная». Тут на глазах выступают слезы и катятся-катятся по морщинистым щекам: что-то сталось с нашей бедной матерью? Руки-ноги поотрезали злодей, расправились с ней, как с пасхальным барашком. Но вот экзамен окончен, ребенок идет либо в пастухи, либо в батраки, кому как по божьему соизволению на роду написано (судебный исполнитель — и тот божья тварь, тут уж ничего не попишешь, со Всеблагим не поспоришь), а «родина» благополучно забывается до следующего экзамена. С теми же, кто слывет «большими патриотами», разговаривают только в случае крайней необходимости, ибо так называют людей болтливых, въедливых и приставучих.
Что же до «политического положения», о котором беседуют в культурном обществе, то здесь об этом и речи нет, разве что кто-нибудь из городских скажет во время выборов — так ведь это их хлеб насущный. Ну а здесь, если «положение» — так это о бабе, только это уж их бабское дело, а мужикам и без того есть о чем перемолвиться. О налогах — пожалуйста, еще со времен короля Иштвана Святого; о «воде» (так здесь называют реку), лениво текущей меж зарослей ивняка и пенящейся едва заметно — совсем как крестьянская жизнь течет; о гудящих пароходах и баржах, что снуют взад-вперед, а после них всего-то и остается, что легкая рябь, да и та разбивается, набегая на обрывистый берег; о поросятине, которая, слава те господи, здорово выросла в цене, в прежние-то времена дом можно было купить за ту цену, что нынче за паршивого поросенка дают; о сапогах, за которые в городе, того и гляди, запросят как за цельного быка, так их и разэтак; но прежде всего — о земле, единственной и вечной, которую почитают, как мать, любят, как жену, и ласкают, как ребенка. Андраш Тот Богомолец так и светится от удовольствия, когда лопата его врезается в жирный перегной, он берет горсть земли, растирает ее между ладонями, нюхает и, кажется, даже пробует языком, как посланник Арпада, сын Кушида[99], за тысячу лет до него.
— Вот это, братцы мои, землица так землица! Жалко, господь бог больно глубоко ее засунул. Как станем ямы закапывать, сверху насыплем.
Тут Андраш внезапно замолк; с поля донесся звон колокольчика, к нам приближались Мари и Шати. Едва красный платок мелькнул вдали, словно мак среди пшеничных колосьев, Богомолец онемел. Так было всегда, когда появлялась его жена: без единого слова брал он у нее из рук салфетку с хлебом или горшок с супом, опустошал и так же безмолвно возвращал. Жена сидела прямо против него, поджав под себя ноги, и либо смотрела в пространство, либо плела для Шати венок.
Сегодня, однако, она была разговорчивее обычного, хоть и говорила сквозь зубы.
— Была я у господина нотариуса.
Андраш не поинтересовался зачем. Молча хлебал суп.
— Он обещался помочь с сироткой. Только в бумаге надобно сразу указать, на чье имя его запишем:) на мое али на ваше.
— Мне энто без надобности, — сурово ответил Андраш, глядя на жену исподлобья. По глазам было видно, что он не прочь кое-что добавить, но сдержался и проглотил слова вместе со здоровенным ломтем хлеба.
Мари пожала плечами, взяла горшок и спустилась к воде. Ополоснув его и наполнив водой, она вернулась к мужу.
Горшок пошел по рукам, словно чаша для питья, женщина тем временем оглядела себя со всех сторон и принялась отряхивать с юбки налипшие колоски, овсюга. Что ж, подожду и я, вернемся в деревню вместе, нам есть, о чем поговорить.
Но когда горшок наконец вернулся к Андрашу и он насухо вытер его лопухом, уйти оказалось совершенно невозможно, потому что поднялась ужасная закружиха. (Странное название, немного языческое, но, пожалуй, такую жуткую погоду иначе не назовешь. Этот деревенский язык столь же прилипчив, как и пештский, хотя и не так хорош.)
Метеорологические прогнозы всегда сбываются, просто всему свое время. Вот и теперь сбылось предсказание трехлетней давности, причем грозовой шквал налетел так внезапно, что даже прибрежные ласточки не успели опомниться, между тем как это их прямая обязанность. Сначала поднялся вихрь, закрутив на дороге столб пыли, не ниже колодезного. Марта Петух, разумеется, тут же швырнул в него лопатой: всем известно, что вихрь поднимает ведьма, и если прицелиться как следует, можно ее прибить, тогда в песке останется капелька крови — однако и это не помогло. Из-за Тисы украдкой взобралось на небо маленькое облачко, не больше парусинового холста, на котором сушат пшеницу, на него тут же набросился ветер, раскатал, растянул по всему небу, словно саван. Внезапно стало темно, а ветер, покончив с делами на небесах, огромной птицей слетел на землю и принялся раскачивать крыльями кроны деревьев, ногами взметая песок до небес. Вырванные из земли и сцепившиеся друг с другом кусты перекати-поля неслись по дороге, как бешеная волчья стая. В вышине свистел, завывал, хохотал и стонал дьявольский орган; за облаками сперва как будто катали огромные бочки, потом кто-то встряхнул гигантскую котомку с орехами, небо рассек огненный хлыст; сильно громыхнуло, и наконец разверзлись хляби небесные: капель не было, дождь хлынул стеной.
Мужики разбежались кто куда и попрятались под нависшим крутым берегом, под кустами, как ни заверял их кум Бибок, что «вода — она всюду вода». Сам он, впрочем, тоже мокнуть не собирался, а потому быстренько сорвал с себя то немногое, что на нем было надето, запихал одежонку в соломенную шляпу с широченными полями и уселся по плечи в поросшей камышом луже, громко оповестив всех: по нему, дескать, пусть льет хоть до вечера, теперь уж он не промокнет. На холме остались только я да Мадонна с ягненком, инстинктивно прикрывшая голову подолом синей перкалевой юбки, как будто это могло помочь при таком потопе. Я оглянулся в поисках укрытия. Неподалеку от холма, по ту сторону дороги, примостилась деревянная развалюха, она же — саперная будка. (Под саперами здесь следует понимать не военных, а дорожных рабочих.) Я подхватил Шати на руки, укутал его своим парусиновым плащом и крикнул Мари:
— Бегите за мной!
Едва мы добежали до развалюхи, в небесах начался настоящий ураганный огонь. Небосвод был объят пламенем и трещал, словно собираясь обрушиться на нас. В довершение ко всему Шати непрерывно пищал, как кошка, которой отдавили хвост:
— Барашек… мой барашек…
Ах, черт возьми, ягненка-то мы и вправду в панике позабыли, как бы из него бараньего жаркого не вышло!
Бедный малыш плакал так жалобно, что у меня не стало сил терпеть. Пришлось собираться в дорогу; не имея возможности последовать примеру кума Бибока, я ограничился тем, что сбросил туфли.
— Ой, не ходьте. — Женщина, разгадав мои намерения, схватила меня за руку. — Как сверкнуло-то, батюшки-светы!
Я и сам невольно зажмурился от ослепительной вспышки. Снаружи внезапно наступила тишина, ветер как будто прихлопнули ладонью, даже стук дождя стал медленнее. Слово было за небесной тяжелой артиллерией — природа замерла в ожидании.
Бабахнуло так, что даже Шати перестал реветь и в ужасе сунул палец в рот.
— Прямо над нами! — Мари била дрожь. Я взглянул на нее: она была даже не бледная, а какая-то зеленая. — Ради всего святого, не ходьте!
За меня уже давным-давно никто не боялся, а ведь временами это совершенно необходимо. Ничто так не разжигает отваги, как сознание, что за тебя боятся.
— Погоди, Шати, будет тебе твой барашек!
Я всегда подозревал, что овцы попросту симулируют тупость, понимая, что люди любят тех, к кому можно относиться свысока. Наедине с собой баран очень даже неглуп. А этот в особенности. Он нашел убежище не в зарослях репейника, а в гуще клевера, откуда его обычно гоняли. Когда я схватил его, он явно был очень недоволен и до самых дверей развалюхи не переставал вертеть головой, оглядываясь назад.
Шати тотчас же повеселел и принялся тереться чумазой мордашкой о влажную шерстку ягненка. Мари сказала лишь: «Благослови вас бог» — и подала мне лопату, чтобы я хотя бы сел на сухое.
Грохот тем временем поутих, зато дождь лил все сильнее и сильнее. Внезапно за шиворот мне упала крупная холодная капля, я поднял голову: крыша развалюхи протекала. А как известно, принимать водицу за шиворот по капле очень неприятно, уж лучше ведро разом. Я был вынужден перейти на другую сторону и сесть рядом с Мари. Не подумайте ничего плохого. Соприкасались только наши плечи. А между коленями — главными проводниками электричества — примостились в качестве изоляции Шати с ягненком. Если бы в пещере между Дидоной и Энеем оказался Асканий, Вергилию пришлось бы написать совсем другую «Энеиду».
Дождь все никак не унимался, и я решил завести беседу.
— Скажите, сколько лет вы женаты?
— На рождество десяток минул, — она взглянула на меня с удивлением.
— А детей у вас никогда не было?
Она сникла и подперла голову руками, словно невесть какую тяжесть.
— Кабы бог дал мне ребеночка, много чего было бы по-другому!
Она мрачно уставилась прямо перед собой и продолжала, с трудом сдерживая слезы:
— Два раза ползала я на коленях кругом алтаря раднайской Божьей Матери, у черной Марии была в Сегеде — все без толку. Мужик мой для того и пошел в церковные старосты: думали, может, господь к нам скорее обратится, ан и это впустую. Два года я постилась, по средам, пятницам и субботам все на хлебе да на воде — и поста моего боженька не принял. У чепайского святого была, и тот ничего не сказал, ничем не помог. Померк с той поры для меня белый свет.
— Еще засияет, милая, дайте срок, — я положил руку ей на плечо. — Вы же молодая, да и муж ваш еще не старик.
— Муж? — она упрямо вскинула голову. — Не нужон он мне боле — ни душе, ни телу.
— Да ведь муж ваш, голубушка, совсем неплохой человек.
— А по мне, тот и вовсе не человек, кто поступит с женой, как он со мною.
— Что же такого сделал ваш Андраш?
— Жил у нас один художник, тот, что плохо кончил, слыхали небось? Мужика моего тогда заарестовали, думали, его рук дело. Как заарестовали, так и выпустили, да только с той поры стал Андраш Тот меня изводить, да так, что, кажись, пошла бы в тюрьму вместо него — все лучше.
— Поколачивает он вас? — я оглядел ее с ног до головы: она сидела рядом со мною в мокром платье, облепившем тело, подобная статуе Цереры александрийской школы. Ей ровным счетом ничего, не стоило скрутить хилого муженька.
— Кабы бил, я бы ему спасибо сказала. Кого побьют, того, глядишь, и приласкают. Андраш Тот меня знать не хочет, будто и нет меня вовсе. Как ослобонили его, пошла я его встречать, а он мне уже тогда — ни словечка, так и шли всю дорогу точно глухонемые. Да они хоть руками машут. А этот отвернулся от меня, будто я не я, а чудо морское — как посмотришь, так и ослепнешь.
Шати заснул. Голова его свесилась, и он свалился на ягненка, обвив ручонками его шею. Я выглянул наружу, дождь немного поутих, но все еще падал струйками, как на детских рисунках. Я сел на прежнее место.
— Так что же, Андраш вам так ничего и не сказал?
— То-то и оно, что молчал, как рыба. Ну и я, знай себе, молчу, пока до дому не дошли, ну а там засветила лампадку, вечерело уже, как раз на день всех святых дело было, да тут возьми и вздохни: «Слава тебе господи, наконец-то муженек мой дорогой дома». А он будто не слышит, тут уж я плечами пожала, а сама думаю про себя: ладно, мол, душа моя, небось сам очухаешься. Все ж таки пожарила ему яички, а булку в городе купила заране, румяную, пышную, то-то, думала, удивлю его, небось хороша покажется после тюремной-то корки. Вот даю я ему ужин — он на диване сидел, в углу, что твой сыч, — а сама все жду, что он спросит, сама-то, мол, чего не ешь, да кликнет: садись-ка, мол, со мною. Так он «ступай отседова» — и то не сказал, знай себе, ел молча, а сам злой! Булку всю съел, а яйца только наполовину, ну, думаю, все ж таки есть совесть у мужика. А к нему все Габо ластилась, кошка наша старая, тут он возьми да и посади ее на стол. «Ешь, — говорит, — бедняга!» И знал ведь, что я на дух не терплю, когда кошка на стол забирается и с тарелки жрет, у ней своя миска под столом стоит. Тут уж у меня, сердечко зашлось, сил не стало терпеть, пошла я к себе в горницу, да так в темноте и повалилась на стол, да расплакалась. Вдруг слышу: галдят за окошком — не иначе, люди с кладбища домой идут. Ах ты господи, думаю, нынче же день поминовения, надо и мне свечку сжечь за упокой. Был у меня в горнице маленький алтарь, а на нем образок Девы Марии, всего-то с ладонь величиной, зато глаза такие, что куда ни пойдешь — все на тебя смотрят. Тот художник рисовал, да не с меня, а так, из головы выдумал, но что правда — то правда: как кто ее увидит, так сразу на меня и подумает. Словом, зажгла я свечку, встала на колени перед Святой Девой, тут муженек мой и вошел, от злости аж зубами скрежещет, а в руке у него нож, чем свиней забивают, — ну, думаю, слава тебе господи, хоть заговорит наконец-то. Да не тут-то было: отодвинул он меня в сторонку, а сам подскочил к алтарю как бешеный, и с ножом — на Пресвятую Богородицу, да не просто проткнул, а разорвал ее вдоль и поперек, так у меня в комоде по сей день четыре куска и хранятся. С той поры не муж мне боле Андраш Тот, да и не будет никогда в жизни.
Честное слово, был момент, когда я напрочь позабыл, что изучаю свою будущую героиню. Не Мари Маляршу взял я за руку, а супругу Андраша Тота. Хотя жалел я не столько ее, сколько беднягу Богомольца, поднявшего из-за бабы руку на Богородицу. Вот она истинная трагедия, это вам не писательские выдумки. (Мне и самому впервые пришло это в голову. У большинства писателей не глаза, а телескопы: ищут тему среди туманностей и не замечают, что она под руками. Это тоже истинная трагедия, трагедия писателя.)
— Не говорите так, голубушка. Все как-нибудь разрешится, надо вам только излить мужу душу. Знаете, когда все выскажешь, то и договориться легче.
— Не о чем мне с ним договариваться! — Женщина упрямо вскинула голову, сурово поджала на удивление яркие губы и затянула потуже платок, с которого струилась вода, как из призницевых бинтов[100]. — Опоздал Андраш Тот. Пытался он с тех пор ко мне подольститься, да я не из таковских.
В доказательство того, что она из другого теста, Мари хлопнула меня по колену. Была она в тот момент несказанно хороша собой. Глаза горели, как у дикой кошки, готовящейся к прыжку, лицо пылало от гнева.
Я почувствовал потребность закурить. Мне с молодых ногтей известно, что табачный дым спасает не только от комаров. Пропахший табаком мужчина застрахован от многих глупостей, которыми чревато соседство красивой женщины. (Правда, с тех пор красавицы успели выбить из мужских рук это орудие самозащиты. Ныне они закуривают первыми.)
Сигары я нашел, но они превратились в кашу, а Спички тоже безнадежно размокли. Выручил меня Мопассан. Мне пришла на ум его новелла, в которой рассказывалось, как кавалер некой особы в ярости защипал до синевы младенца, всякий раз принимавшегося вопить на весь дом в самый неподходящий момент. Я не стал щипать Шати, чтобы не спал, когда не надо, а незаметно наступил на ногу ягненку. Ягненок заблеял прямо у Шати над ухом, отчего тот немедленно встрепенулся и вернулся к своим «изоляционным» обязанностям. Ну вот, поехали дальше. Теперь можно не опасаться стрел маленького божка.
— Видите ли, голубушка, вся беда в том, что муж ваш так и не знает, что было у вас с художником. Неужто за семь лет вам ни разу не приходила в голову такая мысль?
— Как не прийти! — Мари надменно передернула плечами. — Спроси он вовремя, я бы ответила. Ничего и не было, окромя того, что он своими глазами видал. Он-то, художник, пошалить любил, известное дело, человек молодой, ласковый он был, нравился мне, чего греха таить. А согрешить, как бог свят, не согрешила.
— Вот это-то и надо было вашему мужу хоть раз услышать из ваших уст!
— Мог бы и спросить, времечка-то хватило — семь годков, ни больше ни меньше. Так нет же, все маялись бок о бок, что твои грешники в аду. Было время, думала руки на себя наложить, особливо в темноте донимал враг рода человечьего, бывало, лягу в постелю и до зари места себе не нахожу, только потом и это прошло, смилостивилась Пресвятая Дева Мария. Что ж мне, из-за этого греховодника на вечные муки идтить?
— И не надо, голубушка, вот увидите, жизнь вас еще порадует, вы же молодая и такая красивая!
На этот раз Мари Малярша поправила платок на лбу. На языке платков это должно было означать: «знаю, что хороша, но когда слышу об этом, смущаюсь и хорошею вдвое».
— Вот и чепайский святой ткач то же сказывал, — она потупила глаза. — Я ить и у него была, спрашивала, что духи про меня говорят. Явились они к нему, сами все в белом, а на груди розы красные приколоты, и сказывали, чтобы потерпела я ровно семь годков, а там обрету венец всей жизни моей.
Чепайский святой ткач? Как же, знаю я этого нехитрого пророка. Он беседовал с духами, когда я был еще совсем ребенком. Моя матушка была у него однажды и с тех пор не раз повторяла, что второго такого висельника свет не видывал. Он сообщил ей, что мой дедушка-чабан не выйдет из чистилища до тех пор, пока Святому Венделю не предложат ровно столько, сколько стоит овечье стадо. В посредники он, разумеется, предлагал себя, так как состоял со всеми святыми в дружбе. Себе он не взял бы ни единого крейцера, а дань собирал исключительно во славу святых.
— Этот чепайский святой ткач, должно быть, стар, как Мафусаил. Моя матушка ходила к нему еще молодайкой, а он уже тогда был стариком.
— Так то ж его сын. Говорят, он еще больше святой, чем покойный батюшка, тому духи только в темноте показывались, а к этому и средь бела дня приходют.
Это тоже венгерская специфика: ремесло пророка переходит от отца к сыну, как профессорское звание. У ветхозаветных пророков, насколько я помню, с сыновьями дела обстояли сложнее.
— А сами-то вы духов видали?
— Да что вы, — Мари снисходительно улыбнулась моей наивности. — Куды мне! Мне его карты указали.
— Кого «его»? Духа?
— Не духа, а его. Ну того, о ком духи сказывали.; Вышел мне брунет, стройный, красивый, знатного роду.
На это я ничего не ответил, так как успел усвоить важный постулат деревенской философии: «пусть каждый верит во что ему нравится». Эта бедная Мари живет ожиданием красивого брюнета знатного рода. Так пускай себе ждет, пока не обретет его в докторе, ибо так или иначе этим кончится. В конце концов, он вполне сойдет за брюнета, особенно пока краска свежая.
Дождь прекратился, и капало теперь только с крыши. В приоткрытую дверь заглядывал кусочек радуги, из камышей доносилось буйно-веселое кваканье лягушек. Маленькие водяные квакушки радовались свалившейся с неба субсидии и с воодушевлением возвещали: «Вакса-вакса-квакс!»
На дороге показался поп, он шел к нам, прыгая через разлившиеся лужи.
— Иди скорее, — прокричал он, сложив ладони рупором, — а не то пельмени разварятся!
— Ну, дай вам бог, милая! — Я помахал женщине на прощанье.
Она медленно поднялась, изящным движением оправила влажное платье, посмотрела на меня в некоторой задумчивости и протянула мне руку:
— Спасибо вам за доброту вашу.
Я тут же подумал, что женщине наверняка вспомнился художник. Только он и мог приучить ее к рукопожатию. Вообще-то у деревенских баб эта форма приветствия не в моде. Вторая моя мысль была не столько мысль, сколько откровение. «Спасибо вам за доброту вашу». Художник досягнет героини романа не проторенным путем чувственности, но потаенными тропками души. Деревенская баба, типичная «Мари», ведущая тот же животный образ жизни, что все прочие «Мари». Ей неведомо, что в жизни бывает что-то кроме ругани и поцелуев, отдающих чесноком. Никогда не гладила ее волос нежная рука, никогда не касался лба эфирный лепесток поцелуя, никогда не окутывал шелком нежный взгляд. Все это дал ей художник, он распахнул перед нею златые врата неведомого мира. И вот Мари — уже не Мари, а Мария, невзрачная травка обвилась вокруг ромашек и одуванчиков, душа, подобная гелиотропу, устремилась ввысь к нежности, красоте и солнечному сиянию.
— Это тебе, — поп протянул мне письмо. — Ненастье загнало меня на почту, Андялка просила тебе передать, вдруг что-нибудь срочное.
Увы, это оказалось не письмо, а открытка! Издатель просил меня не забывать о сроках! Он надеялся, что вещь будет достаточно драматична и динамична, в соответствии с вкусами нашей публики, а также заверял в совершеннейшем своем почтении и т. д. и т. п.
Черт бы побрал того, кто выдумал эти открытки! А заодно и тех, кто ими пользуется! Ну можно ли было ожидать от издателя такой бестактности — и экономии-то всего на одну крону пятьдесят филлеров! Спасибо и на том, что в открытке говорится о рукописи вообще, а не о рукописи романа.
Интересно, поп прочел ее? Да нет, не думаю, он нелюбопытен. А вот за мадемуазель Андялку не поручусь. Нигде не сказано, что почтальонши должны быть лишены естественной любознательности. Ну да ладно, еще не все потеряно.
— Ах да, — я сунул открытку в карман, — осенью должна выйти моя книга об известковых сосудах бронзового века, издатель торопит с рукописью.
— Да что ты говоришь? Так это же великолепно, — мой дорогой Фидель любезничал что было сил. Вряд ли ему когда-либо приходилось слышать об известковых сосудах. — Фу-ты, сколько дряни под ногами! — (Идти действительно было нелегко: трава под ногами кишела сотнями крошечных лягушат.) — А рукопись-то готова?
— Как же, готова, черта с два! Знаешь, я думал написать ее здесь, в тишине и покое, но время течет как вода сквозь пальцы, а я все никак не возьмусь за дело.
— Так ведь до осени еще полно времени. Это просто замечательно, дружище, что в моем приходе будет написана книга о бронзовых сосудах известкового века. Мы повесим на память о тебе мраморную доску. В этой деревне за время ее существования не было написано ни одной книги, кроме налоговых.
— Но, Фидель, милый, не думаешь же ты, что я собираюсь сидеть у тебя на шее до осени? — Я беззастенчиво играл в застенчивого гостя.
Голубые кроткие глаза попа смотрели на меня так открыто и бесхитростно, что мне и вправду сделалось стыдно. (Выходит, человека может сделать лживым не только любовь, но и сочинительство. Ни то, ни другое занятие не способствует исправлению нравов.)
— Марци, зачем ты меня обижаешь? Тебе, наверно, у нас плохо? Поэтому ты хочешь нас покинуть?
— Что касается меня, дружище, то мне здесь так хорошо, что я охотно нанялся бы к тебе в звонари. Просто нынче не принято месяцами осаждать чужое жилище.
— Во-первых, дом не мой, а приходской. Во-вторых, когда кончатся куры, будем есть ворон. В-третьих, я к тебе так привык, что ежели ты меня покинешь, я подамся в Банат[101] и наймусь к сербам в епископы.
Тут я, конечно, протянул ему руку. Останусь здесь до тех пор, пока не будет готов эпохальный труд, постараюсь занимать как можно меньше места и не путаться под ногами; как пристроюсь с утра в уголочке со своей писаниной, так до вечера и не вылезу. Фидель понял, что мне нужны тишина и покой, и пообещал, что даже толстопятая служанка будет ходить на цыпочках; обед, если мне так удобнее, можно подавать прямо на рабочем месте, не минуешь только одного — вечерней выпивки.
Вернувшись домой, я первым делом составил график. С шести утра до одиннадцати — работа. Потом — поход за корреспонденцией. (Больше нельзя допускать, чтобы она попадала в чужие руки; возможно, удастся перехватывать ее у дядюшки Габора, чтобы мадемуазель Андялка не совала туда свой хорошенький носик.) До часу — обед, до трех — сон. В моем возрасте это уже залог здоровья. До шести — работа. До семи — прогулка по берегу, этнографические заметки, систематизация мыслей на завтрашний день. До десяти — ужин, выпивка, лорум, словом, жизнь общественная. В десять — покидаем сей мир и переходим в мир сновидений. Разумеется, уповая на грядущее воскресение, а то и на бессмертие. Бессмертие мое будет объемом в десять листов, сто шестьдесят страниц. При таком расписании столп моей славы может быть воздвигнут дней за десять. Мне ничего не стоит написать печатный лист за день.
Стоп, я совсем упустил из виду раскопки! Разумнее всего было бы их прекратить. У предков хватало ума устраивать свои могилы там, куда, по их мнению, никто никогда не полезет. Глупо было бы ухлопать весь будущий гонорар на то, чтобы у Марты Петуха выросли здоровенные дыни, к которым на рынке меньше чем за пятьсот крон не подступишься. Но что, если мне вдруг понадобятся Богомолец или Мари Малярша? Проще всего до них добраться, оставив Андраша служить культуре. Но одного его оставить нельзя: не ровен час, заработается от скуки до смерти. Для безделья нужны по меньшей мере трое. Что ж, пусть при нем остается Марта Петух в качестве госсекретаря и кум Бибок в качестве заместителя. Остальных — на все четыре стороны, пусть поищут себе другого дурака.
Король бы из меня, однако, вышел никудышный: я ни за что не решился бы прогнать ни одного министра. Как же тогда дать от ворот поворот этим ни в чем не повинным людям? Вечером я попросил нотариуса как-нибудь уладить это дело.
— Не беспокойся, дружище. Направим семерых стариканов на общественные работы. Я велю им сосчитать, сколько у нас тутовых деревьев; даже война не отучила министерство земледелия от этой тутовой статистики. Вчера как раз запрос прислали, а на конверте помета «срочно»! Конечно, господину Бенкоци ничего не стоит в один присест сосчитать тутовые деревья хоть во всем комитате, но так будет лучше. Теперь я могу быть вполне спокоен за итоговую сводку, а кто не поверит, пусть плюнет мне в глаза. Доктор, ваша очередь! Нет, не плевать, а сдавать!
Смотрите-ка, все-таки сочинительство облагораживает. Впервые в Венгрии будет правильно подсчитано количество тутовых деревьев — а все потому, что я пишу роман.
Первый день удался на славу. Я написал не один лист, а полтора. От графика, правда, ничего не осталось. Поход на почту, послеобеденный сон, осмотр местности — все отпало. На лошадку вдохновения вскарабкаться непросто, но, раз оказавшись в седле, уже не захочешь слезать, пока сам не свалишься от головокружения. Чудесная штука — медовый месяц с собственной темой! Лицо украшает улыбка, глаза приобретают блеск, сердце становится добрым, тело упругим, а рука — уверенной. Предо мною — гладкий, чистый лист, отличное перо несется по нему вскачь, непрерывно выпуская тоненькую струйку чернил, окажись в чернильнице дохлый слон — и то ни одна щетинка не прицепилась бы к перу. На тумбочке тикает будильник, точно так же он тикал все эти две недели, но лишь сегодня ты замечаешь, какой у него приятный ритм: «так-так! пи-ши!» По руке твоей уже полчаса карабкается муравей; пусть себе карабкается бедняжка, если ему нравится, он никому не мешает; вот он добрался до шеи и взволнованно мечется в волосах; небось думает глупыш, что угодил в лесную чащобу. В открытое окно влетает бенедиктинец, нет, не монах, а известный под этим именем лесной клоп, он садится на бумагу, преграждая путь твоему перу, а ты на это: «До чего же хорошенький жучок!» — и вежливо отодвигаешь его в сторонку черенком ручки, совсем не чувствуя ужасной вони, которая не однажды заставляла тебя выбросить в окно самую роскошную грушу, ругаясь на чем свет стоит.
Когда стемнело, мы сошлись на террасе и сели за карты. Я был воплощенная любезность. Оставшись в дураках, нотариус обычно говорил мне: «Чтоб тебе пусто было!» — а я, проиграв на сей раз, сказал ему: «Из тебя бы вышел неплохой министр внутренних дел, ты разом оставил бы всех в дураках». Попа я ублажал тем, что после каждой сдачи поднимал стакан с его обычным присловием: «Утолим жажду!» Чтобы чем-нибудь порадовать доктора, я сказал:
— Славная девушка эта мадемуазель Андялка. Одна беда — конопатая.
— Кто? — вытаращил глаза нотариус.
Рука Фиделя остановилась со стаканом на полпути.
— Андялка — конопатая? Да как у тебя язык повернулся?
— Годдэм[102], — доктор в ярости шмякнул карты на стол, — я знал одного узбэгского муллу, ему все мерещилось, что солнце рябое. Так он, по крайней мере, понимал, что дело в его глазах, а не в солнце.
— Ну, может, у меня с глазами тоже что-то не то, — я со смехом пожал плечами. — Барышню плохо видно в этой клетушке.
Видно-то видно, да только что мне за дело до веснушек удочеренной особы? Я не стану браниться из-за этого с тремя милыми старыми мальчиками, даже если они вздумают мне грубить. Хотел бы я посмотреть на такую грубость, которая могла бы задеть писателя, опьяненного вдохновением. Эти наивные люди, разумеется, ни о чем не подозревают. Они думают, я под хмельком от их рислинга, и я от души потешаюсь над ними, когда замечаю, что они, перемигиваясь, потешаются надо мной. Но еще милее они мне становятся, когда принимаются втолковывать: проиграл ты, дескать, оттого, что пошел с восьмерки, а не с валета. Ученые, они всегда так, даже за картами думают о всякой ерунде. А я, видит бог, не думал решительно ни о чем. На этой стадии творения посевы всходят сами собой. Приходят в движение потаенные внутренние силы, начинается циркуляция соков в клетках, волоконца первых набросков постепенно уплотняются, в одной химической лаборатории кристаллизуются эпитеты, в другой замешиваются сцены, в третьей варят прочный клей эпизодов, в четвертой дистиллируют юмор. Так все и идет само собой, как в отлаженном механизме, этому заводу директор ни к чему; ему лучше не путаться под ногами, а сесть за карты и поломать голову над проблемой: принять ли все черви разом или не принимать ни одной.
Так-то оно так, да вот только котлы иногда взрываются! Как раз такой взрыв и произошел на следующий же день.
Урчание, предвещавшее катастрофу, послышалось сразу, как только я сел за работу. Перо на первой же фразе стало цепляться за бумагу, обстреливая лист маленькими кляксами на манер шрапнели. Я взял другое перо, но тут выяснилось, что дело в бумаге. Пришлось сменить вслед за пером и бумагу, но на новой бумаге расплывались чернила. В конце концов мне удалось найти бумагу и чернила, ничего не имевшие друг против друга. Я написал пару строк, но «собачий язык» тут же пришлось выбросить. («Собачьим языком» называется на блатном жаргоне лист писчей бумаги, видимо, имеется в виду, что всякая писанина — собачье дело.) Вместо «чело художника омрачилось» я написал: «художник опомрачился». Другими словами, написал сразу и меньше и больше, чем следовало. У меня есть глупое свойство: терпеть не могу подчищенных рукописей, рунические письмена корректорских знаков на полях выводят меня из себя. Я сунул «собачий язык» в корзину для бумаг, закурил новую сигару и переписал вместо двух испорченных строк целых восемь. Не слишком экономно, что и говорить, ну да ладно, в конце концов, я не скороход.
Да, я не скороход, но я и не сучильщик, чтобы то и дело двигаться задним ходом. Между тем мне придется выступить именно в этой роли. В корзину я выбросил не испорченный «собачий язык», а последний лист вчерашней рукописи. Я наклонился, пытаясь его нашарить, и почувствовал запах гари. А если уж я чувствую запах гари, значит, действительно что-то горит: с обонянием у меня плохо, как у всякого заядлого курильщика. Я принюхался, вытряхнул корзину, нигде — ничего, между тем вонь усиливалась. Я заглянул в комнату к попу: запах чувствовался и там. Оттуда я бросился на кухню и крикнул толстопятой:
— Юли, тут что-то горит!
Толстопятая всплеснула руками и швырнула мне какую-то мокрую тряпку.
— Матерь Божия, сударь, на вас же спиньжак горит!
Вот оно что! Закуривая в последний раз, я помахал спичкой и бросил ее на землю, но горящая спичка попала мне в левый карман, который здорово растянулся по причине обилия блокнотов. Там она погасла, предварительно подпалив подкладку, и теперь тлеющее пламя подбиралось к моему жилету.
Я немедленно написал Рудольфу, чтобы он с первой же почтой отправил мне мой полотняный костюм да присовокупил к нему историю венгерского романа Элемера Часара — никогда ведь не знаешь, что может понадобиться.
Письмо это надо бы отправить срочной почтой. Вот только служанку с ним не пошлешь: она помешивает мучную подливку — а больше в доме никого нету. Лучше уж мне пойти на почту в горелом костюме, чем дать подгореть подливке. Судьба подливки беспокоила не меня, а служанку, но я не мог с этим не считаться, а потому сам отправился на почту со своим срочным письмом. Руку пришлось сунуть в левый карман и тесно прижать к телу — так никто не заметит, что я погорелец. Да и недалеко ходить, вот она почта, за первым поворотом, ее садик отделяет от поповского лишь дощатый забор.
По пути мне никто не повстречался, на почте тоже было пусто, только мадемуазель Андялка трудилась в своей клетушке точно так же, как в прошлый раз. И письмо перед ней лежало одно-единственное, позвольте, это что, все то же письмо? Лиловые чернила и пляшущие буквы сразу напомнили мне о ее Благородии Бимбике Коня. Нет, все-таки не то: я не вижу отпечатка пальцев дядюшки Габора. Да и у барышни на лице уже не было того отвращения, что в прошлый раз; завидев меня, она улыбнулась и отодвинула конверт куда-то в сторону.
— Добрый день, господин председатель, чему обязаны такой честью? — сказала она, протягивая руку через зарешеченное окошко. Эта девушка умела смеяться не только ртом, но и глазами. Самые обычные серые глаза, но такие лучистые, что мои собственные тоже невольно сощурились в улыбке.
— Вот, принес вам кое-что, — я сунул свободную руку в негорелый карман. Письма там не было. Ах да, конечно, оно в той руке, что в другом кармане. Я осторожно вытащил руку, ощупывая карман кончиками пальцев, — письма не было. Я так старательно прижимал его к себе, что в конце концов упустил-таки через дырку в подкладке.
Ничего не попишешь, придется выкручиваться, а то выяснится, что я едва не сжег сам себя. Бог свидетель, меня мало волнует людское мнение, но выставлять себя на посмешище ни к чему. К примеру: я обожаю цветы и охотнее всего ходил бы в цветочном одеянии, как таитяне, но в городе никогда не украшаю себя цветами, опасаясь репутации старого осла. Зато здесь я постоянно ношу в петлице цветок, причем, как правило, такой, которого другие не носят. Тысячелистник, лапчатка, куриная слепота и прочие жмущиеся к земле бедняжки — мне жаль их, как старых дев. Зачем цветку родиться цветком, если никто не хочет его сорвать?
Вот и сейчас в петлице у меня красовался такой цветок-пролетарий, точнее, полупролетарий-полубогема, который вполне мог бы прижиться в любом господском саду, будь у него чуточку побольше амбиций: мышиный горошек. Например, его младшая сестрица Lathyrus odoratus[103] именуется в Англии Painted Lady, если цветет розовым цветом, Princess Beatrice в карминном варианте, а в белом — The Queen. У нас же этот цветок так и остался в положении бедного родственника и селится где попало — то на просторах полей, то в кладбищенских зарослях. Нет у него никакого красивого имени, разве что назовут земляным орехом, да и то одни мальчишки-свинопасы. Впрочем, ему до всего этого и дела нет. Он смеется своими алыми лепестками в лицо всему белому свету и вряд ли стал бы веселее, если бы его назвали какими-нибудь «королевскими устами».
Итак, в петлице у меня алела веточка горошка, я вытащил ее и вложил в прохладную ладошку юной почтальонши:
— Это вам.
— Неужто в самом деле мне? А я ведь совсем не заслужила, сегодня у меня для вас даже открытки нет. — (Посмеивается она надо мной или нет? Никак не пойму.) — Пожалуйста, сюда, налево.
— О, что вы, что вы! Прошу вас: идите вперед и указывайте мне путь!
Не хватало мне идти первым! Она бы сразу заметила, что с карманом что-то неладно.
Садик у Андялки был маленький и ухоженный. Там росли белые левкои, вербены, декоративная осока, а также недотрога, герань, петуния и горицвет. У забора красовались в полном блеске цветущие пики махровой мальвы, а георгины все еще дремали в колыбели бутонов. Хороший садик, ничего не скажешь, но совсем нехорошо было то, что Андялка все время норовила оказаться по левую сторону от меня.
— Прошу прощения, — сказал я осторожно, — не настолько я стар, чтобы позволить девушке идти слева.
— О, ни в коем случае, совсем не потому, — смутилась девушка, — просто с этой стороны солнце светит прямо в глаза.
Глаза ее в этот момент напоминали дымчатый сапфир. Но вот что странно: солнце светило нам в спину. По-видимому, пожилые господа более искушены во лжи, нежели юные девицы.
Мы подошли к уличной ограде. По той стороне улицы, насвистывая, шел помощник нотариуса господин Бенкоци — шляпа набекрень, грудь колесом — и делал вид, что нас не замечает. Между тем он не мог не слышать, как Андялка спросила с хохотом:
— Господин председатель, нравятся ли вам недотроги?
— Мне-то нравятся, да вот они меня не особенно жалуют. — (Если дама ведет себя игриво, прямая обязанность кавалера подхватить воздушный мячик шутки.)
— Ну тогда я сорву вам один цветочек. Самый красивый цветочек.
Она порхала среди цветочных головок, похожая на бабочку в своем батистовом розовом платьице, и маленькие садовые ножницы как будто смеялись, пощелкивая у нее в руках. Она услаждала взор, как Цветущий миндаль. Если бы только не висела на мне тяжким бременем проблема горелого кармана! Рука у меня совсем онемела.
— А как вам нравится вот этот горицвет?
— Мне все по душе в вашем саду, кроме одного!
Я встряхнул мохнатую ветку молодой черной ели, которая расставила темно-зеленые лапы, словно желая преградить мне дорогу в рай. Я и вправду не люблю елок на нашем светлом солнечном песке, особенно когда в саду цветут белые левкои, а на заборе чистят перышки голуби. Этому суровому дереву, завещанному нам древним, еще безлюдным миром, самое место среди медведей.
— Как интересно, а я как раз сегодня думала попросить дядюшку Габора, чтобы он ее выкопал. На этом месте можно будет разбить клумбу. Знаете, что я надумала? Ой, как будет славно! Я посажу здесь эти красные цветочки. Земляной горошек, или как вы изволили сказать? Ну вот, прошу вас, не правда ли, славный букетик?
Славный-то славный, но никак не букетик. В руке у нее оказалась целая охапка срезанных цветов.
— Ну вот, теперь перевяжем его осокой. Будьте так любезны, подержите его чуть-чуть.
Ну вот я и влип. Этакий букет можно удержать только двумя руками. Держись, Мартон! — подбодрил я самого себя, ловко вытащил руку из горелого кармана и быстро положил на нее цветы, чтобы они прикрывали карман, а правой рукой придерживал стебли.
— Пожалуйста.
— Нельзя ли поднять чуть-чуть повыше?
Она упорно пыталась выследить взглядом мою неловкую левую руку. Скосив глаза, я с ужасом обнаружил, что горелый карман вывернулся наизнанку. Пытаясь поправить дело, я схватился за него правой рукой и, конечно же, выронил весь букет.
— Ох, какой я неловкий! — я попытался подхватить букет обеими руками и в ту же секунду понял, что погиб. Мадемуазель Андялка в изумлении уставилась на мой грешный левый бок.
— Матерь Божия! Господин председатель, что такое с вашим костюмом?
Я стоял, словно пойманный на шалости ребенок, и вел себя соответствующим образом. Я сделал вид, что ничего не знаю.
— Ай-яй-яй, как же это случилось? Должно быть, Юли утром, пока чистила, чего-нибудь натворила.
— Гладила небось где-то рядом, растяпа, вот искра и попала. — Андялка в негодовании покачала головой. — Зайдемте к нам, господин председатель, прошу вас, я попробую как-нибудь зашить. Это одна минута.
Если бы меня вели на эшафот, я и то не был бы в таком отчаянии, как сейчас, входя в дом бок о бок с юной почтальоншей. Что же теперь будет? Мне ведь, наверное, придется снять пиджак! Мне придется остаться в одной рубашке в присутствии малознакомой особы женского пола! Я бы предпочел очутиться на раскаленной сковородке, лишь бы быть застегнутым на все пуговицы. Но быть может, эта девушка сама не захочет, чтобы я сгорел от стыда у нее на глазах, должна же в конце концов и в ней быть какая-то стыдливость. Хоть бы она не нашла иголки и ниток! Насколько мне известно, с женщинами такое случается.
Однако комнатка оказалась такой аккуратной, что все явно лежало на своих местах. Под двумя подоконниками — книжные полки, заставленные книгами. У стены между окнами — швейная машинка, на ней — раскрытая книга, обложкой вверх. Издание Таухнитца, это мне знакомо. Я скосил глаза: Hall Caine «The Eternal City»[104]. Во мне вновь воскресла умирающая надежда. Тот, кто читает Кена в оригинале, не станет зашивать карманов. Андялка и в самом деле сразу направилась к задней двери, по-видимому ведущей в кухню, так как оттуда доносился запах жареного лука.
— Матушка, милая!
Вошла высокая седая дама, уже знакомая мне по почтовой клетушке. У нее было красивое, открытое лицо, она дружески протянула мне руку и ничуть не удивилась, когда я эту руку поцеловал. Если кто и удивился, так это я сам: до сих пор за мной не водилось привычки целовать руки. Ничего удивительного: когда тебе собираются зашивать карман, невольно чувствуешь себя маленьким мальчиком; если бы эта седая женщина велела мне встать в угол на колени, я повиновался бы беспрекословно.
Но она вместо этого предложила мне сесть.
— Вот хорошо, господин председатель, что вы нас все-таки навестили, — сказала она с мягким укором.
— Ты ошибаешься, мамуля, он пришел не по доброй воле, — прощебетала Андялка. — Взгляни-ка, что сделала эта растяпа Юли с его пиджаком! Нельзя же выпустить его на улицу в таком виде, надо хоть как-нибудь зашить бедняжке. Ты ведь не откажешься, мамуля, посидеть до тех пор в конторе? А господин председатель, я надеюсь, не откажется снять пиджак? Вам помочь?
Ну, не хватало еще, чтобы она ко мне прикасалась! Просто немыслимо, до чего развязны эти нынешние девицы! Мне хотелось попросить ее хотя бы отвернуться, но я боялся, что это будет не совсем прилично. Лучше уж я повернусь спиной. Хотя это уж и вовсе неприлично. Я поспешно повернулся к ней и протянул проклятый пиджак.
— Пожалуйста, мадемуазель. Я так смущен, что и, сказать нельзя…
— Что вы, что вы! — рассмеялась она, перекусывая нитку. — Не смотрите на меня так, господин председатель, а не то мне придется поставить еще и заплату, право, пара стежков не заслуживает такой благодарности.
Мухи на оконном стекле — и те одурели от жары, меня же то и дело бросало в дрожь при мысли о том, что я стою, можно сказать, нагишом. Все-таки я взял себя в руки и указал на «Eternal City»:
— Этот роман есть и в венгерском переводе.
— Потому-то я и читаю по-английски. Сперва я прочитала по-венгерски и поняла, что в оригинале это должно быть очень занятно. Ведь венгерский перевод — примерно третья часть оригинала. Описания, размышления — все опущено. Господин переводчик приспособил книжку к венгерским запросам.
(Ого, это стоило бы записать! Боже милостивый, три блокнота с пометой «Т.» остались там, в целом кармане!)
— Мне этот Хэлл Кен не особенно по душе. «Манксмана»[105] я дочитал до середины, и мне хватило.
— А я очень люблю, это ведь так увлекательно!
— Ну разумеется, любая юная барышня скажет, что по-настоящему увлекательна бывает только романтика.
— Ну нет, господин председатель, — она шаловливо погрозила мне пальчиком в наперстке, — я все-таки еще не так стара! — (Ах ты, маленькая бесстыдница!) — Но кроме шуток: нет у меня никакой принципиальной точки зрения на романы. Сегодня мне нравится Виктор Гюго, а завтра — Якобсен[106]. От молоденькой, глупенькой женщины вроде меня нельзя требовать ясного понятия о том, когда и кого следует любить. В такой вот деревне, куда приходят-то всего две газеты, дичаешь и читаешь то, что хочется. Ну и само собой, что достанешь. Папочка Фидель никогда не возвращается из города без пары новых книжек.
Я быстро смекнул, что девушка мало что смыслит в теории романа, но, прочитав их целую кучу, может наболтать по этому поводу больше, чем «Literarisches Zentralblatt»[107], да и выходит у нее куда изящнее. Особенно вот так, за штопкой, втыкая иголку попеременно то в ткань, то в кого-нибудь из моих именитых коллег. Ей-богу, настоящий бальзам для души.
— Ну вот, еще пара стежков, и все готово. — Она подняла на меня глаза и тут же вскрикнула: — Ой, как я укололась!
В самом деле, показалась капелька крови, поползла по пальцу и внезапно ярким рубином скатилась на пиджак. Я пришел в ужас, несмотря на все Андялкины заверения, что «до свадьбы заживет», и почувствовал себя просто обязанным поцеловать ей руку. Разумеется, не раньше, чем был надет пиджак. Я сразу превратился в храброго мужчину и расхрабрился до того, что попросил почтовой бумаги и конвертов.
— Конечно, пожалуйста, только все будет с гербом венгерского королевства. Других у меня сейчас нет. Папаша нотариус только вечером привезет из города новую пачку.
Я написал Рудольфу новое письмо взамен утраченного, выглядело оно несколько иначе, чем прежнее. Я просил не полотняный костюм, а чесучовый. И три светлых шелковых галстука в придачу.
— Нельзя ли попросить марку? Для срочного письма.
Она заглянула в ящик — ни одной марки там не оказалось. Но ведь можно отправить письмо с доплатой, не так ли? И совсем ни к чему посылать его срочной почтой, дядюшка Габор так или иначе повезет почту прямо сейчас. Будьте экономны, господин председатель! Ну вот, поглядите-ка, а для обычного письма и марка нашлась.
Не в ящике нашлась эта, единственная, марка. Андялка взяла письмо с лиловыми буквами, валявшееся на столе, отклеила марку и прилепила на мой конверт. Оставшееся без марки письмо было сброшено в ящик стола. И все это у меня на глазах! Я начал понимать, почему на почте пропадает столько писем, хотя предыдущий мой опыт подсказывал, что только ненаписанные письма имеют обыкновение пропадать.
Странное дело, вообще-то моя совесть довольно неугомонна, на ней до сих пор лежит тяжким грузом персик, сорванный мною в детстве с дерева соседского семейства Хайнал, а тут, став соучастником Андялки в целой серии преступлений, я примирился с этим на удивление легко. Мы обворовали господина Бенкоци и мадемуазель Бимбике Коня, мы нарушили тайну переписки и, наконец, мы совершили хищение.
При всем том я отправился домой с легким сердцем, подцепив букет за жгутик из осоки и весело им помахивая, что не вполне приличествовало моему возрасту. Я чувствовал, что паровой котел отлажен и как будто слышал в душе перестук романных шестеренок.
Но когда я завернул за угол, в перестук невидимых шестеренок ворвался резкий звон колокольчика. Навстречу мне шла Мари Малярша; по одну сторону от нее брел, цепляясь за юбку, Шати, по другую мыкался ягненок. На груди Мари красовался цветок куколя, накрахмаленная юбка хрустела. Уж не обрела ли она, часом, венца жизни?
— А мы вас поджидаем. — Она опалила меня сияющим взором. — Вот, нате, как на почту шли, обронили. А мы как раз подошли да и увидали.
Разумеется, она протягивала мне то самое, утерянное письмо, которое я выронил. И выронил довольно давно: на почту я отправился в половине двенадцатого, а теперь уже час.
— Так что же, вы меня все это время прождали?
— Ну да. Пойдем-ка, Шатика, поскорее, Тот, должно, оголодал совсем.
— Да как же так можно, милая? — Я укоризненно покачал головой.
— Чего уж там, ерунда, — любезно ответила Мари и внезапно потупила глаза. — А на курганчик-то вы теперича уж не ходите?
— Хожу, почему же. Когда успеваю. Сегодня вот не успел.
— Должно, дело какое было на почте? Ну да, там и у других господ дела каждый день. Ну прощевайте, с богом, пошли, Шатика.
Шатика-то, может, и пошел бы, да вот ягненок не желал трогаться с места. Пока мы беседовали, злодей подкрался ко мне сзади и объел добрую половину букета.
— Ах ты, проказник, — Мари покарала любителя цветов легким шлепком, похожим скорее на поглаживание.
Меня же все это отнюдь не забавляло, я испытывал острое желание пнуть шаловливого барашка как следует, но не избивать же, в самом деле, глупое животное?
Мне не хотелось демонстрировать остатки букета всему дому. Обойдя кругом, я забросил цветы в свое окошко, а потом вернулся обратно к двери.
— Ты? — удивился поп. — А я думал, ты работаешь у себя в комнате.
— Я отнес на почту письмо и побеседовал немного с мадемуазель Андялкой.
— А я беседовал о ней с девским бароном. Он тут недавно проскакал, какое-то у него дело к нотариусу, а потом, сказал, пойдет на почту за марками.
Скатертью дорожка, — рассмеялся я про себя. Вряд ли господин Бенкоци уже успел написать еще одно письмо, с которого можно было бы содрать марку. Ну а что, если совсем не марки интересуют господина барона? Ну и шут с ним! По мне — пускай крутят романы сколько влезет.
— Поверишь ли, дружище, иногда я думаю: а что, если Андялке повезет? Помнишь историю с Меранской графиней? Женился же на ней кайзеровский эрцгерцог, хоть она и была почтальоншей.
Не помню и помнить не хочу. Дряхлый эрцгерцог, которого Наполеон прогнал сквозь пять государств, капитулировал в приступе похоти перед дочкой остзейского почтмейстера, и поэтому Ангела Полинг теперь непременно должна стать девской баронессой? Неужто же против бациллы романтики не существует иммунитета?
Конечно, заткнуть уши я не мог, а потому был вынужден во время обеда выслушать историю Меранской графини от начала до конца. Бедный Фидель, он так радовался, что может наконец поведать мне из истории хоть что-то, чего я не знаю, — в результате мне пришлось сказать, что это и в самом деле очень интересно.
— Но откуда ты знаешь эту замечательную историю в таких подробностях, а, Фидель? Тоже вычитал в «Тысяче и одной ночи»?
— Это было в каком-то почтовом альманахе. Знаешь, с тех пор, как Андялке взбрело в голову стать почтальоншей, я почитываю специальную литературу.
На языке у меня вертелся вопрос: «значит, ежели, барышня станет баронессой, ты примешься за изучение дворянских альманахов, так, что ли, собрат мой, старый поэт?», но я проглотил язвительную шутку вместе с кофе и отправился работать. До вечера я успел сделать половину дневной нормы. Овцы, надо полагать, не любят «недотрог» (они остались нетронутыми), а вот романистам я их очень рекомендую. Стоило мне взглянуть на них, как я тут же ощущал прилив вдохновения. Стимулятором, по-видимому, являлся цвет, потому что запаха у них не было. Хотя вот зрелая паприка тоже веселого красного цвета, однако я что-то не помню, чтобы она пробуждала во мне вдохновение. Впрочем, оставим эти частности ботаникам-психологам, а сами поужинаем и отправимся на боковую.
Ужин прошел быстрее обычного, лорум тоже не состоялся. Нотариус принес известие, что доктор прийти не сможет: он у больного. Приемный сын Мари Малярши подхватил ветрянку, доктору пришлось пойти туда.
— Надо же, в докторе совесть заговорила, — удивился поп.
Угу. Я даже знаю почему.
— Погоди, я тебе кой-чего поинтереснее расскажу! — засмеялся нотариус. — Был у меня нынче девский барон по поводу арендных земель, из-за него я и в город не попал. Покончили мы с ним, и отправился он на почту марки покупать. Вдруг вижу, минут через пять скачет обратно, а сам злой, как собака. Андялка, дружище, не пустила его на почту, а сказала через окошко, ей, мол, очень жаль, но марки кончились, да и вообще, если кому нужно столько марок, сколько господину барону, так лучше всего поехать в город и купить их в большой лавке. Ну, как тебе все это, брудер[108]?
— И не говори! — Поп аж побледнел. — Не пойму я этого ребенка. До сих пор всегда была так любезна с бароном.
— А я вот понимаю. — Нотариус раскраснелся. — Андялка — девушка умная, незачем ей, чтоб на ее счет судачили из-за этого вертлявого молокососа. Ты согласен, любезный председатель?
— Бог его знает, — я выступил в роли лютеранина, — может, барышня и права, хоть я и не вижу в дружбе молодых ничего дурного.
Нотариус посмотрел на меня волком и вскоре распрощался. Я тоже пожал руку попу, все же успевшему влить в меня на прощание стаканчик «шлафтрунка»[109]. Глаза у него сияли.
— Что ты думаешь обо всем этом, Марци? По-моему, это просто лукавство.
— Ты о чем? Ах да, Меранская графиня! Может, и так, дружище, с них ведь станется, с девиц-то.
— Значит, и ты так считаешь? — поп требовал заверений. — Ну да, ты ведь помнишь, ты же сам как-никак был молод.
Мне по душе деревенское прямодушие, но бог его знает, может, и в нем нужно знать меру; тот, кто уже не мальчишка, совсем необязательно — столетний пророк. Я не толстяк и не развалина, лоб у меня в морщинах, но это — от размышлений; все зубы на месте, в очках не нуждаюсь, а седина куда красивее лысины. Что же касается усов, то они еще не седые, да и вообще я давно собираюсь их сбрить.
Тому, кто не испытал, ни за что не понять, скольких бессонных ночей стоит романисту внешность его героев. Проблема роста и толщины решается относительно просто. Филиппа Дербле[110] следует наделить стройной фигурой, а фигура царицы амазонок Пентесилеи — неподходящий образец для Ноэми[111]. Но вот с глазами, носами, ушами, губами, словом, с лицами вообще — прямо беда. Разумеется, если речь идет о добросовестном писателе. Ибо легкомысленный сочинитель не обращает на физиогномику внимания: как выйдет, так выйдет, ему-то что. Ему важно одно: герой-любовник, будь он взломщиком или председателем финансового комитета, должен выглядеть так, чтобы любая читательница, оставшись с глазу на глаз, мечтала броситься ему на шею. Кроме того, в расчете на случайного читателя-мужчину писателю приходится позаботиться и о том, чтобы можно было разглядеть лицо героини, ибо не родился еще тот писатель, даже среди самых больших идеалистов, который осмелился бы предложить мужской аудитории в качестве идеала рябую героиню, будь она хоть ангел во плоти. Допустимо не более одной оспинки, причем ловкий писатель сумеет так удачно поместить ее на кончике носа, что кое-кто увидит в этом своеобразное очарование.
Разумеется, такие фокусы не для меня, но я не хочу впадать и в другую модную крайность: многие довольствуются тем, что раздают героям имена и сообщают читателю о роде их занятий, полностью избегая описания внешности. Очень удобно, но я всегда считал, что так нельзя. Вот спичка действительно не нуждается в подробном описании: все спички одинаковы. (Перед войной все как одна были целые, а теперь все как одна — калеки.) Но если надумаешь сочинить о спичках роман, тогда изволь описать и их, хотя бы в общих чертах, чтобы дать пищу читательской фантазии.
Вот-вот: фантазия. Ведь здесь же есть Андялка, чья фантазия закалилась в горниле тысячи романов. Я так или иначе хожу к ней каждый день, нужно будет поставить опыт. Я успел поведать ей о жизни цветов, об основах археологии и даже астрономии (к сожалению, только днем, потому что вечерами я — галерный раб лорума): все это проблемы, весьма занимательные для интеллигентной женщины, вот только мужчины, как правило, не в состоянии удовлетворить этих высоких духовных запросов. Я сделал из нее настоящего маленького ученого — это не мои слова, так говорит ее мать, которая бесконечно благодарна мне за то, что я отвлекаю ее дочь от всех и всяческих романов: что ж, теперь настал момент мне самому поучиться. (Со мной можно допустить немного романтики, это ничем не грозит, спите спокойно, госпожа Полинг!)
— Андялка, — приступил я к допросу, — помните ли вы «Черные алмазы»?[112]
— Прочитать вам наизусть разговор Ивана Беренда с Эвелиной?
— Лучше не надо! Вы же знаете, я не люблю лирики. Вы вот что мне скажите, но только с ходу: каким вы представляете Ивана Беренда?
— Каким я его представляю? — глаза ее расширились от удивления. — Ну… ну… изящным… голову чуть склоняет вбок, взгляд задумчивый, немного грустный; он не может думать ни о ком, кроме той женщины, что дороже ему всего на свете, но ему кажется, что она к нему равнодушна, между тем как она только и мечтает припасть к его груди.
— Хватит, хватит, — прервал я со смехом, — не надо пересказывать роман целиком. Я не то имел в виду. Скажите, к примеру, какой у Ивана Беренда рот?
— Алый, небольшой, нежных очертаний, — послушно ответила она.
— Оно конечно, — я сложил губы бантиком и заговорил на театрально-крестьянском диалекте, — кажин ротик мал да ал. Попробуем по-другому, милая. Какого цвета волосы у господина Беренда?
— Черные. — Она внезапно покраснела и добавила шаловливо — А виски — серебряные. Да что такое стряслось с Иваном Берендом? Уж не разыскивают ли его как террориста?
— По вашему описанию его вряд ли удастся задержать, — рассмеялся я. — Я совершенно уверен, что Йокаи видел Ивана Беренда другим. Лицо у него холодное, суровое, и головы он никогда не склоняет, а держит гордо, как греческий бог.
— Ну и ладно. Объясните же, зачем эти расспросы?
— Барышням это знать ни к чему!
— Ах так, в таком случае: «с вами больше не вожусь», — с этими словами она направилась в сад.
Вот именно. «Если только рассержусь». Не так-то просто уже тебе на меня рассердиться, девочка!
Я не последовал за нею в сад, а поспешил домой. До обеда можно было поработать еще часок, а Андялка уже помогла мне сдвинуться с мертвой точки. Конечно же, внешность героев — не суть. Ни один человек на свете не мог нарисовать такого живого портрета, как Йокаи, и вот, пожалуйста, читателю этого мало. Ему нужен живой человек, которого можно было бы рядить в Ивана Беренда, мистера Пиквика, ловудского сироту или Бекки Кроули из «Ярмарки тщеславия». Для этого, разумеется, портрета не нужно, набросок куда уместнее: ему легче придать чаемую форму. Конечно, этот набросок должен уметь двигаться и дышать. Без этого и фотографии ничего не стоят. Мог бы и сам сообразить. Я не помню ни одной из шести девиц Удерски бедного Йошики[113], хотя уж у них-то каждый волосок расписан.
Звонарь зазвонил к обеду, и в конце улицы показалась стройная фигура господина Бенкоци. Мы с ним регулярно встречались в районе почты, но здоровались только вскользь. Юный сумасброд не вызывал у меня особой симпатии и, по-видимому, чувствовал это, потому что, в свою очередь, не обращал на меня внимания. Если же нам приходилось столкнуться нос к носу, он смотрел на меня с такой надменной иронией, что я невольно оглядывал себя с головы до ног, пытаясь понять, что же во мне такого смешного.
Однако на этот раз он так низко повесил голову и взгляд у него был такой задумчиво-грустный, что я невольно улыбнулся. Надо будет завтра сказать Андялке, что по ее описанию вместо Ивана Беренда вполне могли бы задержать господина Бенкоци.
— Добрый день, господин Варга! — это прозвучало так смиренно, что я даже не обиделся за «господина Варгу». Хотя временами эта заносчивость меня раздражала. Я не слишком высокого мнения о себе, но уж коли все называют меня «господином председателем», мог бы и этот паренек проявить уважение.
Бедняга был объят такой грустью, что смотреть на него было одно удовольствие. Возможность посочувствовать тому, кто помоложе, для стареющего человека — эликсир жизни. Я протянул ему руку с искренним дружеским расположением.
— Как дела, малыш Бенкоци? Давненько я вас не видел.
— Благодарю вас. — Он окончательно снял приподнятую шляпу, другой рукой приглаживая буйные черные кудри, которых вполне хватило бы на дюжину прославленных пештских лириков. Я взглянул на него с некоторым ужасом: уж не седеют ли у юноши виски?
— Мне надоела жизнь.
— Ах, вот оно что! — я покачал головой с возрастающим удовлетворением. — Ну мыслимо ли слышать такое от младенца двадцати одного года от роду?
— Мне двадцать третий год, — гордыня пробудилась, и он поставил меня на место.
— Прошу прощения. Я вовсе не хотел вас обидеть. И все же так говорить грешно.
— Грешно? — саркастическая улыбка была достойна Манфреда[114]. — А где он, ваш бог? Если он есть, то, должно быть, глух на оба уха, раз не слышит стонов истекающего кровью человечества.
Мне не хотелось затевать теософского диспута с истекающим кровью человечеством в лице господина Бенкоци. Я убежден, что господь бог, слыша такую хулу, веселится от души.
— Ну хорошо, но ведь в мире столько прекрасного. Песни, стихи, любовь и тому подобное.
— Оставим это, прошу вас. Цветку не расцвести в сожженном сердце, иллюзия нелепая — любовь.
Он, конечно, не замечал, что говорит стихами, мое же ухо сразу уловило в сем патетическом выступлении колокол ямба. Мальчишка был так мил, что мне захотелось его обнять; непременно надеру уши мадемуазель Бимбике Коня, если она когда-нибудь встретится на моем пути. Куда это годится: сжигать сердце двадцатитрехлетнего усердного помощника нотариуса! Правда, может быть, Бимбике не так уж и виновата. Кто поручится, что стоны истекающего кровью человечества дошли до нее, а не затерялись в Андялкином ящике? Не мешало бы устроить там небольшой шуточный обыск, дабы предостеречь девицу: осторожно! вы тоже можете влюбиться, не будьте же столь небрежны с чужой любовной перепиской!
К счастью, мне хватило здравого смысла немедленно отказаться от мысли в очередной раз выступить в роли Провидения. Хватит с меня глупой попытки сосватать Мари Маляршу с ее собственным мужем. С тех самых пор во взгляде Богомольца ясно читается желание шарахнуть меня лопатой. Это бы еще полбеды, потому что на раскопки я больше носа не кажу, а деньги раз в неделю относит звонарь, таким образом, мы с моим другом Андрашем практически не встречаемся. Настоящая же беда в том, что эта сумасбродка Мари не оставляет меня в покое. Каждый раз, идя на почту или возвращаясь оттуда, я сталкиваюсь с нею, и каждый раз она смотрит на меня таким умоляющим взглядом, что ничего другого не остается, как заговорить с ней. Вот вам моя теория о гелиотропизме души. Стоило мне бросить бедной изголодавшейся душе пару добрых слов, как ее обладательница поняла, что я — человек порядочный и намерения у меня совсем не те, что у доктора, и вот теперь хилый росток тянется к солнцу. Чего греха таить: в какой-то мере я горд тем, что, проведя большую часть жизни в окружении древних черепков и костей, а не живых существ, все же хорошо разбираюсь в людях; будь у меня чуть больше времени, я с удовольствием занялся бы исцелением души этой женщины, безусловно заслуживающей лучшей участи. Но, к сожалению, у меня много других дел, а посему неудивительно, что по дороге домой я с некоторым напряжением прислушивался, не зазвонит ли где колокольчик.
До дома я добрался благополучно и тут же сел за работу, но не успел написать и десяти строк, как в окно постучали. Я в раздражении поднял голову: Мари была тут как тут.
— Ну что еще? — Я распахнул окно, заранее сурово сдвинув брови. Пусть уразумеет наконец, что мне некогда точить лясы.
Большие черные глаза преисполнились такого ужаса, что я устыдился и сменил гнев на милость. Глаза немедленно засияли.
— Это вот вам, — она протянула мне большой букет полевых цветов. — Взамен того, что барашек скушал намедни.
Букет состоял сплошь из моих знакомцев. (Я сунул его, как есть, в кувшин с водой, она только что руки не целовала мне за это.) Вот румянка на длинном стебле, ее синими лепестками деревенские девушки лечатся от сердечной тоски, заваривая их в виде чая; вот чистотел, чье желтоватое молочко помогает молодайкам избавиться от любовной лихорадки, что метит губы; вот марьянник, растущий обычно среди пшеницы, его семена следует запечь в тесте, замешанном на воде из девяти колодцев, а потом попотчевать того, от кого хочешь получить поцелуй. Эге, да эта Мари ненароком собрала сплошные любовные снадобья!
Была там еще какая-то травка-трясунка, до сих пор мне вроде не попадавшаяся. На раскрытой ладошке цветка дрожали крошечные алые мешочки, облетавшие от первого дуновения; весь стол моментально оказался ими усыпан.
— А это что такое? Есть у нее какое-нибудь название?
— У нас она сонной травкой зовется. Ежели у кого сердешный камень, тому надобно выпить ее со стаканом воды.
— Чудно́е, однако, название у этой хворобы. Что-то ни разу от господина доктора такого не слыхивал.
— Знал бы он чего, — Мари поджала губы. — С ним-то небось никогда такого не бывало.
— А что, хворь эта только к парням пристает?
— У женчин тоже бывает. — Глаза у Мари загорелись. — Человек вроде здоровый, а спать не могет, потому на сердце у него тягость — вот энто он и есть, сердешный камень-то. Тут-то сонная травка и поможет. Как выпьешь — враз заснешь, да и сон хороший приснится: того и увидишь, из-за кого сна лишился.
— Ну мне, слава богу, это снадобье ни к чему, у меня на сердце легко, — с этими словами я захлопнул, окно.
Мари поняла, что беседа окончена, произнесла свое печальное «прощевайте с богом» и, повесив голову, направилась к реке.
Я посмотрел ей вслед: стройная, статная фигура, упругая, что называется, походка, и все же мне вдруг показалось, будто что-то не так. Ну конечно, при ней нет ни Шати, ни ягненка! Я распахнул окно и окликнул ее:
— Что с Шати?
— Захворал, бедняжка. Снова ветрянку подхватил.
Слава тебе господи, — обрадовался я, — значит, лорум нынче опять отменяется.
Однако вечером доктор явился еще раньше нотариуса. Щеки у него пылали, словно он сам подцепил ветрянку. Не поздоровавшись, он бросился в плетеное кресло.
— Что стряслось, господин доктор? — поддразнил поп. — Неужто кто-нибудь из больных выжил? Так идите же скорее, обмоем это событие стаканчиком рислинга.
Доктор, казалось, не слышал вопроса. Он был занят: сосал большой палец, только не задумчиво и кротко, как Шатика, а весьма яростно.
— Кровь идет? — взглянул на него поп. — Порезались? Сейчас дам листочек арники.
— К черту, — прорычал доктор, — больше не кровит. Я сам себя поцарапал.
Что-то тут не так, — подумал я, — раз уж доктор забылся настолько, что выругался не по-культурному, а по-венгерски. Должно быть, его выбило из колеи то, что он сам себя поцарапал. Это примерно то же самое, что укусить самого себя за локоть.
Рука, потерпевшая от самой себя, привела мне на ум другую диковину, не дававшую мне покоя с обеда.
— Скажите, господин доктор, может человек заболеть ветрянкой два раза подряд за короткое время?
Доктор бросил на меня убийственный взгляд, однако быстро взял себя в руки и напустился на меня по-культурному:
— Sacrebleau[115], только невежда может задавать такие вопросы.
— Потому я и спрашиваю, что раньше считал иначе.
— Уж не знаю, что вы там считали, герр фон Варга, да только неправильно считали.
— У меня есть друг, профессор медицины…
— Бога ради, не говорите мне о профессорах медицины, серениссиме! Невежда на невежде. Лягушки, зарывшиеся в тину, жизни не знают. Если угодно знать, у меня был пациент, киргизский мальчик, который болел ветрянкой каждую неделю.
Ну вот, теперь все встало на свои места. Когда я впервые увидел Шати, мне сразу померещилось в нем что-то киргизское. Я уже был готов удовлетвориться ответом, зато доктор не собирался оставлять меня в покое:
— А кстати, скажите-ка, мон ами, откуда вам известно, что малыш Шати снова болен?
— От его матери, то бишь от Мари Малярши. А что, это страшная тайна?
— Ах вот как? — Доктор уставил на меня монокль. — Я вам вот что скажу, аксакал. С вами будет то же, что с художником Турбоком. Помните эту историю?
— Что за чушь вы сегодня несете, доктор, — вмешался поп скорее сердито, нежели шутливо. — Это у вас из-за вашего адского чеснока на меду, точно вам говорю.
Обычно, когда при докторе поминали медовый чеснок, он тут же принимался тревожить духи предков. (Речь идет не о тех предках, что жили в бронзовом веке, а о дедушке хулителя медового чеснока.) Однако сегодня он ответил попу не столько злобно, сколько иронически:
— Знаете, эминенциа, будь я священником, меня мало занимало бы, что едят мои прихожане, больше того, мне было бы все равно, что они пьют, но вот чего бы я не потерпел, так это чтобы святые женщины что ни день вертелись вокруг моего дома в ожиданий милости свыше.
Фидель в ответ на грубую шутку окропил доктора из шипящего сифона с содовой:
— Поп есмь, а посему изгоняю из вас диавола.
Однако сбить доктора с панталыку оказалось не так-то просто. Поп безуспешно пытался его отвлечь; не удалось это и нотариусу. Он явился с упреками в адрес «нашей дочки».
— Привез я ей почтовой бумаги из города и пошел на почту. На почте ее нет, иду за нею в сад. Выхожу и слышу треск: глядь, Габор елочку рубит, знаете, ту, что посередке росла. Андялка стоит рядом и смотрит. «Ай-яй-яй, — говорю, — лучше бы персик срубить, или черную черешню, или яблоньку, чем одну-единственную елочку на весь сад». «Ах, — отвечает, — да как же можно говорить такое, ведь персиковое деревце мне подарил „папаша нотариус“, черную черешню — „папаша доктор“, а яблоньку посадил „папаша священник“. И притом это все деревья благородные, фруктовые, а тут — ни цветов тебе, ни плодов и стоит посреди дороги, выкорчуйте, пожалуйста, Габор, да как следует, с корнями». А все это, видите ли, потому, что елку эту доставил ей господин Бенкоци с Волыни, волок всю дорогу на загривке. Не то чтоб я сам его очень любил, потому как либо ты поэт, либо помощник нотариуса, выбирай что-нибудь одно, а все-таки надо и в нелюбви меру знать. Эх, что-то теперь напомнит мне родимые леса?
(Нотариус был родом из Словакии. Вот я и говорю: елкам место среди медведей.)
Поп мрачно порекомендовал плюнуть на господина Бенкоци, а доктор и вовсе не удостоил смерть елки ни малейшего внимания. Он сразу же повернул разговор в русло турбоковской истории.
— Только у нас могло такое случиться, мосье.
— Что именно? — пропыхтел нотариус. — Киргизские художники не имеют обыкновения вешаться?
— Киргизские судьи не имеют обыкновения называть всякого помешанного самоубийцей, минхер. Там убийцу бы выследили, хотя бы с помощью гипноза.
— Допускаю, что киргизский суд стоит на самом современном уровне юрисдикции, — рассмеялся нотариус. — А вот у нас все еще не вешают без доказательств, и, надо полагать, Андраш Тот Богомолец вполне доволен отсталостью наших законов.
— Да при чем здесь Андраш Тот Богомолец, сеньор? — взорвался доктор. — И кто говорит, что убийцу следовало повесить? Я даю голову на отсечение, что художника кто-то убил. Но тот, кто убил, вовсе не был убийцей, он всего лишь привел в исполнение приговор, продиктованный инстинктом толпы. Между прочим, чрезвычайно интересный психологический процесс. В деревню из города приезжает некий господин. — (Мне почудилось, что доктор смотрит на меня. Я не осмеливался поднять глаз от стакана.) — Господин этот старается казаться совсем не тем, кто он есть. — (Я был готов провалиться в стакан.) — Господин этот строит из себя большого друга простого народа, потчует деревенских баб сахаром, а мужиков — дешевыми сигарами. — (Слава богу, кажется, это все-таки не про меня. Я завоевываю популярность сигарами по четыре кроны пятьдесят филлеров штука, на сегодняшний день это влетело мне в тысячу пятьсот крон. Правда, дешевле сигар теперь не бывает.) — Господин этот готов назначить любую поденную плату, какую бы ни запросили эти разбойники — (Ой!), — а потом, сбив всех с толку своей доброжелательностью, принимается потихоньку выбивать у крестьян почву из-под ног. — (Ну нет, я выбиваю почву исключительно из-под ног уважаемых господ!) — Сперва он арендует землю у девского барона. Господину нотариусу лучше других должно быть известно, что именно тогда художник вызвал первый приступ злобы.
— Это верно, — подтвердил нотариус. — Я еще, помнится, все пытался ему отсоветовать браться за это дело: дескать, урожай-то все равно спалят.
— Ол-райт. А он возьми да и купи себе участок в вечное пользование. Тут уж крестьяне и вовсе озверели. Выходит, черти принесли сюда этого жида, чтобы он отбирал у нас землю, когда нам самим не хватает?
— Никакой он не еврей, — вмешался поп, — они получили дворянство при Ракоци, грамота до с их пор валяется где-то на чердаке, вместе с прочим его барахлом. Турбок — это от «тюрбана», эгерская семья, турецкого происхождения.
— Наивность, достойная архимандрита! Будто вы не знаете, что для мужика кто в брюках — тот и жид, особенно если мужик на него зол. А на Турбока тогда уже злились порядочно. Скажите, нотариус, прав я или нет?
— Как же, меня самого как-то раз из-за него едва не побили, — улыбнулся нотариус. — Не поладил он со своими косарями. Прибегает ко мне Мари Малярша: идите, мол, скорее, господина художника убивают. А мы в то время как раз обедать сели, так я даже салфетки не снял, до того торопился. Стал утихомиривать мужиков, они вроде приумолкли, и вдруг Бера Банкир как заорет: «Господину нотариусу хорошо, у него вон и зараз на шее торба». Тут уж и я распетушился и сказал им какую-то грубость. А они на меня с косами. Ну, — думаю, — коли я их не рассмешу, беды не миновать. И говорю им: «Глядите, ребята, я — человек толстый, жена моя — еще толще, и все ж таки коли мы в согласии, нам в кровати не тесно, а как погрыземся, так и четырех комнат мало». На том и помирились.
Доктор, однако, оказался не таким отходчивым, как Бера Банкир.
— Анекдотец недурен, — заявил он, — вполне сгодится для «Тарка кроника»[116], там как раз такие бородатые анекдоты и печатают.
И снова оседлал своего конька.
— И вот, когда ожесточение уже перехлестывало через край, баба добавила последнюю каплю. Художник решил прибрать к рукам не только землю, но и Мари Маляршу. Он сделал из нее Мадонну, чтобы отправить ее мужа на богомолье. Можно сказать, из-за этой стервы художник и погиб.
Обычно я веду себя по-рыцарски, но не драться же мне, в самом деле, за честь Мари Малярши с этим полоумным. Кроме того, я все время чувствовал в кармане блокнот с пометой «не лезть в чужие дела». Нотариус крякнул:
— А хороша стерва, господин стервятник! — И подмигнул заплывшими жиром глазками.
Однако доктор был так распален разговором, что ничего не видел и не слышал. Глаза его горели, голова напоминала одновременно череп мертвеца и выдолбленную тыкву, в которой ребята зажигают свечки.
— И что же, мужик был неправ? Он годами вскапывает землю, он поливает ее своим потом, государство дерет за нее три шкуры, и тут является какой-то проходимец и скупает ее, а в придачу отбирает у мужика жену. Художник получил по заслугам. — (Мне почудилось, что отчаянно жестикулирующие руки доктора вот-вот сомкнутся на моем горле.) — Добро бы хоть рисовать умел! Так ведь тоже нет, вот господин священник может подтвердить. Святого Роха, и того мне перерисовывать пришлось. Бедняга, конечно, меня ненавидел, но делал вид, будто все это его забавляет, и звал меня не иначе как господином коллегой. А в искусстве — ни в зуб ногой, можете мне поверить, мосье председатель.
Последние слова он произнес с такой искренней печалью дилетанта, что я окончательно успокоился и взглянул на попа, который после недолгого размышления поднял бокал:
— Утолим жажду, господа! Я всегда говорил: не будь бедняга Турбок фантазером, играй он с нами в картишки, был бы жив до сих пор!
Если бы этот дружеский обмен мнениями пришелся на начало моего пребывания в деревне, каждое слово было бы для меня на вес золота, но теперь все это мне ничего не давало. В начале моего писательского пути я едва не захлебнулся в историко-литературном материале — было дело. Зато теперь меня не брало даже такое сильнодействующее средство, как докторова теория. Во-первых, тема художника уже засосала меня, как варенье — муху. (Некто Пал Эркень, лирик, сказал бы что-нибудь вроде: «я был замурован, как мошка в янтарном гробу». Однако когда целое лето напролет не на жизнь, а на смерть сражаешься с мухами в доме священника, пропадает всякое желание их поэтизировать.) Во-вторых, пуповина, связующая мой роман с породившей его действительностью, совсем истончилась, и он зажил самостоятельной жизнью. Что мне за дело, был ли настоящий Турбок расчетливым барышником, каким являла его доктору ревность, или бескорыстным мечтателем, каким он был в глазах земного до мозга костей попа? Мой Турбок — усталый, скучающий человек, пресытившийся культурой, славой, женщинами. Что мне до того, окончил он жизнь в петле или в кресле директора Высшей художественной школы, в окружении искренне скорбящих внуков и искренне радующихся коллег. У меня он утонет, и спасти его не в моих силах, даже если бы я прыгнул за ним следом. Странное дело: стоит только фантазии вдохнуть жизнь в эти зыбкие фантомы, как они обретают самостоятельность и нередко делают что им вздумается. Иногда меня прямо зло берет, что не столько я распоряжаюсь своими персонажами, сколько они мною. Просто удивительно, особенно если учесть, что я знаю массу прекрасных венгерских романов, при чтении которых сразу бросается в глаза, что желания и способности персонажей никак не соответствуют их поступкам, но все они совершают насилие над природными склонностями, полностью покоряясь кнуту наставника. К сожалению, в очередной раз подтвердилось, что человек я мягкий и безвольный: даже собственные детища меня не боятся. Впрочем, возможно, все дело в неопытности, и в следующем романе мне удастся вывести более послушных персонажей.
Пока же дело идет к тому, что персонажи мои, кстати, за исключением Турбока, все еще безымянные, того и гляди, окончательно сбросят мои путы. Героиня, к примеру, должна была являть собой воплощенную невинность, именно ее эфемерность должна была пленить героя; Однако кое-какие ее слова и жесты, безусловно, обличают натуру вполне плотскую. Это бы еще куда ни шло — по моим наблюдениям, мужчины преклоняют колени перед холодным мрамором только в надежде когда-нибудь вдохнуть в него жизнь. Несравненно хуже то, что Андраш Тот Богомолец — до сих пор именуемый в романе «Крестьянин» — оказался типом чрезвычайно упрямым и своевольным. Он воплощает грубую силу и классовую ненависть, а потому неудивительно, что я едва с ним справляюсь. Он порывался прикончить художника уже на двадцатой странице, но я успел схватить его за вихор и оттащить в камыши. Надо сказать, что Крестьянин имел обыкновение рыбачить на болоте и ненавидел художника не только потому, что тот отбил у него жену, но и потому, что видел в нем одного из тех городских господ, что хотят осушить болота и развести на их месте огороды; паприка ведь куда более доходна, чем гольцы или черепахи. Вот потому-то мне и пришлось уволочь его с двадцатой страницы в камыши, в общество выпей и головастиков. Там ему придется проторчать страниц этак сто восемьдесят, после чего он будет отпущен на все четыре стороны. К этому времени Воплощенная Невинность станет настоящей дамой, писанные с нее портреты принесут ее мужу золотые награды в Мюнхене, в Париже и в Риме, а сама она станет победительницей на конкурсе красоты в Ницце, там же судьба сведет их с неким венгерским графом; он будет сопровождать нашу пару до самой деревенской резиденции и возьмет с собою молодого гусара, чью ругань невозможно слышать без содрогания. И вот однажды эта замысловатая ругань долетит до ушей женщины; ничего подобного она не слыхала с тех пор, как оказалась в кругу господ, говорящих тихими голосами. Взыграют воспоминания юности, и она немедленно втрескается в гусара. Гусар попытается отругнуться от стареющей женщины, но в конце концов падет жертвой ее нежного сопротивления. Местом встреч они изберут маленький островок — все, что сохранилось от былых камышовых зарослей, теперь туда никто носа не кажет, ибо это — владения одичавшего Крестьянина, у которого в целом мире больше ничего не осталось. И вот как-то раз он застает влюбленных, но вместо того чтобы сразу пришлепнуть их веслом, быстренько плывет к художнику и приносит ему известие: на острове, мол, белая лебедица спаривается с диким гусаком, стоит их поглядеть. Художник, не распознав в старом оборванце былого молодцеватого рыбака, хватается за ружье. Гребут к острову. Лодочник раздвигает камыши веслом: вот, сударь, полюбуйтесь, что за чудо природы. Художник, вскрикнув, стреляет в белую лебедицу, попадает ей прямо в сердце и хочет застрелиться сам, но тут Крестьянин распрямляет спину и хватает его за горло: стой, собака, тебе судьба умереть от моей руки!
Я предполагал, что экспозиция займет примерно, треть книги: именно столько места требуется для того, чтобы подробно охарактеризовать действующих лиц, после чего истории надлежало развиваться в балладном стиле с напором падающей воды. Я едва мог дождаться, пока доберусь до этого места, ибо эпическая дотошность — не в моем духе; я понял это довольно быстро и все же допустил в творческом экстазе ошибку, исправление которой стоило мне десяти дней.
После долгих колебаний я принял решение писать роман от первого лица. Сколько бы ни порочили критики пресловутый «Ich-Roman»[117], он все же остается самой удобной формой изложения, если, конечно, уметь с нею обращаться. Писателю значительно проще самому влезть в собственное произведение и оттуда перемигиваться с публикой. Примерно до семидесятой страницы все шло великолепно, и тут мне пришло в голову, что в моем милом, естественном тоне есть нечто не совсем естественное. Если героя в конце романа утопят в Тисе, то каким же образом, скажите на милость, он умудрится сам поведать историю собственной гибели? Правда, публика обладает благословенной способностью верить чему угодно, но вот этому она нипочем не поверит. И уж во всяком случае, не поверит мне как начинающему романисту, не могу же разом превратиться в старого, почтенного сочинителя, которому дозволено все, поскольку его так или иначе никто не читает.
Ничего не оставалось, как начать все с начала, меняя первое лицо на третье. Сперва шло довольно туго, но постепенно я пришел к выводу, что эта форма больше соответствует моей индивидуальности. «Ich-Roman» требует души, сердца, чувства, словом, качеств низшего порядка, которых и у Пала Эркеня было хоть отбавляй. Но теперь все это позади, теперь я взираю на мир сверху, из слухового окошка, пребывая в состоянии passi-bilitée[118], с трезвой головой и хладным сердцем. Надо полагать, лирические романы в форме дневников потому и вышли из моды, что все мы сильно поумнели — не только читатели, но и писатели — и больше не хотим смотреть на мир сквозь призму чувства. Если же кому придет охота, пусть пишет сказки для «Эн уйшагом»[119], а романы предоставит писать трезвым и объективным реалистам вроде меня.
Между прочим, слуховое окно — здесь не столько метафора, сколько все та же объективная реальность. Я обнаружил, что из чердачного окна виден и курганник; и садик при почте. На Семи холмах мало чего можно было разглядеть: поденщиков моих не было видно вовсе, только дым поднимался клубами. Видя дым, я по крайней мере мог с уверенностью сказать, что все трое венгров на месте и заняты тем, что жарят ворованную кукурузу. Строгого режима они не соблюдали: жертвенным дымком тянуло как до, так и после обеда. В почтовом садике можно было увидеть куда больше, но, к сожалению, лишь рано утром. В эту пору Андялка поливала цветы — босая, в блузке без рукавов и подоткнутой юбке, со скрученными в узел волосами. Никогда мне не приходилось видеть, чтобы вербены и петунии так стелились по земле, как в этом саду. Я полагаю, они стелились так низко потому, что хотели коснуться ее ног. Мне был по душе розовый и темно-синий шпорник, потому что на его фоне ножки Андялки выделялись своей белизной, а вот на белые левкои я злился: они были того же цвета. Старого кактуса-борщевика я считал своим другом, потому что он цеплялся за ее юбку всякий раз, когда она проходила мимо. Как-то я сказал ей, что будь моя воля, я посадил бы у нее в садике сплошные кактусы.
— Вот хорошо-то, — рассмеялась она, — не пришлось бы столько поливать. Кактусы можно поить гораздо реже, чем шпорник.
— Нет, тогда лучше засадить все шпорником.
— Почему? — она взглянула на меня с недоумением. — Что вам за радость от того, что я таскаю эту тяжелую лейку? Поглядите, как у меня стерты ладони.
Разумеется, мне ничего не оставалось, как поцеловать эти ладошки. Как бишь говорила та красавица? Пусть поцелуи живут в ладошке, как в гнездышке, вдруг да вылупятся…
Днем я раз по сто наведывался на чердак, но Андялка среди бела дня показывалась крайне редко. Можно было увидеть разве что господина Бенкоци, торчавшего у ограды. Однажды я застукал его, когда он пытался стянуть синюю ипомею с белой бахромой. Меня подмывало закричать: «эй, воришка, я все вижу», но в таком случае выяснилось бы, что я и сам подглядываю. Поэтому я ограничился тем, что мысленно пожелал ему застрять в прутьях ограды.
Но вот однажды молодого господина постигло кое-что похуже моего проклятия. В тот раз он тянулся за турецкой гвоздикой — держу пари, он не знает, как она называется по-латыни, хотя изучал латынь совсем недавно, — и дотянулся как раз в тот момент, когда в саду появилась госпожа Полинг. По-видимому, она вышла за огурцами: в руках у нее были нож и корзина.
Тут я убедился, что сей бравый молодец, в сущности, большой трус. Видит бог, госпожи Полинг совсем не следует бояться, я, к примеру, охотно беседую с ней, когда Андялка почему-либо задерживается, однако господин Бенкоци пришел в ужас, было видно, что он не прочь сделать ноги. Но — поздно, госпожа Полинг заметила цветочного воришку, направилась в его сторону и окликнула его. Мне не было слышно, о чем они говорили, но я видел, что госпожа Полинг размахивает руками, а в руках у нее — нож. Странно, однако, вот что: как могла эта милая, всегда любезная женщина до такой степени разъяриться из-за какой-то турецкой гвоздики? Ведь когда я бываю у них, она частенько напутствует Андялку: «Идите, доченька, в сад. Собери господину председателю красивый букет». А теперь вот, извольте видеть, нападает на господина Бенкоци с ножом. Что за дикая, однако, манера воровать цветы! (Сегодняшняя добыча едва ли пополнит его гербарий.) Нет, что ни говори, наглость этого юнца не имеет пределов: он еще смеет спорить! Правда, под конец он совсем сник и принялся о чем-то просить, а перед тем как убраться, с мольбой протянул к госпоже Полинг руки. Наверняка заклинал не позорить его перед Андялкой.
В тот же день страсть к наблюдениям за жизнью подвела меня самого. Спрыгнув с чердачной лестницы, я угодил прямо в объятия Фиделя, чистившего под лестницей ружье.
— Ты-то что потерял на чердаке? — он уставился на меня с недоумением. — Там нет никаких древностей, старина, вот разве что куча оловянных пробок от пивных бутылок времен татарского нашествия. Но они используются в педагогических целях: я раздаю их детям в награду за сданный экзамен. Дети радуются им, как сокровищам инков, а все потому, дружище, что со времен войны выросло целое поколение, в глаза не видевшее бутылочного пива. Нет, кроме шуток, ты что-нибудь высматривал на чердаке?
— Не на чердаке, а с чердака. — Я отряхнул колени. — Я присматриваю оттуда за моими работниками, проверяю, не придавило ли их одним из Семи холмов.
— Вот хорошо, что напомнил! Приходил недавно Марта Петух и требовал тебя во что бы то ни стало, но мы не знали, где тебя носит.
— Что-нибудь случилось?
— Ни черта у них не случилось. Не видали тебя с начала недели, вот и подослали старика шпионить, чтоб узнал, не удрал ли ты, часом, вместе с деньгами. Да, еще они снова нашли какого-то древнего осла, да не челюсть, а голову целиком. Как ты думаешь, это, часом, не Валаамова ослица? Марта Петух говорит, у него мундштук во рту.
— Сам он осел, твой Марта Петух! Наверняка наткнулись на захоронение всадников-язычников.
— Ну разве что пращуру Тёхётёму[120] вздумалось выбраться на поверхность и поглядеть на белый свет. Нельзя же, в самом деле, предположить, чтобы наша троица сама за ним спустилась, — веселился Фидель.
Когда я пришел на курган, от троицы осталась двоица. Марта Петух отправился на болото ловить ужей. С их помощью старик спасался от чудовищной жары: засовывал живого ужа под рубашку, чем больше, тот извивался, тем прохладнее становилось Марте. Своеобразная хладотерапия, причем относительно дешевая; разумеется, пока ужей не обложили налогом с оборота.
Кум Бибок спал на краю ямы, надвинув на лицо шляпу и по колено засунув ноги в свежевыкопанную прохладную глину. Кругом валялось штук десять объеденных кукурузных початков — наглядное доказательство того, что кум не грешил каннибализмом.
У потухшего костра сидел на корточках Богомолец и, надувая щеки, пытался вдохнуть жизнь в умирающие угольки, заправляя их в трубку плоским осколком кости. Надо признать, что раскуривание трубки — занятие истинно мужское, требующее полной самоотдачи, а потому я решил не обижаться на Андраша за то, что он даже головы не поднял при моем появлении. В нашей бедной маленькой Скифии и без того полный разброд и шатание, что же будет, если даже мы, курильщики, перестанем понимать друг друга!
Но тут я разглядел этот костный осколок, и археолог во мне взбунтовался. Я распознал в нем кусок челюсти восточного коня-брахицефала, у которого значительно меньше коренных зубов, чем у западных лошадей-долихоцефалов[121]. (Даже у лошадей прожорливость обличает западную породу.)
— Чтоб вы сдохли! — выругался я. (Что поделаешь, деревня к этому приучает. Пусть оправданием мне послужит тот факт, что, постигая народную душу в этом плане, я преследовал кое-какие практические цели. С момента появления гусара ругань будет играть в моем романе трагическую роль.) — Так вы что же, разбили конский череп, что ли?
— Не-а. — Лик Андраша прояснялся по мере того, как оживали угольки в трубке и занимался табак. — Конской-то головы мы вовсе не видали.
— А это что? — я поддал ногой кучу костных осколков, валявшихся на краю ямы.
— А энто, — Андраш спешно затягивался, поддерживая огонь, — так энто ж ослиная голова. Энто того осла, что у Гажи Мати жил, у чабана ружайарашского. Мы его по зубу поломатому признали. Было дело, куснул он Гажи, а тот напился да и пошел на его с молотком. Погодьте-ка, щас отыщу. Небось в золе завалялся.
Ну как же, найдя ослиную челюсть, они обязательно скажут, что это священный конь. Если же выкопан конский череп, непременно выяснится, что это — ослиная голова. И нет во всей поднебесной такого анатома, который сумел бы их переспорить.
Разгребая тростью пепел, я наткнулся на какой-то железный предмет. Это оказался разъеденный ржавчиной кусок мундштука.
— Гляньте-ка, Андраш, — в отчаянии призвал я, — ведь это мундштук.
— Он самый.
— И он был у осла во рту?
— Ну да. Кум Бибок его лопатой выбил, и то с трудом.
— Так скажите же мне на милость, как попал мундштук к дохлому ослу в пасть, когда этого и с живыми-то ослами не бывает?
— А вот энто, сударь, вам лучше знать. — Богомолец внезапно помрачнел и уставился мимо меня на кукурузное поле.
Меж кукурузных стеблей ныряла большая синяя бабочка. Нынче Мари Малярша была в синем шелковом платочке. Под ногами у нее, само собой, вертелись и мальчик, и ягненок; ни у кого из них, слава богу, не было ни малейших признаков ветрянки. Видно, доктор кое-чему научился у киргизов.
Не говоря ни слова, она расстелила перед мужем салфетку, потом вынула из-за пазухи розовый листок почтовой бумаги и повернулась ко мне:
— Гляньте, пожалста, что тут прописано. Почтарь принес, говорит, в суд меня вызывают.
— Это не вам, — сказал я, изучив послание, — почтальон, должно быть, пошутил. Мужа вашего в город вызывают.
Андраш вздрогнул, и сало в его руке мгновенно окрасилось в красный цвет: из порезанного пальца хлынула кровь.
— Вас в военное ведомство вызывают. Это в городской управе, на втором этаже. Наверняка налог за освобождение от воинской повинности. Меня самого в прошлом году гоняли.
— Ах, чтоб тебя! — На душе у Андраша сразу полегчало. Окровавленный палец он сунул в жирную глину. Это лучшее средство от кровотечения, за исключением, разумеется, паутины. (В крайнем случае, можно заработать столбняк, зато кровь уж точно остановится.) — На когда, говорите, вызывают?
— Суббота, девять утра. То есть завтра.
— Чтоб им всем пусто было! Гоняют людей попусту в самое что ни на есть горячее время.
— Да, — сказал я не без горечи, — куда лучше было бы, если б вас вызвали на сегодня, да всех троих разом. По крайней мере не расколошматили бы этот ценный конский череп.
— Ну-ну-ну, — кум Бибок сдвинул шляпу с лица, — чего уж вы так-то убиваетесь через эту голову, господин председатель! Кабы мы знали, что она вам дозарезу надобна, так были бы поаккуратнее. Да ить там небось ишшо головы найдутся.
— А это уж сами смотрите. — Я нашел выход из положения. — За каждый скелет — сто крон сверх поденной платы.
Тут кум Бибок вытащил ноги из-под своего глиняного покрывала.
— Гляньте-ка, кум, — он присел на корточки возле разбитого конского черепа, — ежели эту штуковину склеить, глядишь, на полтинник потянет.
Андраш, однако, оставил призыв к сознанию артели без внимания. Он провожал взглядом жену, краем глаза следя, не пойду ли я следом.
Именно поэтому я свернул в камыши. Зачем мне травить бедняге душу? Кроме того, мне хотелось нарвать Андялке цветов. Перед обедом у меня как раз будет время отнести их на почту. Надо немного развеяться, а то я так раздражен, что весь день не смогу работать.
Вернувшись в деревню, я тут же увидел красавицу Мари; она сидела на межевом камне возле церкви. Синий платок был опущен на плечи, и я впервые увидел, какая у этой женщины красивая головка. А еще я заметил, что в густых черных волосах мерцают кое-где серебряные нити.
— Красивые у вас цветочки, — остановил меня тихий голос.
Что тут будешь делать? Этому ненормальному доктору втемяшилось, что я ухаживаю за Мари. Мне бы не хотелось, чтобы он снова случайно увидел нас вместе. Господин Бенкоци тоже имеет привычку шататься здесь днем. Андялка, случайно выглянув, может увидеть нас с почты. Но обидеть эту бедную женщину, не ответив ей, я тоже не могу. Я повел себя наиболее разумным способом. Положил цветы ей на колени.
— Это вам, за тот ваш прекрасный букет.
— А я ведь знала, — она приняла цветы и прижала их к сердцу, — сказывал же святой человек.
От ужаса меня бросило в жар, и я бежал оттуда, словно спасаясь от погони. Не хватало только, чтоб Мари Малярша сочла меня венцом своей жизни.
Я же не высокий, не статный, а так себе, среднего роста. И роду я отнюдь не знатного, дед мой был чабаном и застрял в чистилище. Это ведь тоже святой человек сказал! Был бы он знатным господином, непременно попал бы в пекло. Возьмите хотя бы Дантов «Ад», там нет ни одного плебея!
До почты я добрался благополучно, не встретив ни доктора, ни господина Бенкоци. А вот на самой почте мне не повезло. В клетушке сидела госпожа Полинг. Она встретила меня известием, что Андялка нездорова.
— Ничего серьезного, — ласково успокоила она меня; должно быть, на лице у меня был написан ужас. — Вечно сидит без воздуха, вот голова и разболелась!
— Андялке бы надо побольше двигаться, — я тут же попытался использовать положение.
— Так-то оно так, да только нет у нас возможности гулять вдвоем, — посодействовала мне госпожа Полинг с поистине драгоценной для меня материнской заботой, — а в деревне молодую девушку не выпустишь одну.
Тут я понял, что о прыжках через костер на Иванов день матушке Полинг неизвестно. Что ж, матушка матушки Полинг тоже в свое время чего-нибудь да не знала.
— Я был бы счастлив, сударыня, время от времени составлять Андялке компанию, я сам стал бы более легок на подъем, а то ведь у меня тоже малокровие.
— Да неужто, господин председатель, как это мило с вашей стороны! — матушка Полинг всплеснула руками. — Андялка сразу выздоровеет, как только это услышит!
Не знаю, забыла ли матушка Полинг преподнести дочери это лекарство, или головная боль на этот раз оказалась слишком упрямой, во всяком случае. Андялка недомогала до самого вечера. Назавтра, как только занялась заря, я уже был на чердаке, но цветочкам пришлось удовольствоваться утренней росою — Андялка не показывалась. Зато кто-то начал упорно ломиться в наши ворота. Весь дом еще спал, поэтому я сам отправился объясняться с ранним гостем.
— Кто там?
— Я.
— Кто это «я»?
— Ну я он и есть я, собственной персоной.
— Что вам надо?
— С господином председателем хочу перемолвиться.
Тогда я открыл ворота.
— Ба, да это Бибок! Неужто вы уже встали?
— Да мы, изволите видеть, и не ложились нынче. Всю-то ночку проработали напролет. С толком поработали, слава тебе господи, в курганнике-то черепов — чудеса да и только! Вот я вам и докладаю собственной персоной. Чего там, говорю, порадуем барина пораньше.
Что до радости, то с ней обстояло примерно так же, как у того подмастерья перед поркой: мне хотелось как можно скорее отделаться. Предчувствия меня одолевали самые мрачные.
— Где же вы их нашли, эти черепа?
— Какой где. Были и такие, что без лестницы не достать.
— И все целые?
— Кое-где ажно кожа цела.
— Что-о? — остолбенел я. — Что это за черепа?
— Да разные, дьявол их разберет, в темноте-то. Вам бы, сударь, самим пойти да взглянуть.
— Сейчас приду, ботинки только надену.
Курган и в самом деле был усыпан белевшими издали черепами.
В старых молитвенниках так изображали Голгофу.
Мать честная, уж не раскопали ли эти жулики старое холерное кладбище?
Когда я приблизился к «горе черепов», с души у меня камень свалился. Человеческих черепов там не было, зато неразумные животное были представлены лучше, чем в зоологических залах Национального музея. Лошадиные, коровьи, собачьи черепа, черепа йоркширских свиней, македонских мулов и, кажется, даже череп верблюда. Все они лежали рядком на траве, а над ними, словно два шамана, стояли, опираясь на заступы, кум Бибок и Марта Петух, преисполненные молчаливого достоинства; вокруг простиралось поле, блестевшее капельками росы, ночные шорохи уже стихли, а дневные голоса еще не проснулись, на небосвод взбиралось оранжевое солнце, а путь ему прокладывала верная служанка — предутренняя звезда в серебристом одеянии. В этой картине определенно было что-то язычески-венгерское. По стилю вполне сгодилось бы в «Мифологию» Ипои[122].
— Черт возьми! Что вы тут наделали, мужики?
— Уж никак не меньше тыщи пенге[123], — Марта Петух разрушил идиллическую картину сугубо современным намеком. — Андраш не в счет, ишшо ночью в город на; телеге поехал, да и бросил он службу-то.
— Не об том разговор, — перебил кум Бибок весьма серьезным тоном. — А об том разговор, что мы честь спасли.
— Что-что?
— Вот вы надысь все убивались над той дрянной черепушкой. Ладноть. Стоило не стоило, не нам судить, ваше право, ваши деньги плочены. Таперича не скажете, будто вас обдурили. Мы вам заместо одного десять добыли.
— Да где, где добыли-то? В преисподней, что ли? Тут без дьявола не обошлось, не иначе.
До сих пор кум Бибок был преисполнен сознания собственного достоинства, теперь же он заговорил совсем уж высокомерно:
— А вот энто, господин председатель, до вас не касается. Мы ж не спрашиваем, на кой ляд они вам, а вы не спрашивайте, откель мы их взяли.
— Да не в том дело, братец! Что мне делать-то со всей этой падалью? Костей я не собираю и клея не варю.
От древа Бибокова высокомерия отпочковалась веточка добродушия.
— Это ж надо, угадали, господин председатель! Все как есть с завода, где клей варят, вон оттудова, с того берегу. Три раза мотались на лодке туды-сюды, едва в Тисе не утопли.
Тут до меня дошло, каким образом попал на Семихолмье «корабль пустыни».
Очевидно, завод обрабатывал кости с какого-то балканского поля битвы, таким образом среди них вполне могли оказаться останки правоверного верхового верблюда. Бедняга, конечно, никак не предполагал, что послужит европейской культуре не только на полях сражений, но и в вакуумной установке небольшого заводика над Тисой. Жаль, что матушка его, где-то там, в ливийской пустыне, никогда об этом не узнает: она наверняка гордилась бы сыном. Однако теперь надо отправить сей славный верблюжий череп со товарищи по месту прямого назначения.
— Неча тут трепыхаться, — сказал Марта Петух, пригорюнившись и почесывая затылок. — Тама их на дворе гора цельная, от наших-то не прибавится и не убавится.
— Вы не правы, — сказал я, — за это и посадить могут, коли узнают.
— А как узнают-то, — кум Бибок махнул рукой. — Свезем ночью обратно, ни одна собака и не спознает, верно говорю, братец?
— Что ж, энто можно, — Марта погрузился в раздумье, — только вот хто нам за энто заплатит? Я вот чего думаю: давай-ка лучше продадим эту падаль на завод.
Я испугался, что старый осел влипнет в очередную историю. Мне заваруха тоже была совершенно ни к чему. Все это могло попасть в газеты, я стал бы мишенью насмешек, специалисты ухватились бы за эту историю и высмеяли меня, наконец, меня, чего доброго, обвинили бы в том, что я добываю древности руками наемных воров, — словом, лучше уж оплатить моим работникам обе ночи. Однако Марте Петуху пришел аппетит во время еды. Я думал, он развеселится, но он помрачнел еще больше.
— Энто, сударь, однако, не игрушки. Сами посудите, тащу я из кучи, к примеру сказать, вот энту вот бычью башку, приходится мне на лестницу лазать: ить коли я чего беру, так уж будет что надо. Так ить с нее и свалиться можно, сами посудите, какое могло выйти душегубство. Тут вдвое платить надобно, и то только за ради вас, для кого другого нипочем не пошли бы на такое.
Я пообещал им двойную плату и тут же сбежал: задержись я хотя бы на пару минут, наверняка выяснилось бы, что лестница и лодка тоже краденые, и их тоже надо куда-нибудь возвращать, а уж за это пришлось бы платить никак не меньше чем втрое.
Впрочем, история эта полностью окупилась: я немедленно внес ее в «Т. V». Выйдет великолепный эпизод, если я найду, куда его впихнуть, а почему бы мне, собственно, и не найти? В значительных произведениях частные эпизоды в мотивировке не нуждаются. У Мункачи в «Обретении родины»[124] половина — ни к селу ни к городу. Надо же чем-то заполнять пространство. Конечно, если всякий эпизод будет влетать мне в такую копеечку, как этот, я заранее ухлопаю все гонорары вплоть до третьего издания. (Если рассчитать все хорошенько, то выяснится, что романисту выгоднее самому выступить в роли эпизодического персонажа и отправиться воровать кости. Но ведь надо же кому-то и идеалистом быть.)
Гораздо хуже было то, что взаимопонимание между пером, бумагой и чернилами снова нарушилось. Пять раз подряд приступал я к описанию жилища рыбака, и каждый раз застревал на одном и том же месте: «никто, кроме рыбака, не знает дороги в таинственном лабиринте камышовых островов и топей». Написав эту, фразу в шестой раз, я сообразил, что фраза-то, собственно, не моя: она перекочевала ко мне из «Венгерской рыбной ловли» Отто Германа. Моя же голова пуста, как яичная скорлупа. Ни одной мысли, ни единого образа или эпитета оттуда не извлечь. Ага, вот об этом-то древние и говорили: «invita Musa»[125]. Что ж, Музу я глубоко уважаю, но все же попробую доказать, что в современном мире писателю и без нее неплохо. Дело исключительно в том, что солнце шпарит слишком сильно. Я закрыл ставни — стало темно. Тогда я распахнул ставни и закрыл оконное стекло листом бумаги: светло, никакого палящего солнца, приятно глазу, приятно нервам. Все прекрасно, только сдвинуться с места не могу. Значит, причина в том, что здесь очень душно, а от жары пахнет мебельным клеем — конечно же, в этом вся беда, и как я раньше не догадался! Надо выйти на воздух!
Я отыскал в сарае маленький плохонький столик, некогда служивший карточным столом; надо надеяться, он не развалится со стыда, если отныне на нем будет создаваться роман? Я поставил его в саду под шелковицей; свежий ветерок шевелил листочки, у кормушки ворковали голуби — так приди же ко мне, рыбак, здесь, на лоне природы, я с тобой мигом разберусь!
Одно плохо: свежий ветерок шевелил листочки не только у меня над головой, но и под руками. Голуби, известные своей кротостью, сцепились друг с другом в ветвях шелковицы. Два самца (один — с утиным носом, вылитый доктор) наскакивали друг на друга совсем как люди, выпячивая грудь, топая ногами и обзываясь, а голубка все это время вертелась между ними, бросая ободряющий взгляд то одному, то другому — это было отвратительно! И все же главным виновником бед оказался Ньютон со своим законом земного тяготения. Что ему стоило сделать исключение хотя бы для тутовых ягод! Одна из них плюхнулась прямо в чернильницу, и на рукопись выплеснулось ровно столько чернил, сколько она вытеснила своим весом. Другая сочная ягода подтвердила правоту господина Ньютона, расплющившись на моей белой шелковой сорочке.
Нет, такого идиотского положения долее выносить невозможно: подумать только, несчастный писатель видит в каждой тутовой ягоде бомбу, которой метят в его опустошенный череп невидимые враги, между тем как мозги они похитили еще раньше. Нет такой славы, которая могла бы вознаградить художника за эти часы, и нет в природе никого, кроме художника, кто познал бы этот род мучений. Прочие божьи твари, как правило, считают себя умными людьми, большинство из них ни секунды не сомневается в этом в течение всей жизни. Лишь писателю дано днями и неделями мучиться мыслью о том, что в собрании дураков он заслуживает председательского кресла. Если в распоряжениях Всевышнего есть доля справедливости, то за эти страдания всякий художник должен прямиком отправляться в рай.
Какое-то время я слонялся по саду, пытаясь прийти в себя, потом, положившись на волю божию, развалился на траве за смородиновыми кустами у самого забора. В ту же минуту я увидел сквозь щелку в заборе пурпурные мальвы и вдруг меня осенило:
— А ведь дело-то в том, дружище, что ты уж два дня как не видал юную почтальоншу! Стыдись же, старый осел, и по утрам выливай себе за шиворот ушат холодной воды!
Я очень редко обращаюсь к себе во втором лице, так как, по моим наблюдениям, привычку писать дневники и разговаривать сами с собой имеют только люди романтического склада, да и те научились этим глупостям из романов. Когда же такое случается со мной, я, как правило, засыпаю, доказывая тем самым, что не считаю себя достаточно остроумным собеседником.
Вот и теперь я заснул и проснулся лишь оттого, что толстопятая принялась трясти меня за плечо.
— Что такое, Юли? — спросил я, продирая глаза.
— Вашего благородия госпожа искала.
— Что еще за госпожа?
— Госпожа Мари Малярша. Сказывала, чтоб вы к ним приходили, беспременно да по-быстрому.
— Зачем, не говорила?
— Ничего не сказывала, окромя того, что дитё захворало.
Вот бедняжка, наверняка опять ветрянка. Позову-ка я с собой доктора.
Однако дверь у доктора оказалась заперта, и дубасил я в нее напрасно. Между тем доктор был дома: оттуда доносилось бренчание пианино. Я постучал в окно, он явно услышал, потому что пианино вдруг замолчало. Сделав еще пару попыток, я отошел от окна. Видно, доктор не хочет быть дома. Миновав примерно пять домов, я услышал, что где-то скрипнула дверь. Я обернулся: к доктору входил какой-то старик с завязанным глазом. По-видимому, доктора не было дома только для меня. Какой же он все-таки дурак, этот доктор! Неужто он всерьез считает, что я стою между ним и Мари? Ничего не поделаешь, придется мне походатайствовать за него перед красавицей. Как раз сегодня будет кстати: муж в отъезде.
Дом Богомольцев выделялся своей белизной среди прочих домов с щербатыми стенами и обвалившейся штукатуркой. Под чердачным окном — маленькая круглая ниша, а в ней — фигурка Пресвятой Богородицы, сразу было видно, что люди здесь живут благочестивые. Верхняя часть стены до самой притолоки была раскрашена в разные цвета, нижняя часть сверкала белизной, а у подножия красовалась желтая лента. Чувствовалась рука хозяйки, не только располагающей временем, но и любящей красоту. В сарае стояла старая грязная тачка, заваленная поношенной одеждой и рваными лаптями, на общем фоне она сразу бросалась в глаза. Надо думать, это было Шатино наследство, к которому до сих пор никто не притрагивался.
Взойдя на крыльцо, я громко поздоровался, но ответа на получил. Дверь, ведущая в сени, была занавешена от мух белой простыней, я отодвинул ее: кухня была пуста. Левая дверь вела в комнату, выходившую окнами на улицу; я постучался и заглянул — никого. Ну конечно, это же та самая светелка. В углу, возле комода — тот самый домашний алтарь, пред которым сломалась жизнь Мари Малярши. Ныне вместо ясноокой Мадонны здесь стоял образ Девы Марии, купленный на базаре. Перед ним красовались в расписном кувшине мои цветочки: н-да, вот это почет!
Я тихонько вернулся в кухню и постучал в правую дверь.
— Войдите! — я узнал голос Мари Малярши.
В комнате было темно и прохладно. Ничего не видя, я остановился в дверях.
— Ну и темно же у вас, — сказал я наугад. — Подожду, пока глаза попривыкнут, а то, не ровен час, на что-нибудь налечу.
— Да я вас сама проведу, — прошелестел голос Мари, и руку мою сжала горячая рука.
Я слышал шорох ее платья, что-то белое двигалось передо мною, наконец, колени мои уткнулись в какой-то твердый предмет: это могло быть только канапе.
— Присаживайтесь, — сказала Мари, все еще не выпуская моей руки. — Зараз сделаю посветлее.
В комнате установился приятный полумрак. Окно было занавешено поверх белых тюлевых штор черным шелковым платком с бахромой, женщина отогнула уголок.
— Дитё спит, — зашептала она снова, — вот и пришлось завесить.
В комнате стояла кровать, точнее, не кровать, а нечто вроде раскладушки, на ней спал Шати. Спал он крепким сном здорового ребенка: лежа на животе и раскинув руки. Даже в полутьме на обеих руках отчетливо виднелись красные пятна.
— Лихорадки у него нет, — этим дилетантским замечанием я попытался успокоить женщину, раз уж мне не удалось привести с собой доктора.
Однако Мари вовсе не нуждалась в утешении. Она перебила меня, подавив смешок:
— Лихорадка? С чего бы ей взяться у бедняжки? Хворости-то у него никакой нету, жара извела бедняжку, вот я его и уложила.
— Слава богу. А я было подумал, у него снова ветрянка.
— Нету и не было вовсе, это все старый доктор; дурит.
— Ах, вот оно что? А сыпь откуда?
— Я у Шатики-то все спытала. Как встренет где ребенка, висельник старый, так и посечет его крапивой, а потом дает ему картофельного сахару, чтоб он не ревел; час пройдет — а доктор тут как тут — пришел ребенка смотреть.
История нравов знает много способов ухаживания, но о таком я в жизни не слыхивал. Хороша же, должно быть, учебная программа на киргизском медицинском факультете!
— И что, нынче господин доктор уже заходил? — рассмеялся я.
— А то как же! А вот больше, знать, не придет! — молодайка расхохоталась вслед за мною. — (Разумеется, при этом ей пришлось уткнуться мне в плечо, чтобы не разбудить ребенка.) — Намедни я его за палец укусила, а нынче образумила каблучком.
Ей-богу, только тут я взглянул на ножки Мари. Башмачки ее являли собой чудо искусства из красного сафьяна с золотой вышивкой — наверняка подарок художника; за нынешние деньги башмачники таких не делают. И вообще молодайка была разодета в пух и прах, причем отнюдь не по-церковному. Юбка на ней шуршала, ворот блузки безрукавки был украшен алой лентой, на статной белой шее красовалось коралловое ожерелье. Руки прямо-таки пылали огнем, но сама она показалась мне холодной, как мрамор, когда, прижавшись ко мне, прошептала в самое ухо:
— Зубы у него желтые-прежелтые. А изо рта медовым чесноком так и несет.
Так-то оно так, да вот руку мою можно бы и отпустить. Я попытался высвободиться, но тогда она пустила в ход и вторую руку.
— Знаете что, вот четыре недельки минут, тут ровнехонько семь годков и исполнится!
Каким-то образом она умудрилась задеть оконную створку плечом, завернутый край черного платка опустился, и в комнате снова стало темно.
Черт бы побрал эту сумасбродную бабу с ее семью годами и венцом жизни вместе! А заодно и всех гадалок и духовидцев на свете! А вместе с ними еще и издателя, которому взбрело в голову заказать мне роман! Угораздило же меня попасть к черту на кулички да еще разыграть Иосифа стыдливого при сей благочестивой жене Потифара![126]
Я вскочил и в ярости сорвал с окна шелковый покров, комнату сразу залил яркий солнечный свет, а в окне ухмылялась, глядя на нас, докторова рожа.
— З богом! — заржал он, вставляя в глаз монокль.
Мари Малярша быстро опомнилась и показала ему язык, я же смущенно побрел вон из комнаты. Мне хотелось объясниться с доктором, но, когда я вышел, он куда-то исчез, да и я тем временем передумал. В конце концов, он не фараон, чтобы требовать у меня отчета, и, кроме того, сегодня же вечером я покину деревню вместе со всеми ее проблемами.
Так бы скорее всего и вышло, если бы, придя домой, я не застал у калитки Фиделя, торопившегося сообщить мне большую новость.
— Иди скорее, братец, госпожа Полинг уже три раза за тобой приходила.
— За мной?
— За тобой, за тобой, они ждут тебя к обеду. Я сдаю тебя на недельку внаем.
— Чего-чего?
— А то, что пришла телеграмма от моего племянника из Надьварада, на той неделе у него помолвка, он берет в жены дочку какого-то генерала-валаха, но с условием, что обвенчаю их я. Сейчас за мной заедет барон, и мы поедем в город за паспортами. Через недельку буду дома, если, конечно, валахи не заберут меня к себе в армейские епископы, а ты до тех пор будешь столоваться на почте.
Приличия ради я немного поломался, но тут за углом возникла воздушная фигурка Андялки. Она держала над головой огромный лопух в виде зонтика, как это обычно делают девочки, и помахала мне этим лопухом, чтобы я поторапливался.
Так я вновь примирился с деревней.
Жаль, что Овидий в «Метаморфозах» не указал имени цирюльника царя Мидаса[127], который, надо полагать, по-человечески был куда симпатичнее, нежели сам ослоухий король. Я, во всяком случае, прекрасно его понимаю, особенно с тех пор, как вступил на поприще романистики, и если бы знал его имя, непременно добился, чтобы его выловили из Леты и сделали покровителем всех писателей. (Евангелист Лука с волом, заглядывающим в письмена, не годится для этой роли с тех пор, как упразднили цензуру.)
В отличие от него, легендарный цирюльник, выкопавший ямку, дабы поверить хоть ей томившую его тайну, настолько по-человечески понятен, что никогда не выйдет из моды, во всяком случае, пока не переведутся начинающие писатели, готовые за неимением самоотверженных слушателей выкрикивать свои стихи в ямку. Разумеется, в роли начинающего писателя может выступить и восьмидесятилетний академик, а в роли стихов — докторская диссертация. Я знал одного пожилого господина, скромнейшего человека на свете, который после двадцати лет изысканий написал главный труд своей жизни — книгу на шестнадцати страницах о параметрическом анализе коэффициентов ортогональных субституций. Прежде чем сдать ее в типографию, он созвал все свое семейство, сыновей, дочерей, зятьев, невесток и внуков, и после краткого вступления принялся зачитывать им рукопись. Сыновья, дочери, зятья, невестки и внуки один за другим удирали из комнаты, пока не остался наконец только самый маленький внук, не умевший ходить. Это не смутило старика, и он дочитал свой труд младенцу, хотя, будучи человеком весьма интеллигентным, хорошо понимал, что ведет себя глупо — тем не менее желание поделиться взяло верх. Гораздо лучше устроился мой приятель филолог, работавший ежедневно в течение многих лет с девяти часов вечера до двух часов ночи над проблемой исторического развития индогерманских гуттуральных звуков. В два часа ночи он будил жену и зачитывал ей ежедневную порцию. До десятой главы жена терпела, а потом бросила мужа и ушла в монастырь. Но филологи — люди умные: мой приятель, которому предстояло написать еще десять глав, не успокоился до тех пор, пока не нашел некую старую деву, страдающую бессонницей. Они поженились, и супружеская жизнь этой пары по сей день безоблачна, так как основана на взаимной благодарности. Муж благодарен жене за то, что смог закончить книгу, после чего и был избран почетным членом Бенаресской академии, а жена благодарна мужу за то, что к моменту завершения книги полностью излечилась от бессонницы. К сожалению, есть некоторый процент случаев со смертельным исходом; чаще всего это происходит, когда поэты в припадке декламационного бешенства коварно нападают на самых простодушных людей. Одного эпика, к примеру, застольная компания едва не убила пивными бутылками за то, что он контрабандой протащил в свой секретарский доклад одну из песен своего неизданного эпоса. Или еще: один сочинитель сонетов, человек весьма кроткий, кончил жизнь в тюрьме, потому что однажды воткнул в жену ножницы: ей вздумалось прогнать из комнаты кошку как раз в тот момент, когда предстояло прозвучать наиболее звонкой рифме.
Что же касается меня, то, оглядываясь на свое поэтическое прошлое, я не нахожу в нем ничего такого, что можно было подвести под эту категорию. В молодые годы временами приходилось бороться с искушением почитать стихи какой-нибудь кассирше, от этого меня удерживала отчасти природная застенчивость, а отчасти — нежелание разочароваться в собственных творениях. Все, что я писал, было мне мило лишь до тех пор, пока я оставался со своим творением один на один. Когда оно было готово, чистое и спеленутое, я взирал на него с родительской нежностью. Прочитав его вслух самому себе, я сразу же начинал испытывать к своему детищу некоторую неприязнь. Я замечал, что глаза у него косят, нос пуговкой, ноги хромают; что там, где положено плакать, оно мяучит, там, где нужно смеяться, — сопит. Но вот оно появлялось в печати — и тут уж я решительно его ненавидел, не находя в нем ничего общего с собою. Поэтому я не держу дома своих поэтических сборников, и поэтому я в любом случае рано или поздно оставил бы лирику, даже если бы годы не изменили моего душевного настроя, развеяв романтический туман и сконденсировав его до трезвого реализма.
Роман — дело другое. Это тебе не сонет, который лепишь после обеда на уголке стола, словно фигурку из хлебного мякиша, это не песня, которую набрасываешь на ресторанной салфетке, когда из-за цыган не удается поговорить. Романист, в отличие от поэта, не может удовлетвориться ролью маленького сверчка, стрекочущего в щелке для собственного удовольствия; романист — все равно что архитектор, а роман — не менее серьезное сооружение, чем базилика, уже в процессе создания ему необходимы простор и публика.
Видит бог, я открыл Андялке свой секрет не для того, чтобы произвести на нее впечатление. Со мной происходило то же, что с цирюльником царя Мидаса: я чувствовал, что вот-вот лопну, если не поговорю с кем-нибудь о романе. А если уж заводить себе публику, то лучшей публики, чем Андялка, мне не найти. К тому времени мне уже было доподлинно известно, что она не только красивее трех граций вместе взятых, но еще и умнее всех девяти муз.
Поводов для исповеди было сколько угодно: теперь мы целыми днями бывали вместе, только спать я уходил домой. Впрочем, я мог бы и не ложиться вовсе, так как заснуть мне все равно не удавалось. Не думаю, чтобы дело было в жаре, скорее всего это был «сердечный камень». Мне бы явно не помешала «сонная травка», стоило попробовать, если бы за рецептом не нужно было обращаться к Мари Малярше. Красавица вселила в меня такой страх, что я не рисковал выходить на прогулку без Андялки. Да и то предпочитал гулять на закате, когда мог быть уверен, что Мари занята приготовлением ужина. (В этом смысле Богомолец ничем не отличался от прочих достойных людей; без жены он обойтись мог, но ужином шутить не собирался.)
Мы сидели на поваленном тополе посреди поросшего мятой луга. Золотые спицы уходящего солнца дотягивались до середины небосвода, а там, в небесном поле, серебрились снежные снопы облаков. Нижние ветки прибрежных деревьев уже спали, а в верхушках, все еще светившихся золотисто-алым светом, щебетали птицы. Первыми улеглись спать синички, последней — иволга, перед сном высказавшая свое недовольство миропорядком: «Все вор-р-ры». (Не стоит волноваться, английская иволга говорит то же самое.) Потом стало так тихо, что, казалось, можно было расслышать топот букашек, крошечными изумрудами сновавших взад-вперед в курчавых листьях просвирняка. Серебристо-синие бабочки бесшумно чертили круги у нас над головами, одна из них бросилась прямо в лицо Андялке, задумчиво глядевшей вслед уходящему солнцу.
— Глупышка приняла вас за цветок льна, — нарушил я тишину.
Это было очередное реалистическое наблюдение факта, ибо по каким-то до сих пор не изученным законам оптики, которым подчиняются только девичьи глаза, радужки почтальонши и вправду синели, точно лен. Правда, когда она заговорила, они успели потемнеть и стали совсем как васильки.
— Господин председатель! — она погрозила мне пальчиком. — Вы вечно предостерегаете меня от лириков, а сами говорите, словно поэт!
Этого невозможно было снести. Я, шутя, опустился на одно колено и молитвенно сложил руки:
— Исповедуюсь Господу Всемогущему, а заодно и моей маленькой приятельнице, в том, что на совести у меня лежит тяжкий грех двуличия…
Девушка сдвинула тонкие брови и строго сжала губы. На шее у нее была повязана тоненькая косынка, она протянула мне кончик для поцелуя, словно поп — епитрахиль.
— Налагаю покаяние: трижды «Отче наш», дважды «Аве Мария», единожды «Верую». Отпущение получите тогда, когда прочтете мне роман.
Я вскочил как ошпаренный и пробормотал в изумлении:
— Так… так вы знаете?
— От добросовестной почтальонши секретов быть не может, господин председатель, — расхохоталась она. — Ну-ну, не волнуйтесь, я не имею привычки вскрывать письма малознакомых господ. — (Тут она слегка покраснела. Надо сказать, что сам бы я нипочем не вспомнил Бимбике Коня. Кроме того, она не «господин».) — Но ведь через мои руки проходят и телеграммы, их-то я не могу не знать.
— Не понимаю. Я не посылал никаких телеграмм.
— Не посылали, а получали.
— Я? С тех пор как попал в деревню, я напрочь-позабыл, что на свете есть телеграф.
— Ой, выходит, матушка забыла передать вам телеграмму. — Она всплеснула руками. — Это было, когда я хворала. — (Тут она снова слегка порозовела. Это скромное маленькое создание, по-видимому, считало, что только старухи имеют право болеть.) — В телеграмме значилось: «Срок сдачи романа продляется на месяц». Ай-яй-яй, ох уж эта матушка!
Все понятно, я действительно просил издателя о моратории, так как немного не рассчитал время. Составляя распорядок дня, я еще не знал, что придется учесть ежедневную трехчасовую стажировку на почте.
— И матушка ваша тоже знает, что было в телеграмме? — с трепетом спросил я.
— У меня от матери секретов нет. — Она спокойно подняла на меня ясные глаза и улыбнулась. — И потом матушка ценит вас так высоко, что охотно простит вам этот роман.
Я и без того знал, что матушка Полинг расположена ко мне, такие вещи обычно чувствуешь, даже не будучи столь тонким знатоком человеческих душ, как я; и все-таки услышать это из Андялкиных уст было особенно приятно. Хотя бы потому, что я получил возможность убедиться: на почте говорят обо мне и в мое отсутствие.
Вернувшись на почту, я поцеловал руку матушки Полинг с особым почтением — словно какому-нибудь епископу. И повторил это действо, когда она стала просить у меня прощения за свою забывчивость, объясняя, что причиной всех бед — ее привычка считать меня своим человеком: она решила, что успеет отдать мне телеграмму при встрече, а потом забыла ее в кармане фартука.
За ужином — а на ужин было жаркое с грибами, которые я собственноручно собирал рано утром, — между нами завязалась оживленная беседа на литературные темы. Матушка Полинг поинтересовалась, сколько мне заплатят за роман.
— Если все будет в порядке, можно заработать около ста тысяч крон. — (За сто лет, но об этом я умолчал.)
— А сколько таких романов можно написать за год?
Это был каверзный вопрос, ведь я пока не написал ни одного. Лгать мне не хотелось, разочаровывать матушку Полинг — тоже, поэтому я сказал: бывает, мол, по пять-шесть штук пишут.
— Это уже кое-что, на это можно прожить, — вдова окинула взглядом дочку. Потом она снова повернулась ко мне и в третий раз подложила в мою тарелку жаркого. — А как у романистов с семейной жизнью? Они небось люди порядочные, добродетельные?
— О да, безусловно. Во всяком случае, те, что мне знакомы. — (Это была чистая правда, ибо я по сей день не знаком ни с одним романистом.)
— Вот я всегда Андялке и говорю, что ежели кого гнать из страны поганой метлой, так это босяков-драматургов, потому что среди драматургов порядочных людей нету.
Надо же, как удачно, что я не успел сказать о том, что собираюсь в дальнейшем переработать историю художника для сцены! Но откуда госпожа Полинг знает драматургов?
— Я скорее выдала бы дочь за письмоносца, чем за драматурга.
Я бы предпочел, чтоб матушка Полинг сформулировала свое решение иначе, но предостеречь ее от письмоносцев не успел, так как Андялка расхохоталась:
— Ай-яй-яй, матушка, как же тебе хочется от меня избавиться! Ну а я совсем не хочу покидать мою дорогую, чудесную матушку!
Тут последовали такие бурные объятия, поцелуи и слезы, что даже я был тронут, хотя видел на своем веку и такую мать, что пять минут спустя после этакой вот библейской сцены готова была пристукнуть дочь кочергой за то, что та не смогла выдать ей ключей от буфета, ею же самою куда-то засунутых. По счастью, госпожа Полинг была женщина тихая и добрая и ключи всегда носила в кармане фартука. Ничем не нарушив семейной идиллии, она убрала со стола, поцеловала дочку, пожелала мне спокойной ночи и отправилась спать, поскольку ее старые глаза не могли выносить света лампы. Дверь она, впрочем, оставила открытой, так как тоже хотела слушать роман.
Прошло минут пять, пока Андялка сварила мне в кухне кофе, когда она вернулась, матушка Полинг явно спала в спальне сном праведницы. Нет, упаси бог, я вовсе не хочу сказать, что она храпела, а так, посапывала себе тихонько. «Посапывать изволите» — так поддразнивают кандидаты в женихи кандидатов в тещи. Храпеть имеют обыкновение только тещи как таковые.
— Можем начинать. — Андялка подкрутила лампу и забилась в угол дивана, свернувшись клубочком, как кошечка.
Рукопись, разумеется, была со мною. Именно «со мною», а не «при мне», — заранее отвечаю я на претензии строгих лингвистов — при человеке может быть удостоверение личности, ключ от письменного стола, кошелек или еще какая-нибудь неодушевленная мелочь; но все то, что есть моя неотъемлемая часть, вроде перочинного ножа или часов, находится «со мною». А уж рукопись моего романа — это же частица моей души, плоть от плоти моей! Я держал ее в черной холщовой сумке и таскал за собою повсюду, всю, от первого листка. Оставить ее дома я не мог, с меня хватит, ни на кого нельзя положиться — не ровен час, потеряют.
Я сидел на ней во время обеда, а на ночь прятал ее под подушку. И нечего надо мною смеяться: мы же не видим ничего странного в том, что целая армия серьезных людей всю жизнь только и делает, что охраняет какое-нибудь дипломатическое соглашение, которое не собирается соблюдать ни одна из сторон.
Стенные часы стремительно заглатывали время и пробили полночь, когда я отложил последний листок. Там была описана свадьба художника и натурщицы. Потом я устно изложил свои дальнейшие планы, на выполнение которых, согласно телеграмме, мне причитался месяц.
Андялка оказалась прекрасной слушательницей. Она не встревала с замечаниями типа: «ах, как хорошо!», и глаза ее ни разу не подернулись влагой от сдерживаемой зевоты. Когда я кончил читать, она не сказала ни слова, только сощурила в задумчивости глаза. В конце концов я спросил сам, понравилось ли ей?
— Очень, — отвечала она серьезно, и по ее тону я почувствовал, что это правда. Но кроме того, я почувствовал, что в конце этой фразы не точка, а запятая, и попытался ей помочь.
— Вы, должно быть, хотите сказать, что мне следовало бы дать в приложении словарь диалектов? Ей-богу, я здесь ни при чем. Я пробовал писать на лощеном, элегантно-отточенном современном венгерском, поскольку вполне прочувствовал красоту таких выраженией, как «теснота жизни», «иссякание жизнеутверждения», «сверхподъем» или еще вот это: «в миг подсознательной отрешенности во мне шевельнулась такая-то сцена». Но к сожалению, они не собраны в словарь, а в нормальной человеческой речи их не встретишь, вот мне и пришлось писать на том языке, которому я выучился у своей матушки.
— Поговорим серьезно, господин председатель. Вы не рассердитесь, если я вам кое-что скажу? На вашем месте я бы никого в романе не убивала.
— Я знаю, дорогая, какая у вас добрая душа. Я и сам по природе не кровожаден, но отмена смертей не входит в задачи романиста.
— Представьте себе, господин председатель, что я — это венгерская публика. — Она поднялась, скрестила руки на груди и надула щеки — обычно так изображают ребенка, пускающего мыльные пузыри.
— Если бы публика была такой, перед нею следовало бы преклонить колени, — я взял ее за руку.
— Э-э, господин председатель, опять лирика! — Она выставила перед собой в качестве баррикады плетеное кресло. — Давайте придерживаться повестки дня. Венгерская публика не любит романов с убийствами.
— Клод Фаррер[128] у нас сейчас в большой моде, а уж он-то, когда разрезвится, способен перерезать человек сто в одном только романе. Сельма Лагерлёф и вовсе приучила своего героя к человеческому мясу, а между тем это весьма кроткая матрона, и Нобелевскую премию она уже получила.
— Это совсем другое дело, любезный господин, романист, они иноземцы, им можно. А вот венграм такое не пристало; тот, кто хочет иметь успех, должен от этого воздерживаться. Возьмите хотя бы Миксата. Можете вы назвать хоть один его роман, который оканчивался бы смертью?
— Могу, — я немного подумал, — застрелился сын Праковски, глухого кузнеца.
Она тоже немного подумала, а потом весело хлопнула в ладоши:
— Да, но не дома, а в Граце! Господин председатель, сдавайтесь!
— Невозможно. Художник во всяком случае должен помереть. Ведь роман будет называться «Смерть художника».
— Я сделала, что могла, но нельзя — значит, нельзя. Пойдем дальше. Дадим амнистию хотя бы этому бедняге Андрашу Тоту.
— Амнистию он может получить лишь в том случае, если действительно является убийцей. Кто-то же должен убить художника.
— А почему бы художнику не покончить с собой? Самоубийство — вещь более приемлемая, тут писатель может умыть руки.
— И правда, что-то в этом есть. Но чем мотивировать самоубийство? И что делать с натурщицей?
— Пусть себе живет, бедная женщина. Поверьте, жизнь бывает худшим наказанием, нежели смерть.
— Дитя мое, откуда такая убежденность? Я же знаю, что вы набрались этого из романов. Не будем впадать в лирику, Андялка, давайте придерживаться повестки дня. Так что мне делать с этим несчастным художником?
— Прежде всего, не гонять его в Ниццу, а оставить спокойно дома, в деревне. Потом: не заставлять его рисовать гениальные картины, а дать ему копать землю и сажать яблони. Понимаете, его трагедия в том, что он предал искусство ради земли, опростился, опустился до нее, а земля предала его, не уродив ему пшеницы, а яблони не уродили яблок. Поверьте, если бы Турбок женился на Мари Малярше, вышло бы именно так: опрощение и крах из-за земли.
— Что ж, в этом есть доля истины. Только это была бы трагедия художника, а не человека. Барин, заделавшийся крестьянином, прекрасно чувствовал бы себя рядом с крестьянкой, и роман следовало бы кончить так: «стали они жить-поживать и добра наживать». Художник ведь не дурак, чего ему помирать, когда есть возможность завести хозяйство; вот он возьмет да и продаст охвостья за чистую пшеницу, а дикие яблоки — по цене кальвиля и соорудит своей Мари не только каракулевую шубку, но и каракулевую юбку.
— Ничего он ей не соорудит, потому что они окажутся на разных полюсах. Оба в некотором смысле развратятся, только художник опростится, а Мари — наоборот. Крестьянка-натурщица потому и влюбилась в художника, что он носил красивое платье, говорил изысканно и брился каждый день. А как только он превратится в обыкновенного неряху-крестьянина, она сразу от него отвернется, но убежит, конечно же, не к тому, кто грубее ругается, а к тому, у кого галстук завязан поизящнее.
Невольно схватившись за собственный галстук, я незаметно его поправил и сделал вид, будто прижимаю руку к сердцу.
— Отдаю себя на вашу милость, Андялка. Вы понимаете в романах куда больше, чем я, хотя никогда не изучали теории романа. Хотите, это будет наш общий роман?
Слегка покраснев, она отмахнулась с насмешливой улыбкой:
— Я недостаточно романтична, господин председатель.
На улице раздался револьверный выстрел. Я в страхе вскочил, но Андялка совершенно спокойно распахнула окно.
— Надо же, коров гонят. Смотрите, уже рассвело.
На востоке пылали алым светом продолговатые облака, словно зубья бронзового гребня в золотистых локонах зари. Со всех сторон перекликались петухи, в саду залился соловей: «Та-та-та, то-то-то, тио-тио-тио-тиннч!»
В спальне заскрипела кровать, прохладный утренний ветерок разбудил госпожу Полинг, и она спросила, зевая:
— Ты уже тут, Андялка?
— Я еще не ложилась, матушка. Мы всю ночь, проговорили с господином председателем.
— Да, я знаю, я тоже глаз не сомкнула, — сказала добрая душа и тут же снова запыхтела, как паровоз.
— Спите спокойно, ангел мой Ангела. Ибо отныне я буду именовать вас только так.
— Доброй ночи, господин председатель. Ибо я никогда не смогу назвать вас иначе.
Эта проблема занимала меня самого, я не раз ломал голову, пытаясь придумать такое обращение, которое и ей подошло бы, и мне бы радовало душу. Я не мог попросить ее называть меня господином Варгой, как господин Бенкоци. Но ведь Мартоном она тем более не станет меня звать. Или еще почище — Марци! Если бы я был девицей, а моего избранника звали бы Марци, я не мог бы обращаться к нему без смеха.
Нехорошо в сорок лет упрекать покойных родителей, но разве хорошо было с их стороны окрестить единственного ребенка Мартоном. Родители должны учитывать, что бывают в жизни моменты, когда имя играет решающую роль. Разумеется, старики мои не умели реально мыслить, они были свято убеждены в необходимости следовать католическому календарю и обеспечить мне покровительство какого-нибудь видного святого. Венгры-язычники не внушали им доверия, но и в этом случае можно было назвать меня Сикстом, Бонифацием, Норбертом или, на худой конец, Мармергусом. Я в этом отношении педантом не буду. Если у меня родится сын, я дам ему какое-нибудь из древневенгерских имен, от которых женщины сходят с ума. Чаба, Хуба, Левенте, Эте, Элемер. Меня прямо в жар бросает, когда я представляю, как умопомрачительно звучало бы в Андялкиных устах «мой Элемер», обращенное ко мне. Такое имя можно произнести только глубоким бархатным голосом — не иначе. Черт бы побрал этого юного Бенкоци, единственное, чему я завидую, — это его имени. Ей-богу, я готов сбросить лет двадцать из моих сорока и стать таким же щенком, как он, лишь бы меня тоже звали Элемером.
Ну да ладно, придет время, и Андялка сама придумает подходящее обращение. Вряд ли такой пустяк затруднит человека, с легкостью направившего роман в новое русло.
По-видимому, мысль о том, что художника убил доктор, мелькала у меня уже давно, но окончательно я пришел к этому выводу, когда в процессе работы у меня отлетела пуговица от жилета. (С момента эмиграции из города я прибавил пять кило. Выходит, люди толстеют не только от несчастной любви, но и от писания романов. А ведь во всем моем романе не едят столько, сколько у Диккенса в одной главе. Н-да, современный венгерский писатель не может угостить своих героев на славу, разве что в случае назначения кого-нибудь из них губернатором.)
Пуговица сломалась, и я полез ее поднимать только потому, что уважение к обломкам у археологов в крови. Желтый обломок пуговицы лежал на полу, словно зуб покойника, подняв его, я живо представил себе искаженную ухмылкой докторову рожу, похожую на череп мертвеца. Совершенно точно, этот псих и убил художника. Закисающий в крестьянской среде, свихнувшийся в тесной клетке деревенский латинист наверняка ненавидел обаятельного и немного высокомерного городского барина. Дилетант ненавидел художника. Отвергнутый влюбленный ненавидел того, кого считал счастливым соперником. В последний день их видели вместе. Художник мог сказать что-то такое, что взбесило доктора, и тот убил его в приступе ярости, а потом повесил, чтобы создать видимостью самоубийства. На третий день он покинул деревню и, будучи далеко не первой молодости, пошел добровольцем в солдаты. Он смог уйти от закона, но не от собственной совести. Смерть художника занимает его постоянно, он все время пытается доказать, что, хотя художник и погиб от чьей-то руки, убийца невиновен, так как всего лишь восстановил справедливость. Это, с одной стороны, самооправдание, а с другой — та особая внутренняя потребность, которая гонит убийцу на место преступления. (Правда, лишь с тех пор, как Достоевский изобразил Раскольникова.)
Все сходится, как в лучших детективных романах, да мне-то что за дело? Вот попу должно быть до этого дело, он стоит ближе к трагедии и, безусловно, что-то знает. Знает, но молчит, более того, когда речь заходит об убийстве, старается перевести разговор на другую тему. Как раз это молчание и подозрительно. Однако, если поп молчит, с какой стати мне вмешиваться в чужие дела? Богомольца и так оправдали, он в моих вердиктах не нуждается. Что же касается доктора, его можно спокойно предоставить собственной совести, рано или поздно она превратит его жизнь в ад, а не превратит, так и черт с ним. Я готов оставить его в покое, лишь бы он от меня отвязался.
Доктор не показывался с тех пор, как поп нас покинул и лорум временно прекратился. В конце недели на почту заглянул нотариус. От него мы узнали, что монсиньор вынашивает наполеоновские планы: он решил завести фабрику по производству ковров и уже арендовал у Андраша Тота хлев под это дело.
— Вот это славно, — улыбнулся я, — уж не Андраш ли будет руководить предприятием? А Мари Малярша могла бы рисовать образцы.
— Это тебе, братец, не шутки. Он уж и меморандум правительству сочиняет, чтоб завезло к нам каракулевых овец и киргизских ткачих. Доказывает по статистическим таблицам, что это — лучший способ исправить положение с валютой, такого, мол, даже министр финансов не придумает, хоть он лопни. Совсем свихнулся братец.
Тут нотариус тоже рассмеялся, одна только Андялка погрустнела.
— Бедный папочка доктор, как мне его жалко!
— Да ну его к черту, — с горечью пробормотал нотариус. — Старому человеку — как ни убивай время — все едино, пока с копыт не слетишь. Вот кого жалко, так это молодых людей вроде юного Бенкоци: и жизни-то не нюхали, а уж тратят ее неизвестно на что. Целую неделю торчит у еврея Якоба и учится играть на волынке.
— Juventus ventus[129], — вступился я за юношу. — Быть может, ребенок влюблен.
Я подмигнул Андялке, имея в виду мадемуазель Бимбике Коня. Нам, мол, есть о чем порассказать, не так ли? Однако меня тут же поставили на место: моя маленькая сообщница ответила мне взглядом василиска. Глаза ее посерели, как озеро перед штормом, а брови изогнулись, как две маленькие змейки. Я явно сделал какую-то глупость. Быть может, не следовало напоминать ей о нашей общей тайне? Согласен, это было не совсем красиво с моей стороны, ведь, срывая марку с письма помощника нотариуса, она хотела помочь мне. Но ведь на следующий день она наверняка наклеила на ее место другую; вовсе необязательно целую неделю играть на волынке, если твой предмет получит письмо днем позже. Но что, если я рассердил Андялку не этим, а подмигиванием как таковым? Боюсь, мне это не особенно к лицу, я ведь очень давно не практиковался. Кажется, в последний раз я подмигивал еще студентом одной медичке, с которой мы вместе сдавали коллоквиум по ботанике, но она посоветовала мне перестать, потому что musculus orbicularis[130] у меня недостаточно развит, а в этом случае никогда не будешь подмигивать как следует. (Интересно, что у филологов глазной мускул вообще развит хуже, чем у медиков, а лучше всего он развит у юристов. Интересно также, что первым на это обращает внимание археолог.)
Я не знал покоя до тех самых пор, пока не прокрался под предлогом поиска спичек в спальню и не испробовал свой musculus orbicularis перед туалетным зеркалом. Слава тебе господи, я не был смешон, когда подмигивал, я бы даже сказал, что это шло к моему бурбонскому носу. Никогда нельзя роптать на судьбу! В последние дни мой бурбонский нос доставил мне массу неприятностей, он плохо сочетался с моей славянской физиономией, а уж если от дисгармонии никуда не денешься, я предпочел бы, чтобы причиной ее был греческий нос. А вот теперь я убедился, что для изящного подмигивания необходим как раз бурбонский нос. И наоборот: представьте себе подмигивающим, к примеру, фидиевского Юпитера. Весь Олимпу лопнул бы со смеху!
Когда я кончил упражняться в подмигивании, нотариус уже ушел, а Андялка приветливо болтала с доктором, просунувшим в окошко голову и какое-то деловое письмо. Ага, это, должно быть, тот самый меморандум, из-за которого министру финансов будут сниться кошмары. Ему приснится, будто все национальное собрание пляшет у него на животе, и у каждого депутата — голова каракулевого барана. Я вежливо поздоровался с доктором: как ни странно, он не вызывал у меня ни малейшего отвращения, хоть я и разоблачил в нем убийцу, более того, я его в какой-то мере зауважал. (Смотри Ахилла Сигеле: «Престиж в преступления». Это было лет двадцать назад в «Будапешти семле»[131].)
— Рад вас видеть, господин доктор, — я повторил свое приветствие погромче, полагая, что в первый раз он не расслышал моих тихих слов.
Уж на этот-то раз он, безусловно, расслышал, поскольку обернулся, поднес к глазу монокль, оглядел меня с ног до головы, после чего отвернулся, интересуясь мною не более, чем какой-нибудь дохлой пиявкой, и продолжал беседовать с Андялкой.
Человек я чрезвычайно чувствительный, меня и перышком можно ударить так, что будет болеть годами, но по мне этого не скажешь. Если меня обижает тот, кого я люблю, то зачем мне, спрашивается, портить ему настроение взглядом, полным упрека, зачем лишать его радости, которую испытываешь всегда, когда есть на ком сорвать злость? А уж с чужими людьми и вовсе незачем ссориться, они пришли ниоткуда и уйдут в никуда, мы с ними вроде колючих каштанов: зацепились походя друг за дружку и расцепились. А у бедняги доктора колючки не только снаружи, но и внутри, так стоит ли мне его царапать?
Я взял стул, сел и стал слушать беседу об искусстве киргизских ткачих, не переставая удивляться Андялке, даже с этим дикарем умевшей обходиться так, что он становился похож на человека. Эта девушка все равно что статуя Святой Марии в Галамбоше: кто бы ни пришел ей поклониться, будь то ребенок или табунщик, всякого она выше ровно на пядь.
Я внимал Андялке, пожирая ее взглядом, но слова доктора заставили меня очнуться от моих мечтаний:
— Знаете, Ангела, в киргизской деревне нипочем не потерпели бы, чтобы кто-нибудь выдавал себя за ученого, а сам нарушал покой крестьянских семей.
Я вскочил и встал прямо перед ним. Черт возьми, этот конский каштан вцепился в меня совсем не случайно. Это очень злобный каштан, он нарочно вцепился в меня, чтобы изуродовать перед лицом той, что всего на свете для меня дороже. Сейчас я отправлю его ко всем чертям, которые его сюда и принесли.
— Господин доктор, — голос мой звучал скорее хрипло, нежели твердо, как мне бы того хотелось, — не лучше ли поговорить о том, кто убил художника?
— С удовольствием, милорд, всему свое время, — он холодно блеснул на меня моноклем. — Пока же скажу вам, что во всем мире лишь я один могу назвать имя убийцы.
— А что, если я и без вас его знаю? — я посмотрел на него так пронзительно, что даже побледнел. Зато его наглое спокойствие обличало законченного злодея.
— Этого мало, эксцеленца. У меня есть доказательства.
— У меня тоже! — я понемногу переходил на визг. Андялка дрожала и глядела на меня с мольбою и испугом. Бедняжка, разумеется, понятия не имела о том, с какой стати два оленя-ветерана собрались обломать друг другу рога.
Доктору она, видимо, тоже послала умоляющий взгляд, так как он послушно склонил перед нею свой череп, схватил полотняный шлем и полупрезрительно-полулюбезно вонзил в меня последний томагавк.
— Хладнокровие, только хладнокровие, дели хаджи!
В Киргизии я не бывал, но все-таки мне известно, что турецкое «дели» — то же самое, что венгерское «дили» — «блаженный», что, в свою очередь, обозначает отнюдь не благочестивого паломника-рыцаря, а деревенского дурачка. Полагаю, никто не осудит меня за то, что и во мне проснулся бес, заставивший сказать; неслыханную грубость:
— И вам того же, наби.
Смягчающим обстоятельством для беса может послужить тот факт, что он вложил мне в уста не просто грубость, а грубость библейскую. Словом «наби» ветхозаветные евреи называли тех, у кого не все дома.
Однако доктор, будучи человеком культурным, был плохо знаком с Библией и, услышав непонятное слово на незнакомом ему языке, пришел в страшное замешательство. Так, должно быть, пошатнулся Голиаф, когда давидов камень поразил его в висок. Он вынул монокль, разинул рот и, наконец, склонился предо мною, как побежденный:
— Был счастлив вас видеть, позвольте откланяться.
Но раз уж я поразил Голиафа, отрежу-ка ему голову! Я снисходительно помахал обеими руками:
— Шумеди окайа хм!
Последнее тоже не было высосано мною из пальца. Я умею быть неумолимым, если обстоятельства к этому вынуждают, но ничто не заставит меня стать бессовестным и поверхностным. Фраза, сразившая доктора наповал, представляла собой обычное приветствие южноафриканского племени машукулумб. Не стану утверждать, что приветствие это сохранилось и по сей день: скорее всего, мировая война там тоже перевернула все обычаи вверх дном, но в восьмидесятые годы прошлого века оно еще существовало. Достаточно заглянуть в книгу графа Шамюеля Телеки «Путешествие к озерам Рудольф и Стефания». Этому ученому можно верить.
После ухода доктора Андялка принялась допытываться о причинах дуэли. Я поведал ей все то, что счел возможным, обрисовав отношения доктора и Мари Малярши подходящими к случаю эвфемизмами и умолчав о своей вполне невинной роли, поскольку именно невинная девица могла перетолковать ее по-своему. Не стал я говорить и о том темном подозрении, что пало на доктора. Зачем смущать покой чистого сердечка этой кошмарной историей? Андялка чтит его как друга своего отца, не имея ни малейшего понятия о его мрачной тайне; ей известно лишь одно — что он был в нее влюблен и хотел взять ее в жены, а я давно подозреваю, что женщины, в том числе и самые благородные, готовы простить отвергнутым женихам все что угодно, включая грабеж и убийство. (Зато тем, за которых они вышли замуж, этим злодеям, худшим, нежели разбойники и убийцы, они никогда не простят своего поступка.) Да что там говорить, все женщины скроены на один манер.
Надо сказать, что доктора я и сам готов был простить, ведь именно ему я был обязан блестящей победой, одержанной на глазах у Андялки. И это было только начало, за которым последовала длинная полоса удач. От Фиделя из Надьварада пришла телеграмма с сообщением о том, что свадьба состоялась, но пока ничего не выходит с визой; он не знает, когда сможет вернуться домой, а до тех пор остается «ваш у. ж. Фидель», что означало «утоляющий жажду Фидель». Дай ему бог здоровья, хоть бы эти валахи продержали его подольше, они, как выяснилось, совсем неплохие люди. Я же, в свою очередь, изо всех сил старался использовать время, оставшееся до его возвращения, дабы завершить к этому моменту оба моих романа и дать Фиделю возможность поставить точку в конце последней главы — стоя у алтаря в алом облачении и с легким сердцем, не обремененным мыслью о том, что случай с Меранской графиней все же не повторился. (Зато девский барон может быть допущен на свадьбу в качестве зеваки.)
Собственно говоря, с матушкой Полинг все уже было в полном порядке, хотя до открытых переговоров дело еще не дошло. Зато как-то раз она сообщила мне, что успокоится лишь в том случае, если господь пошлет ее дочурке счастье в лице серьезного состоятельного человека с солидным положением, причем, кто бы этот господин ни был, можно смело сказать, что господь к нему милостив: ее доченька не щеголиха, не мотовка, не болтушка и не бездельница. Я, в свою очередь, поведал, что устал от холостяцкой жизни, хотя, слава богу, пребываю в добром здравии, потому что никогда не был ни пьяницей, ни бабником, ни картежником; одна беда — время бежит, жизнь проходит, а тут не знаешь толком, зачем жил, для кого сколотил небольшое состояньице; особенно на него не разгуляешься, но на двоих за глаза хватит. Тогда она призналась мне, что очень любит деревню, и переезд в город наверняка сократил бы ей жизнь лет этак на десять, но ради детей, а ведь она готова считать зятя своим сыном, она пошла бы даже на такую жертву. В ответ на это я заявил: дескать, счастлив будет мужчина, который сможет назвать такую женщину тещей, а я, со своей стороны, без тещи не мыслю счастливой семейной жизни.
С Андялкой мы о будущем не говорили, так как нас обоих сильно занимал роман, все главы которого мы отныне обговаривали вместе. Должен признаться, что ее фантазия была гораздо живее, причудливее моей и логики в ее рассуждениях было больше, зато мой жизненный опыт, познания в целом и знание людей в частности с каждым днем разворачивались перед нею все шире. Разумеется, я выкладывал свои душевные богатства не без некоторой хитрости. Сидя на берегу реки и объясняя ей, почему течет вода, я непременно завершал свою лекцию рассуждением о том, как прекрасно, когда два жизненных потока сливаются в один и текут слиянно и нераздельно к океану вечности меж берегов, поросших незабудками, и лепестки диких роз качаются на волнах, и никто уже не может сказать, где кончается один поток и начинается другой. Подметив в камышах обыкновенную улитку, я тут же принимался говорить о южных коралловых островах, где гуляют влюбленные в цветочных одеяниях; всю жизнь они только и делают, что играют розовыми ракушками и голубыми улитками, которых собирают при лунном сиянии среди скал, обращающих морскую пену в серебряную пыль. Обычно такой экскурс завершался размышлением о том, что совсем необязательно ехать на Таити, что два человека, изначально предназначенные друг для друга, могут устроить себе коралловый остров где угодно и провести там всю жизнь, полностью погрузившись друг в друга, слушая шум дальнего прибоя и вылавливая из волн жизни лишь то, что им по душе: розовые ракушки радости и голубых улиток беспричинной светлой печали. Я много рассказывал ей о любви цветов, взрезая острым камышовым листом нежнейшую чашечку кувшинки или горлышко шалфея, причем некоторые анатомические подробности заставляли меня краснеть до ушей, чего она, в своей невинной чистоте, попросту не замечала. Но больше всего я любил говорить о золотистых глазах господних, взирающих на нас с небес, о переливчатых окошках из драгоценных камней, сквозь которые подглядывают за нами ангелы. Я любил эту тему, не только потому, что загадочные небесные светила, звездные скопления, туманности, планеты-спутники, а также дальние огни, трепещущие от дыхания Всевышнего, давали мне возможность в полной мере проявить свои познания в астрономии, мифологии и философии, но еще и потому, что в такие минуты я всегда мог взять Андялку за руку. Собственной рукой можно было показывать сколько угодно: дескать, вот эта холодная голубая звезда прямо над нами — Вега, вон та золотистая — Андромеда, которую спас от чудовища Персей, вот эта серебристая полоса — это волосы прекрасной царевны Вероники, которую боги сочли достойной украсить небесный свод, — все это ничего не давало, ибо когда я указывал на звезду Орион, ученица моя смотрела на одну из Медведиц и говорила при этом: да-да, теперь вижу. Достичь результатов можно лишь в том случае, если мэтр берет ученицу за руку повыше локтя и указывает ее собственной рукой на всех этих двухтысячелетних дам и кавалеров, закончивших свою карьеру в качестве звезд. Тогда, по крайней мере, ученица увидит хоть пару звезд там, где им положено быть, что же касается мэтра, то пока его дрожащие пальцы прикасаются к округлой и прохладной руке, ощущая биение горячей крови, все небесные смарагды, рубины и топазы превращаются для него в невидимые звезды.
— Я могла бы слушать вас до утра, господин председатель, — сказала Андялка как-то раз, когда мы завершили учебную экскурсию по одному из участков неба, наслушавшись астральной музыки. Неважно, что в действительности это было всего лишь кваканье лягушек и стрекот кузнечиков. Нет в мире музыки более опасной и пьянящей, ведь это были свадебные песни, десятки тысяч свадебных песен разом. — Мне кажется, рядом с вами никогда не захочешь спать.
Ну-ну, это мы еще выясним, всему свое время.
Однако наибольшее впечатление я произвел на Андялку как-то раз после полудня, когда мы поплыли на Божий остров.
Божий остров не был церковным владением, в этом случае он уже не принадлежал бы богу. «Божий» — потому что ничей. А ничей он был потому, что его нельзя было внести в поземельную книгу: в отличие от порядочных островов, он не имел постоянного местоположения. Божий остров являл собою один из камышовых уголков, известных скорее по старой венгерской географии, там для них было даже особое имя: «плавучая трясина». Больше всего их было на Эчедском болоте, но и на болотах возле Тисы они чувствовали себя вполне уютно до тех пор, пока Тису не призвали к порядку. Когда же ее отучили от «безобразий», болотца пересохли, а бывшие бродяги-острова остепенились и стали добропорядочными пашнями. Отличить их можно было лишь по тому, что даже много лет спустя среди пшеницы нет-нет да и высовывался сиротливый камышовый стебель. (Так старый торговец мылом, а в молодые годы террорист, швыряет гирьку под прилавок привычным движением, словно бомбу. Воображаю, как странно прозвучало бы такое сравнение лет десять назад! А теперь, надо надеяться, никто не найдет в нем ничего предосудительного. Очень наглядное сравнение, никому не придется ходить за разъяснениями к соседу.)
У меня, точнее, у нас в деревне — в романе она будет называться Андялфалва[132], — оставалось болота примерно на тысячу хольдов, там попадаются такие блуждающие острова. Они возникают оттого, что в стоячей воде переплетаются воедино живые и подгнившие корни самых разнообразных водорослей. Сеть выходит настолько прочная, что человеку порвать ее не под силу, она колышется, покачивается, плывет по воде до тех пор, пока «ясский дождь» не забросает ее землей. (Откуда-то с Матры приходит ветер, собирает весь песок, что есть в Ясшаге, Хайдушаге и Куншаге[133], а потом швыряет его оземь так, что слепнут глаза и глохнут уши — вот что такое «ясский дождь».) На новоявленной земле нередко пробивается мох, надо мхом — травы, и тогда сеть становится такой густой, а земля — такой плотной, что может выдержать даже кустарник, а там, глядишь, и деревья. И весь этот девственный мир, куда не ступала нога человека, качается, колышется на воде, вздрагивает, когда на него приземляется аист, танцует от малейшего дуновения. В конце концов поднимается сильный ветер, он вцепляется в ивовые кроны, отрывает плавунок от берега и несет по болоту. Так и плавает остров по воле ветра, пока не придет зима и не прикует его к берегу ледяными кандалами.
«Божий остров» имел непосредственное отношение к роману, здесь предстояло жить рыбаку, сюда же должен был явиться художник, чтобы покончить с собой; если уж бедняге все равно конец, то пусть, по крайней мере, покинет наш скверный мир в этом живописном уголке.
— Вот посмотрите, господин председатель, ничего из этого не выйдет, — тревожилась Андялка, — художник увидит эту удивительную красоту и не захочет умирать, пока не напишет парочку пейзажей, тем временем он успеет передумать и тоже подастся в рыбаки.
Она носилась в восторге между бархатистыми цветками лиловой болотной мяты и алыми флажками кипрея, рвала двумя руками золотые талеры куриной слепоты, а под конец хлопнула меня початком рогоза, призывая побегать вместе с нею. Бегать я, разумеется, не стал, но смирился со своей долей: пусть бы ей вздумалось побить меня веревкой, вымоченной в соленой воде, — разве я не почел бы за счастье это стерпеть! Вот только подвижные игры — не для меня; будь у меня такие же ножки косули, как у Андялки, я обошел бы за нею следом хоть целый свет, но за неимением таковых предпочитаю заняться орнитологией, поскольку при этом можно сидеть. К тому же в этой области даже самые интеллигентные женщины очень малообразованны. Вот и Андялка призналась, что из всего птичьего мира кроме домашней птицы знакома только со страусом, и то не с ним самим, а с его пером, и то не по шляпам, а по модным журналам, и то не по новым, а по старым, которые выписывала еще жена нотариуса.
Нарвав целую охапку мягких листьев мальвы и пахучей полыни, я соорудил нечто вроде трона, а сам лег у ее ног — ну вот, теперь слушайте, камышовая фея!
— Птица, которая говорит: «т-ри, т-ри», — это камышовый дрозд, та, что отвечает: «при-ди, при-ди», — камышовая славка. Та, которая стучит, — трещотка, сопит — зяблик, ругается — бородатая синица. Птица, которая кричит: «при-при ч-чем? пр-ри ч-чем?», — это полевая крачка, а та, что отвечает: «ку-лек, ку-лек», — вьюрок, ни та, ни другая не позволяют себе непарламентских выражений. Чибис кашляет, как какой-нибудь генеральный директор, свистящий чирок ведет себя так, словно собирается в театр на вечер классической музыки. Взад-вперед по болоту носится водяная курочка; чомга, напротив, ступает тяжело, лысуха неуклюже скачет, а та, что ковыляет по-дурацки, — это кваква. Где колышутся большие белые облака, словно кто-то вытряхивает огромные мешки с мукой, — там летают чайки; речные крачки чертят зигзаги точь-в-точь как ласточки. Этот надтреснутый голос принадлежит цапле-барабанщице, а те жуткие, протяжные вопли издает черная птица с кривым клювом — ее имени мы называть не станем. Долгоносый журавль не перестает трещать клювом даже на лету, аист в полете вытягивает шею вперед, а ноги — назад, впрочем, аиста всякий знает, даже тот, кто в школе не обучался.
Тут я прикусил язык и смущенно умолк, забыв, что чистая душа ни в чем не видит подвоха. Андялка смотрела на меня с искренним изумлением, теперь глаза ее породнились с незабудками, целовавшими носки ее башмачков.
— Господин председатель, вы знаете больше, чем любой учитель.
— О, что вы, — я скромно потупил взор и мысленно попросил прощения у Брема, не будучи уверен, что он выслушал бы мою лекцию с таким же энтузиазмом. Но, видит бог, пустельга не перестанет быть пустельгой, если я случайно назову ее дроздом; при всей моей добросовестности я прощу себе эту ошибку, если мне удастся вырасти в глазах самого дорогого на свете существа хотя бы на пядь.
К сожалению, помимо болотных птиц, подобных коим не встретишь и за тридевять комитатов, на Божьем острове водились еще и комары, по кровожадности сравнимые разве что со своими собратьями на Амазонке.
— Хорошо бы вам закурить, — предложила Андялка, когда мы отплыли от острова, и я принялся размахивать носовым платком, пытаясь защитить ее от хищников. — Что с вами стряслось, господин председатель? Вы не курите уже второй день. Ведь раньше вы не выпускали сигары изо рта.
— Хочу отвыкнуть, — нежно ответил я. — Не то чтоб курение мне вредило, организм у меня крепкий — хоть паприку кури, но я решил воспитывать силу воли. Знаете, как писали в альбомах: «Кто с собою совладал, тот сильней, чем Ганнибал».
Не мог же я объяснить ей, зачем мне нужно, чтобы дыхание мое было чистым, как у ребенка перед первым причастием. И того не мог я ей сказать, что стоит мне взглянуть на ее алый ротик, как у меня пересыхает во рту, и воля моя становится крепче, чем у всех пунических и римских полководцев вместе взятых!
Когда мы причалили, уже стемнело. Тихий ветерок шевелил листву, а луна в серебристой опушке поднялась из-за леса как раз в тот момент, когда я прижал к себе Андялкину руку. Прямо-таки противно видеть, с какой точностью эта луна соблюдает режим, предписанный составителями календарей. Опоздай она хоть на минуту или будь тополя хоть самую малость повыше — и Ганнибал мог бы торжествующе расхохотаться. Но луна смотрела на нас так пристально, что мне не оставалось ничего иного, как пребывать по-прежнему гордым мужем, не поддающимся соблазнам. Андялка между тем зябко стянула на шее косынку.
— Чувствуете, как резко похолодало? — (С тем же успехом жасминная роща могла бы спросить у наползающей на нее огненной лавы, не мерзнет ли она). — Смотрите-ка, кто-то ходит между деревьями. Как раз тут художник и повесился. Ах, мне страшно!
В ивовых зарослях и в самом деле что-то белело. Привидением это «что-то» быть не могло, поскольку под ногами у него трещал валежник. Привидения же обычно ходят бесшумно, во всяком случае, городские. Можно допустить, что деревенские призраки более неуклюжи. Но и они не носят полотняных шлемов.
А у этого на голове был полотняный шлем.
— Доктор, — шепнул я Андялке.
— Что он здесь ищет?
— Киргизов.
Убийца на месте преступления! Вот только кого же он начитался — Достоевского или Эдгара По?
Не успели мы отойти и на пару шагов, как нам попалось еще одно привидение. На этот раз оно сидело на краю оврага, и голова у него была повязана платком. Это привидение узнала Андялка: оно оказалось Мари Маляршей. Эге, так может, вовсе не совесть пасет доктора на лугу, а доктор пасет здесь сию заблудшую каракулевую овечку?
Других привидений на нашем пути не встретилось; мы были уже у самой околицы, а из деревни доносилось такое жуткое блеяние волынки, что от него самое отчаянное привидение немедленно ускакало бы обратно в преисподнюю. По мере приближения к корчме я убедился, что текст с эстетической точки зрения не уступает музыке.
Нынче Якоб на дворе, Поп напьется на заре. А нотариус Лишь намочит ус.— Эге, да это малыш Бенкоци! — сказал я со смехом и поглядел на Андялку.
Она веселилась над упражнениями помощника нотариуса еще больше, чем я. Пожалуй, я впервые видел ее такой веселой.
— Оп-ля! — она хлопнула в ладоши. — Вот вам и соблазнитель!
— Простите?
— Нашелся соблазнитель для романа! Ну, тот, что отобьет натурщицу у мужа, то есть у художника. Смотрите-ка, его можно написать с этого обормота. Пустой, бессодержательный, легкомысленный тип, ничего в нем нет, кроме красивых губ, красивых глаз да красивого галстука.
— Мысль вашу я одобряю, но с красотой вы, по-моему, немного переборщили, — ответил я не без некоторой обиды.
— Но ведь так нужно: чем он красивее, тем противнее! Такие думают, перед ними ни одна женщина не устоит. — (Удивительное дело, теперь глаза у нее светились зеленым светом, как у кошки в темноте.)
— Так ведь натурщица и правда не устоит.
— Ну да, потому что она — женщина простая и глупая, для которой внутренний мир мужчины — ничто.
Тут я успокоился. Мне так захотелось работать, что в ту же ночь я посвятил юному Бенкоци целую главу. Возможно, я немного исказил его облик, но это, в конце концов, мое личное дело. Меня бесило, что мальчишка и вправду весьма хорош собой; впрочем, тут его вины нету, другое дело — галстук, который он так великолепно завязывает. Хоть любая субъективность и противоречит моим писательским принципам, мне пришлось выставить юношу на посмешище, разумеется, в соответствии с принципами. Без сомнения, это была самая удачная глава. Мне не терпелось прочитать ее Андялке, которой она должна понравиться еще больше, чем мне, ведь, в сущности, она ее придумала. Она должна получить гонорар! Было давно уже за полночь, когда я вытащил из ящика самую большую коробку шоколадных конфет и сунул ее в сумку с рукописью.
Еще будучи лириком, я заметил: если вечером что-то удается, потом очень трудно заснуть от возбуждения. (Вот, в общем, и весь гонорар, который я получал за свою лирику.) В этом смысле разница между лириками и романистами, как выяснилось, не так уж велика. Я заснул на рассвете и с трудом продрал глаза около полудня. Только я собрался выйти, как явилась прислуга и сообщила, что заходил Марта Петух и наказывал передать мне: они, мол, боле курганника не копают.
Ну и ладно, это вполне соответствует моим намерениям. Пусть предки пеняют на себя за то, что не нашлись до сих пор, искать их дальше не имеет смысла. Я уже нашел то, что искал, а также то, чего не искал. Сочиненный мною роман двигался к концу, и роман моей жизни — тоже.
Но вот с моим тезкой Петухом мне все же придется перекинуться парой слов. Ведь нужно засыпать ямы, вырытые в кургане. Да, но как мне отыскать тезкин дом? — задумался я, стоя на пороге. Как он выглядит, я помню: покосившаяся развалюха, а во дворе — сорняки в человеческий рост — но как до него добраться, не знаю. В алфельдской деревне иногда труднее ориентироваться, чем в Париже. Можно было спросить у прохожих — день был воскресный, перед избами на скамейках сидели люди, — но я всегда стеснялся задавать вопросы. Будучи студентом и впервые собравшись домой на вакации, я целый день пробродил по Будапешту в поисках вокзала. Зато никто не мог поднять меня на смех из-за моих вопросов.
Выручил меня ягненок с колокольчиком. Он щипал травку перед церквью, напротив дома священника. Шати сидел на корточках рядом с ним. В данный момент он не был погружен в философские раздумья, иными словами, пальца не сосал. Он грыз большое кислое яблоко. Я решил, что оно кисло-сладкое, потому что время от времени у него сводило скулы от наслаждения.
— Эй, Шати, ты знаешь, где живет Марта Цила Петух?
— Как не знать.
— Можешь меня проводить?
— Не, не провожу, никак нельзя.
— Почему же нельзя?
— Потому как меня матушка тут посадила, чтоб я глядел, куда вы пойдете.
Ах, чтоб тебя! Шати в качестве сыщика! Уж не меня ли выслеживала Мари Малярша вечером у оврага!
Я открыл коробку конфет и сунул одну из них Шати в ручонку.
— Знаешь, что это такое, Шати?
— Как не знать. Медвежий сахар. — Шати выбросил яблоко и в два счета расправился с медвежьим сахаром. Было видно, что его мнение о медведях сильно изменилось к лучшему.
— Ну, а теперь проводишь, Шати?
— Никак нельзя, — Шати извлек из подола красивое красное яблоко, — дядя Андраш дал мне яблочко, чтоб я отседова ни ногой, пока не спознаю, куды вы идете.
Ну вот, здравствуйте, уж от Богомольца я этого никак не ожидал. Я не знал, сердиться мне или смеяться, и чтобы разобраться, решил пустить в дело еще один кусок медвежьего сахара.
— А господин доктор тебе случайно не наказывал следить, куда я пойду?
— А как же, — добил меня Шати. — Уж цельную неделю выслеживаю.
Нетрудно было догадаться, что очередное яблоко, извлеченное на свет божий из бездонного подола, мог преподнести юному шпиону только доктор. Старое сморщенное печеное яблоко, от таких яблок колики бывают, тут-то и можно будет увиваться вокруг Мари Малярши хоть целую неделю.
Я собрался уйти от Соколиного Глаза, а заодно и от его курчавого подручного шпиона, но глава шпионской конторы решил заработать еще кусок медвежьего сахара. Он вытащил из подола лимон, такие лимоны можно увидеть только на стойке деревенской корчмы.
— Тоже ничего, — хитро сказал он, пососав немного, — вроде как кисленькое вино, вот, лизните-ка!
От лимона и впрямь разило вином.
— Это еще откуда?
— Нотарус дал, он домой шел, да, видать, выпимши, все хотел церкву опрокинуть.
— Кто-кто?
— Говорю ж вам, господин нотарус, да не тот, что пузатый, а барчук. Все хотел к вам зайтить, да ручки дверной не нашел и говорит: сиди, мол, здесь да следи, куды он пойдет, ну и дал мне вот энту штуковину. Теперича я должен к нему сходить, сказать, куды вы пошли.
Вот тут я действительно удивился. Какого черта нужно от меня юному Бенкоци? Неужели хочет, чтобы я помирил его с госпожой Полинг? Что ж, если попросит, могу замолвить словечко. Но доктору я покажу!
— Послушай-ка, Шати! А матушка твоя знает, что дядюшка Андраш и доктор тоже дали тебе по яблоку?
— Вот ишшо. Никто друг про дружку не знает. А то не дали бы мне три яблочка разом.
Ничего не скажешь, сынок Беры Банкира не лишен коммерческой жилки, с ним можно говорить по-деловому.
— А я дам тебе сразу три медвежьих сахара. Сперва ты их съешь, не сходя с места, понятно? Потом скажешь своей матушке, что меня не видал, он, мол, не выходил из дому. — (Пусть порадуется, бедная женщина.) — Господину доктору скажешь, будто я пошел с твоей матушкой в ежевичник. — (Чтоб ты сдох, старый висельник!) — Дядюшке Андрашу скажешь, что… скажи ему то же самое, что доктору!
Мне было жаль Богомольца, но я хотел пустить их по одному следу. Пусть столкнутся нос к носу — компаньоны по производству киргизских ковров. Тут мне пришло в голову, что разумнее всего было бы зазвать Богомольца к Якобу в корчму на стаканчик винца и сказать ему: «Знаешь ли ты, старина, что муху проще приманить каплей меда, чем бочкой уксуса? Коли знаешь, отправляйся домой, возьми свою женушку за подбородок, взгляни ей в глаза, помирись с нею, а потом пошли ее к чепайскому святому ткачу, но не раньше, чем пошлешь ему откормленную свинью, и тогда благочестивый муж сделает твоей женушке такое внушение, что она разом перестанет мыкаться в поисках венца жизни; если же ты во что бы то ни стало хочешь искать подвоха, то, чем точить нож на меня, не сдавал бы лучше доктору собственный двор в аренду!» Но как говорится, слово — серебро, молчание — золото.
— А нотарусу чего сказать? — Шати торопился уяснить последний пункт соглашения.
— Нотариусу? Что ж, можешь сказать, что я пошел на почту.
С этими словами я повернулся спиной к юному Пинкертону, который тем временем исполнил первую часть нашего договора, слопав медвежий сахар. В дверях почты я оглянулся — он разыскивал опрометчиво выброшенные яблоки. Однако они успели попасть в поле деятельности шпиона-подручного, в результате Шати покинул свой пост удрученным, как всякий, оставшийся с носом конъюнктурщик.
Госпожа Полинг раскатывала на кухне тесто, будучи явно не в духе.
— У Андялки снова голова болит, — сообщила она сердито, — она еще не вставала, ей надо менять компрессы, едва успеваю холодную воду таскать. Это с молодыми девушками бывает, я и сама маялась, пока замуж не вышла, — добавила она, желая меня успокоить.
— Можно к ней зайти?
— Почему же нет, пожалуйста, господин председатель, может, забудется хоть немного.
Слова о том, что Андялке следует «забыться», меня не смутили. В деревне часто говорят «забыться» вместо «развлечься».
Однако девушка соглашалась забываться исключительно через дверь. Она очень просила меня не входить: она-де не причесана, не одета (это означало: одета недостаточно продуманно) и глаза у нее красные от бессонницы. Если же я хочу оказать ей услугу, то она просунет в дверь тазик, чтобы я принес свежей воды.
Целый день носил я свежую воду, а колодец на почте был очень глубок, и ревматизм мой слегка взбунтовался. Зато к вечеру Андялкина головная боль утихла настолько, что она смогла выслушать через полуоткрытую дверь главу о помощнике нотариуса. Она не сказала в ответ ни «хорошо», ни «плохо», я же не осмелился беспокоить ее вопросами. Прошло довольно много времени, наконец я робко спросил, не заснула ли она.
— Я не сплю, — отвечала бедняжка немного нервно. — У меня снова разболелась голова. Не могли бы вы закрыть дверь?
Я закрыл дверь. Матушка Полинг заснула в комнате на диване, голова ее свесилась вниз, я поправил подушечку, чтобы ей не приснилось плохого, и сел в клетушке за стол. Я думал поработать, но дело не шло, на бумаге одна за другой появлялись буквы «я». (Первый раз в жизни я придумал ребус; разгадка — единственная-я-единственная.)
Чтобы день не пропал даром, я решил попробовать разобраться со своими батраками и попросил письмоносца дядюшку Габора проводить меня к Марте Петуху.
Тезка встретил меня несравненно дружелюбнее, чем при первом моем визите, и даже предложил мне остаться в шляпе. (Гость выражает свое неизменное уважение к хозяевам тем, что, войдя в дом, снимает шляпу. Хозяин же в знак уважения предлагает гостю снова ее надеть.
Это не самое разумное правило хорошего тона на сорокаградусной жаре, да ничего не поделаешь. Если при королевских дворах пренебрегают этикетом, пусть уж хоть крестьянская демократия держит марку.)
О работе старик, однако, и слышать не хотел. Посудите сами, можно ли разбазаривать время за такую смехотворную плату при нынешней-то дороговизне. (К этому моменту поденная плата старого бездельника достигла двухсот пятидесяти крон, а сверх того он получал еще пятьдесят крон как «руководитель работ».)
Да и не по нему боле такая тяжелая работа — ямы засыпать. Вот он и раздумал — будет теперь виноград окапывать.
— Но ведь ямы-то надо засыпать, это-то вам ясно? Не могу же я потребовать, чтоб хозяева засыпали их за свой счет.
— На моей землице ужо засыпано.
— Ну а с другими как? Что, ежели какая-нибудь скотина в яму провалится и ноги переломает?
— Свалится, у кого имеется. У меня-то у самого ни лошади, ни коровы.
Мне не хотелось, чтобы тезка и дальше спорил против прописных истин, где-то я вычитал, что это — самое тяжелое из шести прегрешений против Святого Духа. (Впрочем, Марта Петух оказался бы в весьма избранном обществе, попади он в ту залу преисподней, где расквартированы те, кто этим грешили.) Заглянем-ка к куму Бибоку, авось поможет, его нравственные принципы улучшены чтением «Окош Наптар»[134].
Идти было недалеко, всего три дома, точнее, до третьего двора. Кум Бибок сидел, расставив ноги, за верстаком и строгал какую-то длинную палку. Сразу видно, что попа нету дома — весь приход разом позабыл катехизис.
— Как же так, Бибок? Вы что же, заповедей святой церкви не знаете? Седьмой день — господу богу. Правоверные христиане по воскресеньям не работают.
— Да и по будням, сударь мой, тоже, коли нужды нету. — Кум, смеясь, стряхнул с кошутовской бороды стружку. — Убить того мало, кто ее придумал, энту работу, а того, хто ее любит, зарезать ему на поминки. Ну а это не работа, а так, фунтифлушки.
Он с любовью окинул взором двухметровую «фунтифлушку», — вот так и я смотрю на рукопись своего романа: все художники одинаковы.
— Это что такое? Косовище?
— Скажете тоже, энто что ж за косарь нужон, для этакого-то косовища! — кум пришел в негодование. — Костлявый Сикфрид — и тот короток будет. А энто — громатвод.
— Что-о? Громоотвод? Из дерева?
— Ну. Старый-то сгнил, — он указал на крышу, в которую и правда был вколочен длинный деревянный кол. — Надобно, сударь, в Мерике-то на кажном доме такой стоит.
— Да и у нас тоже, в городах. Только делают их из железа, а на верхушке — позолота.
— Ну да, так то — господа. А бедному человеку и деревянный сгодится.
— Ну хорошо. Дело ваше. Так что будем делать с курганником? Неужто и вы бросите меня на произвол судьбы?
— Я, сударь, все скажу, как есть. Кабы Андраш со службой не покончил, я бы, может, и сам за вас вступился. Да ведь Андраш, он прямо так и говорит: за такой, мол, позор никакими, мол, деньгами не заплотишь. Уж и так вся деревня смеется: дескать, барин — (то есть я!) — целое лето ума под землей ищет, а мы и ему ума не нашли и свой потеряли. — (Они!)
— Это тоже Андраш говорит?
— И он, и ишшо господин доктор.
Тут я понял, откуда ветер дует. Старый нечестивец понял, что я вижу его насквозь, и решил подстроить так, чтобы народ выкурил меня из деревни! Я и сам с радостью уеду отсюда, ямы бы вот только засыпать!
— Ну, дядюшка Габор, — обратился я к почтальону, когда мы вышли на улицу, — как будем выходить из этого тупика? Дурной у вас в деревне народец.
— Крестьяне — что с них взять, сударь, с ними что говори, что не говори — как об стенку горох. Только и есть уважительных мушшин, что я, да звонарь, да поп, да ишшо нотариус и доктор. Ну и барышня тоже, не будь она женшиной.
— Это все мне ничего не дает, никто из этих людей не станет закапывать Семихолмья.
— А чего же, вот нынче вечером со звонарем и перемолвлюсь, коли господин председатель нам доверит, заровняем эти ямы за неделю: как минутка свободная выдастся, так мы сразу и туда. А вам это без разницы, так или иначе в тысячонку пенге обойдется.
Будь у меня сокровища Аттилы, я бы и их не пожалел! Повеселев, я отправился на почту, но у самых дверей остолбенел от неожиданности. До сих пор я ни разу не слышал в этом доме ни одного громкого звука, за исключением разве что смеха. Теперь же голос матушки Полинг звучал отрывисто и резко, словно удары кнута.
— Сто раз тебе говорила: коли так — прыгну в Тису! — на этот раз она завизжала, как кнут в воздухе.
Андялкиного ответа я не расслышал, но ее плачущий голосок терзал мою душу, как заунывное пение скрипки.
Не знаю, как поступил бы другой на моем месте, лично я решительно не понимал, что мне делать: открыть дверь или сбежать? Некоторое время я прислушивался, но на почте внезапно стало тихо — как отрезало. Должно быть, они услыхали мои шаги; теперь входить было никак нельзя: они наверняка смутились бы, да и я тоже. Я отошел от почты на цыпочках и на цыпочках же прокрался домой, точно вор.
Добравшись до своей комнаты, я принялся шарить по столу в поисках спичек и наткнулся на какой-то холодный предмет. Секунду спустя — снова что-то круглое и холодное. Я ощупал таинственный предмет: гладкий, мягкий, скользкий. Спотыкаясь, побрел я на кухню, зажег свечу и вернулся в комнату: стол был завален дохлыми лягушками. Кто-то выразил мне свое уважение, забросив их в открытое окно. Пожалуй, мне и вправду пора убираться из этой деревни, пока меня не постигла участь Турбока.
К тому же внезапно разыгралась буря с градом; потом она улеглась, а мне все мерещился стук в оконное стекло. Я совал голову под подушку, закрывал лицо носовым платком — все без толку. Как же быть, черт возьми? Раньше, когда меня одолевала бессонница, я занимался решением проблемы: что бы я делал, если бы у меня был миллион форинтов. После пятидесяти тысяч я, как правило, засыпал, так как не знал, куда девать остальные, и в итоге оставлял всю сумму Венгерской академии наук. (Сразу видно истинного мецената.) Однако сегодня и это не помогало. Что такое миллион форинтов по цюрихскому курсу? Если бы он у меня был, я бы тут же вручил его матушке Полинг, лишь бы она не бросалась в Тису, и мне бы сразу понадобился второй миллион: Андялке на приданое. Жене бедного венгерского романиста придется этим удовлетвориться. Кроме того, надо будет найти квартиру побольше, заказать кровати — еще пара миллионов.
Посреди этих серьезных размышлений, где-то на пятьдесят пятом миллионе, я заснул и проснулся от стука в окно. Все еще идет град?
Это был не град, в окно мое стучала белая лилия, покоившаяся в лилейно-белой Андялкиной ручке.
— Как не стыдно, лежебока короля Матяша! — серебряным колокольчиком прозвенел голосок.
Никогда в жизни я быстро не одевался, а тут в течение трех минут из меня вышел натуральный Оскар Уайльд перед Редингом[135], только галстук, разумеется, был повязан гораздо хуже.
Небо прояснилось, лишь кое-где плавали клочья черного знамени ночной бури, от Андялкиной вчерашней депрессии тоже не осталось и следа, если не считать некоторой бледности. Глаза у нее были живые и веселые, лишь раз в них мелькнула тревога — когда она спросила, прикоснувшись лилией к моему плечу:
— А где это мы вчера вечером пропадали? Матушка ждала вас с ужином до полуночи и очень ворчала, что прождала напрасно.
(Что да, то да, ворчание я тоже слышал! Не столько ворчание, сколько рычание. Однако этой девушке даже откровенная ложь к лицу! Если она станет моей женой, мы сможем разыгрывать друг друга хоть каждый день! Дай-ка попробую, обычно у меня хорошо выходит.)
Удалось и правда на славу, если учесть, что не упражнялся я довольно долго. Больше десяти лет, с тех пор как был влюблен в последний раз.
— Я очень устал, дорогая, да и поздно было, не хотелось вам мешать. Я так боялся, что вы не можете заснуть. — (Что ж, последнее, по крайней мере, было правдой.)
— О, я прекрасно спала и даже видела сон. Представьте, мне приснилось, будто я — белая лилия и стою в красной вазе на алтаре девы Марии в нашей церкви.
Очаровательный сон; я тут же решил отныне полюбить белые лилии. До сих пор это был единственный не любимый мною цветок. Невинный вид в сочетании с опьяняющим запахом нельзя простить даже женщине — не то что цветку! Лилия среди цветов — то же, что голубка среди птиц: никто не умеет так коварно симулировать чистоту, как она.
Решительно этот день был днем открытий. Я открыл для себя не только тот факт, что лилия как никакой другой цветок достойна любви, но и то, что пригоревшее молоко может оказаться очень славным блюдом, если его подносят молочно-белые ручки. Ответственность за подгорание молока лежала на матушке Полинг; я сделал пару глотков и поспешно сказал: надо же, совсем забыл, я ведь уже завтракал дома. Вот пожалуйста, только начни лгать, а там уж пойдет как по маслу.
Пойти-то пошло, да ничего не вышло. Андялка энергично стукнула кулаком по столу.
— Неправда! Юли пришла к нотариусу за молоком как раз, когда я уходила. Господин председатель хочет похудеть, чтоб выглядеть еще моложе. Ну вот что! Давайте-ка быстренько выпьем молочко! Молочко хорошее, с сахаром! — Она поднесла мне ко рту стакан.
Меня тошнит от одного вида сладкого теплого молока, на месте правительства я бы отбирал у женщин, кладущих в молоко сахар, избирательные права. (Это было бы то самое мероприятие, которое даже оппозиция встретила бы на «ура».) Однако окажись в стакане аква-тофана[136] — разве я не выхлебал бы ее до последней капли? Я готов был закусить стаканом, если бы Андялка того пожелала.
Третье мое открытие состояло в том, что аристократы больше годятся в батраки, чем плебеи. Когда я пришел на Семихолмье, три ямы были уже засыпаны, а земля разровнена. Признание мое получило выражение в сигарах.
Четвертое открытие — но нет, оно было слишком знаменательно, тут необходима отдельная глава.
Глянув вниз с холма, я увидел, что из кукурузных зарослей меня приветствует малыш Бенкоци. Свеженький, чистенький, хорошенький, можно подумать, не он заливал целую неделю за воротник. Держался он смиренно — словно был не помощником нотариуса, а помощником музейного сторожа.
— Простите, что я вам докучаю, — сказал он, — я еще вчера собирался к вам зайти.
— Ну да, насколько мне известно, вы не смогли обнаружить дверной ручки, — вонзил я жало. Меня бесил его галстук, завязанный безукоризненно, как у банковского служащего-стажера.
Легкая краска на его щеках показала, что мне удалось его уязвить, но в целом юноша остался спокоен.
— Это входит в круг вопросов, которые я хотел бы конфиденциально обсудить с вами, господин председатель.
— Присаживайтесь, — я расстелил свой носовой платок на разрытой кротами земле, а сам, как хозяин, уселся на черную сумку. — Чем могу быть полезен?
— Я очень несчастлив, сударь, неудивительно, что время от времени мне приходится искать забвения в вине. — (Он говорил совсем как герой романа и отбрасывал черную прядь со лба таким романтическим жестом, что я не мог не испытывать к нему симпатии). — Весь мир издевается надо мною. — (Тут мне пришлось Потупить глаза. Весь мир: поп, нотариус, доктор. И ни один из них не поиздевался над тобою так, как мы с моей маленькой сообщницей!) — А почему? Потому что я — поэт. И вот я спрашиваю вас: неужто это такой непростительный грех?
— Да нет, я бы не сказал, — ответил я снисходительно. — В конце концов, поэт — тоже божья тварь. В молодости я и сам был немного поэтом.
— Я так и думал, господин председатель, — он схватил меня за руку. — Хоть вы и стали таким солидным, можно сказать, пожилым господином — (Ах, мошенник!), — все-таки что-то поэтическое в вас осталось. Мы, поэты, всегда узнаем друг друга по глазам, несмотря на разницу в возрасте и в общественном положении, я бы сказал, на нас лежит особая печать.
— Это верно, — кивнул я. Малый говорил чистую правду: все поэты — люди в большей или меньшей степени клейменые. А я и забыл поставить это самое клеймо в главе, ему посвященной! Как только приду домой, непременно наверстаю упущенное.
— Вот, например, сейчас, господин председатель, вы смотрите на меня с такой добротой, что я возьму на себя смелость этим воспользоваться.
С этими словами он вытащил на свет божий лист очередной тутовой статистики. Лиловые чернила проступали сквозь бумагу: строчки были слишком коротки для статистических данных и слишком тесно жались друг к дружке. Матерь божия, да это стихи!
— Я вообще-то драматург, но до сих пор меня всегда и везде притесняли, хоть армейский театр сто второго полка и поставил две моих пьесы. Но то были юношеские опыты, я сам невысокого о них мнения. С тех пор я написал еще две драмы синтетического жанра, одну из них я послал на конкурс в Академию — они не сочли нужным хотя бы меня похвалить, а вторую прислал обратно Совет театрального искусства. — (Эге, да малец, пожалуй, и вправду талантлив!) — Но меня молчать не заставишь, я буду без устали стучаться в ворота славы, и в конце концов им придется распахнуться передо мною.
— И правильно сделаете, друг мой! Пирамида Хеопса тоже не один день строилась.
— Великолепно, — щеки его заалели от радости, — я тоже как-то привел эту фразу, хоть и по другому поводу. — (Знаю, глупыш. Здесь, у меня в сумке, — твой черновик, который ты выронил из регистрационной книги. Вероятно, поэтому сидеть на этой сумке так же неудобно, как на пирамиде Хеопса.) — Но сейчас речь не об этом, а об одном лирическом опыте. Это для меня, с позволения сказать, даже важнее, чем драмы. Я люблю одну девушку.
— Знаю, — проговорил я, чудом не назвав имени Бимбике Коня.
— Это как? — глаза у него округлились от удивления.
— Я хочу сказать, что не могу представить себе молодого поэта, который не был бы влюблен в какую-нибудь девицу.
— К сожалению, не все так понятливы. У девушки есть мать, женщина с каменным сердцем, она запретила нам видеть друг друга. Прозаическая натура, дальше банок с помидорами не видит.
Сказано это было с убийственной иронией — я от души повеселился.
— Не беда, лишь бы девушка ваша могла воспарять душою следом за вами!
— Боюсь, что материнская тирания оттолкнула ее от меня. А ведь совсем недавно мы клялись друг другу в вечной верности при свете предутренней звезды, — сообщил поэт с горькой улыбкой.
— Пардон, друг мой, вам известна хоть одна звезда кроме этой? — перебил я.
— Нет, сударь, — он посмотрел на меня удивленно.
Ну разумеется, вот они, эти молодые недотепы. Клянутся блуждающей звездой, которая может не появляться неделями. Клясться нужно полярной звездой, которая вечно торчит в одной и той же точке небесной сферы. Вот моя Андялка это уже понимает!
— Пожалуйста, продолжайте. Я спросил просто так.
— Я написал стихи, хочу проверить, любит она меня еще или нет. Пошлю их ей; если все еще любит, значит, нет такой силы на свете, что могла бы нас разлучить, я унесу ее, как ветер уносит лепесток розы, как лев уносит нежную газель! А если нет — э-э, да что говорить. Словом, вся моя жизнь поставлена на карту этих стихов. Могу ли я просить вашего беспристрастного суда, господин председатель?
— Пожалуйста, я слушаю.
Стишки были из рук вон, зато юноша, читая их, был хорош, как Аполлон. Ну и твердокаменная же девица эта Бимбике Коня, если может перед ним устоять. Разумеется, господину Бенкоци я этого сказать не мог, как, впрочем, и того, что стишки его хромают на обе ноги.
— Очень красивые стихи, и награда наверняка не замедлит.
— Вы думаете? — юноша просиял. — Значит, пойдет?
— Как же! Только позвольте мне указать вам кое-что. Тут в третьей строке, сказано: «Как ты мне как-то поклялась». Если читать это вслух, получится самое настоящее заикание. Так оставить нельзя.
— И правда, а я и не заметил. Тогда я лучше напишу: «По клятве данной по твоей».
— Это еще хуже, этого она попросту не поймет. Напишите просто: «Ты обещала мне…» Нет, это слишком плоско, да и ямб не тот. «Ты слово мне дала!» Да, вот так, это и поэтичнее, и ритмичнее.
— Факт!
— А вот тут нужно поменять целую строчку. «Коль слух твой потрясут красивые слова». Дитя мое, поэты так не пишут. Надо написать так: «Пускай прекрасных слов бряцают шпоры звонко».
— Да, спасибо. — Ребенок взглянул на меня с большим уважением и написал поверх зачеркнутой строки новую.
— А это что еще такое? «Молчит мой рот и жаждет поцелуя». Напишите-ка: «И нем язык пылающих страстей».
Иными словами, давным-давно мною забытая кошечка лирики вновь показала коготочки. Из восьми строк третьей строфы осталось две. К четвертой строфе избиение младенцев увлекло меня настолько, что я перечеркнул пятую, шестую и седьмую разом и написал все заново. После чего приписал к ним восьмую, которой стихотворение и завершилось. Последние четыре строчки звучали так:
К тебе прильнул седою головой, И сердце вновь как прежде запылало, Я ныне пью глоток последний свой Из юности хрустального бокала.— Но… но… прошу прощения, — запинаясь, проговорил ребенок, — ведь у меня голова не седая.
— Да, да, конечно, — я разом очнулся. — Это просто один из вариантов. Разумеется, нужно написать «младою».
— И звучит так куда лучше, — нахально заявил мальчишка и с довольным видом сунул в карман, быть может, единственное приличное стихотворение, которое я написал за всю свою жизнь, — в этих стихах пылали последние лучи заходящего солнца и плавал вечерний лебедь, покачиваясь и напевая тихую песню надвигающейся тьме. — Я, господин председатель, никогда не забуду вашей доброты.
Он потряс мою руку, словно рычаг водокачки, я с улыбкой заверил его: мол, пустяки, не стоит благодарности, всегда к вашим услугам, только пусть все это останется между нами, и тут он спросил:
— А ведь то, что я написал, совсем недурно для первого опыта, не правда ли? Ведь основной тон, собственно говоря, остался прежним.
— Как же, как же, — я похлопал его по плечу. — А теперь позвольте мне спросить вас кое о чем. Что, эта девица в самом деле так хороша собой?
— Господин председатель, — он развел руками с такой невероятной гордостью, что жест этот стоил целой библиотеки лирической поэзии, — другой такой нету от Добердо до самой Березины. У нее такие глаза, такие глаза — вот хоть выколи один из них, она все равно будет красивее, чем другие девушки с двумя.
Образ был не столько поэтический, сколько гусарский, однако не без некоторой выразительной силы. Глядя мальчишке вслед, я испытывал скорее жалость, нежели зависть; он галопировал с бешеной скоростью, унося в кармане стих, — можно было предположить, что не пройдет и часа, как он будет сидеть на почте и перерисовывать свое достояние на министерскую бумагу новым пером и наилиловейшими чернилами.
Конечно, у юности есть свои преимущества, но все это — не более чем весенние иллюзии. Сколько мути, слякоти и грязи приходится на один цветок фиалки! Весь мир словно засыпан мотыльковой пыльцой, а посмотришь под микроскопом, и выяснится, что самая распрекрасная пыльца бесцветна, а вся ослепительная роскошь — всего-навсего результат интерференции. Сердцебиение из-за всякой взметнувшейся юбки и желание умереть, когда истекает срок векселя, вечное раскачивание между беспричинной радостью и напрасной грустью, бессонные ночи, а днем — головная боль и зевота, сплошные вопли да стоны — вот вам и вся молодость. Никаких тебе истинных ценностей, никакого равновесия, полная неспособность к трезвой оценке людей и положений. Все равно что купание воробьев в дорожной пыли, этакая шумная возня; то ли дело — величественный полет орла, бесстрастно взирающего на людскую суету из своего прохладного далека.
Впрочем, одну вещь приходится признать даже с высоты моего зрелого возраста: галстуки у этих воробушков завязаны лучше. Ну да ладно, если мне доведется еще раз обучать юного Бенкоци поэтическому мастерству, потребую взамен урока по завязыванию галстуков.
27 июля. По католическому календарю — день Святого Панталеона-великомученика, более ничем не примечателен. По моему же календарю это — геджра, начало нового летоисчисления. В этот день я впервые поцеловал Андялку. Причем произошло это на глазах у господа бога. (Правда, и дьявол был тут как тут.)
Дело было на следующий день после дня поразительных открытий. Жара стояла, как в Сахаре. Не просто пекло, а то самое, где черти водятся. Как всякий археолог, я неплохо переношу жару, но в качестве романиста предпочитаю зиму. Зима, конечно, не слишком гармонична, зато мистики в ней хоть отбавляй, поэтому художник может, не сходя с места, покинуть свою оболочку и оказаться среди туманов, ночных метелей и пронизывающих ветров, гудящих над заснеженными крышами. Бывает так, что человек теряет мысль, ищет ее и не находит в темных углах своего кабинета, куда не досягает рубиновый цветок настольной лампы, тогда он выходит на пустынную улицу и, минуя садовые решетки, застывшие, подобно странникам в белых шапках, вырывается в чисто поле. Он идет с поднятым воротником по скрипучему снегу, снежинки тают на его разгоряченном лице, а в сердце расцветает тайная надежда, что где-то в конце пути, где небо сливается с землею, он будет погребен под снегом, и черные вороны прокаркают ему заупокойную молитву вместо попов, а в ветвях будет клубиться туман, алый от лучей заходящего солнца, сверкающего, словно бронзовое кадило. Однако за пару шагов до конца света замерзшие нос и уши заставят его очухаться, и он заспешит домой, к гудящей печке, выпьет две чашки чая с изрядным количеством рома и удовлетворенно констатирует, что прогулка удалась на славу, да и потерянная мысль обнаружилась неизвестно когда и как.
Но как быть несчастному писателю в день Святого Панталеона, когда неподвижный воздух обжигает, словно расплавленный свинец, чернила сохнут на кончике пера, а бумага липнет к рукам? И все это — еще полбеды, а настоящая беда — ослепительный свет, безжалостно бьющий во все закоулки, высвечивающий бескровный скелет мечтаний, не терпящий сумрака, иссушающий фантазию. Я видел прорехи в ткани романа, видел белые нитки, забытые там, где было сшито на живую; видел, что в тех местах, где должно прилегать, слишком широко, а где необходим свободный покрой — обужено. А того, что скроено прилично, я не умею как следует сшить. Бравый соблазнитель в галстуке удался на славу, теперь он, помимо всего прочего, декламировал стихи, причем не откуда-нибудь, а из Новейшего Алфельдского справочника для шаферов; с барыней-натурщицей тоже все было на мази, вопрос состоял в том, как мне подстроить их встречу? Художник застанет их на Божьем острове in flagranti[137] и повесится на первом суку — это дело решенное, а вот как поступит рыбак? Прочтет над ним молитву и пойдет себе удить рыбу?
Сидя в комнате нельзя было ничего придумать: она была раскалена, как печка, и всякая мысль в ней немедленно сгорала дотла. В садике при почте солнце палило с такой силой, что листья казались прозрачными. Попытка укрыться под большими ясенями церковного сада тоже ни к чему не привела: я мог думать лишь о том, как мы бродили здесь накануне вечером с Андялкой, — она щебетала, словно птичка, и сияла от радости, как наливное яблочко в летний день. Впервые на моих глазах она так радовалась жизни, а я никогда еще не чувствовал так остро, как она мне дорога. Я впитывал каждый ее жест и теперь принялся перебирать прекрасные мгновения вчерашнего вечера. Вот у этой жимолости она бросилась мне на шею: «Господин председатель, до чего же прекрасна жизнь!» Вот тут она нацепила на ухо сережки из шиповника и встряхнула головкой с серьезным видом: «Знаете ли вы, господин председатель, что ничего нет на свете лучше лирики?» Разумеется, знаю, — улыбнулся я; не заводить же мне с тобою споры об эстетике, глупышка, ты сама — прекраснейшая поэма из всех, когда-либо сочиненных Создателем! А вот тут, на нежном, блестящем песке, остался след ее изящных башмачков, похожий на тисненную золотом букву «V» из старинных кодексов[138]. Наклонившись, я измерил его и немного устыдился. Мне вспомнилось, как студент Барнабаш из «Суровых времен» Жигмонда Кеменя[139] вычислял размер ножки барышни Доры по украденной подвязке. Э-э, ну и что с того? Ведь это лучшая математика в мире!
Роман Кеменя заставил меня вспомнить о моем собственном романе. В это время я как раз подошел к дверям церкви. Эге, да ведь это, пожалуй, единственное прохладное место во всей деревне. Солнце уже перевалило за купол, там, внутри, по углам, в нишах алтаря, должно быть, царил приятный полумрак — как раз то, что мне нужно. Там, наверное, прекрасно работается: в тишине и прохладе, на трехсотлетней скамье, в окружении добрых старых святых.
Не откладывая в долгий ящик, я сходил домой за ключами от церкви. Я себя знаю: если уж мне вздумалось работать в храме, я непременно должен это сделать, потому что в любом другом месте не напишу ни строчки.
Я уселся на последнюю скамью, в ногах у какого-то лысого святого, с кроткой улыбкой взиравшего на меня с кирпичного постамента. Рекомендую всем моим коллегам: если вам изменит вдохновение, найдите статую улыбающегося святого, и обызвествленная вена наполнится свежей кровью. Перо мое неслось по бумаге как бы само собой — и неудивительно: стоило на пару минут оторваться от работы, как я ловил на себе улыбки всего Эдема. Сколько жизни в этих грубоватых, примитивных, намалеванных малярной кистью деревенских картинах-просто поразительно! Будь я министром культуры, непременно поместил бы кое-что в городские соборы, пусть бы новомодные ученые живописцы поучились естественности! Белый голубь из Святой Троицы на главном алтаре, казалось, вот-вот взлетит и закружится надо мною. Милостивый боженька улыбался мне с бесконечной добротой, словно всеобщий дедушка, готовый принять в объятия целый мир, бог-сын простирал ко мне израненные руки. Даже безголовый Рох, казалось, был вполне доволен своей новой головой, а святой король в пестром одеянии держался необычайно прямо и тем самым как будто подбадривал меня: «Распрямись, сынок, выше голову, грудь вперед, живот убрать, твои годы — самый расцвет для мужчины!» Кафедральный архангел расправлялся с дьяволом в полном соответствии с правилами атлетического клуба, а дьявол, в свою очередь, фамильярно подмигивал мне: «Наплюй на все, старый греховодник, все равно рано или поздно попадешь ко мне на лопату!»
Внезапно внимание мое привлек легкий шорох; я поднял голову: в дверях возникла Андялка в белоснежном платье с лилией в руке. Опустив голову, не глядя по сторонам, она прошла прямо к алтарю Девы Марии, опустилась перед богородицей на колени, возвела на нее глаза и сложила руки, не выпуская белой лилии — ну прямо оживший ангел Габриеле Данте Россети[140].
Она была так поглощена молитвой, что не слыхала, как я встал, подкрался к ней сзади и, перегнувшись через плечо, внезапно поцеловал ее в губы.
Святотатство? Не знаю. Пресвятая Дева улыбалась, как улыбаются не святотатству, а молитве, а божье око в золотом треугольнике над нашими головами засияло. Игра воображения? Агиография знает и не такие чудеса.
Все вокруг лучилось весельем, только Андялка ударилась в слезы. Правда, при этом она склонилась ко мне на плечо, обняла меня и проворковала, словно горлица:
— Значит, вы на меня не сердитесь?
Первый раз слышу, чтобы юная девица спрашивала у того, кто ее неожиданно поцеловал, не сердится ли он. Насколько мне известно, женщины вообще не задают таких вопросов. Возможно, потому, что неожиданных поцелуев не бывает: женщины всегда находятся в состоянии ожидания.
— Ежели вы простите мне мое пиратство, дорогая… — Я погладил ее по головке, но столь удачно начатому предложению суждено было навек остаться придаточным, так и не дождавшимся главного.
Кто-то кашлянул совсем рядом. Я оглянулся — Андялка соскользнула с моего плеча, как подрезанный вьюнок, — но в глазах у меня рябило, ведь счастье на несколько долгих мгновений сомкнуло мне веки. (Как странно, что счастье встречают с закрытыми глазами!) Я понял только, что это поп. Должно быть, священник из соседней деревни, что приходит сюда ежедневно служить мессу. Был он здесь и нынче утром, мы с ним еще побеседовали: он воздавал хвалу господу за то, что центнер пшенички идет нынче по семь тысяч монеток. Кой черт — прости господи — принес его обратно?
— День добрый, дети мои! Вы что же, так со мной и не поздороваетесь?
— Папочка священник! — воскликнула Андялка и тут же оказалась у него на шее, как за минуту перед тем — у меня.
Ну конечно, никакой это не чужой поп, а Фидель, немного похудевший и обросший и, что самое непривычное, немного более серьезный, чем всегда.
— Приветствую, что нового дома? — мне он протянул руку с прохладцей.
Не иначе как что-то видел. Не беда, примирится, во всяком случае, когда окажется в алом облачении перед алтарем, а мы — перед ним на коленях. Ибо я заранее оговорю, что венчание должно происходить перед алтарем Девы Марии.
— Что нового? Да ничего, дорогой хозяин, вот разве звонарь что-то на хвосте принес.
Я сказал так, потому что увидел, что звонарь, задыхаясь, несется к церкви с заступом на плече. Уж не появились ли здесь опять «камменисты»?
Однако он прямо от двери огорошил нас еще более интересной новостью.
— Господин председатель, там — гусар!
— Какой-такой гусар? — поп вытаращил глаза, не забыв, однако, убрать руку с Андялкиного плеча. (Ибо умный священник заботится о приличиях в первую очередь перед собственным звонарем.)
Я же ни о чем не спрашивал, поскольку в моей практике такие «гусары» встречались уже неоднократно. Сколько бы захоронений ни раскапывали в Алфельде, для мужиков всякий всадник был «гусаром». Напрасно я втолковывал, что эти витязи служили еще нашему праотцу Арпаду, они всегда отвечали: ну и что с того, пращуру Арпаду небось тоже не пехотинцы какие-нибудь служили, а самые что ни на есть гусары. Сам-то он тоже был гусарский капитан, вот только каждый палец у него был с нынешнего гусарского капитана.
— Что ж, пойдем, — я собрал свои бумаги, — проведаем вашего гусара.
Фидель предпочитал сначала ополоснуть горло (не колодезной водой, разумеется), но я уже заупрямился и решил не уступать.
— Да ты, как я погляжу, здорово переменился в мое отсутствие, — заметил поп не без яда. — Не бойся, никуда твой гусар не убежит, пока мы промочим горло.
— Это точно, — вмешался звонарь, — гусар-то покамест под землей, лошадь только откопали. Но бляшек на ней! — и все золотые, полная кубышка Святого Петра[141] наберется. Командир какой-то гусарский, не иначе.
Тут уж и поп сдался. Гусара, который украшает лошадь золотом, по нынешним временам никак нельзя заставлять ждать.
По дороге звонарь поведал нам, как они напали на след. А так, что нравы аристократические ничуть не лучше демократических. Ворованную кукурузу они жарили — точно так же, как Марта Петух и компания. Правда, звонарь и почтальон все же соблюдали некоторый декорум, а потому развели костер в одной из незасыпанных ям. Расселись вокруг костра на корточках и вдруг видят — что-то в земле блестит. Оказалось — золотая брошка: видно, ливень ночью смыл с нее землю. Поскребли ножиком — выкатилась еще одна. Копнули и видят: кости какие-то белеют, взялись за лопаты, разрыли поглубже, а там — лошадиный труп в полной упряжке.
Когда мы добрались до места, человеческий скелет уже был извлечен на свет божий и лежал на склоне холма. Четверо деревенских парней счищали с него землю, а целая толпа женщин и детей молча наблюдала за ними сверху, стоя на куче свежевырытой земли.
— А вам чего здесь надо? — спросил я парней. — Кто вас сюда звал?
— Никто нас, барин, сюды не звал, — вскинулся один из парней, — мы — девского барона издольщики, туды и шли, а тут видим — окопы, ну и подошли поглядеть, мы ить ничего такого с самого Добердо не видали, чтоб тому сдохнуть, кому энти окопы по душе. А уж как нам сказали добрые люди, какое их тутошнее занятие, тут мы и порешили нынче здесь остаться да пособить им откопать старую гусарскую братию.
— А нашли покамест одного пехотинца, — сказал другой, — это, должно, чешский трубач будет, у него и посейчас рот открытый, словно в дудку дудит.
Тут парень скорее всего ошибся. Не насчет дудки, а насчет чеха. В ногах у скелета лежал глиняный кувшин с волнистым орнаментом, археологи считают такой орнамент славянским. На височных костях — разомкнутые бронзовые кольца, когда-то они стягивали непокорные пряди — еще одно доказательство в пользу того, что перед нами раб какого-то лысого венгерского господина. (Разумеется, я ни в коем случае не хочу сказать, что всякий плешивый восходит по прямой линии к Арпаду.)
Что же касается лошади, то по ней сразу было видно, что она носила знатного господина. Ноги у нее были подтянуты к животу, во рту — уздечка, отделанная слоновой костью, стремена — с серебряной инкрустацией, на ребрах — золотые бляшки, должно быть украшавшие сгнившую сбрую, поводья — с наконечниками из чистого золота.
Дядюшка Габор, с заступом на плече несший вахту возле останков драгоценного жеребца, извлек из-за пазухи спичечный коробок.
— Тут вот ишшо кое-что!
В коробке лежало пять жемчужин — должно быть, когда-то они были вплетены в конскую гриву.
— Одну я раскусил, — признался почтальон, — ни запаху, ни вкусу.
Я оглянулся в поисках попа, чтобы показать ему жемчуг, но тут выяснилось, что он забрался в одну из ям и, засучив рукава, копает там своим перочинным ножичком.
— Самого господина я не трону, — сказал он, — оставлю тебе; мне бы какого-нибудь епископа найти.
Известное дело — археологическая лихорадка — болезнь крайне липучая, но для жизни не опасна и проходит обычно за пару часов. Особенно когда вместо шкатулки с сокровищами находишь ручку от бидона.
Что же до знатного господина, то ему придется еще немного полежать в земле, мне сейчас не до него. Уже конец июля, через десять дней я должен закончить роман и отправить его издателю, кроме того, мне необходимо попасть в город и купить Андялке обручальное кольцо, которое я надену ей на палец в тот вечер, когда груз романа падет наконец с моих плеч. Другими словами, мне не до археологии, но такую находку, как эта, нельзя доверить ни самому замечательному звонарю, ни самому замечательному почтальону. Однако для того я и держу при себе фамулуса, моего Рудольфа, чтобы он в нужный момент приходил мне на помощь; у него хороший глаз, ловкие руки, он понятлив, умеет быть добросовестным, если конъюнктура ему благоприятствует, из него мог бы выйти член-корреспондент, тем более что стиль у него и так вполне академический.
Не сходя с места, я составил лакею телеграмму, в которой наказывал немедленно сесть в телегу и ехать сюда, да задержаться перед парфюмерной лавкой и купить флакон «Сирени» (для Андялки) и флакон розовой воды. (Да-да, для себя, я так долго обходился без парфюмерии, что могу наконец позволить себе надушить носовой платок.)
Вручив Габору телеграмму и отправив его на почту, я спросил Фиделя, не уступит ли он мне до завтра звонаря? К тому времени прибудет мой помощник, а до тех пор курган должен охранять какой-нибудь надежный человек.
— Уступлю, конечно, — рассмеялся Фидель. — В крайнем случае буду звонить сам, чего только не сделаешь ради венгерской науки!
На следующее утро я первым делом забрался на чердак, чтобы взглянуть на Семихолмье и проверить, не украли ли за ночь нашего стража. Без всякого стыда признаюсь, что прежде все же бросил взгляд на почтовый садик. Раз уж я не могу увидеть Андялку — накануне вечером она сказала, что у них намечается большая стирка, а в такое время и самый приятный гость не мил, — то по крайней мере обласкаю взглядом ее цветочки. Астры уже распустились, а я, как человек до времени поседевший, всегда тепло относился к этим посланцам осени в летнем саду.
Андялкины астры были голубыми, розовыми, белыми, как всякие порядочные астры, однако я с изумлением обнаружил, что они обладают еще одним, совершенно невиданным свойством: астры дымились. От них поднимался симпатичный желтый дымок, словно они курили короткие сигары. Кое-кто из специалистов утверждает, будто короткие сигары обладают таким убийственным запахом, что во время мировой войны из них делали бомбы с удушливым газом; несмотря на это, я высунулся в окно как можно дальше. Мне страшно хотелось понюхать сигарного дыма. Рот мой целую неделю готовился к тому, чтобы причаститься Андялкиных губ. Причастие состоялось, это правда, но мужчины — скверные типы: теперь я страстно желал подышать хотя бы чужим дымом.
Принюхиваясь к «aster fumans»[142], я приметил неподалеку щегольскую шляпу юного Бенкоци. Выходит, я ошибся, обогатив ботаническую номенклатуру разновидностью «aster fumans». «Vicenotarius fumans», «помощник нотариуса курящий» — такого зверя следовало бы занести в семейство утиных в соответствии с выражением: «хорош гусь!» Он так молодцевато подпирал садовую ограду, словно кого-то поджидал. И почему только этому горе-флейтисту приспичило назначать свидания именно там, где ему уже однажды грозили ножом? Если госпожа Полинг его заметит, наверняка окатит мыльной водой. Любопытно будет поглядеть!
Поглядеть, однако, не удалось: обернувшись в сторону Семихолмья, я обратился в соляной столб от изумления. Курган кишел людьми; можно было подумать, что все древние всадники восстали из земли для совершения какого-то обряда. Святые угодники, покровители археологов, что там еще произошло?
За углом меня нагнал запыхавшийся нотариус и попросил остановиться на пару слов.
— Видишь, какое дело, — сказал он очень серьезно, — телефон у меня со вчерашнего вечера не замолкает, окрестные помещики жалуются: волнения, мол, среди крестьян. Не хотелось мне об этом говорить, но ведь делать-то что-то надо, очень тебя прошу.
— Что-что? Меня? Уж не думаешь ли ты, часом, что это я бунтую крестьян?
— Дружище, доктор уж несколько дней, как предупредил меня, что народ против тебя настроен. Сперва мужики говорили, что это ты подстроил засуху, а потом — что ты нагнал бурю с градом. Уж не знаю, чего там вчера произошло, но только отовсюду сообщают: мужики, мол, как один желают идти на Семихолмье.
— Я как раз туда и иду. Понятия не имею, что на них нашло, я, ей-богу, не делал никому ничего плохого, — ответил я с искренним ужасом.
— Если не возражаешь, пойдем вместе. Не подумай, что я так уж много о себе понимаю, но ведь мой долг следить за общественным порядком.
Чувствовалось, что он всерьез на меня обижен, и настроение у меня испортилось. Какой злой рок сталкивает меня со всею деревней разом именно тогда, когда я собрался домой?
Человек сто толпилось вокруг кургана, все вооружены — кто заступом, кто лопатой. Бедный звонарь метался между ними, как сторожевой пес, отпихивая одних и дружески дергая за рукав других.
— Ну вот вам и господин председатель, таперича с ним и говорите!
Человек пять выступили вперед, главой депутации оказался кум Бибок. Он пояснил: люди, мол, оттого взъерепенились, что звонарь никому копать не дает.
— И правильно делает, — нотариус взял ведение переговоров на себя. — И я бы не дал. С владельцами земли договаривался господин председатель, он здесь и распоряжается.
— Ну так пущай господин председатель дозволит, — кум с большим почтением обратился ко мне.
— Да я бы не против, — я в отчаянии огляделся, — но столько поденщиков мне не потянуть.
— А нам ваших денег не надобно, — кум в негодовании вскинул голову. — Хотим освободить с-под земли пращура нашего Арпада со всем евонным семейством, да не за деньги, а заради венгерской славы.
Тут в разговор вмешался еще кто-то из мужиков, потом другой, третий, так что в конце концов положение прояснилось. Те четверо парней, что подхватили накануне археологическую лихорадку, успели перезаразить всю округу. Распространился слух, будто в Семихолмье захоронен пращур Арпад с двенадцатью сыновьями. Кое-кто утверждал, что они спят в медных, серебряных и золотых гробах, но более осведомленные точно знали, что в недра кургана провалился большой собор, а в том соборе перед алтарем стоит поп со святыми дарами, а пращур Арпад и все его двенадцать сыновей молятся, стоя на коленях.
Кто-то из крестьян, как выяснилось, видит сквозь землю, он-то и рассказал все как есть.
— А мне можно побеседовать с этим знающим человеком?
— То не человек, то баба. Эмер Деван звать, она и посейчас тута. Эмер Деван, подите-ка сюды!
Толпа вытолкнула вперед сморщенную старушонку и окружила нас плотным кольцом. Морщин у тетушки было столько, что я невольно подумал: должно быть, она гарцевала на помеле еще во времена короля Кальмана[143], — но глаза блестели на удивление живо.
— Вы, значит, сквозь землю видите, матушка?
— Не, я-то сама не вижу, сударь, а вот бабка моя, та видала. Я ишшо девчонкой была, от нее слыхала: коли потрешь глаза травкой-очанкой да тута, на курганнике, и заночуешь — увидишь во сне, что под землею делается. «Вот посмотришь, дочка, — вещала она, — доживешь да и посмотришь: как откопают с-под земли тую церкву, так и будет та церква набольшая на всю страну, тут-то все чужеземные короли и придут нашему Арпаду поклониться».
У меня не хватило духу сказать Эмер Деван, чтобы она садилась на свое помело и отправлялась домой. Легенда была так хороша, что если бы ее не было, ее стоило бы выдумать. Я похлопал старушонку по плечу:
— Что ж, матушка, коли доживем, будете у нас в золоте ходить. А лучше всего — достаньте нам немного травки-очанки, мы ее господину премьер-министру пошлем, пусть-ка натрет себе глаза, да не один, а оба. Я же покамест скажу вам вот что, — повернулся я к мужикам. — Нынче днем я ожидаю из города одного господина, он тут со всем разберется и решит, кого нанимать, а пока что утихомирьтесь.
Я не сомневался, что Рудольф быстро наведет здесь порядок. Голос у него громкий, усы закручены лихо, словом, авторитетная личность, не то что я — размазня да и только. Толпа постепенно рассосалась, лишь кучка баб осталась прохлаждаться на кургане, они расселись в кружок, в центре которого восседала как старейшина Эмер Деван, и открыли диету[144]. Заметив среди прочих повязанных голов алый платок Мари Малярши, я схватил нотариуса за руку и потащил его в заросли кукурузы, словно имея неотложное дело. Усадил я его на те самые кротовые ходы, с которых накануне воспарял поэт.
— Что поделывает юный Бенкоци?
— Взялся за ум, дружище, словно его подменили. Давеча в два счета подсчитал мне всех бешеных собак в округе.
И все-таки мой старый друг выглядел чрезвычайно озабоченным. Он глядел прямо перед собой, упорно о чем-то размышляя, и наконец спросил дрогнувшим голосом, правда ли, что в Семихолмье нашли могилу пращура Арпада?
— Вряд ли. Могилу Арпада, скорее всего, давно уничтожили, попросту не зная, чьи кости раскидывают по ветру.
— Жаль, очень жаль, — опечалился нотариус. — Если б ты нашел Арпада, деревне бы пришлось очень кстати. Дорогу бы проложили железную, шоссе в порядок привели, может, и комитатский центр здесь был бы. Статую бы поставили на Семихолмье…
— На это ушла бы куча денег, дружище. Подумай сам, во что может обойтись бронзовая лошадь.
— Об этом и речи нет, о конной статуе я и не мечтаю, это для скромного сельского нотариуса чересчур. Мне бы и бюста хватило, простого, маленького бюстика. Но уж на это я мог бы рассчитывать: нашли-то его как-никак на моем веку, когда я нотариусом служил. Да и общественную сторону дела тоже из виду упускать нельзя. Последний сельский нотариус, которому памятник поставили, был Янош Арань. Все наше сословие воспрянуло бы духом, кабы узнало, что наверху снова нотариусов признали.
Мы заговорили о положении нотариусов и как раз сошлись на том, что, пока нотариусам не станут платить как следует, толку не будет, когда прибыл Рудольф. Он подъехал на фиакре прямо к нам. (Спасибо, что не на машине.)
Нельзя не признать, что юноша был весьма элегантен: желтого цвета сапоги, коричневый бархатный костюм, белый жилет в синий цветочек, а на голове — моя старая шляпа. Шляпную ленту украшали три значка, а отвороты пиджака были прямо-таки нашпигованы самыми яркими из всех эмблем, когда-либо изобретенных революционерами или роялистами, — в последние годы значки эти являли собой едва ли не единственное доказательство процветания венгерской промышленности. (Жаль только, что ряд орфографических ошибок давал скептикам основания утверждать, что большая часть этих значков — австрийского либо чешского производства.) Все эти украшения, надо полагать, были натерты помадой: ни одна напомаженная голова, ни один надушенный ус не испускают такого парикмахерского зловония.
Уже при первом своем появлении Рудольф, безусловно, произвел на присутствующих при сем представительниц местного женского общества впечатление, совершенно неотразимое.
Беседа их разом прекратилась, как только юноша соскочил с подножки и, жестом приказав вознице обождать, пружинистой походкой направился ко мне.
— Ну, что нового дома, Рудольф? — я протянул ему руку. (Его рука была несравненно более ухоженной, нежели моя, любопытно, что до сих пор я этого не замечал; когда поеду за кольцом, загляну заодно к маникюрщику, надеюсь, там не будет слишком много народу, и мне не придется краснеть.)
— Ничего особенного, — ответил Рудольф на нормальном венгерском языке, но, оглянувшись на публику, немедленно сообразил, что изысканный стиль придется в самый раз. — Если не считать собаки, которую я осуществил.
— Что ты с ней сделал?
— Осуществил животную собаку, что пребывала в потерянности.
— А-а, как же, припоминаю, — мне живо представилась высокомерная дворникова дочка с маленькой уродливой моськой на руках, — так что же, дело к свадьбе?
— Обрушились надежды, сударь, сочетание не состоится. Возжелав заручить поцелуем душевное взволнение по причине осуществления собаки, я был извещен папашей девицы, что могу удалиться ко всем чертям, ибо удовлетворение его дочери состоит не во мне, а в соседском портном. Следственно, всякое сношение между нами покончено.
Будь я юмористом, мне, по-видимому, следовало бы ответить юноше: «примите мое соучастие», однако юмор никогда не был моей стихией, а уж теперь — и подавно; будучи счастлив в любви, я от всей души жалел своего верного слугу.
— Не печалься, Рудольф, — я похлопал его по плечу с фальшивой беспечностью, — серьезный человек не станет принимать таких пустяков близко к сердцу. — (Н-да, человек я вроде бы вполне серьезный и все же умер бы на месте, если бы матушке Полинг вдруг взбрело на ум, что ее «удовлетворение состоит» в девском бароне.) — На Манцике свет клином не сошелся.
Тут выяснилось, что Рудольф гораздо сильнее духом, чем можно было предположить. Он отмахнулся, словно от мухи:
— Была бы шея, хомут найдется.
Энергичный жест самоутешения пришелся как раз нотариусу по животу.
— Пардон, сударь, очень извиняюсь, — Рудольф вежливо приподнял шляпу.
В ответ нотариус приветливо коснулся своей черной шелковой шапочки.
— Ничего страшного, господин председатель, — он протянул руку и представился, кто он есть. Рудольф в ответ назвал свое имя, но кто он, не сказал. Ладно, сейчас я устрою так, что все станет ясно само собой.
— Ты привез все, что я велел, Рудольф?
— Да, отважился.
— Тогда будь любезен, достань из сумки духи «Сирень». Все остальное можешь выгрузить в поповском доме. Заплатишь извозчику, снесешь духи на почту, отдашь их барышне-почтальонше и быстро вернешься сюда.
— Что ж, отважусь. — Рудольф кивнул и сбежал с холма, галантно помахав дамам на прощание. (Этому он, по всей вероятности, выучился у «фактического принца», ибо я, к сожалению, не рискую приветствовать таким образом не только что незнакомых, но даже знакомых дам.)
— Послушай, братец, — спросил я нотариуса, как только мы остались одни, — чего это тебе вздумалось называть моего лакея «господином председателем»? Решил небось по выправке, что он из господ?
— Ничего я, братец, не решил. Апчхи! — нотариус взглянул на солнце и потому чихнул. — Видишь ли, такой у нас с попом и доктором уговор: величать «господином председателем» всякого чужого господина, которого занесет в деревню и про которого неизвестно, какого он роду. Раньше-то мы знали кто, «ваша светлость», кто «ваше благородие», вроде меня, кто — «вы», а кто — просто «эй, вы». «Высокоблагородий» здесь никогда не бывало, кроме девского барона, да еще губернатор как-то собрался к нам дороги проверять, да как свернули на нашу дорогу-то, тут повозка возьми да и наскочи на какой-то ухаб, губернатор вывалился и ногу сломал, с той поры в деревню — ни ногой. А вот как урезали страну-то, тут министров и одолела любовь к родине — почитай, каждую неделю четыре-пять господ из Пешта нелегкая приносит, тут уж сам черт ногу сломит: кто из них «высокоблагородие», а кто «превосходительство». Назовешь не по чину — обижаются, скажешь вместо «ваше высокоблагородие» «ваше превосходительство», так «их превосходительства» надуются: никакого, мол, уважения к чинам. Ну мы и подумали: чтоб вам всем повылазило, будете у нас все как один «господа председатели». И все довольны, ныне ведь всякий чего-нибудь да председатель, верно?
— Верно, — я глубоко вздохнул и твердо решил отказаться от должности почетного председателя общества пчеловодов, которой я был обязан одним из горчайших разочарований своей деревенской жизни.
Возвращение Рудольфа не улучшило моего настроения.
— Отдал духи? — спросил я.
— Отдал, а как же. — (Нотариус ушел домой, публика разбрелась — изысканный стиль потерял всякий смысл.) — Старая госпожа очень благодарила.
— Так ты, выходит, не барышне их вручил?
— Ее дома не было. — (Андялка ушла из дому в день большой стирки?) — Я столкнулся с ней у калитки, когда уходил. Видать, из церкви шла, потому что молитвенник держала. — (Ангел мой! Сердце вновь привело ее к алтарю Девы Марии. Даже в день большой стирки!) — Она, должно быть, кому ж еще быть, пышная такая, вся в теле и конопатая малость.
Я был готов проколоть его циркулем (он вернулся как раз в тот момент, когда я начал набрасывать на планшете план захоронения в разрезе). После свадьбы придется его прогнать: кто способен сказать такую гадость — будто Андялка конопатая, тому в моем доме не место. Жаль, что нельзя прогнать его сразу: он мне крайне необходим. Хоть прикрикну на него от души:
— Будь любезен, оставь свое мнение при себе и слушай внимательно: тут дело серьезное. Такого некрополя мы с тобой, пожалуй, с покайских захоронений не видали.
Я ввел его в курс дела. Захоронение, безусловно, языческих времен. Очевидно, тут похоронен какой-то знатный родоначальник, он должен лежать лицом на восток, к богу солнца. Судя по пестроте земли, за скелетом человека, скорее всего, окажется скелет лошади, вместе с витязем всегда хоронили его любимого коня. Работать следует очень аккуратно, потому что на восточном склоне могут обнаружиться и другие захоронения. На западном склоне, по-видимому, хоронили рабов-славян, это не так важно.
С батраками следует обращаться осторожно, используя опыт прошлых лет. Дисциплину поддерживать, но не грубить. Больше двадцати человек не нанимать, а то за ними не уследишь. Почтение мужиков к пращуру Арпаду всячески использовать, из добровольцев выбрать самых смышленых. С бабами побеседовать: среди них свободно могут оказаться такие, что носят в ушах аварские золотые серьги и варят кисель в той самой кружке, из которой некогда потягивал кумыс вождь Лехел. Дневник раскопок вести аккуратно, слои промерять и заносить все на карту. Кости из каждой могилы паковать отдельно, лошадей целиком не брать — только головы; сосуды, оружие, вообще крупные предметы класть в большой ящик с соломой, драгоценности, а также деньги прятать в походный сейф и каждый вечер сдавать мне его с рук на руки в доме священника, откуда регулярно будут поступать завтраки, обеды и ужины. Обосноваться, само собой, придется прямо на кургане: можно, конечно, положиться на бога и на народное почтение, но ограничиться этим нельзя, так как почтение в любой момент может перейти разумный предел. (Когда мы раскапывали резные камни хитемешского собора, в последнюю ночь кто-то унес несколько штук на вечную память, кладут гнетом на квашеную капусту — и вспоминают.) Если угодно, можно соорудить какой-нибудь шалаш, только какой дурак станет прятаться под крышей, имея возможность спать под открытым звездным небом, особенно летней ночью, когда то и дело падают звезды.
И наконец, самое главное: меня не беспокоить, у меня осталась всего лишь неделя, я должен работать днем и ночью, чтобы успеть закончить роман.
Рудольф улыбнулся мне с почтением и жалостью одновременно. Жалость относилась к писанию романа, которое я считаю серьезным делом, а почтение — к той ловкости, с которой мне удается увиливать от по-настоящему серьезной работы.
Давно известно, что турки считают сумасшедших святыми, мы же, правоверные христиане, прости господи, считаем святых сумасшедшими. У меня сложилось впечатление, что мой поп совместил обе точки зрения, во всяком случае, с тех пор, как выяснилось, что он дал приют романисту. С тех самых пор он нежен со мной, как с безумцем, и опасается меня, как святого. Ежедневно он наливает в чернильницу свежих чернил и кладет на стол новое перо.
Он собственноручно готовит мне воду для умывания, чтобы возня прислуги не действовала мне на нервы, ни одно полотенце не, кажется ему достаточно мягким для моих рук. Как-то раз он выдал мне роскошное полотенце, расшитое алыми подсолнухами, на которых сидели голубые канарейки и распевали «Tantum ergo»[145] по грегорианским нотам.
— Знаешь, Марцика, последний раз им утирался старый патрон, он, бедняжка, так толком и не умылся, уж больно вода была холодна — на крещение дело было.
Что ж, я тоже вряд ли стал бы умываться, зная, что придется утираться синими канарейками. Боюсь, что такие рушники имеют столько же отношения к мытью рук, сколько перочинные ножи — к перьям, а законодатели — к законам.
Однажды я застал Фиделя за чисткой моих ботинок. Подпись на чужом векселе — и та не может служить таким убедительным доказательством дружбы; я, к примеру, предпочел бы снять ботинки с себя и остаться босым, нежели чистить чужие. Спрашивается, как увязать с этим тот факт, что Фидель по мере возможности избегает моего общества и как-то спросил, не хочу ли я, чтобы еду подавали мне в комнату?
— Я ведь понимаю, — сказал он, — вокруг тебя теперь — сплошные музы, а сим изящным дамам должно быть не по себе в обществе простого попа, который бреется не чаще раза в неделю.
Разумеется, на самом деле ему просто не хотелось меня видеть. Мы сошлись на том, что завтраки и обеды будут подавать ко мне в комнату, а ужинать мы все же будем вместе. При всем том, повторяю, поп мой обслуживал меня с таким рвением, словно я был апостол Петр, явившийся к нему с визитацией, и мог в любой момент потребовать метрические книги за последние десять лет. (Все они лежат под двадцатью томами «Патрологии» Миня[146] и несколькими сотнями номеров «Вашарнапи уйшаг»; я-то в курсе, а он — нет.) Он никогда не заговаривал первым и ни за что на свете не спросил бы, о чем, собственно, мой роман.
По-видимому, он дулся на меня как представитель интересов девского барона, но разве я виноват, что в день Святого Панталеона его так не вовремя занесло в церковь? К тому же давно пора об этом забыть, ведь с тех пор он ни разу не видел нас с Андялкой вместе. Девушка каждый день прибегает на пару минут к моему окну, но происходит это обычно после обеда, когда поп отправляется на пустующую пасеку попить кофейку (то бишь — розового столового). В эти минуты я докладываю ей, на сколько страниц подвинулось дело, она же передает мне горячие приветы матушки Полинг и просит, чтобы я занялся собой, потому что выгляжу худым и бледным. Беседа двух послушниц едва ли менее предосудительна, чем наша. Лишь глаза мои говорили ей: «еще шесть дней», «еще пять дней», и она, конечно же, все понимала, так как тут же убегала в смущении.
Совершенно очевидно, что сострадательная чуткость и трепетное почтение попа предназначались романисту, а разоблачение романиста, безусловно, было на совести Рудольфа. При первом удобном случае он разболтал секрет прислуге, а та немедленно доложила хозяину, с тех пор он и обращается со мной, как с тяжелобольным. (Прислуга же с тех пор ежедневно моет ноги, а по вечерам, после умывания, вплетает в косу алую ленту. Даже самый безобидный из романистов отравляет вокруг себя атмосферу.)
Хорошо еще, что к ужину, как правило, на пару минут заглядывает нотариус. Отныне он тоже посвящен в тайну; если мои акции и упали в его глазах, то во всяком случае он этого не показывает. Гораздо больше его занимает проблема пращура Арпада, поэтому он целыми днями крутится возле раскопа и отчитывается передо мной вместо Рудольфа, которого я освободил от ежедневной явки с сейфом. У него он пребудет в целости и сохранности, а с меня вполне хватит того клада, который я кладу под голову. (Речь, как вы понимаете, идет о рукописи.)
От нотариуса я узнал, что Рудольф поистине гениально разрешил проблему найма, сыграв одновременно и на патриотических чувствах, и на корысти. Из многочисленных патриотов, явившихся освобождать пращура Арпада, он выбрал двадцать мужиков, наиболее пригодных к делу. То есть тех, кто изъявил готовность пожертвовать пару литров пшеничной или же сыра, сала и табака примерно на ту же сумму, лишь бы поучаствовать в освободительных работах. Всех прочих он успокоил, сказав, что до них дело дойдет как раз тогда, когда мы примемся искать могилу Аттилы. Она наверняка в этих краях: старинные господа ведь вроде нынешних — только друг с дружкой компанию водили.
Тот же нотариус сообщил мне, что Рудольф, однако, свое дело знает. (Куда тебе до него! — вот что означало это «однако».) Рудольф, видите ли, еще вчера вечером сказал, что пращура Арпада надобно искать рядом с лошадиным скелетом, и лежать они должны голова к голове. Так все по его словам и вышло: нынче нашли пращура Арпада, лежит, вытянувшись в струночку, голова чуть повыше, чем ноги. Тут интерес особый: ведь на невольничьем кладбище у всех скелетов голова оказалась ниже, чем ноги. Словом, венгры и тогда держали голову высоко, а у славян уже тогда все шло вверх тормашками.
— Так утолим же по этому поводу жажду! — симпатичное лицо моего хозяина немного посветлело.
— Одно мне странно: уж больно пращур Арпад ростом мал, — продолжал докладывать нотариус. — Не больше ста пятидесяти сантиметров. И по всему видать, скромный был человек, ничего при нем не оказалось, кроме железного меча. И немолод был, должно быть, — всего два зуба во рту. Могу показать, мы его сфотографировали, снимки у меня при себе.
Я взглянул на фотографии без особого интереса. В моем романе к этому времени происходило следующее: художник окончательно опростился, отпустил бороду, и когда однажды вечером жена не позволила ему себя поцеловать, он встал на колени и поклялся никогда больше не брать в рот медового чеснока. (Это была моя маленькая месть доктору.) Глава вышла совершенно натуралистическая в духе Золя, я заранее предвкушал впечатление, которое она произведет на читателя, но меня самого она несколько утомила — и в такой-то момент от меня требуют краниологической оценки черепа какого-то тысячелетнего татарина. Сожалею, но я в эти дела не вмешиваюсь, обращайтесь к Рудольфу.
Однако никак не дело Рудольфа было разбираться с журналистом, приехавшим на следующий день из города; он представился сотрудником какого-то информационного агентства и показал полученную из Будапешта депешу с просьбой разузнать подробности мировой сенсации.
— Какой сенсации? — изумился я. Чего только не разнюхают эти нынешние репортеры! В романе не хватает целых трех глав, а в Пеште о нем уже говорят как о мировой сенсации.
— Откуда же об этом известно? — со скромной гордостью спросил я.
— Вот депеша господина нотариуса: «Найдена могила Арпада! Подробности по месту происшествия».
— Ах, вот оно что, — я сразу поостыл. — В таком случае вам следует сходить на место происшествия.
— Уже был, поклонился. Вот здесь у меня все сведения записаны. Я хотел бы получить от вас небольшую историческую справку. Арпад ведь погиб в битве при Аугсбурге, не так ли?
— Разумеется! — ответил я сердито.
— Благодарю вас, выходит, я не ошибся. Откровенно говоря, только потому, что отвечал этот вопрос на экзамене по истории, когда экзаменовался на офицера.
— Вот как? Вы изволили экзаменоваться на офицера? Поздравляю. Позвольте откланяться.
Мне страшно хотелось остаться в одиночестве: Мари Малярша как раз собралась к юному Бенкоци. То бишь натурщица к юному соблазнителю-нотариусу.
— Пардон, последний вопрос. Каким образом труп Арпада мог попасть из Аугсбурга в этот курган? Ведь нельзя же предположить, чтобы при тогдашних транспортных средствах его переправили домой?
— Речи быть не может!
— Премного благодарен. Прикажете прислать вам завтрашние газеты?
— Благодарю покорно, не извольте беспокоиться, мне некогда их читать.
На другой день, под вечер, ко мне в комнату вошла смертельно бледная Андялка в сопровождении попа и нотариуса; оба — страшно взволнованные.
— Официальная депеша от министра внутренних дел!
Вскрыв депешу, я тоже побледнел, но от злости. Послание гласило: «Запрещаю дальнейшие сообщения о сокровищах Арпада, причина — Антанта. Жду доклада. Поздравляю от всей души. Министр внутренних дел».
Газеты, пришедшие на следующее утро, свидетельствовали о том, что если бы министр внутренних дел не запретил дальнейших сообщений, его попросту следовало бы прогнать. На первой же странице во всех газетах красовались кричащие заголовки, а под ними — сообщение об Арпадовой могиле с упором на Арпадовы сокровища. «Пока найдено десять тысяч золотых брошей, пятьсот натуральных жемчужин, а также мечи, отделанные бирюзой, и кинжалы с золотыми рукоятями».
В научной части репортажа говорилось о том, что Аугсбургская битва происходила, собственно говоря, на Семихолмье, здесь и погиб Арпад, который, судя по священным останкам, кои репортер имел возможность осязать с благоговейной молитвой, был мужем атлетического сложения. Заключительная же часть статьи не оставляла камня на камне от Академии, битком набитой всякими Палами Никчемными и Петерами Безвестными, в то время как на Мартона Варгу, крупнейшего венгерского археолога, которым могла бы гордиться любая нация, по сей день не обратили внимания.
— Послушай, дружище, — со скрежетом зубовным сказал я нотариусу, — ведь с завтрашнего дня Семихолмье станет самым популярным местом паломничества в стране.
— Того-то мне и надо! — отвечал он, и глаза его сияли. — Пусть моя деревня станет центром комитата!
— Что ж, не исключено, но, к сожалению, тебя в этом случае отправят на пенсию. Сам знаешь, сколько наверху выскочек, они наверняка тебя выживут. Надо было действовать по-другому: перво-наперво как следует подготовиться и укрепить свои позиции. Надо было похерить все это дело, по крайней мере до конца раскопок, а потом всячески подчеркивать собственные заслуги.
— Пожалуй, что так, — нотариус погрузился в раздумье, — да только теперь уж поздно. Сюда уже звонил какой-то заместитель госсекретаря, сказал, что послезавтра привезет нам венок от ассоциации госсекретарей.
— Я думаю, еще не поздно. Нельзя ли обнаружить в деревне холеру?
— Дай мне обнять тебя, мой мальчик! — нотариус простер руки. — Какая жалость, что ты не пошел по административной части. Тебе непременно доверили бы проведение выборов. Завтра же закажу из города телегу дынь, а потом конфискую их и велю выбросить в Тису, у парома их выудят бабы, и к завтрашнему вечеру деревня будет официально объявлена холерным очагом.
На том и порешили. Насколько я знаю своих соотечественников, теперь можно спокойно откапывать хоть самого Гадура[147] вместе с его карбункуловым троном — в холерное гнездо все равно никто не полезет.
План наш вполне удался, газеты запестрели сообщениями о холере и оставили Арпада в покое. Одна газетенка, правда, навела на меня панику сообщением о том, что среди моих коллег началось движение за празднование двадцатилетия моей трудовой деятельности, что весьма неприятно слышать, когда вот-вот станешь молодоженом. Впоследствии я утешился, вспомнив свое давнее наблюдение: все коллеги всегда предпочитают отмечать собственные юбилеи (причем лучше годом раньше, чем годом позже) и чужие похороны, дабы никто не чувствовал себя обойденным.
Куда хуже было то, что вся эта общенациональная кутерьма вокруг Лже-Арпада снова отняла у меня кучу времени. А между тем роман стал для меня важнее, чем когда бы то ни было. Сперва я намеревался изготовить нечто вроде торта, изысканного лакомства во славу кондитера, но при нынешнем повороте событий он, того и гляди, станет для меня единственным куском хлеба. Венгерский научный мир никогда не простит мне скандала с могилой Арпада, которую я обнаружил по воле прессы; впрочем, разыщи я ее на самом деле, они разозлились бы еще больше. Разумеется, это было бы приятнее, ибо лучше быть объектом гнева, нежели насмешек. В общем, так или иначе, совершенно очевидно, что моя научная карьера с треском провалилась в могилу Арпада, и нет такой лестницы, что вывела бы ее обратно на свет божий.
Короче говоря — точнее, говоря словами господина Бенкоци, — отныне на карту романа была поставлена вся моя жизнь. И корпел я над ним соответствующим образом — ни один сапожник так не работает, даже накануне ярмарки. Действие дошло до кульминации, все нити интриги переплелись, образовав некое подобие клубка в лапках играющего котенка, персонажи мои спали со мною в одной постели и ели из одной тарелки. Я пребывал в состоянии транса, и земные голоса доносились до меня лишь в обрывках. Краем уха я слышал, как нотариус по вечерам вкратце излагает события дня, героем которого неизменно оставался Рудольф.
Парень не зря прошел войну: сердца местного населения были взяты самым настоящим штурмом. Он умел держаться величаво и снисходительно одновременно, рот у него не закрывался с утра до вечера, и говорил он такое, что сам кум Бибок лишался дара речи, ибо ничего подобного не было даже в американских газетах. Сам Рудольф, правда, был на буковинском фронте при генерале Пфланцер-Балтине — в венгерской транскрипции: Балинт Панцель, — но зато все видал, все слыхал, и уж кто-кто, а он запросто мог бы сказать, почему войну проиграли, да только всему свое время. Чаще всего и охотнее говорил он о внешней политике — оно и понятно, если учесть, что во время войны он подружился с целой кучей императоров и королей. (К тому же отец его был в свое время единственным сапожником в Пустапетери.) Каждый день рисовал он на песке рукоятью лопаты карту военных действий ближайшей мировой войны и постоянно завершал соответствующие пояснения восклицанием: «Старому миру абсурд!» Что касается научного стиля, то тут он превзошел сам себя: скелеты называл «мощностями», а если в процессе раскуривания трубки спичечная головка случайно отлетала в сторону, он призывал все возможные несчастья на голову того, кто изобрел «серну».
Ни в коей мере не преуменьшая Рудольфовых заслуг, справедливости ради хочу отметить, что моя старая теория имен в очередной раз подтвердилась — большей частью успеха он все же был обязан своему имени. Зовись он Тодором, Самуэлем или попросту Йожефом, все могло бы повернуться совсем по-другому. Но он по странной случайности оказался именно Рудольфом — впрочем, может, это была никакая не случайность, а особое, предначертание, — а посему пару дней спустя мой лакей уже был увенчан двойным нимбом: королевского происхождения и исторического предназначения. Обаятельный стройный мужчина, с императорами да королями на дружеской ноге, говорит на господский манер — половины не разберешь — и к тому же носит имя Рудольф — это мог быть только один человек, только тот самый «Рудоль», единственный Габсбург, заслуживший бессмертие, поскольку успел умереть, прежде чем его разлюбили. Потому он и не мог состариться, черты лица его становились все четче и определеннее по мере того, как гроб в капуцинском склепе все больше подергивался патиной.
— Вылитый Ференц Йошка, — заявил Марта Петух, как известно, большой специалист по части «Рудоля».
— Можете не сомневаться, — веселился нотариус, — господин Рудольф, коли захочет, может за неделю поднять все деревни вдоль Тисы и повести их войной на кого угодно.
К счастью, у Рудольфа не было исторических амбиций, он вполне удовлетворился той славой, которую доставила ему новая находка: по левую руку старого всадника был обнаружен еще один мужской скелет, под лопаткой у него лежали остатки колчана, возле правой кисти — наконечник стрелы. Кто бы это мог быть!
— Это мог быть любимый слуга знатного господина, какой-нибудь лучник, с которым господин предпочитал ходить на охоту.
— Одним словом, что-то вроде премьер-министра.
— Да, что-то в этом роде. А когда хозяин умер, слугу похоронили вместе с ним, чтобы ему не было одиноко в загробном мире.
— Славный обычай, жаль, что его отменили, — вздохнул нотариус. — А знаете ли вы, что Марта Петух нынче предложил Рудольфу четыре центнера пшеницы? На тот случай, если и впрямь случится какая свара и придется идти на серба.
— Я всегда говорил, что они — чудесные люди, нужно только уметь с ними обращаться, — поп расчувствовался и тяпнул стаканчик.
На следующий день нотариус постучался ко мне в неурочное время, перед самым ужином.
— Прости, что помешал, старина, но тут такое случилось — я не мог тебе не сообщить.
Я охотно простил его, тем более что последние полчаса корчился у стола в величайших душевных муках. Сперва соблазнитель присосался, как пиявка, к губам натурщицы, но потом насытился, женщина тоже начала зевать и подумывать о том, как бы отучить мужа от медового чеснока и приучить его снова бриться каждый день, ведь он, в сущности, куда интереснее помощника нотариуса. Надо было срочно что-то предпринять, а не то они разлюбят друг друга, и художник, помирившись с женой, наймется куда-нибудь учителем рисования.
— К твоим услугам. Что такое стряслось?
— А вот что: у витязя жена обнаружилась. Лежит одесную, но на левом боку, чтоб старик и в могиле мог ей в глаза поглядеть. Молоденькая, видать, одевал ее старик что надо: в ушах — серьги золотые с мой мизинец, на шее — янтарное ожерелье, на поясе — серебряная пряжка, а на пальце — золотое кольцо с рубином, да с каким! Будто теперь из ювелирного магазина, стоило Рудольфу его платком обтереть.
Я суеверен ровно настолько, насколько может быть суеверен человек, вкусивший от многих наук и к тому же бывший некогда лириком старого закала. (Новомодные лирики-мистики все как один рассудительны, словно учителя математики или строители-каменщики. И это совершенно естественно: мистицизм, как правило, дается только тем писателям, чей разум сух, холоден, и остер, как тщательно протертое лезвие бритвы.) При всем том, я не мог не увидеть в появлении этого кольца предначертания свыше. Судьба преподнесла мне кольцо, воистину достойное Андялкиного пальца, кольцо, которое некогда носила восточная княжна, белая лилия, на руках доставленная с туранских полей на берега Тисы. Оно могло отыскаться давным-давно и затеряться в руках грязных торгашей. Оно могло оказаться на пальце какой-нибудь шлюхи и стать нечистым орудием ее ремесла. Оно могло попасть на музейную полку, и праздная публика разглядывала бы его, зевая, пока оно не стало бы жертвой грабителей и не кончило бы жизнь в золотой — ванночке фотографа или дырявом зубе старого торговца пшеницей. Но судьба хранила его — habent sua fata annuli[148]! Она запрятала кольцо под самым долговечным из Семи холмов, тысячелетие Тиса укрывала его илом, а ветер — песком; сердце княжны давным-давно проросло дикими фиалками и шиповником, а судьба все хранила кольцо и сохранила его до самого моего прихода, чтобы я мог преподнести его своей невесте, чьи пальчики тоньше и нежнее, чем у любой герцогини. Кто знает, не переселилась ли в Андялку древняя душа, обратившаяся в цветок? И кто знает, не течет ли в Андялкиных жилах та же кровь? Конечно, для дилетанта имя «Полинг» звучит отнюдь не по-турански, но лингвисты (те, что занимаются финно-угорскими языками) запросто могли бы доказать, что раньше оно звучало совсем не так и сугубо по-турецки — не Полинг, а Дёндиле.
Я восторженно поблагодарил нотариуса за великолепное известие и спросил, нет ли у него желания прогуляться со мной обратно на Семихолмье.
— Хотеть-то я хочу, — нотариус хитро улыбнулся в ответ, — да только лучше не пойду и тебе не советую. О кольце не беспокойся, оно в надежном месте, Рудольф на моих глазах запер его в сейф — можешь подождать до утра. Так будем же лояльны и не станем беспокоить высоких господ в такое время.
— Очень трогательно, что свободный королевский избиратель либерален даже по отношению к мертвецам, — подхватил я шутку, — могу тебя успокоить: испанского этикета у тюрков не вводили.
— Нет, дружище, я лоялен только по отношению к живым венграм, но зато ко всем, невзирая на лица. Речь о Рудольфе, о том, чтобы не мешать ему, когда он, удалившись от публики, вкушает радости личной жизни.
— Ах, вот оно что! — я рассмеялся. — Уж не удирает ли мошенник по ночам с кургана?
— Как раз наоборот! К нему приходит Мари Малярша, и они стерегут мертвецов вдвоем.
Я расхохотался так, что едва не свалился со стула. Как там говорил чепайский святой ткач? «Стройный брюнет знатного роду!» Вот Рудольф как раз и есть стройный брюнет, а по знатности рода с ним вряд ли кто сравнится от Иркутска до Гринвича. Да, что ни говори, чепайский ткач — большой пророк. Ей-богу, надо бы послать министру внутренних дел депешу: пусть выкроит ему местечко. Будет у нас хоть один дальновидный политик.
Ох, не мне бы говорить о дальновидности! Ведь сам я на этот раз оказался слеп, как какой-нибудь министр иностранных дел. Можно же было сообразить, что Мари Малярша, воссоединившись с Рудолем, немедленно обретет в нем венец своей жизни. Нетрудно было догадаться и о том, что стоит Рудольфу вступить на этот путь, как в археологической Македонии ему станет тесно.
Собираясь утром на курган, я хотел позвать с собою попа. Прислуга сообщила, что его преподобия нету дома, видать, к нотариусу пошли, тот за ними посылал, приходи, мол, да срочно.
Я отправился следом; во дворе у нотариуса было полно народу. Мужики и бабы шумели, размахивали руками, я едва пробил себе дорогу к двери. Откуда-то донесся гнусавый голос кума Бибока:
— Вернется, раз я сказал! Потому и заложницу прихватил!
— Что это здесь творится? — я вошел в контору. — Уж не свадьба ли, часом?
Господин Бенкоци, надо сказать, был разряжен так, что вполне тянул на жениха. Белые матерчатые туфли отчищены бензином, полосатые теннисные брюки тщательно отутюжены, с пряжки ремня ухмылялся египетский сфинкс из нейзильбера — вид у него был такой, словно ему удалось сбыть с рук все свои загадки разом, — черный люстриновый пиджак украшала крупная маргаритка; не будь мне доподлинно известно, что юный господин изгнан из почтового Эдема, я сказал бы, что это — летняя астра.
Старый нотариус яростно орал в телефонную трубку, он-де битый час ждет, когда ему дадут окружное полицейское управление, и на мое приветливое «доброе утро!» ответил крайне неприветливо:
— Черт бы тебя побрал вместе с твоим утром! Впрочем, пардон, ты здесь ни при чем.
— Да что такое?
— Мари Малярша сбежала ночью из деревни.
— Если мужу дела нет, то нам-то что за дело?
— Есть ему дело: на рассвете перебудил ревом всю деревню и погнался за ними с вилами.
— Господин нотариус забыл сказать, что ваш Рудольф, господин председатель, составил Мари компанию, — прояснил ситуацию юный Бенкоци.
— Господи благослови, — я спокойно улыбнулся. — С судьбой приходится мириться.
Я с удовлетворением ощущал, что судьба заботится обо мне самыми хитрыми способами. Рудольфа она явно предназначила для того, чтобы избавить меня от обременительной симпатии Мари Малярши.
— Вот как? — кисло улыбнулся нотариус. — А то, что Рудольф прихватил с собой сейф, — это тоже судьба? Со всеми побрякушками пращура Арпада — с золотыми брошками, серьгами, жемчугом, янтарем. Ну и колечко с рубином негодяй тоже решил нам не оставлять. Теперь мне ясно, почему, запирая вчера вечером ящик, он вдруг заявил: «Тысяч на пять динаров потянет». Они уже тогда решили бежать в Сербию.
— Хоть бы Андраш Тот их догнал. — Я рухнул в плетеное кресло, отирая выступивший на лбу пот. Меня волновало только кольцо, но за него я сам был готов нанизать подлеца на вилы.
Со двора доносилось гудение толпы. Потом послышались твердые шаги в коридоре. В дверях появился Фидель, он тоже отирал пот со лба.
— Ну вот, нашли.
Мы трое разом вскочили.
— Вора? — спросил нотариус.
— Женщину? — спросил помощник нотариуса.
— Кольцо? — спросил я.
— Андраша Тота Богомольца, — отвечал поп. — Повесился на том самом дереве, на котором нашли художника семь лет тому назад. Доктор уже вскрывает его в мертвецкой.
Деревенский морг — такое место, где пропадает всякая охота помирать. Деревянный сарай у кладбищенской ограды, предназначенный для беспризорных покойников, которых наверху наверняка встречают осанной и пальмовыми ветвями святые в белых одеждах, а внизу не отпоет даже кантор. Господь бог, разумеется, выплатил бы за них вознаграждение, но смертные не любят ссужать господа бога, хотя уж он-то ни перед кем в долгу не оставался. Деревенская мертвецкая служит еще и прозекторской, для этой цели она оборудована столом на козлах. Кладбищенский сторож разделывает на этом столе заколотую свинью, переворачивая верхнюю доску обратной стороной, так как наружная сторона предназначена для самоубийц. С ними же, как правило, разбирается доктор, он режет их и кромсает во имя науки и порядка, дабы никто не волновался и не сомневался в том, что они действительно умерли.
Когда мы добрались до мертвецкой, труп Богомольца уже лежал на столе, накрытый простыней; полотно слегка топорщилось на заостренном носу, несколько зеленых переливчатых мух ползали по носу, символизируя непрерывность жизни; можно подумать, что природа нарочно облачает их в такие яркие наряды, чтобы оказать беспризорным покойникам последние почести. Доктор уже убрал инструменты в сумку и теперь умывался, стоя в углу, а кладбищенский сторож поливал ему на руки из глиняной кружки.
С тех пор как я вонзил доктору в сердце кинжал машукулумбского приветствия, прошло несколько недель, за это время он сильно постарел. Голова и усы подернулись плесенью, а вместе с ними — и былой темперамент; теперь это был самый обыкновенный угрюмый и старый деревенский лекарь. Когда мы вошли, он поднял голову и, увидев среди прочих меня, равнодушно отвернулся.
— Скотина, — рявкнул он на сторожа, — нечего поливать мне ботинки.
Я заговорил первым, чтобы показать, что не держу на него зла:
— Каковы результаты, господин доктор?
— Смерть от удушья, — проскрипел он в ответ. — Последовала девять часов назад. На трупе обнаружены характерные признаки самоубийства через повешение.
(Да, из него и вправду вышел самый обыкновенный доктор. Его рассказ был как две капли воды похож на сводку судебной медицинской экспертизы.)
— То же самое сказали после вскрытия про художника, — улыбнулся нотариус.
Доктором снова овладела навязчивая идея.
— Смею вас уверить: если бы вскрытие производил я, там обнаружилось бы еще кое-что. Да неужто нужны еще какие-то доказательства тому, что художник пал жертвой убийцы? — Он дрыгнул ногой в сторону стола, так как руки у него были заняты полотенцем.
— Что-что? — переспросил нотариус. Я затаился в ожидании ответа.
— Он и был убийцей.
— Ну как же, это ваша давняя идея-фикс.
— Я никогда не говорил этого вслух, но всегда чувствовал. В последнее время я досконально изучил этого человека, можно сказать, поставил над ним эксперимент и пришел к выводу, что ревность могла снова толкнуть его на убийство.
— Но Рудольфа-то он все-таки не убил.
— Он подозревал другого, — холодно сказал доктор. — Однажды он твердо решил зарезать некую особу и даже залез к ней в окно, но особы не оказалось дома. Тогда он в бессильной ярости забросал всю комнату дохлыми лягушками.
Меня прошиб холодный пот, а нотариус зевнул.
— И все-таки из этого не следует, что он убил Турбока.
— Это ясно как день. Он преследовал распутницу до самого ивняка. Там ему пришло на ум, что из-за этой шлюхи он уже стал один раз убийцей. Не надо забывать, что он был простой, суеверный крестьянин, в нем пробудилась совесть, и он повесился на том же суку, на котором семь лет назад повесил художника. Вот и все.
Воистину дерзость и хитрость этого человека не имеют пределов. Мне было ясно, что Богомолец покончил с собой оттого, что разрешилась давняя, проблема: он убедился наконец, что жена ему изменила. А у настоящего убийцы хватает смелости заклеймить «убийцей» этого несчастного, что лежит теперь на столе, да еще придумать правдоподобную мотивировку. Что и говорить, этот человек — не суеверный крестьянин, его совесть за горло не возьмет. Он может одурачить целый свет, но только не меня!
Можно подумать, он нарочно меня дразнил!
Выйдя из сарая, мы тут же заслышали знакомый колокольчик: динь-динь-динь! Ягненок щипал одичавшую пшеницу, некогда занесенную на кладбище с гумна. Шати сидел на какой-то могилке без креста в привычной позе философа: большой палец во рту.
— Ну, Шати, пойдем домой, — шагнул к нему доктор, — теперь ты будешь моим сыночком.
Тут терпение мое лопнуло. Все во мне восставало против того, чтобы убийца заделался нянькой.
— Прошу прощения, — я схватил ребенка за руку. — Я хочу забрать Шати с собой.
— У меня больше прав на него, потому что я здешний, — доктор рванул многократного сироту на себя.
— Зато родители Шати не были здешними, и я тоже не здешний! — я рванул мальчика обратно.
Мне самому было ясно, что с юридической точки зрения мои аргументы весьма уязвимы, поэтому я поспешно предложил предоставить ребенку решать самому. Я ни секунды не сомневался, что шоколадные конфеты потянут на весах выбора больше, чем кислое яблоко.
И тут, впервые за все время, заговорил поп:
— Обсудим все это после похорон, господа, а до тех пор оставим ребенка на нейтральной территории — на почте.
Враждующие стороны пошли на такое соглашение — однако в итоге все произошло совсем не так, как я предполагал.
После похорон мы с доктором и попом отправились прямо на почту, нотариус обещал прийти следом: он хотел сперва заглянуть в осиротевшее жилище Богомольцев — если у мальчика осталась какая-нибудь одежонка или еще какое барахло, то надо их забрать, пока не нашлось охотников на наследство. Надо думать, у ребенка ничего и не было, кроме отцовской тачки, да ничего не попишешь — таков порядок.
Вернулся он довольно быстро, следом за ним шел посыльный, толкая перед собой тачку с обычным бедняцким скарбом. В руках у нотариуса болталась драная котомка, основательно объеденная мышами.
— Послушай, малыш, знакома тебе эта котомка? — спросил нотариус мальчонку. Голос у него почему-то сел, словно он внезапно простудился, руки дрожали, толстое лицо покраснело.
— А как же, знаю, — храбро заявил Шаги. — Батюшкина котомка.
— Тогда беги, малыш, поиграй немного в саду, а мы тем временем поглядим, что тут есть.
Как только ребенок вышел, нотариус извлек из котомки плотный лист бумаги, истертый на сгибах. Брачное свидетельство Матяша Беры и Вероники Винце. Затем — зеленый лист картона: свидетельство об уплате Енё Турбоком членских взносов в будапештский клуб «Гнездо». Затем — золотое кольцо и золотые часы на цепочке. Наконец, шелковый кошель для бумажных денег, а из него — три купюры по тысяче крон.
— Ну что, господа, теперь вам ясно, кто убил Турбока? — спросил он, с трудом переводя дыхание.
Я посмотрел на попа и сказал:
— Тайна исповеди?
Его мягкое лицо немного посуровело, и он ответил, обернувшись к церкви:
— Ежели господь бог устроил так, чтоб возлюбленные чада его грабили и убивали, то можно ли их винить?
Так я и не узнал от него, сознался ли Матяш Бера Банкир на смертном одре в убийстве или ему не хватило времени. Быть может, поп схоронил эту тайну в своем добром сердце, чтобы сын Матяша Беры Банкира не стал на всю жизнь Шандором Берой Убийцей?
Доктор мрачно уставился в окно, словно незадачливый изобретатель сыворотки, которого публично опозорили, обозвав ослом на врачебном симпозиуме, а ему, нечего на это возразить.
Однако был человек, который устыдился еще сильнее, чем доктор: я подошел к нему и протянул руку:
— Господин доктор, я думаю, ребенку лучше всего остаться у вас.
Нотариус упорно ломал голову над вопросом, зачем было Бере грабить художника, если он так и не сбыл награбленного. Допустим, драгоценности сбывать он боялся, но ведь на деньгах не написано, что они художниковы, а бедняга, надо сказать, помирал с голоду вместе со всем семейством. Не будучи в состоянии придумать ничего другого, нотариус остановился на том, что убийцей Матяша Беру сделала нищета, а отвращение к кровавым банкнотам внушила пробудившаяся совесть.
Доктор по идее должен был ответить, что только бескультурный венгерский крестьянин способен на такую глупость, однако промолчал. Взяв Шати за руку, он крепко прижал ее к себе, и они отправились домой. Ягненок весело поскакал следом.
Пои с нотариусом тоже ушли, а меня матушка Полинг оставила обедать. На обед была варенная в молоке морковь, а я, надо сказать, отношусь к тем, не совсем обычным мужчинам, которых даже такие вещи не способны отпугнуть от брака.
Очутившись после обеда наедине с Андялкой, я протянул руку через стол и сжал ее пальчики.
— Дитя мое, найдется у вас немного времени? Я хотел бы обсудить с вами кое-что, одинаково важное для нас обоих.
Я чувствовал, что пальчики ее нервно подрагивают в моей руке. Она выглядела утомленной, личико побледнело, а губки немного увяли, свободную руку она время от времени подносила к ушам: так люди, страдающие головной болью, пытаются заглушить колокол, гудящий у них в голове.
— Пожалуйста, — сказала она без энтузиазма. — А нельзя ли отложить до другого раза, скажем, до завтра?
— Вам нездоровится, дружочек? Принести картофельную диадему?
Картофельная диадема — это сложенная крестом салфетка, в которую вложена сырая картошка, нарезанная кружочками. В деревне — это первое средство от головной боли: прохладная шкурка постепенно вбирает в себя яд, снимая с головы терновый венец боли, а лицо при этом приобретает необычайно кроткое выражение — аспирин такого эффекта не дает. Последнее, впрочем, я заметил лишь тогда, когда получил право собственноручно возлагать картофельный убор на самый прекрасный из лобиков, которые когда-либо морщились от боли.
— Спасибо, не нужно. Я вполне здорова, просто все эти неожиданности меня сильно разволновали.
— Именно о них я и собирался потолковать с вами, дружочек.
— О, я с удовольствием послушаю, — она разом ожила. Ей на глазах полегчало оттого, что сквозь приоткрытые жалюзи ворвался прохладный ветерок.
— Давайте поменяемся местами, дорогая, сядьте сюда к окну, по крайней мере, солнце не будет светить вам в глаза.
Она пересела на диван, откинула головку, подложив под нее сплетенные руки, под ножки я подставил ей скамеечку, которую смастерил по моему заказу кум Бибок. (Работа была выполнена в оригинальном стиле, но не без вдохновения: лев с лошадиным хвостом и пава смотрели друг на друга в упор, сверху, над ними, красовался венгерский герб, а внизу стояла надпись: «Желаю здравствовать — Винце Бибок».)
— Я хотел сказать, дорогая, что судьба устроила все эти сцены специально для нас.
— Можно ли быть таким безжалостным, господин председатель!
— Я вот о чем: роман наш застопорился как раз на последней главе. А теперь развязка готова, жизнь дописала роман своею рукой.
— Раньше господин председатель говорил, что жизнь подражает романам.
— Бывает и так, жизнь — бессовестный плагиатор, а все потому, что ей лень придумывать что-нибудь новенькое. Именно это и дает романисту право в свою очередь ее обворовывать. Еще Виктор Гюго утверждал, что во всяком удачном романе представлены три начала: переживание, фантазия и наблюдение. Лирика, сюжет, репортаж — всего понемногу. Разумеется, в моем случае о лирике не может быть и речи.
— Господин председатель, не будем ссориться — не надо обижать лирику.
— Вся лирика, какая там есть, появилась вашими молитвами, дружочек. — Я поцеловал ей руку. — И сюжетом я полностью обязан вам. Теперь нужно подмешать немного репортажа, и тогда из него выйдет по-настоящему изысканное блюдо.
— Репортаж — пакость, — она покачала головой.
— Что не мешает вам, дорогая, читать в газетах описания пышных свадеб, не правда ли?
Сей argumentum ad hominem[149] заставил нас обоих улыбнуться. Видимо, потому, что думали мы об одном и том же.
— Это совсем другое дело, если вы собираетесь завершить роман свадьбой, я не против, это всегда хорошо.
— Ну и бог с ним, ради вас, так уж и быть, женю помощника нотариуса.
— Как вы сказали? — она подняла голову. — На ком?
— На художнице, разумеется, — я удивленно посмотрел на нее.
— Ах да, конечно, — рассмеялась она. — Смотрите, как славно, — и церквушка наша попадет в знаменитый роман. Дело будет происходить осенью, алтарь будет украшен астрами, а ясень осыплет жениха и невесту золотым дождем, верно я говорю?
— Об этом не может быть и речи, дорогая. Ведь Рудольф и Мари сбежали, вот и помощник нотариуса сбежит с героиней, обвенчаются они в городе, без всякого шума, украдкой, и в церковь войдут с бокового входа.
— Бежать? — она со страхом уставилась на меня, причем глаза ее приобрели аметистовый оттенок. — Значит, вы тоже так думаете.
Должно быть, я посмотрел на нее именно так, как баран смотрит на новые ворота.
— Я тоже? Кто же еще так думает?
— Есть целая куча романов, где дело кончается побегом, и это всегда очень противно.
— Это верно, но ведь бегут же, как ни трудно на это решиться, не так ли?
— В романах — да, но в жизни, поверьте, порядочные женщины не убегают.
О, святая простота, ну конечно же, не убегают! Не такая нынче жизнь, чтобы приходилось бегать. Этого я, разумеется, сказать не мог, а потому сказал лишь, что не собираюсь причислять Мари Маляршу к лику святых.
Как же все-таки трудно с женщинами! Теперь Андялка внезапно пожалела Мари Маляршу. Губки надулись:
— До чего же циничны бывают мужчины! Неужто вы не понимаете, господин председатель, что у бедняжки был один выбор: бежать или утопиться? О, когда же найдется наконец писатель, который сумеет понять женскую душу!
Мне показалось, что она вот-вот разрыдается, я тут же сделался очень серьезен и даже немного обиделся. Возможно, у меня как у романиста есть просчеты, но мое знание людей никак нельзя ставить под сомнение, и мне особенно больно, что именно Андялка в нем усомнилась. Я бы, пожалуй, сказал ей об этом, но стоило мне заметить, что глаза у нее подернулись влагой, как у меня самого увлажнились ресницы. Бедняжка уже сожалела о нанесенной мне обиде! Ах, глупышка, если бы все сердца были столь же прозрачными кристаллами, как твое!
— Разве я сказал, что осуждаю Мари Маляршу? Напротив, мне жаль ее от всего сердца. Но если я признаю, что бывают в жизни ситуации, которых не разрешишь ничем, кроме побега, то и вы, дорогая, признайте, что для романа это тоже самый разумный выход.
— Ну хорошо, — Андялка улыбнулась, сменив гнев на милость, и сама взяла меня за руку. — При одном условии: художник должен остаться в живых. Если уж непременно нужно кого-нибудь умертвить, так пусть лучше умрет рыбак, он — дикарь, по нем никто особенно не заплачет, а художник умирать не должен.
Просто диву даешься: даже самая интеллигентная женщина не в состоянии понять истинного трагизма! Я запротестовал чуть ли не в отчаянии:
— Хотел бы я знать, Андялка, как вы это себе представляете? Ведь художник увел у рыбака жену и должен понести наказание. Пусть хоть в романе будет нравственный миропорядок.
— Славный миропорядочек, нечего сказать, — упорствовала Андялка. — Такая необыкновенная личность, художник — и гибнет из-за каких-то жалких человечков-лилипутиков. Художник должен понять, что он не чета этим букашкам, случайно оказавшимся на его пути, пусть позволит им лететь, куда им вздумается, а сам посмеется им вслед, а потом возьмет свою кисть и нарисует художника-великана, у ног которого копошится муравьиное племя, меж тем как сам он беседует с богами.
Она встала с дивана и подошла ко мне вплотную.
— Не смейтесь надо мною, хоть я и говорила сейчас так, как говорят в романах.
— Ну что вы, — я тоже поднялся, — я не смеюсь даже тогда, когда в романах говорят так, как никогда не говорят в действительности. Я признаю, что это в порядке вещей, речь добропорядочного персонажа не должна оставлять ни малейших сомнений в том, что он — персонаж, а не живой человек. Другими словами, он не имеет права сказать «э-э!», он может сказать только «ба!». Особенно тщательно следует избегать характерных небрежностей типа: «ну», «вот» и «значит». Боюсь, что критики как раз в том нас и упрекнут, что персонажи нашего романа говорят недостаточно литературно. Я не раз пытался заставить их говорить на манер Д’Аннунцио[150], но по бедности моей не могу отдать их учиться искусству декламации.
— Шутками вам не отделаться, господин председатель. Если вы меня любите, художник не умрет!
С этими словами она положила руки мне на грудь, их жар опалил меня сквозь шелковую рубашку. Эту минуту я буду вспоминать и на смертном одре. Я не забуду ее и тогда, когда стану жалким пузырьком в водах Леты.
И все-таки художник должен был умереть! Если бы Андялка попросила меня не кончать роман, чтобы он вошел в историю литературы в качестве наброска на благо какого-нибудь юного преподавателя средней школы, который лет сто спустя напишет пяток статей с продолжением о предполагаемых причинах незавершенности (сложность общественных отношений, высокие цены на бумагу и т. п.), — я бы охотно послушался. Если б она попросила у меня рукопись, чтобы всю жизнь пробовать на ней щипцы для завивки, — я был бы счастлив предоставить ей это право. Но пожертвовать смертью главного героя, сохранить ему жизнь по протекции, в то время как по романным законам ему надлежит погибнуть, — нет, этого я не сделаю даже ценою собственного счастья.
С половины четвертого дня до половины третьего ночи я не вставал из-за письменного стола. (Призывы прислуги к ужину были оставлены мною без внимания. Фидель же так рьяно заливал на пасеке волнения дня, что в результате заснул непробудным сном, и храп его до полуночи сотрясал листья дикого винограда.) Жена художника и помощник нотариуса сбежали темной ночью, под крик перепелки, благополучно добрались до города и обвенчались в полном соответствии с пожеланиями Андялки. Прочим юным читательницам это тоже должно понравиться, да и матушки обретут в такой развязке успокоение. Не исключено, что молодой человек возьмется за ум, сдаст экзамены, а натурщица облагородится в новом браке, и тогда Пречистая Дева сжалится над ними и благословит их союз ребеночком; но это все следует препоручить читательской фантазии, а я не стану писать еще один том ему в угоду — при нынешней-то дороговизне. Да и потом, эти двое были всего лишь эпизодическими персонажами в истории художника.
Ну а художник умер так удачно, что растрогал меня самого. Он как раз ворошил сено, когда ему сообщили о побеге жены. Сперва он застыл, опираясь на вилы, убитый горем, и перед ним пронеслась вся его жизнь — молодость, прошедшая в погоне за славой и наслаждениями, потом — отвращение к жизни, потом — спасительная деревня, пышнотелая молодая крестьянка, целуя которую он вдыхал запахи пшеничного поля и вкушал сладость земли — и вот всему конец. Он изменил искусству во имя любви, любви к женщине и к земле. Есть ли возврат к нему теперь, когда любовь ему изменила? Он распрямил согбенную спину, бросился в дом, смыл с себя грязь полей, вытащил давно заброшенный рабочий балахон, нахлобучил спортивное кепи, отправился с мольбертом к болоту и там схватился за кисть, погрузившись душою в величественный пурпур заходящего солнца. Но ничего не вышло: он разучился обращаться с кистью, легкая игрушка беспомощно дрожала в руке, привыкшей к тяжкому крестьянскому труду. Тогда-он в последний раз окинул взглядом небо и землю, упиваясь волшебной красотой и прощаясь с нею навеки, потом бросил в воду кисть, а сам бросился следом.
Труп обнаружил рыбак и закопал его на Божьем острове, в гуще краснодневов. Проходя мимо, он всегда осенял себя крестом и бормотал незамысловатую заупокойную молитву. Дитя природы, он без всякой ненависти думал о барине, ценою жизни заплатившем за свою ошибку — стремление не вверх, а вниз из своего сословия.
Когда все было готово, я потушил лампу и выбрался из темной комнаты в светлую ночь. Это была одна из тех летних ночей, когда небо распахивается, приотворяется окно в бесконечность, и можно заглянуть в самую кузницу господа бога. Сотворив мир, он, должно быть, чувствовал примерно то же, что и я. Но выстрадал ли он столько, сколько я, боролся ли с самим собою? Случалось ли ему в эти шесть дней возненавидеть все сделанное до сих пор, подумывал ли он о том, чтобы бросить все как есть и отдать недоделанный мир дьяволу на откуп, позволив ему делать все что заблагорассудится? Казался ли ему совершенством вылепленный им человек, подобно тому как видятся мне все, в кого я вдохнул свою душу смертного? Мог ли он быть так счастлив, как я этой ночью?
Нет, не мог, ибо сотворил всего лишь мир, и не было другого бога, который узнал бы об этом. Я же создал роман, который прочтут тысячи и тысячи таких же, как я, похвалят его или обругают, но так или иначе, станут о нем говорить. Хотя вообще-то господь тоже не испытывает недостатка в критиках, но тут он сам виноват — к чему было их создавать? Как бы то ни было, господь у нас — один, и нет ему равных, нету у него даже тени, что кивнула бы ему в ответ, когда сам он кивнет от радости, видя, что все сотворенное им — хорошо. Я же не один под деревом бодхи, тем самым, что считается у индусов центром Вселенной (это, пожалуй, единственное, что нравится мне у Рабиндраната Тагора), нас по меньшей мере двое, и она знает, кто я такой и что такое мое творение.
Упала звезда, оставив за собой длинную яркую ленту и осветив юного Бенкоци, бродившего по берегу Тисы. Этому-то чего бродить посреди ночи? Небо прочертила еще одна золотая стрела, на этот раз с запада на восток. Ну да, конечно, сегодня же десятое августа, Святой Лёринц, начало большого звездопада; в такое время деревенские поэты, как правило, таращатся на небо, по которому катятся огненные Лёринцевы слезы.
Говорят, увидев падающую звезду, нужно загадывать желание. Глядя на огненный дождь, я загадал для начала, чтобы Андялка была счастлива, а потом загадал то же самое во второй, пятый и сотый раз. Однако между сотой и сто пятидесятой звездой я думал об успехе моей книги. Завтра я отнесу ее на почту, это будет последнее заказное послание, которое примет Андялка. Хочется верить, что с поездом, который повезет мою книгу, ничего не случится, хоть в прошлый раз кто-то и говорил, будто возле Палмоноштора сгнили шпалы. Воображаю, как обрадуется мой славный издатель, получив рукопись не на десять, а на целых пятнадцать листов! А как будет счастлива публика, когда отпадет необходимость отправляться в поисках экзотики к золотоискателям на Клондайк вместе с Джеком Лондоном, и все то же самое можно будет получить у себя дома. Разве что критики останутся недовольны, так как не смогут сказать обо мне ничего плохого, а ведь для них, бедняжек, это хлеб насущный. Впрочем, они наверняка что-нибудь да придумают. Например, что писать я умею, но сказать мне нечего. Или что в романе есть мысль, но излагать свои мысли я не умею. Или что проблем у меня полно, а живых людей нет вовсе. Один скажет, что многие сцены выглядят чересчур реалистично, другой заметит, что персонажи мои не имеют выраженной индивидуальности. Кто-нибудь станет утверждать, что сюжетная линия слишком запутана — что ж, не беда, ведь тут же найдется другой, который заявит, что сюжетной линии нет вовсе. А тот, кто не сможет изобрести иного упрека, удовольствуется заявлением, что это — не роман.
Пусть сто пятьдесят первая звезда упадет на того, кого все это волнует! Мы же отправимся спать — во-первых, потому, что за плечами у нас много бессонных ночей, во-вторых, потому, что людям нашего возраста сон гораздо нужнее, нежели молокососам вроде господина Бенкоци, и наконец, потому, что для меня наступает великий день: я отправляю роман и прошу Андялкиной руки. В свахи я позову попа, он ведь ходит в юбке. Превосходная выйдет шутка! Сперва старик вылупит глаза, а потом прижмет меня к сердцу: «Нет, вы только поглядите на этого пройдоху! И ведь такой тихоня, ни за что не поверишь!»
Получилось несколько иначе. Не я огорошил попа с утра пораньше, а он меня. Он был бледен до синевы и заикался, словно так и не пришел в себя после вчерашних возлияний.
— Представляешь, Андялка сбежала ночью с помощником нотариуса.
Матушку Полинг я обнаружил над кучей битой посуды — оставалось лишь закопать черепки в землю, чтобы полвека спустя кто-нибудь из моих ученых коллег сделал вывод об эпохе кьёккен-мёддинг в венгерской истории. (Кьёккен-мёддинг — это горы кухонного хлама тысячелетней давности, которые километрами тянутся в Дании по берегу моря. Попросту говоря, окаменевшая помойка.) Сперва она швыряла на пол глиняную посуду, потом пришел черед жестяной. Чем рассудительнее и спокойнее пожилая дама, тем ужаснее она в бешенстве. Если кто и пострадал в этой истории кроме меня, так это матушка Полинг — она понесла едва ли не больший ущерб, чем я. Правда, я лишился невесты, равной которой не было в этом мире, но матушка Полинг лишилась зятя, утверждавшего, что не мыслит семейного счастья без тещи. А такого зятя не сыщешь ни в этом мире, ни в ином. (В раю — во всяком случае, потому что туда таких не пускают.)
— Я убью этого подлеца, говорю вам! И-и-и! — выкрикивала она, подвывая, словно выпь.
Покамест бедняжка ограничилась тем, что швырнула на пол противень и принялась топтать его с невиданной яростью — будь он человеком, у него не осталось бы ни единой целой косточки.
— Не нужно никого убивать, матушка Полинг, — я взял ее за руку и силой усадил на стул.
— Глаза ему выцарапаю, и-и-и! — Она впилась ногтями в собственное лицо.
Я отвел ее руки от лица, обнял за плечи и погладил по красивой седой голове.
— Успокойтесь, матушка Полинг, все устроится. Быть может, тут просто недоразумение.
— Какое там! — она в изнеможении опустила голову мне на плечо. — Он меня наперед предупреждал: дескать, запретите мне видеть вашу дочку, так я ее украду. Бандит проклятый, хотела его тогда ножом пырнуть — жаль не пырнула! Я и Андялке сто раз говорила: коли не бросишь своего бездельника, утоплюсь! Да только она в ответ все одно: я, мол, еще раньше утоплюсь.
Гнев ее помаленьку перешел в слезы, и тут выяснилось, что Андялка, собственно говоря, давным-давно любит господина Бенкоци. Познакомились они еще в Пеште, и девушка запросилась домой, к матери, именно потому, что нотариус призвал юношу к себе как бедного родственника. Он надеялся сделать его своим преемником, но мальчишка задурил, вздумал стать знаменитостью, чтобы быть достойным Андялки, и принялся марать налоговые карточки драмами. Госпожа Полинг была в отчаянии и изо всех сил настраивала дочь против господина Бенкоци. В конце концов та сказала, что не пойдет за него до тех пор, пока он не сменит навязчивую идею на здравый смысл. Тогда мальчишка надулся, стал таскаться в город, гулять, кутить. К моменту моего приезда они даже разговаривать друг с другом перестали. Андялка, казалось, образумилась, что же до матушки Полинг, то она была на седьмом небе, когда поняла, как страстно я мечтаю стать ее зятем.
— Но поверьте, господин председатель, — всхлипывала бедняжка, — Андялка уж так вас любила, так любила — ну прямо как родного отца. И чем только этот хулиган ее опять заморочил, чтоб ему сдохнуть, окаянному!
Во мне шевельнулось смутное подозрение, но я предпочел умолчать и спросил только, не получала ли Андялка какого-нибудь письма.
— Не знаю, не думаю; Борча мне еще утром сказала, барышня, дескать, на заре ушла гулять с барчуком. Она бы не удивилась: их ведь часто видали вместе, бывало, идут вдвоем из церкви, не от обедни, не от вечерни, а просто так, но тут видит: у обоих по чемодану, ну и стала смотреть им вслед. А они надели чемоданы на тросточку, он взялся за один конец, она — за другой, и пошли в город.
Слава богу, — подумалось мне, — по крайней мере шли не в обнимку, между ними был острый меч, совсем как в сказке про пастушка и красавицу. Хотя целоваться можно и поверх острого меча, особенно если это всего лишь дубовая палка с роговым набалдашником.
Тут явился поп, который по-прежнему был ни жив ни мертв, а следом за ним — нотариус, тоже глубоко потрясенный, но помнящий о своих обязанностях. Первым делом он осмотрел дом, чтобы проверить, целы ли казенные деньги — оказалось, что все в порядке. На письменном столе господина Бенкоци также царил полный порядок; накануне вечером нотариус поручил ему составить списки на воинское пособие, в другой раз этой работы хватило бы ему на неделю, а тут разом управился, видно, всю ночь корпел. Выходит, не такой уж он пропащий, этот мальчишка, мог бы стать порядочным человеком, кабы захотел.
— Теперь поглядим, привела ли Андялка дела в порядок.
Ключ лежал на письменном столе, мы выдвинули ящик, в нем не было ничего, кроме кучи вскрытых писем, адресованных ее Благородию мадемуазель Бимбике Коня.
— Как они сюда попали? — спросил нотариус, разглядывая конверты. — Ведь это почерк Бенкоци. Какая еще, черт побери, Бимбике Коня?
Он заглянул в один из конвертов: там не было ничего, кроме чистого листочка бумаги. Тогда он отобрал еще несколько штук — нигде ничего, кроме чистой бумаги.
— Н-да, тут нужна ума палата. Зачем одному сумасброду понадобилось слать пустые листочки, а другой сумасбродке вскрывать не ей адресованные письма?
Я — не ума палата — ох нет, какое там! И все-таки эту загадку я разгадал: никакой Бимбике Коня не существует, просто господин Бенкоци хотел дать Андялке понять, что на свете есть девушки кроме нее, Андялка же, по праву любви вскрывая эти письма, с удовольствием констатировала, что господин Бенкоци, конечно, большой хитрец, но все же для него существует только одна девушка на свете.
Более того, я мог бы сказать, что лежало раньше в единственном пустом конверте. Это письмо было адресовано мадемуазель Ангеле Полинг и прибыло по адресу как раз тогда, когда Андялка вдруг принялась утверждать, что лирика — лучшее, что есть на свете…
Нотариус тем временем закончил свою ревизию, касса была в полном порядке, там лежали 2444 кроны 44 филлера, катушка шелковых ниток и семь марок по десять крон.
— Что ж, твое преподобие, марки можешь переслать девскому барону, — сказал нотариус с грустной усмешкой, — все равно такие марки никому, кроме него, не сгодятся.
Слава богу, вот так и надо! Смерть — и та не войдет туда, где смеются, а скажет: «Подождем до другого раза!»
Ведь я вполне допускаю, что некто с косою в руках бродил в то утро вокруг почты, и не без оснований. Никак нельзя предположить, чтобы этот некто имел в виду матушку Полинг, ведь смерть довольно много повидала на своем веку и хорошо понимает, что пожилые женщины, в том числе и самые интеллигентные, предпочитают быть тещами неприятных зятьев, чем не быть тещами вообще. Некто рассчитывал, скорее, что голову под косу подставлю я — а все потому, что смерть на самом деле — никудышный психолог и очень наивна, совсем как я.
Будь я романтиком, мне следовало бы найти то место, где я утопил художника, и прыгнуть в воду вслед за собственной рукописью. Не скрою, мысль эта мелькала у меня в голове; я смотрел затуманенным взором на искрящуюся расплавленную сталь реки, и предо мною одна за другой проносились все радости жизни: весенние напевы, зеленая травка, строчки любимых песен, цветные ленты, что выпадают из старых книг, легкие поцелуи, ангельски-чистые слезы, могильные холмики, поросшие маргаритками, и колыбели со спящими младенцами. Все, все пропало; слеза покатилась по моей щеке и скатилась на рубашку, шелк впитал ее как раз в том месте, где вчера покоились Андялкины руки.
Тут-то смерть и подняла свою косу, но я отмахнулся от нее и велел убираться куда подальше, здесь поживиться нечем. Что, собственно говоря, изменилось в моей жизни? Самое ценное, что в ней есть, — улыбка и слезы, а для них достаточно воспоминаний. Я остался один под деревом бодхи? Боюсь, что я и до сих пор был там один, должно быть, то, что зовется душою, пребывает в одиночестве всегда и везде — и в подлунном мире, и в надзвездном; именно боль одиночества да томление по недостижимой родной душе и делают душу бессмертной.
— Будь добр, господин нотариус, дай мне, пожалуйста, эти марки. Как раз хватит на заказную посылку. Я высылаю рукопись романа.
К этому времени роман нравился мне куда меньше, чем ночью. Жизнь умеет нанести пару-тройку немилосердных ударов, от которых у человека обостряется зрение. На свете есть множество романов лучше моего, хотя и он не лишен достоинств; я прекрасно понимаю, что взламывать витрины книжных лавок из-за него не станут. Это не роскошный ананас — ходовой товар мирового рынка, а всего лишь летнее кисло-сладкое яблоко. Но ведь есть на свете и такие гурманы, которые находят в яблоках особый букет, не свойственный ни одному, даже самому роскошному южному плоду. Не исключено, что со временем плоды моего творчества станут более изысканными, хотя, честно говоря, я не особенно к этому стремлюсь. Стоять перед публикой в шутовском колпаке, с лицом обсыпанным мукой и корчить гримасы, с трепетом ожидая аплодисментов, — по-моему, это ремесло ничуть не лучше, чем ремесло того карлика на пирах у Аттилы, о котором упоминает Прискос Ретор. (Аттила, по крайней мере, бросал придворному шуту мясо со своей тарелки, а нынешние аттилы только и знают, что швырять в нас костями.) Но если судьба обрекла меня навеки нести писательский крест, приходится подчиниться.
— Что же будет с Андялкой? — сокрушался поп. — Вдруг этот зверь ее убил?
В «Тысяче и одной ночи» такое случается, однако нотариус, как человек со стойким иммунитетом против всей и всяческой литературы (за исключением «Кёзшеги кёзлёнь»[151]), счел подозрения попа необоснованными.
— Не думаю, чтоб он успел ее убить; хорошо, если они до города-то добрались, да и вообще Бенкоци на нотариуса, конечно, не тянет, но человек не кровожадный. Позвоню на всякий случай в полицию, скажу, чтоб их задержали, пусть последят за мальчишкой, пока Андялку не заберет матушка.
— Старые вы ослы, — в голосе моем звучало превосходство, право на которое давало только ощущение себя заслуженным старым ослом, — и к тому же никудышные христиане. Ведь беглецы — в руце божией, так зачем же предавать их в руки полиции? А вот матушку Полинг мы действительно свезем в город, чтобы было кому последить за ними до свадьбы.
— Ни за что, ни за что! — Матушка Полинг рыскала взглядом по сторонам, словно львица, ища, чего бы швырнуть оземь. — Ведь этот негодник не выдержал даже первого экзамена.
Негодник! Если всего лишь «негодник», значит, дело идет на лад!
— Не волнуйтесь, матушка Полинг, этот негодник выдержит все экзамены, я вам ручаюсь. У меня есть способ заставить его это сделать. И матушка Полинг будет варить мне кофе в доме на площади Вармедехаз, а на воротах дома будет красоваться медная табличка: «Др. Элемер Бенкоци, адвокат». Смотрите же, чтобы в кофе не было слишком много цикория!
Матушка Полинг уже готова была улыбнуться, если бы не поруганная материнская гордость, но поп все еще мрачно трещал костяшками пальцев.
— Да, но где ты собираешься их искать?
— У господа бога под крылышком, милый Фидель, — отшутился я. — А ты мог бы пока позвонить девскому барону насчет брички, тебе он не откажет. Особенно если сказать, что она нужна нам для свадьбы, мы повезем в ней невесту!
Я потешался сам над собой — вот как, оказывается, из нас троих я самый практичный. Напоследок я собственноручно надел на матушку Полинг расшитый бисером чепец, причем завязал под подбородком такой бант, который сделал бы честь самому господину Бенкоци.
Путь наш лежал мимо Семи холмов: курган напоминал изрытое окопами поле битвы. Ящики с инструментом и запакованные черепа были свалены кучей на вершине холма, старый ворон-кальвинист долбил клювом шаровидный сверток, укутанный в ситцевый платок. Платок принадлежал Мари Малярше, а череп — какому-нибудь тысячелетнему Дёндиле. Надо же — живая женщина пожалела мертвеца и отдала ему свой платок! Хотя да, ведь у нее на голове отныне красовался венец ее жизни!
— Стоп! Давайте-ка остановимся, не оставлять же все это здесь! Фидель, милый, помоги мне их погрузить. Невольники не нужны, оставим их кости воронам. Пусть как хотят, так и собирают их к воскресению.
Но ямы-то все-таки засыпать надо! Я спросил нотариуса, что он скажет, если я оставлю Марте Циле Петуху пару тысчонок для этой цели?
— Почему ж нет, только разговаривать с ним буду я. Гажи, сынок, гони на улицу Кёнёк!
Прежде чем войти, мы заглянули в приоткрытые ворота, чтобы проверить, дома ли хозяева. На пороге кухни сидела старуха, уставившись прямо на слепящее солнце.
— Жена Марты. Она слепая, потому и смотрит прямо на солнце.
Старика мы обнаружили под шелковицей, он валялся на подстилке из рогожи, в ногах у него копошился ребенок, бледный и хилый, этакое материнское горюшко, до ушей перепачканный черным соком тутовых ягод.
— Имришке, — тихонько сказал старик, — сбегай-ка к бабушке, пущай поглядит, что ты у нас за крепыш. Встань насупротив да знай молчи себе, только щечки сделай, как я покажу.
Вдова и та на мгновение позабыла о поруганной материнской гордости, глядя на старика, надувшего сморщенные, заросшие белой щетиной щеки на манер ребенка, который набирает полный рот воды, чтоб кого-нибудь обрызгать. Если бы при сем присутствовал доктор, он наверняка сравнил бы старика с киргизским волынщиком, и это было бы единственное докторово сравнение, под которым я готов был подписаться. Малышу эта игра пришлась по душе, он старательно надул щечки и встал перед бабкой, — вид у него был такой, словно он только что выкарабкался из банки с повидлом.
— Ну-кось, бабуля, погляди-кось, что у тебя за славный внучок-толстячок! — обратился Марта Петух к слепой. Смотрела она, разумеется, как все слепые: ощупала кончиками пальцев надутую рожицу и сказала, очень довольная:
— Ни дать ни взять булочка. А все с тутовой ягоды, с ней и утки жиреют.
Старик совершенно расплылся от радости, что ему удалось надуть жену, но стоило нам тихонько постучаться, а ему — нас признать, как лицо его тут же приобрело постное выражение. Такой взгляд, должно быть, бывает у медведя, когда ему мешают играть с медвежатами; к счастью, зубов у тезки не осталось, да и к тому же нотариус помахал у него перед носом банкнотами, радующими глаз.
— Эти деньги мне Рудольф оставил, чтоб я поделил их между бедняками. Ему пришлось срочно уехать, его японский император вызвал, он выдаст Рудольфу оружие, чтобы мы побили сербов, валахов и чехов.
— А нимцев? С нимцами как? — недоверчиво спросил старик.
— Немцы — это нынче сербы, чехи да валахи, — таким образом нотариус посвятил старика в тайны международной дипломатии, — а Рудольф, кстати, скоро вернется и проверит, зарыты ли ямы. Доложите мне, что Семихолмье в порядке — тут же отдам вам деньги, а вы уж поделите их сами.
А теперь гони, возница, не щади ни лошадей, ни брички, только у ивняка немного притормози, чтобы мы успели прочитать про себя молитву за упокой души умерших! Гони мимо зарослей камыша, которому всегда есть о чем поболтать, совсем как старым господам и молодым романистам, гони вдоль отдыхающего под паром поля, поросшего чабрецом — там играют беззаботные суслики, а забот у них нет, потому что они не сеют, а только жнут, а потом впадают в зимнюю спячку; гони к плотине, мимо стройных тополей, в чьи темные кроны уже вплелись кое-где желтые листья; гони по мосту, по которому как-то вечером прибыл на воздушной карете мечтаний тот самый пожилой молодой человек, что вывалился из волшебной кареты, но все же возвращается домой помолодевшим пожилым господином, возвращается, чтобы отныне смотреть на мир из окна своей одинокой комнаты с улыбкой радости и печали. А быть может, и это всего лишь игра воображения, и мосты не только разлучают, но и соединяют; в мальчишках, пускающих мыльные пузыри, сидят пожилые господа, а в самом дальнем уголке души пожилого господина непременно прячется мальчишка?
— Теперь куда, ваше благородие?
— К пшеничному рынку, Гажи, сынок!
Вот и лавка часовщика, и в окне по-прежнему качается фарфоровая барышня с фарфоровым сарацином — тик-так, тик-так, — и будут они качаться до тех пор, пока часы не остановятся. То же самое судил людям великий Часовщик — в мастерской у него большой беспорядок, часы то и дело бьют невпопад, но Он со своих недосягаемых высот прозревает гармонию во всем — в линиях и звуках, в движении и неподвижности, в белом фарфоре и в черном.
— А теперь куда?
— К большому собору, Гажи, сынок! Да не к главному входу, а к боковому!
Боковой придел главного собора выходил в небольшой парк, а на скамейке под пыльными, жухлыми городскими деревьями сидел юный Бенкоци собственной персоной. Руки он закинул за спинку, чемоданы стояли рядом, но юноша едва ли мог за ними следить, потому что веки его были сомкнуты. Этот несчастный спал, спал самым натуральным образом! Вот как оно бывает, когда до полуночи составляешь реестры, а после полуночи похищаешь дам.
— Бенкоци!
Он вскинул голову и в смятении уставился на нас, потом внезапно вскочил и остался стоять опустив голову; что означал этот жест — упрямство или раскаяние — неизвестно, потому что юноша упорно молчал. Мы тоже молчали, но я с радостью отметил, что галстук у него помялся и сбился набок. Погоди, мошенник, то ли будет к сорока годам!
Створки боковой двери тихонько стукнули. По лестнице спускалась Андялка. Ее шляпка с цветами тоже съехала набок, девушка была очень бледна, однако, увидев нас, тут же порозовела под стать яблоневому цвету на шляпке и бросилась матушке Полинг на шею, в результате чего чепец последней тоже сбился на сторону.
— Мамочка, дорогая, я молилась за тебя!
Ах, Андялка, как видно в тебе «вечно женственное»! Все вы, согрешив, просите у господа прощения для тех, кого смертельно обидели!
— А обо мне вы не помолились, Андялка?
— Ой, ну как же, папочка председатель! Но если б вы только знали, какой Элемер замечательный поэт! Какие стихи я от него получила, папочка председатель! Вы должны их прочесть. Милый, дорогой папочка председатель!
Ну вот, не говорил ли я, что придет время, и она найдет для меня подобающее обращение! Разумеется: один — «Элемер», другой — «папочка председатель». Ах, не окрестили бы меня Мартоном! Одно хорошо: на каждое «папочка председатель» приходится по поцелую, само собой, только в щеку.
Пока Андялка обхаживала других приемных отцов, я отвел юношу в сторону.
— Слушай-ка, шалопай! Найдется у тебя сигара?
— Только короткая…
— Давай сюда! — я сунул в рот жалкую мужскую усладу. — Знаешь ли ты, что тебе придется сдать все экзамены?
— Завтра поеду просить, чтобы мне назначили срок.
— Ого! Уж не думаешь ли ты, что несчастные профессора права не заслужили себе летнего отдыха изнурительным трудом по два часа в неделю? Я буду вполне удовлетворен, если тебе удастся отделаться от первого экзамена к рождеству. А пока побудешь в деревне помощником нотариуса. Андялка с матушкой останутся у меня. Я ее удочерю.
— Матушку тоже?
— Убирайся, разбойник! По воскресеньям можешь приходить к обеду!
— Благодарствуйте, папаша!
— Цыц, трифурцифер[152]! Экзамены прежде всего!
— Слово чести!
— Оставь его при себе, мне оно ни к чему. У меня есть кое-что получше. При первой же жалобе на тебя, Андялке станет известно, кто написал то знаменитое стихотворение, а кто — самый никудышный стихоплет на свете!
Нельзя сказать, чтоб юноша особенно перепугался, хоть он и сложил молитвенно руки, дав торжественную клятву исправиться. Про себя он наверняка подумал, что может написать Андялке что-нибудь вроде «сказать я не могу, как я тебя люблю» — и это покажется ей прекраснее всех стихов великих поэтов от Горация до Пала Ямбора, адресованных не ей, а кому-то другому. И я не исключаю, что мальчишка рассудил правильно, ибо в этом смысле все женщины одинаковы, и самые интеллигентные в том числе.
Примечания
1
Часар Элемер (1874–1940) — литературовед, автор работ по истории и теории романа.
(обратно)2
Бод Петер (1712–1769) — венгерский историк, историк литературы. Много занимался историей религии.
(обратно)3
Альберт Великий, Альберт фон Больштедт (ок. 1193–1280) — немецкий философ и теолог.
(обратно)4
Беда Достопочтенный (ок. 673–735) — англо-саксонский ученый, историк, монах.
(обратно)5
Книга П. Бода называется: «Святой Илларий, или Радующие душу, будящие мысль, облагораживающие Предметы в кратких вопросах и ответах, предназначенные для полезного препровождения времени и постижения знания».
(обратно)6
В оригинале — игра слов: немецкое «Feuer» — «огонь» звучит сходно с венгерским «faért» — «за деревом» или «дерева».
(обратно)7
«Венгерские Афины» (1766) — сочинение П. Бода, в котором излагаются биографии 500 писателей.
(обратно)8
Сакс Ганс (1494–1576) — выдающийся немецкий поэт-мейстерзингер. Всю жизнь был башмачником в Нюрнберге, одновременно занимаясь поэзией.
(обратно)9
Общество Кишфалуди — литературное общество, названное по имени крупного венгерского писателя начала XIX в. Кароя Кишфалуди. Основано в 1836 г.
(обратно)10
«Вашарнапи уйшаг» («Воскресная газета») — будапештское издание.
(обратно)11
Общество Петефи — литературное общество, основанное в 1876 г.
(обратно)12
Герцег Ференц (1863–1954) — венгерский писатель, автор романов и новелл, представитель консервативного крыла венгерской литературы.
(обратно)13
Ямбор Пал (1821–1897) — венгерский поэт, автор изящно-сентиментальных элегий.
(обратно)14
Сабольчка Михай (1862–1930) — венгерский поэт, один из представителей народно-национального направления. Его стихи посвящены в основном идиллическому изображению деревенской жизни.
(обратно)15
Гараи Янош (1812–1853) — венгерский поэт, редактор. После ареста Кошута и Вешшелени в 1838 г. написал знаменитую тираноборческую балладу «Конт».
(обратно)16
Куруц — повстанец, участник антигабсбургских войн XVII–XVIII вв.; здесь: упрямец.
(обратно)17
«Янко Перчинка» («Боршсем Янко») — популярный иллюстрированный сатирический журнал, издававшийся в 1868–1938 гг.
(обратно)18
Варга (Várga) — сапожник (венг.).
(обратно)19
«Георгики» («Поэма о земледелии» — 36–29 гг. до н. э.) — сочинение Вергилия.
(обратно)20
Стинструп Йоханнес (1844–1935) — датский историк, археолог.
(обратно)21
Кьёккенмёддинги (раковинные кучи) — скопления раковин, костей рыб и животных, оставленные по берегам морей и рек первобытными людьми эпохи мезолита и неолита.
(обратно)22
Монтелиус Оскар (1843–1921) — шведский археолог.
(обратно)23
Аттила (? - 453) — предводитель гуннов с 434 г. При Аттиле гуннский союз племен достиг наивысшего могущества. В Венгрии на протяжении столетий бытовала легенда о гунно-венгерском родстве. Отсюда — особый интерес к королю Аттиле.
(обратно)24
Вебер Адамус (Йоханн Адам) — австрийский философ, проповедник, историк. Имеется в виду основное его произведение, написанное на латыни и изданное на немецком языке в 1686 г. в Нюрнберге.
(обратно)25
Атаназий Кирхер (1601–1680) — немецкий естествоиспытатель.
(обратно)26
Смотри главу тридцатую, стр. 273 (лат.).
(обратно)27
Лагерлёф Сельма (1858–1940) — шведская писательница.
(обратно)28
Матра — горный массив в северной Венгрии.
(обратно)29
Ведекинд Франк (1864–1918) — немецкий писатель, драматург.
(обратно)30
Делювиальный — связанный с наводнением; разливом, потопом (лат.).
(обратно)31
Каталаунская битва (она же — «Битва народов») — сражение, состоявшееся 15 июня 451 г. на Каталаунских полях (Сев. Франция). Там соединенные силы галло-римлян, вестготов, бургундов, франков и аланов нанесли поражение вторгшимся в Галлию гуннам во главе с Аттилой.
(обратно)32
Келлер Готфрид (1819–1890) — швейцарский писатель, новеллист. «Цюрихские новеллы» вышли в свет в 1878 г.
(обратно)33
Король Матяш, Матяш Хуняди (1443–1490) — король Венгерского королевства с 1458 г.
(обратно)34
Королева Беатрикс, Беатриса Арагонская (1457–1508) — вторая жена короля Матяша, дочь неаполитанского правителя.
(обратно)35
Микеш Келемен (1690–1761) — писатель, сподвижник Ференца Ракоци. Наиболее известны его «Турецкие письма», написанные под влиянием французских просветителей, в частности Монтескье.
(обратно)36
Тали Кальман (1839–1909) — поэт, политик, историк, занимавшийся в основном эпохой Ракоци. Куруцкие баллады — этот термин Тали употреблял применительно к протестантской дворянской литературе второй половины XVII — первой половины XVIII вв.
(обратно)37
Король Ласло Кун, Ласло IV — король Венгрии с 1272 по 1290 г.
(обратно)38
Кардинал Гентилий де Монтефлор — папский легат, прибыл в Венгрию в 1307 г. с целью оказать влияние на политику государства и способствовать воцарению на венгерском троне Роберта Кароя (1288–1342) из неаполитанской ветви династии Анжу.
(обратно)39
Гамсун Кнут (1859–1952) — норвежский писатель.
(обратно)40
Куфическое письмо — одна из древних разновидностей арабского письма.
(обратно)41
Диодор Сицилийский (ок. 90–21 гг. до н. э.) — древнегреческий историк, автор «Исторической библиотеки» (40 книг), дошедшей до нас во фрагментах, где синхронно излагается история Древнего Востока, Греции и Рима с легендарных времен до середины I в. до н. э.
(обратно)42
Тиса Иштван (1861–1918) — граф, в 1903–1905, 1913–1917 гг. премьер-министр Венгрии. С 1910 г. руководил так называемой «Национальной партией труда». Был сторонником укрепления военного союза с Германией. Убит восставшими солдатами как один из виновников первой мировой войны.
(обратно)43
Иштоци Дезе (1842–1915) — венгерский реакционный политик, один из первых проповедников антисемитизма.
(обратно)44
Йошика Миклош (1794–1865) — один из первых венгерских прозаиков романтической ориентации. Автор приключенческих исторических романов в духе В. Скотта.
(обратно)45
Арпад (? - 907) — венгерский князь, вождь племен, вторгшихся в IX в. в Паннонскую низменность.
(обратно)46
Фербли — карточная игра.
(обратно)47
Гренгоннёр Жакман — французский миниатюрист XIV в. В 1392 г. изобрел карты для увеселения короля Карла VI (Безумного) — (1380–1422).
(обратно)48
Имеется в виду библейская легенда, согласно которой Ной выпил вина и, опьянев, лежал нагим, за что его осмеял Хам, один из его сыновей.
(обратно)49
«Взаимная помощь как фактор эволюции» (1902) — сочинение П. А. Кропоткина.
(обратно)50
Аппони Альберт (1846–1933) — венгерский политик, прославившийся своим ораторским искусством.
(обратно)51
«Фриш уйшаг» («Свежая газета») — первая венгерская так называемая «народная газета», издававшаяся в 1896–1951 гг. и предназначенная для крестьянства и среднего сословия. Изобиловала сенсационными и развлекательными материалами.
(обратно)52
Панорама — одно из ярмарочных увеселений, балаган, в котором за входную плату демонстрировали волшебный фонарь.
(обратно)53
Пикеринг Эдуард Чарльз (1846–1919) — американский астроном.
(обратно)54
Кристи Уильям Генри, сэр (1845–1922) — английский астроном.
(обратно)55
Ференц Йошка — так называли венгерские крестьяне императора Австрии и короля Венгрии (с 1848 г.) Франца-Иосифа I (1830–1916).
(обратно)56
Кезди-Ковач Ласло (1864–1941) — венгерский художник-пейзажист.
(обратно)57
«Жонглер Богоматери» — новелла А. Франса.
(обратно)58
Господь с вами! (лат.).
(обратно)59
«Аббат Константин» — пьеса французского драматурга Алеви-Кремье-Декурселя.
(обратно)60
Идите с миром (лат.).
(обратно)61
Сыщик Лекок — герой детективного романа французского писателя Эмиля Габоцо «Мосье Лекок» (1869).
(обратно)62
Бекеш — город на юго-западе Венгрии.
(обратно)63
Восстание Ваты — восстание язычников в защиту «старой веры», а также против феодальных порядков (1045 г.).
(обратно)64
Гонведы — военнослужащие национальных венгерских частей австро-венгерской армии.
(обратно)65
Мария-Терезия (1717–1780) — австрийская эрцгерцогиня с 1740 г.
(обратно)66
Мутер Рихард (1860–1909) — немецкий искусствовед. Тэн Ипполит (1828–1893) — французский теоретик искусства и литературы, философ, историк.
(обратно)67
«Доменик» (1863) — роман французского живописца, писателя и историка искусства Эжена Фромантена (1820–1876). Построен в основном на автобиографическом материале.
(обратно)68
Иконоклазм (лат.) — иконоборчество.
(обратно)69
Торкемада (Торквемада) Томас (ок. 1420–1498) — глава инквизиции в Испании.
(обратно)70
Здесь: история храма.
(обратно)71
Телеки Ласло, граф (1811–1861) — крупный помещик, политик, писатель, член Венгерской академии наук. Премия его имени Пыла учреждена академией в 1854 г. и присуждалась драматургам.
(обратно)72
Этвеш Йожеф (1813–1871) — писатель, поэт, государственный деятель. Один из его романов называется «Сельский нотариус».
(обратно)73
Босния была оккупирована войсками Австро-Венгерской монархии по решению Берлинского конгресса 1878 г.
(обратно)74
Битва при Кёниггреце (3 июля 1866 г.) — решающее сражение австро-прусской войны.
(обратно)75
Понсон дю Террайль Пьер-Алексис (1829–1871) — французский писатель, автор полицейских и псевдоисторических романов, бесцеремонно заимствовавший сюжеты у других авторов.
(обратно)76
Букв.: «Водяная дева» (нем.).
(обратно)77
Имеется в виду сражение при Пршемысле в первую мировую войну.
(обратно)78
Масонская ложа, основным направлением деятельности которой была борьба с алкоголем. Создана в Нью-Йорке в 1851 г.
(обратно)79
Ретор Прискос (410–473) — византийский историк, в 448 г. был членом византийского посольства у короля Аттилы. Оставил описания жизни при дворе Аттилы, а также гуннских Я обычаев.
(обратно)80
Миклош Толди — герой эпической поэмы венгерского поэта Яноша Араня (1817–1882) «Толди».
(обратно)81
Для пущего торжества демократии (лат.).
(обратно)82
Курц-Малер Гедвиг (1867–1950) — немецкий романист, автор легкой, развлекательной прозы.
(обратно)83
Ипои Арнольд (1823–1886) — епископ, член Венгерской академии наук; занимался историей искусств, в первую очередь искусством венгерского средневековья.
(обратно)84
Танец Саломеи — евангельский сюжет, согласно которому Саломея, падчерица Ирода Антипы, однажды на пиру так угождает отчиму пляской, что тот обещает исполнить любую ее просьбу. По наущению жены Ирода, Иродиады, Саломея просит голову заключенного в темницу Иоанна Крестителя, которую и получает и относит Иродиаде для глумления.
(обратно)85
Янош — венгерский вариант имени Иоанн.
(обратно)86
Перевод Е. Клюева.
(обратно)87
Туранизм — одно из реакционных шовинистических движений в Венгрии. Туранисты исходили из концепции существования трех рас: арийской, семитской и туранской, и считали, что венгерский и азиатские народы как принадлежащие к одной и той же туранской расе должны противостоять западным демократиям и спасти от них мир. Сначала насаждали языческую, древневенгерскую религию, потом обратились к христианству. Во время второй мировой войны слились с движением нилашистов.
(обратно)88
Да (англ.).
(обратно)89
Карточная игра.
(обратно)90
Пипин Короткий (714–768) — король франков.
(обратно)91
Хорошо (англ.).
(обратно)92
Все в порядке (англ.).
(обратно)93
Верно (нем.).
(обратно)94
Здесь: Пештский пансион благородных девиц.
(обратно)95
Имеется в виду престолонаследник Рудольф Габсбург (1858–1889), сын императора Австро-Венгрии и венгерского короля Франца-Иосифа I и королевы Елизаветы. Принадлежал к относительно либеральным и провенгерски настроенным придворным кругам. Погиб при невыясненных обстоятельствах в охотничьем замке Майерлинг вместе со своей любовницей, баронессой Ветчерой.
(обратно)96
«Белые книги» — официальные издания, являвшие свод документов, связанных с актуальными политическими событиями, предназначенные для обоснования действий правительства или другого официального органа. Первые «Белые книги» появились в Англии в 1624 г. Название связано с белым цветом суперобложки. Обложка же английских изданий была синего цвета. Отсюда — вариант: «синие книги». Впоследствии такого рода издания стали постоянной практикой в разных странах. В Австрии, Испании и США они назывались «красными книгами».
(обратно)97
Радна (Родна) — город на территории Румынии.
(обратно)98
Паллавицини — итальянский род, известный с XII в., насчитывавший много военачальников, писателей, художников.
(обратно)99
Кушид (Кутан) — один из вождей совета венгерских племен, занявших в IX в. Карпатский бассейн, соратник Арпада.
(обратно)100
Призниц Винцент (1799–1851) — австрийский врач-дилетант, пропагандировавший использование мокрых бинтов для понижения температуры и остановки воспалительных процессов.
(обратно)101
Банат — комитат (область) на юге Венгрии, граничащая с Югославией и Румынией.
(обратно)102
Черт побери (англ.).
(обратно)103
Душистый горошек (лат.). Далее перечисляются английские сорта этого цветка: «Писаная красавица», «Принцесса Беатрис», «Королева».
(обратно)104
Хэлл Кен «Вечный город». Кен Томас Хэлл (1853–1931) — английский писатель и журналист. Роман «Вечный город» написал в 1901 г.
(обратно)105
«Манксман» (1894) — роман Хэлла Кена.
(обратно)106
Якобсен Йенс Петер (1847–1885) — датский писатель, биолог, переводчик Дарвина.
(обратно)107
«Центральная литературная газета» (нем.).
(обратно)108
Брат (нем.).
(обратно)109
«Сонный напиток», «сонное зелье» (нем.).
(обратно)110
Филипп Дербле — главный герой бульварного романа «Железный город» французского писателя Оне.
(обратно)111
Ноэми — персонаж романа М. Йокаи «Золотой человек».
(обратно)112
«Черные алмазы» — роман М. Йокаи.
(обратно)113
«Шестеро девиц Удерски» — роман венгерского писателя Йошики Миклоша (1794–1865) в шести томах.
(обратно)114
Манфред — персонаж одноименной драмы Дж.-Г. Байрона.
(обратно)115
Черт побери (фр.).
(обратно)116
«Пестрая хроника» (венг).
(обратно)117
Роман от первого лица (нем.).
(обратно)118
Восприимчивости (фр.).
(обратно)119
«Эн уйшагом» («Моя газета») — газета, издававшаяся Ференцем Морой (венг.).
(обратно)120
Тёхётём — один из первых известных вождей венгерских племен.
(обратно)121
Брахицефалия — короткоголовость, такое соотношение длины и ширины черепа, при котором ширина больше 0,8 его длины. Долихоцефалия — длинноголовость, такое соотношение длины и ширины черепа, при котором ширина составляет менее 0,75 длины.
(обратно)122
«Венгерская мифология» — книга Арнольда Ипои.
(обратно)123
Пенге — венгерская денежная единица.
(обратно)124
Мункачи Михай (1844–1900) — венгерский художник. «Обретение родины» — одна из неудачных картин, написанных смертельно больным художником в последние годы жизни.
(обратно)125
Без позволения Музы, против желания Музы (лат.).
(обратно)126
Согласно библейской легенде, Иосиф в Египте был продан в рабство Потифару, начальнику телохранителей фараона. Вскоре Иосиф становится любимцем своего господина. Жена Потифара влюбляется в красоту Иосифа и требует удовлетворить ее вожделения. Иосиф отвечает отказом. Тогда жена Потифара хватает его за одежду, так что ему приходится бежать, оставив одежду в ее руках; эту одежду она использует, обвиняя Иосифа в покушении на ее целомудрие.
(обратно)127
В греческой мифологии Мидас, царь Фригии, был судьей на музыкальном состязании между Аполлоном и Паном и присудил победу Пану. За это Аполлон наделил Мидаса ослиными ушами. Цирюльник царя Мидаса обнаружил на голове повелителя ослиные уши. Испытывая потребность с кем-нибудь поделиться, он вырыл ямку среди тростниковых зарослей и прошептал свой секрет, тростник же прошелестел о тайне всему свету.
(обратно)128
Фаррер Клод (1876–1957) — французский писатель.
(обратно)129
Юность — что ветер (лат.).
(обратно)130
Глазной мускул (лат.).
(обратно)131
«Будапешти семле» («Будапештское обозрение») — литературный и научный журнал.
(обратно)132
Андялфалва — букв.: «деревня ангелов» или «деревня Ангелы» (венг.).
(обратно)133
Ясшаг, Хайдушаг, Куншаг — степные районы на востоке Венгрии.
(обратно)134
«Умный календарь» (венг.).
(обратно)135
Уайльд был привлечен к суду по обвинению в безнравственности, отбыл два года заключения в Редингской тюрьме. В 1898 г. написана «Баллада Редингской тюрьмы».
(обратно)136
Яд, не имеющий цвета и запаха (лат. — ит.).
(обратно)137
На месте преступления (лат.).
(обратно)138
Кодексы — вид средневековых книг. В Венгрии около 50 таких рукописных книг XV–XVI вв., написанных в основном монахами францисканского и доминиканского орденов.
(обратно)139
Кемень Жигмонд (1814–1875) — венгерский писатель, публицист. Роман «Суровые времена» написан в 1862 г.
(обратно)140
Россет и Данте Габриеле (1828–1882) — английский поэт и живописец, один из основателей группы прерафаэлитов.
(обратно)141
В католических храмах, как правило, имелась специальная копилка, в которую собирали пожертвования, предназначенные для папы римского. Ее название всегда связывалось с именем Св. Петра.
(обратно)142
«Астра курящая» (лат.).
(обратно)143
Король Кальман — король Венгрии в 1095–1116 гг.
(обратно)144
Диета — венгерское национальное собрание с XIV по XIX в.
(обратно)145
Первая строка католической молитвы.
(обратно)146
Минь Жак Поль (1800–1875) — французский издатель средневековой литературы, аббат. Его основной труд «Патрология» состоит из двух серий: латинская серия содержит сочинения церковных авторов II — нач. XIII вв., греческая — сочинения православных (греческих) авторов до XVI в.
(обратно)147
Гадур — древневенгерский бог, неоднократно упоминавшийся в произведениях романтиков (первая треть XIX в.).
(обратно)148
Кольца имеют свою судьбу (лат.). — перефразировка латинской пословицы: «Книги имеют свою судьбу».
(обратно)149
Аргумент к человеку (лат.).
(обратно)150
Д’Аннунцио Габриеле (1863–1938) — итальянский писатель, изощренный стилист.
(обратно)151
«Местные ведомости» (венг.).
(обратно)152
Отъявленный, всем ворам вор (лат.).
(обратно)




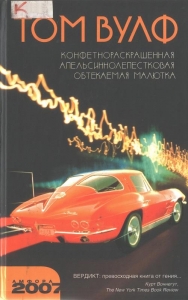

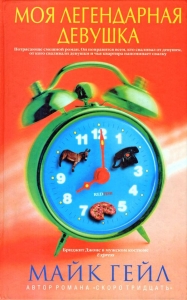

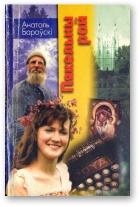

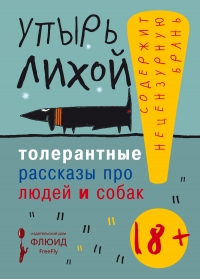
Комментарии к книге «Дочь четырех отцов», Ференц Мора
Всего 0 комментариев