В романе переплетаются две сюжетные линии. Одна — обычная трудовая жизнь со слезами и улыбками. Вторая — духовное возрождение, без которого жизнь бессмысленна. И только в духовном возрождении возможна победа слабого человека, на которого направлена огромная мощь разрушения. Читатель познакомится с обычными на вид людьми, которые на своих плечах несут жизнь вселенной. Они — соль земли, они — созидатели. Дмитрий, преуспевающий чиновник министерства, внезапно уходит с престижной работы. Он окунается в штормовую стихию стройки. Её суровые волны одних швыряют в грязь, других поднимают в Небеса. Дмитрий сумел выстоять, с самого дна взойти на Небо. Такие как он — строители в высоком смысле этого слова. Они созидают новую жизнь. Они поднимают из руин не только Россию, но и собственные души. Это очень нелегко, но так радостно!
Александр Петров ВОСХОЖДЕНИЕ роман
Вот, Я посылаю вас, как овец среди волков: итак будьте мудры, как змии, и просты, как голуби.
Мф. 10, 16
Господи, искусил мя еси и познал мя еси.
Пс. 138, 1
Близ Господь всем призывающим Его,
всем призывающим Его во истине.
Пс. 144, 18
Глава 1. Линия. Прерывистая
Исход
Дубовая дверь начальственного кабинета мягко закрывается. Я уже не вижу ее символического величия — она скрывается за моей спиной. Все, что остается там, сзади, стремительно уносится в прошлое.
Неслышно ступаю по ковровым дорожкам, шагаю, нет — плыву, не чуя под собою ног, вперед, только вперед. К свету, к солнцу, к свежему ветру — туда, где жизнь полна созидательного смысла. Зеркала, мраморные стены, полированные золотистые поручни отражают мою довольную физиономию, ослепительно сияющую над темными очертаниями строгого элегантного костюма. На ходу развязываю галстук, сдергиваю эту постылую удавку с шеи и расстегиваю жесткий воротник сорочки.
Мимо вельможных мужей, обремененных властью; мимо девушек-секретарей, легких и изящных; мимо доски судьбоносных приказов, мимо доски почета и всеобщего уважения, мимо энергичных молодых управленцев с сильными локтями — мимо власти и почестей — вниз по лестничному маршу, в распахнувшиеся передо мной входные двери схожу на залитый солнцем асфальт — твердь моей опьяняющей свободы.
А здесь!.. Синее небо высоко и бездонно, как мои надежды. Кудрявая зелень деревьев свежа, как вскипевшая во мне молодость. Потоки несущихся машин стремительны и насыщенны, как мои мысли. Седые кремлевские стены поодаль устойчивы и несокрушимы, как мои намерения.
Рухнули ветхие застенки бессмысленности, тяжкие оковы самодовлеющих условностей. Свобода! Ты сладостна и свежа, как молодое вино. Впереди — свет, радость, буйная бесконечная весна!..
Куратор
Время — таинственно и непостижимо. Оно существует для нас всегда только сейчас, но пожинает плоды прошлого и сеет будущее. Иногда оно растягивается и разжижается, а иногда сгущается до предела выносливости. А иной раз его закрученная спираль стягивается в такой тугой узел, что в один миг и прошлое, и будущее рождают в настоящем самое главное событие в жизни человека.
Нам не известно, какое событие перевернет жизнь. Никогда мы не узнаем заранее, какой человек решительно изменит нашу судьбу. Не всегда самые главные события нашей жизни происходят под рев фанфар и барабанный бой. Часто нам кажется, будто какая-то случайная, а порой и комичная ситуация, — это так, мелочь. А вон тот человек и вовсе лишь зря отнял у нас время. Только оглядываясь назад, спустя годы, прихожу к неожиданному выводу: ни единого лишнего мазка не было на том полотне, которое писал вместе со мной Великий Художник. Поэтому с некоторых пор с уважением и предельным вниманием начинаю относиться ко всему что со мной происходило, учитывая, что судьба — это суд Божий, который вершится каждый миг, каждой встречей, событием…
Впрочем, у нас тут кое-что происходит. Простите, я прервусь на минутку…
…Багровый закат заливает кровавыми подтеками горизонт.
Он отражается в холодных черных зрачках Джеймса Бонда.
Кажется, ничто не может остановить его неумолимого стремления к цели. При каждом движении его мощного пластичного тела там, под черным фраком с белой манишкой, перекатывается мягкой раскаленной сталью звериная сила. Перед решающим рывком он напружинивается, превращаясь в натянутый лук, наконец, тетива испрямляется и выпускает стрелу к цели. Волосатая его лапища готова схватить вожделенный объект… Но недрогнувшая рука затаившегося во тьме врага наносит упреждающий удар. «Ияяяууу!», — вопит Джеймс Бонд от оскорбительной плебейской оплеухи и с грохотом отлетает в угол.
— Что, враг народа, опять провокация не удалась? Иди мышей ловить, паразит, нечего сервелат со стола таскать!
Кот отвечает из темноты зеленой вспышкой глаз и затихает на своем коврике в углу. Фомич возвращается к стакану, нижняя губа — философски оттянута, в глазах — влажная печаль. Глотает, жует и продолжает:
— Спиридоныч — тот человек был обстоятельный. Подойдет ко мне, бывало, протянет свою фляжку, хлебнем с ним по-братски… Потом обойдет он мою теплокамеру. А я там вместо перемычек обрезки свай уложил. Экономия!.. Рацпредложение. Посмотрит, старик, полюбуется… А потом и говорит: «Ум у тебя, Фомич, с искоркой!». Так вот и говорил мне… каждый день. А этот, — Фомич кивает в сторону заката, — Игорёк, который все обнюхивает, обнюхивает…
Да чего там нюхать! И так вся контора знает, что после восьми от Фомича пахнет пивом. Или вином. Или водкой. Ну, в крайнем случае, коньяком… Как гласит закон Фомича, все, что способствует рост производительности труда, не может осуждаться начальством.
— Так вот и говорил: «С искоркой»…
Голова Фомича плавно опускается на согнутое предплечье. Ровно через двадцать минут, что бы ни случилось, она поднимется, и ее хозяин продолжит свой вялотекущий рассказ. Мстительно выждав отступление противника, Джеймс Бонд стремительно прыгает на стол, цепляет когтем кусок колбасы и, басовито мявкнув, растворяется в темноте. Дождался-таки своего часа.
Наступает чудесное время — несколько десятков минут абсолютного покоя, когда дела отложены в сторону, телефон умолк, жажда и голод, давившие на психику и желудок, утолены. Можно подумать, послушать тишину, отдохнуть…
Вот уже почти месяц я работаю «на линии», то есть на стройке. Уютный кабинет в главке сменил на кирзовые сапоги прораба. До сих пор не знаю, правильно ли я поступил. Порой накатывает отчаяние и ностальгия по сытой чиновничьей карьере. Сейчас мне достается со всех сторон: прорабы сторонятся, рабочие насмехаются, начальники пристально изучают.
Такого здесь еще не бывало, чтобы не последний чиновник главка добровольно ушел на линию. С первого дня мне задают вопрос, за какие такие грехи меня оттуда выставили. Я точно знаю, что начальник конторы, тот самый Игорек, звонил в главк и выяснял всю мою подноготную, только придраться в моей трудовой биографии не к чему. К своему сожалению он выяснил, что последние четыре года моя физиономия не сходила с доски почета, а в резерве на повышение я стоял на должность заместителя начальника управления, не говоря уже о благодарностях и премиях…
…А в это самое время где-то очень далеко среди олеандров и пальм на подстриженном газоне в шезлонге полулежит молодой мужчина и печально созерцает сверкающую поверхность голубоватой воды в бассейне. Жаркое солнце слепит и томит его. Холодный чай с лимоном и льдом не может утолить его жажды. Ни восхождение по лестнице карьеры, ни красавица-жена, ни просторный дом в престижном районе — ничто не радует человека…
В последнее время часто вижу эту картину внутренним зрением. Не знаю, кто он и где это, но каким-то образом вижу.
Иногда меня этот непрошеный гость раздражает, чаще же просто скользнет по верхушке сознания и бесследно улетучится. Я не принимаю и не отвергаю этого видения. Пусть плавает в собственном соку до случая. Хотя иногда кажется, что этот парень еще появится на моем небосклоне.
С тех пор, как я перешел на новую работу, постоянно чувствую потребность посоветоваться с лицом духовным. Я еще не освоился на новом месте, возникают ситуации, с которыми самому разобраться невозможно. Жалко и себя, любимого, потому как в таких случаях выгляжу недотепой для мирян и соблазном для христиан. Легко впадаю в панику, ругаюсь, как сапожник, перенимая у рабочих не лучшие слова и образ поведения. Вот и выпивать стал едва ли не каждый день.
Увы, господа, линия, а по-вашему, стройка, как вокруг оси, вращается вокруг водки. Впрочем, почему только водки? Еще вокруг воровства. Причем воровство здесь вполне узаконено, вменяется в перечень твоих обязанностей и часто называется вполне пристойно: работа с заказчиком …или с механизацией, или с инспекцией. И попробуй только не налить тому же инспектору: с его стороны не замедлят последовать пакости, в которых обвинят тебя же первого. Потому как ты прораб и отвечаешь за все, происходящее на вверенном тебе объекте. Вплоть до уголовной ответственности.
Прихожу в храм, пытаюсь приблизиться к батюшке, а он от меня как от чумного убегает. То не прорвешься к нему сквозь толпу, то уходит он каким-то потайным ходом, то… Что же это со мною происходит?… Уже и священник виноват в моих провинностях… Увы мне, увы!… И когда только меня, гнусного, смирению-то научат? Хотя бы уж какому начальному…
…Голова Фомича медленно поднимается, стакан так же медленно описывает плавную траекторию в направлении отвисшей губы, глаза его округляются. Сейчас он похож на небезызвестного Дядю из лермонтовского «Бородина». Как-то на уроке литературы учительница вызвала меня читать заданный наизусть отрывок стихотворения. Я произнес с классическим подвыванием: «Скажи-ка, дядя, ведь недаром…», и в моей бедовой головушке возник образ эдакого Дяди: мудрого, старенького, прожженного пороховыми дымами — ну, как наш Фомич.
— Так и говорил старик Спиридоныч: «Ум у тебя, Фомич, с искоркой!..»
— Фомич, открой секрет, как тебе удалось так уютно обосноваться?
— А это, Дмитсергеич, одна из особенностей моего искристого ума. Как гласит закон Фомича, прежде чем начать выполнять план, обустрой свой быт. Или, опираясь на народную мудрость, данную нам в поговорках, прежде чем сажать огород, надо его огородить. Запиши, а то забуду, — он встает и тянет меня за рукав. — Пойдем, мил друг, я тебе свой офис в лунном свете покажу.
Пока Фомич заглядывает за ближайший куст сирени, я стою на крыльце вагончика и любуюсь окрестностями. Среди навала бетонных панелей, громадных куч развороченной земли, среди траншейного «свинороя» — офис Фомича производит впечатление оазиса чистоты и уюта. Его персональная бытовка стоит вплотную к частному домику в окружении сада, огорода и новенького штакетника. Густая сирень и развесистые яблони отгораживают оазис от окружающего «рабочего беспорядка».
Внутри офиса имеется все необходимое для долгих заседаний: холодильник, телевизор, радиола, шкафы, диваны и, разумеется, большой стол. Ноги утопают в шерстяной упругости ковров, а натруженные тела — в мягких креслах. Даже люстра над головой переливается многопудовым «русским хрусталем» и в настоящее время для придания застолью должного интима мягко освещает только небольшой круг на столе. Все остальное погружено в уютный полумрак.
Фомич занимает свое место и совершает дежурный глоток, затем прислушивается к тишине и пророчески произносит:
— Чует мое надорванное выполнением плана сердце, что эта тишина ненадолго. Ты, Дмитсергеич, не сочти за труд, подрежь закусочки. Пригодится.
Не успеваю закрыть холодильник, как в офис с треском вламываются трое мужчин. Они уже переоделись «в чистое» и собираются домой. Люди эти не «из наших», а субподрядчики. Разумеется, ведут себя они без должной учтивости, не обременяя себя правилами приличия и изысканностью речи. Улучив момент, когда они что-то увлеченно обсуждают между собой, активно наливая и закусывая, Фомич склоняет ко мне большую голову и шепчет: «Пусть все вокруг горит и воет, а мы в спокойствии с тобой. Запиши, а то забуду».
Пожалуй, это свойство куратора самое ценное. Он умеет подняться над суетой и не дать ей проникнуть внутрь. Вот и сейчас у меня в душе закипает раздражение от наглости непрошенных гостей. Фомич же глядит на них, как добрый папаша на шаловливых детей и даже вставляет в бурный поток их сквернословия свои глубокомысленные «ну, надо же», «это они не правы», «не бери близко к сердцу», «все будет хорошо». В такие минуты и я себя чувствую дитём неразумным и восхищенно взираю на мудрого Фомича.
После удаления шумной ватаги снова наступает тишина. Видя мою усталость, хозяин звонит «на женскую половину» и вызывает «стюардессу» Тоню. Входит девушка необычайной южнорусской красоты и, мягко ступая, наводит порядок вокруг нас. За считанные минуты она успевает пропылесосить ковер, навести порядок на столе, а также выстрелить в меня обойму бронебойных взглядов своими карими сверкающими очами. Хозяин удовлетворенно кивает и указует на одно из свободных кресел. Девушка безропотно садится. К ней на колени запрыгивает Джеймс Бонд и принимается громко мурлыкать.
— Ты не боись, при Тонечке можно говорить обо всем, — хрипит куратор. — Моя школа. Она — мой последний шанс уладить трудное дело. Думаю, ты абсолютно уверен, что Тонечка уже втюрилась в тебя и готова закрутить с тобой роман. Как не так! Вот сейчас прикажу тебя под бульдозер сунуть — рука ее не дрогнет.
— А ты что, пробовал уже? — спрашиваю хозяина, отодвигаясь от Тони. — Ну, приказывать?
— Я что дурно воспитан? Скажешь тоже, срам слышать такое! Я просто человека, в данном случае легкотрудницу эту, насквозь читаю. Опыт! Вот. Запиши, а то забуду. Я сейчас…
Голова его снова медленно опускается на согнутую руку. Следующие двадцать минут мне предстоит провести наедине с этой суровой дамой. Повисает мертвая тишина. Девушка исподлобья насмешливо поглядывает на меня. Я сосредоточенно изучаю масляное пятно на своем колене, пытаясь унять неприличное для моего возраста сердцебиение и забытую дрожь правой нижней конечности.
— Да не бойтесь вы, Дмитрий Сергеевич, — звучит контральто девушки, — бульдозер сегодня увезли на третий участок.
— Это, безусловно, радует, — выдавливаю из горла словесный сгусток.
— А можно спросить кое о чем?
— Ну, да… — пытаюсь всеми силами бороться со ступором.
— А чего это вам в главке не сиделось? Или сотрудницы съели?
Говорить о подробностях сейчас не очень хочется. А внести какую-то ясность нужно. Поэтому пытаюсь облечь свое появление на линии ореолом романтики.
— Представьте себе, Тонечка, — вещаю, как с трибуны, — приходишь на работу, садишься в кресло и планируешь рабочий день. И вдруг понимаешь, что каждый день у тебя одно и тоже: они тебе — дай, а ты им — не положено. Они — чем тебя купить, а ты им — не продаюсь. Они смотрят на тебя, как на идиота, а ты мысленно соглашаешься. И так каждый день…
— И что же, ничего интересного не случалось? — спрашивает девушка.
Конечно, случалось! Такие вещи случались, что и в страшных снах не привидится… Только вспоминать об этом — ужас как неохота. Так что лучше умолчим. Вслух отвечаю:
— Интересного? А как же! Выходные, например.
Тоня задумчиво качает ножкой. Вполне допускаю, что делает она это не нарочно, но мне от этого не легче, потому что покоя нет.
— А раньше вы на линии работали?
— Приходилось. Только было это в другие времена, как будто и не со мной.
— Тяжело вам сейчас, Дмитрий Сергеевич? — сочувственно произносит эта чуткая девушка. Именно этого мне так не достает. О, женское сердце не проведешь. В этом вопросе. Она уже знает, что я к ней неравнодушен. Только не знает, бедная, насколько ей со мной невыгодно общаться. А то бы давно бросила это непутевое занятие.
— Да ничего, терпимо, — бросаю небрежно. — В конце концов, знал, на что шел.
— А вы женаты? — вполголоса выдыхает девушка.
— Женат, Тонька!.. В том-то и дело, что вдрызг женат твой воздыхатель! — хрипит, поднимая голову, Фомич, озирая мутными глазами свои владения.
— Ну тебя, Фомич!.. — пытается встать легкотрудница. Но длинная цепкая рука начальника возвращает ее на прежнее место.
— Команды покидать рабочее место не было. Ты вот что… Сейчас опять кто-нибудь нагрянет, я это нутром чую. Так ты, Тончик, в случае чего помоги быстрей от досужего народа избавиться. Старость — она покой любит. Запиши, а то забуду.
И точно, дверь с грохотом открывается, и бочком, как цирковой медведь во время кувырка, вваливается начальник моего участка. Участковый. По правде сказать, с начальником мне повезло. В этом человеке всего много, хватило бы на двух нормальных людей. Без малого двухметрового роста. Плечи шириной — как я в длину (если меня положить). Шея — как у меня, скажем, грудь, а лицо… в общем, пропорциональное остальному. Короткая стрижка сделала бы его похожим на громилу, если бы не добрейшая улыбка, в которой читается самоирония: простите, мол, меня, такого большого.
Но самое главное — это его умение держать удары судьбы, как-то: выговоры начальства, насмешки подчиненных, многодневную нервотрёпку, большой спиртовой литраж… Однажды прораб нашего участка Тихон, рассказал, как участковый взялся за порванный высоковольтный кабель под напряжением. Искры, вспышки, фейерверк! — а тот лишь побледнел — и хоть бы что… На ладони осталась пара легких подпалин, и все.
…Итак, входит мой начальник, и сразу становится тесно, и вовсе не потому что бытовка мала.
— Хватит, ребятки, третий день водку дуть и разговоры разговаривать. Отбираю у тебя бесплатные уши, Фомич. Завтра едем с Димой принимать новый объект.
— Василий Иваныч, такое событие требуется обмыть, — обстоятельно поясняет тонкости протокола Фомич, солидно кивая головой.
— Это можно… — покорно соглашается начальник и бережно садится на стул. Когда он убеждается, что стул, хоть со скрипом, но держит его супертяжелый вес, оборачивается ко мне. — Чтоб не забыть, Сергеич, завтра утром сиди в диспетчерской и жди меня до упора. Будут на объект выгонять — сиди насмерть, говори всем, что я приказал. — Потом Фомичу: — Поехали, аксакал…
Когда встречаются начальник с куратором, все остальное становится как бы не в счет. Поэтому мне вскорости удается сбежать.
Дома, то есть в комнате общежития треста, переодевшись, сажусь на стул и погружаюсь в тяжкую думу. То, что со мною творится в последнее время, напоминает сползание в пропасть. А самое страшное, что я даже не пытаюсь остановиться. Вот и сегодня: выпил немало водки, наслушался и мысленно повторил за говорящими целый поток сквернословия, флиртовал с женщиной… Но какова! Красавица чистейших казачьих кровей! «А она такова, какова она есть, и больше никакова».
Ох, мне бы сейчас помолиться, да нету сил. Вправду говорят, если Господь хочет наказать грешника, то в первую очередь отнимает молитву. Вот он, мой молитвослов, лежит себе, пылится на тумбочке, как чужой. Сколько раз в последние дни заставлял себя открыть его. И даже руки свои грязные протягивал, но… Словно какая-то невидимая сила бьет по рукам, и они падают, как высохшая лоза. Некоторые молитвы удалось когда-то выучить, но как правило выполнять — память обнуляется. Да и откуда взяться молитве, если я каждый день приплетаюсь в свою каморку с половиной литра водки в желудке?
Тут ведь какой вывод интересный напрашивается? Отповедь клеветникам, обвиняющим русский народ в исторически узаконенном пьянстве. Спрашивается, как можно русскому мужчине пьянствовать, когда ему каждый вечер стоять на молитве? А рядом перед иконами семья: жена, детишки, мамаша старенькая. И он, как отец семейства, по старшинству читает молитвы на сон грядущим. Да разве можно произносить священные слова молитвы заплетающимся языком? Срам это, в первую очередь перед Тем, Кто с иконы смотрит прямо в душеньку. Стыдно и перед домашними, особенно детьми: им рта не закроешь, они по своей простоте скажут пьяному папане все, что думают. Так что, господа русофобы, выдумать эдакую клевету способен лишь тот, кто сам никогда русским мужем не был, то есть не стоял перед Господом с семьей на молитве.
Поднимаю глаза к иконе Спаса Нерукотворного. Встречаюсь с пронзительным взором Господа и стыдливо опускаю глаза. «Господи, Иисусе Христе, Ты видишь, какой я плохой, не оставь меня, грешного!» Вот и вся моя молитва на сегодня. Да…
Один день с Василием Ивановичем
Как приказано, сижу с восьми утра в диспетчерской и под щебетание Риты листаю деловой блокнот. Помимо расчетов кубометров бетона, тонн арматуры, потребности в механизмах и транспорте здесь встречаются лирические заметки вроде: «погода сегодня невыносимо солнечная для аврала», или: «указать Маргарите на несоответствие ее очарования служебному положению». Выписываю на листочек свою заявку, придвигаю поближе к Рите. Она кивает и, не глядя, сметает ладошкой документ в ящик стола. Интересно, читает она мои послания, или же все отправляет в мусор?
Рита уже обзвонила всех диспетчеров, отругала участковых и прорабов, пококетничала с каким-то доктором, выпила две чашки чая с конфетами. Теперь рассказывает, как Юра сдавал в техотдел материальный отчет. Круглое лицо ее напоминает чайное блюдце, в котором плавают хитрющие глазки, носик уточкой и улыбчивые губы. В данный момент ее почему-то смешат издевательства чересчур строгой Оли над задерганным участковым.
Слушаю, киваю, сочувствуя Юре, а сам гляжу в окно и жду появления начальника. Рита замечает мое беспокойство и переключается на Василия Ивановича, который опаздывает минут на сорок. Острый женский язычок проходится по объемной личности участкового самурайским мечом. Сейчас звонко произносится фраза: «Этот алкаш выдул здесь у меня литр водки и, как ни в чем не бывало, потопал на оперативку, представляешь?»… Честно сказать, я не представляю, как это возможно… Ну, да ладно, пока все это эхом отдается в моих ушах и не желает проникать в сознание, во дворе появляется громоздкая фигура Риткиного подсудимого.
У Юркиной бытовки он останавливается. Смотрит на часы, потом на бытовку, снова на часы… Поднимает глаза к бдительному окну диспетчерской, узнает мою физиономию, напоминающую, должно быть, морду собаки, привязанной у входа в магазин, загадочно улыбается и решает внутренний спор в мою пользу: то бишь, направляется к нам.
Через минуту дверь открывается и появляется он.
— Ритуля! — грохочет он во всю глотку. — Почему здесь мои бездельники околачиваются? Почему не гонишь на объекты народного бесхозяйства план выполнять? Для чего я тебя тут посадил? А?..
— Ой, Вася, скажешь тоже, — Рита смешивается от неожиданного выпада, поправляя прическу.
Я с трудом подавляю желание встать и вытянуться в струнку. Огромная лапища бережно пожимает мою костлявую кисть. Начальник участка удовлетворенно отмечает наше ошеломление и грузно садится в кресло. Трагически сопит.
— Где моя машина? — вспоминает он, наконец.
— За бетоном отправила.
— А я просил? — гремит вскипевшее возмущение.
— Да вот подумала, что ты все равно опоздаешь после вчерашнего, — нагло улыбается Рита, — поэтому решила: пускай самосвал пользу принесет, чем стоять тут и раздражать Евгеньича. Он, кстати, уже интересовался, где наш передовик.
Начальник сопит, вздыхает, снова сопит, потом поворачивается ко мне и приказывает:
— Ее не слушай. Идем со мной. Прикинем план работы.
— Не ходи Сергеич, а то с утра пьяный будешь.
— Гнусная клевета, — отмахивается начальник и направляется к двери. — Выходи на улицу, жди машину, — ворчливо наставляет меня шеф. — Как появится, пусть ждет меня за забором. Я в бытовку: освежиться.
Начальник удаляется, я же выхожу на дорогу и высматриваю оранжевую кабину «Камаза». Спустя пару минут машина выруливает из-за угла и, не обращая внимания на мои команды, заезжает во двор конторы.
Забираюсь в кабину и краем глаза наблюдаю угрожающее сверкание позолоченной оправы из окна Евгеньича на втором этаже. Хлопаю дверью и спрашиваю, почему шофер не остановился. Тот читает газету и на мои слова никак не реагирует. К этому мне предстоит еще привыкнуть. Как учит Фомич, человек — материя тонкая. Перед тупой мордой самосвала, выкрашенной в ядовитый апельсиновый тон, появляется порозовевший Василий Иванович, жестом приказывает опустить стекло.
— Еще раз уедешь без моей команды — лицо набью, — обаятельно улыбается он шоферу, добившись в ответ легкого покачивания краем газеты. Потом уже мягче обращается ко мне: — Посиди, Димитрий, минуточку, я сейчас.
Начальник задумчиво глядит на Риту, которая из-за окна отчаянно машет руками в сторону ворот, делает страшные глаза, трясет кулаками и крутит пальцем у виска. Он весело подмигивает мне, подходит к открытому окну диспетчерской и, сыто щурясь, произносит:
— Ритуля, когда я на днях вступлю в должность начальника конторы… Я тебя здесь, во дворе, всенародно высеку стропом типа «Паук». А сейчас дай мне конфетку и позвони Юрке. Обрадуй бедолагу, что мы скоро будем. Выполняй.
Пока участковый ловит конфету и резво прыгает на сидение рядом со мной, пока машина разворачивается — мы с Ритой, разинув рты, смотрим на Василия Иваныча и пытаемся осмыслить сказанное.
Итак, самосвал несется по улицам города с превышением скорости, игнорируя красный свет и свистки гаишников. Одно удовольствие ездить на такой машине. Здесь комфорт, как в такси, только сидишь намного выше, поэтому и обзор отличный. Очень приличная машина, если забыть о цене ее машино-смены. Впрочем, рядом с начальником передового участка думать о накладных расходах неуместно. Тем и замечателен Василий Иванович, что не смотря на убыток, план участок перевыполняет именно за счет талантливой работы с заказчиком. И, наверное, еще по причине всеобщей любви к этому богатырю.
Попутно сворачиваем на бетонный завод, минуя длинную очередь тягачей. Благодаря симпатии работников полигона к «Васе», загружаемся теплыми бетонными блоками. Вообще-то, грузить железобетон в самосвал запрещено, да и ездить с ним по городу на виду гаишников также не рекомендуется, но мы ездим и ничего… Выезжаем из ворот с перегрузом, о чем говорят тяжелый ход, рокот двигателя и ворчание шофера. Приезжаем на строительство частных коттеджей, сваливаем блоки, Василий Иванович, не выходя из кабины, берет протянутые деньги из рук охранника в камуфляже и, махнув на прощание рукой, командует водителю ехать «к Юрке».
Я гляжу на часы, время упорно подходит к обеду, а мы еще и не приблизились к моему объекту. Юра, начальник второго участка, встречает нас у прорабской, где он разглядывал чертежи для разговора с субподрядчиком. Судя по всему, тот требует передачи ему стройчасти венткамеры под монтаж стальных коробов. По чертежам сплошь и рядом короба эти натыкаются на трассы водопровода или кабеля, пересекают несущую арматуру и вообще ведут себя неприлично. Все это требует согласований, что целиком лежит на плечах генподрядчиков. Работы невпроворот, но все-таки Юра, увидев нас, отрывается от дел и уделяет нам время.
Как водится, встреча высоких сторон происходит за столом с обязательной бутылкой водки. Пока Василий Иванович делится с коллегой планами конторского переворота, мне удается кое-что выяснить. Во-первых, начальник второго участка Юра выпивает чисто символически. Во-вторых, бытовка содержится в чистоте, да и сам он выглядит аккуратно и даже при галстуке. В-третьих, чертежи развешаны именно так, чтобы с ними работать, а не глазеть впустую. А еще я несколько раз ловлю на себе его проницательный взгляд, приглашающий к сближению.
После застольных дебатов мы обходим аккуратную стройплощадку с трезвыми и рабочими, знающими свое дело. Василий Иванович, видимо, любит Юру и уважает его порядочность, но всю дорогу посмеивается, называя то «брюзгой», то «интеллигентом». На прощанье я получаю от Юры приглашение звонить и заходить при случае и без случая. Василий Иванович ревниво сопит. Да я еще подливаю масла в огонь, нахваливая Юру. Знать бы, что зреет в голове моего шефа, сомкнул бы уста свои.
А вот и мой объект: за гнилым забором в оплывшей яме зияют криво разбросанные фундаментные блоки. У въезда стоят две облупившиеся бытовки. У меня резко портится настроение. Также портится погода: солнце скрывается за серые тучи, поднимается ветер. Нам навстречу выбегает чумазый мужик в дырявой телогрейке.
— Знакомься, Димитрий, этот чудик — твоя правая рука и бригадир Петька, — сквозь недовольное сопение произносит шеф.
Мы с Петром пожимаем руки и обмениваемся испытующими взглядами. Разумеется, вслед за ритуалом знакомства следует приказ начальника встретить гостей «как положено». Бригадир подзывает худющего малорослого рабочего Костю и сует ему измятые денежные знаки. Тот, радостный, убегает.
Чтобы чем-то заняться до застолья, совершаем обзорную экскурсию по объекту. Все здесь в упадке и разрухе. Насколько я понимаю, нам с Петром предстоит завершить монтаж фундаментных блоков, начатый давным-давно и не совсем удачно. А для начала придется готовить площадку под гусеничный кран.
Иду по колено в грязи, огибаю торчащую арматуру, обхожу свалки мусора, отовсюду слышу бранную речь, надо мной — серое тягостное небо, порывами задувает пронизывающий ветер. Но сквозь всю эту неурядицу поддерживает меня — видение из мира неведомого…
…Село на берегу раздольной Волги. В тихой воде отражаются белая свеча церкви, крепкие избы с веселыми наличниками. Поля здесь покрыты сочной зеленью. Цветы там и тут полыхают яркими огоньками. Садовые ветви отяжелели от налитых соком плодов. Под каждым деревом, кустиком да лопушком лес таит багряно-золотые ягодные и грибные дары свои, благоухающие то хвойной смолой, то листвяной прелостью, то парными манящими соками плодоношения. Вольно пасутся здесь гладкие резвые лошадки. Стада коров бредут по изумрудным сытным пастбищам на водопой к тихому затону, где загорелые мальчишки с облупленными носами и яркими конопушками на круглых физиономиях удят рыбу, внимательно глядя на ровное зеркало воды с торчащими из нее поплавками. Иногда они отрываются от безмятежной воды и поднимают глаза к бездонному небу, в котором зависли пышные перья облаков, носятся стрижи и застыл в сторожевом парении коршун…
В моей новой бытовке имеется стол с телефоном. Участковый звонит заказчику и предлагает разделить трапезу. Гонец и заказчик входят в прорабскую одновременно. Я знакомлюсь с Александром Никитовичем, который обещает помощь в пределах полномочий заместителя директора завода.
Выясняется, что завод не слишком-то богатый, но все-таки на что-то способен, раз имеет собственное жилищное строительство. Заказчик обещает закрепить за мной «Камаз» с шофером Васей и вообще помогать техникой, рабочей силой и снабжением. Василий Иванович кивает головой и напоследок заявляет, что если помощь заказчика будет вялой, он сразу вспомнит, что объект внеплановый и людей снимет. Заказчик уныло глотает угрозу, за что ему подливают успокоительного. Потом втроем изучаем чертежи, потом снова посылается гонец. Обсуждаем вопросы с бригадиром.
Потом идем к заказчику домой. Живет он в бараке, что рядом с объектом. Там снова садимся за стол, уничтожая запасы домашних котлет и помидоров. Так бы мы, наверное, и гуляли до глубокой ночи, если б не появилась на кухне плечистая женщина с круглым бесстрастным лицом.
Саша, покачиваясь, встает и представляет супругу Надежду, которую вывез с берегов могучего Енисея. Супруга заказчика ведет себя нетипично: она молча ставит перед нашими бурыми официальными лицами по тарелке густых щей, которые мы хлебаем с неожиданным аппетитом. После выходим подышать на улицу.
Здесь с неподдельным интересом наблюдаем аварию: наш панелевоз не вписался в поворот и задним колесом въехал в сточную канаву. С завода Петро пригнал автокран. Но поднять задний мост панелевоза мешают провода. Василий Иванович с Сашей отстраненно наблюдают крушение и обсуждают важный вопрос: сколько участковый способен выпить.
Водитель панелевоза кричит на Петра. Громко и нецензурно. Тот пальцем показывает то на Василия Ивановича, то на меня. Водитель вприпрыжку подбегает к нам и орет, что у него график, что у нас пути подъездные неправильные, что у него катастрофа, а мы не чешемся.
— Никитич, ему лицо набить или стакан налить? Как ты думаешь? — задает вопрос участковый.
— Гуманней, конечно, налить… Впрочем, если он также нахально будет мешать нашей культурной беседе… То я за тебя, Вась, не ручаюсь!
Крановщик, рыча, совершает еще одну отчаянную попытку поднять задний мост. При этом стрела крана касается проводов. Вспыхивают и летят в разные стороны обильные искры. Собравшиеся мальчишки приходят в восторг. Нижний провод рвется и двумя обрывками уныло «клюет» в канаву. Но задний мост все же поднят. Водитель прыгает на сидение и рывком бросает машину вперед. Тросик, держащий панель, лопается, и панель падает в канаву. Это повергает публику в еще больший восторг. Зато панелевоз свободен и уезжает на разгрузку. У меня перед глазами все плывет, как в тумане. Кажется, толкни меня ― и я следом за панелью улечу в канаву. Василий Иванович подзывает Петра и грозно командует:
— Оградить, вызвать аварийку, панель складировать в проектном месте. Затем с размахом обмыть, но в вытрезвитель не попадать. Деньги на всю эту операцию получить у заказчика. Исполняй.
Александр Никитович со вздохом достает деньги и протягивает Петру, который не веря своему счастью, прижимает их к сердцу и стремительно исчезает.
Затем, как сквозь вату, прослушиваю заверения в уважении и взаимопомощи. Это в свою очередь требует закрепления новым «впрыскиванием». Александр Никитович тащит нас в свою черную «Волгу», в бардачке которой «случайно завалялась» бутылка. Я пытаюсь отказаться, но мой начальник вливает в меня содержимое стакана насильно. Жидкий яд сообщает мне всплеск активности. Я ору во всю глотку: «Юра! Где ты? Хочу к тебе!» Мои мучители рассуждают, что бы это значило, затем тащат меня под руки в рыжий самосвал, подсаживают на сидение и приказывают водителю отвезти меня домой. На прощанье слышу, что молодежь пошла не та. Не то, что старая гвардия!..
Всю дорогу канючу, что домой мне не надо, а надо увидеть участкового Юру. Это водителю быстро надоедает, и он привозит меня на чистенький объект. Юра, ничуть не удивляясь, подхватывает меня и помогает дойти до бытовки. Там он тащит меня к умывальнику, умело опорожняет желудок, помогает раздеться и заталкивает в душевую под струю холодной воды. После этих манипуляций ко мне возвращается способность мыслить и прямо сидеть. Только усталость и тяжесть в голове напоминают о прежнем состоянии.
И вот я пью крепкий чай с белым хлебом, намазанным толстым слоем сливочного масла, и благодарно смотрю на улыбающееся Юрино лицо. Он говорит, что пить с Васей наравне — опасно для жизни, потому как тот выпить может раз в пять больше смертельной дозы, которая для среднего европейца, как известно, составляет четыреста граммов чистого спирта или литр водки. А у «Васи завтрак, обед и ужин — все в один стакан». Сам Юра принципиально выпивает в день не больше трех рюмок водки, тщательно закусывая. И все уже знают, что требовать от него выпить больше — бесполезно.
Затем он отвозит меня домой и укладывает спать. Рядом со мной на тумбочку ставит открытую бутылку минералки, желает спокойной ночи и, погасив свет, уходит. Под грохот сердца и шипение минералки лежу в полном изнеможении, с трудом свинцовой рукой крещусь, хриплю «Господи, помилуй» и проваливаюсь в темный омут сна.
После карусельного вращения в мутных водах меня выносит на громадное поле. Я лежу среди множества раненых и убитых. В сером небе кружат и кричат черные птицы, похожие на ворон, только больше. Пытаюсь подняться, но мое тело пронзает острая боль. Сумел только увидеть, что на мне нет живого места. Рядом вижу такого же израненного Юру, который говорит: «Помни, стрелять в себя можно только тремя пулями в день. И ни одной больше!» На нас планирует стая черных птиц и приступает к трапезе, вырывая клювами куски наших тел. Я кричу: «Господи, помилуй!» — и птицы в разлетаются. Юра говорит: «Чего шумишь, глупый, им ведь тоже покушать хочется, — и ласково обращается к птицам: — Приятного аппетита, голуби мои». Я кричу: «Юра, они же тебя почти всего съели, гони их!» А он только улыбается: «Ничего, вон еще сколько осталось, пусть кушают». Вижу, что он не в себе, и кричу во весь голос: «Господи, спаси Юрия! Не ведает, что творит!»
Просыпаюсь от собственного сдавленного мычания. Сильно хочется пить. Нащупываю в темноте бутылку минералки и жадно пью. В голове звучат слова: «Здесь жажду утолить можно, а там уже не удастся». Трижды шепчу «Отче наш» и снова засыпаю.
Работа с заказчиком
Утром принимаю холодный душ, пью крепкий чай и, как тяжелораненый, на ватных ногах плетусь в контору. Рита глядит на меня и сочувственно кивает головой:
— Предупреждала же я тебя, Сергеич, не водись с большими нехорошими дядьками! Звонил твой заказчик и спрашивал адрес, куда машину подать. Так вон твое такси. Видишь красную кабину? Садись и дуй на объект, а то сейчас главный проверяльщик зайдет.
— Понял. Благодарю, — едва ворочаю шершавым языком, киваю тяжелой головой и удаляюсь.
«Камаз» с красной кабиной стоит в самом закутке двора. Машу водителю рукой, и он подгоняет машину ко мне. Рита выглядывает в открытое окно и хвалит меня за успехи в дрессировке. Пока я пытаюсь из каких-то лохмотьев, вихрем носящихся в голове, соорудить ответную фразу, в мой лоб ударяется мятная конфета, а створка окна захлопывается. Смотрю на конфету, лежащую у моих ног, и думаю, поднять или ну ее. Поднимаю, изо всех сил удерживая качающуюся землю. С трудом забираюсь в кабину. Только сел — в меня снова что-то летит. Оказывается, ладонь шофера.
— Вася, — говорит.
— Дима, — отвечаю. Потом добавляю: — Сергеевич. Слушай, Василий, давай сегодня говорить не будем — сложно мне это.
Из недавнего прошлого. Зал коллегии главка. Сижу справа от начальника управления снабжения. На моих коленях лежат карты комплектации вводных объектов — любимое детище моего отдела.
Целый год мы вводили карты, ломая сопротивление трестов. Настойчиво объясняли им, что комплектация объектов по графикам АСУС — Автоматизированной Системы Управления — даст четкий учет ресурсов, концентрацию их на важнейших объектах. Завоз материалов будет производиться строго по графику централизованным транспортом. Высвобожденные ресурсы мы направим на капитальный ремонт. По главку, материальный эффект от внедрения этой системы сулил миллионы рублей. Наконец, приказом начальника главка эту систему ввели. Обкатали ее на трех лучших трестах, и вот теперь пришло время работать по графикам АСУС всему главку.
— Да нам эти… снабженцы ваши… дом не комплектуют, гады… — запинаясь от возмущения, потрясает кулаком в нашу сторону управляющий трестом Жирин.
— Что у нас с материалами по дому три ЭМЗ? — спрашивает начальник главка.
Вот он — миг нашего триумфа. Я встаю и зачитываю данные по комплектации этого дома:
— Комплектуемая площадь 3600, укомплектовано в прошлом квартале 3400, сверх нормы получено по письмам материалов на 1160 метров квадратных. Материалы переброшены со снятого с ввода объекта треста.
— Слышишь, Жирин? Здесь вам не у Пронькиных. Комплектуем вас теперь по науке, как партия указывает. У нас тут перестройка, между прочим! А если кто не хочет перестраиваться… Вон какая смена выросла, — тычет он пальцем в мою сторону. — Есть кому ретроградов заменить. Итак, куда государственные ресурсы дел?
— Не знаю… может, снабженцы их на капремонт растащили? Сами знаете, мы уже лет десять на ремонт жилья метра линоля не получали… — нагло врет Жирин.
— Дом три комплектовался централизованно с доставкой на приобъектный склад, — бодро докладываю я. — А на капремонт трест получил материалы согласно плану, заявке и расчету в полном объеме. И переходящих материальных ресурсов у треста на 12 780 квадратных метров, что полностью закрывает все вводные объекты следующего квартала.
— Где ресурсы?!! — орет, вставая, начальник главка. Затем оборачивается к секретарю: — Назначить комиссию главка и проверить трест. На время работы комиссии Жирина отстранить от работы. А то он у нас, как непотопляемый авианосец, четырех генсеков пережил. — Садится, оборачивается к начальнику территориального управления и спрашивает: — Так что там у нас с третьим домом?
— Сергей Трофимыч, объект живой — его добивать надо! — сладкоголосо рапортует тот.
— Вот и протопай этот вопрос ножками, — удовлетворенно закрывает тему начальник главка своим специфическим говором, в котором, как в дырявой фисгармонии, можно различить и астматический свист и громыхание басов, и обязательное украинское «хэ» вместо «гэ», и люмпенское сквернословие — это, чтобы никто не обвинил в интеллигентности. И закуривает ленинградский «Беломор», модный в те времена среди высокого начальства. Курить на коллегии никому не дозволено, поэтому все курильщики, глотают слюнки. Но и это не все, что позволено начальнику главка. Рядом с татуированной кистью руки, обрамленной белоснежной манжетой с золотой запонкой, на зеленом сукне стоит стакан в серебряном подстаканнике, из которого хозяин, помешав ложечкой, смачно отхлебывает. Так вот все знают, что там не чай, а коньяк «Двин», столь уважаемый высоким начальством…
По окончании заседания коллегии, начальник снабжения Иван Семенович ведет меня под локоть в свой кабинет. В приемной собралось человек сорок столоначальников, зам-управляющих трестами — все с цветами и коробками. Сегодня Ивану Семеновичу исполнилось шестьдесят лет. Он сухо принимает подарки у опоздавших — все путевые отдарились еще с утра. Секретарша всю предыдущую неделю обзванивала тресты, чтобы не забыли поздравить и подарки — в натуральном и конвертированном виде — подвезли, как положено.
Цепляет начальник за рукав своего зама Фидера и нас двоих вталкивает в свой кабинет. Мы проходим мимо стола заседаний, заваленного подарками, и ныряем в потайную дверь, скрытую в одной из стеновых панелей. Здесь — комната отдыха, в отличие от аскетичного кабинета, отделанная в стиле Людовика Четырнадцатого. Стол сервирован в том же стиле. Иван Семенович садится в резное кресло, выпивает, закусывает и вещает:
— Не обо мне сейчас речь, ребятки. Я обеспечил себя, и всю родню на три поколения вперед. Да вы не жмитесь, закусывайте — уплачено! Так вот, молодежь, вы мне как сыновья, поэтому я перед уходом на пенсион должен вас запустить в номенклатуру. Да вы хоть знаете, что такое номенклатура? Туда трудно пролезть, но уж если попал — все, ты в дамках на всю оставшуюся жизнь. Это — квартира в лучшем районе, паек, которым можно накормить целый полк, это — закрытые санатории, больницы, поликлиники, это — персональная машина, дача…
Я слушаю своего начальника, испытывая головокружение от успехов и перспектив. В моем воображении сверкают лимузины, бриллианты, неоновые огни Парижа, Лондона, Нью-Йорка и богемных пригородов Моршанска…
— …А самое главное — уверенность в завтрашнем дне! Вы думаете, номенклатура боится перестроек? Как бы не так! Мы всегда были и будем при любой власти, потому что всем правителям нужны хозяйственники, нужны свои, проверенные в любых аферах люди. Мы — скелет нации, мы — соль земли! И вот я… слышите? Сделаю вас… этой солью.
Вася привозит меня на объект и тормозит как раз напротив входа в прорабскую. Я вхожу внутрь и вижу диво: всюду чистота, порядок и никаких следов вчерашнего погрома. И даже чайник при касании обнаруживает температуру, близкую к кипятку. Входит бригадир Петро и улыбается:
— Это наша Валентина постаралась. Говорит, что начальник у нас теперь из благородных, поэтому надо убирать справно.
— Благодарю. А теперь расскажи, как у нас идет подготовка к приемке крана.
— Да никак. Мы тут фундаменты пока чистим.
Дальше произвожу допрос о выданном бригаде задании. Оказывается, наряды не выписаны, все на усмотрении бригадира. Затем обходим объект, и я даю указания бригадиру, где и сколько людей поставить. Не хватает еще четверых. Нужен бульдозер. Вот и задачка для заказчика.
Иду к нему и разыскиваю в кабинете. После дежурного обмена жалобами на состояние здоровья «после вчерашнего», прошу его помочь людьми и техникой. Сразу, чтобы не расслаблялся, ставлю задачу на завтра: завезти щиты забора и полностью заменить старые, пришедшие в негодность. Обить их проволокой в три ряда. Александр все исправно записывает в блокнот. А по его дряблой щеке с нездоровым румянцем с широкого морщинистого лба течет струйка пота. Поднимает он на меня усталые глаза и спрашивает:
— Теперь все?
— На сегодня, да.
— Ну, ты и волчара!..
— …Я тоже тебя уважаю.
Возвращаюсь на объект, вижу — люди работают. Выходит, больше мне здесь делать нечего. Спрашиваю Петра, что нужно привезти с центрального склада. Он долго и нагло перечисляет. Дальше прошу ключ от приобъектного склада, открываю и заглядываю внутрь. Почти все, что он заказал, в наличии. Спрашиваю, зачем врал. Он, не смущаясь, признается, что часть для дома, а остальное на продажу, чтобы деньги были. Спрашиваю — для чего деньги? Он отвечает, когда приедет инспектор, то обязательно узнаю. Когда узнаю, говорю, тогда и получишь, а пока подождем. Он пожимает плечами, усмехается и спускается в котлован.
Иду к машине, шлепая по щиколотку в грязи. Сапоги я не надел: у Фомича обходился, надевая их только в крайнем случае, поэтому привычки такой пока не заимел. Надо срочно разобраться с планировкой и песочка подсыпать… В груди повисает тяжелая и липкая жалость к себе, любимому.
…Оживленная площадь в южном городе. По круговой дороге едут машины. На перекрестках важные регулировщики в белых форменных рубашках со свистками и полосатыми жезлами направляют движение машин. На самой площади в тени развесистых деревьев и на солнечных островках идет размеренная, веками сложившаяся жизнь. Даже магазины и лавки здесь такого вида, будто построены сотни лет назад из серовато-розового туфа в обязательном окружении красных цветов и кустарника с глянцевыми листьями. Площадь эта имеет центральное значение не только потому, что здесь расположены власть держащие — сюда прибывают автобусы и машины, местный народ разбирает пассажиров, сошедших с дальних поездов, запыленных тысячами километров звонких стальных дорог. Недалеко отсюда и порт, из которого тоже именно сюда стекаются люди. За поворотом направо — городской рынок, прилавки которого завалены всякой всячиной. В тени деревьев жарят шашлыки, варят кофе — и ароматы разливаются по всей площади, призывая отведать, подкрепиться, отдохнуть, на время забыв о дальнейших планах этого дня…
— Куда теперь? — слышу, как из другой жизни, голос Василия.
— Сейчас в контору… А, вообще-то, вопрос интересный.
Пират
Неделю мы с бригадой готовим объект к установке монтажного крана. Полностью заменяем забор новыми щитами, обиваем его проволокой. Бульдозер заказчика, выгребает из котлована грунт и складирует в отвал за территорией площадки. Ровняет также площадку до состояния столешницы конторского стола. В это время мы с Васей на самосвале завозим песок с набережной, где по заверению Василия Ивановича у нашей конторы имеется наряд на тысячу кубов песка. Каждый раз, когда я приезжаю на набережную, у нас с кладовщиком, по прозвищу Пират, происходит примерно один и тот же разговор:
— Ты из СМУ-14?
— Да. У нас должен быть наряд на тысячу кубов.
— Какой наряд? Кто его видел?
— А как бы мне песочка?
— Это можно.
— Сколько?
— Строго по таксе: стакан за «Камаз».
— А натурой можно?
— Лучше эквивалентом, а то разную тут натуру таскают… От иной так скрутит! Не разогнешься. Нет, лучше, браток, эквивалентом, а уж я сам… натурализую.
Достаю из бумажника деньги и вручаю Пирату. Собственные деньги. Из персональной зарплаты. А что поделаешь? Строить надо… Он выглядывает из бытовки и машет моему Васе рукой. Тот едет на погрузку, а я, как заложник, остаюсь при Пирате.
Характер этот пожилой мужчина имеет странный и неопределенный. Уж не знаю кому как, но мне в плену предлагается рюмка водки и увесистый кусок холодца с хреном под толстенную краюху бородинского хлеба. Отказываться в таких ситуациях неуместно, поэтому, мысленно читая молитву и крестя подношение, беру из комплекта только холодец и съедаю. Приметив мой аппетит, Пират добавляет еще. Повторяю процедуру.
Из недавнего прошлого. Время обеденное провожу в ресторане «Центральный» за нашим столиком. Стол этот у окна и еще кабинет зарезервированы для нашего управления главка. Чтобы сюда попасть, достаточно позвонить заму по общим вопросам, поставить его в известность — и иди себе, пьянствуй официально.
В настоящее время напротив меня сидит красный, как рак, мужчина с бегающими глазками. Зовут его Валерий Степанович. Он занимает должность зама управляющего трестом по снабжению. Одного из шестидесяти трестов нашего главка. Он выпил достаточно для того, чтобы его откровение достигло предельного уровня. Сейчас он вербует меня во внештатные сотрудники КГБ. Это уже третья попытка с его стороны, первые две не удались.
— Ты пойми, Димочка, твоя зарплата удвоится. Квартирный вопрос решится без очереди. У тебя будет даже явочная квартирка. Хочешь, девок туда води, а чё! Все мы люди… Далее. У тебя появляются связи такие, что… о-го-го! Генералы, зам-министры… И всего-то делов — информировать органы о проникновении в наши ряды буржуазной заразы. Ну, что от этих диссидентов России ждать, кроме вони и предательства? Согласен?
— Я, разумеется, как всякий порядочный человек, против неприличных запахов и предательства, — соглашаюсь я, старательно изображая пьяного недоумка.
— Ну вот! Вот ты и молодец, — разливает он по лицу радостную улыбку, а по рюмкам — коньяк. — Я тебя на той неделе с одним генералом познакомлю. Сам понимаешь, из каких структур… Так ты сам увидишь, что это за человек!
На его левый глаз наворачивается густая слеза и катится по бордовой щеке. Он размазывает ее кулаком и, всхлипывая, продолжает:
— Это не человек, Дима! Это одно сплошное золото. Ты увидишь его и заплачешь. От радости. И ты скажешь мне: Степаныч, какой человек! Какой человек!…
— Степаныч, а сколько этот человек народу в тюрьмах сгноил? — спрашиваю заплетающимся языком.
— А сколько надо! — чеканит внештатный чекист.
— А сколько? — шепчу я страшным шепотом. — Ну, сколько надо душ загубить, чтобы генералом… золотым сделаться?
Степаныч собирает глаза в одну точку и по синусоиде направляет этот красный луч лазерного прицела в мой правый глаз.
— А сам-то ты… не враг случайно? — с громадным усилием удерживая прицел своего бдительного взора на размытом пятне моего лица, вопрошает он.
— Валерий Степаныч, я думаю вам из моих анкетных данных известно, что если бы на мне было хоть пятнышко, — произношу я, поднимая палец к лепному потолку, — то мы сейчас не сидели бы здесь и не говорили… о любви к Отчизне.
— Это точно, — опускает он взор в тарелку с остывшим табачным цыпленком. — Нам всё известно! Всё про всех. Так что готовься встретиться с генералом. Зо-ло-тоооой… да.
Когда в конце недели Валерий Степаныч звонит насчет встречи, я говорю, что готовлю справку к заседанию коллегии главка. В следующий раз я делаю срочный доклад заму начальника главка. Потом начальнику… А потом — аж в ЦэКа КаПэ…, сами понимаете, где-то по большому счету, …эСэС. Эти слова на внештатника действуют парализующе, и он, проникаясь важностью момента, с трепетом отступает. А потом его увольняют за развал работы и раздачу квартир вне очереди…
…Печка в бытовке Пирата горит почти постоянно, потому как холодец варится долго, а поедается гостями помногу. Нигде такой печки видеть не приходилось. Соорудил ее умелец из бочки, бронзовой трубочки и старой сковородки. Заправляется печка соляром, который как в реанимации, каплями поступает в остывающее тело, где сгорает, рождая тепло. Пират круглый год одет одинаково — и в бытовке и снаружи — в старенькую телогрейку на грубый вязаный свитер. При его седой бороде и коренастой жилистой фигуре выглядит он импозантно. Взгляд у него пронизывающий и грустный. Пока я тщательно жую, он неторопливо рассказывает:
— Помереть я по всему должен был еще до войны. На первой посадке у меня обнаружился «тубик» — туберкулез, значит. Там на лесоповале нас ведь никто не щадил. Так вот был у нас один вольный поселенец — старый, как баобаб замшелый. По нации был он кореец. Так он меня и вылечил, сердешный. До сих пор ему благодарен, что аж до перестройки дожил. Была у него самая дальняя делянка. До нее от лагеря — часов пять по тайге. Потом нас там на всю неделю оставляли при одном едином вертухае. Да и тот за нами не смотрел. Куда уж там бежать? Кругом — волки, да чащоба на тыщи верст. Корейцу тому собак со всей округи таскали в обмен на белок и прочую пушнину. Приблудных шавок или старых сторожевых — ему было без разницы. Так он их без отходов употреблял в дело-то. А самое ценное для него были сало и мясо. Салом-то нутряным собачьим он меня и лечил. С тех пор я и жив благодаря собачьему салу. Ну, и мясцо собачье тоже в дело идет, и шкурка на одежку расходится. Да собачье мясо разве можно сравнить со свининой или курицей? Эти разную гадость жрут: и отходы свои, и падаль, и гнилье. Собачка — та из хозяйских рук все самое лучшее кушает. Вот и мясо у нее не в пример другому — лечебное. Да ты ешь, я еще добавки положу.
— Так этот студень — он из …собаки?! — спрашиваю, чувствуя спазмы желудка.
— А что, невкусно? — по-детски удивляется Пират.
— В том-то и дело, что вкусно. Но ведь — из псины!..
— Ну, а если вкусно — то кушай и нахваливай. И здоров будешь, как я. Мне ведь уже, браток, восьмой десяток. А приговорили меня вертухаи к смертыньке больше полвека назад. Вот тебе и псина…
В это самое время входит веселый Вася. Пират ставит перед ним холодец и тот смачно его поедает.
— Вась, а ты знаешь, из какого мяса это блюдо? — спрашиваю.
— А как же! Что я здесь первый раз? Да я этого урку еще мальчишкой знал. Он меня своим холодцом в детстве кормил. Все нормально! Зато в нашем районе ни одного собачьего укуса не было. А шубу моей жены не видел? Это ж горностай форменный!
— Вот что, мужики, — говорю я проникновенно, — кушайте сами хоть кого, но мне псины больше не предлагайте. Это окончательно и обсуждению не подлежит. Я очень тщательно вас прошу, слышите?
— Да, ладно, как хочешь, — примирительно говорит Пират. — Но ежели одумаешься и поумнеешь, то скажи. Люблю, знаешь, когда люди сытые. И здоровые.
Школа жизни
Заглядывает ко мне в гости Василий Иванович. Обходит площадку, поощрительно сопит, здоровается со всеми за руку, про жизнь спрашивает. Потом после обхода вместо приглашения к традиционному застолью ворчливо командует:
— Бери троих монтажников, я вас на школу отвезу на недельку. Зашивается там наш Тихон. А сдача на носу. Собирайтесь, короче.
Приезжаем на школу и, не успев как следует разместиться и опомниться, попадаем в круговорот событий. Тихон, от которого водкой разит за версту, ставит мое звено на монтаж теплотрассы, меня — на планировку территории. Он не говорит, а надсадно орет, а сама стройка напоминает поле боя. Пока он хрипло поясняет мне, что планировку производят вон те … нехорошие четыре бульдозера и вот эти …плохие два кубовых экскаватора, что высотные …ужасные колышки уже давно …вероломно сбиты ….подлыми врагами, а четвертый …новенький нивелир то ли украли …неожиданно, то ли закатали в …сырую землю. При этом он отхлебывает из бутылки левой рукой, правой энергично жестикулирует. А планировку нужно сдать …строгой комиссии уже завтра утром, так что …дерзай, мол.
Пока он все это орет мне на ухо, совершенно оглушив меня, к нему периодически подбегают возбужденные воины и требуют краску, гвозди, мастерки, бечевку, лопаты, бетон, асфальт и что-то еще, на что Тихон хрипло рыдает в ответ: «Ну нет у меня … этого предмета, или материала, или инструмента в настоящее время, ну нету! Ну нету…». И убегает зигзагами, припадая на одну ногу, прижимая рукой бутылку к левому бедру, как саблю кавалерист.
Для начала обозреваю поле боя, то есть вверенный мне участок работы. Бульдозеры сгрудились в одном месте, толкаясь, как школьники на переменке. Экскаваторы разгребают кучи спрессованного мусора. На только что выровненную площадку самосвалы завозят и сваливают как попало растительный грунт. Им наперерез копает траншею маленький «Беларус». Следом мои монтажники укладывают сборный бетонный лоток под теплотрассу. Стало быть, по линии трассы делать планировку бесполезно.
Подхожу к бульдозеристу, представляюсь и приказываю ему весь мусор из-под кубовиков тащить в яму с водой. Прошу объяснить задачу остальным машинистам. Но он говорит, что механизаторы — из разных контор, так что команду нужно давать каждому персонально. Подхожу к каждой машине и объясняю механизаторам задание. Четвертому бульдозеру достается растаскивать растительный грунт из-под теплотрассы.
Один экскаватор самовольно покидает кучу мусора и срывается в сторону монтажного крана. Я бросаюсь за ним вслед. Догоняю и спрашиваю, кто дал команду? Ко мне подлетает знакомый по другим объектам крановщик Саша и, обдавая меня густыми винными парами, трясясь всем телом и каждой его частью отдельно, объясняет, что ему под гусеницы нужно набросать щебня, а то кран тащит по жидкой глине в траншею и может перевернуться. Я кричу экскаваторщику, чтобы быстрей помог и тут же вернулся на прежнее место работы. Меня же самого уже за руку влекут в сторону болота, в котором по самую кабину сидит «Дэтэшка». Подхожу к машинисту черного, как паровоз, Т-100 и прошу помочь вытащить из болота коллегу. Тот мрачно отказывается. Я взываю к его совести и прошу прийти на выручку другу. Тот отказывается, но в выражениях более изощренных. Наша перебранка продолжалась бы еще дольше, если б не появление Тихона, он бросается на машиниста Т-100, хватает его за грудки и хрипит ему в лицо: «Еще один, …стало быть, отказ … — и я тебя …нерадивый работник… лично закопаю тут, как ты, …ящер, четыре моих …прекрасных нивелира!». Машинист упрямо отрицательно мотает головой — и получает от Тихона размашистый удар по левой скуле и встречную звонкую затрещину по правой. Тихон спрашивает, не приобрел ли тот понимание? Вроде приобрел, сообщает механизатор, умело вправляя челюсть, и плетется в кабину. Тихон свирепо оглядывает поле боя, машет кулаком и обещает в случае отказа побить любое лицо, не взирая на лица.
Т-100 пытается вытянуть из глинистого болота «Дэтэшку», долго буксует, застревает и сам по самую кабину утопает в жиже. Я заворачиваю сюда машину с гравием и заставляю высыпать под гусеницы остальных двух бульдозеров. Тогда мы спариваем их тросом. По колено в грязи вчетвером растаскиваем толстенный трос и закрепляем на крюках спасаемой и спасающей пары бульдозеров. Разом взрыкивают дизели, выбрасывая в небо черные струи дыма. По очереди, одна за другой, машины дергаются, перекатывая траками гусениц тонны грязи. Сначала один, потом другой — утопленники выбираются на берег. Ну, слава Богу!
И тут я замираю. «Господи, прости меня, забывшего о Тебе. Помоги мне в этой суете. Здесь творится что-то ужасное. Люди обезумели. Техника обезумела. Помоги мне, Господи мой, Иисусе Христе!»
После краткой молитвы на мгновение устанавливается тишина. Серая пелена облаков разрывается, и яркий луч солнца изливает на меня поток мягкого света. Что-то происходит… Всё также работают и двигаются люди, тарахтят машины… Но изменяется всё, в первую очередь, я сам. В мое сердце снизходит покой. Я двигаюсь, даю команды машинистам, сигналю им, даю направление движения, задаю скорость, глубину погружения отвала в грунт — но при этом уже не впадаю в панику. Да и люди вокруг стали работать по-другому: дружно и слаженно. В первую очередь мы засыпаем болото глыбами схваченного цементом мусора. С сухого пригорка сгребаем сюда смесь щебня с песком, а сверху весь этот «бутерброд» закатываем растительным грунтом.
Откуда ни возьмись, передо мной появляется Тихон и орет мне в ухо:
— Нет, но ты видел, пацан, как дашь им в морду — сразу работать начинают. Ты вот что. Иди теперь к своим работягам на монтаж теплотрассы. А я здесь сам продолжу. Они у меня не забалуют! — потрясает он кулаком механизаторам.
Утопая в полужидкой глине, прыгаю с кочки на кочку. Только все мои ухищрения бесполезны, так как мои брюки по самые колени покрыты грязью, а в ботинках хлюпает глинистая жижа.
…Северный город на берегу реки. С теплоходов сходят туристы и просто приезжие. Все сразу направляются к древним соборам. Не всегда по желанию, но по велению древнего архитектурного строя, который ставит Дом Творца в центр всего жизнеустройства. Соборная площадь сияет золотом куполов, белым камнем, синим небом, объемлющим сверху все и всех. Отсюда, ветвями от ствола, расходятся мощеные улочки с каменными домами. Отсюда льется колокольный звон, утверждающий радость и восторг перед величием Творца всего тварного. Сюда устремляются люди на встречу с чудом единения детей с предвечным Отцом своим. Отсюда люди возвращаются в дома свои, неся в сердцах дары Духа Святого…
Работа у моих монтажников стоит. Они понуро ковыряют лопатами липкий тяжелый суглинок. Спрашиваю, в чем дело? Да вот, говорят, подошел какой-то дядька и сказал, что здесь кабель высокого напряжения. Он запретил работу экскаватора и требует пройти этот участок трассы вручную. Я проверяю по чертежам — нет кабеля. Говорю им, копайте смело, правда за нами. «Беларусик» опускает ковш, забирает грунт и вытаскивает на бровку. Снова погружает ковш, и в разломе грунта сначала что-то трещит, потом сверкает, а после вырывается облачко дыма.
«Кабель порвали!», — слышу за спиной. Это бежит к нам мужик с портфелем. Приказываю копать дальше и иду ему навстречу. Он готов меня избить. Молча сую ему под нос чертежи и спрашиваю, где здесь нарисован его кабель? Он говорит, что предупреждал. Спрашиваю, где на чертежах его отметка, мол, чертежи согласованы с энергетиками. Он снова кричит, обещая меня посадить, оштрафовать и убить одновременно. Я предлагаю ему выбрать что-нибудь одно. Затем отстраненно думаю, чем бы полезным его занять, и предлагаю отключить на подстанции действующий кабель. Он кивает и убегает, я возвращаюсь к траншее.
Там снова остановка. Спрашиваю, что на этот раз? Да вот, говорят, похоже на газовую трубу. Из земли выглядывает фрагмент трубы с битумным покрытием. Мои орлы глядят на это, как саперы на мину. Смотрю на чертежи и говорю, что можно копать дальше. Они говорят, что труба мешает ковшу. Тогда произношу мысленно «помоги, Господи», шагаю к крановому и прошу дернуть. Он достает бутылку и протягивает мне. Я поясняю — не вина «дернуть», а трубу. Он задумчиво отхлебывает из горлышка и говорит, что это надо сначала обмыть, а то, может статься, после обрыва газовой трубы уже не удастся. Я говорю ему, что на чертежах нет газовой трассы, так что можно не опасаться. Он говорит, что по части чертежей он неграмотный, но уже «рвал газ», и ему это не понравилось.
Рассуждаю вслух, не сходить ли мне за Тихоном, который очень любит наказывать отказчиков ударом по скуле. Крановой нерешительно шевелит губами, отхлебывает и садится в кабину за рычаги. Монтажники цепляют трубу сцепленными крюками стропа. Крановой кричит: «Ра-зой-ди-и-ись, братва-а-а!» и тянет рычаг на себя.
Труба прогибается и лопается почему-то не на сгибе, а где-то в толще грунта. Крюки срываются и взлетают ввысь, кран качает, как танк после выстрела. Мы по очереди подходим к торчащей из траншеи трубе и усиленно обоняем воздух. Никаких посторонних запахов, кроме обычных гортанно-винных и дизель-выхлопных, не обнаруживаем. Поэтому решаем продолжить разработку траншеи. Монтажники привычно прыгают вниз и ровняют песчаную постель под лотки.
Подбегает Тихон и хвалит:
— Правильно! Так их всех! Я тоже всегда … нехорошие кабели рву к … их производителям и укладчикам…, а потом разбираюсь, чей он и откуда взялся. Но вот чтобы газовую трубу рвануть так запросто — это круто! С меня пузырь!..
Я так понимаю, что последнее — высшая форма его оценки. К нам подбегает энергетик и грозит Тихону пожизненным сроком с конфискацией имущества. Тот молча протягивает ему свою бутылку. Они по очереди отхлебывают и, забывая о рваных кабелях. Сетуют на трудности работы на строительстве объектов народного образования, особенно в период сдачи их в эксплуатацию.
Из недавнего прошлого. Мы сидим в кабинете начальника снабжения главка. Время подбирается к полуночи. Только сейчас закончилось решающее заседание коллегии. Перед нами на столе разложен истерзанный график комплектации вводных объектов года. Начальник главка своей рукой красным фломастером долго правил перечень объектов, поэтому он похож на жертву разбоя, истекающую кровью.
Половину заседания я следил за течением начальственной мысли, считал и пересчитывал ресурсы. В перерыве ко мне подошел Иван Семенович и, громким шепотом ругнулся: «Не нужен им порядок, ты понимаешь! В мутной водичке легче рыбку ловить, ты понимаешь! Вся наша работа — коту под хвост». Он вскидывает на меня усталые глаза и бурчит:
— Что там у нас получается?
— С ввода сняты шестьдесят процентов полностью готовых объектов. Вписаны объекты или вовсе не комплектовавшиеся или в лучшем случае на треть. Резервов главка и времени не хватит на комплектацию даже половины новых объектов. Весь график полностью сорван.
— В добрые старые времена за такие срывы начальство на лесоповал командировали, — раздается голос с дальнего угла кабинета.
— А еще раньше начальство себе пулю в лоб пускало, — посмеивается Фидер.
— Значит так, — с расстановкой произносит усталый начальник снабжения. — Я принимаю решение и за него отвечаю. График переделать согласно решению коллегии. К нему приложить подробную справку и положить мне на стол. Срок — два дня.
— Не получится, Иван Семенович, — говорю я чужим голосом. — Вычислительный центр не даст нам машинного времени. Оно у них на полгода вперед расписано.
— Тогда делай вручную! — орет он мне.
— Слушаюсь, — вскакиваю и замираю по стойке «смирно». — Только для этого нужно не менее месяца. И чтобы на меня работал весь аппарат главка, отложив дела.
— Дмитрий Сергеич, — переходит на умоляющие нотки начальник. — Ну, сделай что-нибудь. Ты же что-то там считал. Вот и перенеси все это на официальную бумагу. Все равно никто, кроме тебя и Фидера в этом ничего не понимает.
— Сделаю, Иван Семенович, — вздыхаю. — Только ресурсов от этих справок не прибавится.
— Сейчас главное с себя ответственность снять, поняли?
В ответ — гробовое молчание. Всем понятно, что последние три года мы работали зря. Всем понятно, что комплектация «по науке» провалилась. Остается снабжение по системе «ты мне — я тебе». Остаются взятки, блат, подкуп, воровство…
На второй день после коллегии секретарь парткома назначает меня выступающим на заседании партийно-хозяйственного актива. Это уже вошло в ритуал. Почти каждый месяц меня заставляют выступать на партийных и комсомольских собраниях. Речь свою написал я давным-давно и с тех пор не менял в ней ни единого слова. Сейчас знаю ее наизусть, поэтому и текста с собой на трибуну не беру.
Итак, поднимаюсь на трибуну и озираю высокое собрание. Все как обычно: на первых рядах читают газеты, на средних — разгадывают кроссворды, а на галерке, используя приемы конспирации, пьют вино, играют в морской бой. А которые помоложе, флиртуют с комсомолками, живо обсуждая, к кому они сегодня пойдут вечером. Как уже десятки раз, прокашливаюсь, проверяя микрофон, и бодро начинаю:
«Наш отдел, в свете последних указаний партии и правительства, перешел на передовые методы комплектации вводных объектов, максимально сберегающие ресурсы и оптимизирующие направление их применения. Разумеется, как все прогрессивное, наша работа тоже требует привлечения вычислительной техники на базе микропроцессоров последнего поколения…»
Думаю, может быть, сегодня хоть кто-нибудь заметит мои наглые повторы. Может быть, на этот раз хоть кто-нибудь удосужится задать вопрос или подать реплику. Нет, все как обычно. Первые ряды читают прессу и обсуждают журналистские находки, середина отгадывает, как называется «покров земли из пяти букв», галерка… там уже сквозь конспирацию прорываются то женский смех, то громкое бульканье, то звон бутылок. Если бы у входной двери не стоял дежурный из первого отдела, то, наверное, половина публики уже бы сбежала. Закончив свое выступление, как начальник самого передового отдела и необыкновенно занятый государственными делами человек, киваю головой в президиум и с трибуны прямо по центральному проходу иду на выход. За спиной слышу завистливые шушуканья «партийных активистов».
По мраморной лестнице поднимаюсь на третий этаж и по ковровой дорожке шагаю в кабинет начальника снабжения. Спиной ко мне курит длинную зеленую сигарету перед зеркалом Фидер, любовно осматривая себя со всех сторон. Он только недавно из клиники Николаева, где лечился голоданием, поэтому изнутри чист, а снаружи свеж и молод: необходимо, знаете ли, соответствовать при молодой жене, вдвое моложе начальственного супруга. Мимо идет зам управляющего одного из трестов. Фидер расцветает заботливой материнской улыбкой:
— Какие проблемы, Юрий Вадимыч?
— Да вот, это… труб не дают, кирпич кончился, — канючит тот, — фонды на горючку выбрал до конца года…
— А-а-а-а, ну, это ва-а-а-аши проблемы, — облегченно тянет Фидер, артистично приглаживая редеющие пряди на макушке.
Наблюдаю эту дежурную сцену сотый раз, поэтому с трудом сдерживаю рвущийся из глотки стон «доколе быть с вами!» Рывком открываю дубовую дверь и кладу на стол начальства справку о состоянии комплектации в двух вариантах (один для оправдания управления снабжения и второй — для обличения руководства главка). А также заявление об уходе по собственному желанию…
Иван Семенович долго разглядывает мое заявление, протяжно вздыхает и поднимает на меня усталые глаза.
— Тебя кто обидел?
— Никто, Иван Семенович. Просто надоело.
— Это бывает. Сходи в отпуск. Хочешь, на пару месяцев устрою тебя в шикарный санаторий на море?
— Бессмысленность в санаториях не лечат. Я недавно выезжал на стройку — там все живое. Реальное дело, а не показуха бумажная. Я готов разнорабочим работать. Только чтобы работать, а не создавать видимость.
— Ну, знаешь, там тоже дурости хватает!
— Знаю, Иван Семенович.
— Не отпущу. Здесь тоже работать надо.
— Отпустите. В конце концов, я иду на фронт из тыла, а не наоборот.
— Мальчишка. Романтик, понимаешь… Тебе осталось полшага до номенклатуры. А потом — обеспечен до конца дней. Ты пожалеешь, Дима!
— Возможно. Даже наверняка. Сытая жизнь всегда соблазняет и тянет на дно.
— Ладно, сходи на стройку, проветрись. Надоест играть в романтику — возвращайся, возьму обратно. Я на тебя не в обиде. Особенно после этой… коллегии.
…Три дня моей командировки «на школу» по напряжению и насыщенности можно сравнить с годом обычной размеренной жизни. Постоянные спутники прорабской работы — близость смерти и тюрьмы, надрыв и пьянство — давят, как паровой пресс.
Каждые полчаса меня пытается переехать бульдозер. Рядом со мной падают, сорвавшись со стропов, бетонные громады. Стальные тросики чалок лопаются и рваными краями свистят в сантиметре от моего мягкого лица. В полуметре от меня с крыши проливается кипящий битум. Осколки разбитого оконного стекла вонзаются в дюйме от моей ноги.
Все это время я нахожусь или в панике, или в яростной готовности ко всему. Никогда я не чувствовал хрупкость своей жизни так ярко, как в эти дни. Иногда мне кажется, что вот сейчас наступит предел, я или грохнусь в изнеможении в грязь, или мое сознание не выдержит безумия. Изредка мне удается выйти из подчинения вопящей суете, обратиться за помощью к Господу и получить некое послабление… Только продолжается это считанные секунды — и снова погружаюсь в омут всеобщего безумия.
Ничем иным, как приступом безумия, нельзя назвать и мой бунт. Вечером я читаю у владыки Антония, что одно славословие стоит тысячи просительных молитв.
Утром сначала испытываю сильнейшее уныние, когда перевертывается мой бульдозер, едва не похоронив под собою машиниста. Затем с помощью крана удается вернуть ему нормальное положение и даже, запустив двигатель, продолжить его полезную деятельность.
После успешного завершения этих хлопот я принимаю тщеславный помысел и весьма продолжительное время услаждаюсь им: «Вот так, господа чиновники, это вам не справки строчить! Это тебе, Фидер, не закладывать меня Ивансеменычу — тут надо и людьми и техникой уметь управлять. Вот это жизнь! Ай, да Димка! Ай да гений грандиозус!»
Тщеславие захлестывает сладкой волной, пьянит и сотрясает меня. Я вижу кругом пьяные возбужденные лица работяг, слышу грохот тяжелой могучей техники, вижу как бы со стороны и себя, несущего на своих плечах непомерные тяготы управления. …И я, сам не свой от нахлынувшего буйства, ору в небеса:
— Как Ты можешь бросить нас в этом аду? Если я отвечаю за людей, которых мне дали, я в доску разобьюсь, чтобы сделать для них все возможное. Куда Ты скрылся от нас? Как можешь Ты безмятежно взирать на то, что здесь происходит? Эти честные работяги — они тысячи раз обмануты всеми. И Ты их обманываешь? И Ты над ними издеваешься? Да я бы на Твоем месте легион ангелов прислал бы сюда, чтобы они хотя бы на миг показались, чтобы эти обезумевшие люди увидели их и успокоились. …Что не напрасны их мучения, что не зря они в этом аду стоят насмерть, чтобы чужие дети могли учиться в этой поганой школе. Они не могут иначе! Ты слышишь, Господи? Не могут!.. Так дай им увидеть если не Себя, так ангелов Своих. Успокой их, этих несчастных! Неужели они хуже немцев под Москвой, которые видели своими глазами Пресвятую Богородицу? Неужели хуже они Тамерлана, которому все Небесные силы явились, чтобы изгнать его из Руси? Почему Ты не дашь Себя увидеть! Что у них есть, кроме этого ада, жирных сварливых баб и водки? На что Ты обрекаешь Своих детей!..
Последние слова обрывает острейшая боль в правой ноге. В пылу бунта имени ветхозаветного Иакова я наступаю на кусок кирпича и подворачиваю ногу. Там что-то хрустит, лопается, обжигает огнем. Огненный жар взлетает снизу вверх и тысячами раскаленных стрел вонзается в мозг. Страх взревел во мне диким зверем и разрывает меня на куски затяжным взрывом.
…И вдруг в долю секунды в моем полыхающем сознании проносятся вчерашние слова насчет славословия, и я произношу: «Слава Тебе, Господи!.. Слава Тебе!..»
…Стою на коленях в полужидкой грязи, кричу «Слава Тебе, Господи!», и никто среди окружающего грохота не слышит меня и не обращает на меня внимания, словно я стал невидим. Потихоньку шевелю ногой — ничего… Осторожно встаю и потрясенно сознаю, что нога абсолютно здорова. Только что она горела жгучим пламенем — и вот все мигом прошло. И боль, и страх… И мой безумный сатанинский бунт.
«Прости меня, Господи!.. Слава тебе, Боже, за все!»
Темно-серые небеса разрываются, оттуда на секунду выглядывает яркое солнце. Я опускаю ослепленные глаза до земли и вижу, что стою на …перекрестии громадного золотого креста! Впрочем, длится это секунду — и снова возвращается мутная грохочущая серость…
Под вечер дня третьего приезжает Вася на красном самосвале, и я встречаю его, как пленник освободителя. Мы даже изображаем с ним подобие дружеских объятий. Завозим вещи монтажников на наш заводской дом, который кажется мне оазисом спокойствия. Обхожу объект и замечаю, что в мое отсутствие Петро с бригадой, усиленной заказчиком, очень даже неплохо потрудился. Ладно, завтра разберемся.
А сейчас… я прошу Васю доставить меня в церковь к вечерней службе. Он подвозит меня, заходит со мной и ставит свечи к иконам, потом просит отпустить домой. Я остаюсь один на один с Господом, с совестью больной и …смятением в душе. Обычно мне удается довольно быстро оставить суету и погрузиться в созерцательное участие в соборной молитве. Сегодня все по-другому. Надо что-то делать. Надо что-то предпринять. Для себя решаю, что не уйду без разговора со священником.
Вместо углубления в слова совместной молитвы мне хочется встать на колени и, как евангельский мытарь, вопить, стуча кулаками в грудь о помиловании. Вот мои глаза ищут уголок потемней, подальше от любопытных взоров. А вот я стою на коленях и кладу земные поклоны. С нарастающей болью в пояснице, и без того натруженной за рабочий день, вместе с разогревом всего тела — с радостью ощущаю наступление растепления в душе.
Встаю с колен, иду к свечному ящику, покупаю маленькую книжечку молитвослова и жадно читаю в уголке Покаянный канон. Каждое слово раскаленной каплей жжет мою скверную грязную душу. «Помысли, душе моя, горький час смерти и страшный суд Творца моего и Бога: Ангели бо грознии поймут тя, душе, и в вечный огнь введут: убо прежде смерти покайся, вопиющи: Господи, помилуй мя, грешного». После прочтения канона записываю грехи. Почерк мой изменился, буквы корявые, как я сам. Ладно, ладно, главное успеть, пока… Главное успеть…
Ну, наконец, стою в очереди на исповедь. Священник сейчас для меня — спаситель, советчик, очиститель. Сверлю его взглядом и умоляю Господа дать ему слово истины для моего излечения.
Перед исповедью оборачиваюсь к очереди, кланяюсь, умоляя простить меня. В эту секунду в их лице передо мной стоят все мои обидчики и обиженные мною. Епитрахиль отеческой, ласковой ладонью покрывает мою голову. Именую поочередно своих черных мерзких уродцев, заселивших мою душу, слышу разрешительную молитву. Прикладываюсь к Евангелию и Кресту… Слава, Тебе, Господи!
Встаю и прошу священника помочь мне советом. Объясняю свое положение. Выслушав меня, он не торопится с ответом. Мы с ним, каждый отдельно, мысленно молимся об одном. Я тупо повторяю «Господи, вразуми иерея Своего». Наконец, слышу дорогие мне слова:
— Сейчас ты, Дмитрий, промыслом Божиим поставлен в положение, когда познаёшь свою немощь. Без познания своей немощи невозможно смириться перед величием Божиим. Невозможно понять неизреченную милость Его к нам. Любовь Его бездонную. Что бы ты ни делал сейчас, никогда не забывай Господа. Думай о том, что Он рядом, видит каждое твое движение, слышит не только слова, но и мысли. Используй каждую возможность обращения к Богу с молитвой. И пусть она будет кратенькой, но искренней. Тогда ты познаешь, как Господь близок к тебе во время искушений. Тогда укрепится и вера твоя. Не оставляй молитвенное правило. Если одолевает усталость, то вспомни слова святых, что молитва — это отдых душе и питание ее. И причащайся чаще. Хотя бы раз в месяц.
Выхожу из мирной ограды храма в шумную суету города, перехожу улицу, скрипящую, гудящую, говорящую, но покой все еще держится во мне. Вот сквер, осененный аллеей старых деревьев — направляюсь туда. Углубляюсь прочь от звуков в оазис природных полутеней, шорохов.
Старые друзья
Ох, эти старые друзья… Особенно в такой чудный тихий вечер, когда апельсиновое солнце устало катится за горизонт, разливая теплые золотистые сумерки. И ты устало бредешь в изнеженной истоме, желая покоя и тишины. И наслаждаешься очарованием этого хрупкого равновесия тишины в природе и покоя в душе.
Но вот замечаешь, что на твоем пути возникает старенькая скамейка. А на скамейке сидит с улыбкой на довольной физиономии твой старый приятель, который помнит еще те времена, когда вы вместе удирали с уроков «физры» на «Капитана Немо» в ближайший кинотеатр с толстыми колоннами и мороженым эскимо в фольге на палочке за 11 копеек. Ты медленно подходишь к нему и присаживаешься рядом. А он по давней привычке не спешит бросаться к тебе на шею и хлопать по плечу, но на правах старинного знакомого небрежно предлагает :
— Посиди, отдохни.
И ты разглядываешь старые ветлы, склонившие гибкие ветви к темным водам заросшего тиной пруда, провожаешь одобряющим взором бабушку, толкающую перед собой роскошную коляску с развалившимся в ней щекастым внуком. А боковым зрением подмечаешь, как великий конспиратор, внутри своего потрепанного портфеля, привезенного отцом лет тридцать тому из загранкомандировки, наливает в граненный стакан дешевое вино и по закону гостеприимства сейчас должен протянуть тебе. И в этот момент тебе до головокружения, до стона хочется выпить этот стакан вина и отдаться воспоминаниям, затягивающим в омут сладкого отчаяния. В котором уже так комфортно плавает кругами этот старый приятель. Ты знаешь, что потом будут дружеские пьяные объятия в комнате с высокими потолками и любимая когда-то песня: «Дешевое вино сегодня пью, напрасно жду-зову: «приди»… А ночь, ласкаясь, льнет к груди… Я полюбил вино и ночь, ты будешь лишней, прочь уйди!». Но ты знаешь рассудочно и сердечно, чем все это печально кончается и после кратенькой, но очень сильной в такой момент внутренней молитвы, тихо спрашиваешь, опережая его привычное предложение:
— Зачем ты пьешь эту дрянь?
— Ну, нравится мне это…
— Так ведь неполезно.
— Что поделаешь… Зато малость хорошеет.
Поворачиваюсь к нему и разглядываю знакомый, родной профиль, который также точно разглядывал много лет назад, идя рядом с ним на футбол, сидя в кино, за партой… На упрямом носу с горбинкой, на обтянутых скулах — тонкая склеротическая фиолетовая вязь, кирпичная дряблая кожа на горле с мощным ползающим под ней кадыком. На впалых щеках клоками торчит седоватая щетина после торопливого похмельного бритья, но по тонким сухим губам гуляет та же ироническая ухмылка. Он цедит из граненого стакана отвергнутую мной «бормотуху», по старой привычке алкаша-нелегала облапив его широкой узловатой пятерней, «чтобы враг не заметил». Возвращает стакан внутрь, густо выдыхает и медленно произносит:
— Недавно с сестрой смотрели фотографии, где мы с тобой, Юркой и Борькой у школы стоим. И я вспомнил, как мы с тобой с уроков сбегали на «Капитана Немо». Помнишь?
— Я только что об этом думал…
И в груди моей разливается доброе чувство, как при обувании старого башмака — полный контакт без помех и выступов. Я понимаю, что ничего не остается, как принимать его таким, каков он есть, каким его слепили внешнее давление и внутреннее сопротивление. Мне хочется сгрести его в объятия, облапить костлявые плечи и сдавленно прошептать на ухо: «Что же ты, дурачок, травишься? Что же ты медленно сжигаешь себя? Прекрати!». Только у нас так не принято… У нас вот это в чести: ирония, насмешки над всем и вся, в первую очередь над собой, и отговорка: «Ну, нравится мне это. Отстань. Не ломай кайф, старик».
Он ездил по стране, со стройки на стройку. Всю жизнь по командировкам. С ним не смогла ужиться ни одна из трех жен, хотя красавец и умник был еще тот. Потом их секретное учреждение ликвидировали, его вышвырнули вон. Какое-то время он работал по кооперативам, монтируя сигнализацию и прослушку, только не смог перенести, когда заказчики обращались с ним без привычного уважения. Вот чего он никогда не терпел, так это хамства.
Он и раньше пил каждый день технический гидролизный спирт, но держался в рамках, потому что голову нужно было содержать в порядке. А когда лишился работы… Когда понял, что государству, которому без остатка отданы молодость, здоровье, талант, вся жизнь — он больше не нужен… Крепкий, как дуб; волевой, как сталь; выносливый, как мул — сломался парень… Запил с горя, тоски и беспросветности. Два инсульта довели его до полной инвалидности. Он с трудом говорит, еле ходит, быстро теряет память. У него отняли единственного сына. Последняя жена, самая красивая, выгнала его из квартиры, которую он получил лет тридцать назад, в которой постоянно что-то делал своими золотыми руками. Теперь живет он у сестры, похоронившей недавно такого же горемыку-мужа. Ходит в этот сквер у пруда, сидит на скамейке и пьет свою «бормотушку». И все ушло, ничего нет, осталось только: «Ну, нравится мне это…»
Господи, если не придет он к Тебе! Не дойдет!.. Но умоляю, спаси его. Он никому не делал зла, работал на износ, он такой, каким слепила его эта безбожная система. Его циничная ирония — это защита детской беспомощности, которая там, в глубине его прокопченного нутра. И если я, жестокосердный и эгоистичный, жалею его до спазма в горле от этой горькой душевной любви во имя детской дружбы, то Ты, Господи, любишь его Своей отеческой совершенной любовью. Спаси его, Господи! Молю Тебя. Спаси его, неразумного…
— Не слышу… Что ты говоришь?
Вижу его повернутое ко мне лицо, некогда красивое.
— Хорошо тут с тобой. Уютно.
— Да, вечерок что надо, — снова озирает он сквер в теплых багряных всполохах последних солнечных лучей уходящего, тающего, умирающего вечера.
Технадзор
Наша совместная с заказчиком бурная деятельность на «моем» доме приносит видимые результаты. Новенький забор, тщательно спланированная площадка, блоки и плиты, аккуратно сложенные в ровные штабеля — все это радует глаз и внушает уважение к порядку. Монтажный кран привезли нам со школы, где надобность в нем отпала. Так что мы с бригадой, заказчиком и крановым Сашей ждем официально вызванного инспектора для приемки стройплощадки под монтажный кран.
Не успел я с утра как следует пройтись по журналам и табелю, как слышу неверные шаги, затем робкий стук в дверь. «Входите!» — кричу. На пороге появляется мужичок с ноготок в мятеньком плащике, с обрюзгшим лицом алкоголика. Мне сходу хочется вытолкать его взашей, указав на недопустимость появления лиц в нетрезвом состоянии в производственном помещении. Пока я сооружаю в голове фразу поярче, мужичок подсаживается к столу и со вздохом кладет передо мной незнакомый металлический предмет.
— Могу я поинтересоваться, что это за штука? — спрашиваю недоуменно.
— Можешь, — выдыхает в мое лицо струю перегара незнакомец.
— Так и что?
— Пломбир, — печально вздыхает он, наполняя бытовку смрадом.
— Что-то не очень на мороженое похоже, — сокрушаюсь я.
— Зато объект заморозит не меньше, чем на месяц, — загадочно сообщает он. — Вместе с начальником участка и главным инженером походите на переподготовку в учебный центр. А народ здесь пока отдохнет. Да ты не стесняйся, бери и иди.
— Куда идти?
— На кран. Пломбируй.
Я прошу пояснить ход его мысли.
— Новенький, что ли?.. — озаряет его.
— Ну да, — подтверждаю я, изображая на лице детсадовское выражение.
— Ладно, сынок, слушай и впитывай. Я буду последним работником в нашей фирме, если на абсолютно ровной площадке не найду больше тринадцати нарушений норм Госгортехнадзора. А за это, сам понимаешь… — указывает он глазами на пломбир, как палач на топор.
— Так вы полагаете, что у меня есть шанс, так сказать, вернуть себе потерянное лицо и восстановить доверие столь уважаемой фирмы?
— Ну, конечно, мой мальчик! — оживает мятенький мужичок. — Сашка уже бьет копытом землю и ждет твоего указания.
— Понял, — киваю и выскакиваю на крыльцо. Здесь действительно стоит Александр Геннадьевич, машинист гусеничного крана, и молча протягивает руку ладонью кверху. Прежде чем посеребрить ее, спрашиваю свистящим шепотом: — Кто это и сколько нужно?
— Инспектор Ростовский. А брать лучше сразу три — меньше нельзя, — произносит крановой с трагизмом в дрожащем голосе. — Этот — очень строгий. Зверь…
— Так у нас же полный ажур, сам знаешь!
— Да-да. Правильно! Тогда меньше четырех никак не получится. Тут его профессиональная гордость может быть задета. И закуски побольше. Аппетит у него волчий. И главное — здоровье слабое. Так что придется взять хорошей колбаски и сырку понежней. Кефирчику обязательно. Он еще маслины в банке любит. С язвой, сам понимаешь, не шутят. Короче, весь аванс, что получил вчера, давай. Если не хватит, я добавлю, потом вернешь. С процентом.
Во время этого монолога я зачарованно наблюдаю за его артистическим ртом. Удивительное это зрелище: вибрация челюсти и губ с разной амплитудой и частотой. Также движутся длинные желтые зубы в деснах — каждый отдельно. Как с таким аттракционом во рту он умудряется произносить столько разных слов — тайна. Протягиваю всю карманную наличность и замечаю в дополнение к ранее отмеченным колебания головы относительно туловища и независимую вибрацию кистей рук. Это какой-то человек-вибратор. Едва коснувшись денег, он исчезает. Как это ему всё удается?..
Мои глубокие размышления прерывает бригадир, крича во все горло, что у него закончились электроды. Протягиваю ключ от склада и возвращаюсь в бытовку к дорогому гостю. Тот мирно посапывает в углу, наполняя атмосферу художественным храпом и ацетоновыми парами выдоха. Чтобы не прервать столь важного процесса, тихонько присаживаюсь к столу и заканчиваю заполнение документации.
Входит крановой, раскладывает на столе свертки и расставляет бутылки. Радостно докладывает: завтрак в постель подан. Господин государственный инспектор просыпается, безыскусно, как дитя, сладко потягивается и тянет ручки к любимым игрушкам. Крановой ножом срывает пробку и льет в стаканы зловонное зелье.
— Если вы не против, господа, до обмывания сделки я хотел бы закончить с ее оформлением.
Открываю журнал и протягиваю инспектору для автографа. Тот нехотя строчит разрешительное резюме и размашисто подписывает. Почерк удивительно каллиграфичен, а кокетливые завитушки говорят о непростом характере писаря. Пока я восторженно разглядываю автограф, за столом происходит ритмичное поглощение напитков и съестных припасов. Наконец, отрываюсь от журнала и вижу сказочное превращение трясущихся ранее сотрапезников в жизнерадостных здоровяков. Выражаю по этому поводу свое глубокое удовлетворение. На что слышу:
— Нехорошо, гражданин начальник, отрываться от коллектива. Нам еще многое обсудить нужно.
— Так ведь у меня бригада работает, — пытаюсь оправдать причину своей раздражающей массы трезвости.
— Давно пломбира не видел? — напоминает инспектор, поднимая глаза к мухе на плафоне. И если насекомое на прежнем месте в том же удрученном настроении, то опухлость поднятого к нему лица уже пошла на убыль.
— Прошу прощения, господин инспектор, так это все по неопытности и недомыслию.
— То-то же! Наливай.
Стараясь не вдыхать сивушный запах, пригубляю свой стакан и, отведав закуски, задаю терзающий меня вопрос:
— Меня, как прораба начинающего, интересует, какие же тринадцать пунктов вы могли бы указать на нашей площадке?
— Эх, молодость… А вот, например, ты сейчас без каски.
— …Так ведь в бытовке!..
— Эта лирика в актах не отражается. Далее: на второй бадье краска облупилась.
— Только в одном месте!..
— Повторяться не собираюсь. Идем дальше: в ограждении стройплощадки имеются щели.
— Так нам эти щиты ограждения родная промышленность поставляет.
— Это проблемы твои и твоей промышленности. Следующее: на стройплощадке имеются люди в нетрезвом состоянии.
— Так до вас никого не было! — возмущаюсь я.
— Ну, это спорно, хотя и возможно. Но факт налицо… А за тонкий, но нахальный намек Сашке придется сбегать за еще одной блондинкой с опьяняющим внутренним миром.
— Всегда готов, — рапортует пионер.
Когда крановой удаляется за дверь, и мы остаемся одни, инспектор Ростовский спрашивает, есть ли у меня сегодня персональная машина. Нет, сегодня, как назло, мы без колес.
— Тогда не сиди сложа руки, а ищи на чем ты повезешь меня домой. Прояви в этом вопросе молодую энергию и творческое рвение.
Выхожу из бытовки. Сталкиваюсь на крыльце с возбужденным гонцом, едва не сбивающим меня с ног. Ловлю на себе сочувствующие взгляды стропальщиков и завистливый — неприлично трезвого бригадира. Плетусь к заказчику. В кабинете его нет. Где он, никто не знает. Придется заглянуть к нему домой.
Пересекаю улицу и через озера грязи по тополиной аллее чуть не плыву, как венецианский гондольер по каналу, к его палаццо, то есть к бараку.
…Отсюда словно лучи света пронизывают толщу времен, беспрепятственно проникая сквозь многие столетия, и отражаются от тех глубин, возвращая нам намоленную святость этого места. Пустынька! Сколько потаенной любви в звучании этого слова. Как замирает сердце пред таинством уединенного молчания человека перед Творцом. Что так притягивает людей сюда, в это затерянное в глуши место? Пригорок ли над извилистой речушкой, заросшей осокой? Уж ни слепни ли облепляющие или змеи, зловеще шуршащие меж высоких трав, пугающие каждого, покусившегося нарушить таинственное молчание? Крест ли высушенный солнцем, морозами и ветрами, слегка покосившийся в сторону воды? Колодец ли, наполненный мутноватой болотной водицей? Что осталось с тех давних пор, когда поселился здесь монах, бежавший мирской суеты, предавший себя в руки Господа в центре воющего, шипящего, каркающего, чавкающего, а по ночам и грозно рычащего зла? Как смог этот нищий, слабосильный, одинокий человек стать основателем сначала монастыря, потом деревень, сел, городищ, которыми обрастал и населялся этот болотистый глухой уголок земли? И если мир держится на молитвах святых, то, поистине, здесь один из этих столпов света от земли до Небес…
В окне первого этажа барака вижу искомого заказчика в голубой майке за кухонным столом. Вспоминаю енисейские габариты супруги заказчика, поэтому заходить внутрь остерегаюсь. Особенно учитывая цель моего прихода. Ласково стучу в окно, нагибаюсь к форточке, болтающейся узкой створкой на уровне моей пиджачной пуговицы, и, словно пароль, произношу одно лишь слово: «Технадзор!».
Через мгновенье Александр Никитович в костюме стоит передо мной и гремит ключами от своей черной персональной «Волги». Пока он выворачивает машину к моей бытовке, наблюдаю и в нем неуклонный рост загадочного возбуждения. Захватив из перчаточного ящика цилиндрический сверток, он покидает транспортное средство и устремляется в мой походный щитовой дворец. Следую за ним и я.
Здесь сквозь густой табачный дым и трепетные спиртовые пары узнаю бригадира, оставившего свой высокий пост. Он умело не замечает мой строгий взгляд. Заказчик останавливается рядом с инспектором и передает в цепкие руки кранового булькающий сверток.
Пока все внимание устремлено на инспектора и заказчика, я присаживаюсь на стул и пытаюсь осознать себя в этой ситуации, которая все больше становится неуправляемой. Внутренне взываю к их совести, но безуспешно. Пытаюсь своим трезвым и деловым видом поставить заслон этой почти официальной пьянке, только на меня внимания не обращают.
Тогда собираю свою волю в кулак и внутренне испускаю в Небеса молитвенный вопль.
Не сразу, но все же что-то меняется. Первым вскакивает инспектор, допивает из пакета язвенный кефир и дает команду отбоя. Крановой, наверное, согласно старой традиции, запихивает початые бутылки и свертки с недоеденной закуской в пакет и бережно вручает мне «на дорожку».
В черной «Волге» инспектор с заказчиком продолжают неоконченный разговор обо мне, как о молодом, но подающем надежды линейщике. Я же только и делаю, что балансирую пакетом на поворотах, чтобы не облить брюки.
Машина под визг тормозов заезжает во двор солидного дома с башенками на крыше. На довоенном лифте с зеркалом внутри кабины и с зоопарковской сеткой снаружи мы поднимаемся на пятый этаж. Дверь нам открывает женщина, к которой хочется обратиться по-французски, типа «ма тант», сломав шею в галантном поклоне. Инспектор приказывает разуться и босиком шлепать в гостиную. Дама, которая, как выясняется, доводится нашему террористу родительницей, привычно принимает протянутый мною пакет и степенно удаляется на кухню.
В гостиной мы робко останавливаемся. Пока Александр Никитович охает и ахает, глядя на картины в бронзовых рамах, я поворачиваюсь к старинным иконам в углу и незаметно сотворяю крестное знамение. Розовый и бравурный хозяин подводит нас к роскошному портрету в стиле Боровиковского, на котором, опираясь на обнаженную шпагу, поблескивая орденами и шпорами, прямо, как телеграфный столб, стоит, задрав подбородок, эдакий поручик Ржевский на фоне колонн, бархатной драпировки и полутонного канделябра желтого металла.
— Мой славный прадед, кня-а-азь Ра-а-асто-о-овскый, господа… — произносит инспектор нараспев, пытаясь скопировать телеграфную осанку предка. На какой-то миг его живот втягивается, добавляя груди недостающий объем, множественные неровности лица и шеи разглаживаются…
Дальше происходит невероятное. Княгиня-мать вносит на подносе графинчики с разноцветным содержимым, тарелки с «цековской нарезкой», старинное столовое серебро и расставляет по ампирному инкрустированному столу. Инспектор технадзора князь Ростовский занимает хозяйское место, поворачивается лицом к красному углу и обыденно произносит:
— Димитрий Сергеевич, вас не затруднит прочесть «Отче наш»?
— Конечно, — произношу я машинально и начинаю нараспев читать молитву. Мне это сразу придает устойчивость и неожиданно успокаивает. Окружающий абсурд тает и ситуация приобретает какое-то новое качество.
По окончании хозяин произносит благословение и широким крестом осеняет яства и питие. Наши головы поднимаются, и я вижу полуобморочное состояние заказчика, бледного, как плафон люстры, под которой он стоит. Ему на помощь приходит гостеприимный хозяин:
— Александр Никитович, позвольте я вам плесну домашней наливочки на березовых почках — это успокаивает… Вот и колбаски сухонькой не побрезгуйте-с. У нас тут все по-простому, можно сказать, по-походному. Извольте, извольте…
Заказчик робко возобновляет привычное занятие. Под поощряющие кивки и урчание хозяина опрокидывает рюмки с наливками в полость рта, подцепляет тяжеленной вилкой из пайковой нарезки колбасу, карбонад и сыр. Никто не заставляет его держать нож в правой руке, а вилку в левой, никто не тянется отвесить ему подзатыльник при невольном чавкании, и он заметно расслабляется, сохраняя уважительное молчание.
Князь же после благополучного утоления очередного приступа голода устраивает мне форменный допрос в стиле первого отдела. Затем признается, что видел меня в коридорах главка, на трибунах собраний и даже однажды удостоился чести стоять за мной в очереди в главковском буфете на третьем этаже, где я, оказывается, изволил кушать копченую семгу с корнюшонами и картофелем-фри. Я вежливо выражаю восхищение его блестящей памятью.
После его признаний о посещениях храма по воскресеньям, я по простоте душевной вопрошаю, как удается ему совмещать ежедневные застолья с покаянием. Собеседник наставительно улыбается, отечески треплет меня по плечу и миролюбиво произносит:
— Господь милостив, Димочка, в старости покаемся.
На прощание наш гостеприимный хозяин радует нас с Никитовичем тем, что ему оч-чень понравилось у нас на объекте. Поэтому он будет навещать нас ежемесячно. Так что наша готовность к ответным действиям должна быть, как у ракетных войск стратегического назначения.
Дуня
Заказчик подвозит меня к общежитию. С любопытством рассматривает облупленный фасад, непривычную «экспериментальную» архитектуру, за которую кто-то получил госпремию. Шутит по поводу трех блоков: юноши — семейные — девушки. Затем как бы между прочим, вставляет коварную фразу:
— Давай мы тебе из строительного фонда в нашем доме квартирку выделим.
— Ты же знаешь, кто этот фонд распределяет, — киваю сокрушенно головой.
— Мое слово там не последнее, — надувает щеки Никитович.
— … Все равно, на время строительства твое горло будет у меня вот здесь, — открыто улыбаясь, сжимаю свою ладонь в кулак. При этом заказчик кашляет и потирает кадык. Что поделаешь, дорогой, на том стоит и держится наш участок.
Плетусь в свою комнату, мечтая только об одном: скорее принять горячую ванну и зарыться в постель. Но не тут-то было: в комнате гостья. Удивительно красивая молодая женщина в грубом, хоть и видно что «от Диора», свитере и длинной, тоже не с оптовки, юбке. Сидит перед телевизором и смотрит на мелькающий экран. Уверен, если спросить ее, про что она смотрит, вряд ли сможет объяснить. С тем же успехом она будет смотреть на картину, в окно или, скажем, на стену.
Откуда мне это известно? Из опыта. Из личного опыта. Это моя жена. За многие годы исследования этого неземного существа, мне не удалось и шагу сделать в направлении ее познания.
Моя Дуня — именно так ее имя записано в паспорте — личность сама в себе. Она никому не принадлежит, никому не открывается, ни перед кем не отчитывается в своих действиях. Этому способствует и ее профессия — она свободная художница. Работает на дому, не имея постоянного места, и там, где приткнется, там и малюет. Продает свои произведения на вернисажах сама. И там стоит одна, сама по себе, несмотря на шумное окружение разбитных коллег. Картины ее такие же, как она: разноцветные прозрачные облака, тонкие необязательные линии, в которых угадываются очертания знакомых предметов, хотя и тут уверенности ни в чем быть не может…
Впрочем, есть у нее какие-то постоянные покупатели, которые приходят, молча берут картины, также молча расплачиваются и уходят. Кто-то из них устраивает даже персональные выставки Дуни. Только она туда не ходит: не интересно. Я однажды посетил одну такую выставку. Кто-то узнал, что я муж таинственной затворницы, — и мне пришлось давать интервью, отвечать на вопросы… Помнится, я с испугу напустил мистического туману, что всех вполне удовлетворило.
Жить с такой женщиной… по-разному. В минуты голода, когда дома из съестного только консервы — мне бывает грустно. Хотя справедливости ради обязан отметить, что и она сама питается кое-как: бутербродики, салаты из универсама, чай с печеньями. Ей, например, ничего не стоит солидным гостям принести из холодильника квашеную капусту в полиэтиленовом пакете, залить при них внутрь майонез, потрясти, как в шейкере и предложить гостям вместе с единственной немытой ложкой.
Так же печаль посещает меня нежданно при обнаружении полного отсутствия стиранного белья при наличии супердорогой стиральной машины последнего поколения, или, скажем, катышков пыли, гоняемых по полу сквозняком. Иногда мне ее жаль, как неизлечимо больную, иногда хочется встряхнуть ее хорошенько, чтобы она, наконец, проснулась. Хотя некоторые мои знакомые, особенно те, характер жен которых — проблемный, завидуют мне аспидной завистью. Чаще всего, воспринимаю ее, как красивый, но бесполезный, хотя и не вредный, элемент интерьера, к которому можно обратиться с речью, долго говорить, спрашивать, на что получить в лучшем случае молчаливый кивок. Впрочем, голос она иногда подает. В исключительных ситуациях, когда без этого просто никак не обойтись: мама, например, позвонит по телефону; палец дверью защемит или током ее дернет, — тогда я слышу обворожительный голос моей Дуни, высокий и тихий, как шепот ребенка.
Чтобы не тратить полтора часа на дорогу в один конец от нашего дома до конторы, мне пришлось занять комнату в общежитии. Ее любезно предоставили мне заботами бывшего начальника Ивана Семеновича. Комната моя находится в секции, где наряду с такими же тремя жилыми, здесь присутствуют две ванны, два туалета, огромная кухня и две кладовки. Моих соседей, таких же временщиков из итээровцев, я почти не вижу, разве только пару раз в неделю на кухне. Когда я объявил Дуне о своем решении уйти из главка, перейти на стройку и переселиться в общежитие, честно говоря, я ожидал что, наконец, услышу долгожданные недоумения, выраженные словами. Не тут-то было — Дуня кивнула очаровательной головкой, пустив по длинным платиновым волосам искрящуюся волну, и продолжила водить кистью по холсту.
И вот сия загадочная дама у меня в гостях. За время нашего расставания я несколько отвык от ее манеры общения. Расхаживая по комнате, переодеваясь в домашнюю спортивно-прикладную униформу, я задаю обычные вопросы:
— Как здоровье?
— …(кивок головой)
— Какие новости?
— …(пожатие плечами)
— Как у тебя с деньгами?
— …(кивок головой)
— Какие творческие планы? Что сейчас пишешь?
— Ничего, — слышу вдруг тоненький голосок.
— Что-нибудь случилось? — тревожусь я.
— …(кивок головой)
— Что! — подлетаю к ней и вцепляюсь в ее хрупкие плечики.
Дуня поднимает лицо, прозрачными пальцами, измазюканными ультрамарином, приоткрывает занавес волос, и я вижу, как по щеке ее катится слеза, оставляя влажный след на гладкой алебастровой коже, стекая по длинной тонкой шее на выступающую мраморную ключицу. Только сейчас замечаю сизые страдальческие тени вокруг голубеньких чуть раскосых глаз. Меня наполняет щемящая жалость к этой девочке.
— Соскучилась?.. — удивляюсь я сдавленным шепотом.
— … … … (стаскивание свитера через голову)
Дальше мы, перебивая друг друга, объясняемся в любви и клянемся в верности. Молча. Потом среди ночи сквозь сон слышу сначала хлопок входной двери, потом — стрекот двигателя отъезжающего автомобиля. Тесть, помниться, перед выходом на пенсию подарил единственной дочери «жигуленка». Засыпая, успокаиваю себя тем, что в таких неординарных случаях на Пикадилли говорят, леди с дилижанса… и далее по тексту…
Измена (несколько лет назад)
Охваченный долгим холодом город слезно оттаивает, пронизанный яркими лучами весеннего солнца. Пульсирующие многолюдьем улицы лениво нежатся в робких волнах первого тепла. Люди сбрасывают тяжелые меха, распрямляются и заполоняют город. Они неспешно гуляют между навалов оседающего темного снега, оглушенные журчанием ручьев и щебетанием ошалелых птиц. Часы показывают начало жизни.
Мы со Светланой бредем по шумной улице. По самому краю тротуара. Мы не виделись с полгода, нет, гораздо больше — целую вечность. И я уже не замечаю толкающихся прохожих, трамвайного звона и угрожающего шороха автомобильных шин. Я гляжу на ее сливочно-розовую щеку, легкий золотистый локон у виска, сверкающий глаз под опахалом длинных ресниц. Слушаю волнующую мелодию ее грудного голоса. Легкая фигурка девушки, стянутая тонкой шерстью невесомого пальто, излучает мерцающий свет. Из сонных глубин моей души тянутся к этому свету тонкие, но готовые пробить асфальт, ростки молодого задора, пульсирующего звона в артериях, беспричинного пьянящего веселья. Теплая улыбка оживляет мои бледные щеки, тронутые узором первых морщин.
Вдруг яркий солнечный блик от начищенного окна на мгновенье ослепляет меня. Я опускаю глаза и, проморгав нечаянно пойманный солнечный зайчик, вижу парочку веселых ручейков, бегущих по брусчатой мостовой. Каждый сверкающе красив. Их разъединяет невидимая преграда. Но вот они встречаются и сливаются в большую мутную лужу. В ней растерянно кружится веточка наивной пушистой мимозы. Из лужи снова выбегают два ручья. Они звонко несутся рядом, потом их разъединяет перекресток, и они разбегаются в разные стороны. «Откуда здесь мимоза? Ах, да! Здесь недалеко торгуют…»
— Все же замечательно, Свет, что мы встретились вот так, внезапно. Мне кажется, что я долгое время предчувствовал нечто подобное.
— Неужели ты сегодня никуда не спешишь?
— Сегодня уже никуда. У меня море времени.
— Мы проведем его вместе?
— Ну, да… Конечно! Это было бы здорово.
— Как хорошо, что ты говоришь не сдавленным голосом, как обычно по телефону, а вот таким, живым и приятным. И сейчас ты не чиновник, а просто милый человек.
— А что, это так тоскливо — чиновник?
— Хуже, чем хотелось бы.
— … А ты всегда так солнечно улыбалась, так непосредственно кокетничала, что окутывала меня, как облаком, своим обаянием. Знаешь, такое туманное, светящееся душистое облако. И когда попадаешь внутрь, вся окружающая реальность становится бессмысленностью, а ты начинаешь делать все не так и говорить ерунду.
— Слушай, а, может, ты и сейчас говоришь ерунду? — блеснули в меня широко раскрытые глаза.
— Очень может быть. Я до сих пор как-будто слегка пьян. Это так приятно — говорить с тобой, когда на нас никто не глазеет, не ловит каждое слово. Можно говорить все, что думаешь, даже если это глупости.
— У тебя славно получается говорить глупости и оставаться при этом таким милым.
— А у тебя такая теплая ладошка. Такая мягкая на ощупь. У тебя красивые глаза, Светланочка, и ты знаешь — у тебя просто невозможно красивые глаза!
— Ты это серьезно?
— Вполне. А еще вот эти твои духи. Они тебе очень подходят. Ты должна пахнуть только так. Это твое. Однажды я был в кино, смотрел отличный фильм, увлекся… Вдруг почувствовал запах этих духов и оглянулся. Рядом сидела девчонка лет пятнадцати. И она посмела пахнуть тобой! Я уже не смог смотреть на экран, встал и вышел. Это — только твое.
— Димочка, эти духи продаются в магазинах целыми коробками и, значит, так пахнут тысячи женщин.
— Нет, это твое. Понимаешь: твое и мое.
— Ты всегда такой галантный или только сегодня?
— Сегодня особенно.
— Будь таким всегда. Когда в тебе есть что-то хорошее, совсем не обязательно скрывать это под маской чиновника. Пусть это будет открыто всем, ладно?
— Ладно. Но все-таки у тебя очень красивое лицо, и я хочу его видеть, любоваться им. Я хочу идти с тобой рядом и пьянеть от твоей близости. Слышать твое дыхание, голос твой музыкальный. Мне так нравится твой голос. Когда ты рядом, мне так легко! А, знаешь, однажды этой зимой налетела сильная вьюга — прямо с ног валило. И снег хлестал, жесткий, как осока. Я шел, согнувшись, поднял воротник и все равно было холодно!.. И вдруг я вспомнил о тебе: где ты, с кем ты в этот вечер? Шел и думал о тебе, и представил, что ты рядом. Вот как сейчас. Тогда я выпрямился, опустил воротник и вьюга для меня будто утихла, улетела… Все так же выло и мело вокруг, но мне стало тепло — это потому, что ты шла рядом.
— А я, наверное, в это время сидела в кресле и гладила своего кота, а он мурлыкал. Я всегда удираю от плохой погоды скорее домой — в тепло и уют. Включаю музыку, беру на руки Барона — это мой сибирский кот. Ласковый такой зверюга.
— И ты не думала обо мне?
— Скорее всего, нет. Я думаю о тебе, когда вижу тебя или после. А обычно я думаю о разных пустяках.
— Как ты живешь, Света?
— В общем, довольно спокойно и уединенно.
— Ты — уединенно? Ты же такая общительная! Когда ты заходишь в наш отдел, все сразу устремляются к тебе. Да ты просто очаровала всех моих сотрудников!
— Ну, это только в твоем управлении, да и, скорей всего, только в твоем воображении. Тот, кто мне нравится, выдает себя за сухаря и пытается не обращать на меня внимания. А кто не нравится — их, увы, большинство — тех я к себе не подпускаю. Вот так и получается: я вечерами общаюсь с ленками, муськами, баронами, а он… с женой.
— Света!.. Поверь, если б не жена, я бы!.. как мальчишка за тобой приударил, серенады под твоей лоджией пел бы, цветами тебя завалил!..
— Верю, Димочка, верю, милый, — грустная морщинка ложится на ее нежное лицо. — Да вот только есть только то, что есть, и ничего больше… И улица уже кончается. Вон и дом мой, — она кивает в сторону панельного здания. — А ты сейчас уйдешь? — в ее голосе слезой дрожит мольба.
— А ты пригласишь?
— А ты пойдешь? — белозубая улыбка мгновенно освещает ее личико.
— Конечно. Если можно.
— Ха-ха! — хлопает она ладошками. — Тогда давай заскочим в гастроном. Я тебя накормлю. Мне очень, очень хочется тебя покормить.
— А твой котище сибирский не вцепится мне в физиономию? Они ревнивы.
— Я его на цепь посажу.
В прихожей она зажигает тусклую бра и снимает пальто. Я оглядываюсь.
— Ты знаешь, Светик, в этой твоей прихожей живет какая-то неразгаданная тайна. С нее многое начинается в твоем доме.
— Фантазер ты мой милый, — девушка обнимает меня и губами прижимается к немецкому галстуку в диагональную «дипломатическую» полоску.
— Эй, это запрещенный прием. Ведь я с сумками и не могу сделать того же.
— Брось ты их…
— Все же лучше поставить…
— Брось ты их…
Сумки падают на пол, ворчливо громыхают жестянки, жалобно звякает стекло.
— Все-таки хорошо!.. Это очень, очень хорошо, что товары выпускают в такой прочной упаковке. Кажется, ничего не разбилось, — несу что-то идиотское, с трудом шевеля пересохшим языком. — Светик, пощади!
— Еще немножко…
Мы стоим, обнявшись в тесной прихожей, а внизу жмется к ногам и мурлычет басом огромный кот.
— Ну все… Иди в комнату. А я в ванную — приведу себя в порядок.
В комнате я ищу по стенам свой портрет, висевший раньше на доске почета, но не нахожу. Кот устраивается в кресло напротив и подозрительно наблюдает за чужаком. Мои приглашения на колени он игнорирует с ухмылкой превосходства.
«Остановись!» — вопиет изнутри лучшая половинка моей души и выталкивает на поверхность сиюминутной памяти образ молчаливой художницы, поднявшей в этот миг на меня задумчивый, полный укора прозрачно-голубой взор. Не лучшая половина мгновенно парирует: «Нужен я этой шизофреничке! Да она и не заметит, если я помру».
Но все же останавливаюсь в этом полном безумии расхристанной плоти. Унимается сладкое тревожное трясение в животе, рассеивается розовый слякотный туман.
Пока юная обольстительница готовит единственное в ее меню блюдо из собственного тела. Эту превеликую ценность, данную ей от рождения на радость окружающим, как цветок, но используемую только им на пагубу, как источник удовольствий и капитал, который необходимо хорошенько вложить в дело для получения максимальной прибыли, пока он в результате множественного использования не по назначению вовсе не испортился, подернувшись тленом греха, морщинами, ожирением, отеками.
Мой лукавый разум сейчас будет внушать, что это природная необходимость, что в этом состоит проявление мужской силы, умение подчинить себе женщину — и ни слова от него не услышишь, что это смертный грех, путем которого в преисподнюю отправляются миллионы жертв на вечное мучение. Не услышишь ты от него, что за этим с виду аппетитным блюдом скрывается блудный бес — по описанию преподобных, похожий на черную свинью, покрытую шерстью, смердящую, как гора испражнений. О, нет!.. Ты будешь видеть красивую юную девушку, пахнущую цветочным дезодорантом. Эта же зловонная свинья до поры до времени останется невидима, а увидишь ты ее воочию после освобождения души от тела на посмертных мытарствах. Вот уж там эта вонючка заявит свои права на твою душу и позлорадствует, что еще одного сластолюбца приобрела в свое хозяйство для изощренного издевательства над ним.
И это еще не все. После пьяного разгула плоти наступит тяжкое похмелье, когда ты, весь в нечистотах, возненавидев свою совратительницу, ощутишь в душе хладную воющую тоску. Вот тогда тот же лукавый разум тебе скажет, что ты совершил злодеяние, гораздо страшнее, чем убийство, потому что по правилам Василия Великого за убийство положено отстранение от церкви на срок от 3 лет, а за прелюбодеяние — от 15-ти. Напомнит, что все беззакония называются грехом, а блуд с прелюбодеянием — падением. Будет он грозить тебе тяжкой епитимьей и позором, озвученным криком священника на всю церковь, тысячами поклонов и многими часами длинных молитв. И будешь ты неделями, месяцами, а, может быть, и годами кругами ходить вокруг церкви, стыдясь зайти внутрь. А в это время тоска и отчаяние с каждым днем будут возрастать, требуя утихомирить их чем угодно — хотя бы залить водкой. И станет это зелье твоей единственной отрадой. А себя ты станешь утешать, что все так живут — и ничего. Что жизнь еще долгая — успеем покаяться!.. И станет ложь твоей новой союзницей, и со временем ты так в ней поднатореешь, что сам уже не сможешь отличить, где правда, а где она, подлая, движет твоим языком. Сребролюбие всплывет, откуда ни возьмись: надо же будет чем-то платить за удовольствия!..
Видя твою лживость, вороватость, духовную проказу, от тебя отвернутся все честные, хорошие друзья. На их место сбегутся складкоголосые любители удовольствий. И по утрам ты будешь видеть свою опухшую физиономию. Грех с каждым днем все более станет уродовать ее, пока не станешь походить на ту темную сущность, которая тебя сейчас совращает.
Стой! Шум воды в ванной стихает… С минуты на минуту она выйдет к тебе и, может статься, что ты уже не сможешь вырваться из ее сладких крепких оков. Беги! «Может, оставить записку с извинением?» — «Нет, беги немедленно!»
И я выбегаю, оглядываюсь назад, на темный отверстый зев подъезда, но оттуда выплывает картинка, запечатленная памятью из писания Святых отцов: разлагающееся женское тело, покрытое гнилью и червями… Тошнота бурлит у самого горла. Два, три, четыре квартала несусь, лавируя между прохожими. Выбегаю на большую освещенную солнцем площадь. Все темное осталось далеко позади. На душе — радость освобождения! О, ужас, от какой жуткой, зловонной пропасти отвел меня мой Ангел Хранитель! Слава Тебе, Боже!
Прихожу домой и вижу, как в самом углу под лампой водит кистью по холсту моя тихая Дуня. Но она даже не поворачивает своего лица в мою сторону — и меня пронзает стыд: «Вожделенно посмотревший на женщину, уже прелюбодействовал с нею в сердце своем!» О, женщин в этом вопросе не обманешь! Они своей интуицией чувствуют малейший сдвиг мужчины влево. Как теперь смотреть в ее глаза? Так и сидит моя Дуня, опустив голову, закрывшись от меня занавеской густых платиновых волос. И молчит.
Может быть, с этого дня в ее чутком женском организме возник запрет на рождение ребенка от мужчины, к которому она потеряла доверие. Вот уже несколько лет мы бездетны, а наши отношения стали прохладно-отчужденными. Если она и до этого не отличалась болтливостью, то теперь и вовсе замолчала. Я пытаюсь быть с ней мягким и внимательным, но снова и снова натыкаясь на незримую стену молчаливого отчуждения, сам впадаю в бессилие, и то внутренне посмеиваюсь над ней, то подолгу печально, исподлобья наблюдаю ее неторопливые трогательные движения.
Муки совести
Утром в диспетчерской встречаюсь с Василием Ивановичем и докладываю о вчерашнем ограблении меня инспектором технадзора. Выворачиваю карманы и демонстрирую отсутствие денег даже на комплексный обед в столовой. Намекаю на свою осведомленность по поводу положенного мне, как прорабу, для таких случаев денежных средств из прорабского фонда. Участковый загадочно улыбается, достает из кармана пиджака пачку накладных с приколотыми к ним скрепками деньгами и протягивает мне:
— Спиши материалы на свой объект и можешь пользоваться приложением.
Автоматически пересчитываю наличные деньги, затем перелистываю накладные: кирпич, блоки, бетон. В блокноте пересчитываю их объемы на сметную стоимость и называю огромную сумму. Василий Иванович улыбается:
— Вот ты и познакомился с планом выполнения на текущий месяц. Так что дерзайте, молодой человек, работайте с заказчиком, чтобы он там не сидел без дела. Заказчик, как ленивый раб, — без работы портится. Это еще кто-то из древних сказал. Ежели что, жалуйся мне, подключусь.
По дороге на объект в мою душу закрадывается некое сомнение: а правильно ли это с точки зрения нравственности? С глубоким вздохом отвечаю себе, что как ни крути, а получается, что это воровство. И я еще не знаю, как мне с этим жить дальше…
После расстановки рабочей силы по боевым местам сажусь на своего красного коня и скачу, то есть, конечно, еду к Юре за советом. Он приглашает меня в бытовку, поит чаем и предлагает свой вариант решения денежной проблемы.
У него, оказывается, имеется спецбригада для заработков отхожим промыслом. Он обеспечивает ее объектами, материалами и решает все споры во время получения денег. В основном, объекты небольшие: дачи, пристройки, бани, иногда — коттеджи и даже загородные дома, но это реже, так как здесь конкуренция со стороны крупных строительных фирм.
Я благодарю за совет и, обсудив другие темы, прощаюсь и возвращаюсь на рабочее место. На обратном пути в моей голове вертится и буравит сознание фраза, между прочим, сказанная Юрой: «Ты не представляешь, как мне все это надоело. Хочется остановиться и передохнуть, привести в порядок свою жизнь». Сказано это было спокойно и бесстрастно, но тем более обожгло предельной усталостью.
Юра мне понравился с первой встречи. Мы созваниваемся, встречаемся, подолгу беседуем. С ним рядом спокойно, как со старым другом. Но вероятно, профессия, и ее печальные последствия накладывают на отношения его к людям ставшее привычным недоверие. Слишком много предательств пришлось ему пережить за свою карьеру. «Не доверяй никому, ни в ком не разочаруешься», — вот его принцип. В отношениях со мной он тоже держит дистанцию. Например, семейная тема в наших разговорах под негласным табу. Я принимаю это как должное, без осуждения, это не мешает мне считать его другом.
А вечером в мою будку заходит и присаживается на краешек стула Максим. Снимает с головы монтажную каску. Пожалуй, он единственный монтажник, которого не надо заставлять носить это тяжелое сооружение на голове.
Странное впечатление производит этот человек. Росту в нем не меньше метра восьмидесяти, плечами широк, на вид крепок, как дуб, а по табелю проходит у меня инвалидом второй группы. Глаза его всегда виновато опущены, голос приглушен, движения мощного тела скованы. Что-то неуловимо выдает в нём криминальное прошлое. Не удивлюсь, если узнаю, что он сидел за какой-нибудь разбой или еще за что… Всю смену Максим одиноко сидит на корточках на штабеле панелей и аккуратно цепляет крюки стропа за монтажные петли. Никогда не кричит, не перечит начальству, в бригаде не заметен, слегка угодлив. Вот и сейчас сидит в углу и терпеливо ожидает, когда я закончу с бумагами.
— Что тихий такой, Максим? — спрашиваю бережно, как ребенка.
— Да вот…Сердце сегодня прихватывало.
— У тебя по этому делу инвалидность?
— Да… Это на всю жизнь, — вздыхает он, не решаясь сказать что-то главное.
— Ты, вроде, поговорить хочешь? — пытаюсь помочь ему. — Так говори. Давно пора нам познакомиться.
— Я… в общем, видел вас, Дмитрий Сергеич… Там… В церкви… В воскресенье. Вот.
— И что, испугал я тебя, что ли? — искренне удивляюсь.
— Да нет… Думаю, если человек в церковь ходит, значит, посоветоваться можно…
Вот так… «Господи, помоги нам поговорить с пользой, — произношу, мысленно крестя себя и сердце. — Господи, побудь с нами!».
— А ты сам по какому поводу в храме был? Из любопытства или причащаешься?
— Ну уж, причащаться!.. — вскидывает он голову. — Куда мне, уроду — да к Святой Чаше?.. Я просто стою сзади и все…
— Тебе там хорошо?
— Сердце болеть перестает, — поясняет он, потирая левую часть груди.
— Так ты посоветоваться хотел, — напоминаю я, видя нерешительность собеседника. — Говори, и не бойся, что напугаешь. Вряд ли получится. Если ты ходишь в церковь, то должен знать, как скорби и смерть рядом с нами ходят. Так же рядом, как Господь со святыми Своими. Так что, слушаю тебя, Максим!
Максим откашливается, приглаживает вихры на голове, массирует грудь и, наконец, мрачно изрекает:
— Убил я однажды человека…
Ничего себе начало, думаю. «Господи, помоги нам!» — снова про себя взываю о помощи. Собеседник поднимает грустные глаза и пытается понять, насколько сумел меня ошеломить. «Получилось, парень, — признаюсь мысленно, — продолжай, чего там!..»
— Дело в том, что раньше, в молодости, был я страшным хулиганом. Выпить любил, подраться, там… Особенно из-за девок… Девушек, то есть… Ну, понравилась мне одна… Маринкой звали. Такая красивая, видная, глаза у нее еще синие были. Красиво… А я сам тогда не то что сейчас — здоровый был, как бык. Обычно девки сами ко мне липли, а эта — ни в какую. Я и так, и сяк — цветы, там, вино, билеты в кино — все ей предлагал. А она ничего… Стал я тогда за ней следить. Это, как болезнь, было: не могу ничего делать — только о ней думаю целыми днями и тоскую. Стал ходить за ней хвостом. Вдруг узнаю, что есть у нее какой-то… Ладно бы путевый!.. Ну, там, красавец, что ли…или начальник с машиной. Так нет: заморыш плюгавый, посмотреть не на что. Обидно мне стало, ой как обидно, Сергеич! Понимаешь?
— Продолжай, я слушаю.
― Ты понимаешь, Сергеич, это не про кино говорить. Это трудно… И вот так узнаю, что у нее есть этот… Тогда сначала с ней говорю, что вот видел вас, и все такое. Она мне — ну и что? Да вот, говорю, не стоит он тебя, слабак он. Давай лучше мы с тобой ходить будем. Неужто я хуже его буду? А она мне и говорит на это, что я не стою и пальца его, заморыша этого. Тут я совсем озверел от ревности. Нагрубил ей, конечно… А сам думаю, надо с ним выяснить отношения. Нахожу его и говорю, что люблю я Маришку. Уйди в туман, и все такое… А он говорит, я тоже люблю ее, поэтому пусть она сама и решает. И так сказал спокойно, будто наперед знал, кого она выберет.
Максим замолкает, уткнувшись в затоптанный пол блуждающим взглядом. По всему видно, трудно ему дается эта исповедь. Только желание выговориться перевешивает смущение. Он кряхтит и продолжает:
— Я тогда хулиганом был. Нож себе сделал из напильника — это чтобы бросать можно было. Тренировались мы на дереве. Всю кору истыкали своими ножами. У меня очень хорошо бросать получалось. Я его еще там все время подтачивал, чтобы передняя часть потяжелей была. Так лучше он встревал. Мы все с этими ножами и ходили. Ничего, дураки, не боялись… — Максим глубоко вздыхает. — Ну, чего, думаю, надо парня этого припугнуть, чтобы от Маришки сам ушел. Подловил я его как-то ночью, когда он со свидания домой возвращался. На улице — никого. Темно, звезды только, и луна светит. Подхожу к нему в тихом месте. Снова прошу от Маринки отстать. По-хорошему прошу его, понимаешь? А он — ни в какую: нет и все. Разозлился я тогда, нож вынимаю: думаю, может, испугается. Нет, не испугался парень… Засмеялся только. Трусом обозвал. Это за то, что я на него, безоружного, ночью да с ножом наехал. Вижу — все, пропало мое терпение. Сам не знаю, как это случилось: видно я себя уже не помнил. Взмахнул я ножом и задел его острым концом в живот. Да так, оказывается, глубоко пропорол, что упал он, как подкошенный. Лежит, извивается весь от боли, а я над ним, как истукан, стою: задубел от страха.
По лицу Максима пробегают судороги, видимо, он едва сдерживает слезы. Руки шарят по коленям, правая — иногда тянется к сердцу, массирует грудь. Голова все ниже склоняется вниз.
— Парень этот много крови терял. Под ним целая лужа натекла уже. Тогда нагибаюсь к нему, а сам ничего сказать не могу. От страха все во рту запеклось. А он понял, что умирает… И успокоился вдруг. Просит меня дать ему руку. Я руку-то протянул, он сжал ее своими, а они уже холодные стали. Лбом прижался к моей руке и шепчет что-то. Ты, говорит, не бойся, я уже умираю. Я, говорит, хочу вымолить у Бога прощения для тебя. Если, говорит, я тебя прощу, то и Бог простит, потому что Ему с тебя взять уже нечего, когда я, убитый тобой, прощаю тебя. Ничего не бойся, и на суд ты не пойдешь, ни в земной, ни на Божий. Потому что уже прощен. Только руку свою не отнимай сейчас, говорит. Ты последний человек на земле, которого я вижу. Ты тоже, говорит, меня прости. Так он, прижав мою руку ко лбу, и помер…
Максим всхлипывает, протяжно вздыхает, но находит силы продолжить:
— Когда он уже дышать перестал, я встал и побежал. Долго бежал. Даже дороги не разбирал. Потом через окно влез в дом и лег в постель. На следующий день рассказали, что нашли паренька того. Мать его нашла, когда утром искать пошла. Она его домой притащила, одела и вызвала врача. Сказала, что он сердцем страдал, от этого и помер. Врач даже проверять не стал — так ей поверил. Когда я на похороны пришел, то на меня никто внимания не обращал. Там все плакали, говорили, какой он хороший был. И Маринка тоже на меня не взглянула. Она, вообще, белая, как смерть, стояла. Потом говорили, что она вроде как умом тронулась, ничего говорить не могла… Только мать его на меня разок посмотрела. Ничего не сказала, а только глазами прожгла, прямо в душу. Вот после этого у меня и стало сердце болеть. Я много раз хотел с собой покончить. Ничего не получалось. То веревка рвалась, то кто-то мешал все время. А когда раз в церковь пришел, то отпустило там. Спокойно стало, что ли. Вот и все.
— Так ты разве не знаешь, Максим, что в церкви не стоять положено, а исповедоваться и причащаться — это же главное. Парень тот, видимо, верующим был. Ведь он для тебя великое дело сотворил своим прощением предсмертным. И уж если ты пришел в церковь, то исповедай этот свой грех. Как бы стыдно не было. Как бы ужасно не было — но исповедуй священнику. И не думай о наказании. Ты уже и так наказан — дальше некуда. Пусть тебя священник накажет, пусть назначит поклоны бить и читать покаянный канон хоть каждый день. Пусть даже от причастия на несколько лет отлучит… Самое главное — снять с души этот страшный камень, который давит тебя постоянно. Ты правильно сказал: причина болезни твоего сердца — душевная, а телом-то ты и сейчас, по-моему, здоров как бык.
— Дмитрий Сергеевич, помоги мне, а? Я сам не смогу, — канючит Максим.
Конечно, я помогу этому несчастному. Куда я денусь? Максим уже получил свое по самому высокому счету. Не дай Бог единого дня такого прожить, каких за его спиной — сотни и сотни… О другом сейчас я думаю.
Тот молодой парень, который лежит на холодной земле в луже собственной крови… И сам при этом чувствует, как жизнь по капле неотвратимо истекает из его тела… И сам холодеет, как ночная земля, остывающая от дневного тепла. Вот он лежит, еще совсем молодой — ему жить бы долгие годы, а он умирает. Это, наверное, ужасно страшно вот так внезапно и медленно умирать, вцепившись в теплую руку последнего человека, которого видишь при жизни…
И этот человек — твой убийца. По глупости, по злобе, по внезапному ослеплению гордым самолюбием — не важно!.. — но он тебя убил. Какой же подвиг совершил этот паренек, найдя в себе силы умолять Бога простить своего убийцу. Нет, человек… сам человек своими силами не способен на такое. Этот парень не просто был верующим, понимая, что «где-то там что-то вроде бы есть»… Нет, к такому великому прощению человек может прийти, когда все его сердце наполнено Христом, Который Сам прощал Своих убийц, когда из Его безгрешного пресвятого тела также истекала жизнь, а холод от израненных рук и ног все ближе подбирался к сердцу…
Тогда понятно и поведение матери убитого парня. Она сумела передать сыну свою любовь к Богу. И она, сердцем чувствуя убийцу, прозревая все его будущие муки, абсолютно уверенная в том, что ее сын… убитый сын!.. уже сумел простить убийцу. И она молила Господа, которым наполнено ее материнское сердце, не мстить убийце, но простить его…
Только человек верующий знает истину: не ревнивец убил парня. Он стал лишь слепым орудием в руках сатаны — подлинного убийцы. С кем сердце твое — тому и ты служишь в этой жизни. Чем наполнено сердце, туда ты и отойдешь в жизни вечной: во адское мучение к сатане или в Небесное блаженство ко Господу, где уже нет зла, нет смерти…
Жажда
Утром просыпаюсь свежим и полным сил. Наспех пролистываю молитвенное правило. В каждое слово лезет наступающая со всех сторон суета, но внимания на это не обращаю — некогда!
Меня прямо-таки распирает бьющая изнутри энергия. Кажется, нет ничего, что остановило бы меня на пути к успеху. За завтраком жадно поедаю громадное количество яиц и колбасы, чуть ли ни батон хлеба. Все это проваливается внутрь, не сообщая сытости. Выпиваю одну за другой две большие чашки крепкого кофе. В голове сами собой складываются удивительные по красоте комбинации строительных конструкций и предстоящих поступков. Знаю точно, что сегодня мой день, и надо из него выжать все возможное. Вперед!
Легкий и порывистый, выбегаю на улицу. Люди вокруг также спешат на работу. Ох, лучше бы сейчас никому на моем пути не попадаться — смету, сомну, раскатаю! Удовлетворенно наблюдаю, как пешеходы отскакивают от меня в стороны, предчувствуя разрушительные последствия столкновения со мной. Правильно, ребята. Сегодня мой день. Я сегодня в форме!
Последним заскакиваю в автобус, чтобы выйти первым. Ну, что там, водила, почему не едем? Оказывается, следом за мной чьи-то сердобольные руки подсаживают старушку. Она зажата между мной и закрытой дверью. Упираюсь руками в верхнюю панель, что над дверными створками, отжимаю навалившийся на меня сзади пассажиропоток. Сзади кто-то крякает, кто-то пищит, но зато между мной и дверью появляется пространство, в котором уже свободно располагается старушка. Вот она даже сумела поднять ко мне сморщенное личико и благодарно кивнуть.
Про себя думаю, что же тебе, старая, в самый «час пик» дома не сидится. Что такое может у тебя случиться, чтобы висеть на подножке. Сидела бы дома, переждала бы, пока трудящиеся на вахту заступят, а уж потом топала бы по своим делишкам. Эх, ты, глупая, старая калоша…
На повороте меня бросает и крепко впечатывает в дверь. Лбом чуть не выдавливаю стекло. А где же бабка? А-а-а тут она — присела пониже и улыбается… На остановке бабушка как ни в чем не бывало спокойно сходит, а мне чуть ноги не переламывают, едва удерживаюсь за поручень, а то опрокинули бы и затоптали, как стадо бизонов.
Иду к конторе, чувствую, что от утренней бодрости во мне и следа не осталось. Даже покачивать стало из стороны в сторону. Вот ведь невезение! А я уж запланировал сегодня горы свернуть. Что-то разом сломалось. А все из-за тебя, старая!.. Как выругался мысленно — так сразу громко и неудержимо чихнул. Во время чихания, как известно, скорость потока воздуха, исходящего из носоглотки, почти равна скорости звука, вот этим ураганом, наверное, из меня выдувает все мое здоровье… вместе с мозгами. В диспетчерской сажусь на стул, прислушиваюсь к себе изнутри и делаю печальный вывод — заболел. Ни с того, ни с сего…
Автоматически делаю заявки раздражающе молодой диспетчерше, выслушиваю указания шефа (физиономия у него красная, здоровая, как у мужика выскочившего из бани; голос громкий, в силе; движения мощные, широкие…). Насилу дожидаюсь своего Васю. Вот он лихо разворачивается во дворе, подъезжает кабиной ближе к ступенькам, требовательно гудит. Кабина его «Камаза» сверкает чистым красным лаком. Выхожу, шаркаю по-старушечьи со ступеньки на ступеньку. Ругая конструктора, с трудом забираюсь на мелкую, до ужаса мелкую, высокую и неудобную подножку. Подтягиваясь и акробатически изгибаясь всем корпусом, всовываю свое грузное тело в кабину. Гляжу вниз, под колесо, от высоты кружится голова, рывком закрываю дверь. Вот это да… Вася что-то кричит, физиономия здоровая такая… Да чего ему не быть здоровым, он же ведь на воздухе…
По дороге на объект несколько раз засыпаю. Просыпаясь, долго не могу понять, где я и что здесь делаю. Вася своим веселым рассказом возвращает мне память. Но снова впадаю в забытье. На объекте к Васиному ужасу и великой радости бригадира отдаю ему машину, сам запираюсь в своей будке и падаю на лавку. Провал.
Просыпаюсь весь в поту, меня мутит и трясет. Сознание мое работает пунктирно: то оно есть, то выпадает. Как же сегодня до конца дня доработать? Хоть бы никто не пришел… Только подумал, как с шумом и грохотом врывается Александр Никитович. Физиономия здоровая, сытая, движения уверенные, голос громкий. Да чего ему, он тоже на воздухе… Я выражаю ему дряблое почтение, чувствуя, что работа с заказчиком у меня сегодня не получится. Понимает это и Никитович, здоровый как бык… Предлагает опохмелиться. Пробую ему пояснить, что я в этом не нуждаюсь, но он уже развивает идею, настроение у него приподнятое, а значит надо бы его еще приподнять до немыслимых и недостижимых разуму высот. Вызвал он кранового и послал за «белым». Тот понесся, лось здоровый, на всех парах к своей знакомой продавщице. Куда бы от них скрыться? Демонстративно ложусь на лавку и сказываюсь больным. Не тут-то было… то им стаканы нужны, то про закуску забыли, изуверы, здоровые, на воздухе, понимаешь, чего им будет, если на воздухе…
…Иду по знакомой улице, утопающей в громадных цветах. Их розовые, белые и пурпурные соцветия благоухают не так, как на юге, одурманивая и кружа голову, а изысканно тонко, нежно лаская своими ароматами обоняние. С необычно высокого бирюзового неба льется яркий, но опять же вовсе не ослепляющий солнечный свет, а рассеянный и вездесущий. Впрочем, солнечный ли? Наличие светила я только предполагаю, но не вижу: свет льется с неба, но как бы отовсюду, не создавая теней. Мягкое тепло нежит кожу… Ноги несут меня сами, как по воздуху. Перемещаюсь не шагами, а мысленными приближениями. Вокруг так же невесомо движутся люди. Они не задевают и вообще не мешают мне, наоборот, от них исходит какое-то незнакомое излучение любви и тепла. Деревья — одно удивительней другого — украшены золотистыми листьями и благоуханными наливными плодами. Их причудливые кроны слегка колышутся и шелестят замшево-перламутровыми листиками и коралловыми веточками. Ветерок приятно потягивает то с гор, величественно сияющих вдали, то с реки, плавно текущей по руслу уютной долины. Мне здесь до детских слез всё радостно знакомо, но никак не могу понять, где все это. И почему здесь так необычно красиво?
Когда дивная картина тает, возвращаюсь в мир моей болезни, моей суеты, шума, грязи и ругани. Меня наполняет горькое сожаление. Такое горькое, что даже во рту, во всем теле, в каждой клеточке чувствую желчную, едкую горечь…
Наконец, заказчик с крановым ушли. Бригадир уже вернулся и властно раздает подчиненным команды. Вася уехал, наверное, обедать. Заглядывает бригадир, веселый, обдает меня запахом здорового мужицкого пота и лихим весельем — видно не зря машину прогонял, с пользой… Сочувственно предлагает мне ехать домой — отлежаться. Уверяет, что все будет в порядке, он проследит. Пытаюсь ему объяснить, что у меня дела намечены, мне бы только малость отсидеться, а потом уж я… Бригадир машет рукой и объявляет, что машина подана, чтобы я отправлялся баеньки. С начальственным вздохом крайне озабоченного трудяги встаю. Кое-как забираюсь в кабину, еще раз поминая нелегким словом конструктора этой ужасной ного–выво–рачи–вающей подножки…
До вечера лежу в постели. Тело налилось гадкой тяжелой вялостью. Пошевелиться — и то трудно. Меня постоянно мучает жажда. Чтобы дотянуться до стакана воды, требуются немыслимые усилия. Сознание цепляется за какие-то несущественные мелочи: рассматриваю потолок, стену, выключатель… Тупо глазею в одну точку, потом в другую. Временами проваливаюсь в сон. За окном стемнело. После очередного погружения в небытие, просыпаюсь, чувствую в себе силы встать с постели.
Взгляд падает на икону Спаса Нерукотворного, задерживается на Его пронзительном добром взгляде. Стою и смотрю прямо в эти глаза. Сам себе говорю: «помолись». Зажигаю лампадку, беру в руки молитвослов. Вычитываю одну за другой молитвы из вечернего правила, постоянно ощущая на себе этот прожигающий мою бесчувственную тупость Отеческий всевидящий и всепонимающий взгляд. Дохожу до молитвы Святому Духу. Особенно сильно звучат и беспокоят слова: « …или кого укорих; или оклеветах кого гневом моим, или опечалих, или о ком прогневахся…или нищ прииде ко мне, и презрех его, или брата моего опечалих, или кого осудих, или развеличахся, или разгордехся, или разгневахся…» и дальше: «…или неподобная глаголах, или греху брата моего посмеяхся, моя же суть бесчисленная согрешения…» .Эти слова прямо в сердце капают раскаленным жидким огнем…
Вспоминаю свое утреннее буйное превозношение, старушку, которую мысленно ругал последними словами … Ну, вот, теперь все понятно. Осудил старческую немощь — и сам таким стал. Сколько раз читал у Святых отцов, что осужденный грех к тебе же и возвращается. Бумерангом. Что-то уж слишком быстро вернулся… Так это же прекрасно! Это чтобы сразу и доходчиво… Это чтобы ты в суете о главном не забывал. Слава Тебе, Господи!
…Третий день в груди живет тяжесть. Она обволокла сердце, сдавила его липкими присосками, и все мое существо тянется вниз, к хладной грязной земле. Ношу эту тяготу и брошенным щенком взываю о помиловании. Одно успокаивает: нет уныния, наоборот, мое отягощение напоминает несение креста. Утренние молитвы очистились от накатывающей суетности рабочего дня, а вечерние — от вялой усталости. Молитва пульсирует ритмично, с новой силой вырываясь из сердечной тяготы в необозримые высоты, словно святые творцы этих молитв помогают мне.
После вечернего молитвенного правила нет желания встать и заняться другими делами, наоборот, внутренний прожектор освещает то одного, то другого, то целое семейство людей, за которых мне дано молиться. Всплывает в памяти самое главное в нашем общении, обнажаются корни обид и конфликтов, вспышками света прорываются мгновения взаимной любви. Как радостно молиться за людей!
Внимание снова возвращается к моему «змеиному питомнику» — скопищу грехов. Безжалостно с помощью Иисусовой молитвы, вместо «…помилуй мя грешного» умоляю помиловать меня злобного или немилосердного… Без запинки, один за одним, даже ничтожные мимолетные греховные помыслы — все до чиста — изничтожаю шипящее мстительной ненавистью население моего душевного серпентария.
Но вот и покаяние иссякло. Можно бы встать и успокоиться, только не могу выйти из дивного внутреннего покоя. Стою и молчу, как слепоглухонемой, очарованный этим новым абсолютным звенящим одиночеством. «В теле, не в теле — не знаю», ничего не знаю, ничего не чувствую, кроме новизны и покоя.
Тем не менее, где-то глубоко внутри меня что-то постоянно сгущается и нарастает. Сначала будто это меня и не касается, и глубина эта уже не моя, может быть потому, что там мне бывать еще не доводилось. И вот мое одиночество, кромешная пустота вокруг и внутри усиливаются еще и… появляется жажда, только она не в гортани — я весь превращаюсь в необозримую потрескавшуюся от зноя пустыню, которая молча жаждет.
И все это происходит тихо и незаметно, совершённое неизвестными органами чувств, наверное, душевными очами, о которых слышал и читал, но в себе не ощущал. Неужели эта жажда будет возрастать? Да куда же больше! Я весь иссохну, истлею… По гладкой поверхности пустыни зазмеилась трещина моего смятения, она бежит вдаль, разрастается, и в провале зияет бездна, над которой я стою на самом краю надежды. Мое «Господи, не остави!» — звучит раскатом грома в пустынной тишине, пугает, но потом и успокаивает.
Жаждущая немая темнота сгущается до невообразимого предела… «Господи, Иисусе!..» — громыхнуло из меня в последний раз — и совершилось!
Густой мрак заполняется мириадами росинок света, обильно насыщая, освещая, питая всю мою вселенную.
Мне остается лишь впитывать эту желанную сладость всепроникающего Присутствия и благодарно молчать, не дерзая даже малейшим звуком или невольным движением привнести в эту вечную гармонию свое недостоинство.
Ломать — не строить
Идея насчет заработков для покрытия непредвиденных расходов, поданная Юрой, не дает мне покоя. Вырваться из порочного круга воровства, дать подработать бригаде, получающей по нынешним временам гроши, — это стоит хлопот. Получив одобрение и поддержку бригадира, я приступаю к поиску объекта.
В ближайшем дачном поселке мы с Васей вечером объезжаем один за другим дома. Уже в третьем по счету молодая женщина проявляет к нам интерес и устраивает допрос: кто мы и откуда, какой квалификации и в какой цене наши услуги. Отвечаю на вопросы, изрядно пересыпая информацию профессионализмами, а сам тем временем разглядываю дом за ее спиной: обычная изба довоенной постройки. Во дворе стоит новенькая «Волга». Огород ухоженный, с ровными аккуратными грядками. Про себя думаю, что здесь предстоит большая работа вплоть до полной перестройки. Высказываю идею вслух. Хозяйка в ответ согласно улыбается и предлагает подождать мужа, который должен скоро подъехать к ужину.
Мы с Васей наперебой нахваливаем огород, чистоту и порядок, за что получаем приглашение войти в дом. Не успеваем присесть на диване и как следует оглядеться, как слышится радостный лай собаки и шорох автомобильных шин по щебенке. На пороге вырастает коренастая фигура хозяина, который громко, но весело сетует:
— С молодой женой всегда так: мужа нет дома — сразу юноши толпами шастают.
— Ну, Юрик… — выпячивает губку жена, поднося щеку под поцелуй.
— Я так понимаю, что вы строители и собираетесь у нас дворец построить вместо этой развалюхи. Похвально, — говорит он и одновременно целует жену в щеку, переодевается, заглядывает на кухню и моет руки. — Светик, ты уже договорилась?
— Ну, Юрик…
— Правильно. Умница. Я сам обдеру их так, что они у меня отсюда нищими уйдут. Конечно, после постройки дворца… Ха-ха-ха! — хозяин трясется всем телом и подмигивает нам. — Да вы не бойтесь, ребятки, я просто очень и очень веселый, потому что… зарплату сегодня получил и при вас сейчас ее всю до копейки жене отдам. Это чтобы она никогда не говорила, что я ей зарплаты не даю. Ха-ха-ха!
— Юрик, оставь ты эти фокусы для соседей. Ребята у нас серьезные, им заработать надо.
Теперь уже молодая жена Света нам заговорщицки подмигивает, на что мы с Василием отвечаем благодарными улыбками.
— Имейте в виду, юноши, что у меня так: и заработки, и шутки, и харч ломовой — все сразу и по высшему разряду. Потому что человек я веселый. А мой принцип такой: живи сам и помогай это делать другим. За стол! За стол, дорогие мои строительные юноши. Сегодня у нас окрошка со студнем. И дайте в лицо любому, кто вам предложит окрошку с какой-то пошлой колбасой или там вываренным безвкусным мясом, ха-ха! Классическая окрошка, дети мои, готовится только со студнем. И чтобы покрепче, да помясней, да попостней!…
Следующим вечером приступаем к подготовительным работам. Пока нас трое: Максим, который оказывается каменщиком высшего разряда, и мы с Васей. Выносим вместе с хозяйкой все барахло из старой кухни и начинаем полегонечку разбирать пристройку. Хозяин принимает от нас деревянные конструкции, складывает их в сторонке, практично предполагая использовать их в качестве дров.
Наш Юрий Петрович сегодня весел не только благодаря врожденному легкому нраву, но и не без помощи выпитой водки. Каждые полчаса он заботливо выносит из дома поднос с рюмками и огурчиками с домашней бужениной. Неугомонный рассказчик выкладывает нам биографию свою, родственников и близких. Из них мы узнаём, что Света его вторая жена, она работает директором поселкового торга. Он — главный инженер мясокомбината. Кроме этого загородного дома, у них имеется еще две квартиры, оформленные на родителей, несколько гаражей с машинами и много чего еще.
В один из перерывов нам устраивают экскурсию по дачным достопримечательностям. В одном сарае в три ряда высятся клетки с голубыми хорьками — всего зверьков около сотни. Каждый год эта звероферма «приносит автомобиль». Еще он показывает нам владения сенбернара Кери. Кери еще дитя: ей восемь месяцев, хотя весит уже под сотню килограммов. Ее щенки тоже будут приносить доходу не меньше хорьков, потому что родословная ее ведется с пятнадцатого века из английского придворного рода. Еще на участке имеются сараи со свиньями, нутриями, кроликами, а также коптильня, мангал, десяток ульев. Все это содержится в идеальном порядке. Породы животины и пчел, разумеется, отборные, элитные и плодовитые. Каждый клочок земли, каждая тварь приносит доход или пищу.
Разбираем пристройку на удивление быстро. Ломиком приподнимаем бревнышко, кувалдой его выбиваем — и подаем хозяину для распиловки. Молодая хозяйка проворно убирает мелкий мусор. На всю эту работу у нас уходит всего-то три часа. А строилось это сооружение, поди, не меньше месяца.
Еще не поздно, но хозяин предлагает на сегодня закончить и приступить к ужину на природе. На стол веранды он выносит множество закусок на замысловато расписанных тарелках и супницу саксонского сервиза. Когда под неумолкающие комментарии хозяин торжественно поднимает крышку супницы — в наши ноздри ударяет головокружительный чесночно-мясной аромат хаша — грузинского супа из свиных ног, хвостов, ушей с чесноком и зеленью.
Юрий Петрович выпивает фужер водки, в несколько секунд опорожняет тарелку и предается воспоминаниям из своих грузинских похождений. Размахивая руками, он рассказывает, что хаш грузины варят всю ночь и кушают утром с похмелья с тремя рюмками водки или чачи. А когда едешь в общественном транспорте на работу, то от каждого порядочного мужчины там пахнет не перегаром, а чесночным ароматом. При этом он включает компактную циркулярку и распиливает на ней дровишки. Несколько раз он настаивает на добавке хаша в наши тарелки, водки — в наши рюмки, сам с охоткой выпивает и продолжает пилить дрова, не замолкая.
На дачный поселок опускается теплый тихий вечер. Я поглядываю на разомлевших от сытного ужина коллег, на звездное небо, на суетящегося вокруг циркулярки хозяина и благодарю Господа за все это: чудный вечер, приятную тяжесть в мышцах, денежную работу, которая оборачивается для нас приятной необременительной разминкой с радостным покоем в душе, за эту сытную трапезу, весельчака-хозяина и за все-все.
Потом нас потчуют душистым чаем с домашним ягодным тортом и анекдотами о русско-грузинской дружбе. Но внезапно что-то происходит… Мы резко вскакиваем. Наш хозяин сначала обрывает на полуслове анекдот, потом задирает руку вверх и, размахивая зажатым в руке носовым платком, громко причитает:
— И ничего не больно! И совсем даже не страшно! Светик, ребятки, вы только не волнуйтесь! Просто я себе пальчик отрезал.
Он подпрыгивает к обмершей жене, целует ее в щеку и просит вызвать неотложку. Сам бросается к столу и наливает себе полный фужер водки. Выпивает его и кричит:
— Как хорошо, что я пьян! О, как хорошо, что я выпил много-много водки! Мне совершенно не больно! Ой, мама! Да где же эта неотложка!
Вася предлагает отвезти в больницу на своем «Камазе», но он отказывается, ссылаясь на то, что ему срочно нужно вколоть обезболивающее, а то он по дороге от болевого шока умрет. Вот и машина с красным крестом и сиреной. Юрий Петрович с женой прыгают в машину и уезжают. Дома остаемся мы одни, водитель-телохранитель Сергей и жалобно воющая Кери. Мы удрученно одеваемся, прощаемся и уезжаем на самосвале.
Из общежития звоню пострадавшему. Он, как ни в чем ни бывало отвечает бодрым голосом. Все у него нормально, если не считать потерянной фаланги пальца, которых у него еще ого-го как много — целых… двадцать на три минус одна, то есть пятьдесят девять штук. Просит не беспокоиться. А я слышу ворчание его жены, которая требует лечь в постель и больше не подходить к телефону. Юрий Петрович снова хихикает и говорит, что так приятно, когда о тебе беспокоятся, что он теперь каждый день по фаланге готов себе отчекрыживать. На прощание я прошу его все-таки поберечься, потому что людей добрых и веселых на земле не так уж много. Мой собеседник готов развить эту тему, но видимо вмешивается его заботливая супруга — наш разговор прерывают короткие гудки.
Культовая личность конторы
В пятницу перед праздником в конторе собирается все начальство. По автомобилям, припаркованным во дворе, можно предположить насколько, кто и как вписался в нынешний НЭП. Начальник приехал на «Волге», но бронированной, с двигателем от «Чайки». Фомич заявился на потрепанной «Тойоте», Юра — на стареньком «Москвиче».
А это что за чудо? Во двор въезжает сверкающий «Ягуар» цвета белой ночи. Мы с Ритой прилипаем к оконному стеклу. Действительно, зрелище стоит того: из мощной престижной автомашины выходит вальяжный джентльмен в дивном светло-песочном костюме, подчеркивающем спортивную фигуру. Его жесты небрежны и неторопливы, пружинистая походка полна достоинства, манеры — аристократические.
— Доктор!.. — слышу рядом восхищенный выдох Риты.
— Мы что, «скорую» вызывали? Кому-то плохо? — вяло реагирую я.
— Мне… И всем остальным…дамам. Он — культовая личность нашей конторы!..
В это самое время джентльмен по кличке Доктор демонстративно, но тщательно сдирает с рук автомобильные перчатки из поросячьей кожицы. Ну, конечно же, бросает их на сиденье и с мягким щелчком закрывает дверцу. Глядя перед собой, поднимается по ступеням, словно они ведут в Букингемский Дворец. Через минуту, едва Рита успела провести расческой по своим непокорным волосам и нервно взбить их к потолку, Доктор входит в прокуренную диспетчерскую, оглядывается, поворачивая для всеобщего обзора ухоженную голову с гладким энергичным лицом. Взгляд его внимательный, но ненавязчивый. Смотрит как бы искоса, несколько покровительственно. Риткина рука подлетает к его губам, изогнутым иронической улыбкой. Даже когда он отвешивает протокольный полупоклон, спина его остается неправдоподобно прямой. Видимо, ось изгиба проходит через его тщательно обезжиренную талию.
— О, у нас пополнение, — оборотился ко мне Доктор. — Риточка, представьте меня, пожалуйста, молодому человеку.
— Доктор. То есть, конечно, Филипп Борисович. А это — Дмитрий Сергеевич, новый прораб третьего участка.
— За «молодого» благодарствуйте… А почему Доктор? Это как-то связано с медициной? — слышу я собственный нахальный фальцет, нарушающий торжественность ситуации.
— Филипп Борисович — доктор технических наук! — поясняет Рита.
— Мистэйк, май свит бэби, — снисходительно улыбается светило науки, — ошибочка… Степень у меня кандидатская.
— Что же так-то? — обижаюсь я за него, кивая в сторону воображаемых завистников. — Не пущают ближе к вершине?
— Научная карьера — это не совсем то, что нужно свободной личности, — доходчиво поясняет Доктор. — Нынешняя наука — заложница денег и славы, но никак не слуга истины.
— Выходит, кратчайший путь к истине — через выполнение плана в строительной конторе?
— Это кратчайший путь к моей персональной свободе, — тактично, но твердо осаживает меня сей достойный джентльмен и, слегка кивая великолепной головой, удаляется наверх, почтить начальство. Футы-нуты…
Я ловлю себя на неуклонном росте уважения и интереса к этому человеку. И вполне понимаю Риту, глубоко вздыхающую по поводу его исчезновения. Вот, наконец, и мой Василий Иванович из такси цирковым мишкой выкатывается. Вместе с ним под его могучее сопение поднимаемся на второй этаж.
В актовом зале женщины ставят последние штрихи к натюрморту, выстроенному на длинном столе, составленном из конторского инвентаря, покрытого белой чертежной калькой. Мужчины заходят к начальнику для приветствия и доклада о выполнении плана, получив нагоняи за срывы и накладки, выходят и толпятся ближе к лестнице, чтобы соблюсти хотя бы видимое уважение к некурящим женщинам и технике безопасности. Здесь странно смешиваются аромат «Парламента» с угаром «Примы», а многоэтажная брань с научно-техническими и философскими терминами. Линейщики отличаются от конторских только ковбойским загаром. Сегодня все подтянуты, при галстуках, выглядят солидно, во всяком случае, перед застольем.
А вот и основные идут: начальник и трое участковых. Каждый по-своему колоритен: Игорь Евгеньевич — блеском золотой оправы, Юра — изящной хрупкостью, Василий Иванович — богатырской комплекцией, Доктор — английским шиком. Мы разом затихаем и гуськом подтягиваемся к столу.
После скучноватой речи начальника начинается праздничный ужин. Все, насколько можно, держат ритуал. Следуют одна за другой ответные, встречные и дополняющие речи начальников участков. После второй рюмки сухого вина Игорь Евгеньевич предлагает спеть песню. Фомич шепчет мне, что это предзнаменование скорого ухода. После нескладного, но громкого пения романса о калитке и накидке, начальник откланивается и в сопровождении участковых покидает застолье. Через несколько минут участковые возвращаются, Василий Иванович, хлопает в ладоши и возглашает:
— Танцуют все!
Начинается неторжественная часть застолья. Предполагая дальнейшее, я порываюсь уйти домой, но на мое левое плечо ложится копченая клешня Фомича, а на правое — тяжелая длань Василия Ивановича. Отложив реализацию плана отступления, вздыхаю и беру в руку протянутый мне тяжелый стакан…
Гремит музыка, кружатся танцы, то смешиваясь в толпу, то снова разбиваясь на пары. Быстро пустеют бутылки. Я сжат с обеих сторон куратором и начальником, которые меня упорно доводят до нужной им кондиции. Мои периодические заверения, что кондиция уже вполне соответствует норме, и мне нужно на тур вальса, не оказывают на них должного воздействия. Тогда я, как бы нарочно, выплескиваю из своего стакана в обе стороны, и пока мои мучители промокают брюки салфетками, выскальзываю из их железных тисков. Ноги сами несут меня на танцы. Рита хватает меня в объятия и громко жалуется, что Доктор станцевал с ней только два раза, а с Ольгой, стервой, уже пять раз, а с Танькой, уродиной, уже десять.
На самом деле, Доктор танцует по очереди со всеми, чтобы никого не обидеть. Изредка ловлю на себе его трезвый заинтересованный взгляд. Хотя на меня глазеет не только он. Мне кажется, что я в самом центре внимания. Так же как Доктор, приглашаю по очереди дам, начиная с молодых и далее… За спиной слышу крик Тихона: «Да этот главковский щенок всех дамов уводит из-под носа! Нет, вы только посмотрите!» Это, наверное, про меня, потому как из главка здесь в настоящее время больше никого нет. Краем глаза, не выходя из ритма танца, соблюдая все необходимые повороты и шаги, наблюдаю, как Василий Иванович пытается успокоить главного буяна нашего участка. Тихон уже снял пиджак и галстук и теперь закатывает рукава. Я внутренне приготовился к достойному ответу наглой клевете, порочащей мое доброе великокняжеское имя. Когда танец заканчивается, я галантно кланяюсь своей партнерше и провожаю ее к столу.
Напружинившись и чувствуя закипание в жилах бойцовской крови, в несколько шагов подхожу к Тихону и требую еще раз пояснить суть его претензий. Тихон гнусаво что-то бубнит о дамах и танцах, но вскоре совсем запутывается и орет, что он меня по стенке размажет. Я отвешиваю ему легкий поклон и предлагаю приступить к реализации плана. Музыка стихает, в зале повисает тяжелое затишье, как пред грозой. Тишина постепенно устанавливается и внутри меня.
Жду его первого удара, часто-часто мысленно произношу Иисусову молитву, слежу за его правой рукой и буровлю бесстрастным взором его угреватую переносицу. Тихон набычившись стоит напротив, но ударить первым не решается. Я же этого не делаю из принципиальных соображений. Уж не знаю, сколько бы продлилось это противостояние, если бы не Доктор. Он возникает рядом и кладет на наши плечи свои руки. Его кистевой захват оказывается жестким, как стальные клещи. Мы с Тихоном удивленно взираем на спортивного джентльмена, который вежливо улыбается нам и предлагает выпить за дружбу и взаимопомощь. И только после нашего молчаливого кивка, он разжимает свои клещи. Не знаю, как Тихон, но я чувствую, что мышцы моего плеча онемели, а рука не может подняться.
И вот мы уже сидим за столом, и каждый действующей рукой, пригубливаем коньяк, заботливо предложенный миротворцем. Только мы с Тихоном знаем, что на сегодня, кажется, мы уже не встанем в боксерские стойки, потому как для этого нужно привести в действие повисшие, как плети, наши руки: мне — левую, Тихону — правую.
Через какое-то время я оказываюсь в машине Доктора. Мы катим в неизвестном направлении, а мой сосед развивает любимую тему:
— Чтобы оставаться свободным в любом коллективе, будь то шайка бандитов или английский клуб, нужно продемонстрировать людям свои силовые возможности, оставляя главные козыри до поры прикрытыми. А какие возможности на сегодняшний день самые сильные? Правильно: деньги и связи. Когда я вхожу в кабинет Игоря, экскьюз, Игоря Евгеньевича, он срывается с насиженного места и пулей летит приветствовать мою персону, а почему? Да потому что, если мне понадобится, нужен лишь один звонок — и его карьере конец. Верно и обратное — один мой звонок может вздуть его до заоблачных высот. Вот и вся недолга. А ты в драку полез, как сорванец какой…
— Но ведь и ты полез туда же…
— Это другое. Я лишь навел порядок во вверенном мне коллективе.
— Я тоже его наводил, только относительно своей чести.
— Ну, ладно, ладно, расслабься… Чтобы этого больше не повторилось, ни сегодня ни когда вообще — я тебя и увез с собой. Признаться, долго в этом коллективе находиться для меня обременительно. Когда привыкаешь к обществу людей сильных, весь этот совок быстро наскучивает.
— А в чем ты видишь свою силу — только в деньгах и связях?
— Ну, почему только… Как ты успел заметить, у меня и физическая имеется, и много чего еще.
— Не пойму только зачем тебе нужна нынешняя должность? Почему, к примеру, тебе не учредить свою собственную фирму?
— А мой участок и есть моя фирма… Те несколько объектов, которые в плане — только верхушка айсберга. Кроме того, мы строим даже за границей. Хочешь, к примеру, я тебя в Майами отправлю? Есть там у меня несколько объектов — симпатичных домиков.
— Гм… Давай вернемся к этой теме попозже… — говорю я, ощущая головокружение не от спиртного — я трезв, а от близости такого человека и открывающихся перспектив. Еще раз разминаю заметно ослабевшую левую руку и спрашиваю: — Где ты такой кистевой захват наработал?
— Ежедневными трехчасовыми тренировками: теннис, тренажеры, велосипед, бокс… Сознаюсь, что и витамины принимаю — не аскорбинку, конечно, а те, которые глотают голливудские звезды, чтобы всегда в форме быть. Дорогущие!.. Американцы уже разработали целую систему жизни, при которой можно жить до ста тридцати лет и при этом до самой смерти оставаться в мужской силе. Я уже живу по этой системе, и мне нравится.
— А зачем? — вырывается у меня недоумение. — Ну, зачем искусственно продлевать срок заточения в тленном теле? Может, лучше вместо этого кое-что сделать для своей вечной жизни?
— Нет никакой вечной жизни! — жестко чеканит Доктор. — Сказка это все для слабосильных. Все очень просто: есть сильные и слабые. Сильные — лидеры, слабые — их рабы им повинующиеся. Чтобы рабы не думали о себе чего лишнего, для них и придумывают разные там вечности, смирение, кротость и прочее непротивление воле сильных мира сего.
Между тем автомобиль плавно тормозит у роскошного мраморного входа без вывески, но с двухметровым швейцаром в старинной золотой ливрее. Мой спутник берет меня за локоть и проводит мимо ряженого громилы внутрь.
Здесь в мягком полумраке играет негромкая музыка. Мы входим в одну из дверей и попадаем в кабинет с камином во всю стену. Дровишки в его громадном чреве полыхают дикарским пламенем пещер. Только садимся за стол, как из-за тяжелой портьеры бесшумно возникает официант, смахивающий на лорда Байрона в период его увлечения профессиональным боксом. Мой далеко не дешевый финский костюм из закрытого «главковского» магазина, почти что ненадеванный, в этих апартаментах выглядит более чем скромно. Я и сам себя чувствую не в своей тарелке, чего, наверное, мой спутник и добивается. Вот уж кто здесь на своем месте — так это он. Сейчас, например, он делает заказ официанту на приличном английском языке. После того, как обслуга бесшумно удалилась, Доктор вспоминает обо мне и объявляет, наконец, что находимся мы в одном из ресторанов Английского клуба.
— Почему не турецкого, к примеру, или финского? — вырывается из меня.
— К чему нам такие излишества! Мы тут по-простому, скромно… — улыбается он.
Бесшумный официант ставит на стол подобие примуса, зажигает огонь, на него водружает сковородку и принимается на наших глазах виртуозно жарить стэйки из увесистых плоских кусков мяса.
— У них что — кухня вышла из строя? Готовить, бедненьким, негде? Совсем уже дошли…
— Это такая древняя традиция…
— Как у кавказцев на пляже?
— Примерно… Эти наивные англичане — пленники своих традиций. У них все от корней…
Доктор терпеливо поясняет, что бычков для этого блюда выращивают на специальных угодьях, по особой методе, чтобы достаточно мягкие и сочные мышцы нарастали вперемежку с легким, но упругим жирком. Не успеваю я пожалеть бедных животных, закланных с малолетства для столь изощренного чревобесия, как официант, подхалтуривающий поваром, ставит перед нами тарелки с шипящим жареным мясом, украшенным на мой вкус совершенно несовместимыми с мясом сливами, ягодным вареньем и пудингом. В тяжелые толстенные рюмки льется портвейн, испаряющий тяжелый многолетний дух.
— Ну, что дерябнем портвешку под шашлычок? — потираю я руки.
— Предлагаю альтернативу: отведать самый дорогой в мире классический стэйк и запить его прекрасным, особой выдержки портвейном, специально подогретым до температуры двадцати четырех градусов. Это для проявления в нем тончайших оттенков вкуса и аромата.
— Можно и так, — великодушно соглашаюсь. Отрезаю кусок мяса, из его середины брызжет кровища. Вздыхаю про себя: — Еще и недожаренное… Как бы несварение желудка не случилось…
— Здесь неплохая компания собирается: разведчики, дипломаты, бизнесмены, богема…
— …И прорабы, — дополняю справедливости ради.
— Это то самое приятное для нас исключение, которое подчеркивает столь консервативное правило.
— Думаю, это самая ценная их клиентура со времени основания.
— Тебе здесь не нравится?
— Да, нет, ничего, культурно, хлоркой не воняет… Только по-моему, расходы не соответствуют достигнутой цели. Подкрепиться можно и дешевле.
— А этот неповторимый английский дух? Здесь себя начинаешь уважать. Вспоминаешь, что и ты принадлежишь не к рабам, но к людям избранным. Разве не так?
— У нас разные представления об избранничестве…
Покончив с горячим, пересаживаемся в кресла к камину. Мой проводник по дебрям английских традиций предлагает мне шерри и сигару. Я учтиво отказываюсь. Дальше Доктор развивает тему своего графоманства.
— Как-то читаю, не помню уж какой, но довольно занимательный романец, — неторопливо вещает мой собеседник, окутывая нас прогорклым дымом сигары. — Вдруг замечаю, что мне уже известно все, что дальше случится. Пролистываю окончание — действительно, все так и происходит. Пробую читать другие, более трудные вещи — тот же эффект, мне заранее все известно. Дай, думаю, сам возьмусь писать. Грамоте, вроде бы обучен… Покупаю себе, разумеется, «Паркер» с золотым пером, хорошей писчей бумаги — люблю, знаешь ли, все обставить должным образом… И пишу первую фразу. А как же? Первая фраза значит очень много. В ней — зачин, вектор, первый укол шпаги… Так вот стало быть, пишу: «Жизнь, как известно, событие сложное и непредсказуемое». Написал, перечитал и вдруг понял, что остальное, в сущности, уже не так важно. Дело, как говорится, техники и времени. Понял также, что одна эта фраза весит на Нобелевскую премию в области литературы.
Человек я предусмотрительный, и нет для меня ничего более приятного, как все заблаговременно приготовить в лучшем виде. Роман, думаю, от меня никуда не денется: напишу его при случае. А вот, когда придется за него премию динамитчика Нобеля получать, здесь никак нельзя ничего пускать на самотек. Это уже серьезно, потому как событие одноразовое и крайне ответственное. Значит, в первую очередь необходимо фрак приличный заказать и речь набросать. Опять же нелишне всю церемонию заранее изучить, чтобы казуса не допустить.
Ну, с фраком дело нетрудное. Узнал через солидных знакомых, кто лучше всех шьет, и заказал этому старичку. Когда тот узнал, что фрачный костюмчик для получения Нобелевской премии, то весь просиял важностью момента, расшаркался, стал о своих клиентах вспоминать… Он же мне посоветовал какие аксессуары подкупить.
Церемонию вызнал в библиотеке. Кое-что рассказали господа из клуба, которым довелось там побывать. Ничего сложного, оказывается, нет. К тому же руководит церемонией наш русский Миша Сульман из 110-й московской школы, сын бывшего шведского посла в России. Главное там не запутаться с поклонами: здесь нужна определенная последовательность: сначала поклониться королю Швеции Карлу ХIV Густаву, вручающему награду, потом — королевской семье, сидящей во время церемонии здесь же, на сцене Стокгольмского Концерт Холла. Затем — сидящим там же представителям Нобелевского фонда, известным ученым и лауреатам прошлых лет. И в самом конце — залу.
Король там у них довольно приятный господин с большими светлыми глазами добряка, но королева Сильвия!.. Это, я тебе скажу, национальное достояние: обворожительно красива, в длинном платье с открытыми плечами, на длинной шее — великолепная голова, под короной — прическа, выстроенная из густых темно-каштановых волос. В короне, колье и серьгах — громадные бриллианты и сапфиры каратов по двадцать. А улыбка, а глаза, а стать — это все стоит того, чтобы туда попасть. Кстати, «увести» королеву и жениться на ней — это может стать неплохой целью жизни.
Я слушаю болтовню и сквозь его непроницаемую вежливость наблюдаю, как он, в свою очередь, наблюдает за мной. Про себя думаю, когда же он завершит эту затянувшуюся прелюдию и приступит к основной части программы. И уже сквозь подступающую дрему слышу:
— Так почему тебе, Димитрий Сергеевич, в главке-то не сиделось? Я понимаю, что ты устал отвечать на этот вопрос, но все же, эксклюзивно, так сказать…
— А по той же причине, по которой и ты здесь застрял, — произношу я, просыпаясь, и даже чувствуя легкий прилив сил. — Для обретения свободы. Однажды мне довелось наблюдать, как работает спасатель на воде. Когда он подплывает к тонущему, первое, что он делает — это бьет по физиономии, чтобы тот не схватил его и не утащил на дно: человек в состоянии паники обретает жуткую физическую силу. А уж после этого тащит утопленника на берег. Вот я и врезал себя по физиономии, чтобы не утонуть в чиновничьем болоте.
— Вот что уважаю в людях — так это нетиповое мышление, — задумчиво произносит мой собеседник. Затем слегка хлопает себя по коленям, встает и предлагает: — А не закатиться ли ко мне в гости?
— Разве только на часок…
— Это как получится, май диэр фрэнд, — мудро предполагает Доктор.
Снова катим в комфортном салоне английского автомобиля по ночным улицам. Мне удается приметить уважение к нашему транспортному средству со стороны попутчиков. Это заметно по бережной манере обгона и угодливой готовности уступить дорогу. Скорость, которую мы развили, явно превышает дозволенную, но гаишники и не думают нас тормозить. С проспекта сворачиваем на тихую улочку и скоро въезжаем во двор обычного кирпичного дома. Единственно, что отличает его от таких же близнецов вокруг — это военизированная охрана со шлагбаумом. Нас пропускают на охраняемую территорию без остановки. Лицо охранника, мельком вырванное из темноты светом наших фар, выражает уважительную приветливость боевого офицера, знающего себе цену.
— Полковник спецслужб, — читая мои мысли, комментирует Доктор, — с одного выстрела попадает мышке в глаз, в темноте на слух. Мы как-то проверяли на спор. Чутье — как у нинзя. Однажды рассказал, что выследил врага по запаху на расстоянии больше километра. И это в довольно запашистом Париже. Какими кадрами держава разбрасывается…
В прихожей квартиры к нам навстречу не выскакивает весело лающий пес, не ждет женщина в бигудях со скалкой, даже юная гейша не приносит с кукольных ручках своему хозяину предварительно согретый шелковый халат… Ловлю себя на мысли, что ничего не знаю о семейном положении своего знакомого. Об этом — молчок. Ну, и ладно, захочет — сам доложит. Иду следом за хозяином в просторную комнату. Уже не удивляюсь ни камину до потолка, ни шелковой обивке стен, ни обилию книг в громадных дубовых шкафах. Сижу в кресле и гадаю, чем будут развлекать меня на этот раз. Хозяин растапливает камин, затем, любуясь языками пламени, говорит:
— Ты здесь минут пять поскучай, а я сейчас обеспечу наше ближайшее будущее розовыми тонами.
Хозяин, в чем был, скрывается за входной дверью. У меня имеется время привести в порядок свой внутренний мир. Прислушиваюсь к себе и понимаю, что совершенно трезв, спокоен и настроен скорее благожелательно, чем наоборот.
После «Господи, помилуй, защити и сохрани» ощущаю настоятельную потребность помолиться, и, как ребенок, радуюсь этому. Чтобы не было так стыдно своей внутренней грязи, начинаю с покаяния. Кладу сложенные, как для крестного знамения, пальцы на грудь напротив сердца, обращаю туда все внимание, готовое в любой момент рассеяться и заняться своими блудными делишками. Замечаю, что внимание без особого труда удерживается, чему приятно удивляюсь.
Каждый круг Иисусовой молитвы заканчиваю именованием какого-нибудь греха, например, «Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя, пьяного», и так далее… Круг за кругом, вычищаю греховную скверну. С наибольшим трудом дается сосредоточение на тонких грехах, таких, как тщеславие и высокоумие, тогда я добавляю в их именование всю свою брезгливость и даже ненависть — к этим ядовитым мерзким уродцам, впившимся в мою израненную душу. После завершающего «Слава, Тебе, Господи!» — чувствую легкий прилив необъяснимой тихой радости, которая дает мне силы обратиться с насущными просьбами о моем ничуть не благочестивом житье-бытье.
Когда молитвенные силы иссякают, я сижу неподвижно и расслабленно, радуясь этому нежданному вдохновению. Маленький, но устойчивый огонек продолжает теплиться внутри. Настроение устанавливается доброе, похожее на солнечный летний день.
Входная дверь открывается, и в комнате появляется симпатичное существо, несомненно женского пола в юных летах. Ну вот и таинственная подруга нашего Доктора. Да, вкус этому джентльмену и в данном вопросе не изменил: само обаяние и красота, и ясный ум в очах.
— Значит, вы и есть Дмитрий? — слышу ее дивный голос. — А мне велено вас развлекать и выполнять все ваши желания. Меня зовут Лена.
— Весьма тронут. О, это так на него похоже, — понимающе киваю я. — Тогда извольте присесть в это удобное кресло и для начала вместе со мной полюбоваться чарующей игрой огненных языков. Вы, Леночка, никогда не задумывались, почему созерцание столь грозных и величественных стихий, как огонь, вода, горы и небо, приковывают наш взор? Посмотрите — и вы увидите в этих колыханиях плазмы отражение вечности. В этом есть некая вневременность, очищающая необходимость, таинственный зов — и вдруг — прирученное нам во благо могущество…
Девушка заворожено смотрит на огонь, обнимающий березовые поленья, я же переживаю некую потребность поделиться с ней той тихой радостью, которая наполняет мое сердце. С видимым усилием она отрывает взгляд от огня и, вероятно, вспомнив о своей обязанности хозяйки, предлагает приготовить какой-нибудь ужин.
— Только с одним условием, Леночка, что я буду вам помогать. Идет?
— Ну, ладно… если вы так желаете, — задумчиво протягивает она. Затем весело вскакивает и девичьими жестами приглашает идти на кухню.
Здесь, разумеется, все продуманно: сверкающая стеклокерамическая плита, комбайны, полки со множеством баночек и два огромных холодильника. Один из них Лена открывает и выставляет оттуда на стол банки, бутылки, выкладывает пакеты с нарезками…
— Судя по вашему юному возрасту, вы учитесь? — спрашиваю, разделываясь с вакуумными упаковками.
— Конечно, как можно в наше время не учиться? — улыбается девушка.
— Тогда, позвольте отгадать где, — предлагаю я, напрягая свои дедуктивные способности. — Представляется мне, что в университете, а?
— Именно там, — радуется она вместе с мной.
— Так, сейчас подумаем на каком факультете, — продолжаю я свое расследование. Рассматриваю изящные руки, прямой тонкий нос, высокий лоб, мягкий подбородок и делаю вывод: — Юридический.
— А вот и нет, — хлопает она в ладошки. — Филологический, то есть языкознание, как раньше говорили.
— А живете в общежитии? — почему-то спрашиваю я, наблюдая за количеством еды, приготовляемой еды.
— Дома, — грустнеет девушка, — с мамой. Болеет она у меня. Но я ее вылечу, — уверенно сообщает она и, тряхнув головой, весело предлагает: — А теперь все это нужно отнести…
— … К камину! — догадливо предлагаю я.
— Ну, что ж, мой господин, как пожелаете.
— Уважаю в дамах вот эту готовность к подчинению, — незамысловато хвалю чудное дитя. — Это свидетельствует о хорошем воспитании. — Дальше увлекаюсь развитием этой животрепещущей темы и говорю, говорю: — Тут ведь в чем суть вопроса? Ежели женщина в основу своего поведения закладывает силу, например, силу воли, голоса, физическую даже — бывает и такое — то она из разряда женщин переходит в разряд — я извиняюсь — мегер. Мужчины таких женщин, скажу по своему печальному опыту, ненавидят и целью общения с ними ставят грубое подчинение. Здесь в ходу разные методы: от насмешек до, простите, рукоприкладства. И ни одна женщина с претензиями на силу никогда не станет счастливой в семейной жизни. Везде ей будут сопутствовать несчастья, злоба, издевательства. Теперь рассмотрим пример противоположный. Итак, женщина слабая, подчиненная, робкая, покорная… Нормальному мужчине хочется такую охранять, одаривать, носить на руках, покровительствовать ей, цветы дарить, наконец. Ах, милая девушка, я вам скажу, как практический знаток этой острой темы: женская слабость — это величайшая силища.
По окончании монолога гляжу на даму и вижу на ее личике умиляющее меня искреннее внимание. Но на всякий случай интересуюсь:
— Я вас, простите, не утомил?
— Что вы! Это так интересно. Психология — это моя слабость. Если можно, продолжайте, я внимательно слушаю.
— Что же, в таком случае, имеет смысл перейти от частного к общему. Представьте себе на минутку, что вы учительница в школе и вот перед вами целый класс детей. Ваша цель научить их жизненно важному предмету, причем так, чтобы они его знали назубок. И вот вы начинаете педагогический процесс и натыкаетесь на стену сопротивления. Ученики подвергают каждое слово сомнению, не верят вам, смеются, топают ногами, издеваются, затыкают уши. Может ли быть успех в таком случае?
— Конечно, нет, — соглашается моя слушательница.
— Вот именно. А теперь ситуация обратная: дети каждое слово впитывают, как губка воду, а чтобы лучше понять, еще и обступают вас с вопросами, чтобы уж совсем все им было ясно. И вы, разумеется, им поясняете все тонкости, предлагая множество примеров из жизни. А теперь ответьте, Леночка, что отличает эти две такие разные группы учеников?
— Интерес к предмету?
— Но ведь мы сразу оговорили, что он жизненно важный, а значит, неинтересным он не может быть априори. Значит, что-то другое.
— Ну, ладно, сдаюсь, мой учитель, — покладисто улыбается девушка, — вам слово.
— Благодарю. Так вот, главное — это смирение. Ведь даже если ученик чего-то не понимает, то по его смирению вы все равно добьетесь успеха в преподавании своего предмета. Есть такие возможности в педагогике. Те же примеры из жизни, например. Да вы приложите все свои усилия, вы с таким отстающим будете носиться, как с мать со своим немощным, но любимым ребенком.
— Действительно!
— А теперь из области бытовой вынесем эту проблему на вселенский уровень!
— О, даже голова кружится! — зарделась моя ученица.
— Представьте себе, моя очаровательная слушательница, что вы по своему благоразумию отвергаете малосимпатичную теорию о происхождении человека от обезьяны и принимаете пока только на уровне разума теорию о творении вселенной и человека великим, могучим, совершенным Творцом. Согласитесь, даже на уровне обозначения темы последняя теория выглядит гораздо привлекательней.
— Это точно.
— Я тоже с вами соглашусь. Итак, вселенная сотворена, человек живет в ней, напрямую общаясь со своим Творцом, как дитя с отцом. А так как Творец — само совершенство, то и человек потенциально совершенен. Все человеку позволено, кроме одного: уклоняться во зло, потому что это — смерть. Но его все-таки соблазняет носитель зла, вероломно обманывая при этом. И вот человек выходит из состояния смирения Творцу, познает зло, повреждается, меняет свое совершенное тело и душу на ущербные и смертные. Но человек не оставлен Творцом, хотя Он и опечален его деградацией. Теперь Его задачей является восстановить былое совершенство Своего любимого детища, закалив его трагическим, но поучительным опытом. Для этого Творец и Сам поучает детей, и посылает Своих помощников, а в конце концов и Сына Своего родного. Снова и снова учит Великий Учитель неразумных и непослушных детей. И дети делятся на те самые два класса, которые мы сначала рассмотрели: непокорных и смирных. Первые — не просто не желают учиться, но даже убивают всех помощников Учителя, а затем и Его Сына. Творец от них отворачивается и их подбирает тот самый древний носитель зла. Вторые — смирные — учатся, исправляются и возвращаются к Творцу в свое прежнее совершенное состояние. Вот что такое смирение во вселенском масштабе.
Все это время мне довелось наблюдать на лице собеседницы дивные метаморфозы: от легкого удивления — через серию озарений — до чудесного просветления. С подноса переселились в наши руки только стаканы с соком.
Далее мы слегка касаемся вопросов высшего образования, педагогики, экологии и, разумеется, строительства. Пока мой взгляд не останавливается на часах, показывающих глубокую ночь. Я решительно вскакиваю и начинаю собираться.
— Дмитрий Сергеевич, вы меня ставите просто в неловкое положение, — грустно сообщает девушка. — Что подумают люди, если узнают, что вы среди ночи дали от меня деру?
— Милое дитя, с такой очаровательной собеседницей как вы, можно общаться дни напролет — и не насытишься. Вы очень благодарная слушательница. Но у нас, стариков, свои привычки. И одна из них — это возвращаться на ночь домой. Так что нижайше прошу меня простить.
— Да как же вы сейчас добираться будете? Давайте я вас хоть в машину посажу, она все равно оплачена уже. Доктором.
Мы спускаемся вниз, и меня заботливо сажают в автомобиль с молчаливым гигантом за рулем. На прощанье в моих руках оказывается карточка с телефоном Лены. Я называю свой адрес, и мы мчимся по ночным пустынным улицам на стремительной скорости. В дороге я размышляю о повсеместном забвении правил уличного движения и о том, какое интересное поколение идет нам на смену.
Рассвет застает меня за молитвой. Вдохновение, коснувшееся меня в гостях у Доктора, затеплило во мне махонький огонек, который разгорается с новой силой, как только я даю ему возможность уединением и молитвенным стоянием. В такие минуты я люблю моего Господа, ближних моих и дальних, врагов и обидчиков, весь мир — так радостно и светло! Я не могу прервать эту блаженную сладость всеобъемлющей любви, наоборот, луч моего духовного зрения высвечивает новые и новые лица, о которых еще не молился, но они словно просят меня об этом. Я поминаю их добрым словом — и из той бесконечной глубины, раскрывшейся в моем сердце, из того океана милующей любви ощущаю благодарный ответ.
Утром, вернее почти в полдень, в мою дверь стучится и без позволения входит вчерашний гигант. Кратко, но вежливо здоровается, сует трубочку сотового телефона и уходит. Чудеса продолжаются. Трубочка, на которую я тупо смотрю, продирая спросонья глаза, издает мелодичное верещание, я тычу пальцем в кнопку и слышу бодрый голос Доктора:
— Дмитрий Сергеевич, с добрым утром. Не желаешь ли приобщиться к спорту на свежем воздухе? Это так освежает!
— Спасибо, Филипп Борисович, не сегодня, — слышу свой хриплый голос.
Берег моря. Мирно шелестит бирюзовая волна, переливаясь миллионами блесток. Йодом пахнут водоросли, прибитые к замшевым береговым камням. Всхлипывают белые чайки, стремительно носясь над водой. Камни подо мной и вокруг, а также громоздящиеся сзади и сбоку, образуя кремнистые скалы, нагреты солнцем. Они плавят воздух, текущий густыми слоями. Голубое, выцветшее от жары небо, украшено прозрачными застывшими облачками, увенчано золотой короной слепящего солнца.
В этом месте соединения стихий — неба, моря и земли — видишь себя со стороны. Из той высокой дали, откуда шире и глубже панорама, где безбрежно море, бездонно небо, обширна земля — оттуда вижу я себя, сидящего на границе стихий, часами зачарованно любующегося величием Божьего творения…
Вижу себя махонькой пылинкой, едва различимой песчинкой в этой необозримой огромности. В этой точке вселенной ощущаешь всю свою нищету перед величием тварного мира, перед безграничным величием Творца, одним велением создавшего все это и следующим велением все это могущего в любой момент уничтожить и воссоздать все по-своему. В эти минуты замираешь перед Творцом и Вседержителем, смиряясь пред ним во прах…
В эти минуты прозреваешь, как любит тебя, ничтожного, Создатель, умаливший Свое Божество до вочеловечения в такое же мизерное хрупкое тело, как и у тебя. И не только умалившего физически, но и принявшего от таких же двуногих человечков предательство, издевательства, побои и позорную смерть. Сам безгрешный, принял на Себя все людские грехи, простив им и полюбив их через бесконечное возвеличение до Царствия небесного. Оживает в сердце чувство ответственности за свою жизнь, бесконечно дорогую, дороже даже этого великого мира. Губы сами шепчут слова благодарной молитвы. Временами и это останавливается… И тогда наступает тишина покоя, когда уже нет ни будущего, ни прошлого, но только одно вечное предстояние твари перед вечным Создателем своим…
Видение уплывает, я возвращаюсь в настоящее, прокашливаюсь и продолжаю:
— Мне бы приобщиться к веселой компании отпускников…
— Куда собираешься, если не секрет?
— Ах, полноте, это не больше, чем беспочвенные похмельные мечтания, — вздыхаю я в ответ.
— Ты снова забыл, с кем имеешь дело. Считай, отпуск твой начинается с понедельника, — и, не давая мне опомниться, Доктор задает мне новый вопрос: — Так, неужто, Леночка не пришлась тебе по вкусу?
— Как раз наоборот. Очень приятная девушка, умница, интересная собеседница…
— Ты издеваешься?
— Никак… То есть, что ты имеешь ввиду?
— Вы что, только болтали, что ли?
— Ну, уж скажешь, болтали… Мы серьезно поговорили. Видишь ли, Доктор, женщины такого типа встречаются крайне редко. Как сказал святитель Игнатий, «женщина руководится чувствами падшего естества, а не благоразумием и духовным разумом, ей вполне чуждыми. У нее разум — служебное орудие чувств». А у моей вчерашней собеседницы имеется все достоинства женщины разумной при наличии смирения и врожденного тончайшего такта…
— Да, Димитрий Сергеевич, ты или не в себе, что вряд ли, или действительно пора тебя у Васи забирать в мои трущобы капитализма. Ладно, трубочку телефонную оставь себе, пусть это будет мой подарок за вчерашний вечер, на протяжении которого ты не уставал меня удивлять, — мой собеседник замолкает. В продолжение паузы слышу из динамика трубки знакомые звуки ударов теннисного мяча о ракетку. — …А что касается Леночки, то имей ввиду, что она… девочка по вызову. Вот так.
— Это, конечно, меняет дело… — тушуюсь я почему-то. — Хотя, думаю, уйдет она из этого… бизнеса. Вероятно, обстоятельства вынудили или еще что… Как думаешь, если она захочет, сможет выйти из игры без препятствий?
— Если очень захочет, то да. Только я о таковых пока не слышал. Деньги там немалые, да и засасывает, как трясина.
— А помочь ей нельзя?
— Если обратится ко мне, — помогу. Только, повторяю, это вряд ли… Ну, пока, меня зовут играть. Звони, когда хочешь.
В кармане пиджака разыскиваю карточку с телефоном Лены. Набираю номер, слышу щелчок, характерный для телефона с определителем номера. Нет, не поднимает трубку. Ладно, со временем разберемся.
Шизофрения
В редкие минуты уединения, когда удается вырваться из цепких клещей суеты и безумия мира, я свожу прожектор внимания своего внутрь души и вижу там раздвоение, а по-научному, — шизофрению.
Одна моя половина желает наслаждений и самоугодничества, она завистлива и жадна, раздражительна и тщеславна. Овладевая мною, она сначала увлекает меня, потом соблазняет обещанием сладости и, чуть завладев моим вниманием, грубо толкает в пропасть греха. Уже, падая во смердящую тьму, я слышу ее злобный самодовольный хохот.
Другая часть моей души тиха и светла. Отсюда не исходит ничего страстного и тревожного. Это жилище моего Ангела. Когда я иду на грех, он останавливает меня, тихо роняя слезы печали и сострадания. Затем поднимает меня, падшего, отряхивает с налипшую грязь и кротко зовет к свету. О, как терпелив мой Ангел, как беззаветно и верно любит он меня, временами такого мерзкого и грубого! Лишь изредка я вспоминаю о нем, понуро прошу прощения и взываю к его милосердию и помощи. А он, светлый мой Хранитель, озаряется неземной радостью, протягивает ко мне свои дружеские руки и, забывая все мои бесчинства и злодеяния, ведет к Отцу Небесному, у Которого уже готово мое прощение.
Сюда, в эту тихую мою пристань Любви убегаю, скрываюсь иногда, даже уползаю в изнеможении от собственной злобной тьмы, от трясущегося страха и мертвого хлада уныния. Здесь, под сенью золотистых крыльев Ангела Хранителя, питаю изнемогшую душу свою ароматными плодами из Царствия Небесного. Из тех райских садов, где в сиянии славы молятся за меня и множество таких же греховодников Святые мужи и жены непорочны, благоуханные светозарные девы, множество Ангельских сил, «иже херувимов»…
Как легко и радостно под сенью этих небесных крыльев, как согревается остывшая душа невечерним светом, как зовет ее, манит туда — в непостижимые высоты вечной Любви. И она, душа моя, как белая лебедь, трепещет крыльями, вытягивает длинную белую шею и стремится лететь туда, в Отечество свое… Но жесткие прутья неизжитой гордыни не дают ей свободы.
О, это мучительное, жестокое мое раздвоение! Как справиться мне с тобой? Как срастись, соединиться, снова стать единым, цельным — как вернуть себе Богоданное целомудрие?
С тех пьяных времен, когда я так жестоко растоптал его в себе, с тех пор, как впервые смертельная тоска обдала меня своим могильным холодом, с тех первых черных дней душевного раскола — я снова стремлюсь обрести утерянную свою цельность.
Но, увы! Уничтожать легче, чем создавать!.. И особенно себя самого, когда ты разрублен надвое безжалостным мечом собственной гордыни.
И вот ты лежишь, поверженный своим же клинком, истекающий кровью, лихорадочно пытаешься собрать и сложить воедино рассеченное тело души своей и с каждым движением, с каждой новой попыткой все более теряешь крови, все меньше собственных сил остается в твоем остывающем теле. И только совершенно ослабев и последним лучом заходящего на запад сознания, оценив в полной мере абсолютную свою немощь, ты зовешь на помощь Врача: «Господи, помоги мне! Спаси меня, немощного! Исцели меня, нецельного!»
Глава 2. Строительство. Сплошное
Кавказ
С детства родители возили меня на море. Почти каждый год. Как сейчас помню, идем на пляж по тротуару, по приморскому шоссе сплошным потоком тянутся машины, обдавая нас горячими облаками выхлопных газов, которые причудливо смешиваются с ароматами роз, магнолий и амброзии. Папа в соломенной шляпе идет впереди и говорит мне: «Вот вырастешь, сынок, вспомнишь не раз, как мы тебя на море возили». Действительно вспомнил. И точно — не раз.
В детстве наше видение мира намного богаче, органы восприятия еще чувствительны и не обросли толстой кожей равнодушия, может, поэтому поездки на море имели для меня острый романтический привкус. Под каждым кустиком мимозы или лавровишни, в кронах акаций или магнолий, в толще соленой бирюзовой воды мерещилась мне тихая светлая тайна жизни.
Это сейчас я стал догадываться, что за тайна такая сладкая жила в этих реликтовых тропических материях… Тайна абсолютной красоты и гармонии, бледный отсвет того мира, в котором жил рядом с Творцом наш прародитель Адам. Ведь если мы наследуем его прародительский грех, то должно же быть что-то нам в утешение? А что может утешить суетливого поврежденного человека, как не прообраз райских красот, мутное отражение которых мы наблюдаем в природных красотах земли.
Иногда мне по давней привычке удается вырваться в наши черноморские тропики. И хотя, конечно же, мои нынешние восторги вялы и тупы по сравнению с детским романтическим мистицизмом, но по-прежнему замирает сердце, когда с высокой скалы наблюдаю закат солнца над морем, когда словно вся вселенная заливается багряным кипящим золотом. В такие минуты, по-прежнему, хочется жить и просто молчать, потому что все наши слова — ничто в сравнении с этим бесконечным великолепием. Никакие слова здесь ни к месту, кроме благодарственной молитвы Творцу ее…
Кроме того, мне предстоит удивительная встреча с моим братом и нашим общим духовным наставником. Мне вспоминаются наши прежние встречи, и нарождающаяся радость вновь переполняет меня. Что так сильно влечет к «нашему» батюшке? Если сказать одним словом, то Любовь. Не какая-то там сусальная, а истинная, строгая и спасительная. Наш отец Антоний не афиширует свои духовные дарования, более того, он их скрывает и не позволяет нам о них рассказывать кому-нибудь. Не каждого он и приблизит к себе. Иногда просто посмотрит на человека и молча отойдет. Но уж если ты попал в число его чад духовных, то готовься к труду, строгому молитвенному правилу и… чудесам.
Мой брат Степан живет в небольшом черноморском поселке. Перед самым моим отъездом он вдруг утром звонит мне в диспетчерскую и спрашивает, не собираюсь ли я к нему. Тогда я и сам не знал, отпустят ли меня начальник и дела. Так что мой друг и брат вселил в меня надежду, которая помогла мне вырвать этот отпуск из цепких когтей моего сурового эксплуататора по имени Стройка.
Перед отъездом послал ему телеграмму, поэтому выхожу на перрон и попадаю в крепкие братские объятия. Ведет он меня к новенькой машине и поясняет, что вот недавно купил. Знаю, что в этих местах найти работу непросто, поэтому на всякий случай интересуюсь источниками его доходов. Степан, двигая педалями, рулем и рычагом передач, поясняет, что еще недавно сидел без работы, перебиваясь случайными заработками. Когда его отчаяние достигло предела, решил он ехать к отцу Антонию просить молитв. Интересно, что мысль эта не пришла раньше, а только в полном отчаянии. Казалось бы, чего проще: едешь к духовнику и решаешь там проблему. А нет, человек сначала должен испить до дна чашу своей самонадеянности, понять опытно свою немощь и только после этого в полном изнеможении приползти к Богу.
Батюшка заставил его написать «письмо» Господу, в котором он просил помощи в поиске такой работы, чтобы и достаток был, и грешить поменьше. Отец Антоний обещал молиться. После возвращения домой, через несколько дней, «совершенно случайно» заходит к нему знакомый и предлагает устроиться на освободившееся место геодезиста в солидную нефтяную фирму. Там его как-то невероятно быстро проверили, оформили и допустили до работы. Все нынешние его сотрудники до сих пор удивляются, как это ему удалось так скоро оформиться на столь высокооплачиваемую должность, предполагая его родственную связь с однофамильцем из руководства. Только сам Степан ничуть не удивляется, потому что знает силу молитв батюшки. Познал опытно… Вот с тех пор брат и зажил «достойно и в благочестии», отдавая треть заработка на восстановление храма, в котором служит отец Антоний.
На следующий день Степан предлагает по пути к батюшке заехать «в одну пустыньку». С приморского шоссе сворачиваем на узкую каменистую дорожку, проезжаем по узкому тесному туннелю, едва не задевая бортами скалистые своды, и — перед нами открывается удивительная картина.
В долине между лесистых горных холмов среди россыпи новеньких аккуратных домиков, стоит кирпичная церковка, стройная, как кипарис, от золотого купола которой радужным веером рассыпаются многоцветные, яркие, солнечные лучи. Перед нею стоит группа людей, не меньше сотни, во главе со священником, который громко распевает акафист преподобному Феодосию Кавказскому. Подходим к молящимся и подключаемся к чтению акафиста под открытым небом.
Рядом с нами стоят смуглые женщины в платках, с самодельными книжечками, каждый листочек которых упакован в прозрачный полиэтиленовый пакетик. Я подглядываю в текст акафиста и вместе со всеми подтягиваю завершающий стих каждого икоса: «Радуйся, преподобный Феодосие, Кавказский чудотворче».
Священнику сослужит седовласый диакон с мощным баритоном в золотом облачении. Степан шепчет мне на ухо, что это иеромонах-настоятель и архидиакон благочинного. Подходит и становится перед нами замечательная парочка: молодая женщина в длинной юбке и с ней атлетического сложения мужчина лет сорока с небольшим, с короткой стрижкой и лицом, словно высеченным из камня. Они вступают в молитву, размашисто крестятся, совершают глубокие поясные поклоны. Похоже, их судьба совершает крутой вираж над пропастью, так что видна бездна… После завершения акафиста поем песни, посвященные Пресвятой Богородице и блаженной Ксении Петербургской. И снова подглядываю к соседке в книжку и вместе со всеми старательно вывожу умилительные слова песен. Ну, вот и все. Мы подходим ко Кресту, прикладываемся и неспешно бредем к машине, любуясь пустынькой, ладными строениями и окружающими нас горами, заросшими кустарником и сучковатыми деревьями.
Далее наш путь лежит в кубанские степи. Степан за рулем, а мне доверено менять в магнитоле кассеты с записями духовных песнопений. Знаем аппетиты местных гаишников, поэтому при мигании фар встречных машин читаем Иисусову молитву и, словно под шапкой-невидимкой, проезжаем мимо дорожных мытарей. Но вот и поворот к станице. Здесь к уютной дороге подступают плакучие ивы, высокие тополя, за ними поблескивают пруды и выглядывают крепкие дома станичников. Вот стадо упитанных коровушек греется на солнышке, а одна из буренок лежит у дороги, положив морду с блаженно прикрытыми глазами прямо на асфальт. Вспомнился стих Вознесенского, в котором он восхищается: ах, какие умные египетские коровы: они лежат на асфальте и мухи их не кусают; ах, какие умные египетские мухи: они летят прочь от асфальта, потому что это — канцероген.
Но вот из-за стены высоких тополей появляется купол церкви. Мы ставим машину на стоянке и выходим. Степан обнимается с батюшкой, говорит с ним, передает какой-то пакет, затем прощается, садится в машину и уезжает. Отец Антоний встречает меня у металлических ворот, благословляет размашистым крестным знамением, обнимает и шепчет на ухо: «Ждал тебя, сынок». Всматриваюсь в его родное лицо и замечаю, как постарел он, седина полностью вытеснила остатки темных волос окладистой его бороды, глубже стали лучики морщин вокруг добрых улыбчивых глаз, высокий лоб его сильно загорел. Он тоже глядит на меня, замечая, должно быть, мою суетность и рассеянность. Ничего не скроется от его пронизывающего взгляда. Он уже все знает обо мне, даже то, чего я и сам не подозреваю. Нагибает мою голову к своему плечу, долго держит крепкой горячей ладонью затылок, молится… Хочется сползти по его груди и упасть на колени перед ним, как блудный сын перед евангельским отцом. И также не услышу я упреков, но только слова прощения и радости.
Сидим в трапезной, и слышу его неторопливый рассказ о восстановлении храма, о людях добрых, помогающих ему, о темных личностях, исподлобья наблюдающих за его пастырской деятельностью, но не могущих зайти внутрь церковной ограды. После задумчивой паузы слышу:
— Да… Грешить легко — это как с горки на санках съезжать: весело, сердце сладко замирает. А в Царствие небесное — как на гору взбираться: тяжело, потом обливаешься, жажда мучает, но там… — спасение! — озаряется светлой улыбкой лицо старца.
Коренастый мужчина со шрамом через всю щеку заботливо накладывает в мою тарелку тушеные овощи, необыкновенно вкусные. Отец Антоний рассказывает, как этого Вадима недавно отпускал он в город по делам. «И был-то там всего два дня, а почернел, как негр», — завершает он рассказ. Разумеется, имеется ввиду не загар или пыль дорог, а чернота духовная, липнущая от соблазнов мира. Вадим смущенно кивает: точно почернел, еле отмылся под епитрахилью. Из старых знакомых никто его не узнает, говорят, что он или с ума сошел, или околдован. Сам же Вадим считает, что только начал просыпаться от страшного сна и зажил, как человек. Батюшка изредка утешает его легкой похвалой, а иногда отрезвляет мягким упреком.
С омерзением думаю, как грязен я после моих блужданий по пьяным, сквернословным глубинам строительного ада. Мне нужно скорей взяться за Покаянный Канон, внимательно осмотреть свою душу, вытащить оттуда всю греховную скверну и спалить ее огнем покаяния.
После трапезы уединяюсь в келии, где приезжей старушкой приготовлена для меня постель. Здесь, за толстыми стенами, в тишине и полумраке зажигаю свечу перед иконами и, став на колени, приступаю к молитве. Ни единая посторонняя мысль не лезет в живую ткань молитвы: видимо, отец Антоний помогает. Правая рука щепотью упирается в сердечную область, куда направляю невидимый, но ощутимый свет, просветляющий мое почерневшее сердце.
Там, в бесконечной глубине, под окаменевшим наслоением грехов теплится огонек Божьего духа. Туда через мрачные надолбы пробивается свет молитвы, оставленный нам великими святыми угодниками. Тысячный раз читаю эти слова, но именно сейчас каждое слово, как лазерный луч, прожигает греховные скалы моего внутреннего ада. В этот миг каждое слово молитвы представляется драгоценным камнем дивной чистоты и бесконечной ценности.
Мягко нарастает желание покаянного очищения. На листочек бумаги выписываю один за другим свои грехи. Сейчас, когда сердце размягчилось, занозы грехов заметнее и вытаскиваются легко. Редко случается, чтобы названные и выписанные грехи вызывали такое острое отвращение. Полностью исписал листок, тянусь за вторым, а память все поднимает из глубины — один за другим. Но вот, кажется, и все. Вставать с колен не спешу, всматриваюсь в глубины времени, будто вновь проживаю свою непутевую жизнь. Вроде все. Господи, помоги вспомнить, если что забыл!
В душе появляется если не чистота, то ее светлое предощущение. В голове рождаются слова: «Хорошо ты сегодня потрудился». Сначала это настораживает, но вдруг узнаю голос отца Антония и мысленно благодарю его за молитвенную помощь. Если за преступлением следует наказание, то искреннее покаяние дарует утешение. Ложусь в прохладную постель и погружаюсь в спокойный сон.
Утро будит меня ярким солнечным лучом и петушиным криком. Просыпаюсь бодрым, с ощущением, что сейчас произойдет что-то очень хорошее. Не успел встать, как слова утреннего правила сами собой звучат в сознании и просятся наружу. «Первые утренние слова отдай Господу», — звучит голос отца Антония в голове.
Одеваюсь и выхожу наружу, наскоро умываюсь холодной водой под рукомойником во дворе. Здесь поют петухи, заливаются птички, солнце слепит яркими лучами. По безлюдному двору направляюсь в храм, любуясь сверкающим покрытием объемного византийского купола. Перед входом на лавочке сидят отец Антоний с молодой семейной парой, о чем-то вполголоса говорят. Батюшка благословляет меня зажечь лампады и свечи. Огоньки создают мягкий уют, отражаются в серебре окладов, каменьях и рамках.
Подходит отец Антоний, говорит, что все эти украшения выполнил Вадим. Предлагает помолиться. Подходит к аналою и запевает. Его удивительно молодой баритон наполняет пространство храма. Чувствуется, как любит молитву этот человек: он не спешит, каждое слово произносит внятно, чуть нараспев, меняя громкость от полушепота до гремящих восклицаний. Крестное знамение его широкое, неторопливое. Ничего сейчас не существует для него, он творит самое важное дело.
…Стою на коленях у аналоя, моя голова покрыта епитрахилью, сверху лежит рука батюшки, броневым шлемом защищая от сторонних вмешательств. Ладонь моя прижата к окладу Евангелия. Читаю свою хартию, вытесняя стыд острым желанием очищения. Следуют несколько уточняющих вопросов. Повторяю за ним строгие слова самоосуждения и мольбу простить и отпустить грехи. Звучит разрешительная молитва. Батюшка предлагает мне положить земные поклоны, сколько смогу. Встаю перед открытыми Царскими вратами и падаю, падаю наземь перед страшным престолом славы Господней, ощущая согревающее тепло во всем теле.
— Подойди сюда, сынок, — слышу глуховатые слова батюшки.
Ступаю гудящими ногами, прерывисто дыша. В душе нарождается предощущение важного поворота в моей жизни.
— Твой уход с прежней работы на стройку требует от тебя большей чистоты. Ты ведь хочешь получить помощь от Господа и Пресвятой Матери Его? — улыбается он.
— Да мне без этого не выжить!.. — восклицаю неожиданно громко.
— Правильно, правильно… — задумчиво произносит батюшка, на время погружаясь в молитву. Но вот он, просияв, поднимает глаза, и меня будто жаром обдает: — Сейчас мы немного поработаем, помолимся, и ты выйдешь отсюда непьющим и некурящим.
— Батюшка! Ну, уж хоть бы что одно, а то сразу: и не пить и не курить — это уж слишком! — почти кричу в смятении.
— Да ты не пугайся, — гладит он меня по голове, как маленького. — Владычица наша Пресвятая сейчас с нами — Она, Милостивая, поможет. — Горячая рука батюшки замирает на моем затылке, и под едва слышное молитвенное шептание смятение, сотрясающее меня, утихает.
Мы с отцом Антонием стоим на коленях перед открытыми Царскими вратами. Боль в коленях от долгого стояния уже притупилась. Несколько раз я с трудом подавляю в себе острое желание подняться, и только стыд перед немощным старцем останавливает меня. Батюшка монотонно вычитывает страшные огненные молитвы. Затем подает мне молитвослов и предлагает прочесть Совмещенный канон.
С трудом разбираю церковнославянский шрифт древнего требника, часто запинаюсь, перечитываю слова… По моему горящему лицу текут струи пота. Несколько раз мне кажется, что я уже в аду, и вокруг меня и даже внутри — гудит, ревет и жжет безжалостное гееннское пламя. В такие мгновения я вскидываю глаза к открытым Царским вратам, вижу сияющего победоносного Христа в развевающихся белых одеждах, рядом с собой — углубленного в молитву батюшку — и, успокоенный, продолжаю. Обычно чтение канона занимает минут тридцать, сейчас же это продолжается не менее часа.
В нашем молитвенном стоянии батюшка сменяет меня и читает Акафист Неупиваемой Чаше, затем неизвестные мне древние молитвы… Мое восприятие действительности притупляется. В голове, груди — во всем моем существе — пульсирует Богородичная молитва. Перед моим лицом появляется кружка. Батюшка предлагает выпить святой крещенской воды. Только сейчас понимаю, как хочется пить. Вода прохладная, сладкая льется в горящую гортань, утоляя жажду целебной живой водой из небесной вечной Чаши Божией любви.
Батюшка остается в храме: ему еще принимать людей. Я на прощание вглядываюсь в его побледневшее лицо, встречаюсь с лучистым взглядом, полным отеческой любви, и выхожу наружу. Здесь меня ослепляет солнечный веселый день. Под синим небом, в густой листве свистят, переливаются, чирикают и воркуют десятки слетевшихся со всей округи птиц. Солнечные лучи покрывают позолотой зеленые листья. Жужжат пчелы, ползают жучки. Ко мне летит златокудрый ангелочек в белом легком одеянии и обнимает меня тонкими теплыми ручками.
«Дима! Димочка! Дима!» — слышу серебристый голосок этого чудного создания. Это девочка Оля — моя знакомая из сиротского церковного приюта. Каждый раз, когда я сюда приезжаю, мы с ней встречаемся, и я дарю ей какие-то безделушки. Ни разу не видел, чтобы подарки доставляли кому-то такую же искреннюю радость, как этому ребенку. Мы идем ко мне в келию. Она замирает на пороге: в мужскую келию девочкам заходить нельзя. Из дорожной сумки достаю коробку конфет, рыжеволосую куклу, хрустящий пакет с платьем и вручаю Оленьке. Она заливисто смеется, обнимает меня, благодарит и убегает показывать подарки своим друзьям. Знаю точно, что в лучшем случае ей достанется конфетка — остальное раздаст малышне, братикам и сестричкам, как она их называет. Ну, что ж, ей виднее. Поведение маленькой девочки, сиротки, которая живет при церкви и каждую неделю причащается, которая видит ангелов, играет с ними и очень удивляется, когда другие их не видят и жалеет таких, ослепших, — поведение и образ жизни этого человечка для меня неразгаданная светлая тайна.
Перед решетчатыми воротами ограды храма на гравийной стоянке вижу машины с разными номерами: московскими, тамбовскими, краснодарскими и даже с «жовто-блакитными» украинскими флажками. Представляю себе карту нашей страны, множество лучей, связывающих эту станицу с разными людьми. Что их сюда притягивает? Что заставляет ехать в такую даль? Старик ли в поношенной заплатанной рясе? Смертный ли человек, доживающий последние дни на земле? Нет — вечная Любовь, отразившаяся в его глазах.
Стою, опираясь локтями на металлический каркас забора. Переходить границу, отделяющую церковь от мира остерегаюсь: там возможны нападения тьмы, здесь я под покровом. Ко мне подходит и кладет тяжелую руку на плечо Вадим.
— Хорошо нам здесь, Вадим! — говорю, как обезумевший Петр на Фаворе. — Давай построим здесь хибарку и станем жить, неся тяготы друг друга, научаясь любить и прощать. И будем каждодневно каяться во грехах и наставляться на путь истинный. И все будут узнавать в нас христиан, потому что мы любим друг друга…
— Что с тобой, Дима?
— Эх, Вадим, мы сами не знаем, как мы счастливы. У нас есть Господь Иисус, Он нас любит и спасает. У нас есть смысл жизни. У нас есть этот старенький батюшка… А ведь мы с тобой могли бы родиться червями, ослами или, я не знаю, мускусными крысами…
— Я ведь чего, Дим? Нас на трапезу зовут. Пойдем, «филосоп».
Следующую неделю мы с братом и его сыном купаемся в соленых и пресных водах, ходим по берегам предивного озера и ужинаем с отцом Андреем, настоятелем местного храма.
Однажды мне с батюшкой довелось присутствовать на крестинах, где младенец извивался и кричал до посинения, а напоследок весьма обильно облил свою юную восприемницу. Вечером говорим с о. Андреем о крестинах. Оказывается, большинство детишек сейчас очень боятся и креста, и миропомазания, и Престола в алтаре. Некоторые родители прямо не знают, что и делать, некоторые в истерику впадают от неожиданно дикого поведения своих чад в церкви.
Все это свидетельствует о демонизации детей по нераскаянным грехам родителей и является следствием их нецерковности, а также воздействия телевидения и даже, весьма часто, колдунов. Но если детей регулярно носят в церковь на причастие Святых Тайн, и при этом родители также воцерковляются, то и сами они, и дети их быстро изменяются в лучшую сторону: успокаиваются, становятся мирными и послушными.
Заходит разговор о колдунах: в этих краях население частенько «балуется» ворожбой. Спрашиваю о. Андрея, не боится ли он колдунов? Нет, говорит, не боюсь, но только Бога единого и Ему служу. Отец Андрей в детстве и юности был весьма воинственным и при этом учился на пятерки. «Загорался как порох» от каждого косого взгляда, бросался на любого, имел даже свою боевую дружину. Батюшка иногда вспоминает об этом с улыбкой. А вот теперь он мирный и спокойный — вот, что делает любовь Христова с людьми!
Еще один разговор с батюшкой волнует меня. Рассказывает он о знакомстве с некоторыми персонажами книги «В горах Кавказа», как-то: Ленивцем, Жившим в дупле, Больным братом. Они сейчас старцы, но доступны. Живут кто где: в станицах, в монастыре, на побережье. Мы выражаем обоюдную мысль, что не плохо было бы написать сочинение об их последующей судьбе. Ах, как поучительна жизнь таковых подвижников благочестия, современных нам!
А утром Степан уезжает на работу. Мы с племянником, который к тому же и мой крестник, пресекая лень и безволие, становимся на молитвенное правило. Потом завтракаем картофельным пюре с розовыми помидорами, запиваем чаем и шагаем на воды. Утреннее озеро напоминает тишайшее зеркало, в котором отражаются лазурное небо с «гипюровыми» облаками.
Обливаясь потом и преодолевая мелкое трясение в нижних конечностях от непривычного напряжения, мы упорно восходим в лесистые горы. Нещадное солнце изливает на нас безжалостные горячие лучи, от которых мы скрываемся то в густой тени дерев, то в прохладе вод. Иногда я рассказываю крестнику, как с давних пор почти каждое лето ходил здесь с родителями и друзьями, как с каждым горным восхождением потели, обгорали, но при этом здоровели и крепчали.
О, как помогает и успокаивает, защищает и укрепляет нас на этих путях Иисусова молитва, мысленно творимая нами во исполнении завета Святых отцов «постоянно молиться». И сколь высокие мысли рождаются в наших сердцах, когда мы созерцаем красоты Божиего мира, воссылая Ему славу и благодарения своими нечистыми устами.
На наших стезях встречаются вовсе не случайные люди. Кажется, невидимая рука Провидения сводит нас в определенных местах и в такое время, которое наиболее удобоприятно для раскрытия в каждом человеке потаенного мира внутреннего сердца. Причем, мы-то с крестником вполне довольны своим обществом, где наедине нам нужно обсудить множество вопросов бытийного и сакрального характера, но отказывать людям в общении мы не считаем себя вправе, особенно, если они сами выражают к тому искреннее желание.
Тут на пляже, где мы с племянником расположились, появляются соседские бабушка с двумя внучками, следом сходят с крутого берега и двое подозрительных типов, но, потоптавшись, уводятся восвояси круговоротом Иисусовой ограждающей молитвы. Вылезает на берег, наплававшись на надувном матраце, крестник, я же раскрываю пакет с клубникой — по приземным слоям атмосферы разливается томный ягодный аромат, вытесняющий множество прочих, витающих вокруг, в сей предзакатный итоговый час… Надкусив первую ягоду, излив на иссохший язык густой сладчайший сок, ловлю на себе взыскующий взор детских карих глаз.
Это маленькая 4-летняя Иветта стоит рядом и проявляет нескрываемый интерес к нашему пакету. Приглашаем девочку разделить скромную трапезу. Она в простоте детского сердечка плюхается между нами с крестником и запускает ручонки в пакет с клубникой. Пока мы знакомимся с бабушкой и 9-летней Илонкой (которая скромно надевает брючки, прежде приближения к нам), малютка умело и с превеликим аппетитом употребляет весь килограмм ягод и, удовлетворенно погладив надувшийся животик, весело откидывается на уже подсохший матрац, который ей очень нравится, нацепив мои очки и панаму мальчика. Бабушка, ввиду нависшей над нами дождевой тучи, приглашает нас к себе домой кушать жареную картошку и пить чай с конфетами.
Подходим к старинному дому из потемневшего от времени известняка. Он почти не заметен под густой сенью разлапистых сосен, каштанов и узловатого ореха. Бабушка открывает калитку, и мы входим внутрь уютного дворика. Оказывается, раньше в этом здании располагались царские винные погреба. Теперь вот его перестроили и здесь живут люди.
Бабушка подводит нас к смоковнице и, ласково поглаживая ветви и листья, рассказывает удивительную историю. Посадил этот инжир много лет назад паломник, вернувшийся со Святой земли. Он уверял, что предок этого дерева кормил своими плодами Иисуса Христа и апостолов, поэтому плоды его являются чудодейственными, исцеляют многие болезни.
Бабушкиной соседке лет пятнадцать назад врач поставил диагноз: цирроз печени в последней стадии. Чего, мол, ты там второй этаж взялась надстраивать, все равно жить тебе осталось несколько месяцев. До того дня из инжира она «выгоняла» чачу и «принимала для аппетита». Как вышла от врача, вспомнила целебные свойства смоковницы и месяц питалась ими. Одним только инжиром. А когда снова пришла к врачу и сдала анализы, врач не поверил: она оказалась совершенно здорова.
Бабушка приносит лестницу и заставляет нас нарвать побольше инжира. Которые помягче, мы сразу съедаем, а ягоды покрепче она укутывает в бумажные салфетки и бережно укладывает на солому во фруктовый фанерный ящик, который и вручает мне «на дорожку».
Войдя в дом и обозрев его высокие потолки, огромные окна и тяжелую старинную мебель, успокаиваемся в креслах. Разумеется, мы с крестником молимся перед вкушением пищи, разумеется, говорим о высоком, а я дарю им иконку, которую «случайно» захватил с собой. Малышка Веточка берет иконку Пресвятой Богородицы «Умиление», целует ее и неуклюже крестится, чем приводит бабушку в недоумение, а иных прочих — в умиление. Пока бабушка «рубит помидоры в салат», я костяным гребнем расчесываю Илонке шелковистые волосы, длиной до колен. Она же неопытно кокетничает с крестником, который увлеченно, но сдержанно, рассказывает что-то из своей героической мальчишеской жизни. Бабушка, растрогавшись от сей мирной картинки, просит нас провести следующий день вместе, предполагая снискать обоюдную пользу. Мы не смеем ответить отказом.
А назавтра под жарким солнцем вместе ходим по горам, потеем, говорим, купаемся и загораем. Обгораем, снова говорим, гуляем вдоль моря и озера, по студенческому лагерю, благо студентов мало, потому стоит непривычная тишь. Вяло поругиваем детей за непослушание (они без спросу залезли в горы и надолго там пропали), кушаем кубанские помидоры и тунисских осьминогов, черешню и зеленый горох, пьем ледяную родниковую воду и горячий кофе из термоса.
Бабушка все это время пытается выяснить, по какой причине мы с крестником «остановились на Православии» и что же это, в сущности, такое. Мы с племянником попеременно вкратце объясняем от сотворения мира до наших дней историю противостояния добра и зла. Вернувшись в поселок, обмениваемся адресами и плетемся домой охлаждать горящие кожные покровы и дать отдохновение уставшим ногам.
Утро следующего дня выдается хмурым и суетным. Проснувшись, выглядываю в окно и вижу там мельтешение шумных людей и машинную возню: соседи с нижнего этажа готовятся к свадьбе. Над их озабоченными лицами, над облаками поднятой пыли, над поникшими пыльными деревьями, надо мной, помятым и обгоревшим, с зудящей кожей и свинцовой головой — серой пеленой повисло безрадостное небо в клочковатых тучах. За моей спиной тяжело ворочается крестник, не желающий просыпаться.
В такое безрадостное утро нет ничего лучше, чем «занять» радости у Акафиста Пресвятой Богородицы.
Сначала вычитываю утренние молитвы. Именно, вычитываю — потому что от грубых органов чувств, как то: гортань, слух, верхняя рациональная часть сознания — молитвы спускаться в сердце не спешат, натыкаясь, видимо, на барьер моего раздражения, смятения, душевной хладности. Тупо и уныло тащусь сквозь галдящую толпу помыслов, со всех сторон орущих на меня. Как покупатель по бойкому южному рынку… Но двигаюсь.
Предначинательные молитвы перед Акафистом также тащу, как тяжкое послушание. А вот, наконец, и долгожданное: «Взбранной Воеводе победительная, яко избавльшеся от злых…» И что же это? Те самые «злые» сыпанулись врассыпную — прочь от меня, от нас, прочь!
«…Радуйся, Невесто Неневестная!», и «отверзлись милосердия двери», и забурлила радость, вливаясь в сердце: «Радуйся, Еюже радость воссияет!» Акафист льется из гортани звонким родниковым ключем. Голос мой крепнет, в нем нарастает праздничная торжественность. Троекратное «Аллилуиа» ликует и славит Царицу цариц, всех ангельских и архангельских небесных сил, Матерь всех матерей и мою мать родную, добрую и ласковую. На тринадцатом кондаке во время троекратного земного коленопреклонения со стыдливо-неумелым воздеванием рук «О, Всепетая Мати, рождшая всех святых Святейшее Слово!..» замечаю рядом с собой пыхтящего улыбающегося крестника, весело подтягивающего вторым голосом: «Аллилуия, Аллилуия, Аллилу-у-у-уй-я-я-я!»
После завершающих молитв на коленях мы встаем. И сначала в себе, потом за окном наблюдаем разительную перемену: тучи просыпали легкий дождичек и разлетелись, умытые листья деревьев и цветов на клумбе встрепенулись и засияли в лучах яркого солнца, а над голубоватым склоном горы зажглась и переливается тончайшими, прозрачными цветами широкая, изогнутая дугой — радуга! Издалека, из непостижимых искрящихся высот, где вечно пребывает блаженная любовь, тихонько раздается в глубине распахнувшегося сердца, заполняя меня и все вокруг, материнский добрый голос: «Радуйся и ты!».
Поворачиваюсь к мальчику — он тоже глядит на меня во все глаза. Спрашивать, слышал ли он это, остерегаюсь. Да и не надо… На его раскрасневшемся лице сияет широченная счастливая улыбка. А вот и свадебный кортеж с лентами, цветами, куклами на бамперах — с гудками под крики встречающих въезжает во двор. Радуйтесь!..
В этот день, столь необычно начавшийся, едем в город, где проявляем пленку, ходим за покупками, кушаем пирожки с ягодным мороженым и бродим по тенистым аллеям и морской набережной. Крестник покупает северным друзьям морские сувениры, которые в изобилии продаются на аллеях оборотистыми торговцами. Мне очень нравится океанская раковина с дыню размером, но, выяснив ее цену, недоуменно отхожу. У пирса стоит в оплетении толстенных тросов и тончайших антенн знаменитое судно Академии наук «Витязь». Перекусываем в приморском кафе картошкой с кабачками под салат и зелень. Болтаем о пустяках, глазеем на бухту, корабли, людей и машины, спешащих по делам, а утреннее чудо продолжает в нас жить и согревать тихой светлой радостью. Возвращение из шумного и пыльного города в тихий ароматный наш поселок — всегда приятно. Смыв с себя под душем пыль, пот, сажу, нефть и креозот, идем на берег озера, где намечается великолепное зрелище — закат солнца.
Пройдя вдоль набережной, благоухающей жасмином, розами и хвоей голубых елей, опускаемся на большой мшаный разогретый зноем камень. Озеро это ежечасно меняет цвет своих вод: то оно нежно-салатовое, то изумрудно-жемчужное, то рябит набегающим зефиром бриза, то вдруг замирает в зеркальном великолепии задумчивого покоя. В этот час озеро цвета жидкого золота, которое лишь изредка возмущается растекающимися кругами рыбной активности. Крестник чистит вяленую чехонь, размером со скейтборд, я же, ввиду водной и воздушной тишины, окунаюсь в Иисусову молитву.
Сие умиротворяющее действо прерывается всплесками по глади озера. Чу! эвона… то ж рыбарь в напряжении сил вываживает из водных недр большую рыбину. Его сосед, увидев на миг вынырнувшего из пучины громадного красавца, ярко блеснувшего могучим зеркальным боком, в сей же миг освободившись от одеяний, входит в воду помочь своему соседу и коллеге. Браво! Так познается мужская дружба. Долго еще друзья борются с озерным голиафом… Так долго, что мы успеваем полакомиться чехонью, прыскавшей во все стороны янтарные капли рыбьего жира, истомив своими устами не один кусок нежнейшей мякоти и алой зернистой икры. И вот — победа! — сазан кило на шесть бьёт хвостищем и зевает огромной пастью, усеянной сотнями острых зубов.
Восхитившись добычей и человечьими трудами, крестник тщательно вытирает жирные руки о белую футболку и убегает домой за фотокамерой. Когда он возвращается обратно и для начала «щелкает» меня, в задумчивости взирающего на красоты видимого обреченного мира, то пленка неожиданно автоматически перематывается, и кадр с рыбиной не удается.
А прохладной ночью, обняв одной рукой белую теплую колонну широкой веранды, как известный поэт березу, пью кофей под тысячеголосое брачное кваканье и любуюсь неверным мерцаньем тысяч огромных звезд, повисших на черном бархате небес. Но не только лягушачьи трясинные раскаты и богатырский храп брата с племянником сотрясают ночное пространство. Нет, не только…
Во мраке пронзительной тьмы… В бушующей звуками тишине, уплывающей в небытие вселенской удушливости… Присностраждущее в сем зыбком мире сердце христианское плачет в покаянии и мольбе к Небесному Отцу: «Свете! Свете мой тихий! Почто оставил Ты меня? Как дотянуться до высот, с которых смогу узреть предвечное сияние Славы Твоей? Темно и мрачно здесь без Света невечернего. Хладно мне здесь без Тепла любви Твоей. Одиноко блудному сыну Твоему без желанного упокоения в лоне Отеческих добрых ладоней Твоих! Почто оставил нас, Господи, немощных и обманутых врагом детей Своих? Приди, Отче! Сотвори великое Сретение Свое! Пролей во мрак затянувшейся ночи Свой победный немеркнущий Восход!»
Следующим днем звоню Вадиму, строившему в наш приезд о.Антонию храм. Так, на всякий случай звоню, потому что он оставил свой телефон перед нашим отъездом. А он — возьми, да и через три часа прикати. Погрузил нас в машину и повез в Белореченские дали. Чтобы, накормив крестника и уложив спать, всю ночь рассказывать с печалью в сердце в большом одиноком доме о своих мытарствах и томлениях. О, Вадимушка! Как печалуюсь я за тебя, как стремится сердце мое помочь тебе, согреть тебя в хладе невзгод! Только что я, убогий, могу? Что налью в чашу жизни твоей, полную слез? Разве только своих добавлю… Истерзанный состраданиями, немощно возлегаю на свой одинокий одр, а сей благочестивый муж, обильно омочив белую рубаху слезами, встает на ночную молитву и до восхода вздыхает к образам, возжигая одну за другой толстые восковые свечи.
Чтобы отвлечься от забот, утром сажает он нас с крестником в микроавтобус. Туда же помещаются его дочь Света с внуками: полугодовалый Коленька, трехлетний Володя, пятилетний Андрей, восьмилетняя Катя и тринадцатилетняя Ксения, да еще водитель Саша — и все мы едем в горы. Высоко так!.. Когда машина довозит нас до Белой речки, которая в горах имеет нрав бурный и шумный, мы выходим и фотографируемся. На отвесных скалах читаем таблички с именами погибших в этих камнях молодых альпинистов. Ах, непослушные дети, что вам по равнинам-то не ходилось?!..
Потом купаемся в быстром потоке действительно молочно-белой реки, ледяном и стремительном. На прохладной альпийской поляне возлегаем на одеялах и, отбиваясь от веселой малышни, вкушаем рыбки с помидорами. А вокруг зеленеют сочные травы и рассыпанным жемчугом белеют и благоухают неброские скромные цветы. Потом снова по извилистой дороге забираемся в горы, выше и выше. Вот уж и люди оделись в куртки и свитера, вот уж вдали заблестели вечные снега высоких гор, а воздух, словно, квас с хреном, только из погреба — пьянит головы и хладит гортани ядреной льдистой упругостью.
Обогнув по дороге скалистый утес с изогнутыми соснами и березами, больше приличествующими Уралу, мимо травных лугов со множеством ульев, мимо горноспасательной базы МЧС — выезжаем на скалистую террасу, с которой открывается пред нами изумительная по красоте картина. Изумрудные холмы со снежными коврами на северных склонах в мягких оспинах круглых карстовых промоин, схожих с лунными кратерами, если бы не травка, укутывающая их. За этими пологими холмами высятся горные вершины, осеребренные вечными снегами. А над всем этим великолепием в горностае облачных манто застыла фиолетово-лазурная небесная высь. Наш общий восторг неподделен. Но как?! Как выразить нам радостную благодарность за эти красоты, столь щедро излитые на нас? Что мы, немощные, можем? И в сей миг Вадим — наш мудрый и верный христианский брат — восклицает в порыве:
— Коль сам великий царь и святой пророк Божий Давид творил свои бессмертные псалмы и воспевал их средь подобных этим холмистых высот, то будет и нам прилично воспеть хвалу Творцу в сих пречудных местах вдохновенными глаголами Давидовых псалмов! Воспоем же и мы, братие!
Не посмев отказать возлюбленному старшему брату в сем его высоком порыве, вполне осознавая, Кто положил ему на сердце благой помысел, восстаю подле в кротости, столь несвойственной моему испорченному самостью нраву. Вадим раскрывает свою походную псалтырь — и дивные песни 20-й кафизмы льются и льются из наших отверстых уст на холмы древнего Кавказа. «…Человек суете уподобися: дние его яко сень преходят. Господи, приклони небеса, и сниди, коснися горам, и воздымятся. …Боже. Песнь нову воспою Тебе, во псалтири десятиструннем пою Тебе…». Будто замерло все вокруг — и люди, и шорохи, и птичий полет, и даже малютка Николенька затих на руках большой и теплой мамы Светы — всё поет, дышит и держится светлой хвалебной песнью во славу Творца всего сущего: «Всякое дыхание да хвалит Господа».
Благо же, благо же нам! И не зря наш Вадим облачился в сей день в тонкие белые одежды: много ли таких светлых праздников достается нам в нашей суетной земляной жизни…
Но, увы, все хорошее кончается, и нам надлежит спуститься в наши низины. Впрочем, не знал я тогда, в экие низины мы сойдем… Веселый водитель завозит нас в некий лес, подобный древами среднерусскому. А там, одевшись в теплые куртки, мы по крутым лестницам, ниже и ниже, спускаемся во чрево земли. Уж и холод проникает под наши вороты, и позевываем от сырого густого воздуха, уж и редкие лампочки все меньше освещают подножие ног наших… С высоких сводов пещеры стекают тысячелетние сосульки, наросшие от капающей отовсюду густой кальциевой влаги. Им навстречу, с низов, набухают каменные бородавы диковинных конфигураций.
Наши уши заложены свистящим звоном, дышать становится затруднительно, сырой холод проникает в нас глубже и настойчивей. Все ждут команды возвращаться, но вожак в белых одеждах спускается ниже. И вот по сырым скользким лестницам и мрачным лабиринтам выходим на освещенную тусклой лампочкой площадку с осклизлыми сталактитовыми надолбами, вкруг нас петляет подземная темная речка, сверху в нас целятся остриями пик каменные сосулья, меж ними сереют закопченные стены, и неустанно капает и капает сверху…
Вскарабкавшись по лестнице наверх — к солнцу и теплу, к траве и кустам, к деревам и птицам, междуветвенным лоскутьям синего неба в вышине — мы снова и снова радуемся тому, что мы человеки, а не пещерные летучие мыши … с перепончатыми черными (ффу!) крылами.
По дороге вспоминаем житие преподобного Марка Афинского о перетаскивании горы с места на место.Проезжаем Майкоп — столицу Адыгеи, где просится вывод, что адыгейцы в основном светлые и белокожие, потому как других мы не видим. А еще, подметив их номер региона 01 на местных машинах, я придумал предвыборный лозунг для президентских выборов Адыгеи: «На дорогах России — мы уже первые!» Предлагаю лозунг вниманию Вадима, на что тот политически глубоко задумывается.
На следующий день после обеда, ближе к вечеру, Вадим задерживается и просит отвезти нас обратно своего брата и друга — Алексея. Он имеет свой магазинчик, зажиточный, энергичный, искренне верующий и до слез любящий нашего батюшку молодой еще человек.
Алексей с Юрием довозят нас до дому и восхищаются красотою места. Тогда мы показываем еще и Спортлагерь — и они совсем растаивают от созерцания маленького озерца в окружении осоки, купания в пенистом море и рыболовных перспектив. На вахте у въездных ворот стоит на страже долгожительница и местная достопримечательность — Екатерина Спиридоновна, которую в свое время прозвали «зэчкой». Она в 17 лет отказалась «катать телегу на историчку», и ее по 58-й статье сослали сюда в лагерь, который был тогда каторжной каменоломней. Живет она до сих пор в домике, бывшем в те времена зэковской баней. Поприветствовав старушку и передав ей приветы с поклонами, мы с сожалением уезжаем отсюда, хотя аромат реликтового можжевельника густеет остывающим после варки повидлом. Долго еще обнимаемся с этими мужами, троекратно лобызаемся и выражаем обоюдные знаки взаимной приязни.
Следующим днем мы с крестником по горам шагаем на дальний берег моря. С горной высоты видим мы на горизонте огромные десять резервных нефтяных емкостей, каждая по 100 000 тонн — это тюменцы тянут в соседнюю бухту нефтяную трубу для экспорта нефти по Черному морю. Мы представляем себе, как от этих нефтебочек будет веять керосином и чувствуем трагическую завершаемость сущего. Эти нефтесосы построили здесь себе профилакторий, настроили богатых домов, псевдоокультурили некогда чудесный дикий пляж, куда съезжались нищие студенты и интеллигенция Питера и Москвы.
В этот день мы еще позволяем себе прогулку на ялике по озеру. Пока мой крестник усиленно гребет на веслах, я замечаю великолепный древний дуб, одиноко стоящий в низине холмистой долины и запеваю во всю мощь песню, столь любимую моим дедом Иваном:
«Среди долины ровныя,
на гладкой высоте,
стоит, растет высокый дуб
в могучей красоте…»
Песня несётся над бирюзовыми волнами, над кремнистыми скалами и холмами в изумрудных кудряшках, над людьми и птицами, стремится ввысь, как одинокая душа моего пращура в земной жизни, как сей могучий дуб, высящийся над прибитыми к земле травинками и былинками его растительного окружения!..
А через день уже еду назад в поезде до Москвы. В вагоне кондиционером поддерживается приятная прохлада, мы кушаем баклажаны и картофель-фри с помидорами, черешню и сливы. Ненавязчиво наставляю одного соседа, попавшего в сети баптистов, и другого, пребывающего во мраке безверия. В периоды молчания любуюсь проплывающими за окном богатейшими пейзажами и внутренне молюсь обо всех людях, коих вижу и не вижу в дороге.
О, нет, господа-злопыхатели, Россия еще далеко не умерла!
Это там по вашим телевизорам вы внушаете людям, что у нас все сгнило и в упадке. Откуда же, позвольте вас спросить, такое повсюду цветение и богатство? Почему люди строят повсеместно большие дома и ездят по прекрасным дорогам на новеньких машинах, чем так бойко торгуют и на что покупают? Никак это не укладывается в образ России, который вы нам навязываете своим лживым телевидением с продажным и голубым трудовым коллективом.
Россия жива и продолжает быть самой богатой страной мира! У нас 80% природных ресурсов планеты. Нам бы только воровство да казнокрадство поприжать. Какая бы страна мира выдержала такую экспансию воровства и предательства, такой злобы врагов внутренней и внешней пятой колонны? А мы все живем им назло, и не так уж плохо, если, конечно, работать во славу Божию, а не прозябать у телевизоров, выжигая душу сверкающей фальшью. А храмы! Вы видели где-нибудь такое их обилие и надмирную красоту золотых куполов? А иконки на лобовых стеклах множества машин? А миллионы крестиков на шеях молодых и ясноглазых юношей и девушек? О, эти ребята еще покажут нам, что такое созидание Российской монархии!
Ты еще жива, Русь Святая, и за тобой последнее слово в истории этого мира!
Уже пора
Мой невольный бронзовый загар, выстраданный на юге в полдневных ожогах и ночных ознобах и вывезенный с собой в среднюю полосу России, производит на окружающих разное впечатление: кто посмеивается, называя меня эфиопом, а кто подозрительно интересуется, а не подхватил ли я невзначай желтуху. Особенно достается мне от дачников, которые насмерть привязаны к своим соткам и поэтому забыли, что такое выезд за пределы области. Только выставленные на стол диспетчерской на всеобщее потребление южные дары: бочонок домашнего вина, виноград, хурма и мандарины — примиряют бледнолицых братьев с моим загаром.
Во время застолья все по очереди, начиная с Риты, выкладывают новости. Одна из них меня очень огорчает: Юра лежит в больнице с печальным диагнозом и, как говорит Рита, может «не выкарабкаться».
Кроме того, на меня набрасываются с разными вопросами все, кому ни лень: этому нужны накладные, тому — акт сдачи работ, другому — заявки. Мой светлый костюм заляпан в нескольких местах разноцветными пятнами, по моей макушке несколько раз весьма ощутимо проходятся те, кто пробивают себе дорогу к южным дарам локтями. Заглядывает начальник конторы и испепеляет нас бдительным взором. И все как один заговорщицки весело интересуются моими южными победами на личном фронте.
По этим и другим причинам выхожу из конторы в смятении чувств, будто меня резко дернули за хвост, спустив с теплых небес на хладную землю. На меня рычит и визгливо лает вечно спящий у ворот сторожевой пес, в масти которого слились воедино овчарка, лайка, доберман и терьер. За воротами едва не попадаю под колеса свирепо рычащего «Краза», свернувшего с главной дороги, как всегда, не снижая скорости, да еще получаю от него на прощанье длинный издевательский гудок клаксона.
Навстречу мне по тротуару идет четверка женщин, увлеченных обсуждением сюжетных поворотов аргентинской мелодрамы. Конечно, их можно понять: там море, пальмы, цветы, виллы, красивая любовь трезвых хорошо одетых людей, а тут — серая бетонная стена забора, поток чадящих машин, грязь под ногами, да еще нужно уступать дорогу мужику, явно русскому, значит заведомо пьянице и бездельнику… Обхожу женщин по проезжей части, надеясь, что автомобилисты проявят большую уступчивость. И точно: если не обращать внимания на ругательские гудки, фырканье выхлопных труб в направлении моего пока еще сравнительно светлого костюма, то мой обгон аргентинской квадриги завершается удачно. Пора!..
Очень хочется, наконец, спокойно идти домой прогулочным шагом, но не тут-то было… Идущая впереди меня семейная пара, останавливается прямо передо мной, чтобы решить, куда им направиться: «в универсам или на ту сторону». Я стою рядом и периодическим покашливанием пытаюсь обратить на себя внимание. В это время на меня сзади налетает мужчина, которому сейчас нужно только одно: обязательно попасть домой до того, как он уснет. И ему нет никакого дела до проблем впередиидущих, потому что им руководит автопилот. Получив от него тычок в спину, я уворачиваюсь, и он также без остановки рассекает пополам семейную пару, что и мне дает возможность продолжить путь. За спиной слышу назидательные советы по поводу вреда алкоголя, тем более, что я сегодня в шляпе. Точно пора!..
Ну, вот. Кругом никого, иду один по дорожке. Сейчас-то могу я побыть один? Могу. Вернее, мог бы… Если бы из густых кустов не выскочила прямо на меня женщина с криком «а ты меня слови сначала!» и не упала мне под ноги. Мне снова приходится с ловкостью матадора уворачиваться, чтобы не упасть с ней вместе, чему бы она, наверное, не очень огорчилась. Уже не удивляюсь, что в магазине на меня кричит продавщица и шипит кассир, оттесняет в конец очереди плечистая домохозяйка и строит глазки юное тощее создание неопределенного пола в спецодежде «унисекс». Только дома обнаруживаю, что мне подсунули гнилые огурцы и черствый хлеб. Еще бы не пора…
На кухне шумно выпивают бледный усатый Витя с Толиком, румяным и тщательно выбритым. На них кротко, но грустно взирает исподлобья новая невеста Вити — Катюша. Мое появление вызывает у посидельников бурю эмоций, и только застывшее на моей физиономии напряжение и решительные стоп-жесты пресекают их попытки засадить меня за стол. Пока я ставлю чайник на плиту и режу салат, Витя сообщает всем нам, что единственным препятствием свадьбе является отсутствие у него черного костюма. Так что завтра же они с Катюшей идут в магазин и без костюма из него ни за что не выйдут. Еще как пора!
Толик, взволнованно шмыгая носом, пускается в рассуждения о фасонах, тканях и цене мужских костюмов, а также влиянии этих параметров на устойчивость брака. Он приводит множество примеров из своей богатой практики свидетеля, когда темно-синий шерстяной костюм-тройка немецкого производства обреченный с самого начала брак удивительным образом преображал в многодетный и счастливый, а французская двойка, но с двубортным пиджаком, цвета бордо с легкой морковной искрой, сообщала браку по расчету трепетную нежность чувств и лебединую верность обоих супругов. Вите доводы кажутся убедительными, и он предлагает Толику должность главного консультанта на время закупки свадебной спецовки.
Подхожу к забытой на подоконнике невесте и подбадриваю ее, не привыкшую пока к такому вопиющему забвению ее чарующего женского присутствия:
— Катюша, люби его как мы и даже крепче. Он хоть и застенчивый, но добрый, как дитя, и надежный, как швейцарская страховая компания. А чтобы не нервничать, подложи им закуски и возвращайся домой. Пусть немного пощебечут — ничего плохого в этом нет.
— Правда? — хлопает девушка глазами, весьма выразительными, особенно на фоне милых конопушек, щедро рассыпанных по бледному скуластенькому личику.
— Чистая!.. — киваю утвердительно. Получив целевую установку, Катя действительно успокаивается и выходит из своего несколько преждевременного ступора, а заодно из нашей сугубо мужской секции.
Не то что мне пора, а очень и очень настоятельно…
Последующие три дня провожу в бумажных конторских делах, усиленной молитве, воздержании в пище и от нечистых эмоций. После ежедневного прочтения покаянного канона выписываю обнаруженные в себе грехи на листок. Каждый день список неудержимо растет, вызывая во мне желание поскорее все эти мерзкие накопления смыть, уничтожить, сжечь.
Растут попутно и непременные спутники приготовления к исповеди — искушения. Например, как приходит мне время читать покаянный канон, Толик втаскивает в секцию Витю в новом костюме. Пока главный консультант размещает изысканно одетое тело жениха на кровати, Катя со слезами жалуется, что жених так перебрал, что во время примерки костюма заснул прямо в кабинке. Я успокаиваю девушку тем, что главное все же он успел: выбрать, примерить и одеться. А его консультант нашел в себе благоразумие расплатиться за покупку — так что все нормально, просто у ребят такая традиция: мальчишник или прощальный плач по вольной холостой жизни. Моя несокрушимая логика снова успокаивает девушку, и она мирно удаляется.
Спустя пару часов в комнате Вити слышится шумная возня. Отрываюсь от молитвы и направляюсь на шум. Жених в новом костюме сидит верхом на Толике и дубасит его. Толик изредка отвечает ему тем же. Приходиться растащить драчунов по кроватям, и они лежа продолжают диалог о том, почему Толик глядит на Катю без требуемой скромности, приличной свидетелю. Я убедительно прошу Витю переодеться, а Толика перейти в свою комнату. Они ворчливо подчиняются. Наступает тишина. Когда я дочитываю до конца канон и приступаю к вечернему правилу, слышу крик Толика из его комнаты. Со вздохом поднимаюсь и иду на голос. Витя вторично оседлал Толика и молча, но сосредоточенно снова дубасит. Тот устало и неубедительно выражает несогласие с мнением оппонента. Спрашиваю, что явилось причиной драки на этот раз. Витя отрывается от рукоприкладства и поясняет, что в настоящее время он «бьет лицо Толику за меня», потому что тот не вполне уважительно высказался обо мне в свете моих переговоров с Катей. Снова растаскиваю их по комнатам. На этот раз усталость сваливает их, и драчуны засыпают.
Причастие
В день приезда эти искушения меня удручают. Хотя, конечно, выполняют свое главное назначение: наводят на мысль о необходимости срочно готовиться к исповеди. Но в следующие дни искусительные преграды лишь укрепляют мое решение: пора, пора!
Воскресным утром в тумане и сырости иду в храм на литургию. С полуночи ничего не ем и не пью, поэтому сначала жажда, а потом и голод по нарастающей начинают совершать во мне телесную тягость. Да еще вот эта промозглость вокруг…
Стою в очереди исповедников и со страхом наблюдаю в себе полное отсутствие покаянного настроя, который так сильно горел во мне по ночам во время говения. Несколько женщин протискиваются вперед меня и проходят без очереди. Прости им, Господи… Чтобы сосредоточиться, достаю из кармана молитвослов и пытаюсь читать Покаянный акафист монаха Геронтия, приводящего грешника к осознанию своего бедствия: «Аз есмь пучина греха и блато нечистоты, аз есмь хранилище всех злых и безместных деяний: увы мне, Боже мой, увы мне, Свете души моея!». Но снова чувствую только тупость и жажду, хладность душевнуюи сосущий под ложечкой голод.
После исповеди становлюсь среди мужчин. Вернее, в том месте храма, которое для мужчин предназначено, то есть справа-спереди. Иногда там же оказывается какая-нибудь женщина, дабы склониться в земном поклоне впереди мужской шеренги, что несколько смущает меня. Но если бы сие искушение было единственным, то это бы ладно, только для полного смирения нам предлагается еще одно испытание. Стоишь, опустив глаза, всеми силами пытаешься сосредоточиться на молитве, а тебя каждые пять минут стучат по плечу и просят передать «вот эти две — Спасу, четыре — Богородице, к празднику одну, Николе — две, всем святым вот эти четыре, на канун три, и еще вот эту большую — Пантелеимону». Передаешь, перечисляя все сказанное, обязательно путаешь какую и сколько куда. Конечно, на душе растет штормовое предупреждение — лишь бы сдержаться и не закричать сгоряча, что никак не приветствуется. Вот когда в полной мере видишь и свою гордыню, и уродливых ее деток: раздражение, гнев, нетерпение, острое желание поучать неразумных правилам поведения в храме!
И уже есть что смирять, есть о чем горячо молиться!
А вот и недоверчивые дамочки с решительными лицами расталкивают стоящих и протискиваются вперед, чтобы уж наверняка поставить свечи туда, куда им надо, невзирая ни на кого и ни на что. Если кому-то из них сейчас в мягкой форме кротко указать, что, мол, служба, сестра, и хождение во время службы есть грех, то можно услышать: «Нужна мне ваша служба! Мне свечку поставить надо!». Так что лучше не пытаться вступать в пререкания — бесполезно. При мне такие попытки случались… Вот одна такая бронебойная сестрица чуть не опрокидывает старика с длинным хвостом седых волос, он же бесстрастно одергивает задравшуюся полу воскресного пиджака и продолжает спокойно стоять, монотонно перебирая старенькие четки. Мне бы научиться твоему бесстрастию, отец…
После таких испытаний и обнаружения в себе вопиющих «младенцев Вавилоновых», чувствую полную духовную ущербность и немощь, так помогающие наполнить сердце покаянным сокрушением о своей греховной порче. Тут уж не до пагубного фарисейского самодовольства… Мытарева молитва — вот что удерживает на краю пропасти. Пробираюсь в самый угол, становлюсь на колени и подражаю Евангельскому мытарю (батюшке Серафиму, Достоевскому…) пока хватает сил терпеть нарастающую боль от контакта каменных плит с костлявыми коленями. Когда боль в коленях начинает жечь, как огонь, встаю и чувствую умирение в душе со всеми врагами и обидчиками и отсутствие желания следить за кем бы то ни было, кроме себя, многогрешного и нечистого.
…А как сладко рухнуть в земном поклоне, вдавить горячий лоб в истоптанную прохладу мраморного пола, когда долгожданно отверзаются Царские врата и священник выносит Святые дары в золотой сверкающей чаше — Царь Иисус сходит к подданным Своим. В эти секунды нет ничего, кроме непостижимого присутствия сияющей Славы — и твоего убогого недостоинства. Идешь к Чаше, как прокаженный или расслабленный к живому Христу, умоляя не отвергнуть, но исцелить «Если Ты хочешь»…
И как тихо становится внутри тебя, когда отходишь от сияющей Чаши Жизни, бережно неся бесконечно дорогую частицу Вечной Спасительной Любви.
Запиваю «теплотой» и возвращаюсь на прежнее место. Также толкают меня, хлопают по плечу, передавая свечи. Та же суета вокруг и хождения. Но вдруг понимаю, что все изменилось. Нет, люди те же. И ведут себя по-прежнему. Изменился я сам. Теперь я передаю свечи с готовностью. Пусть хоть так люди выражают свою любовь к Господу. И это им зачтется, а, может быть, кого-то и спасет. Кто знает? И мне приятно помочь в этом выражении любви. И толкают меня поделом: встал на пути, мешаю людям подойти к иконам. И вообще, все такие добрые и хорошие, все братья и сестры, все гораздо лучше меня. Я счастлив, что мне позволяют быть среди этих добрых людей.
Стою на благодарственной молитве, проживая каждое слово благодарения и славословия, и одна у меня проблема — как сдержать слезы, так и подступающие к глазам, так и застилающие обзор, так и текущие по щекам…
Выхожу из храма и вместо утренней туманной сырости и серости обнаруживаю здесь солнечную тихую погодку, наилучшим образом соответствующую моему внутреннему состоянию. Это случает иногда. Значит, причастился на пользу, а не в осуждение. Значит прощен…
После службы ноги сами выносят меня к больнице. Ее невзрачное здание с облупившимся фасадом вырастает передо мной из одичавшей растительности старого заброшенного сквера. Наверное, во дни непогоды и больница, и разбитые грязные аллеи производят удручающее впечатление, но сегодня, в этот солнечный воскресный день в этой юдоли печали, а для многих и в последнем земном пристанище — уютно и тепло.
Не без волнения поднимаюсь на второй этаж, удивляясь, что никто не пытается меня остановить, одеть в белый халат. Прихваченный по пути пакет с традиционными апельсинами и яблоками режет ладонь и нервно шелестит при каждом шаге. Больничный дух, представляющий собой сложный коктейль из запахов карболки, спирта, кислых щей и человеческого пота, местами сгущается до тошноты, поэтому нахожу полуоткрытое окно и подхожу перевести дыхание.
Здесь на подоконнике сидит молодой мужчина с желтым лицом. При моем приближении он вскакивает и услужливо протирает рукавом застиранного байкового халата ноздреватую подоконную доску, серую в крапинку — «цементную». Спрашивает, к кому я пришел и не надо ли кого позвать. Руки этого человека с толстенными пальцами, дочерна грязными, мелькают передо мной в порывистых жестах. На его лице, заросшем черной щетиной и моржовыми усами, — внимание и безумная улыбка блаженного. Я называю фамилию и номер палаты, он суетливо убегает в самый конец коридора и по возвращении весело докладывает, что мой друг лежит в «начальнической палате», но у него сидит женщина, наверное, жена. Протягиваю ему большой апельсин, он хватает его и жадно запускает длинные желтые зубы прямо в рыжую корку, стреляющую брызгами оранжевого эфира, а сам глядит мне прямо в глаза, ожидая дальнейших указаний.
Наблюдаю, как он ловко расправляется с цитрусом, зубами обдирая цедру, и тактично сплевывает во вместительную ладонь, прикрываясь густыми усами, а сам думаю, как мне себя вести с моим больным другом. Известен ли ему беспощадный приговор врачей? Не впал ли он в депрессию? О чем с ним говорить?
Из «начальнической палаты» выходит сгорбленная женщина, оглядывается и чуть не бегом устремляется ко мне. Пару раз мне доводилось видеть ее и даже издалека раскланиваться — это супруга больного. Мой сосед уступает ей свое место у подоконника.
— Это ужасно, Дима! — сообщает она громким шепотом. — У него в глазах смертельная тоска. От него уже пахнет, как от покойника!..
— Ничего-ничего, — только и нахожу, что пробубнить в ответ, а в душе чувствую нарастающее смятение.
Нет, в таком состоянии я просто не имею права входить к больному. Надо что-то делать… Я вызываюсь проводить женщину до ворот, она молча кивает. Выйдя из дверей больницы, она трясущимися пальцами достает из мятой пачки сигарету и неловко закуривает. Ничего лучше, как молиться, мне в голову не идет. Пока мы идем в клубах сигаретного дыма в сторону остановки автобуса, приходится выслушивать истерические фразы, лишенные смысла. Хотя сказать, что они пусты, было бы неверно: все, что она говорит, пульсирует, как темной кровью, самолюбием. Молитва сбивается на каждом слове, выходит сумбурно и рассеянно. Наконец, автобус увозит женщину, а я возвращаюсь, медленно ступая, и упрямо шепчу слова молитвы.
Снова поднимаюсь наверх, иду по коридору и уже спокойно стучу в застекленную дверь нужной мне палаты. После ответного «да» вхожу и направляюсь к знакомому, хотя и плохо узнаваемому лицу. Про себя произношу: «Господи Иисусе, побудь среди нас!». Юра настороженно глядит на меня затравленными глазами и молча косит взглядом на стоящий рядом стул. Кладу шуршащий пакет на тумбочку, подвинув банки с куриным бульоном и компотом. Он неотрывно буровит меня тяжелым взглядом.
— А ничего, уютно тут у вас, — произношу чужим голосом, оглядывая четырехместную палату с газетами на окнах вместо гардин.
— Ты тоже?… За упокой тут петь будешь… — слышу скрипучий Юрин голос.
— Думаю рановато за упокой-то… — улыбаюсь в ответ.
Это сразу разряжает атмосферу, и дальше говорим уже легче. Даже двое соседей зашевелились на своих койках и дружно зашуршали газетами.
— Бедный, бедный Юра, — снова улыбаюсь я, глядя на еду, которой уставлены все тумбочки, подоконник и холодильник. — Это же все теперь нужно слопать!..
— Если бы не наш Маратик, плохо бы нам пришлось, — улыбается неожиданно в ответ Юра. — Он как поступил сюда в первый день, открыл холодильник и закричал своей бабе в окно: «Тута жратвы как на базе. Ничего носить не нады!» И каждый день тут пикники устраивает. Отсутствием аппетита он в отличие от нас не страдает. Одно удовольствие глядеть, как он все подряд уплетает.
Юркино лицо освещается добродушием, он приподнимается на локтях, я помогаю ему взбить и приподнять тощие подушки. Также оживленно, как обычную новость заявляет:
— Так ты слышал? Приговорили меня врачи, списали в расход. — Улыбка вдруг сходит с его бескровных губ, он хватает меня за локоть и сдавленно произносит: — А самое противное — так это выслушивать лживые сочувствия и смотреть, как людям противно и страшно видеть приближение смерти.
— Ну, ты Юр, попробуй и их тоже понять… Ведь они тебя любят, переживают, — лепечу я, всеми силами пытаясь не отводить своих глаз.
— Меня? Да брось ты! Это они своей смерти боятся. А я для них — как напоминание об этом.
— И это тоже можно понять… Разве можно себя вне Церкви считать готовым к смерти? Ведь после выхода души из тела — дальше — идти на Суд Божий. А это ответственно и для праведников. Даже святейшая из святых Богородица просила Сына своего принять душу по смерти. Но ты не паникуй, милость Божия так велика и беспредельна, что даже только уповая на нее, ты получишь великое утешение и послабление на Суде.
— Откуда мы знаем, как там? Кто оттуда возвращался?
— Возвращались «оттуда» многие и рассказывали сходные вещи. Да ведь существует множество книг об этом. Церковь имеет целое учение о посмертной участи души. Я читал их. И ты знаешь, когда это читаешь, то в душе вместо страха животного появляется другое… И это даже страхом назвать неуместно. Это — ответственность, нежелание придти к Богу грязным, во грехах, как в грязи. Ты понимаешь?
— Послушай, послушай, Дима, ты мне дай это почитать, а?
— Принесу, конечно.
— Когда?.. Ты это… ты расскажи хоть немножко, а?
— Хорошо.
Я собираюсь с мыслями. Вспомнилось про апостола Павла, и я ему рассказываю о его чудесном перерождении из гонителя христиан в первоверховного апостола после встречи на пути в Дамаск с Господом, о его восторге от созерцания Царства Небесного.
— Но если Павел даже не смог найти таких красок и соответствующих слов, чтобы описать Небеса, то блаженный Андрей, например, очень даже подробно описал свои потусторонние впечатления. У меня, во всяком случае, во время прочтения появилась зримая картина.
— Ты это… Обязательно принеси мне, слышь?
— Принесу. Ты вот еще чего послушай! — увлеченно ерзаю я. — Можешь ты себе представить мир, в котором нет зла? Нет смерти, болезни, голода, холода, зависти, отчаяния, жадности… Нет, ты мне скажи, можно себе представить, что нет даже печали? А вместо нашего земного солнца — сияние беспредельной славы нашего Господа! Трудно даже вообразить… Это потому, что мы настолько срослись со злом, свыклись с его присутствием, что мир без зла, без греха, без бесов уже и представить себе не можем. А он есть! И первый, кто туда вошел — разбойник. Да!
— Какой разбойник? — Юра подпрыгнул на локте.
— Тот самый, который был распят вместе с Иисусом Христом. Который просил помянуть его во Царствии Небесном. Которому Господь сказал, что уже нынче он будет в раю. Вот какой разбойник. Только за одно это признание Иисуса Христа Богом и за одну эту просьбу помянуть — и первым на Небеса. Кстати, Небеса от слов «нет бесов». Эти гнусные создания существуют только на земле и в аду. А в Царствии Божием их нет!
— Эх, Димка, скорей всего мне это Царствие Небесное не светит… Я же неверующий… всю жизнь был…
— Ну, так и разбойник только перед смертью раскаялся. Главное — что? Грехи с собой в вечность не забрать, а здесь оставить.
— Ой, да их столько! Что год перечислять будешь…
— Не волнуйся, не больше, чем милости Божией. Все твои грехи — как капля воды в океане Божией любви потонут. Только надо исповедать их священнику, чтобы под его епитрахилью вся эта нечисть сгорела. А после уж и умирать не страшно. Вон монахи, которые не только грехи, но даже помыслы малейшие каждый день исповедуют — так вот они смерть, как жених невесту, ожидают. …И умирают с улыбкой на лице.
— Сказки все это поповские! — раздается из левого угла. — Надо просто мужество иметь, чтобы без этих сладеньких поповских сказочек честно признать, что после смерти нет ни-че-го. Мужиком нужно быть!.. А то слушать противно, как, прям, бабки столетние…
— А вы, Вилен Иосифович, не встревайте, — слышится из правого угла. — Вам не интересно, так дайте другим послушать. Здесь вам не райком, а смертный одр, извините!
Газета в левом углу опускается. Из-за нее показывается толстяк со злющим лицом вырожденца, который ворча надевает шлепанцы и, демонстративно топая, выходит в коридор.
— Это у нас тут номенклатура недобитая. Даже имени человеческого не имеет, а туда же! — поясняет Юра. — Не обращай внимания, продолжай.
— Как на той же Голгофе: один хамит, другой защищает, — вздыхаю я. — Один первым на Небеса попал, другой — в ад, далеко не первым, да и не последним…
— Димитрий, если честно… Если по-дружески, то страшно мне!.. Все время думаю, за что мне это? Почему именно я здесь лежу и во мне разлагается печень? Что я хуже других?
— А, может быть, потому и болеешь, что хоть чем-то лучше…
— Это как же?
— Страшно было бы, Юра, если б ты здоров был, как бык, воровал без зазрения совести, если бы самодовольством, как жиром, заплыл — вот тогда точно конец! А если ты болеешь, страдаешь, то это значит, что Господь тебя избрал для спасения души твоей для Царствия Небесного. И это одно должно тебе сердце согревать и успокаивать. Ты пойми, что мы за свою безбожную жизнь много — ох, как много! — грешим, и если мы болеем и страдаем, то по милости Божией искупаем свои грехи здесь на земле, чтобы не взять их собой в вечность. А в вечности два адреса: с грехами в ад или очищенным от грехов — в наш дом Небесный к Отцу нашему.
— Страшно. Все равно страшно, Димка!.. Вот ты здоровый, молодой, тебе еще жить и жить, потому ты так спокойно говоришь… А если бы ты здесь лежал вместо меня, то по-другому запел бы.
— Видишь ли, Юра я сегодня исповедался и причастился Святых Тайн в Церкви, поэтому сегодня умереть не то что страшно, но даже предпочтительно было бы… И говорю тебе, как другу, совершенно честно, что я бы с радостью поменялся с тобой местами. Когда исповедуешься и причастишься — умирать не страшно, а спокойно.
Юра долго и внимательно изучает мою физиономию. Я с неожиданным спокойствием вглядываюсь в его осунувшееся постаревшее лицо и отвести взгляда, как прежде, не хочется. Мне кажется, что я искренен с ним, перед лицом его смерти.
— Скажи, Юра, — слова сами складываются в моей голове и сами произносятся. — И себе тоже, своему будущему… Перед вечным человеческим выбором… Куда ты хочешь: к Богу, создателю своему или к сатане, твоему убийце? Сейчас можешь не отвечать. Я приду завтра.
Больной друг снова хватает меня за руку, подается ко мне всем иссохшим телом. Притягивает к себе и жарко выдыхает мне в ухо:
— Ты сделай все, что нужно, Димка. Никого не слушай. — Он оглядывается на соседние кровати. Мотает головой. — Неси книгу, зови попа, помолись за меня… Только сделай что-нибудь!..
— Если ты сделал выбор — это уже начало… твоего спасения. Я рад за тебя, Юра. Ты не представляешь, что сейчас с тобой произошло! Ты сделал самый главный шаг. Ты вечную жизнь выбрал…
Голова Юры бессильно опускается на подушку, глаза закрываются. Может быть, он заснул, а может, молча пережидает приступ боли, с которой он один на один. Его рука слабо сжимает мое запястье. Я сижу и молча молюсь за него, радостно ощущая сладкую угодность Господу этой неотступной молитвенной просьбы. Хорошо нам сейчас втроем: Спасителю, Юре, и мне…
На следующий день хоть с трудом, но выкраиваю часок, чтобы заглянуть к Юре в больницу. По пути заезжаю в общежитие и захватываю с собой целебный инжир, подаренный южной бабушкой. Вот, думаю по дороге, как все кстати устраивается: смоквы со Святой земли исцеляют бабушку от цирроза, она мне их дарит в благодарность, и вот теперь я несу их другу, болеющему тем же. Ты с нами, Господи! А значит, все будет хорошо.
Понимаю, что на этот раз нет во мне ни страха, ни смятения, наоборот, иду с легким сердцем. И даже предчувствую необъяснимую радость. Ноги стремительно несут меня на второй этаж. Попутно киваю сидящему у открытого окна Марату, протягиваю ему Риткин пакет с бананами, которые он принимает с неожиданно низким поклоном и благодарным мычанием.
В палате Юры нет, спрашиваю, где он. Отвечает больной их правого угла, что тот сейчас придет. А сам улыбается и рассказывает, что с Юрой начались какие-то метаморфозы: появился аппетит, улыбаться стал, разговаривает с соседями. После моего вчерашнего ухода у них тут состоялись богословские дебаты, во время которых они с Юрой «просвещали» Вилена Иосифовича. Они вдвоем «зажали его в угол и застыдили». Правда, единственное, чего добились — это его молчания во время их рассуждений о Боге.
Входит Юра, весело хлопает меня по плечу. Походка у него осторожная, кажется, его немного покачивает от слабости, но на впалых щеках появился даже легкий румянец. Я его поддерживаю, помогая улечься. Он благодарно пожимает мою руку.
— После вчерашних твоих слов, Дима, у меня настроение поднялось. Знаешь, надежда появилась.
— Значит, выздоровеешь. Давай так: мы полностью положимся на волю Божию, но сделаем для твоего излечения все возможное. Согласен?
— Что за вопрос, конечно, — кивает Юра.
Я рассказываю ему, как готовился к своей первой исповеди, как всю жизнь перебирал год за годом, событие за событием. Оказалось, что множество моих взрослых проблем выросли из детства, отрочества. Вот я первый раз соврал, потом еще; промолчал, когда нужно было сказать, когда от моего слова зависела судьба товарища. Вот хотелось быть не хуже всех, и я закурил первую сигарету. Потом то же с первой рюмкой, первой девочкой, первым ударом человека в лицо… Каждый раз все мое детское чистое существо сопротивлялось, но я преодолевал отвращение и самолюбиво, испытывая опьянение, совершал схождение на еще одну ступеньку во адову пропасть.
Сначала смущенно, но потом все более раскрываясь в ответ на мою открытость, Юра вступает в разговор. С ним происходило почти то же. Он с улыбкой смущения вспоминает первые падения. Но улыбка его сменяется скорбью, когда он приходит к пониманию истоков своих нынешних бед. Его исповедь разгорается. Тень смущения полностью изгоняется озарением истины. Мой друг шаг за шагом совершает великую работу: он открывает себе — самого себя.
Холодное самодовольство и мертвенное самоуспокоение тают, уступая место оживляющему душу раскаянию. Мне только иногда требуется выводить его из приступа тоски обнадеживающими примерами из жизни святых. Когда говорит Юра, я молюсь за него. В моей памяти всплывают нужные в этот миг слова из Евангелия или Апостола — они очень кстати вплетаются в ткань исповеди, укрепляя ее, не давая рассыпаться в рассеянии или во время приступов тоскливого стыда. Я забываю о том, что заскочил лишь на часок, мы с Юрой утратили чувство времени, впрочем, разве может быть что-либо важнее очистительного, оживляющего, спасающего покаяния…
На прощанье придвигаю к Юре фанерный ящик с целебным инжиром. Как знала старушка, что ягоды пригодятся… Рассказываю другу бабушкину историю и прошу его это все скушать. Юра, как великую драгоценность, берет верхнюю инжирину, снимает аккуратную салфеточную обертку и медленно надкусывает фиолетовую луковичку. С интересом разглядывает внутренность плода: мясистую сизо-бурую кожу, красные волокна со множеством малюсеньких семечек — словно хочет разглядеть внутри некую тайну исцеления.
— Знаешь, Дима, пожалуй, я теперь откажусь от лекарств и полностью доверюсь этому чуду. Как ты думаешь? — несколько смущенно улыбается он.
— Я бы поступил именно так, — киваю утвердительно.
Валентина
Мое возвращение из отпуска в бригаде встречается с неожиданной, но приятной для меня радостью. Петро проводит меня по объекту и гордо демонстрирует достижения. Цоколь смонтирован наполовину, но не из-за нехватки панелей или людей, а только из-за монолитного пояса по фундаментам: его нужно прогревать электродами. Это потому, что по ночам уже примораживает и бетон плохо твердеет. Заказчик к этому поясу прикрепил своего лаборанта, который каждый день по несколько раз снимает показания термометров, высчитывает прочность бетона и дает добро на монтаж цоколя только при наборе им проектной прочности. Ну, что ж, все по науке…
Василий Иванович снял почти всю бригаду и отправил на детсад. Петр сам туда просился, но из-за моего отсутствия не мог оставить этот дом «без начальства». У моей прорабской будки собрались оставшиеся рабочие нашей конторы, заводчане, приглашенные заказчиком, и сам заказчик. На меня обрушился поток комплиментов, похлопываний по плечу и признаний в любви. Не ожидал, не ожидал такого. Петро при всех громко произносит на мое недоумение:
— Ты как хочешь, Димитрий Сергеич, но ты нам как отец родной, и мы без тебя, стало быть, сироты.
— Ничего плохого здесь не происходило? — настороженно интересуюсь, не веря в такое их бурное сиротство.
— Все нормально, Сергеич! — слышу со всех сторон. — Не волнуйся ты.
— …А я теперь все равно не пью: бросил, — объявляю всем, догадавшись, кажется, о причине торжественной встречи.
— Обижаешь, Сергеич, выпить мы и без тебя всегда можем, — поясняет заказчик Александр Никитович. — А ты уже стал как родной, и мы по тебе весь отчетный период скучали.
Благодарю всех, пожимая по очереди руки, и захожу к себе. В бытовке чистота, порядок… В углу, кроме моего походного складня с иконами Вседержителя и Владимирской, появились еще несколько иконок: Серафим Саровский, Николай Чудотворец, Сергий Радонежский — все аккуратно стоят на угловом иконостасе и освещаются висячей лампадкой.
Сияющая Валентина к моему приезду успела даже чай заварить. Мы с бригадиром и заказчиком садимся за стол, накрытый белым ватманом, и она разливает по нашим чашкам душистый чай. Вскоре я остаюсь один, открываю журналы работ, технадзора, прогрева бетона и погружаюсь в изучение.
Валентина не уходит. Я поднимаю глаза и спрашиваю, вследствие чего она так сияет. Снова слышу, что я им всем отец родной и она тоже, как и все соскучилась. Откладываю журнал и спрашиваю ее, как она вообще и все такое…
— Хорошо, — отвечает она и улыбается.
— Эти иконки — твоих рук дело? — указываю на красный угол бытовки.
— Это мы с Петром соорудили. Нравится?
— Очень. А у тебя как с этим? Верующая?
— А как же, — кивает она.
— И как ты к вере пришла, если не секрет?
— Очень просто, — говорит она, опустив глаза и поглаживая край стола пухлой морщинистой рукой.
Я любуюсь ее красивым лицом женщины-труженицы. Лет ей, наверное, за пятьдесят, хотя лицо гладкое и морщинки собираются только вокруг глаз. Никогда не слышал от нее ни слова ропота, всегда веселая, заботливая, неусидчивая. Сейчас она задумалась, собираясь с мыслями, но улыбка так и гуляет по ее округлому, с правильными чертами, лицу.
В бригаде она единственная женщина среди грубоватых мужчин, но все к ней относятся уважительно, даже ругаться в ее присутствии прекращают. Однажды, помню, сделал выговор бригадиру за то, что женский туалет у нас неаккуратный какой-то. Так он мне и выдал, что, мол, некому им пользоваться. «Валентина у нас «от дома до дома», а больше некому». Как это можно «от дома до дома», спросил я, не понимая. А вот так и можно, ответил он, она почти ничего не ест и не пьет — так зачем ей туалет? И вот эта загадочная женщина сейчас расскажет мне о себе…
— Мне повезло. У меня мама, папа и бабушка — все верующими были. Рано вышла замуж, родила троих деток. Муж мой очень хорошим человеком был. Погиб в аварии. Детки все на мне остались. А что у меня, кроме небольшого заработка да его пенсии. Сам знаешь, нам всегда мало платили. Одна надежда и одна отрада у нас была — в церковь сходить, да помолиться Богородице от души.
Она говорит все это так спокойно, как о чем-то обычном, совершенно естественном, не поддающимся ни малейшему сомнению — как дыхание, как солнце, как сама жизнь. Мне, недавнему безбожнику, слышать это и необычно, и радостно, и тревожно за себя, негодного.
— Детки мои тоже с грудным молоком веру впитали — как нам без нее? И ты знаешь, Дмитрий Сергеевич, никогда… никогда еще не оставляла Она нас без помощи Своей. За всю мою жизнь не было ни одного дня, когда бы мы с детьми остались без еды или одежды, без крова ли… Никогда! Так чего мне еще желать-то? Чего не радоваться-то?
— Валентина Ивановна, дорогая ты наша, спасибо тебе за все. Хранит тебя Господь за все твои добрые дела и деток твоих. Кстати, как они?
— А тоже ничего. Слава Богу, хорошо. Работают, парни женились, дочка замужем, внуков мне надарили — только успевай разъезжать по ним.
— Так ты что, одна живешь?
— Так у меня комната малюсенькая в коммуналке — там особенно не развернешься…
— А что же замуж не вышла?
— Во-первых, это как-то у нас не принято. Как это? Господь меня обвенчал с мужчиной. Очень мы любили друг друга. Добрый он у меня был, работящий, заботливый… По Своей воле благой взял его к Себе. Как это, другого в дом пустить? Не знаю… Может, однолюбка я… Да и вся жизнь на детишек ушла — о себе и подумать некогда было.
— А что же ты на стройке не заработала себе хотя бы квартиру однокомнатную?
— Так у меня с детьми две большие комнаты в коммуналке были. Потом разменяли на три маленькие. Две комнаты сыновья заняли, дочь в другую семью вышла замуж, а одна мне досталась. Вот так и живу.
— Выходит, на себя ты ничего не получала?
— А зачем? Мне достаточно… Да и к соседям так привыкла, что мы все как родные.
— В этом уж я не сомневаюсь.
«И жил человек праведно. И детей вырастил честных. И всю жизнь положил на других. И был незаметен, и ничего не требовал. И последним был на земле. А Господь на Небесах сделал его первым».
Дети на платформе
Электричка тормозит, и следом за чередой выходящих я ступаю на асфальт платформы. Плотная толпа несет меня мимо нескольких вагонов и застывает: впереди что-то мешает движению. Справа тоненький ручеек просачивается вперед, а мы, которые слева, стоим и дышим в затылки впереди стоящих граждан. Но вот и мы, кажется, зашевелились, стекая вправо в колонну по одному. Не понимая еще, что там впереди задерживает бравурный марш колонны трудящихся, я вспоминаю причины предыдущих пробок — и озноб пробегает по моей сутулой спине.
Однажды, занимая левую половину платформы, трое солдат, сняв поясные ремни, пряжками отбивались от четверых пьяных мужиков. По правой же части платформы сошедшие с электрички граждане осторожно обтекали боевые действия, рискуя в любую секунду отведать свистящий удар солдатской пряжки, которую, как известно, перед увольнением в город утяжеляют свинцом, края же пряжки подтачивают напильниками для придания режущей остроты.
В другой раз зеваки обступили двух мужчин, которые за руки вытаскивали третьего, провалившегося в щель между корпусом вагона и краем платформы. Эти двое без труда бы вытащили пострадавшего, если бы тот не упирался. Он требовал оставить его там жить, потому что под плитой он нашел приличную компанию друзей. Те встретили его, как родного, понимают самые тонкие движения его души и зовут к ужину.
Третья ситуация для такого же «веселого» пострадавшего завершилась вовсе плачевно. Когда тот, прислонившись плечом к зеленому боку вагона, справлял вполне естественную нужду, ввиду отсутствия в вагоне условий и нехватки собственного терпения, поезд тронулся, и пострадавший винтом вошел в тесное пространство между краем платформы и межвагонным переходом. Народ возмутился невниманием к пассажирам со стороны экипажа поезда, потребовал состав остановить, чтобы пострадавшего вызволить. Только пока поезд смог затормозить, несчастного переехали несколько пар стальных колес. И снова народ обступил место происшествия, создавая затор…
Вот почему нынешняя пробка так тревожит неизвестностью. Наконец, и меня выносит к эпицентру событий, и я невольно замираю, не обращая внимания на толчки сзади. Озираясь во все стороны, жмутся друг к дружке дети. Единственная воспитательница преклонных лет помогает им выходить из вагона. Она раскраснелась, нервничает, торопится, потому что дети все больные, их много, а поезду пора отъезжать. Наконец, высадив последнего, она вытирает пот со лба, оправляет старенькую лоснящуюся юбку и выстраивает их парами, пытаясь пересчитать. Дети одеты почти одинаково уныло. Я смотрю на их испуганные глазенки, скрюченные ручки, кривые ножки и чувствую, что жутко и невыносимо задолжал и этим сироткам, брошенным своими родителями, и моим не родившимся еще детям.
Дальше все происходит помимо моего разумения: оно будто парализовано. Я бегу в конец платформы, на ходу обшариваю свои карманы, выгребаю все деньги. Подбегаю к ларькам и скупаю шоколадные батончики, пачки печенья, маленькие упаковки сока, леденцы, мороженое… Забрасываю все это в несколько пакетов. Бегу назад. А вот и они. Их глаза, все эти испуганные детские глаза сейчас смотрят на меня. Я рассовываю сладости в их уродливые ручонки. Они тянутся ко мне со всех сторон. Воспитательница кричит мне, чтобы я прекратил. Не обращаю на нее внимания. Сейчас мне нужно раздать в эти скрюченные ручонки все батончики, печенья… «Товарищ, прекратите!» — снова слышу за спиной. Я оборачиваюсь и почти кричу: «Ну, что такое? Что вы нам мешаете? Видите — это то, что едят все дети. Все! Кроме этих…». Женщина опускает глаза и уже тихо произносит: «Спасибо, конечно. Только лучше не надо. Дети быстро привыкают к хорошему, а завтра этого… может… не быть».
И уводит детей, улыбающихся, лепечущих что-то невнятное, уплетающих сласти. Те же самые сласти, что как бы между прочим, на ходу, небрежно чавкая, съедают их сверстники, родители у которых пока еще есть.
Едва сдерживая рыдания, нахожу телефонную будку, звоню жене. Длинные гудки. Где эта дуреха!.. Когда не надо, вечно дома торчит. А сейчас мне столько ей сказать надо, а она так некстати удрала куда-то… Спускаюсь в метро, спешу, спешу — сам не знаю куда и почему. Приезжаю в общежитие, бегом по лестнице поднимаюсь на свой этаж, рывком открываю дверь — вот она. Сидит моя Дуня на кровати, вяжет — тихо и мирно.
— Если ты мне срочно не родишь ребенка, мы возьмем из детдома, слышишь? И не возникай!
— Рожу… — не поднимая головы, шепотом сообщает мне жена.
— Срочно, слышишь!..
Она откладывает вязание и поочередно загибает все тоненькие пальчики на левой руке, потом несколько на правой и вслух едва слышно произносит название месяца.
— Что это значит? — спрашиваю, одновременно удивляясь собственной тупости и сумасшедшему прыганью сердца в груди.
Она поднимает на меня глаза с искорками улыбки в уголках ресничной полутени, и я который раз некстати удивляюсь, экая ладная бабенка у меня жена. А сейчас в ней ко всему прочему поселилась эта непостижимая тайна ожидания. На мою грудь ложатся сначала невесомые руки, потом девчоночья головка. Я вдыхаю легкий запах ее волос, в котором витиевато смешаны тончайшие ароматы топленого молока, ландыша и еще, разумеется, кедрового живичного скипидара. И в этот миг чувствую себя, хоть паршивеньким, но все-таки мужчиной.
Ностальгия по детству
Есть такое место в центре города, куда меня постоянно тянет. Ничего особенного для большинства прохожих этот бульвар не представляет. Но когда мне удается пройтись по сонным аллеям, посидеть на уродливой горбатой лавочке, когда есть время, — у меня создается впечатление встречи с моим детством.
Не могу утверждать, что детство мое было столь уж безоблачным, всякое случалось, только присутствовало в нем нечто, чего теперь не вернуть — чистота. Большинство взрослых, да и сверстников тоже, окружали меня добрым вниманием. Поэтому и сладостно заглянуть в ту глубину памяти, где так весело и чудесно до сих пор живет мальчик Дима и зовет оттуда, и утешает, и учит радостному восприятию волшебного своего мира.
Намеренно в своем маршруте делаю крюк, сажусь в громыхающий старенький трамвай, проезжаю четыре остановки и схожу около знакомых облупленных фасадов громоздких неуклюжих домов, перехожу улицу с оживленным движением и сквозь строй старых ветвистых лип попадаю в место для меня таинственное и остро ощущаемое. Здесь время словно остановилось и из последних сил сберегает, укрывает, укутывает уходящий в прошлое мир.
Я бреду по аллее моих первых воспоминаний, а вокруг меня будто продолжается прежняя жизнь. Бабушки с внучками, мамаши с детьми, папы с сыновьями, коляски и пеленки, мороженое и пирожки, младенческое воркование, нежнейшие родительские ласки, непуганые голуби, теплые прозрачные лужи, счастливые лица и сияющие глаза — все это одновременно живет и здесь, вокруг меня, и там, в глубине моей памяти, в самых светлых уголках моей души.
Сажусь на лавочку, глажу ладонями шероховатую поверхность брусков, сотни раз крашенных небрежными толстыми тетками-малярами, в мою спину негостеприимно упираются жесткие ребра искореженных перекладин. У пыльных моих ботинок деловито снуют булькающие голуби, совершенно уверенные в своей безнаказанности. Расступившиеся было коляски, снова берут меня в неспешное окружение, доверяя полюбоваться своими щекастыми улыбчивыми сокровищами. Взрослые, только недавно проявлявшие упорство и натиск, превращаются в юных клоунов, фокусников, хохотушек и растяп. Седой генерал, разгладив суровые морщины, стал лошадкой; чопорный чиновник, отложив чемоданчик с приказами, преобразился в карусель; солидная дама с царственной осанкой позволяет играть с собой, как с котенком.
А вот навстречу друг другу лениво ковыляют толстый очкарик с мятым портфелем и я сам. На мне мешковатые шорты, сетчатая «шведка» и сандалии. В исцарапанной руке ягодное бордовое мороженое за семь копеек, которое бережно несу в картонном протекающем стаканчике. Серьезная большеглазая девочка на трехколесном велосипеде плавно пролетает мимо, как бабочка, помахивая крылышками огромных капроновых бантов. В лучах солнца замерли бесшумные, золотистые мушки, превратив свои крылышки в прозрачные радужные облачка. И некуда нам здесь торопиться, и ничего нам сейчас не надо. Мы глубоко и полно проживаем этот миг детства, которое не кончится… никогда.
В разрыве густой листвы проплывает оранжевый фасад дома со сверкающими квадратами окон. С балконов свешиваются влюбленные мальчик с девочкой, выдувая из пластмассовых, мокрых колечек гирлянды разноцветных мыльных пузырей, летящих навстречу и целующихся вместо них, потому что им еще нельзя. Если пройти сквозь округлую тень арки дома напротив, можно зайти в большущий двор. Там у гаражей стоят с открытыми пастями поднятых капотов «Победы» и «Волги» с диванами внутри. Между туями и голубыми елями пестреют круглые клумбы с розами и львиным зевом, огражденные белыми кирпичами, уложенными углом вверх. В песочницах деловито копошатся малыши, строя из белого речного песка целые дворцы с башенками и подземными ходами. Их мамаши, все такие молодые и веселые, сидят рядком на скамейке и качают скрипучие коляски с грудничками, вяжут и делятся секретами приготовления сотэ, маринованных грибов и баклажанной икры.
Хозяйственная и строгая второклассница Валя выносит из дому сырники в сметане дворовому щенку Тузику, с ошпаренным горячей смолой хвостом, и ставит блюдечко перед будкой. Садится на корточки у деревянного штакетника палисада, где пальчиком в секретном месте снимает тонкий слой земли, чтобы проверить неприкасаемость драгоценного «клада» — разноцветных стекляшек и цветочных лепестков, уложенных в ямке на фольгу и накрытым стеклышком. Вот он — сверкает и переливается из-под земли, как колье с каменьями в витрине ювелирного магазина, что на проспекте между кафе «Молочное» и книжным. Щенок за ее спиной вяло слизывает сметану, сладко зевает, плюхается на бочок, вытянув лапы, и продолжает свой послеобеденный сон. Младший Валин братец, Юрик, по-шпионски крадется к собачьей будке, хватает блюдечко и убегает за гаражи. Через минуту, довольный, подходит к сестре и заявляет: «Аха, Валечка, а я уче твои чирнички покучал!»
В палисадниках над душистыми лопухами табака и разлапистыми пионами высятся кусты буйной сирени. Суровые дворники в кожаных передниках из страшноватых черных шлангов рассыпают каскады брызг на цветы, одуряющие своими вечерними ароматами. Мальчишки держатся подальше от этих грозных поливальщиков, всегда готовых надрать уши юным футболистам, которые своими мячами мнут прекрасные хрупкие цветы. Я стою на коленях и выбираю из бабушкиного подола изюм покрупнее. Васильевна гладит меня по стриженому затылку корявой ладонью и говорит что-то напевное и доброе. Старушки, сидящие на лавочках слушают ее, позванивая связками ключей, и ждут, когда мимо пройдет однорукий дядя Вася с бидоном разливного пива или супруги Красовские из 92-й, всегда гуляющие только парой, взявшись «под ручку», или Рита из 97-й с крашеными начесанными волосами, вздернув остренький носик.
Из открытого окна кухни на первом этаже головокружительно пахнет тушеной солянкой из свежей капусты с томатом, слышится глуховатое ворчание поварихи и песенка, льющаяся из репродуктора: «Опять от меня сбежала последняя электричка, и я по шпалам, опять по шпалам иду-у-у-у домой по привычке…». От этих вроде бы веселых слов мне становится грустно, потому что очень жалко одинокого человека, бредущего по черным вонючим шпалам между ржавыми рельсами, сверкающими лишь тонкой полосой сверху. Мне живо представляется обступивший железную дорогу черный лес и воющие оттуда волки, и когтистые филины с круглыми глазами — а человек идет один среди ночи и, чтобы ему не умереть от страха, поет бодрым голосом эту песенку.
Сейчас, когда с добычей вернутся с реки рыболовы, тут же продадут заранее ожидающим их хозяйкам половину судаков для ухи и сомов для жарки, наскоро поужинают охотничьими колбасками с жареной картошкой и выйдут во двор… Совсем скоро, когда вернутся со смены загорелые сталевары «с ферромагниевого», завернув в столовую выпить по кружке пива, и переоденутся дома в белые вечерние рубашки для прогулки… Когда доминошники перестанут греметь по гетинаксовой пластине стола черными брусочками с отвалившейся из ямочек краской… Когда бабушка Галя на скамейке у качелей накормит молочной рисовой кашей капризульку Иришку, каждый раз звонко орущую на весь двор от ненавистных слов «кушать» и «спать»… Когда даже футболисты прекратят крикливую стадную беготню за кожаным мячом с выпирающим швом на боку… Когда молчаливый лысый механик установит свой стрекочущий аппарат на тумбе… Когда рассядутся перед фанерным белым экраном по длинным зеленым скамейкам уставшие за день соседи, обняв притихших на коленях детей… Тогда начнется… нет, сперва, конечно, киножурнал. Ах, если бы сегодня показали «Фитиль» или «Хочу все знать»! А потом мы все смотрим старый черно-белый фильм, который все знают наизусть. Давно почти у всех дома телевизоры, но летом три раза в неделю мы собираемся в нашем дворовом кинотеатре и под звон комаров и бесшумный пилотаж стрижей между огромными тополями смотрим старые фильмы.
А назавтра нас с Валеркой приглашают рыбаки на реку. Зыбким утром по пустым улицам идем к реке, спускаемся по глинистому крутому оврагу к воде, пахнущей тиной и бензином от множества моторных лодок, причаленных к берегу звенящими ржавыми цепями. Садимся в большую лодку с просмоленными бортами и под монотонный стрекот фыркающего голубым дымком моторчика плывем к дальнему скалистому острову с таинственным названием «Трон Екатерины». Мы с Валеркой опускаем ладошки в протекающую за бортом зеленоватую воду и с замиранием сердца слушаем рыбацкие истории о большущих сомах, которым под силу перевернуть лодку, о стерлядках, заплывающих в теплые воды затона, о таинственных криках и плаче, раздающихся в густых зарослях прибрежной осоки… Дядя Витя в жаркий полдень, забрасывая донку, вонзает в татуированное на флоте плечо большущий вороненый крючок и терпеливо переносит операцию по его извлечению, производимую трофейным «золингеновским» кинжалом Степаныча. А мы с Валеркой дергаем с лодки ершей для ухи и обвешиваемся ими через плечо, как пулеметчики лентами.
Вечером меня одевают в праздничный синий костюмчик с галстуком в горошек и ведут «за ручку» в парк. Мы катаемся там на цепных каруселях, взлетаем выше птиц на огромном колесе обозрения. Выстаиваем очередь к румяной шумной мороженщице, и я наблюдаю, как она ловко длинной ложкой накладывает разноцветные шарики в вафельные стаканчики. На ходу поедаем быстро тающее мороженое, гуляя по многолюдным дорожкам среди отдыхающих рабочих людей, а я слушаю родительские взрослые разговоры о работе и планах на отпуск. С танцплощадки долетает звонкий голосок Робертино Лоретти, исполняющего «Джамайку», уносящую меня в запретные манящие океанские дали. Его сменяет баритон Эдуарда Хиля, сетующего на то, что его невеста пока еще не любит макароны, хотя он их обязательно приготовит с тертым сыром, черным перцем и молодым вином, от которых им, конечно, станет худо, но это уж потом… Молодой и веселый папа шутливо давит мой облупленный нос пальцем, пахнущим табаком, а кротко улыбающаяся мама, самая красивая и добрая в мире, вытирает мой испачканный мороженым подбородок платочком, благоухающим сладкими духами.
После парка мы обязательно прогуливаемся по ярко освещенному проспекту с мигающими вывесками магазинов и кафе. Мимо проплывают распустившиеся каштаны и проходит множество пар и целых семейных цепочек, празднично одетых улыбающихся людей, пахнущих «шипром» или «гвоздикой». Родители то и дело встречают знакомых, останавливаются и говорят с ними, а те наклоняются ко мне, удивляясь, что я уже такой большой.
Все это живет во мне и является неотъемлемой частью моей души, частью жизненного времени, отпущенного мне на земле. Пожалуй, самое главное, что тогда было, — это незыблемая уверенность в том, что я защищен. Всего-то и требовалось от меня, быть послушным и старательным. Мне прощались ошибки в диктанте и задачках на контрольных, но только с одним условием: я должен сделать все возможное, чтобы понять и выучить. Каждая попытка слукавить, обмануть — сурово пресекалась и наказывалась. Зато скромность, послушание и трудолюбие непременно щедро поощрялись шоколадными конфетами или пирожным «эклер» от «лисички, что живет за углом».
Детство мое ушло, удалилось, кое-что подзабылось, но оно со мной и во мне. Я до сих пор расту оттуда, из тех корневых солнечных дней. Иногда сравниваю себя нынешнего с тем, маленьким и наивным, как звук расстроенного музыкального инструмента сверяют с эталонным звучанием камертона.
Однажды, будучи уже взрослым, в день Михаила Архангела читал я об ангелах-хранителях и дошел до описания их внешнего вида. И вспомнил вдруг… Младенцем лежу в кроватке с блестящими прутьями ограждения. На маме шелковое платье в мелкий горошек, от которого в глазах сильно рябит. Перед сном, мама целует меня, выключает лампочку под клетчатым абажуром с кистями и выходит из комнаты, беззвучно прикрыв огромную толстую дверь.
Оставшись один в темноте, я совершенно четко и зримо вижу страшное существо, похожее на черного барана, стоящего на задних кривых ногах. Оно приближается на своих копытах к моей кроватке и нависает надо мной, обдав меня гнилью, исходящей от его густой шерсти. Я весь сжимаюсь от ужаса и немею, не в силах выдавить из себя ни единого звука, чтобы позвать взрослых на помощь. И тогда рядом появляется светлый. ароматно пахнущий юноша и молча, но властно, как хозяин собаку, прогоняет чудовище прочь. Его появление меня вовсе не удивляет, сразу становится спокойно, и я забываю обо всем плохом. Засыпая, закрываю глаза, но и там, внутри меня, продолжает все светиться и благоухать.
Так вот откуда происходит чувство моей детской защищенности. Таким образом разгадывается еще одна загадка, заданная мне оттуда во взрослую жизнь мальчиком Димой. Только сейчас я вспоминаю, что в том времени нет у меня врагов. Если и приходится мне ссориться с тем же Валеркой, или Юриком, Витюшкой или с кем другим, то уже на следующее утро мы буквально бегом несемся друг к другу, чтобы скорей помириться, потому что мучения совести становятся невыносимыми! И так сладко прощать и быть прощенным, освобождаясь из темного плена ссоры, чтобы еще веселее бежать вместе в речной порт и там, прижавшись к толстым прутьям железного забора наблюдать, как черный, шипящий паром маневровый паровоз таскает туда-сюда запыленные, лязгающие на стыках рельс вагоны.
Когда же я потерял это сладкое чувство незыблемой ангельской защиты? Пожалуй, страх и смятение впервые поселяются в моей душе, когда я замечаю, что девочки, это нечто большее, чем друзья. Тогда же закуриваю и первую сигарету, уворованную из отцовской пачки, открыто лежащей на кухонном подоконнике. Помню до сих пор, как и грязные мысли о девочках и первая сигарета вызвали во мне поначалу тошнотворное отвращение, через которое успешно помогло переступить рождавшееся тогда самолюбие. И если бы я не потерял свою чистоту, если бы остался в том чудном состоянии светлой кротости, то, наверное, и до сих пор ангелы оставались бы моими друзьями и защитниками.
И если все это доброе светлое детство продолжает жить во мне… И если оттуда, из чистой глубины души будит звонким колокольчиком совести… Значит есть оно, это детство и сейчас — и во мне самом, и на аллеях этого старого бульвара, и в нашем западающем мире.
Открытие
Весь день с самого рассвета живу в предвкушении чего-то важного. Нет усталости, потому что весь я как бы вне тела и его дел. Не ем, ни пью, кажется даже, что и не дышу. Убывает тягота прошлого, перестает давить страх перед будущими немощами и неизвестным исходом.
Всю жизнь я разыскивал, сортировал и впитывал множество различных знаний. И вот, наконец, пришло время узнать самое важное. Вот сейчас, когда растают остатки страха, я сам себе скажу это. Вот сейчас. Звучит это просто, как все истинное. Вот сейчас. Итак! Вот оно: я ничего не знаю.
Не знаю, кто я. Кто те люди, которые меня окружают, которые со мной и вне меня. Не знаю этой земли, на которой живу. Не знаю, живу ли я вообще. Не знаю, есть ли во мне вера, или это самообман. И что это за истечения из глаз, отчего это — от блудной сладости, саможаления или пожелания большего, чем имею.
Не знаю, угоден ли я Тому, Кто вызвал меня из небытия, и что я для Него. И правильно ли я люблю Его, да и люблю ли… Ведь мое иудино предательство всегда наготове, всегда у сердца моего. Не знаю, смею ли я взирать со всем этим на пресветлый лик Его, и не погубит ли это меня.
И вот теперь, когда меня не стало, и я перестал знать самого себя, меня подхватывают неведомые теплые струи, текущие туда, куда надо им, вернее Тому, Кто их направляет и призывает к движению, как вызвал меня из вечной пустоты и позвал дальше, в таинственную потребность совершенства…
И стал я лететь, нет — плыть, нет — течь. И впервые я познаю, проживаю смысл слов «обтечь вселенную». Усталая, тяжелая, ветхая земля ворочается подо мной. Она тоже устала делать это каждый день, изнывая от боли. В нее также вцепились, отравляют и сосут кровь сонмище паразитов, а она не может их стряхнуть и терпит, терпит, больше молча, только изредка ворча вулканами и порыкивая трясениями. Доколе вас терпеть, доколе пребывать с вами!..
И если бы эта боль продолжилась дольше, я бы весь растворился в ней, как в огненной лаве. Но вот ко мне возвращается спокойствие, питательное, укрепляющее, изводящее боль. И мирным зрением рассматриваю тех, ради кого все это длится и терпится. Люди. Они занимаются каждый своим делом, но все одним: они делают свой выбор. Они его выстрадывают, прожигают, сонно прохлопывают потухшими глазами, пропивают, проблуживают и проворовывают. На них с Небес сыпятся бесценные дары. Человечество воровато их присваивает, пускает на продажу, на свою похоть, втаптывая в грязь.
Мало-помалу ко мне возвращается самоощущение. В этот момент я остро чувствую свою причастность к человеческому деланию, которое именуется жизнью. Мы становимся нераздельными в этой временной общности. Это я вместе со всеми играю в жизнь и учусь, будучи ребенком. Потом юношей впадаю в искушения плотью и неподчинения старшим. Это я вместе со всеми за потерю чистоты и цельности разваливаюсь на куски и повторяю рождающийся в сердце и нарастающий плач Адама. И этот плач приводит меня то к отчаянию с навеянным мстительным врагом желанием собственной смерти, то — к поиску спасительной истины.
И это я вру себе, отрицая истину, не желая оставлять сладость греховных падений, пока боль от них не достигает невыносимых пределов, но я цепляюсь до последнего за возможность грешить, хоть сладость греха уже убывает и ее по-хозяйски вытесняет боль, боль, боль.
Это я вместе со всеми — вслух или молча, в сознании или бессознательно — кричу Тому, Которого гнал до сего, как Савл: «Почему Ты скрывался от меня, Господи? Ведь я погибал тут, истекая кровью и слезами!». И слышу ответ — оттуда, из неоткрытых, непознанных глубин собственной души: «Если бы ты Меня не нашел, то и не боролся бы со Мной! И не бежал бы от Меня».
И вот я стою перед лицом Твоим, Господи, и делаю то, что вложил Ты в мою мятущуюся душу, делаю со страхом и трепетом.
Стою над пропастью, в которой ревет и бушует испепеляющий гееннский огонь наших, но и моих, страстей.
Ибо из всех страхов остался жить во мне сейчас только один — страх оскорбить невольным всплеском смертельной гордыни Твою дарованную мне ни за что безмерную и непостижимую любовь.
Такие мы, Господи! Такие мы, Отче, блудные сыны и дочери Твои. Нас зовет свет, но мы, беспечно зажмурившись, как перед прыжком в бездну, за свет истины принимаем то сверкание золота, то свет прожекторов тщетной славы, то свечение разлагающейся мертвой плоти. Нас зовет любовь вечная, а мы принимаем за нее блудную похоть, привязанность к раскрашенным гробам. Мы тянемся к сладости вечного блаженства, но с легкостью соглашаемся на подмену ее сладким дурманом ядовитого кайфа — будь то услаждение вином, наркотиками, едой, развлечениями, рифмованной и прозаической «грехофилией».
Такие мы, Господи! Изуродованные, помраченные, лживые, вороватые, немощные и хладные. Я говорю так, потому что сам такой более, чем любой из человеков Твоих. И если Ты, Господи, вложил в душу мою эту потребность молиться пред Твоим всеведением за человеков, которых Ты дал мне любить, то, конечно, для того, чтобы помиловать их. Иначе почему так сладко замирает сердце и наполняется светлой радостью от слов бывшего яростного гонителя Твоего, который с третьего неба Царствия Небесного принес на землю таинственные слова: «Ибо всех заключил Бог в непослушание, чтобы всех помиловать».
Рев гееннского огненного шторма закрывается плотно обступающим меня со всех сторон мраком одиночества. Здесь нет уже ничего, кроме отчаянного крика: «для чего Ты меня оставил?!». Но и этот последний всплеск моего замершего сердца поглощается мраком и давящей тишиной обступившего, взявшего меня в плен небытия.
Остаюсь наедине с моим главным открытием, главным сокровищем: ничего я не приобрел, кроме познания своей вопиющей греховной немощи. Вот самая большая жертва Тебе, Господи! Без Тебя я могу только грешить. Без Тебя я — никто.
По моим грехам — мое место в тартаре. По моим страстям — гореть мне в геенне. И верю, что и в этом случае тоже проявится Твоя милость ко мне, ибо не может ничего нечистого приблизиться к Тебе, не погибнув навечно.
«Не Ты по гневу Своему, но я по нечистоте своей потянусь в место грешников к подобию своему греховному, и останусь там один в смердящей тесноте вечного мрака…
Ощущение оставленности давит сильней и сильней… Уж и кричать не могу… только держу в глубине сердца, как в протянутых онемевших руках, свою немую бесценную жертву… Но, слава Богу! Свершилось! …И на этот раз приходит спасительное утешение: мрак разрывается, и из небесного просвета выплескивается на мое отчаяние радостный возглас Воскресения. И только тогда нахожу силы выдохнуть из себя…
…Если Ты, Господи, не сотворишь величайшее чудо любви Своей — спасение души не по делам моим, но только по милости Своей».
Маклер
С месяц тому назад закрепляют за мной еще один объект — жилой дом. Появляться там нужно раз в неделю, потому что управляет делами «сильный бригадир» по прозвищу Маклер. Ему во всем помогает, как водится на нашем участке, заказчик с прозвищем не вполне солидным — Шустрик, хотя должность у него нешуточная: генеральный директор объединения «Супер-Изол».
В конструктивном отношении дом простенький: обычная панельная коробка «без ума и фантазии». В настоящее время там завершаются отделка и подводка коммуникаций. И если отделка производится силами Домостроительного комбината, то прокладка траншей под газопровод и теплотрассу — дело наше, генподрядное.
Когда я в первый раз заявился на объект «дом 54 “Супер-Изол”», ко мне вразвалочку подошел пьяный субъект в галстуке, назвался Жорой и объявил, что в нескольких метрах от красной линии на глубине полутора метров пролегают два кабеля очень государственного значения: один — правительственная связь с Дальним Востоком, другой — с космодромом Байконур. За повреждение второго мне грозит 7 лет социальной от меня защиты государства, за первый, правда, поменьше, но тоже, что характерно, — 5 лет. Так что все земляные работы необходимо производить только в его присутствии. После этой беседы он пропал недели на три. Говорят, что его видели в составе похоронного оркестра, в котором этот виртуоз с неподдельной печалью на глазу извлекал из трубы, начищенной пиджачной шерстью, душераздирающие фортиссимо из репертуара польского композитора Шопена.
Шустрик приехал сюда из «солнечного Магадана», в полной мере отдав государству трудолюбие десяти лет своей бурной молодости. Дом строится для работников завода, которых он оптом поставляет оттуда же. Как известно, московский рабочий капризен и избалован, поэтому Шустрик потихоньку замещает их земляками — угрюмыми трудягами без лишних запросов. От моего участкового мне стало известно, что с каждой квартиры от магаданцев Шустрик должен получить по пачке долларов, поэтому, перепоручив свою основную работу закадычному заму, он «шустрит» на строительстве дома, решая любой вопрос быстро и не обращая внимания на сметные затраты.
Именно поэтому бригадиром на доме № 54 работает Маклер — гений воровства, профессор халтуры и доктор криминальной психологии. Его длинные губы всегда растянуты в блаженной улыбке, маленькие раскосые глазки смотрят куда угодно, только не на собеседника. Говорит всегда ласково и монотонно. Словом, «муммий-тролль» в телогрейке. В его бригаде шестеро таких же голубых воришек, бесконечно преданных боссу. Каждый из них — профессионал высокого разряда почти всех строительных специальностей. Кроме того, эта бригада совместно со строящимся объектом халтурит на всех ближайших жилых домах, гаражах, загородных дачах. У них имеются собственные обширные склады стройматериалов, которые они используют на левых работах.
При мне под вечер заказчик завез на кровлю два «Супермаза» рубероида, краном забросил на крышу, запер все подходы к нему на собственные замки, а ключи, погрозив Маклеру кулачищем, сдал угрюмому Карлу, немцу, «медвежатнику» с 15-летним сроком отсидки. Маклер у всех на глазах переоделся, сел в белую «семерку» и укатил домой «поливать георгины».
…Утром ни одного рулона дефицитного рубероида на крыше не обнаружили. Маклер бегал со всеми вместе, потрясал кулаками, ругая ворюг, и требовал у Шустрика «срочно обеспечить объект кровельными материалами, чтобы послезавтра — кровь из носу — завершить кровлю под отделку». Шустрик с Карлом проверяли замки, чуть не на коленях с лупой искали хоть малейший след злоумышленников на крыше, по всему дому, на земле — ничего не нашли! Два «Супермаза» рубероида растворились бесследно! Тогда Шустрик, глупо улыбаясь от восхищения и гнева, завез новую партию рубероида и передал ее по акту самому Маклеру на ответственное хранение.
Василию Ивановичу пришлось целый день допрашивать гения воровства, жестоко поить его и даже слегка прилагать увесистые участковые кулаки к его округлым скулам, пока тот не открыл своего секрета. Оказывается, ночью его бригадный «медвежатник» проник на крышу и закидал все рулоны в шахты мусоропровода, где они и пролежали до удобного момента их изъятия и сокрытия. Вынос материалов производился через подвал и подземный коллектор высотой полтора метра. Эти катакомбы Маклер заранее согласовал и проложил, а оплатил заказчик «для удобства обслуживания коммуникаций в период эксплуатации».
Василий Иванович давно прекратил попытки вразумить и перевоспитать воров, поэтому обложил их промысел данью в процентах от стоимости украденного. А когда получил от конторы квартиру, бесплатно нанял Маклера для ремонта и мебельного насыщения жилплощади, что тот и выполнил в наилучшем виде. И даже устроил под квартирой, что находилась на первом этаже, обширное подполье с винным погребом и убежищем, укомплектовав эти хранилища напитками и съестным на «первое время», то есть лет на несколько. К тому же бригада на планово-легальных объектах работала всегда безупречно и у своего родного участка ничего не брала — только у заказчиков и субчиков.
С тех пор, как мне стали известны маклерские тайны, я внес имена воришек в свой молитвенный список. Относятся они ко мне с опаской, исполняя любое указание беспрекословно и с великим рвением. Вот и сегодня мы с Васей въезжаем на объект по новым дорожным плитам, аккуратно выложенным по круговой объездной дороге. Первые два слоя утонули в жидкой глине.
В траншеях уже копошатся газовщики, ступая по ровнехонькой песчаной постели. Через траншеи для девушек-отделочниц переброшены мостики трапов с перилами — все красиво и правильно! Сам Маклер с бригадой монтирует поворот теплотрассы. Бетонные блоки монтирует под линией электропередач не краном, а экскаватором «Киевлянин» на гусеничном ходу. Рядом по самую кабину в жидкой глине стоит серо-черный бульдозер, напоминая подбитый вражеской артиллерией танк. А вот это почти черное от копоти тело водителя, рухнувшее на рычаги — смутно напоминает танкиста, пытавшегося, но так и не сумевшего выбраться из подбитой машины. Только этот громко похрапывает, а между педалями отстрелянными гильзами валяются пустые бутылки.
Рабочие буквально плавают по колено в жирной киселеобразной грязи. Спрашиваю, отключено ли напряжение? Нет, говорят, долго оформлять, а монтаж нужно завершить сегодня. В это время блок срывается из петлевого стропа и шлепается на дно траншеи, обдав монтажников волной грязи. Ковш экскаватора взметается вверх, касается нижнего провода. Сверкает молния, треск, дым — никто на это не обращает ни малейшего внимания, кроме меня. Срываюсь с места и бегу в дом, где на втором этаже в штабе стройки на телефоне сидит Шустрик в окружении прорабов субподрядчиков, которые засыпают его вопросами.
С криком «Люди гибнут!» расталкиваю всех и требую у Шустрика срочно отключить ЛЭП. Он звонит на подстанцию и приказывает отключить. На том конце провода торгуются, он со вздохом обещает «найти и привезти» и кладет трубку. На Шустрика снова набрасываются субчики, правда, теперь половина. Остальные переключились на меня, потрясая перед моим носом актами и процентовками. С полчаса вместе с ними бегаю по дому и проверяю качество их работ, подписываю их акты, затем навещаю Маклера. Его бригада успешно завершает героический монтаж последнего ряда блоков. Замечаю, что нижний провод порван, лежит в грязи и выражаю свое недоумение.
— Не обращай внимания, Сергеич, я порвал, я же и привяжу.
— Ты знаешь, что напряжение отключено?
— Спасибо, конечно, только нам это без разницы. Не волнуйся, мы тут с Шустриком все в один момент решаем.
— Ну, удачи тебе, Геннадий Алексеевич! До свидания.
Маклер, услышав свое имя, выпрямляется и удивленно смотрит на меня, точнее на мою спину, так как я направляюсь к своему «Камазу». Иду и по привычке бубню под нос Иисусову молитву с именами объектных хулиганов. Вдруг из-за левого плеча выпрыгивает и замирает передо мной нынепоминаемый раб Божий Геннадий:
— Не понял!.. За что ты меня, Сергеич? Мне тут платят, как Буратине, я пашу, как папа Карла, — а он меня обижать. За что, начальник?
— Это ты, Геннадий Алексеевич, на собственное имя святое обиделся, что ли?
— Какое святое? Меня так только менты называют и в отделе кадров, когда персоналки разбирают. А ты меня за что? Что я тебе сделал?
— Я назвал имя твоего святого небесного заступника, в честь которого ты назван. Отчеством твоим я выразил уважение к твоему покойному родителю, подарившего тебе жизнь в этом Божием мире. Выходит, что называя тебя по имени-отчеству, я тем самым подчеркиваю твое великое человеческое достоинство, которым наградил тебя твой Творец Господь Бог.
— Что же это… А как же происхождение от обезьян?
— Это пусть обезьяны от обезьян происходят. А ты человек, поэтому произошел от Бога. Ты, Геннадий Алексеевич, — Божий человек. И в данный момент не так важно, как ты к Богу относишься. Главное то, что Творец бесконечно по-отечески любит тебя. И ждет к Себе.
— Я подумаю. Мне это нравится. Правда! — его глаза впервые глядят в мои глаза. С каждой секундой в его облике растет неподдельный интерес.
— Подумай. Если нужна будет помощь, обращайся. Всегда рад помочь.
— Бывай, — кивает бригадир и с видимым удовольствием повторяет только что сделанное открытие: — У меня святое имя. Я Божий человек. Мне это нравится!
Рабочий день завершается на дачном участке Юрия Петровича. Мне очень нравится сюда заезжать. Мы с Васей переодеваемся и включаемся в работу. О, какое это удовольствие «покидать кирпич» на подмости — чтобы под самые руки каменщика. Воздух здесь напоен густым хвойным ароматом. Вокруг нас бегают заботливые хозяева: Света, водитель-телохранитель Сергей, сам Юрий Петрович. Они обносят нас кваском, бутербродами, развлекают новостями, анекдотами, шутками.
С меня слетает суета прошедшего дня, настроение поднимается. Я становлюсь на подмости и помогаю класть внутренний ряд. Максим, как главный каменщик делает мне короткие указания: «от шнурки — на полспички», «бути полушками», «раствор не вешай, подрезай сразу». Для меня эти слова — как пряники медовые. Мой ряд не такой ответственный, как наружный, поэтому я кладу быстро и Максима «подпираю». Ему приходится спешить, он старательно сопит. Очень скоро доходим до последнего ряда выставленных углов. Все! Теперь нужно поднимать углы — это работа только для Максима.
Я спрыгиваю на землю, иду к бадье мешать раствор. Мы с Васей кидаем песок, засыпаем из мешков цемент, заливаем воду. В это время хозяин выпускает из заточения плачущую по-детски навзрыд «девочку» Кэри. Ребеночек сенбернара весом под центнер подбегает к каждому, громко лает, докладывая, что она свободна и пришло время ей поиграть. Обходит свои углы, чтобы подновить хозяйские метки. У левого угла гаража, сантиметрах в двадцати, стоит «Волга». Кэри очень нужно поставить там метку и она с ворчанием протискивает широкую мохнатую спину между углом гаража и машиной — и победно ставит подпись. После чего на двери «Волги» остается вмятина. Хозяин подбегает к месту происшествия и отчитывает собаку. Кэри, сев на задние лапы, жалобно скулит и воет, разделяя с хозяином скорбь. Публика, наблюдающая сцену, хохочет до колик.
После ударного рабочего дня сидим на веранде и ужинаем. Вдруг наш слух взрезает соседское сквернословие, от которого здесь мы отдыхаем. Я вслух вспоминаю, что при изучении архивных материалов Ленского бунта 1912 года больше всего меня поразило одно из требований возмущенных рабочих: чтобы при них начальство не ругалось матом.
Юрий Петрович говорит, известно, что наш народ до революции был в основном трезвым, трудолюбивым и сквернословия не выносил. А вся зараза исходила сверху, куда в первую очередь проникало западное внешнее и интеллигентское внутреннее разложение. Затем я развиваю мысль о необходимости восстановления монархии в России и все разом подхватывают эту тему, перебивая друг друга. И когда Юрий Петрович предлагает тост «за Царя, за Родину, за Веру!» мы встаем и грохочем: «Ура! Урраа! Урррааа!!!»
На службе у Государя
Дедушка мой в нашем роду имел абсолютный авторитет. С пионерского «безоблачного» детства знал я, что у деда было двенадцать детей, выжило девять, а также, что его раскулачили.
Бабушка ездила в Москву к всесоюзному старосте товарищу Калинину, неделю стояла в очереди на прием, и в результате получила документ о реабилитации семьи. Дед не вынес предательства односельчан, издевательства новоявленных хозяев, и уехал в город. Насчет издевательства — это уже мой вывод после простейшего сопоставления фамилии деда до и после раскулачивания. Более издевательской фамилии, чем он получил от пьяного писаря сельсовета вместе с новым паспортом, и придумать трудно.
В городе работал он дворником — в те времена должность солидная, «властьимущая». Дети разъехались кто куда, при дедушке остался младший сын — мой отец. От своих детей дедушка требовал, чтобы они учились. Ослушаться деда никто не смел, поэтому дети учились старательно и сами стали педагогами или начальниками.
Во время своего обучения отец часто приезжал из другого города к деду навестить его и посоветоваться. А однажды отцу стало невыносимо тоскливо, несмотря на то, что вроде бы причин для этого никаких не имелось. А к вечеру принесли телеграмму, что дедушка умер. В тот день он потерял стразу и отца, и друга, и советчика.
Во время ежегодных родственных встреч братья и сестры иногда обсуждали политику, действия властей, но весьма лояльно, хоть иногда и с легким ворчанием. Впрочем, обсуждения не выходили за рамки обычной критики, вроде «есть еще, конечно, временные недостатки, но мы их решительно ликвидируем». Пробовал и я узнать у отца, почему в нашей богатейшей стране чего ни коснись, все в дефиците, почему кругом косность и тупая ленивая тоска. Почему бы власти не дать простор частной инициативе. Но все эти разговоры пресекались отцом строгой фразой: «Я не хочу, чтобы мы стали рабами у хозяев!». На мой вопрос, «а разве сейчас мы не рабы?», следовало грозовое молчание.
Когда умер старший брат, с отцом произошло то же самое, что и в день смерти деда: он это предчувствовал сердцем. Чуть позже мне довелось узнать, что умирающему бывшему разрушителю церквей было видение райских врат, куда его не пустили грозные ангелы. Проснувшись, этот ярый гонитель христиан и разрушитель церквей умолял жену «найти и привести попа», которому перед смертью исповедовался.
Узнал я также и то, что в младенчестве крещен, для чего за полторы тысячи километров к нам приезжала моя тетя Ксения — женщина необычайной доброты и самоотверженности. Сама глубоко больная, с астматической одышкой, с синими губами, она, забывая о себе, всегда спешила на помощь каждому нуждающемуся. И особенно если дело касалось церковных таинств, таких как крещение и отпевание. Также точно она крестила при рождении всех моих двоюродных братьев и сестер, разбросанных по разным городам России.
А одним душным южным вечером будучи в гостях у своей тетушки — младшей сестры отца — я узнал нечто поразительное. В который уже раз я держал фотокарточку деда и любовался его крепкой статью, ясным взором грустных глаз, гордой статью. На мой вопрос, почему он в военной форме, тетушка ответила, что он тогда был на службе у Государя. И рассказала историю его призыва.
В 1903 году Государь в Сарове на прославлении преподобного Серафима в толпе крестьян увидел деда: высокого, крепкого, белокурого, синеглазого. Залюбовался этим великаном Государь, рукой подозвал к себе и приказал ему служить в личной своей гвардейской охране. Бабушка Таня очень испугалась: Государь имел власть не только светскую, но и от Бога, поэтому в душах верующих русских людей всегда вызывал священный трепет и высочайшее уважение.
Всю следующую ночь мне не спалось: не давало покоя чувство великого обмана, словно огнеметом выжегшего в русском сознании народную любовь к Царю-батюшке. Вдруг отрывистые сведения, мои недоумения, всенародное недоверие к официальной версии истории России — все само собой сложилось в ясную картину. Вот же она — логика истории: пока народ с Богом и Царем, Россия крепнет и расширяет границы за счет добровольного вхождения окраинных народов под покров власти Божиего Помазанника. Как только русский народ предает Бога и Царя, уклоняется в безбожное западничество — покров Божий отнимается и… «сатана там правит бал».
Стоило мне лишь слегка приподнять ядовитые наслоения исторической лжи, кстати, довольно грубо состряпанной, как в моем сознании буквально засиял истинный облик и Государя Николая Второго, и его святого семейства. Каково было мне читать семейную переписку, где слова чистой нежной любви перемежаются с осознанием всеобщего предательства, предчувствием надвигающейся катастрофы… Каково было читать об их ночном расстреле в Екатеринбурге, добивании их штыками…
Перед смертью отец мой долго болел. С каждым днем от боли и страданий он становился все прозрачней и смиренней. В нашу последнюю встречу я заговорил с ним о дедушке и высказал мысль, что если бы ни революция, то вряд ли отец прожил бы такую тяжелую и нищую жизнь — уж наверняка бы при его энергии, честности и стремлении к знаниям все сложилось бы гораздо лучше. И отец впервые согласился и заплакал, как ребенок. Как в стране, так и в нашем роду, коммунизм рухнул.
На поминках я услышал, что к отцу иногда приезжали бывшие ученики из разных городов, где ему доводилось работать. А посылали его, как солдата, туда, где он был нужен стране. И рассказывали они, как отец на развалинах разворованного и пропитого строительного управления или техникума ценой собственного здоровья, самозабвенно и героически воссоздавал крепкий жизнеспособный коллектив. Как вышвырнутые им начальственные ворюги и пропойцы заваливали разные инстанции, вплоть до ЦК, злобными письмами. Как отцу приходилось принимать — одна за одной — комиссии и доказывать свою правоту. За все его бессонные ночи, семь операций на желудок, инвалидность с молодых лет — наградили его орденом «Знак Почета» в Георгиевском Зале Кремля. И до сих пор в местах его трудовых побед к имени отца добавляют слово «Великий».
Отец, вспоминая деда, всегда говорил, что вот дедушка — это был великан, а мы все — так, недоростки. Но если моего отца называют «Великим», то каким же в таком случае был мой дед! И уже не удивлялся я тому, что Государь, увидев деда, призвал его к себе на службу.
Итак, богоборческая власть рухнула. Правда, прежде чем уйти в небытие, безверие успело пожать немалый урожай человеческих судеб. Дети разрушителей Церкви гибли от алкоголя, самоубийств, тяжелых предсмертных болезней, в беспробудной тоске и одиночестве. По всем приметам и мне грозило такое же будущее, если бы не мое обращение к Церкви. Всю жизнь буду помнить два самых счастливых мгновения: первую исповедь и чуть позже день собственного покаяния в грехе цареубийства и служения безбожной власти — как сверкало солнце на небесах! Как сияла очищенная душа!..
Потом удостоился я посещения чудотворной иконы Царственных мучеников за два года до их официальной канонизации. Икона эта несла на себе отсвет той непостижимой вечной жизни, где Господь уже прославил Государево семейство и наградил их венцами мучеников. Моя христианская душа слезоточила и кровоточила вместе с этой иконой, в волнах исходящей от нее благоуханной благодати. Только к этой светлой скорби примешивалась растущая из самых сокровенных глубин души радость утешения. С этого дня я уже не сомневался в исполнении пророчества батюшки Серафима Саровского: «Царя, который меня прославит, — того я прославлю».
Чудесная икона эта, ранее серо-синяя, почти монохромная, засверкала радужными небесными красками, а в местах пулевых и штыковых ранений кровоточила — все это произошло на Крестном ходе, посвященном 80-летию убиения Царственных мучеников. В тот день заблагоухала еще и другая икона Государя, которая впоследствии на самолете МЧС облетела всю Россию вдоль границы. Этот, второй образ, впоследствии обильно мироточил струями янтарной ароматной жидкости толщиной с палец. Чудо это даже застарелых безбожников обращало к вере в Бога и внушало точное знание: Государь-мученик свят, будет скоро официально канонизирован — а значит будет и монархия, снова воссядет на престоле Божий Помазанник из рода Романовых — единственно законный правитель России.
С того посещения чудотворной иконы у меня осталась ее фотография, которую я украсил золотистой рамочкой и поместил в Красном углу. На Крестный ход следующего, 81-го года по убиению Царственных мучеников, меня пригласили несколько человек.
Помню сильное смятение, охватившее меня. Дело в том, что в самом начале перестройки мне доводилось посещать многолюдные сборища, где «вершилась история». В памяти осталась пьяная толпа, готовая раздавить и растоптать любого, бутылки и горящие поленья, летящие над головами, безумие и дикость вокруг. Многие мои друзья, да и я в том числе, наотрез отказались от участия в подобных сборищах. И вот снова меня зовут на многолюдное собрание…
Приближалось время начала Крестного хода, а я все колебался, как трость на ветру. Но вот из Красного угла, из золотистого обрамления иконы Царственных мучеников меня лучом света мягко коснулся взгляд Государя. И я ощутил, наверное, то же, что в 1903-м в Сарове, мой дед Иван — Государь призвал меня, спокойно и властно. Сам собой прозвучал во мне мысленный ответ: «Слушаюсь, Ваше Величество!», взял с собой чудотворный образ и вышел в душный жаркий июльский полдень.
И вот после молебна на солнцепеке мы строимся под хоругви и знамена, поднимаем Государевы иконы и трогаемся вперед. Вокруг незнакомые люди — их сотни и тысячи. Мы вместе поем «Спаси, Господи, люди Твоя и благослови достояние Твое…», «Боже, Царя храни…», «Богородице, Дево, радуйся…». Вот бабушка ведет за руку очаровательную внучку в белом платочке. Рыжий крутоплечий парень широко шагает, догоняя знакомых. Девушка, тоненькая и хрупкая — вся в молитве, лицо сияет. Бородатый старик со взрослым сыном и внуком… Мне с ними — как с родными. Нет, пожалуй, лучше и радостней. Они мои братья и сестры.
Из тенистого сквера на Старой площади мы выходим на площадь, сворачиваем на набережную. Вдруг я замечаю, что перистое облачко закрыло от нас нещадно палящее солнце, и мы идем в прохладной тени, обдуваемые легким ветерком.
Вот раздаются восклицания, и все устремляются куда-то, туда сворачиваю и я. Православные на ходу прикладываются к Феодоровской иконе Богородицы — охранительнице Царской семьи. Подхожу, прикладываюсь, чувствую легкое благоухание и вижу струи мира на внутренней поверхности стекла киота. Через несколько минут мироточение повторяется с другой иконой Богородицы — Иверской, внутри киота которой маленькие образки Серафима Саровского и Царственных мучеников. Вы рядом с нами сейчас, святые наши на небесах, вы нас приветствуете!
Мимо нас по дороге проезжает грузовичок с дюжиной колоколов, которые разливают вокруг серебристый многоголосый звон. Люди вокруг меня ликуют, смеются, молятся, плачут от радости: «Слава, Тебе, Господи!», «Царственные мученики, молите, Бога о нас!». В моей голове оживает мысль: «Если здесь, на грешной земле, возможны и эта светлая радость, и это радужное ликование, то каково в Царствии Небесном, где нет ни легкой даже тени, ни малейшей печали, откуда сейчас на нас изливаются лучи благодарного утешения».
Так вот, оказывается, какое счастье служить тебе, мой Государь!
Далее последовали месяцы и месяцы будней, с ежедневным призыванием имен Царственных мучеников, иногда — к сожалению, лишь иногда — акафисты. И в сереньких тех буднях нет-нет, да и блеснет луч света из того Крестного дня…
И, наконец, прошлогодний Крестный ход — дождливый, несколько печальный, для кого-то даже тревожный, но искренно покаянный, когда снова слезоточили и благоухали Государевы иконы. И несколько позже — долгожданное единодушное решение Поместного Собора в храме Христа Спасителя о канонизации Царственных мучеников в сонме тысяч других, известных и безымянных, застреленных, сожженных, загубленных безбожниками, неукоснительно выполнявших указание «самого человечного человека дедушки Ленина» убивать как можно больше священников.
Прости, Господи, им это помрачение, не ведали в безумии своем, ох, не ведали, что творили! Прости и нас, Господи, ибо и мы их дети, и на нас проклятие Собора 1613 года. Дай нам сил умолить Тебя до конца жизни о прощении греха убиения Помазанника Твоего. Государь наш Николай Александрович, прости нас и моли Бога о нас. Государыня Александра Феодоровна, цесаревич Алексий, цесаревны Ольга, Татьяна, Мария, Анастасия — простите нас и молите Бога о нас!
Осень
Шелестящими занавесями дождей, летящими вдаль серыми ватными облаками, золотыми осыпями порхающих листьев, прожигающими насквозь лезвиями холодов, стеклянным хрустом утренних лужиц — налетела, навалилась старушка-осень.
Согревающую бодрость дневной беготни сменяет вязкая лень удлиняющихся вечеров с прозрачной нежданной дремотой в тепле домашнего уюта. Затем, ни с того ни с сего — вздрагиваешь, как от внезапного прикосновения, и в таинственном уединении объявшей тебя тишины свечой загораешься в ночном предстоянии.
Неотвратимое угасание жизни природной сдирает с души летнее буйное пьяное беспамятство, и ты каждой клеточкой меняющегося естества просыпаешься к сладко-тревожной памяти смертной. О, как властно тянет она отупевшую душу к бесконечной пропасти и держит на краю жесткими бережными ладонями.
И в парализующем оцепенении под апокалиптическое «иди и смотри» взираешь на ежеминутно происходящее, но видимое не всем: бесчисленные реки людей со всех сторон стекаются сюда и люди — один за одним — срываются, и удивленно летят в бездонную яму, в которой ревут огромные языки яростного пламени. Ничего более в этой панораме не видно от перехватившего горло ужаса. Ты догадываешься, что ничем не лучше любого из этих несчастных, что грехи каждого обреченного — все до единого и твои тоже. И когда твое отчаяние доходит до высшей точки кипения крови, когда твоя нога готова уже сделать последний шаг туда, где тебе и есть самое место, когда ты уже мысленно, всем сознанием охвачен гудящим пламенем преисподней…
В этот миг, растянувшийся затяжным взрывом на долгие гулкие несколько ударов сердца, зрение таинственно углубляется в дали, светлеющие над текущей в бездну толпой. Там видны взлетающие одна за другой светлые души людей, вырванные из плотного человеческого потока. Они радостно взмывают вверх, их дружески подхватывают светокрылые существа и бережно влекут ввысь. А там, сверху, из необозримых высот сияет и лучится молниевидная теплая бесконечно Милостивая Любовь на судейском Престоле Славы. В ослепительных облаках ликует многочисленная свита, радуясь восхождению каждой просветленной души.
И все существо твое готово к участию в этом чудесном действе, которое дарует веселое спасение бесценной души человеческой. И входишь в него, и отдаешься в горячие очистительные струи великого чуда — огненного покаяния!
Гремит набатом, жжет раскаленными углями Силуановское «держание ума во аде»: «Я недостоин Бога и рая! Я достоин мук адских и буду вечно гореть в огне. Я, воистину, хуже всех и недостоин помилования». Безжалостные слова эти повторяются снова и снова, до тех пор, пока не испепелятся самомнение и гордость. В такие минуты понимаешь, сколько в тебе мерзости, потому что горит и рассыпается пеплом вся душа твоя. И уж не знаешь, что произошло бы с тобой в такие секунды истинного самопознания, если бы в ту бездну не сходила сберегающая ангельская помощь. Светлые крылья ангелов обнимают, согревают и поднимают ввысь, откуда ласково проливается Отеческое: «Прощён!».
В этот ночной час моего помилования «я уже не боюсь Бога, но люблю Его», и тает сердце от любви сладчайшей к Источнику ее, проливается медом молитвы за детей Божиих. Те же ангельские, должно быть, крылья несут меня над людской рекой и я прозреваю тяготы человеческие.
Молитва за людей могла бы стать последним моим терзанием. Видеть проказу греха в минуты такого горячего любовного порыва к человеку — это как принимать в самое сердце безжалостное лезвие меча. Я готов вопить: «Не дай мне, Господи, видеть грехи людей Твоих, но только мои собственные!» Только предваряет крик этот поддерживающий меня нарастающий голод молитвы:
«Если Ты дал мне эту боль, Господи, за людей Твоих, то дай и прощение им по молитвам моим. Не мне, ничтожному падшему человечку, но только Твоей бесконечной милости под силу снизойти к вопиющей немощи людей и покрыть ее океаном любви. Я такой же, как любой из этих людей, Господи. Нет греха, который не поразил бы меня своей разящей мерзостью. Поэтому и молю Тебя, как один из них: прости людей Своих, ибо немощь наша и помрачение достигли немыслимых пределов, и мы без Твоей отеческой милостивой помощи не сумеем выжить для спасения. Деды и отцы были гораздо крепче нашего, богатыри против нас, и то не устояли, а уж чего от нас ждать, когда мы хилость от чахлости, раковые метастазы от струпьев проказы. Но и прокаженных Ты исцеляешь и расслабленных поднимаешь — все возможно для Тебя! Так, исцели и подними нас, Господи!»
Приняв молитву, сомкнулись разверстые Небеса. Душа моя, устало вернулась в изнемогшее тело. Лишь огонек продолжает гореть в сердце, маленький и тихий, как язычок пламени над латунным поплавком лампадки. Глубокая ночь царит вокруг. И тьма имеет свое законное время. Только горит огонек — и тьма отступает и не имеет силы над его светоносной мощью.
Рядом со мной появляется бесшумное белое привидение. Оно стоит босиком и жалостно всхлипывает. Затем голоском Дуни произносит:
— Не могу я любить такого Бога. Матерь Божию могу любить, Николая Чудотворца могу, а такого… нет.
— Какого? Что такое говоришь ты, несчастное дитя?
— Зачем Бог отдал Иова сатане? Он хорошим был, честным. Представляешь, если бы ты сказал бандиту: «Вот мой любимый ребенок. Бей его, режь, делай что хочешь…».
— «…Только душу его не трогай!» — так было сказано, — продолжаю, вздыхая. — Я и сам мучился, когда прочел это. Ты сядь, Дуня, сядь. Не забывай, что это Ветхий Завет, очень ветхий. Люди тогда были жестоки и диковаты. Поэтому и Закон жесток, другого они бы не поняли. Но ты не забывай, что за верность Иова в искушениях, Бог ему все вернул, а пострадавшие вместе с ним были спасены, а он стал для всех примером верности и терпения. А потом, житие Иова явилось как бы предвозвестием страданий Иисуса Христа. И Господа трижды искушал враг, и мучения Он принял тоже не по грехам Своим, так как был безгрешен. И также за великие страдания великую славу принял Иисус от Бога Отца. И если ты так близко к сердцу принимаешь страдания Иова, то тем более должна оценить непостижимый подвиг страданий Богочеловека Иисуса. Ведь это Сам Творец вселенной, всего и вся, воплотился в немощном теле человека и добровольно принял страшные мучения, чтобы искупить грехи всего человечества. До Воскресения Христова все до единого, даже пророки и праведники, после смерти попадали в ад. И только крестная смерть Иисуса Христа открыла человеку двери Царствия Небесного.
С полки беру книгу и листаю ее.
— А чтобы понять, чем Новый Завет любви отличается от Ветхого Завета страха и гнева, я сейчас прочту тебе слова святого, которому Господь явился лично и говорил с ним. Как малое дитя, потерявшее мать, всю жизнь после того явления плакал он и просил Господа поскорее взять его к Себе. Вот послушай.
«С детства я любил мир и красоту его. Любил рощи и зеленые сады, любил я поля и весь свет Божий, как он красиво создан. Любил я смотреть на светлые облака, как несутся они в голубой высоте. Но с тех пор, как познал я Господа моего, и Он пленил душу мою, все изменилось в душе моей, и я уже не хочу смотреть на этот мир, но душа моя непрестанно влечется в тот мир, где живет Господь. Как птица в клетке, так томится душа моя на земле. Как птица желает и рвется улететь из тесной клетки в рощу, так душа моя влечется снова увидеть Господа, ибо Он привлек душу мою, и она скучает по Нему и зовет:
Где Ты обитаешь, Свете мой? Ты видишь — я слезно ищу Тебя. Если бы ты не явил мне Себя, то не мог бы я искать Тебя так, как ныне ищу. Но Ты Сам взыскал меня грешного и дал мне познать любовь Твою. Ты дал мне увидеть, что любовь Твоя к нам привела Тебя на крест, и Ты в страданиях умер за нас. Ты дал мне познать, что любовь Твоя свела Тебя с небес на землю и даже до ада, дабы мы видели славу Твою.
Ты сжалился надо мною и явил мне Твое Лицо, и ныне душа моя влечется к Тебе, Господи, и ни в чем не находит покоя день и ночь, и плачу, как дитя, потерявшее мать.
…За что же Господь так много нас любит? Ведь мы грешные, и весь мир во зле лежит, как говорит Иоанн Богослов. За что же Он нас любит?
Господь Сам есть — одна любовь.
Как солнце согревает всю землю, так благодать Святого Духа согревает душу любить Господа, и она скучает по Нему и слезно ищет Его.
О, если бы знал весь мир Господа, и как Он нас любит, и как сладка сия любовь, и как все небесные силы питаются ею, и как все движется Духом Святым, и как величается Господь за страдания Свои, и как славят Его все Святые».
Дуня моя снова хлюпает носом, но уже по другому поводу.
— Теперь ты поняла, какой у нас Господь?
— Дай мне эту книгу, папусик, я буду читать ее и плакать с ним вместе.
— Это старец Силуан Афонский. Его писания. А на будущее, дитя мое, помни, что если тебе что-то кажется в Библии или в Церкви неправильным или несправедливым, то означает это только одно: просто пока тебе сие непонятно или недоступно. И только это. А теперь маленьким девочкам пора спать. Да и нам, старым хрычам, прикорнуть не мешает.
Укрываю свою женушку, подтыкаю одеяло, потягиваюсь и произношу для истории. Семейной.
— Да уж, если Господь привлечет к Себе, то все земное забудешь, не только сон.
Друзья
Как ни ограждай себя от всеобщего помешательства, тебе его не избежать. Как ни убеждай людей в его опасности, они забудут все аргументы, как только им дадут команду сверху водку пьянствовать и веселиться. Итак, наступают праздничные дни, оставшиеся нам в наследство от коммунистов. Что от них ждать хорошего, если все дела богоборцев прокляты, и проклятие это действует от Собора 1613 года до самого Второго пришествия. Бунин в свое время назвал эти дни окаянными, и они не перестали быть таковыми и сейчас.
Итак, впереди три дня, помеченных в рабочем календаре кровавой краской. Самое время вспомнить своих друзей и совершить с ними совместный исход из мира. Первым в моем телефонном списке стоит Борис. Он бизнесмен, владелец крупной фирмы. Интересно, как он там? Набираю номер его мобильника и слышу вальяжное «Аллое». А живет он, по его словам, трудно, но весело, хотя сытно и напряженно. Оказывается, я «последний из наших», кто ему позвонил, поэтому мне лишь остается присоединиться к честной компании, которая отъезжает …прямо завтра утром. Вот это по-нашему!
Почему-то звоню Доктору и предлагаю присоединиться, обещая новизну ощущений и незабываемые переживания, а в ответ получаю вежливое, но холодное выливание ведра холодной и мутной воды на свою голову:
— Бегите, бегите, фанатики недобитые, а нам есть, кого поздравлять. — Потом после многозначительной паузы: — Впрочем, в другое время это могло быть занятным. Хотя бы для того, чтобы вывести тебя из комы.
Рано утром наш микроавтобус выворачивает по кольцевой на Калужское шоссе. Борис говорит, что ехать нам около четырех часов, наговориться мы еще успеем, поэтому лучше будет нам пока молиться и слушать проповедь. И вставляет в магнитофон кассету с проповедью.
Приятный голос — судя по акустике в храме — не спеша и вдумчиво с профессиональными паузами поясняет слушателям, что такое гордыня и какие формы она принимает. Мы превращаемся в слух, и только завораживающий голос хозяйничает в пространстве салона.
«Гордыня в человеке рождает состояние неспокойствия. Вместо обретения в душе мира и покоя человек в состоянии гордыни разрастается, как мыльный пузырь, подчиняя под свое господство весь круг людей, который ему только ведом. Он способен только разрушать…
Гордыня проявляется по-разному в женском и в мужском естестве, хотя действие ее тождественно. Мужчина преимущественно ищет увеличения земных познаний, прельщаясь более всего светом падшего рассудка, обогащая себя умственными сведениями; пытается через эту работу мозга, через увеличение земных познаний стяжать мысленное превосходство над окружающими. Впрочем, иной, не интеллектуальный, но гордый человек тщится своей волей грубо подчинить себе людей, вызывая в них животный страх и безмолвие.
Женщинам свойственно это менее. Они более одарены способностью чувствовать, поэтому хотят царствовать над людьми, воздействуя на низшую, животную область чувств. Через это женщина, падшая Ева, обуянная духом гордыни, распространяет свое влияние в области похоти, подчиняя себе всех и вся, сначала в воображении, потом усваивая себе образ, вид, внешность, которые делают ее свечой, которая приманивает однодневных мотыльков и губит их в пламени своем.
Впрочем, уже начиная с XIX столетия мы встретим образ женщины, которая больна гордынею ума, а не только гордынею чувств. Такие любят становиться на место мужчин и в семье, и в обществе, что характерным образом меняет и саму внешность женщины. Она теряет свойства нежной, уступчивой, смиренной, мягкой, покорной женской природы и приобретает неестественные ей черты мужского характера: обширность познаний, силу, мужество, решимость в достижении цели, хотя и весьма ограниченных в нравственном смысле. Эти женщины внушают к себе часто чувство иронии. Но по большей части отталкивают. Печальный их ждет конец. Они сеют в мире разрушение и прежде всего в своей собственной судьбе и семье.
Когда больная душа надеется на себя самою себя, то следствием этого являются страх, опасения, постоянное беспокойство, излишняя экспансивность. Это доводит людей до инфарктов, инсультов, тромбов, до паралича. По словам пророка, «вот я изведу из тебя, из середины твоего сердца огонь, и он пожрет тебя». Гордыня физически разрушает человека, искажая в нем образ Божий.
Каждый человек должен уяснить для себя: все самое лучшее, что у меня есть, дал мне Господь, а вот все плохое — это мое личное приобретение; тогда и причина гордыни отпадет сама собой».
— Кто это говорит?
— Это отец Артемий из храма у метро Красносельская, — поясняет хриплым басом Григорий, задумчиво оглаживая бороду. — К нему на проповеди съезжается московская интеллигенция. Таких отцов, которые окормляют интеллигентов, всего четыре на всю Москву. Ох, и гадко смотреть на этих его прихожанок… они там все в шизоидной прелести.
— Слушай, Григорий, а ты можешь пояснить, за что ты их так?
— Cейчас сформулирую, — Григорий жует губами. — Во! Я их… ммыыххх… недопонимаю за полное рабство своему падшему разуму и попытку подогнать совершенный Божий мир под свое гнилое несовершенство.
— Григорий, ты малость перегибаешь, — вступает в беседу Андрей. — Я считаю, что надо все как-то полюбовно, эволюционно. К чему ведут революции мы все уже знаем.
— А ты не защищай их! Да и чего ты-то возмущаешься? Ты не интеллигент, нет в тебе этого…мммыыххх!
— Да нет уж, интеллигент! А кто же еще? Я ведь занимаюсь интеллектуальным трудом. Да и то, что ты так… недопонимаешь, и во мне тоже есть.
— Если бы было!.. Я бы тебя… — Григорий руками имитирует движения прачки, выжимающей белье. — Как говорил авва Исаак, я люблю тебя, брат, но ненавижу твой грех.
— С ненавистью ты бы это… полехше. Так можно разогнать всех, кто идет к храму. Или едет, как мы вот. Мяхше надо, мяхше. Кто без греха-то? Что же всех ненавидеть? Так, товарищ, мы далеко не уйдем, — улыбается Андрей, вспомнив, наверное, бывшего начальника первого отдела.
— Ммыыхх!
— А я думаю, сваливать все наши многолетние несчастья на интеллигенцию по меньшей мере глупо, — рассуждает вслух Борис. — Как там сказал апостол Павел? В каком ты звании, чем от Бога наделен, тем и служи: учительствуй, проповедуй, начальствуй, пиши, говори, паши и сей — только все делай во славу Божию. Потому что все мы, как множество разнородных членов одного тела, составляем тело Христово. Оно конечно, рыба с головы гниет, и все такое… Но давайте вспомним, кто рушил храмы Божии? Интеллигенцию почти в полном составе вытурили за кордон, или на Соловки, или по застенкам чекистским поразбросали, а кого постреляли без разбирательства. Как раз самый что ни на есть рабочий класс с крестьянством и рушили храмы и убивали священников.
— Да-а-а, тут возразить сложно, — соглашается Григорий.
— Это первое, — как всегда спокойно продолжает Борис. — А на второе давайте рассмотрим явление трезво. Интеллигент — это человек, профессионально занимающийся умственным трудом. Как сказал пророк Давид, «рече безумен Бог несть». Из этого следует, что безбожник не может считаться интеллигентом, потому что разум у него отсутствует. Это как воин без оружия, как пахаря без плуга, а каменщик — без мастерка. Вот и получается, что надо смотреть в корень, и там ответ: человек ли ты вообще. Ибо только верой в Бога человек оправдывает свое звание.
— Гениально! — восклицает Григорий и жмет руку Борису. — Ну, а теперь самое время, думаю, по пятой колонне жахнуть.
— Ой, мамочки, Гриню по кочкам понесло… — крутит лицом Андрей. — Как юный Иоанн «сын грома», не знает еще какого он духа. Ты что же, брат, думаешь злом победить зло?
— Это что же, Андрюх, они нас спаивают, по телеку разврат кажут, грабят наш народ, а мы должны это терпеть?
— А ты не пей, телек не смотри, честно работай и в храм Божий ходи — вот и не коснется тебя вся эта мерзость. Вши и блохи у чистоплотных не заводятся. А наши враги и есть духовные паразиты.
— Э, нет! Это уже, господин щелкопер, толстовщина какая-то. «Не противься злу!», видишь ли…
— Так «не противься злу» — так это не Толстой первым, а Иисус Христос сказал, если ты, конечно, Нагорную проповедь хоть раз читал.
За окном слева проплывает Калуга. Город живописно раскинулся по мягким склонам холмов. Золотятся купола стройных восставших церквей. Мелькает авангардное здание музея космонавтики. По этим холмам до последнего дня жизни ездил на велосипеде отец космонавтики. Андрей рассказывает, что только недавно опубликовали засекреченные труды Циолковского, раскрывающие его православное вероисповедание. Справа широко раскинулась пойма Оки, на горизонте на таких же покатых холмах стремятся к небесам мачтовые сосновые леса.
Через какое-то время мы уже несемся через древний Козельск. Справа теснятся маленькие домики в окружении садов-огородов, а слева… Слева за широкой поймой извилистой Жиздры среди темного соснового бора белеет крепостными стенами и башнями, сверкает золотыми куполами храмов Оптинская обитель.
Андрей недавно писал очерк в свою газету и сейчас, открыв блокнот, нас просвещает:
— О посещении своем Оптиной Пустыни в июне 1850 г. вот что писал Гоголь графу А.П.Толстому: «Я заехал по дороге в Оптинскую Пустынь и навсегда унес о ней воспоминание. Я думаю на самой Афонской горе не лучше. Благодать видимо там присутствует. Это слышится и в самом наружном служении… Нигде я не видел таких монахов. С каждым из них, мне казалось, беседует все небесное. Я не расспрашивал, кто из них как живет: их лица сказывали сами все. Самые служки меня поразили светлой ласковостью ангелов, лучезарной простотой обхождения; самые работники в монастыре, самые крестьяне и жители окрестностей. За несколько верст, подъезжая к обители, уже слышим ея благоуханье: все становится приветливее, поклоны ниже и участия к человеку больше. Вы постарайтесь побывать в этой обители…»
Незадолго до своей кончины Гоголь приезжал в Оптину и просил остричь его в монахи. Приезжал сюда и Достоевский. Он описал в своем романе «Братья Карамазовы» все, что видел и слышал, создавая внешнюю картину для своего романа. Бывал здесь и граф Лев Толстой. Имел долгую беседу с о. Амвросием. После отъезда графа, старец сказал: «Никогда не обратится ко Христу! Горды-ыня!». Приезжал он и позже уже к старцу Варсонофию. Потоптался у калитки, да так и не зашел. Уехал.
Когда Л.Н.Толстой умирал на станции Астапово, в Оптину пришла телеграмма с вызовом старца Иосифа. Совет братии монастыря в Астапово вместо болеющего старца Иосифа посылает старца Варсонофия в сопровождении иеромонаха Пантелеимона. Но окружением Толстого (Чертковым и др.) они не были допущены к больному, несмотря на все усилия с их стороны. Когда старца Варсонофия окружили корреспонденты газет и журналов, старец ответил им: «Вот мое интервью, так и пишите: хотя он и Лев, но не мог разорвать кольца той цепи, которою сковал его сатана». Толстовцами этот факт долго скрывался, открылось это только в 1956 году, когда на страницах «Владимирскаго Вестника» игумен Иннокентий подробно рассказал об этом. Как работающему в канцелярии, ему было известно все, что через нее проходило.
— Вот так-то! — восклицает мой бородатый сосед, метнув орлиный взор в сторону Андрея. — Монахам без разницы, всемирно известный ты писатель или из простых. Здесь главное — это чистота веры. И твое отношение к Богу. В Оптину гордыню не везут! А если привозят, то Оптина таких не принимает.
Андрей согласно кивает и продолжает:
— По преданию монастырь Оптина Пустынь был основан раскаявшимся разбойником Оптой в 15-м веке. Времена расцвета обители сменялись разорением. Царь Михаил Феодорович пожаловал Оптиной мельницу и земли в Козельске под огороды. Местные бояре Шепелевы в 1689 году построили Введенский собор. Но во время реформ Петра указом Синода в 1724 году монастырь упраздняют, как «малобратный». Затем в 1726 году снова восстанавливают. Но полное возрождение началось с 1795 года, при митрополите Платоне.
Четырнадцать канонизированных святых дала миру эта славная обитель! Отсюда по русской земле пошло старчество, возрожденное молдавским старцем Паисием Величковским,. Сюда из рославльских лесов переселяются его последователи, делатели умной Иисусовой молитвы, исихасты во главе с иеросхимонахом Львом. Он и открывает ряд старцев.
При старце о.Амвросии, ученике о.Льва, Оптина достигает расцвета. Слава о прозорливом старце гремит по всей России. Со всех концов ее тысячи людей устремляются к о.Амвросию за правдой. Его опыт перенимают и наследуют старцы о.Анатолий, о.Иосиф, о.Варсонофий, о.Феодосий, о.Анатолий и последний старец о.Нектарий. Официально Оптина Пустынь продержалась до 1923 года.
Старец о.Амвросий (1812-1891), в миру Александр Гренков, прибыл в монастырь в 1839 году по обету, данному им во время тяжелой болезни и по направлению троекуровского известного затворника о.Иллариона, который сказал ему: «Иди в Оптину, ты там нужен». В то время обитель переживала самый расцвет монашества. Там служили Богу такие столпы православия, как игумен о.Моисей, старцы о.Лев и о.Макарий, начальник скита иеросхимонах о.Антоний, подвижник и прозорливец; древний старец архимандрит о.Мелхиседек, удостоенный бесед со святым о.Тихоном Задонским; флотский иеромонах о.Геннадий, подвижник, бывший дважды духовником Императора Александра I-го; прозорливец иеродиакон о.Мефодий, лежавший на одре болезни 20 лет; бывший валаамский игумен о.Варлаам, имевший дар слез и нестяжатель, сотаинник преп. о.Германа Аляскинского.
Тридцати четырех лет от роду о.Амвросий пережил тяжелый приступ болезни, был выведен за штат обители и числился инвалидом. Болел он до самой смерти. Старец Лев «из подола в подол» передал его в послушание старцу Макарию. У этого святого старца о.Амвросий учится искусству из искусств — умной молитве, которую монахи обязаны проходить только под духовным руководством опытного исихаста, чтобы вместо соединения с Богом не впасть в прелесть.
После смерти о.Макария в 1860 году о.Амвросий занял его место. Для приема мирян в скиту справа от колокольни пристроили хибарку, в которой 30 лет до самого отъезда в Шамординскую женскую общину старец принимал страждущих.
Трудно себе представить, как он мог в постоянных болезненных мучениях, обливавшийся потом (он по нескольку раз в день менял одежду) принимать толпы паломников и отвечать на десятки писем ежедневно, когда его молодые келейники под конец дня едва держались на ногах.
Совершенное единение с Богом старца Амвросия просветляло его видение до такой степени, что для него не существовало тайн ни в настоящем, ни в прошлом, ни в будущем. Иногда он сам посетителю рассказывал его судьбу, но потом смущался, спохватывался и поправлял себя: «люди говорят».
В недолгой беседе, продолжавшейся обычно не более 10-15 минут, он умел разрешить все вопросы пришедшего, так направить его жизнь, чтобы душа его обрела спасение. Старца не интересовали ни положение в обществе, ни богатство, ни таланты посетителя, но одно лишь — душа человека, которая была для него столь дорога, как ничто другое.
Батюшку невозможно было представить без участливой доброй улыбки. Его живое лицо выражало то заботу, то ласку, то вдруг озарялось молодой улыбкой. Часто из его кельи доносился радостный задорный смех.
В трудные минуты его духовные чада получали от него наставления на расстоянии: старец являлся им то во сне, то наяву. Не раз спасал он таким образом от смерти, исцелял болезни, в нужный момент давал совет, как поступить правильно.
Батюшка Амвросий часто использовал в своих поучениях пословицы и поговорки. Любил говаривать: «Где просто, там ангелов со сто, а где мудрено — там ни одного», «Не хвались горох, что ты лучше бобов: размокнешь — сам лопнешь», «Отчего человек бывает плох? — Оттого, что забывает, что над ним Бог», «Кто мнит о себе, что имеет нечто, тот потеряет».
Осуждавшим других старец говорил: «…у них, может быть, есть такое тайное добро, которое выкупает в них недостатки, и которых ты не видишь».
Старец Амвросий не любил молиться на виду. Келейник, вычитывающий молитвенное правило, должен был стоять в другой комнате. Один из скитских монахов однажды решился во время молитвы его подойти к нему. Лицо батюшки так ярко сияло, что инок не смог вынести. Такие просветления случались иногда и во время бесед с людьми. Случалось, видели даже лучи, сияющие из его глаз.
Но вот самое знаменитое и таинственное предание, которое обязательно упоминается, когда говорят о старце Амвросии. Записала его одна из духовных дочерей батюшки:
«В келье его горели лампадки и маленькая восковая свечка на столике. Читать мне по записке было темно и некогда. Я сказала, что припомнила, и то спеша, а затем прибавила: «Батюшка, что сказать вам еще? В чем каяться? — забыла». Старец упрекнул меня в этом. Но вдруг он встал с постели, на которой лежал. Сделав два шага, он очутился на середине своей келии. Я невольно на коленях повернулась за ним. Старец выпрямился во весь свой рост; поднял голову и воздел свои руки кверху, как бы в молитвенном положении. Мне представилось в это время, что стопы его отделились от пола. Я смотрела на освещенную его голову и лицо. Помню, что потолка в келии как будто не было, он разошелся, а голова старца, как бы ушла вверх. Это мне представлялось. Через минуту батюшка наклонился надо мной, изумленной виденным, и, перекрестив меня, сказал следующие слова: «Помни, вот до чего может довести покаяние. Ступай». Я вышла от него шатаясь и всю ночь проплакала о своем неразумии и нерадении. Утром нам подали лошадей, и мы уехали. При жизни старца я никому не смела рассказать этого. Он мне раз навсегда запретил говорить о подобных случаях, сказав с угрозою: «А то лишишься моей помощи и благодати».
Но вот мы подъезжаем к воротам монастыря и робко, с обязательным крестным знамением входим в обитель. Перед нами два храма: Казанский и Введенский, слева — недостроенная колокольня. Наш Борис направился искать знакомого иеромонаха. Мы с Андреем остались у киоска с книгами, иконками, крестиками. Григорий уходит искать своего знакомого о.Мелхиседека, чтобы тот устроил бы нам встречу со старцем о.Илием. Но возвращается ни с чем: тезка самого загадочного первого священника уехал в Москву.
Борис тоже приходит несколько растерянным: «У монахов свои представления об экскурсиях. Он согласился открыть раку с мощами преподобного Амвросия — это и есть самое главное по его мнению».
В Введенском храме мы подходим к золотистой раке в виде металлического саркофага, молодой монах с черной бородой подняв крышку, отстраненно замер с шерстяными четками в руках.
— Иисусову молитву творит, — шепчет Григорий, и мы по очереди подходим к святым мощам. Следом за нами идут и другие паломники. Некоторые становятся на колени и кладут земной поклон, иные и креститься стесняются. Я подхожу к раке, вижу под стеклом расшитую золотом праздничную ризу, покрывающую мощи, и прикладываюсь к стеклу над руками и лицом. Сердце сильно и часто стучит, на лбу выступает испарина, я чувствую легкий аромат, исходящий от мощей. «Отче Амвросий, моли Бога о нас, грешных», — только и могу произнести шепотом.
Потом прикладываемся к мощам последнего старца обители о.Нектария. Подходим к свечному ящику и заказываем молебен о.Амвросию. Я с полчаса пишу имена моих родственников, друзей и недругов: моли Бога о всех нас, угодник Божий, великий святой земли Русской!
Борис ведет нас за храм к крепостной стене, где стоят кресты над могилами великих Оптинских старцев. Летом 1996 года Святейший Патриарх Алексий II совершил здесь чин канонизации святейших и Богоносных отцов Оптинских.
Чуть в стороне, у белой кирпичной стены еще три креста: здесь похоронены убитые на Пасху 1993 года монахи. Двоих из них убийца зарезал во время пасхального благовеста на временной звоннице. Еще одного — на дороге в скит.
Убийство совершалось длинным ножом наподобие спартанского меча, на деревянной рукоятке его имелась надпись "666 сатана". Убийцу (некоего Аверина) исповедовал нынешний игумен Сретенского монастыря о.Тихон. Вне всякого сомнения, говорил он потом, что убийца был одержим бесом и совершил этот чудовищный поступок по его приказу. Аверин жил неподалеку от Козельска. После службы в Афганистане занимался мистикой, общался с экстрасенсами. За два года до убийства он совершил попытку изнасилования. Имел попытки самоубийства. Занятия самодеятельной мистикой приводили его и в Оптину, но священникам он не верил, Святых отцов не изучал: на все он имел собственное мнение. Вот эта его гордая самонадеянность и привела его в состояние прелести, когда человек, не очистившись от страстей и гордыни покаянием, жаждет мистических переживаний и начинает в душе слышать голос, который внушает ему, как поступать. Священники Оптинские говорили ему, что это бесы — не разговаривай с ними, на что он отвечал: "Какие же это бесы, когда они мне такие хорошие советы дают?". Вот такой голос и дал ему команду убить монахов.
Иноки о.Ферапонт и о.Трофим, убитые на звоннице, уже после ранения продолжали до самой кончины звонить в колокола и молиться. Их любили монахи и паломники. Инок о.Ферапонт, человек очень скромный и тихий, совершал пятисотницу с поклонами. Инок о.Трофим, работавший в подсобном хозяйстве, всегда поражал всех добрым светом голубых ясных глаз. Двенадцатилетняя паломница Наташа из Киева рассказала, что незадолго до смерти он подарил свои четки мальчику, которому они очень нравились. Наместник его отругал: «Что ты за монах без четок». А он радовался, что его поругали. На просьбу Наташи связать ей четки он ответил: «Ну, постараюсь сплести, если доживу».
Третий убиенный — иеромонах о.Василий — на вопрос духовных чад чего бы он больше всего хотел, отвечал: «Хочу умереть на Пасху под колокольный звон». В его келье, где он каждую ночь подолгу читал псалмы и Иисусову молитву, на аналое нашли Апостол, заложенный на Втором послании апостола Павла: «… ибо я уже становлюсь жертвою, и время моего отшествия настало; подвигом добрым я подвизался, течение совершил, веру сохранил; а теперь готовится мне венец правды, который даст мне Господь…».
Иеромонах о.Ипатий во вторник Страстной седмицы получил в подарок от о. Василия крест, привезенный им из Иерусалима. Крестом этим он очень дорожил. Отец Василий при этом удивил своего друга какой-то особенной тихостью и молчаливой кротостью. После убийства, за пять дней до праздника Изнесения Честных Древ Животворящего Креста Господня о. Ипатий обратил внимание, что на кресте о.Василия на теле Господа с левой стороны чуть ниже ребер обильно выступило миро — четыре крупные капли. Миро не высыхало больше двух недель. Отец Василий погиб за стеной как раз напротив этого креста.
Андрей рассказывает, что во время похорон монахов в небе кружились белые голуби, а вместо скорби на душе стояла радость о праведной кончине мучеников. О такой смерти можно только мечтать!
До трапезы у нас остается время, мы оставляем свои вещи в общежитии в скиту и направляемся на святой источник. Покидаем монастырь и по тропинке через сосновый бор выходим на пригорок на берегу узенькой, но бурной Жиздры. Здесь на возвышении стоит большой деревянный крест, рядом — открытый источник с бревенчатыми бортами и купальня, обнесенная двухметровым дощатым забором.
Пригорок этот выше уровня воды в Жиздре на пару метров, а уровень воды в источнике — у самой поверхности земли. Получается, что здесь не работает закон геологии о грунтовых водах. Или, может быть, здесь пространство имеет другие свойства?
Женщины-паломницы выстроились в очередь, мы стоим поодаль и со страхом смотрим, как из купальни выходят они, раскрасневшиеся и веселые. Борис поучает нас: «Надо прочитать молитву преподобному о.Пафнутию и окунуться три раза: во имя Отца, Сына и Святого Духа».
Температура воздуха около нуля, воды — четыре градуса, с поймы дует холодный ветер. Мы замерзаем и синеем. Я спрашиваю друзей, будут ли они окунаться. Они сомнительно мотают головами и стучат зубами. Тут к нам подходит женщина и слезно просит нас окунуть в святой источник ее сына Сашу. Говорит, что шестнадцатилетний мальчик уже пьет, дерется, и она еле уговорила его приехать сюда: это ее последняя материнская надежда. Саша на вид натуральный хулиган и будущее его легко читается на затравленном и одновременно наглом лице. Пути к отступлению, похоже, у нас нет, выбора тоже нет. «Ну, что ж, православные, хоть умрем с именем Христа на устах!..»
Мы входим в купальню, раздеваемся донага и, странно — озноб проходит. Первым окунается толстый мужчина с грыжевым бандажом на животе. Окунается три раза — и веселый выпрыгивает из воды одеваться: «Ой, как хорошо-то!». Потом, уже смелее, с громким фырканьем окунается Борис. Вот дошла очередь и до меня. Я крещусь, шепчу: «Святой угодниче, отче Пафнутие, очисти мою душу и тело от греховной скверны!», хватаюсь за деревянные поручни, спускаюсь по ступеням к воде, захожу по колени и, держась за поручни, три раза окунаюсь в обжигающую воду, произнося каждый раз: «Во имя Отца!» — «Сына!!» — «И Святого Духа!!!».
— Ну, как водичка? — опасливо спрашивает меня голый бородатый мужик, в котором я с трудом признаю Григория.
— Горячая!
Так, один за другим мы окунаемся, молимся, крестимся, фыркаем, ахаем.
Последним купается Саша. Мы его с Григорием крестим и произносим кратенькую молитву за него. Когда он выбирается из воды, физиономия его светится от радости. Одевшись, мы выходим из купальни. Женщины уже скрылись из глаз, только Сашина мать ждет нас.
Она бросается к нам и благодарит за сына. «Ну, чего ты, мать, хороший парень! Наш, православный!» — басит Григорий, брызгая мокрой бородищей.
Идем по лесу в сторону монастыря, и радость наполняет нас. Нам удалось с Божьей помощью переступить через страх. Боли в желудке и насморк у меня прошли. Перестали кашлять Андрей и Григорий.
Вот перед нами вырастает громадный ствол древней сосны. «Это ж сколько ей годочков?» — «Да уж не меньше трехсот!». Пытаемся ее измерить. Нам понадобились руки трех человек, чтобы обхватить мощный ствол.
Бодрые и веселые, подходим к трапезной. Там уже стоят в очереди женщины из купальни. Дверь открывается, и мы вваливаемся в прихожую. Но там крепкий мужчина в белой куртке сразу успокаивает нас своим зычным голосом: «Заходить по одному, рассаживаться на свободные места равномерно, еду не трогать!».
Мы затихаем, гуськом просачиваемся в большой зал, где рядами расставлены длинные столы с лавками. На столах стоят кастрюли, эмалированные кружки и алюминиевые миски. Когда мы рассаживаемся, заполнив все свободные места, начальник громко приказывает встать и вслед за ним все трапезующие дружно молятся. После протяжного «Бла-го-сло-ви!» — мы садимся.
Те, кто оказался ближе к кастрюлям, наполняют и передают по очереди миски с негустой пшенной кашей с тертой морковью. Какой же вкусной кажется мне эта каша! Наш громогласный начальник в это время читает поучения из Святых отцов. Увидев в миске недоеденный кусочек хлеба, он гремит на всю трапезную:
— Этот хлеб сеют монахи под молитву, сами его собирают, мелют и пекут. Это не пр-р-р-осто хлеб — это монастыр-р-р-р-р-ский хлеб!!!
Девушка лет пятнадцати быстренько берет кусочек хлеба и кладет его в рот.
— Молодец! — тише произносит громовержец.
— Нет, а чего ты хочешь! С нами только так и надо! — комментирует мне на ухо Григорий.
У трапезной гуляет стадо беленьких козочек. Они бесстрашно тычутся мордочками в наши ладони, у кого остались кусочки хлеба — кормят их.
Часы показывают без десяти пять. Пора на вечернюю службу. Служба, размеренно набирая темп, вовлекает нас в свое таинственное действо. Словно по ступеням, поднимаемся выше и выше, отрываясь от земной суеты. Десятки монахов участвуют в службе. Их мощные голоса раздаются то с хоров, то от алтаря, то слева, то справа. Лица молодых монахов торжественны, они сосредоточенны и отрешенны.
Вот они — рядом, видны и слышны, но бесконечно далеки и недоступны нам. Они живут рядом с нами, ходят по земле, по которой ходим и мы, но вместе с тем они уже сейчас небожители и принадлежат не этому суетливому греховному миру, но чистым и высоким небесам. Не-бесам! Тем высотам, которые недоступны бесам, страстям и греху. Не-бесам! Возносясь каждый день на крыльях слова Божьего, эти молитвенники разрывают путы греха, повязавшие нас, и возносятся в горние выси и зрят нетварный свет, исходящий от Источника жизни и любви, Творца и Вседержителя.
Не стало вокруг никого и ничего, я стою у ворот, сверкающих золотом и каменьями, изливающими на меня свет и аромат райских садов. Стою перед воротами вечности один. Там за ними на Престоле в окружении сонмища святых и ангелов Он, бесконечно любящий меня, подлого отступника и грешника. Хочу войти в эти ворота. Всем сердцем рвусь туда, где Господь, сияющий во славе; Пресвятая Царица, материнскими слезами умоляющая Его о нашем прощении; где мои любимые святые, которым возношу свои молитвы. Я стою перед воротами, за которые стремлюсь всей душой, но путь туда мне, падшему и грешному, закрыт. И плачу я, и молю Его и святых у престола Его, но нет мне туда входа. Не готов. Не достоин. Что ж, буду рыдать и стенать, молить и просить, пока жив. Господь бесконечно милостив, на это лишь надежда!
Кто-то, проходя мимо, толкает меня в плечо. Я снова оказываюсь в храме на земле. Оглядываюсь. Уже выставили несколько аналоев, и священники принимают исповедь. Сколько же времени прошло с начала службы? Гляжу на часы. Время подбирается к девяти. Странно, в городе я с трудом выстаиваю двухчасовую литургию, под конец у меня болит спина, ноги и голова. Грехи выходят, как говорят мои православные друзья. Здесь же четыре часа проносятся незаметно. Что здесь творится со временем? Оно, что здесь — другое? Григорий, стоящий рядом, вертит головой и докладывает, что старца о.Илия не видно. Мы решили не торопиться на исповедь, подождать старца. Нашли Бориса и Андрея, и пошли на ужин.
Пока стоим в очереди на трапезу, из ворот выходит процессия Крестного хода. Мы присоединяемся. Монахи распевают молитвы, впереди несут фонари, иконы, кадило расточает ароматный дымок. Мы идем вдоль монастырских стен, останавливаемся напротив каждых ворот, и несущие крестят их иконами. Обходим весь монастырь и входим внутрь, сворачиваем к могилам Оптинских старцев, и здесь Крестный ход завершается молитвой к Святым старцам обители.
После ужина к нам подходит Саша, бывший до купания в святом источнике хулиганом. Григорий спрашивает его, готовится ли он к причастию. Мальчик отвечает, что еще не знает что это такое. Григорий рассказывает ему, что литургия — это вершина богословия. История этого таинства восходит к Тайной Вечери. Говорит, что пока хоть в одном храме на земле служат литургию, жизнь будет продолжаться. Довольно красочно он объясняет мальчику, как во время литургии на хлеб и вино снисходит Святой Дух, и они чудесным образом преображаются в Тело и Кровь Христовы. Не образно, не символически — но реально! Юноша слушает внимательно, а после этого объяснения говорит, что, конечно, раз уж приехал, то будет причащаться обязательно, если его, конечно, допустят. Григорий почему-то уверенно говорит Саше, что его, Сашу, допустят обязательно. Только надо исповедоваться, и не формально, а горячо и искренне, будто уже сейчас идти на Страшный суд…
В храме, исповедников заметно поубавилось. Четверо иеромонахов принимают исповедь. Мы присаживаемся на освободившуюся лавочку.
Один за другим исповедники уходят от парчевых аналоев. Одни со счастливыми улыбками облегчения, другие — с мокрыми от слез лицами. Я прочитываю Покаянный канон, Канон Ангелу хранителю. Вспоминаю и дописываю в хартию грехи. Наша очередь продвигается, и во мне начинает нарастать волнение. Много всего нужно мне выяснить, слишком серьезные вопросы терзают меня… Я сижу и все вписываю и вписываю свои грехи в листочек. Чтобы меньше осталось для ответа на мытарствах.
Мытарства… О! как противится наша «образованная» душа принять эти страшные, посмертные экзамены. С какой подобострастной готовностью принимает она подсунутые нам Раймондом Моуди прелестные «опыты» его пациентов о встрече после смерти с добреньким светящимся дядечкой, который с юмором относится к нашим «невинным» земным шалостям. Ну, подумаешь, похулиганил маленько, это все ерунда, главное, теперь ты здесь, у меня, и поехали сразу в рай. Ты, шалунишка, пострадал от обжорства, не жалел себя и конкурентов на ниве карьеры и бизнеса, зато сколько счастливых минут подарил длинноногим шалуньям, какие зелененькие газончики остались после тебя перед твоим десятикомнатными хоромами. А как страдал ты на старости лет от душевной пустоты и злобы, зависти и гнетущей немощи, воспоминаний о том, как объехал тебя на крутом вираже более удачливый соперник и не дал тебе положить в карман еще один миллион. Вот теперь ты отдохнешь здесь в моих светящихся полях-лугах. Что? Рано тебе еще сюда? Ну, ладно, прилетишь попозже, а пока рассказывай всем, как здесь светленько, комфортненько и какой я добрый и светящийся… Смотри, не забудь всем рассказать, что здесь нет никаких демонов, адского огня; а только одна сплошная красота. А то вдруг начнут по непосвященности своей каяться, а нам, юморным, это совсем ни к чему…
…Григорий уже исповедался, Борис с Андреем разошлись спать, а я все пропускаю свою очередь и жду, может быть, придет все-таки старец. На часах уже пол-двенадцатого. Передо мной в истаявшей очереди остается один Саша. Вот он робко подходит к аналою, и батюшка склоняет к нему свою большую голову с высоким лбом. Они вполголоса говорят. Храм пуст. Мы здесь последние. Женщины протирают пол и чистят подсвечники. Вот Саша встает на колени, его голову накрывает епитрахиль, и вот он уже, шмыгая носом, опустив глаза, проходит мимо меня.
Я вздыхаю, крещусь и подхожу к батюшке. Перечисляю свои грехи под гулкие удары сердца и жар стыда. Чувствую себя последним человеком на земле, гадким и подлым; грязным, «аки свиния, во калу лежащая». Но с именованием каждого греха будто заноза выходит из сердца, и оно замирает в ожидании суда: простится ли? отпустит ли батюшка грехи именем незримо стоящего здесь Иисуса Христа?
Дальше, весь в испарине, поднимаю глаза, и меня будто обволакивает взгляд монаха, пронизывающий, видящий всю мою подлую душу до самого ее черного дна. Заикаясь, прошу разрешить мои вопросы. Он тихо спрашивает мое имя. Обращается ко мне, как к ребенку, бережно и с любовью. Он советует мне, как лучше молиться, как вести себя в семье, с друзьями и недругами. Походя, затрагивает вопросы, о которых я ему не говорил. Боже, откуда он все знает? Он видит меня насквозь, он видит весь мой путь с самого детства. Его тихие слова без малейшей доли осуждения проникают в каждую клетку моего мозга, в каждый уголок сознания, освещая все новые и новые греховные завалы. Я каюсь в том, о чем забыл уже давным-давно, но это, оказывается, терзало меня и гвоздями прибивало к грязной холодной земле.
Задаю вопрос о книге Даниила Андреева «Роза мира». В свое время эта книга очень сильно подействовала на меня. Мне казалось, что благодаря ей я и пришел в православие, поняв величие Иисуса Христа. Но во время чтения что-то постоянно настораживало меня в этой книге. В ней спокойно уживались на небесах все религии, у каждой имелся свой храм. Это никак не вязалось со словами о том, что никто не придет к Отцу Небесному, как только через Иисуса Христа.
Батюшка выслушивает меня спокойно и говорит, что ему часто приходится говорить с людьми, читавшими эту еретическую книгу. И все они отличаются одним свойством: сильнейшая гордыня и неуважение к Церкви. А это никак не соответствует смиренному духу православия. А что касается того, с помощью чего приходит человек к Богу, продолжает он, так иные приходят через блуд, вдоволь измаравшись и настрадавшись. Так что же, блуд благодарить?.. Это Господь Своим проведением любое зло оборачивает нам на пользу.
Долго я еще говорю с этим мудрым добрейшим монахом. Наконец, мою склоненную голову накрывает епитрахиль, и я слышу долгожданные слова разрешительной молитвы: все перечисленные грехи сгорают сейчас под этой полосой ткани с крестами. Батюшка допускает меня к причастию. Я гляжу на часы и снова удивляюсь: два часа ночи. Моя исповедь продолжалась около полутора часов.
Не чуя под собой ног, иду по тропинке от монастыря к скиту. Надо мной раскачиваются вековые сосны. На небе нет ни единой звезды, ночь окутывает меня темным покрывалом, а мне, очищенному от скверны, кажется, что вокруг сияет и переливается свет. Рука нащупывает в кармане деревянные четки и вдруг сама по себе Иисусова молитва начинает твориться моими устами: «Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя грешного!». Спать совершенно не хочется. Молитва продолжает твориться уже в уме. Я открываю тяжелую дверь общежития. Здесь послушник-вахтер стоит в своей будке, низко опустив голову перед иконами. Тихо, чтобы не помешать, прохожу в нашу келью. В темноте нащупываю свою кровать, раздеваюсь, ложусь и долго еще лежу в темноте, охваченный волнением и круговым движением молитвы. Наверное, светлые ангелы водят меня в эту ночь по небесным обителям…
Утром просыпаюсь под звон колокольчика и первая мысль — о литургии, которая сейчас начнется в храме. Выхожу из кельи, в тупике коридора разглядываю друзей, которые вместе с послушниками и строительными рабочими стоят на молитве. После утреннего правила некоторые уходят, остальные читают каждый свое. Хорошо здесь стоять со своими. Молитва идет не рассеянно, легко и радостно. Земные поклоны разогревают и прогоняют вялость.
Литургия снова уносит нас в небесные выси. Дьякон доверяет мне читать помянник — книжку с именами людей, поминаемых по запискам, поданным на литургию. Сотни имен, но не дай Бог хоть одно из них пропустить!..
Старец о.Илий ступает по расстеленной ковровой дорожке, и мы кланяемся ему, взявшему на себя тяжелое бремя старчества. Но как мощно и торжественно звучит под сводами храма наше всеобщее, соборное, в сотни голосов «Верую…»! Как сильно звучат голоса молодых и крепких монахов с длинными бородами. В страхе с ощущением величайшего таинства падаем ниц, когда священник призывает Духа Святого снизойти на хлеб и вино, претворяя эти рукотворные дары в Святые Дары причастия величайшей из тайн на земле. Сам Бог в это время снисходит в храм, во все храмы, где идет литургия. Сам Бог в это время здесь, в этих стенах, среди нас!
Причастие мы принимаем у старца о.Илия, к нему же подходим и на отпуст прикладываться ко Кресту. Седенький старец с ясными детски-чистыми глазами излучает светлую доброту и любовь. Руки его благоухают ладаном. Его заботливо поддерживает келейник. Следом за нами причащается и прикладывается ко Кресту и юный воспитанник Григория — бывший хулиган Саша. Тепло и свет от причастия разливается по всем уголкам тела и души. Это отражается на лицах. Мать со слезами умиления наблюдает судьбоносные метаморфозы сына и благодарно взирает на сурового бородатого моего друга.
Ну вот и подходит к завершению наше пребывание в Оптиной. Напоследок прикладываемся к святым мощам и иконам, ставим свечи, вкушаем просфоры, пишем записки у свечного ящика, заказываем молебны и сорокоусты. Мы уедем, а монахи будут молиться за нас и наших близких.
Меня всегда удивляла вот эта обыденность, с какой мы все приобщаемся к таинственной и светоносной молитве Церкви за нас, грешных. Вроде бы так просто: пишешь записку с именами, отдаешь ее на свечной ящик, кладут ее в пачку таких же листочков. А вот дальше… трудно даже представить себе, что происходит дальше. Имена эти зачитывают в алтаре во время литургии. За этих людей приносится бескровная жертва. Душа человека омывается Кровью Христовой. А имена их вливаются в мощную, могучую молитву, возносимую всей Церковью Христовой за всех и каждого.
Когда пишу свои записки, вспоминаю читанный где-то рассказ. Монах убирался у святых мощей и заснул. Является ему во сне почивший святой и просит: «Помяни на литургии моих родителей». Монах в страхе спрашивает: «Как же так, ведь ты возносишь свои молитвы у подножия престола Господня?». Тогда святой ответил ему: «Приношение на литургию сильнее!».
Мы с Григорием ожидаем Бориса с Андреем у автобуса. Рядом стоят паломники, а их экскурсовод, милая женщина, повествует о своей судьбе. Долго она уговаривала мужа обвенчаться, потому что нельзя православным супругам жить в невенчаном браке. И вот, когда они все же обвенчались, у мужа прошла язвенная болезнь желудка. В семье отныне царит мир и спокойствие. Дети их тоже венчались, когда нашли себе супругов. И теперь, когда назревает напряжение в семье, вместо скандалов и сцен они становятся на колени перед иконами и молятся. Вот так они разрешают теперь семейные проблемы.
Дальше наш путь лежит в Шамординскую женскую обитель, основанную самим преподобным старцем о.Амвросием. Андрей продолжает нам рассказывать об истории этих святых мест.
Усадьбу Шамордино завещала под женскую обитель послушница старца инокиня мать Амвросия (помещица Ключарева). После смерти матушки и наследниц в 1883 году усадьба преобразована в обитель в честь иконы Казанской Божьей Матери. Сюда старец посылал страждущих и беспомощных женщин. Для детей-сирот здесь был основан Шамординский приют, который любил навещать старец. «Пустите детей приходить ко Мне». К 90-м годам уже около пятисот сестер населяло обитель.
Здесь старец о.Амвросий жил с 1890 года до своей смерти 10 октября 1891 года. Траурная процессия с гробом старца сопровождалась тысячной толпой. Шел дождь, но свечи не гасли. По дороге из Шамордино в Оптину Пустынь у каждой деревни останавливались и служили литию.
После смерти старца обитель осталась без своего попечителя и прилива средств. Но вот, как и говорил при жизни старец, сама Царица Небесная приняла на себя заботу об обители: чайный торговец Перлов, бывший одним из духовных чад старца, видел во сне Божию Матерь. Она велела ему принять на себя попечение Шамординской обители, обещая помочь с чайной торговлей. Перлов после этого видения не жалел сил для помощи обители, куда потекли все средства от торговли перловским чаем.
В Шамординском монастыре мы заходим в храм. Сразу видно, что это храм женской обители: сверкающая чистота, уют, кругом цветы. Там четверо монахинь поют акафист Пресвятой Богородице. Но как поют! Их высокие чистые голоса звучат восторженно и умиротворенно, сладостно, как, наверное, ангельское пение в раю. Мы останавливаемся, боясь нарушить хотя бы шепотом это дивное пение. Стоящие рядом с нами паломницы достают свои платочки и часто прикладывают их к глазам. Я смотрю на монахинь, лицо каждой из них выглядит красивым, светлым и озаренным. Во время паузы Григорий подходит ко мне и шепчет: «Теперь ты понимаешь, чем монашеское пение отличается от сценического? Вместе с этими девочками ангелы поют!».
Подходим к матушке и в благодарность за эти неземные минуты вручаем свечу из Вифлеема и землю с Горы Блаженств, где Иисус Христос произносил Нагорную проповедь. Матушка очень обрадовалась нашему подарку, а мы — тому, что подарок понравился ей.
Затем садимся в микроавтобус и отбываем. Я отворачиваюсь к окну. Почему, теснится в моей головушке, лучшие девушки, нежные и чистые, лучшие юноши, мужественные и ясноглазые, уходят в монастыри! О! жестокий и грязный мир! Лучшие из лучших уходят от тебя, презирая твои ценности, и закрываются в стенах монастырей. Уходят, чтобы в этих крепостях, охраняющих саму жизнь человечества, гореть и сгорать в молитвенном пламени за грехи людские. Столпы света до небес, последняя надежда падшего племени адамова…
— Когда мы были молодыми… — задумчиво произносит Андрей голосом, которым плачут или прозревают. — Когда мы только вошли в храм… Какой чистой и горячей была вера наша! По ночам мы переписывали и читали слепые ксерокопии писаний Святых отцов, желали подвигов и мученичества за Христа. Рано утром, почти ночью, крадучись, чтобы КэГэБэшники не засекли, мы ходили причащаться. И каждое причастие — это как победа! …Как ступенька в небеса! Любую копейку несли в храм, отдавали нищим, совершенно серьезно считая, что за каждым нищим стоит Сам Христос. Как горячо мы убеждали наших неверующих друзей, что нашли, нашли Истину. А теперь мы …как латиняне какие или протестанты. Скрещиваем веру с нефтью…
— Мазутом уже, между прочим…— уточняет Борис.
— …с пьянством…
— Да завязал я уже… — бьет себя в грудь Григорий.
— …с чиновничеством…
— Вспомнил, тоже мне! — это уже я ворчу.
—…с блудом, с тусовками… Нет, нет, не завязал я, не завязал… Говорят, нет ничего общего у Бога с сатаной — есть оказывается! Это мы сегодняшние. Все нажитое и завоеванное растоптали, растеряли… Миллион разменяли на пятаки. Что там миллион поганый! — вечность небесного блаженства на помойный рай на земле. Причем, не дает нам и не даст Господь насладиться этим земным раем, по любви Своей не даст. А мы все рвемся и лезем туда, дурные…. Будто билет в Царствие небесное у нас уже в кармане. Ну, что за расслабуха такая у нас, а, отцы?.. Не пора ли нам восстанавливать порушенное! Пора.
Технология производства дамасской стали
Этот монах на станции метро — как пощечина мне каждое утро. Ну, что тут необычного: стоит себе тихонько смиренный молодой мужчина в бороде и рясе с ящиком для пожертвований и даже глаз на прохожих не поднимает. Что в нем так сильно возмущает меня? Ничего. Ровным счетом ничего. Причин видимых нет. Меня же, как приближаюсь к этому месту, так заранее крутит всего.
— Преподобный Сергий запрещал монахам просить милостыню: не протянутая рука, а молитва должна кормить монахов, — зудит во мне ворчливый голос.
— И церковные власти запрещают побираться монахам, — вступает следом другой.
— А ты сам попробуй постоять здесь: один среди толпы, не по своей воле, а по послушанию, зная, что многих раздражаешь, — заступается третий.
Ломая себя, порой стиснув зубы, кладу деньги в ящик и получаю тихое «Спаси, Господи» с легким поклоном. Его смирение еще сильнее возмущает меня, и только самоукорение и сосредоточенная Иисусова молитва не без труда возвращает подобие покоя в душе.
Это происходит почти каждый день в течение месяца. Понимаю, что участвую в невидимой битве, только на чьей стороне — пока неясно.
Однажды он исчезает. На его месте сонная женщина продает зонтики. И вдруг мне стало так одиноко, будто лучший друг уехал. Всю неделю, каждый день проходя по этому месту, ищу глазами монаха и огорчаюсь, не находя его. Оказывается, мне его уже не достает. Каждый день, проходя мимо «монашеского места» произношу: «Ну, где же ты, брат мой смиренный?». Только через неделю он появляется и как ни в чем не бывало стоит в своем простенке между встречными потоками идущих людей. Я подхожу к нему и почему-то готов обнять его, только вместо этого молча сую в прорезь ящика смятую вчетверо купюру и продолжаю движение. Про себя произношу: «Помоги тебе, Господи, брат мой», и на душе светлеет.
Вечером на исповеди прошу прощения у священника за то, что иногда беспричинно раздражаюсь на него. Это как-то накатывает волнами. И знаю, что не мое это, а противно становится, будто грязью мараюсь. Он меня прощает, и ухожу от него с легким сердцем. По дороге домой говорю со знакомым, и он признается, что иногда брань с духовным отцом у него доходит до взаимных обид, а его самого буквально истощает. На прощание он произносит ключевую фразу:
— Ты знаешь, ведь когда священник или монах читает Иисусову молитву, да и вообще постоянно молится, он более, чем мы, защищен от нападок зла. Тогда нечистый атакует его через ближних и духовных чад: ведь мы слабее и легче поддаемся агрессии зла. Для нас, слабых, это своего рода мученичество.
Вхожу в метро, и на ум приходит моя брань с монахом. Там, в подземке, среди толп народа он находится под покровом послушания и своей молитвы. Видя его неприступность, лукавый озлобляет на него людей и через них мстит монаху. …И я, раздражаясь на него, тоже включаюсь в эту агрессию и становлюсь на сторону зла. Слава Богу, что я не выплескиваю раздражение на него, а всеми силами гашу темную волну молитвой. Но если возмущение во мне происходит, то значит, я сочетаюсь мысленно с греховным предложением слева и нахожусь на полшага от пленения. Да, что-то расслабился я совсем… Надо щит и меч держать всегда наготове. Враг слабости не прощает.
Эта мысль зажигает желание молиться, и я приступаю к Иисусовой молитве. Вагон переполнен, меня толкают, рядом громко разговаривают, но всеми силами удерживаю внимание на словах молитвы. Мало-помалу, как ржавое тяжелое колесо, раскручиваю это спасительное круговращение, и молитва сама начинает помогать мне.
В двух метрах от меня раздается крик, начинается возня и вспыхивает драка. Когда двое дерущихся на секунду расходятся, я оказываюсь между ними в перекрестии злых взглядов и ядовитых струй выдоха. Молитва моя не прерывается, может быть, поэтому я так спокоен. Мгновенно остывают и смягчаются драчуны. Лишь когда распахиваются двери, и один из них выходит, второй ему вдогонку посылает совет не пренебрегать закуской, что, на мой взгляд, вполне разумно. Второй садится, пожимает плечами и сам себя спрашивает: «И чего это мы с ним сцепились? Сам не пойму. Чушь какая-то…».
В сей миг триумфа у меня в душе вспыхивает неожиданно мощный всплеск самодовольства. Я кажусь себе духовным суперменом, великим подвижником, гениальным молитвенником! …И получаю резкий удар жестким пластмассовым чемоданом по коленной чашечке. Острая боль обжигает до самой макушки. Пока она сотрясает мою очень нервную систему, потихоньку остывая, — «слава Тебе, Господи!» — произношу мысленно сквозь немой стон. Боль со всего тела стекает в колено и поселяется там, при каждом шаге напоминая о себе. Так из нас, слюнтяев, выращивают воинов: огонь — удары молотом — вода…
Примерно так воспитывал меня в детстве отец. В основном, во время отпуска. В те кукурузно-энтузиазные времена начальники работали с семи утра до десяти-одиннадцати вечера, поэтому отца видел я редко. Зато в отпуске процесс моего воспитания доходил до предельного накала. Немного приглядевшись ко мне где-нибудь в районе Черного моря, отец замечал в моем поведении недостатки и приступал к их исправлению.
Как-то раз на сочинском пляже меня грубо толкает в воду мальчик на голову меня выше. Я бегу жаловаться отцу, мол, чадо твое бьют, защити, папуля. На что отец, не отрываясь от толстого исторического романа, спокойно произносит:
— Вернись и дай ему сдачи. Так надо.
— Ага, он больше меня и сильней… — ною в ответ.
— Иди и без победы не возвращайся, — полушепотом произносит он, глядя мне в глаза поверх очков. Затем, снова погружаясь в книгу: — А то ведь и я добавлю…
Во мне вздымается такая волна стыдливой обиды, что она перехлестывает страх. Закусив губу чуть не до крови, бегу на волнорез, где мальчик ловит крабов крючком из щелей. Подхожу к нему и стучу его по загорелой спине. Он, ухмыляясь, поднимается во весь рост, нависая надо мной. «Победа или смерть!» — мелькает в голове воинский клич, переплавляя энергию страха в отчаянную смелость. И мой противник получает сильный удар в живот, перегибается пополам и со стоном сворачивается у моих ног.
— Может добавить? — интересуюсь на всякий случай.
— Уйди, дурак, больно же… — сипит побежденный.
Шагаю к отцу, а во мне фанфарами гудит победный марш. Он по-прежнему увлеченно читает. Вместо ожидаемой похвалы слышу: «Ладно, садись, отдыхай.». По его морщинистой впалой щеке пробегает тень улыбки.
Когда отец узнает, что я в свои шесть лет до сих пор не умею плавать, он за руку ведет меня на волнорез. Я рядом подпрыгиваю и спрашиваю, какому способу он меня будет учить: кролем или брассом? Отец подводит меня к краю волнореза, где глубина метра три, поднимает сильными руками и, как щенка, швыряет далеко в воду.
Я оказываюсь под водой среди белого кипения вихря пузырьков и, как поплавок, выныриваю, отчаянно работая руками. Глотнув воздуха, снова погружаюсь и снова выныриваю. Отец стоит рядом, опираясь на перила, но смотрит в противоположную сторону. Барахтаюсь в воде, взбивая вокруг себя белую пену. Страх и ужас чередуются с восторгом от того, что я плыву. Шумно, визгливо, по-собачьи — но держусь на воде и плыву! Когда мои руки касаются скользкого от водорослей камня, отец вспоминает обо мне и за руку рывком вытаскивает из воды на теплый ноздреватый бетон волнореза. «Неплохо для первого раза», — слышу под канонаду собственного сердца. И чувствую в себе победный рев фанфар. Когда звучат завершающие раскаты литавр, а гордость от достигнутых заоблачных высот вовсю распирает меня — отец повторно швыряет меня в воду, как щенка… К концу отпуска я плаваю, как дельфин.
Примерно так же учит он меня ездить на велосипеде. Сажает на новенький, сверкающий лаком «Орленок» — да и толкает с горки. И мне уже ничего не остается, как с помощью руля и педалей спасать юную, единственную, на самом взлете — собственную жизнь. К концу того солнечного воскресного дня я вполне прилично гоняю на велосипеде.
За неделю до моего первого, десятилетнего, юбилея отец замечает за мною стеснительность по отношению к симпатичным девочкам. Особенно к Оле Немчиновой, дочке главного инженера крупного завода, белокурой тихоне с загадочной улыбкой на ангелоподобном личике. Отец твердо выносит мне приговор: «Пока ты ее не приведешь к нам домой и не усадишь за чайный стол, на мои глаза не появляйся». Который раз вхожу в состояние, когда для меня проще умереть, нежели осрамиться перед могучим и правым отцом.
Вероятно, эта энергия воли к победе пронизывает мое поведение и вибрации голоса, потому что спустя три-четыре часа девочка, о знакомстве с которой мечтают все мальчишки нашей школы, сидит рядом со мной в нашей гостиной. Она аккуратно хрустит вафельным шоколадным тортом, маленькими глоточками отпивает чай из праздничных китайских чашек и обсуждает со мной книгу «Робинзон Кукурузо» — полную веселых приключений историю летних похождений нашего ровесника в деревне. Родители торжественно объявляют нам, что в честь моего дня рождения намечается застолье, на которое можно пригласить всех, кого мы с ней выберем. И вот мы уже составляем список.
Отец сдержанно хвалит Олю за то, что она постоянно держит спину прямой, намекая на мою, вечно сгорбленную. И девочка рассказывает, как ее папа, заметив, что ее осанка начинает портиться, заказал плечевой корсет, да еще заставил маму вшить изнутри вдоль позвоночника колючки. Как только Оля расслабляла мышцы и начинала горбиться, в ее спину вонзались колючки, и она выпрямлялась. Так со временем прямая спина и стала ее нормой. Отец внимательно ее выслушал, а на день рождения подарил мне корсет с аккуратно вшитыми колючками.
Мама в нашей семье занимает место, в полной мере соответствующее ее замужеству, — за широкой спиной мужа, моего отца. Не могу вспомнить ни единого случая, когда бы она проявила самоволие. Слово отца для нас — альфа и омега. От него исходит инициатива, к нему приходят советоваться, зная, что он всегда прав; и окончательное решение всегда выносит только он. Может быть, поэтому он говорит всегда взвешенно, иногда после долгих раздумий. Но уж если слово отца сказано, ни у кого не появляется желания перечить: оно имеет силу закона. Так было в семье деда, и также строятся отношения в нашей — по традиции, опираясь на патриархальный опыт многих поколений. Может быть, поэтому будущую супругу выбираю похожей на маму.
К старости отец с каждым годом становился все более смиренным. Подолгу молчал, задумчиво глядя на небеса. В его советах звучали нотки всепрощения, любил он рассуждать про абсурдность силы и агрессии, часто просил прощения и плакал. Он не дошел до храма Божьего, но проложил дорогу для меня.
Трудовые будни
Строительство детского сада Летно-испытательной базы. Раннее утро. До начала рабочего дня еще полчаса. Поздоровавшись с народом, пожав руку заказчику Михалычу, сажусь в своей бытовке за стол и заполняю журналы. Входит и присаживается Костя. Разворачивает сверток, режет ножом сало и расточает на всю прорабскую чесночные ароматы. Утолив свой приступ голода, отрезает тоненькую пластинку сала, кладет на кусок ржаного хлеба и протягивает мне:
— И без разговоров! Я уже язвенник, а ты прораб. Поэтому следующий за мной. Вот так.
— Благодарю. Только можно вопрос? Почему не творог, сметану, там, кашку-малашку, но сало?
— Поживешь с мое… Сало — оно обволакиваеть там все внутри. Смазываеть. Понял?
— Тогда последний вопрос: почему у меня, а не в своей бытовке?
— А там Хохол может войти. А для него сало — как для нас водка. Аж весь дрожит! Спасибочки. Пойду, значить.
— Счастливо, Константин Григорьевич.
— Бывай.
Звонит телефон.
— Дмитсергеич, я только со «Встречи», — бодро сообщает Фомич. — Так что молод и свеж! Приезжай, Тонька исстрадалась по тебе. Вот. Новый афонаризм. Слушай. «Расставляй пока шахматы», — бросил он через плечо Мерилин Монро». Каково?
— Гениально! — выдыхаю в трубку, не отрываясь от журнала по технадзору.
— А вот это? «А юбочку-то придется удлинить», — сказал начальник кадров шотландцу».
— Эх, Фомич, какие перлы нам, негодным, расшвыриваешь… Ты бы их записывал, что ли?
— Да ладно, у меня их по сотне на день. Особенно на волне утренней свежести. Или вот. «Ой, я больше не могу!» — стонал он от хохота, увидев второй отогнутый палец».
— Неплохо, — улыбаюсь, записывая температуру в журнал бетонных работ.
— Ко мне тут гости. Напоследок: «От терний — к звездам», — рассуждал он, жуя верблюжью колючку». Все. Заезжай. Будь.
Заглядывает Михалыч и зовет «из камералки в натуру».
Вчера этот неугомонный «стимулятор», как его тут называют, спрашивал, почему не ведутся работы на кабеле и подстанции?
— Мороз, — ответил я.
— Что нужно, чтобы погодные условия не помешали?
Михалыч — лучший заказчик в мире. Фирма его до сих пор строит самолеты, также лучшие в мире. Для него нет ничего невозможного. Поэтому прикидываю, накидываю и говорю:
— Сто землекопов с ломами и прогрев сорока кубометров грунта.
— Завтра будет, — кивнул он сурово.
Теперь вот зовет, и это означает только одно: вчерашнее свое обещание он выполнил. А из этого, в свою очередь, следует, что работы у меня сейчас прибавится, а то, что запланировал на сегодня, придется отложить.
Выходим на чистый морозный воздух. Перед моей конторкой выстроилась «во фрунт» сотня заказанных мною землекопов в военной форме. На их румяных физиономиях читается удалая решимость раздолбить все, что нужно и еще чуть сверху. За ними стоят две страшные машины непонятного назначения с гофрированными хоботами, как я себе представляю, для прогрева грунта. Пытаясь не впадать в панику, подхожу к сержанту и веду его по трассе кабеля.
Суровый безусый мальчик, облеченный властью над людьми, «дед», впитывает каждое мое слово и тщательно запоминает расположение колышков, вбитых еще осенью, засыпанных листвой, снегом, а то и просто затоптанных в землю. Сквозь кустарник и окаменевший борщевик, засыпанные снегом, продираемся до подстанции. Спрашиваю, что непонятно. «Дедуля» только кивает. Спрашиваю, какая еще помощь от меня нужна. Никакой, мы всем обеспечены, следует ответ. Ладно.
Подхожу к автомобилям, спрашиваю одного из командиров расчета, что это за штуки. Тепловой дизельный турбовентилятор, отвечает, предназначен для прогрева замерзших авиадвигателей, температура воздуха из сопла — от пятидесяти до ста двадцати градусов. Зову Петра, веду сержанта на подстанцию, показываю, где и что отогревать. Петра прошу проследить и помочь. Поворачиваюсь, чтобы вернуться в бытовку — а передо мной уже стоит Михалыч и указывает на дорогу.
Там стоит автомобиль еще страшней первых двух — тот самый тягач, который на военных парадах возит стратегические ракеты по Красной площади. Этот мастодонт о двух головах, то есть кабинах, оказывается, нужен нам для того, чтобы вывезти с завода ЖБИ торцевую панель, которая не умещается на обычный панелевоз. Я с восхищением обхожу техсредство, обращаю внимание на выхлопную трубу диаметром с голову и сталкиваюсь с худеньким мальчиком в костюме цвета хаки. Его цигейковая шапчонка не достает до верха колеса, но этот парнишка и есть водитель громадины. Он садится в одну кабину, мы с Михалычем в другую, взрыкивает пятисотсильный дизель, и мы довольно резво для этаких габаритов выезжаем на трассу. Михалыч в своем сидении передо мной расслабляется по-научному, прикрыв глаза, я же наблюдаю за реакцией прохожих.
Наш автомобиль никого не оставляет равнодушным. Дети визжат от восторга и показывают на нас пальчиками, их мамаши столбенеют с открытыми ртами. Старики вытягиваются в струнку, демонстрируя подъем патриотизма и гордость за родные вооруженные силы. Инспекторы ГАИ, после возвращения на место своих тяжелых челюстей, уважительно пропускают нас вперед, тормозя остальных недомерков. Один молоденький «гаишник», заметив за рулем нашего великана такого же мальчугана, как он сам, натужно дует в свисток и машет ему полосатой палкой. Наш водитель реагирует на это резким выхлопом обильной порции густого дыма в его сторону, отчего инспектор скрывается из виду в облаке, похожем на гриб ядерного взрыва. При этом прыщавая мордашка нашего мальчугана остается абсолютно бесстрастной.
На заводе загружают нас, разумеется, без очереди, но в окружении всего рабочего коллектива. Неугомонный Михалыч в отделе снабжения договаривается насчет закупки бракованных панелей для строительства дачного товарищества. За-все-про-все он обещает сдать в аренду этот тягач на пару дней. На обратном пути я предлагаю ему услуги своей дачной спецбригады, на что он сразу соглашается.
Пока тягач разгружают, мы с Михалычем обходим объект. Сотня военных землекопов, раздевшись до гимнастерок, долбят мерзлую землю. Не отрываясь от манипуляций ломами, солдатики выпрашивают сигареты, ворчат что-то про «карандашей», которые шляются тут руки в карманы, проходятся насчет начальничков и невзначай посыпают нас осколками мерзлого суглинка. Судя по всему, к обеду они работу завершат. Я усиленно соображаю, где бы еще мне их использовать. Предлагаю «пробежаться по траншеям выпусков до первого колодца». Михалыч молча кивает, что означает гарантию выполнения и этой работы. Тепловые турбины во всю закачивают горячий воздух в здание подстанции. Все двери и окна аккуратно зашиты оргалитом. Рядом с подстанцией жарко, как в парилке. В радиусе десятка метров — весенние лужи. Михалыч остается стоять, заложив руки за спину и сурово сдвинув густые брови. Я продолжаю обход.
Костя хрипло требует от меня вынесения высотной отметки второго этажа. Я напоминаю, что он монтажник четвертого разряда и обязан с нивелиром работать самостоятельно. Тот улыбается и начинает философствовать на тему о распределении ответственности и сроков заключения согласно занимаемой должности. Выслушивая сколько лет и за какие преступления грозит мне получить в ближайшее время, я прилипаю к заиндевевшему нивелиру и даю отмашки Саше, таскающему рейку по всей монтажной площадке. Проверяю выставленные отметки красным карандашом по бетону колонн и вижу, что они легли на прежние, черные.
— А эти отметки кто выставлял? — интересуюсь.
— Геодезист, конечно! — отвечает Саша.
— Зачем тогда мои вам понадобились? — вопрошаю.
— А чтобы твою квалификацию проверить, — кричит Костя. — Га-га-га!
Пожимаю плечами и слышу откуда-то сбоку:
— Начальник! Обед уж скоро, а у тебя коренной еще не освежился. Тебе не стыдно?
Поворачиваюсь на голос. Это Саша-крановой вибрирует из своей стеклянной кабинки гусеничного крана.
— Зачем народ в заблуждение вводишь? Если б ты «не освежился», то даже забраться на свой агрегат не сумел бы.
— Умный ты у нас, Сергеич…
— Бережливый, в основном.
Крановой аккуратно присаживается на край сидения, откинув полы драпового пальто, как пианист фалды фрака, и пальцем пригибает к себе рычаг набора высоты. Кран дергается, тросы полиспаста натягиваются, и правые гусеницы отрываются от земли метра на полтора. Многотонная машина сейчас похожа на фигуристку на льду, задравшую ногу для входа в тройной тулуп. Так у нас отрывают от земли примерзшие плиты. Степаныч проходится ломом по краям плиты и с последним ударом резво отскакивает. В этот миг двухтонная плита взлетает вверх, гусеницы крана грохаются на землю, машину сотрясает, плита болтается туда-сюда в поисках зазевавшихся такелажников. Только опытные работники залегли уже по укрытиям, и плита, не найдя на этот раз жертвы, мало-помалу успокаивается. Никто на это хулиганство не обращает внимания. Кроме меня. Все это время я испытываю незабываемую смену ощущений: волны спинных мурашек, потом шевеление волос на голове; после чего на лбу выступает обильный пот.
— Нервным лучше покинуть территорию, — назидательно сообщает мне крановой.
— Желающим дожить до пенсии также… — продолжаю глубокую мысль.
Вздыхаю и возвращаюсь в свой офис.
В прорабской сидит Степан по прозвищу «Хохол» и смачно ест сало с причмокиванием и утробными стонами. Мой рот наполняется голодной слюной. Спрашиваю, почему здесь. Отвечает, что у них в бытовке может появиться Костя, для которого сало, как для него водка, то есть сразу повергает в малярийную трясучку. Ожидаю своей порции напрасно. Степан заворачивает остатки сала в пестренькую тряпицу и молча выходит. Потом возвращается и поясняет, что сало для моего организма крайне опасно, потому что портит желудок, а он у меня просто обязан быть больным, как у всех прорабов. В завершение предлагает мне сесть на молочную диету и, протяжно сыто рыгнув, удаляется. Смотрю на часы. До обеда еще сорок минут. Кушаю воду и сажусь за документы.
Через несколько минут ощущаю приближение к левому уху нарастающего стрекота. Ему сопутствует тревожная радость. На языке появляется абрикосовая цианистая сладость. Голова слегка кружится, и мысли расплываются. Ничего хорошего от всего этого не ожидаю. Скорее всего, я уже принял гордый помысел и сейчас мне придется нести расплату. Устремляю вопрошающий взгляд в красный угол и вижу глаза Иисуса, необычайно мягкие сегодня. Обычно в них читается царственная строгость Вседержителя. Сейчас из глубины зрачков струится отеческая всеобъемлющая доброта. Рука моя творит аккуратное крестное знамение.
В душе начинается борьба. Один голос тихонько сообщает мне, что пора на обед и вкусненько закусить, ты, мол, сегодня очень даже это заслужил. Другой голос также ненавязчиво предлагает отложить обед на неопределенный срок, зато получить нечто большее, чем пища для тела. И я, кажется, начинаю понимать, что мне предлагается. Тревожно-радостный голос снова лебезит передо мной, напоминая, что сейчас начнут один за одним заходить люди и все разрушат. Так что лучше не начинать, а пойти в уютный ресторанчик и утолить голод. Другой голос уверенно обещает, что никто мешать не будет, уж это он возьмет на себя.
Ладно, решаюсь я, молитва всегда лучше пищи для тела, да и чувство голода уже не так беспокоит. Видимо, обещание моего верного небесного стража уже выполняется. К тому же эта сладкая тревога грозит чем-то нехорошим. Не знаю пока чем, но с этого обычно начинаются неприятности. Поэтому нелишне оградиться крестом и молитвой.
Встаю лицом к иконам, всматриваюсь в лики, впитывая в себя исходящий от них неземной покой. В последний раз сильнейший вихрь множества забот с их подробным описанием проносятся во мне, но, не найдя ответа в моей душе, уносятся прочь. Сейчас я поглощен только одним: вслушиваюсь в необычайную тишину. Словно зеркальная гладь озера разлилась вокруг. И этот покой зовет к созерцанию. Очень осторожно и медленно произношу: «Во имя Отца, и Сына, и Святого Духа. Аминь». Дальше слова молитв сами всплывают из глубин памяти и напевно, едва касаясь гортани, текут сладким покойным потоком наружу, возвращаясь через слух внутрь сердца. Я стою в центре этого величественного круговращения ожившего слова и проживаю каждый звук всем существом. Мне открываются удивительные глубины, недостижимые мной никогда до этого мгновения. И там, в центре сердца, нарождается и, разрастаясь, заполняет всю мою вселенную великий плач покаяния.
«Господи, Отец небесный, услышь вопль наших душ окаянных, катящихся горохом в ревущее адово пламя. Всю свою жизнь служим Твоему противнику, с услаждением принимая от него приглашения на грех. Мы, как цепями, скованы страстями своими. Но вместо освобождения, все новые цепи надеваем на себя. Из греха во грех всю жизнь свою идем навстречу смерти. Ты вызвал нас из небытия и дал нам жизнь вечную, очистил огнем крещения, дал ангелов Своих для охранения и назидания. Только в помрачении своем не видим небесного, не слышим ангельского, не верим в Твой промысел и в силу Твоей защиты. Как свиньи подрываем корни дуба, который кормит нас.
Но, Господи, прости нам это помрачение! Мы все равно любим Тебя, если не Самого, но Тебя в отражениях Твоей любви к детям Своим глупым и непослушным. Все мы любим небо Твое голубое и солнышко Твое золотое, цветы и деревья Твои, украшающие нашу серую жизнь, снежок белый, укутывающий мерзлую землю. Все зачарованно замираем, видя радугу — завет Твой между Небом и подножием ног Твоих, по которому ходим. Чистые и добрые души детей и стариков передают нам радость от их близости к Тебе, которую они ощущают. Все мы тянемся к доброму и светлому, но страшимся и отвергаем зло и тьму. И все Ты даешь нам по любви Своей — богато и невзирая на лица.
Мы даже не в силах представить себе мира, в котором нет Тебя. Ведь Ты всегда с нами, внутри и вокруг нас. Как это жить без Тебя, Господи? Как это не видеть света Твоего, не греться теплом Твоим, не дышать воздухом Твоим, не питаться едой Твоей — этими вещественными символами любви Твоей? Как не иметь надежды, веры и любви, которыми Ты оживляешь души наши? Все мы Твои, Господи, зная или не зная того. Тобой родимся, Тобою живем, к Тебе идем, Тобою принимаемся и после смерти.
Господи, я малый и недостойный один из сынов Твоих. Я — ничтожная песчинка в беспредельном океане Твоей любви. И если Ты дал мне возможность любить людей Твоих и молиться за них, то несомненно для того, чтобы простить и помиловать всех нас. Поэтому и стою сейчас перед Тобою. Поэтому и молю Тебя, милостивый Владыка Небес и Земли.
Прости нас, Господи, и за дела наши, и за мысли, и за мечты греховные, но только по милости Своей, как Отец глупых, обманутых и непослушных детей Своих. Не помяни наши помрачения и зло. Но узри в глубине душ наших то наше чистое босоногое детство, от воспоминания которого у каждого теплеет в душе. Прими за молитву к Тебе наши любования красотами вселенной Твоей. Мимолетные улыбки радости всему светлому и чистому — прими за славословие наше, Тебе приносимое.
Я встречал множество людей, Господи. Разные они, как разным и я бываю на каждый день и час. Но не встречал я еще людей, в которых нет тяги к любви, свету и радости. Все мы хотим быть хорошими, только по-разному понимаем это. Только ты, Господи, все понимаешь и знаешь истинно, только Тебе доступны самые потаенные движения душ наших. Под слоями грязи и лжи, под самолюбием и самообманом — узри, Господи, в самой глубине наших сердец ту частицу Себя Самого, которую Ты вложил в нас для жизни вечной. Этой дивной тайной живем от первого дня до последнего.
Ну, посмотри на нас, Господи! Вот мы все — перед Тобой. Посмотри на этих солдатиков, только вчера оторванных от мам своих. Два года их будут мять и прессовать, бить и издеваться над ними. Пожалей их, Господи, и помоги. Посмотри на Костю и Степана, на Петра и двоих Александров — это же дети. Они любят пошалить, как дети, пошутить. Их игрушки весят многие тонны, но для них это те же игрушки. Как выжить им в этом жестоком мире без этих грубоватых шуток, без того, чтобы радоваться любой малейшей возможности пошутить да посмеяться. Не суди их строго, Господи. А Михалыч… Ведь это находка в любом большом деле. Такие люди работают, не жалея себя. Ведь он больной насквозь: и почки с камнями, и нога сломанная болит в непогоду, и сын его пьет, а внук ручку недавно сломал. И он все это смиренно носит в себе, Господи! Для кого он сейчас все это делает? Не для себя же… Все для людей. Все для детей этих людей.
Вот они перед тобой, Господи, люди, которых Ты дал мне любить и молиться за них. И даешь мне понять, что эта молитва неумелая угодна Тебе, нашему Отцу и Создателю. И если я всей своей грешной страстной душой жажду прощать и любить их, то как же Ты, Господи, принявший за нас смерть крестную, желаешь им Своего милостивого прощения.
Сейчас… В этот самый миг я готов умереть за них, за каждого из них. И если Ты хочешь, то дай мне сейчас, пока я в силе этого моего решения, дай мне мученическую смерть за них, ради их спасения.»
Стою в полной тишине. Абсолютно один во всем мире. Один на один с великой и непостижимой Любовью. И совершенно серьезно жду смерти… Если сейчас, в этот миг придет она в облике вполне конкретного человека, я не удивлюсь, только попрошу несколько минут для последней покаянной молитвы.
Я стою и жду смерти. И нет ничего ни во мне, ни вокруг — кроме всезаполняющей, всепрощающей, всемилующей Любви. Я мало что понимаю в этой жизни. Больше того, я почти ничего не знаю. Только вот сейчас, в этот миг, протянувшийся в вечность, я совершенно отчетливо понимаю, что мы все прощены. Все люди — все до единого — которые уместились в моей душе, все, кто хотя бы мимо проходил и запечатлелся в моей памяти, все, которых знаю с детства — «…всех православных христиан», которых объяла через меня эта безмерная Любовь! — прощены, потому что так пожелал Сам Творец прощения.
Стою в полном безмолвии и проживаю эту непостижимость. Где-то там, в моей бесконечной глубине частицы духа Господа моего, горит невещественным огнем моя нижайшая благодарность. Она не выплескивается наружу, а живет в центре моего безмолвия. Я боюсь пошевелиться, хотя тела своего почти не ощущаю — оно легко, как воздух. Боюсь неверным движением души разрушить это великое безмолвие тишайшей радости слияния с отеческой любовью Творца всего и вся…
Но вот потихоньку ощущение Присутствия тает. Я наполняюсь тяжестью, усталостью и легким сожалением. Приходят звуки, движения, тени и запахи. Я возвращаюсь в прежний свой мир. Только чувствую, что мы с ним изменились. Стало светлее.
Выхожу на улицу и иду мимо работающих людей. Горят прожектора. Кажется, рабочий день уже подходит к концу. Никто меня не тревожит, будто я невидим. Вот появились первые улыбки на лицах: меня приветствуют, утешают: не волнуйся, все хорошо. Действительно, все хорошо.
Заезжаю на один из объектов «малого строительства». Дивная природа этой местности разительно контрастирует с нравами, царящими среди здешних обитателей. Бывшие чиновники ЦК, министерств, нынешние бандиты и воры — таков местный социум. И если стареющие партократы ветшают в своих развалюхах и завистливо ворчат на процветающих более молодых соседей, то последние своей пассионарной наглостью все активнее давят на чинуш и вытесняют их с теплых мест.
В семье, для которой мои ребята воздвигают огромную пристройку к дому, все эти процессы происходят внутри. Юрий Семёнович, снабженец министерства и глава рода, пытается поучать своего дитятю Семена Юрьевича, Сёму, руководителя фирмы с явным криминальным уклоном. Это приводит к ежедневным ссорам, свидетелями которых становятся мои ребята. Юрий Семёнович пытается разделить с Сёмой также руководство строительством. Сначала мой Максим нервничал от двоевластия и противоречивых указаний, но потом научился использовать это в своих интересах. Когда, например, один спрашивает, почему договаривались ставить стены в два кирпича, а он кладет в полтора, Максим вместо изложения собственных соображений об экономии и ускорении работ говорит, что так ему сказал другой заказчик. Пока те ругаются, Максим заканчивает стены и переходит к перекрытиям.
Сооружение это называется скромно — «пристройка к дому». Но если сам дом — одноэтажная избушка сороковых годов, то пристройка трехэтажная, учитывая подземный этаж, сделанный по всем правилам бомбоубежища. Предназначено подземелье под склад продовольствия на случай, должно быть, войны или голода. Чтобы получше рассчитать высоту стеллажей наши заказчики специально обмеряли ящики с тушенкой, коробки с маслом и мешки с крупами. Я им в шутку предложил предусмотреть баллон со сжатым воздухом и емкость с водой, а также сделать подземный ход к реке, на что они глубоко задумались: «а, может, и правда?..».
Прохожу по стройке с Максимом, записывая все его просьбы в блокнот, а следом плетется Юрий Семёнович и ворчит. Я вслух нахваливаю качество работ и продуманность планировки, а про себя молюсь благоверному князю Юрию. К нашему шествию примыкает еще один старичок, похожий на нашего ворчуна. Этот больше молчит и успокаивает первого, напоминая о сердце и печени. Потом он зовет нас «перекусить». Мы садимся за стол, я мысленно читаю молитвы перед вкушением пищи и глазами крещу еду на столе. Тоже делает и Максим. Второй старичок — младший брат Юрия Семёновича, зовут его Петром Семёновичем. Его вызвали из южного городка помочь со строительством. Помощь его, как я понимаю, заключается в приготовлении пищи и присмотром, чтобы мои орлы чего не стащили.
Чтобы прервать ворчание старшего брата, заговариваю с Петром Семёновичем. Он воевал, потом работал в школе учителем физики. В отличие от старшего, Петр Семёнович спокоен и мягок, провинциально застенчив. В глазах его кроется печаль. За столом услужлив, вскакивает и приносит из буфета солонки и перец, подает салфетки, подливает супчика. Он вызывает во мне все большую симпатию, и я в разговоре с ним проявляю знаки уважения и почтения. Юрия Семёновича это почему-то раздражает, и он с ворчанием покидает стол.
Видимо, Петру здесь, среди москвичей, одиноко и не по себе, поэтому он легко отдается беседе, согревая нас добротой. Понизив голос до полушепота и оглядевшись, рассказывает, как во время войны танк, в котором он служил радистом, подожгли. Экипаж стал задыхаться от густого черного дыма. Командир запретил выбираться наружу, потому что их обстреливали пулеметчики. Пытались затушить огонь — не получилось. Пока были силы, отстреляли весь боезапас. Первым упал замертво командир. Стрелок открыл люк и пытался выбраться, но был прошит насквозь пулеметной очередью. Остались они вдвоем с механиком Колей — простым деревенским парнем, трактористом. Вдруг Коля взмолился своему небесному покровителю Николаю Чудотворцу: помоги выжить! Осенил себя крестом и выбрался наружу, вытащив следом полуживого радиста. Как они выбрались из окружения, Петр не помнит, но когда ему становится очень плохо, он обращается к святому Николаю и святой всегда ему помогает.
— Я понимаю, вам, наверное, удивительно слышать это от старого «коммуняки», — Петр Семенович застенчиво улыбается в усы, опустив глаза, — только факт, как говорится, остается фактом. Я остался живым благодаря святителю Николаю Чудотворцу… — прижимает палец к губам и шепчет: — Только никому.
В это время во двор въезжает белая «БМВ» Сёмы. Он выходит из машины и приближается к нам. Сует мне для пожатия вялую ладошку и усталым голосом спрашивает, не замучил ли нас придирками его папаша.
— Да нет, что вы, мы находим общий язык, — успокаиваю его.
— В случае чего жалуйтесь мне. Пока еще это на мои деньги строится.
— Думаю, до жалоб дело не дойдет, — сообщаю миролюбиво. — Все-таки мы не халтурщики, а профессионалы, и дело знаем. Не волнуйтесь, все сделаем по высшему разряду.
— Выпить хотите?
— Простите, на работе не пьем.
Эта новость изумляет Сёму, потому как он уже протянул руку к бару, чтобы налить себе аперитив. Выходит, ему придется пить в одиночку. Тут на помощь ему приходит Петр Семёнович и соглашается поддержать компанию. Юрий Семёнович застает двух выпивающих сородичей и нас с Максимом, изучающих чертежи. Начинается родственная перепалка. Мы продолжаем работать.
— Дядя Петя, суп — это не варенье, зачем ты столько душистого горошка кладешь?
— Сёма, так повынай его из тарелки. Та дай я тебе помогу.
— Ой, уйди, лучше налей еще, мне нужно расслабиться.
— Я тебе дам расслабиться, Сёма! Что люди подумают?
— Папа, не встревайте вы, это не склад линолеума.
— Тот склад, Сёмик, нас всю жизнь кормил, ты его уважать должен.
— Хватит уже, папа, про ириски за семьдесят копеек, надоело.
— А ты маленьким так их любил…
Разговор с прекрасной дамой
Как обеденный перерыв, так занимаешься чем угодно, только не законным приемом пищи. Обычно именно в обед привозят централизованные грузы, и наезжает начальство. Несколько дней подряд я остаюсь в обед голодным и обруганным, поэтому сегодня в полдень решительно ухожу с объекта и, быстрым шагом преодолев квартал, останавливаюсь, Несколько раз вдыхаю-выдыхаю свежий морозный воздух и медленно шагаю в ресторанчик «Наташа».
Здесь за стойкой полулежит скучный толстый грузин, который заметно оживляется при моем появлении. Я здесь уже не первый раз, но ни Наташи, ни какой другой женщины здесь не видел. Неспешно советуюсь с ним, что мне заказать, зная, что это крайне важная процедура для грузин, особенно работающих в пищевом бизнесе, особенно не избалованных клиентами. Присаживаюсь за деревянный стол и пытаюсь успокоиться, медленно читая Иисусову молитву. Звенит колокольчик на двери и входит моложавая дама с прямой спиной. Она нерешительно оглядывается и сизой тенью проскальзывает за мой стол. Замечает мое присутствие и полушепотом спрашивает:
— Я вам не помешаю?
— Что вы, нисколько, — успокаиваю соседку и ненавязчиво ее оглядываю. Ей на вид лет за тридцать, ухожена, застенчива, рассеянна.
К ней подбегает грузин, благоухающий кухонными запахами, оживленно принимает заказ и скрывается за ширмой. Дамочка нерешительно крутит обручальное кольцо, поднимая на меня и опуская глаза. Когда я убеждаюсь в ее желании поговорить, спрашиваю:
— По всему видно, вы здесь случайно?
— Да, тут приезжала в гости к подруге, но получилось так, что даже чаю выпить не удалось, — она поднимает глаза и долго буровит мои зрачки. Глаза у нее светло-серые с прозрачной голубизной. Она порывисто вздыхает и выпаливает: — Вот вы мне не скажите, что творится с людьми? Почему все стали такими злыми и холодными?
— Насчет всех я не стал бы утверждать. Хотя, конечно, вы правы, в период кризисов в людях ярче проявляется скрытое в них добро и зло. — Да, печально, — кивает она головой, снова пытая меня своим водянистым взглядом. Потом выдыхает: — Татьяна.
— Весьма тронут. Дмитрий, — киваю в ответ, не дождавшись протянутой руки. Ее ухоженные пальцы по-прежнему заняты обручальным кольцом.
— Как вы думаете, Дмитрий, откуда вообще взялось в нас это зло?
— Если попробовать спокойно взглянуть в свою душу, то без труда можно обнаружить там и убийцу, и насильника, и грабителя, и лжеца. Все в нас. В зачаточном или в развитом состоянии — но имеется. Чтобы победить зло, надо его уничтожить в самом себе — так мы нанесем удар вселенского масштаба — весь ад содрогнется, а небеса возрадуются этой победе одной единой души. И зло внешнее не подступится к вам. То есть оно будет продолжать свой разгул во вселенной, но вас это не затронет. Вы будете ограждены невидимым, но ощутимым щитом.
— Вы сказали, что вселенная содрогнется. Это что же, из-за одной моей душеньки? — улыбнулась она.
— Ну, да. Потому, что цена души человеческой неизмерима. Если на одну чашу весов положить все сокровища вселенной, а на другую одну вашу душу, то она перевесит все эти драгоценности, золото, каменья, дворцы и …прочую недвижимость. Потому что в самой глубине вашей души есть некая частица — дух называется — в которой живет Сам Творец вселенной. А Он и есть податель и хозяин всех ценностей, стало быть, самый богатый и великий.
— Это как же Он там вмещается?
— Что невозможно человеку, все возможно Творцу его. Для Него нет масштабов, координат, времени, границ. Он везде и всюду, объемлет весь космос и внутри малейшей частички, одновременно во всех временах со всеми людьми, жившими и еще не родившимися. Правда, понять это мы пока не можем, потому что после грехопадения наши возможности познания сильно повредились. Мы за последние семь с половиной тысяч лет здорово сдали. Сравните, Адам жил более 900 лет — мы же в пятьдесят уже старики.
— Слушайте, Дима, а почему, собственно, лично я должна отвечать за грех какого-то допотопного предка? Он согрешил тысячи лет назад, а расплачиваюсь я и сейчас?
— Вот вы, Танечка, сейчас и повторили его грех, тем самым подтвердив свою причастность к нему. Что сказал Адам, когда Бог его обличил? Он сказал, что меня соблазнила жена, которую Ты, Бог, сотворил. Ты, мол, ее сотворил, Ты и виноват, а я ни при чем. Вот если бы Адам покаялся в тот миг и попросил прощения, то его сразу бы простил Отец. А он: я не виноват. Да и потом мы все едины, как один организм, состоящий из разных органов и частей.
— А если я не хочу отвечать перед Богом, быть с кем-то единым и нести за всех ответственность. Я — это я, и все!
— Первый, кто так сказал, был могучий и прекрасный архангел Люцифер. За такие вот слова он потерял Божью благодать и стал черным, вонючим и злым, и называют его сатаной, то есть противником. Потом Адам… Ну, а потом все, кто попали в ад на мучения. Так что если вам, Танюша, не нравится зло и не хочется в ад, вы уж, пожалуйста, так не говорите. В таком вопросе каждое слово очень ответственно, оно буквально может перевернуть всю жизнь. Все мы согрешили, все мучаемся, всех нас Бог любит и хочет вернуть в наше первозданное состояние. Для этого Творец вселенной принимал человеческий облик и жил на земле. Для этого Своей добровольной смертью на кресте искупил грехи всего человечества. Для этого основал и оставил после Себя Церковь, в которой мы спасаемся от зла и готовимся к вечной жизни в Царстве Божием, где нет зла, но вечная радость и блаженство.
— Я, Дима, бываю в церкви. Но мне еще ни разу не удалось поговорить с попом. Там еще надо платок носить, юбку надевать, бабушек всяких выслушивать… Скучно все это!
— Ну, все ваши недоумения легко разрешимы. Делаете же вы различия в стиле одежды, скажем для пляжа и театра. Примите и это церковное отличие в одежде и образе поведения. Это же Дом Божий. В алтаре — престол, на котором восседает Вседержитель вселенной. К тому же есть доступные объяснения всем церковным правилам. Например, платок на женской голове — символ смирения, без него женщина просто не существует для ангелов храма, невидима. Для общения со священником имеется определенное расписание служб, приходите, становитесь на исповедь и говорите. Если нужно выяснить что-то очень серьезное, то лучше в монастырь съездить.
— Не люблю монахов, — помотала она головой. — Мне они кажутся эгоистами, сбежавшими от трудностей жизни.
— Очередное заблуждение. Чтобы прекратить жизнь во вселенной нужно просто всех православных монахов уничтожить. И все… Потому что на молитве монахов весь мир пока и держится. Монах вступает в бой со злом. Истекая кровью и слезами, убивает в себе всех врагов. Очищается в огне страданий, становится угодником Божиим и своими молитвами, подвигами спасает от ада тысячи людей. Да и как можно не любить то, чего не понимаешь, и не знаешь? Поговорите с монахами, побольше узнайте о них из православных источников, и вы поймете, что их образ жизни — равноангельский. И великий подвиг. И вообще, если что-то вам в Православии не понятно, это не значит, что это неправильно. Это значит только то, что вам это пока не доступно. Поверьте, Танечка, и у меня были точь-в-точь такие же вопросы, заблуждения и недоумения. Через это проходят все искатели истины. И вот сейчас я утверждаю, что в Церкви православной — все гармонично, логично, разумно, прекрасно и свято. И если что-то в православных храмах нам не нравится, то не Церковь Христова тому виной, а мы с вами. А что касается ваших дальнейших вопросов, то могу их даже подсказать.
— Ну-ка…
— Вы просто обязаны спросить, почему Церковь якобы унижает женщину?
— И почему?
— А прославление и всеобщая любовь к Пресвятой Богородице? А почему же половина святых — женщины? Забыли про это? Ева пала от гордыни и непослушания. А Святые жены Церкви прославляются за смирение и послушание, кротость и верность, и особенно — за чистоту целомудрия. Этим нам показан путь освящения женщины. Да и в обычной мирской жизни ценятся те же качества женщины.
— Да, вы правы, пожалуй.
— Дальше будут вопросы о науке и прогрессе. По этому вопросу вспомните, к чему мы пришли: отравление природы, ослабление здоровья, всеобщие психозы и депрессия. Вам, например, известно, что в наиболее богатых и развитых странах наивысший процент самоубийств? Прогресс — это уже было в истории. Вавилонская башня — это и есть тот самый символ прогресса и достижений человека в области глобализма гордыни. Что было со строителями Вавилонской башни, то же ожидает и нынешних любителей прогресса.
— А как же удовольствия? Разве не этим живет человек?
— Удовольствия — это как воду пить: можно из грязной лужи, а можно из чистого источника. Можно любоваться отражением тусклого фонаря в помойной луже, а можно выйти из мрака на свет и увидеть живое солнце. Так вот удовольствия для тела приносят секунды кайфа, годы болезней и вечную смерть в аду. Удовольствия для души — это чистая радость, свет, любовь, которые начинаются здесь на земле и остаются с вами навечно. Я вам опять же на своем печальном примере объясню. Сначала я ощутил какой-то духовный голод. Меня перестали удовлетворять мои идеалы. Я понял, что как язычник, поклоняюсь идолам: гордыня ума, объедение, блуд, гнев, пьянство и прочее. Тогда кругами стал ходить вокруг церкви. Но меня удерживали точно такие же заблуждения и богоборческая ложь, как сейчас у вас. Потом мало-помалу мне удалось очистить сознание от этого хлама, и я стал ходить на службы, чтобы понять, что там происходит. Потом сам стал участвовать в таинствах: сперва исповедь, потом причастие и соборование. Затем познакомился с чудесами. А сейчас и не представляю, как бы я жил вне церкви.
— А вы, Дима, здесь часто обедаете? — спрашивает она вдруг.
— Стараюсь, конечно, только не всегда получается…
— А завтра вы будете здесь в это время?
— Буду.
…А назавтра я прихожу в ресторанчик и сажусь за стол, за которым сидит Татьяна. Она выдерживает минутную паузу и, таинственно улыбаясь, торжественно произносит:
— После нашего разговора, Дмитрий, я всю ночь размышляла над вашими словами. И вот теперь я говорю вам трезво и сознательно: я согласна стать христианкой! Помогите мне.
Великий пост
Отшумела хмельная сытая масленица. Народ православный, вдоволь пошутив, поколобродив, нагрешив разудало, встал, отряхнул тенета с очей и склонил повинные главы, которые и меч не сечет.
Пролилось невольной слезой Прощеное воскресенье, когда в храме величественный епископ с брадатым священством на коленях просят у прихожан прощения, целуясь с каждым в плечико.
Закрылись Царские врата, оделись в черное иереи, погасли яркие огоньки паникадил, гулкий траурный набат колокола зовет верных на покаяние. По вечерам стою на чтении Великого покаянного канона преподобного Андрея Критского. В сумраке, озаряемом теплыми пламенами свечей, звучит, рыдает в небеса высокий сильный баритон епископа:
«…Откуду начну плакати окаяннаго моего жития деяний?
Кое ли положу начало, Христе, нынешнему рыданию?..»
Оттаивает, слезоточит душа, омываясь покаянными мыслями. Из потаенных глубин сердца рождается и крепнет потребность в чистоте. Рядом со мной стоят дамочки в «диоровских» костюмах, солидные мужи в твидовых «тройках» (перед ними на полу коврики), молодежь в джинсах (перед этими — расстеленные кожаные куртки), женщины и мужчины пенсионного возраста; тихие, как тень, задумчивые девушки в длинных юбках, притихшие дети, рабочие в спецовках с ближней стройки. Что их объединяет? Зачем пришли они сюда? Что общего в таких разных людях? Одно — желание очищения души покаянием.
Начинаются преклонения колен. Все как один, становятся на колени и лбом — в пол. Сейчас, разные между собой, все равны перед Судией и Царем. Один, другой, третий поклон, еще и еще… уже и спина болит, и ноги трясутся, но поклоны продолжаются. Рядом совсем старенькая бабулька привычно опускается и падает ниц, а уж мне тем более стыдно отступать, поэтому с терпением, с потугой, с кряхтением — поклон, еще и еще.
Выхожу из храма на морозный воздух, и все болит: ноги, спина, руки — все, кроме совести!
Четыре дня хожу на Великий канон. Четыре дня ничего не ем, только святую воду пью маленькими глоточками, а голода нет, и слабости не наблюдается. Становлюсь легким и тихим. А как легко молиться по ночам — как орлу в вышине на крыльях парить!
Первое воскресенье поста — неделя Торжества Православия. Весь храм наполнен до отказа. Причастников столько, что кажется, будто все до единого прихожане унесут сегодня в своем очищенном естестве частицу Господа. После литургии читается трогательный молебен о заблудших.
Стою в плотном окружении толпы,. А душу мою нечестивую питает и освящает Пречистое тело и кровь Спасителя моего. Сквозь одежду мою, сквозь кожу, мышцы, кости мои — сияет пламя божественного огня, незримо, нетварно соединяя меня с бесконечным океаном огня, имя которому Любовь.
Благодарность к Господу моему переполняет меня, требует излияния — и молюсь Милости безмерной о просвещении, прощении, спасении людей, которых знаю и люблю, особо о тех, которых обидел сам и от которых принял обиды. И радостно осознаю, что в этот миг всех я простил, всех люблю. Словно крылами, обнимаю всех пламенем любви, таинственно и непостижимо, но ощутимо льющимся из таинственно врастающей в меня частицы безмерного, бесконечного Творца жизни.
Страстная неделя соединяет и вмещает в себя одновременно и кровавые события непостижимых страданий Спасителя — и нарождающееся, захлестывающее из недалекого будущего предвосхищение вселенской радости Воскресения Христова.
В один день я всем своим существом сострадаю абсолютному одиночеству, кровавому молитвенному поту Богочеловека, переживаниям предательства ученика, безумию беснующейся толпы, проклинающей себя и потомков: «Распни, распни Его! Кровь Его на нас и на наших детях!», последнему крестному воплю агонизирующих уст: «Для чего Ты Меня оставил!» — и в тот же вечер пишу восторженные открытки: «Христос Воскресе! О, как люблю я вас всех в этот день торжества вечной жизни над смертью! … И если воскрес наш Христос, то значит, воскресли с Ним и мы! Радуйтесь люди, радуйтесь все — Христос воскрес, жизнь вечная воссияла!»
В Пасхальную ночь энергичный староста храма вручает мне тяжеленную хоругвь. Постояв с ней еще до выноса, с трудом удерживаю в вертикальном положении и понимаю, что и поднять ее нету сил, не то что нести. Но вот трогается Крестный ход, запульсировала во мне Иисусова молитва вперемежку с «Христос воскресе!» и несу эту хоругвь, будто ангелы мне помогают и поддерживают меня под руки. До глубокой ночи стою в храме, мокрый от обильных капель святой воды, лобызаюсь троекратно с братьями во Христе.
А ночью после обильного разговления горит мое нутро, грохочет сердце… Да еще, чтобы не возгордился, сражаюсь один на один с нападением.
Один во мраке ночи в комнате. За окном воет и хлещет в окна ветер с дождем. Вокруг меня сгущается и сдавливает беспощадными клещами злобная тьма. Ужас вонзается в сердце, шевелятся волосы на голове, тело парализует оцепенение всеобъемлющего страха. Рот будто сдавлен подушкой — не могу выдавить из себя ни единого словечка, только мычу, выпучив глаза и задыхаясь.
О, если бы враг объявился и показался мне в этот миг — я бросился бы на него и принял бой, но он незримо сдавил меня, навалился тяготой, парализовал ужасом. Время перестает существовать, растягивается в мучительную липкую бесконечность. Снизу, сверху, отовсюду сразу — хлынул гудящий огненный шторм, в котором корежится и извивается от безумной боли мое почерневшее тело.
Какое-то мерзкое длинное, все в резиновых складках, скользкое существо извивается в моих руках. Я изо всех сил отдираю, отталкиваю его. Но оно безразмерно вытягивается и неотвратимо, с чавканьем, грызет, жует мое горящее тело.
Жуткий ядовитый серный смрад жжет не только мои ноздри, но и всю кожу. Душераздирающие вопли режут не только уши, но и вывернутые суставы. Чернющий как копоть мрак окружает мои мучения, только горящие красным безжалостные злобные зрачки носятся вокруг, как слепни. И нет никого, кто бы помог. Никого, кто бы защитил. Я, бессильный и беззащитный, один на один с абсолютным злом, у которого нет иной цели, как только выжать из меня как можно больше страданий.
Целую вечность из зажатых, спекшихся губ выдавливаю спасительное имя. «И-и-и-и!..» — пищит внутри меня, не имея возможности вырваться наружу. «И-и-и-с-с-с!..» — сипит в горящей гортани, с трудом перетекая в зажатый рот. «И-и-и-с-с-с-у-у-у-ус!!!» — взрывается всесокрушающим огневым шквалом. В единый миг, как молния — от земли до небес и от запада на восток — выплескивается свет и разлетается в клочья, скрывается тьма!
В сияющем поднебесном пространстве, огромном, как вселенная, — разливается широченная яркая радуга, переливаясь прозрачными огненными дугами. «Христос воскресе из мертвых, смертию смерть поправ! — вопию, что есть сил, — И сущим во гробех живот даровав!!!». Я марширую по комнате моей беспредельной вселенной и прыгаю «веселыми ногами» и кричу, кричу, как мальчишка, узревший вдалеке идущего навстречу ему отца — родного, милого, могучего и бесконечно доброго: «Хри-стос вос-кре-се из ме-е-ертвы-ы-ых!..». Радуга сияет надо мной, играет во мне и звучит, сотрясая мою бесконечную, огромную вселенную: «… И су-у-ущим во гро-бе-е-ех живо-о-от да-ро-ва-а-ав!». Слава Тебе, Господи!
Требуется помощь
—… И не вздумай говорить такое! Чтобы я, да забыл тебя. И вот тебе тому свидетельство: мне нужна твоя помощь. Пожалуйста, приезжай. Только дай согласие, и сразу вышлю за тобой машину.
— Конечно, если нужно… — мямлю совершенно смятый его неожиданным натиском.
— Ну, и отлично. Жди транспорт.
Филипп Борисович по прозвищу Доктор лишь изредка позванивает мне в течение последних нескольких месяцев. Если честно, то и времени на его заумные длинные беседы под блюда и роскошь у меня просто нет. Жизнь моя так уплотнилась, что сам удивляюсь, как это успеваю я так много строить, читать, молиться, общаться.
Да и Дуня моя в таком интересном положении, что нужно подольше бывать рядом. Вообще-то, я думал, что ей будет тяжелей: токсикозы, там, капризы и прочее. Нет, она так гармонично вписалась в свое новое состояние, будто ждет уже пятого ребенка. Ходит на консультации, завела там подружек, таких же неуклюжих пузатиков с утиной походкой. Иногда она позволяет мне подержать руку на животе, в котором, кто-то крутится и чем-то толкается.
По вечерам я читаю вслух молитвы, писания Святых отцов, и к удивлению Дуни, наше не родившееся еще дитя прекращает свои постоянные верчения и успокаивается, будто внимательно слушает. Я объясняю, что это так и есть, что маленький человечек там, внутри, понимает много больше в духовном мире, чем мы, потому что целиком еще в руках Творца. А после совместных молитв у нас в семье наступает совершенно чудное время. Моя молчальница, прижавшись ко мне, застенчиво, как девчонка, полушепотом выспрашивает про ту неведомую ей жизнь, куда влечет и ее. А среди ночи или рано утром иногда я просыпаюсь и подолгу смотрю на спящую свою женушку, в которой происходят таинственные внутренние процессы. И молюсь за нее и ребеночка, за которых чувствую растущую мужскую ответственность перед Господом. Впрочем, нет в новом моем состоянии страха за них, да и за нас в целом. Наоборот, с каждым днем растет мое доверие к Отцу нашему Небесному.
…В прорабскую входит известный мне мужчина в черном костюме и с неукоснительной вежливостью предлагает следовать в машину. Всю дорогу молчит. Мне рядом с ним неуютно. Привозит он меня в незнакомое здание с мраморно-зеркальным вычурным фасадом, поднимает на бесшумной лифте, пропитанном запахом сигар и духов, ведет по светлым коврам в громадный кабинет, из окна которого видна широкая пойма реки в золотистых лучах заката.
В кабинете, кроме Доктора, присутствует еще один господин весьма крупных габаритов с лицом аристократа с высоким лбом и сильными очками под ним. Мужчины облачён в классический черный двубортный костюм. Жесты его изящны, движения мощного тела осторожны и экономны. Из-за стола выходит озабоченный Доктор в белой сорочке с развязанным галстуком, знакомит меня с этим представительным человеком — своим заместителем Валерием Ивановичем. Тот крепко пожимает мою руку и, уважительно изучив внимательным взглядом, сразу удаляется. Доктор, натянуто вежливо улыбаясь, поясняет, что «выращивал в этом парне своего помощника чуть ни с пеленок», затем приглашает занять кресло под хвойным растением в бочке, в котором с радостью узнаю можжевельник.
— Вот, как видишь, обживаем новые апартаменты. Пытаемся соответствовать требованиям международных стандартов. За этой стенкой примерно такой же кабинет с комнатой отдыха для тебя. Если, конечно, ты согласишься.
В общении с такими людьми, как мой нынешний собеседник, никогда не знаешь, когда он говорит серьезно, а когда ведет запутанную игру, в которой тебе предлагается неведомая роль. При этом вряд ли тебя посвятят в правила игры. Поэтому вместо ожидаемых от меня восторгов молчу и про себя творю Иисусову молитву. Доктор изучает мою физиономию и вздыхает:
— Да… Забыл, что имею дело с человеком неординарным. Как говорится, надо чаще встречаться. Все это время, Дмитрий Сергеевич, я издалека, но с интересом наблюдал за твоими успехами в работе. И должен признаться, до сих не могу взять в толк, как это тебе удается при том количестве объектов, которые навалили на тебя, везде успевать, держать рекордную выработку и при этом безо всяких неприятностей и аварий. Без конфликтов с конторой и органами надзора. Практически самостоятельно. Не поделишься секретом?
Ну, что мне ему, в самом деле, воскресную школу тут открыть? А с другой стороны, как объяснить, что все мои успехи — не мои… Как мне с ним говорить? На каком языке? Господи, помоги мне, неразумному.
— Как-нибудь в другой раз, Филипп Борисович. Когда времени у нас будет много-много. А сейчас, ты сказал, тебе нужна моя помощь. Так я слушаю.
— Однажды я говорил тебе, что моя фирма ведет работы в Америке. Мы там купили землю и строим поселок для состоятельных людей. Раньше на участке стояли несколько заселенных домов. Сейчас мы всех жильцов переселили, кроме одного. Живет там странный парень, который уперся, как осел, и ни в какую покидать насиженного гнездышка не хочет. Мы уж и через жену его уговаривали, и через местные власти… Нет и все! Я узнал, что у него корни русские. Бабушка его жила в России до войны.
Доктор встает, прохаживается задумчиво по кабинету, бережно касаясь то одного предмета, то другого. Замирает у окна и любуется панорамой. Потом поворачивается ко мне и после долгой паузы произносит:
— Есть, конечно, у моих партнеров и силовые методы решения таких проблем. Только мне хочется использовать еще одну возможность. Последнюю. И я прошу тебя, Дмитрий Сергеевич, помочь мне в этом. Ведь ты за мирные решения, не так ли?
Хозяин кабинета натянуто улыбается. Он ждет моего ответа. У меня же внутри стоит полная тишь. Будто все это не имеет ко мне никакого отношения. И вдруг в моей памяти всплывает та самая картинка, которая много раз нежданно появляется, совершенно вроде бы некстати. Молодой мужчина лежит в шезлонге рядом с бассейном среди тропической растительности и пьет чай со льдом. Меня удивляет его нетипичное расстройство, при неплохих результатах жизненных показателей. Чего этому парню еще нужно? Живи да радуйся! Ан нет, чего-то ему все не так. Ну, что ж если этот парень тот самый, о котором говорит Доктор, то его понять можно. И помочь тоже. Да и видения эти — ой, неспроста. Тут все в такую ровную цепочку ложится, что даже мне, убогому, кое-что понятно.
— И когда мне туда лететь?
— Билеты забронированы на понедельник. Твой загранпаспорт с открытой визой в ОВИРе, надо только заехать и забрать. Если ты не против…
— Кто еще летит со мной?
— Я наметил Стаса, но тут как ты сам…
— Стас — это тот, кто меня сюда вез?
— Да.
— Я один, если можно.
— Хорошо, как скажешь.
Желания ехать за границу у меня нет. Более того, я точно знаю, что все самое главное во вселенной творится в России, и отсюда волнами расходится по всему миру. Если с парнем происходит то, что я предполагаю, ему лучше приехать сюда. Мистику России, как последнего оплота сил света, на пальцах не покажешь. Этого нужно коснуться всем существом.
— И еще… — говорю после длинной паузы. — Если честно, то ехать в такую даль не очень-то хочется. И к жене сейчас нужно быть поближе. Дай мне телефон этого парня. Я попробую его сюда пригласить.
— Это было бы идеально! Вот это да! — восклицает Доктор и называет мне длинный ряд цифр телефонного номера. Имя объекта Стив.
— Стёпа, значит. А по-русски «объект» понимает?
— Все, кроме непотребства. Насчет оплаты счетов, стоимости билетов и прочего — не сомневайся. Тут на кон поставлены миллионы. За ценой не постоим.
Разговор с тем светом
«Что за дело мне до этого янки? Ему там жемчуг мелковат, а у нас пятака на хлеб не хватает. Видите ли, съезжать с насиженного места лень! Видно еще мало его петухи жареные клевали. Ничего, наши бравые ребята покажут тебе, что такое производственная дисциплина на объектах соцкультбыта». Нечто подобное в разных вариациях грохочет в запутанных лабиринтах моих усталых мозгов. Только известно мне, что если моя рациональная сущность так непотребно вопит, значит, ей надлежит противостать, то есть, проще говоря, сделать все наоборот.
Но и это еще не все. Время от времени на меня накатывает совершенно хлипкое гаденькое отчаяние. «Куда? Ну, куда ты суешься, дурень? В таких играх можно лишиться всех видов на жительство. В случае прокола тебя по стенке размажут, так что и соскребать нечего будет. Оставь эту затею. Не по зубам тебе. Оставь».
В состоянии полного душевного «раздрая» иду в храм, заказываю молебен и обхожу со свечами в руках иконы. Занятие это с одной стороны успокаивает, с другой — поднимает в сердце молитвенный настрой.
«Придите ко Мне все труждающиеся и обремененные, и Я успокою вас», — звучат во мне слова Господа, и уж тут нет ни малейшего сомнения в их истинности. Храм этот днем всегда открыт, люди стоят в очереди к свечному ящику, сидят на скамейках в ожидании молебна. Говорят, шаркают, кашляют. Становлюсь в угол у правого клироса и чувствую на себе кроткий, все понимающий взор Христа. И остаемся мы с Ним наедине.
«Ты позвал меня к Себе, Господи, и я пришел. Ты знаешь о моих проблемах больше и лучше, чем я сам. Я могу ошибаться и обольщаться. По своему помрачению я могу натворить глупостей и даже принести зло людям. А я этого не хочу. Но Тебе, Господи, ведомы правда и наилучший путь. Отче наш, возьми все в Свои руки и помоги мне. Пусть я стану Твоим исполнителем, слугой. Не позволяй совершаться моей грешной воле, но веди меня за руку, как любящий отец маленького ребенка. Не оставь меня, Господи Иисусе! Не на кого мне положиться. Только Ты у меня единственный помощник и защитник. Помоги мне, Господи!».
Выхожу из храма в полном спокойствии. И еще не знаю как, но все теперь будет в порядке. В сердце моем есть тому ясное подтверждение. Господь со мною.
Смотрю на часы, отнимаю восемь, получаю местное время города Майами. Набираю телефонный номер и слышу усталый голос автоответчика. Произношу громко по-русски:
— Степан, если ты меня слышишь, возьми, пожалуйста, трубку. Я из Москвы. Меня зовут Дмитрий. Мне известно, что с тобой происходит. И единственное, чего я хочу, это помочь тебе.
В моей трубке раздается щелчок, и я слышу тот же вялый голос, что произносил длинную вступительную тираду:
— Привет, Дмитрий. Это Стив. Давно не слышал свое имя по-русски. Как поживаешь?
— Гораздо лучше, чем заслуживаю, спасибо.
— Ты меня заинтриговал, Дима. Кто ты? Откуда тебе известно про меня?
— Человек я простой и незамысловатый, поэтому скажу тебе правду. Тем более, что нас наверняка прослушивают.
— Дима у нас не Россия, здесь не прослушивают.
— Да брось ты, Степан, ты имеешь дело с русскими. А у нас это такое всенародное хобби со сталинских времен. Впрочем, все, что я тебе скажу, должно устроить всех, тебя в том числе.
— Мне уже интересно.
— Я сейчас многое объяснить не могу. В твоих отношениях с русскими наступил тот самый момент, который должен поднять тебя, всю твою жизнь на более высокий уровень.
— Я и есть на высоком уровне. Зачем мне выше?
— Боюсь, твой уровень ниже некуда. И ты сам знаешь, о чем я говорю. Я чуть ли не каждый день вижу парня, который валяется в шезлонге и тоскует. И все ему не в радость. Это, по-твоему, уровень?
— Ты что, подглядываешь за мной?
— Дурачок ты, что ли?.. Стёпка, я работаю на стройке в Москве, менеджером по-вашему. У меня множество своих проблем и жена беременная… А ты на своем красном шезлонге у бассейна валяешься, и каждый день мелькаешь в моей голове, как в телевизоре. А вчера ни с того ни с сего мой «знакомый друг» предлагает ехать к тебе, в твой американский Содом вывести тебя, как Лота. Из-под огня русской мафии. Понял, что ли?
— Не совсем… Ты что, с ними заодно?
— Стёпа, не все русские бандиты. И я сам по себе. Я тебя предупреждал, что у нас с тобой впереди много времени для бесед. Я в этом не сомневаюсь. И мы вместе во всем должны разобраться. Ты понимаешь, если ты уже несколько месяцев мелькаешь перед моим мысленным взором, то значит, у нас с тобой какое-то совместное дело. Значит, Господь нас сводит вместе. И это все неслучайно. И этому радоваться надо.
— Пока непонятно чему…
— Ну, слушай. Я тебе, русскому человеку по крови и по духу, предлагаю бесплатно приехать на историческую родину. Приехать в страну, в которой варится весь вселенский бульон. Россия — последний оплот сил света на земле. И эти самые божественные силы зовут тебя принять участие в духовной жизни. Потому что твоя нынешняя жизнь — она растительная, болотная даже. И ты абсолютно не раскрываешь свой духовный потенциал. Он у тебя на нуле. Я еще не знаю как, но тебя ожидает величайшее открытие. И оно совершится здесь, в России.
— Да, Дмитрий, это интересно. Признаюсь, ты меня очень удивил. А как это бесплатно?
— Тебе принесут билет с визой прямо на дом. Только скажи «да».
— О’кэй. Да.
— Все! Ты мой гость, и я тебя люблю!
— Халлоу, мне нужно время на подготовку!
— Не нужно тебе ничего. За тебя все сделают. Собирайся и завтра вылетай. А я тебя стану ждать. У замерзшего окна.
— Ты интересный парень, Дмитрий.
— Об этом не сейчас. Я встаю и направляюсь к окну.
Глава 3. Созидание. Вечное
По воле Провидения схожу я вниз, где сильнее свищут вихри стихий, где штормят океаны страстей, где конечность и хрупкость жизни так очевидна. Моя горячая вера неофита в свое время остывает и приобретает плесневелый оттенок ритуальности. Здесь, в низине бушующих страстей в полной мере познаю немощь свою и близость перехода в иное состояние — подсудности, к которому не готов абсолютно.
Я схожу вниз — и познаю, что единственное мое спасение и утешение — Господь мой.
Я схожу вниз — и разгорается вера моя.
Долго, слишком долго стоял я у заветной черты. До нее жизнь напоминала действия тренированной обезьянки: нажал на рычаг — получи сладкий банан. И все бы хорошо, если б не мысли о том времени, когда бананы кончатся, и настанет неизвестное, неизбежное нечто. Что после? После всего. Темнота, сон, растворение в природе? Как и многие, малодушно гнал я эти мысли, потому что им сопутствовала непрошеная тревога. Возвращался в пустоту, быстро пресыщался ею, и снова манило меня к той таинственной черте, где разрешалось болезненное недоумение. И уж ногу заносил для решающего шага, и набирал побольше воздуху, как перед прыжком в ледяную воду или в огонь. Только в последний миг оглядывался назад, где все нормальные обезьянки дергали рычаги с яркими блестящими набалдашниками, хватали банан — и давай его очищать, да жевать, покрываясь мурашками восторга — и так чего-то жалко было оставлять эту простоту механических действий. И отступал.
Только приедается, в конце концов, все сладкое, а голод по неведомому нарастает. И снова подходил я к той черте, за которую уходили один за другим люди, мои вчерашние соседи, и оттуда звали, как старатели, открывшие золотую жилу. Но вот однажды и я сделал шаг в новую жизнь.
Первое, что удалось мне понять, — это то, что я еще и не жил: все только начинается. Словно рассыпались непроницаемые стены обезьяньего питомника, я впервые увидел вдаль — до самого горизонта. И дивился я богатству новой жизни и радовался ежедневным открытиям. Возвращались люди из той дали, где небо встречается с землей, и говорили, что там еще лучше. Да так хорошо, что и слов нет, чтобы рассказать и описать это.
С тех пор, как переступил я ту заветную черту и стал двигаться вперед, меня не оставляет подсознательное предчувствие светлого будущего.
Нет, не гладок мой путь и непрост. Доводится мне и падать, и набивать шишки — этого до сих пор немало. Только поднимался я, отряхивался и шел вперед — к свету.
Раньше сравнивал себя с другими, находил, в чем я их сильнее, и этим поднимался над людьми и подавлял их, упиваясь превосходством. Сейчас сравниваю себя с бесконечным Совершенством, отдаю себя восхищению Его величием — и взамен мизерной утраты своего самолюбия получаю дары столь богатые, что и оценить их в полной мере не в состоянии. А когда с благодарностью пытаюсь вернуть хоть малую лепту — от бесконечных Своих богатств, Создатель всех сокровищ снова и снова проливает на меня изобилие щедрот — замираю в радостном восторге и неустанном изумлении.
Строитель
Сдача объекта в эксплуатацию — дело хлопотное и неблагодарное. Комиссия заседает в отделанной убранной квартире, а мы с Федотычем «воюем» на теплокамере. Вообще-то парень он неплохой и работать с ним можно, только иногда с ним случаются странные завихрения, которые всех раздражают. Вот, например, сейчас стоим с ним и разглядываем совершенно идеальную теплокамеру. В моей руке акты сдачи работ, которые он должен подписать, а я — отнести на заседание комиссии и вложить в папку сдачи объекта. Теплокамеру своими руками строили для себя самих будущие жильцы дома, ставшие на время строителями для получения жилья. Загляденье, конфетка, а не теплокамера! Ну, не к чему придраться. Ан, нет, Федотыч стоит набычившись, надув и без того развесистые сливовые губы, и на все мои вопросы отвечает: «Не приниму!»
Подбегает к нам взволнованный Никитович и по-простому сует ему деньги, но Федотыч глубоко вздыхает, еще больше надувает губищи и снова: «Не приниму!» Подбегает возбужденный участковый Виктор Иванович, орет на нас, что мы последний акт задерживаем, комиссия, мол, уже «готова и созрела для подписи!…». Федотыч еще глубже вздыхает и снова: «Не приниму!»
— Не! Ты скажи, Федотыч, в конце концов, все мы люди, и я понимаю, что пришел твой звездный час. Понимаю, что тебе нужно с него что-то наварить, — участковый гулко лупит себя в грудь кулаком, покрываясь красными пятнами. — Это где-то даже понятно. Не ясно только чего ты хочешь: стакана, денег, по лицу… Говори, несчастный, говори!
— Сам такой! — изящно парирует Федотыч. Еще больше надувает губы и супит брови. — Не приниму…
— Сейчас вызову скорую психиатрическую помощь и самолично сдам тебя, — надрывается участковый. — В ресторане стол уже накрыт. Горячие закуски стынут, водка выдыхается, а ты, а ты… тьфу на тебя!
— Не приниму…
— Ладно, Федотыч, я хотел с тобой по-хорошему… Димка, давай мне этот …акт.
Участковый хватает бумажки и вприпрыжку бежит в подъезд, где заседает комиссия. Через минуту гробового нашего молчания под пораженческое сопение упрямца распахивается окно, и Василий Иванович, размахивая актами, победно кричит:
— Федотыч! Твой начальник за тебя все подписал. Видишь, чудо в перьях! Так что на банкет с нами не пойдешь!
Ладно, начальство пусть себе крючки в бумажках рисует и банкет кушает, а у нас тут дел еще — непочатый край. Вот уже — извольте видеть — с разных сторон, видя мое освобождение от сдаточно-комиссионных дел, бегут ко мне затаившиеся было в укромных местах прорабы разных субчиковых пород: отделочники, газовики, водопроводчики… Со всех сторон на все голоса звучит: «Сергеич! Дмитрий Сергеевич! Димка! Димуля! Генер-р-ра-а-ал!» Последнее — не мое воинское звание, увы, а всего-то сокращенное «генеральный подрядчик».
Спустя несколько часов, решив десятка три вопросов, выдержав канонаду упреков, требований и просто оскорблений, смотрю на часы, констатирую переработку на полтора часа и запрыгиваю в кабину персонального автомобиля.
— Вась, увези меня, пожалуйста, отсюда в тишину. Куда угодно, только в тишину.
— Поехали, — понятливо кивает мой добрый водитель и выруливает на трассу.
Едем мы с полчаса по шоссе, по обе стороны мелькают деревеньки, и я думаю, почему они так упорно жмутся к дороге. Неужели не разумно было бы им стоять в тишине полей и лесов? Задаю этот вопрос водителю.
— Так ведь здесь продавать лучше, — пожимает плечами Василий, — Вырастил что на земле, выставишь на дорогу и продается.
— А тишина? А воздух? Неужели им этого не надо? Неужели лучше, чтобы под твоими окнами гудели и выбрасывали тонны газообразной грязи автомобили?
— Может быть, им выгода дороже чистоты и покоя.
Наконец, машина сворачивает в лес. Здесь дорога, хоть уже, но асфальтовая. Василий вопрошающим взглядом ищет у меня одобрения. «Дальше и глубже», — командую. Снова сворачиваем в глубь леса по узенькой гравийной дорожке. По сторонам — смешанный лес. Водитель сбавляет скорость. За деревьями мелькает просвет. Мы направляемся туда. Выезжаем на пригорок.
Здесь в окружении густого леса стоит полуразрушенная кирпичная церковь. Вокруг — руины. Приближение нашего рокочущего красномордого зверя взметает ввысь стаю испуганных птиц. Мы выходим, крестим лбы и молча взираем на это неожиданное чудо. По всему видно, здесь когда-то стоял небольшой монастырь, да порушили его. Не добрались только до церкви, хотя со временем и ей досталось. От прежней непорочной белизны остались грязно-белесые пятна штукатурки по щелястому красному кирпичу. Над куполом — деревянный восьмиконечный крест, проволокой на скрутке привязанный к основанию прежнего, золотого.
Навстречу нам выходит тощий монах в латаной-перелатаной рясе с седоватой всклокоченной бородой и доброй улыбкой. Из-под темно-серого сатинового фартука он достает иерейский крест на цепи и бережно прижимает его к груди. «Мир вам, дети мои», — слышим негромкие слова и по очереди подходим под благословение. Рука его исцарапана, суставы опули, на ладонях толстые шершавые мозоли. Вблизи заметна тонкая розовая пыль, покрывающая одежду его и волосы.
— Вы, я вижу, верующие? — спрашивает монах.
— Да, вроде… — пожимаем плечами.
— Тогда давайте помолимся вместе, — полувопросительно предлагает он и добавляет: — И я с вами отдохну.
Следом за монахом идем по кирпичному щебню внутрь храма. У открытых царских врат останавливаемся. Монах на стареньком аналое зажигает свечу и теплое ее сияние из полумрака выхватывает несколько икон и царящую вокруг разруху. Расчищено небольшое место у иконостаса и алтарь. Монах нараспев читает часы, заполняя пространство храма хрипловатым, но сильным голосом.
Слова молитвы заполняют пространство своей непостижимой мощью, полыхая нетварным светом в полумраке поруганной святыни. Мое сознание, забитое сором суеты, совершенно не желает впускать молитву в сердце. Мои глаза рассеянно шарят по разворованному иконостасу, по убогому престолу, сколоченному из неструганых досок, покрытому латаными золотистыми ризами, по обшарпанным стенам вокруг, по пыльным плечам и волосам иеромонаха, самозабвенно восклицающего: «Яко Твое есть Царство и сила и слава, Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно и во веки веков! Аминь!». А я вместо Царства и Славы вижу разруху и позор рук человеческих. И мутный ручеек гаденькой тоски затопляет мое сердце.
Монах распевает псалмы. В моей голове проносится: «Ну, это я знаю…», и глаза снова расползаются по руинам. Но вот монах смолкает, он переворачивает желтую мятую страницу, прокашливается и громко внятно произносит: «К Тебе, Господи, воздвигох душу мою. Боже мой, на Тя уповах, да не постыжуся во век!..». Эти слова, ломая все преграды, накатывают на меня, наполняют верой и надеждой. Следом за очищающей волной наступает покой и уверенность: все идет, как надо. Все хорошо и правильно. Потому что мой Господь со мной. «Вси пути Господни милость и истина, взыскающим завета Его и свидения Его».
После молитвы поднимаемся по узенькой лестнице, сокрытой в толстом церковном простенке, куда-то наверх. Под ногами скрипят и ходят ходуном полусгнившие деревянные ступени. Следом за хозяином входим в маленькую келию, где узкая лежанка, столик, стул и печурка занимают почти все пространство. Рассаживаемся и знакомимся. Монаха зовут отец Виктор. Он затапливает печь, ставит на нее чайник и рассказывает:
— Подвизался я раньше в монастыре. Жизнь там была сытая, но многозаботливая. Верите ли, братья, помолиться некогда было. С утра до вечера бегаешь, трудишься, а уж ночью падаешь от усталости, как подкошенный. Только Иисусовой молитвой и жил. Бывало, месяцами ни на исповедь, ни на службу попасть не мог. Томило все это меня, очень томило… Мысли разные мучили, что не обитель это вовсе, а какой-то колхоз, куда люди от голода животного сбегаются. А меня духовный голод томил. Ох, как томил… Поделился как-то с духовником своими мыслями. А он как закричит на меня, чтобы я это все выбросил из головы. А чтобы неповадно было, так мне сотню поклонов земных прописал перед Распятием. Верите ли, обрадовался я этому. Утром стал в собор наш ходить и поклоны класть. Слаще меда для меня те поклоны были. И весь день, что ни делаю, а Распятие передо мной, как солнышко сияет, так и горит!
Отец Виктор улыбается, осторожными движениями расставляет начищенные эмалированные кружки, сыпет из пачки чай, заливает кипятком. С полочки снимает банку с медом и ставит на стол. Из холщевого мешочка сыпет горку разноцветных сухарей.
— А однажды произошло вот что. В пятницу это случилось. Стою рано утром на поклонах один в соборе. Спина побаливает уже так хорошо. Только что мне эта боль, когда передо мной окровавленные стопы Спасителя. И так уж меня разогрело хорошо, что слеза из глаз выступила. Раньше они у меня наружу никогда не выходили — все где-то на полпути застревали, а тут — на тебе! — полились… Поднимаю глаза к лику Христа — а глаза-то Его открыты… и на меня смотрят. Я головой потряс, свои глаза протер, может, думаю, это от слез моих такое видение случилось. Снова смотрю на лик Христов — открыты глаза и мне в самую душу смотрят, ласково так, как мама в детстве. Страшно мне стало и радостно одновременно. Смотрим мы с Господом в глаза друг другу, и нам хорошо вместе, как родным…
Монах шепотом читает «Отче наш», осеняет крестом трапезу и предлагает пить чай, а сам продолжает.
— Потом позвали меня на послушание, картошку перебирать. Я эконому нашему говорю, что Иисус Христос на Распятии глаза открыл. А он машет рукой и толкает меня в спину: иди, мол, не ври. Пока шел к нашему складу, встретил священника, и ему говорю о глазах Христа-Господа. Батюшка кивнул головой и дальше пошел. Тут я не выдержал, кричу на весь двор, чтобы все знали о чуде! …А в ответ слышу, что еще один бесноватый появился. Тогда бегу к игумену — а он к начальству в город уехал. Бегу к духовнику — а он больной лежит, и келейник к нему не пускает. А вечером меня ведут к игумену. Что, мол, ты там кричал утром? Я рассказываю, как было. Игумен говорит, что только что прикладывался к Распятию и глаза, как и положено, закрыты. Я тогда и сказал со вздохом, что это, наверное, Господь на нас обиделся, что мы из святой обители колхоз тут устроили. После этого меня и отрядили сюда. Раз ты, сказали, такой умный, то свой монастырь устраивай, а из нашего уходи. Всю ночь после того разговора я молился. Меня за неделю рукоположили в дьяконы, потом в иереи, дали сто рублей денег и сюда направили с бумагой от благочинного. Так я здесь и оказался. И все бы хорошо, только вот ребятишки из соседней деревни часто приезжают и ломают, что я настроил. А так, с Божьей помощью, помаленьку можно все здесь восстановить.
Мы благодарим монаха за чай и собираемся в обратную дорогу. Я вслух рассуждаю, кем это надо быть, чтобы ломать построенное монахом. Не помогать строить, а ломать… На краю леса Василий решительно сворачивает к деревне. Громко гудит сигналом и рычит двигателем. Из калитки крайнего дома выскакивает бодренькая еще старушка с вострым носиком. Везде и всюду есть такая, общественница. Василий с подножки говорит ей сурово и громко:
— Передай, мамаша, местным хулиганам, что мы лесной монастырь берем под свою защиту. Если монах еще раз на них пожалуется, мы сюда приедем с людьми, привезем бульдозеры и устроим здесь местный деревенский конец света. Поняла? Все.
На прощание он еще разок взревел хрипловатым баритоном клаксона и басами двигателя.
Всю следующую неделю монах-строитель не выходит из моей головы. Его кроткий ясный взгляд и исцарапанные руки, вопиющая нищета и белесая пыль на волосах — все это всплывает из памяти и влечет к нему. Спрашиваю Василия, как, мол, тебе монах? Не дает покоя, будто зовет к себе, отвечает мне Вася.
Забрасываем в кузов машины кирпич, сухую смесь для раствора, доски, гвозди, инструменты. Предлагаем поехать с нами звеньевому Боре. Тот соглашается, но с почасовой ставкой пятого разряда. Боря наш парень интересный: веселый, добрый, работящий, но разгильдяй — каких поискать. Всю дорогу Боря рассказывает какие-то фантастические истории, скорее всего, выдуманные им только что. По мере удаления от главной дороги в гущу леса примолкает, недоумённо взирая на нас. А когда перед нами вырастают руины монастыря, он и вовсе теряет дар речи.
К нам навстречу выбегает монах и замирает на полпути. Василий просит показать, куда лучше сгрузить кирпич. Тот указывает рукой на сарай, а сам глядит на меня. Я выпрыгиваю из кабины и иду к нему под благословление. Монах падает на колени и плачет:
— Димитрий, Василий, отцы, простите меня окаянного!
— За что, отец Виктор? За что?
— Да, в прошлый раз наговорил вам такого… Здесь все больше молчу, да молюсь. А вас увидел, обрадовался, да и отверз уста. Простите меня, многогрешного, а то покоя мне нет.
Мы с Василием поднимаем его с колен, Боря отряхивает ему рясу. А он все плачет навзрыд, как маленький.
— Нельзя осуждать никого, а тем более священство. Нельзя роптать на судьбу, грех это! Ох, горе мне, горе…
— Так ведь правду же ты сказал, отче?
— Не дано нам знать всей правды. Она только у Господа, — он вдруг улыбается. — Да что может быть лучше, чем строить эту святую обитель. Это такое счастье, дети мои! Такой подарок Божий. Какой тут может быть ропот? Простите меня, отцы!
— Господь простит, а мы прощаем, отче. Ну, ладно тебе, давай лучше мы тоже поработаем сегодня. У тебя тут так хорошо…
— Спаси вас Господи, дорогие мои! — его лицо уже сияет. — Так, может, помолимся сперва?
Мы гуськом заходим в храм. Здесь полностью расчищен от мусора пол. Стало уютнее. Зажигаем свечи, привезенные с собой. Монах громко и вдохновенно молится. Мы, как можем, участвуем. Даже Боря, стоящий сзади, потихоньку крестится и слегка кланяется. Голос монаха наполняет храм, оживляет его, наполняет и нас радостным восторгом. Потом мы по очереди подходим к кресту, целуем его, благословляясь на послушание. Отец Виктор предлагает заделать пролом в заборе.
Подходим к полуразрушенной каменной ограде. Здесь стоят подмости в виде двух досок на деревянных колодах, лежит груда кирпича вперемешку с мусором. Рядом аккуратно сложен кирпич, очищенный от старого раствора. В полуржавом корыте намешана глина. По верху старой лежит слой свежей кладки, ровный, с тщательно подобранным под размер кирпичом, причем, безо всякой шнурки. Борис с Василием становятся на кладку. Мы с монахом замешиваем раствор и подносим кирпич. Монах, как и положено, шепчет Иисусову молитву. Потом по его настоянию принимаемся отбивать раствор со старого кирпича. Монах делает это с великой аккуратностью. Заметив мое недоумение, он поясняет, что эти кирпичи особенные, «намоленые».
Я тоже беру сросшиеся с раствором кирпичи, киркой сбиваю с них наросты. Потихоньку и сам наполняюсь благоговением. Обычно такая работа довольно быстро вызывает болезненные ощущения в мышцах и суставах. Но вот я присоединяюсь к Иисусовой молитве монаха — и тяжелый труд превращается в удовольствие.
С наступлением темноты вместо обычной усталости мы все чувствуем некую досаду, что вынуждены прерваться. Хором говорим о прожекторах и свете, но отец Виктор спрашивает с доброй улыбкой, а когда же молиться, трапезничать и отдыхать? Все, мол, Господь устроил не зря, всему свое время: время строить — и время отдыхать, время вкушать — и время молиться.
По лестнице входим в келью и рассаживаемся. Василий выкладывает на стол наши продукты, помогает открыть банки, развернуть упаковки и порезать, что нужно, на куски. Отец Виктор заваривает чай, молится, благословляет трапезу и спрашивает у Бори:
— Как тебе, сынок, не очень тяжело было?
Борис молчит, низко опустив голову, потом вздрагивает плечами и сквозь детский плач с трудом произносит:
— Отец, мне никогда… так хорошо… еще не было. Спасибо…
— А я что говорю? — весело подхватывает монах. — Да это счастье нам работать здесь. Это как в раю побывать. Да! Я сам работаю, работаю, и вдруг остановишься с кирпичом в руке и стоишь, слезы не можешь унять. Да такие слезыньки-то светлые, как воды райской реки. Вы знаете, там, в Царствии небесном река течет красоты неописуемой.
— Мне сейчас кажется, — улыбается уже вовсю Боря. — что я видел сейчас эту речку. И деревья на берегу.
— И цветы… — добавляет монах.
— И птичек… А еще там много света, — полушепотом произносит Боря.
— Ах, как обрадовал тебя Господь, Боренька! Вот как позвал Он тебя, Отец наш добрый и милостивый. Этот свет — слава Господа нашего. Что значит строить обитель-то Божию! А я, негодный, роптал, что меня сюда прогнали. Да наградили меня, как нищего мешком золота. Еще раз простите меня, окаянного.
— А что местные хулиганы, батюшка, не наведывались? — интересуется Вася.
— Приходили, — кивает монах. — Это они у меня мусор в храме-то убрали. Да такие работящие ребята оказались! А я на них тоже роптал, прости Господи. Это уж как сам грешен да горд, так и в других нехорошее видишь. Так мне Господь показывает правду Свою. Все люди добрые и хорошие, если ты сам такой. Слава Тебе, Господи, за вразумление! Слава Тебе.
Отец Виктор шепчет благодарение и медленно крестится. Снова улыбается:
— Ребятки-то эти деревенские… Вот какие тут дела! Прибежали ко мне и говорят, что вечером, как стемнело, свет увидели над лесом. Вроде северного сияния. С переливами такими… Как раз там, где наш монастырёк стоит. Вот как. Не побоялись, прибежали сюда и увидели, что весь монастырь светом лучится. Говорят, что звали меня, да не услышал я, видно спал с устатку, — смущенно улыбается он.
Боря все это время неотрывно глядит на монаха. Ест он только черствые сухарики из холщевого мешочка, подставив ладонь, чтобы ни единая крошка не просыпалась. Пьет только чай с медом, маленькими глоточками. Всем существом льнет, тянется и во все глаза зачарованно смотрит на монаха.
Операция захвата
«Объект» сразу по приезду звонит мне и подавленным голосом сообщает, что он поселился в гостинице, сейчас немного отдохнет и готов в восемь вечера встретиться со мною.
Да, парень, тебя ожидает не легкая прогулка, но жестокая сеча, потому желаю тебе сил, терпения и разумения. Последнее время много думаю о Степане, настойчиво моля помощи у Господа. Удивительно мне, тревожно и радостно одновременно принимать участие в явном претворении воли Божией. Еще и еще раз Господь показывает нам, сколь дорога Ему душа каждого человека — вон сколько людей, средств, денег, немыслимо запутанных деловых комбинаций задействовано. И все для обращения к вере и спасения души, испуганного, унылого «русского американца».
К без четверти восемь в отутюженном костюме при галстуке вхожу в гостиничный бар и сажусь за столик в углу. Обозреваю диспозицию. Батюшки мои, какие люди! В противоположном углу, таком же затемненном как мой, сидит знакомый полковник спецслужб в отставке, который «по запаху» шпионов в Париже ловит. Как не поприветствовать такого уникума. Прихватываю свой драгоценный кофе за пятнадцать долларов, подсаживаюсь к нему и, улыбаясь во весь рот, произношу:
— Вот кого ожидал здесь встретить! Что, культурно отдыхаем после ночной вахты?
— А вы, собственно, кто? — слышу спокойный голос, неожиданно высокий.
— Уверен, вам уже подробно доложили, кто я и зачем здесь. Познакомимся? — Протягиваю руку, видимо, нарушая все законы его конспирации. — Дмитрий Сергеевич.
— Игорь, — слышу в ответ, чувствуя ладонью жесткое нервное пожатие.
— Очень занятно. Хотите, расскажу, зачем вы здесь? — Полковник опешил, отвечать не спешит, поэтому продолжаю атаку: — В случае отказа объекта съехать с занимаемой им жилплощади, вам дан приказ устранить его. Так?
В ответ — молчание. А что тут скажешь? Если это правда.
— Так вот, полковник Игорь, не будет у вас здесь работы ни сегодня, ни завтра, ни так далее. Так что можете брюки зря не протирать, а ступайте себе шлагбаум открывать и закрывать. Уж не знаю, платят вам за успех операции в целом или потрупно, — собеседник мой слегка дергается, но привычно гасит свой гнев и продолжает слушать, — может быть, я у вас невольно хлеб отнимаю, только предлагаю вам очень серьезно подумать, а не поменять ли вам профиль работы и образ жизни.
— Да что ты, сосунок, знаешь о моей жизни? — оживает, наконец, мой сотрапезник.
— Тоже мне, секрет! Да такими обиженными вояками, которых не поставили на пьедесталы в бронзе, все банды укомплектованы, или ты не знаешь?
— Он меня еще учить будет… — шипит он, едва сдерживаясь.
— Ладно, Игорь, — кладу пятерню на сжатый его кулак, — прости. Только ты и меня пойми: человек я верующий, а тут моего гостя, лишать жизни намерены. Нехорошо. И уж если тебе для авансового отчета нужно представить тело, то как гостеприимный хозяин могу предложить взамен гостя свою кандидатуру. Только решай сейчас. Через минуту мне придется отнять у тебя возможность выбора.
Несколько минут проходят в молчании. Моя кратенькая молитва за него так и пульсирует, так и вращается во мне, ровно и обнадеживающе. В этот время в душе моего собеседника, вероятно, творится что-то несусветное, что едва заметно, легкими намеками отражается на его бесстрастном лице. Мне жаль его немного. Под личиной супермена, там, в глубине, сидит, съежившись, трясущийся от страха человечек, который бесконечно обожает себя, любимого. А тут вдруг его вытаскивают на поверхность и показывают хозяину — вот твоя настоящая сущность. И что тут ему говорить, как оправдываться? То, что я ему сказал, и есть правда. А это, брат, сила!
— Скажи, пожалуйста, Игорь, — мягко произношу слово за словом, — ты считаешь себя человеком русским?
— Да, конечно. А ты сомневаешься?
— Честно говоря, да. Для меня русский и православный — слова-синонимы. Когда я уклоняюсь от православия в ту или иную сторону: сомнениями, поведением, образом мышления, какими-то поползновениями в сторону жадности, злобы, гордости… Бывает такое, бывает… В таких случаях мой духовный отец говорит, что я стал, как нехристь нерусский…
В это время мой собеседник делает едва заметное движение глазами и профессионально замирает. И значит это только одно: из-за кулис на сцене появился «объект» и разыскивает меня. Встаю и оборачиваюсь. В дверях неуверенно вращает головой тот самый парень, который преследовал меня в виде изображения в моем внутреннем слайдоскопе. Подхожу к нему.
— Дайте! Дайте видеть мне этого человека, — торжественно произношу что-то из таганского репертуара и кладу руку ему на плечо. — Ну, здравствуй, Степан.
— Добрый вечер, Дмитрий, рад познакомиться, — смущенно лепечет он, теребя мочку уха.
— Ну, здравствуй, брат, здравствуй, — крепко пожимаю протянутую руку, обнимаю его и снова отстраняюсь. — Знаешь, Степа, а физиономия у тебя вполне русская. И живой ты лучше, чем в фантомном, так сказать, виде. Мягкий и теплый. Пойдем, я тебя кое с кем познакомлю.
И тяну его за руку к столику, за которым сидит окаменевший Игорь. Знакомлю их по всем правилам дипломатического этикета, а после обмена любезностями говорю:
— Мы тут, Степан, в ожидании твоей персоны с Игорем затронули весьма интересную тему: может ли человек считать себя русским, если он не православный. И я предлагаю тебе подключиться к нашей беседе.. Итак, я утверждаю, что русский человек — это прежде всего православный христианин. Насколько мне известно, многие иностранцы вполне искренне считают себя русскими на том основании, что исповедуют православие.
— Да, я слышал такое, — говорит Степан. — Но мне пока это не совсем понятно.
— Не все сразу. Ты и приехал сюда, чтобы с этим разобраться. Вот что я предлагаю. Ты познакомишься с Россией, которая познается не только глазами и ушами, но в первую очередь сердцем. С Россией, духовность которой переживает века. И постараться понять, что на этом духовном плане, все самое главное и происходит.
— «Умом Россию не понять»? — сдержанно улыбается Степан.
— Именно! Даю гарантию, что с этим умственным непониманием ты постоянно и будешь сталкиваться. А теперь я обозначу предмет, так сказать, нашего исследования: Россия, как последний оплот сил света в конце времен.
— Звучит красиво! И сложно, — признается Степан.
— Только кажется. На самом деле, нет ничего интересней, чем разгадывать эту великую тайну. Нам будут сопутствовать искушения, какие-то мистические происшествия, череда случайностей — но и большая светлая радость необычайных озарений. Чудеса… да, чудеса — маленькие и большие — это тоже будет. — Поворачиваюсь к Игорю и спрашиваю: — Ты с нами?
— У меня дела… — произносит он, глядя перед собой.
— Как хочешь, — пожимаю плечами. — Ты сможешь присоединиться на любом этапе… операции. Только помни, Игорь, начальство у тебя может в скором времени поменяться. Даже наверняка. Так что ты хорошенько подумай, на кого ставить. У кого в России правда, будущее, сила. И какая сила!..
Сто рублей
Хорошо говорить с другом под мягкий стук колес. Особенно, если никто не мешает. На столике нашего купе на крахмальной салфетке в чашках покачивается розоватый чай. Открытый дорожный складень мягко сияет вечным светом иконных Ликов и переливчатой позолотой. Глаза наши периодически съезжают в сторону окна, пронзают взором прозрачную твердость оконного стекла, за которым летят огоньки, мелькают освещенные платформы, переезды с полосатыми шлагбаумами, темные леса. И только звезды на фиолетово-черном небесном ковре-самолете несутся вместе с нами сквозь незнакомые темные пространства. Там, за окном, все не так уютно, как здесь, но это вовсе не пугает, потому что мы надежно отгорожены и своей дорогой летим, летим вперед.
— Скажи, Дмитрий, а не бывает у тебя так, будто какое-то событие снова и снова повторяется. Может быть, по-разному, но очень похоже.
— Бывает, конечно, — отзываюсь я, любуясь в данный момент лунными отражениями на черной поверхности реки.
— Хочешь, я расскажу тебе одну историю?
— Давай.
— Это было еще при бабушке. Отец настоял, чтобы я совмещал учебу в колледже с работой. Что-то у него с карьерой не ладилось, и с оплатой счетов имелись проблемы. Устроился я официантом в ресторанчик. Денег мне платили маловато, и заработки едва покрывали расходы на учебу. А я имел уже подругу, мне нужно было одеваться прилично, платить за бассейн и теннисный корт. И однажды мой друг попросил у меня кредит.
— Взаймы, что ли?
— Да, взаймы. Сто долларов. В то время для меня эта сумма была очень серьезная — практически половина моего бюджета. Я долго колебался и даже ходил на совет к грэндма, к бабушке. А она сказала, чтобы я дал ему денег. О, бабушка — это христианка! Ты понимаешь, да?
— Русская.
— Ты меня понимаешь, Дима. Я послушался совета бабушки, и дал денег на две недели. Без процентов, хотя это у нас… не принято.
— И друг деньги тебе не вернул.
— Да, не вернул. Он стал от меня скрываться. От наших общих друзей я узнал, что он обо мне говорит нехорошее. Я очень мучился и пошел к бабушке. А она сказала, что все нормально. Ты, говорит, ему прости и забудь. Дима, я очень хотел это сделать, как сказала бабушка. Я старался. Я пошел с ней в церковь и поставил свечку за этого парня. Как запели «Отче наш», я тоже пел. А когда дошел до слов «…как и мы прощаем долги наша», то вместо «долги» пропел «сто долларов». Пел я громко, поэтому все услышали и даже некоторые оглянулись и засмеялись. И мне стало очень стыдно, потому что я понял, что не простил. А когда вынесли Святые дары, я представил себе, что это Сам Господь Иисус вышел ко мне, и упал на колени, и стал горячо просить Бога, чтобы Он дал мне прощение моего должника. А когда вышел из церкви, то понял, что у меня нет обиды на того парня, что я простил его.
— … А деньги потом к тебе вернулись.
— Да, вернулись. Откуда ты знаешь? Сначала пришел этот парень и принес сто долларов. Даже просил назначить процент за отсрочку. Я его поблагодарил, и он ушел веселый. И вдруг я понял, что не могу потратить эти деньги, потому что простил, и они уже как бы не мои. Бабушка очень обрадовалась этому и посоветовала пожертвовать их церкви. Когда я отдал деньги туда, мне стало очень, очень хорошо. А на следующий день мой босс, хозяин ресторана, выплатил мне премию в триста долларов и повысил в должности, назначив меня старшим официантом. Я прыгал от радости, да! Тогда я пригласил моего бывшего должника в бар и угостил его пивом. Он говорил мне, что я лучший друг, что таких парней раз-два и обчелся. Мы снова подружились.
— У меня была в точности такая же история, Степан. Примерно в то же время, что и у тебя. Только сумма другая — сто рублей. А самое интересное, что через три года она повторилась. Сумма во второй раз была крупнее, борьба с самим собой тяжелее, но все повторилось.
Степан снял наручные электронные часы, переключил их в режим калькулятора и начал быстро нажимать кнопки.
— Это тебя, Дима, может заинтересовать. Я прикинул разницу курсов рубля и доллара, учел инфляцию и структуру изменения запросов с возрастом. И вот, что получилось в результате: у тебя и у меня, в первый раз и во второй — были все те же сто рублей!
Заговорились далеко заполночь, а мы еще не приступали к правилу на сон грядущим. Вместе попеременно вычитываем его, лицом к складню. Часика на четыре засыпаем — и вот уж стучат в дверь, будят. Выходим на влажный перрон, а я ни с того, ни с сего вспоминаю:
— Помнится, преподобный Серафим говорил, чтобы к нему попасть, надо не одну пару лапоточков истоптать.
— Значит, зря мы ехали сюда с комфортом? — сквозь невольную зевоту реагирует Степан.
— Не волнуйся, соратник, если Преподобный обещал, то истопчем, сколько положено, — успокаиваю. — Никуда не денемся.
— Это образно, да?
— Сейчас увидим…
На вокзальной площади Арзамаса к нам подходят несколько таксистов. Выбираем парня попроще, неназойливого, и направляемся к его «Ниве». За нашей спиной стоит ругань: местная таксистская мафия возмущается, что наш шофер «влез без очереди и увел из-под носа клиентов». Договариваемся насчет цены. И мы со Степаном уже не удивляемся сумме, названной водителем: сто рублей.
Когда я кладу свою сумку в багажник, получаю скользящий удар в глаз углом задней двери.
— Начинаются «лапоточки»? — интересуется Степан, прикладывая к ранке платок.
— Угу…
Это напоминание, что прибыли мы не на прогулку, а воевать с властями тьмы, щитом от которых является молитва. Поэтому, только машина трогается, вручаю Степану молитвослов, и тот вполголоса читает утреннее правило. Сам же прошу водителя Володю завезти нас на Соборную площадь к нерукотворному Кресту.
В огромном соборе в этот утренний час народу немного. По самому большому скоплению людей определяем, где это воплощенное чудо. Пока медленно двигаемся в очереди, рассказываю, как некий человек получил его на корабле. Взвалил на плечо, понес, оглянулся — а корабля-то нет. Спрашивает прохожих о корабле, но ему отвечают, что никогда кораблей, тем более, больших, никто здесь не видел. И понял он тогда, что Крест сей нерукотворный, из Царствия небесного подарок. Какой-то безумец из ретивых комсомольцев, пробовал определить, из какого материала он «сделан». Отпилил часть пальца Спасителя, а из раны кровь хлынула. Вскоре у безумца того началась гангрена пальца, и он умер.
И вот подходим мы ко Кресту. Рельефное Распятие — живое и теплое. Тем страшные муки и крайнее измождение, запечатленные в каждой черточке лица, в каждом изгибе истерзанного тела Мученика. Страшно и блаженно подходить к этому неземному чуду. В каменных плитах перед Распятием множеством тысяч коленей за долгие годы протерты округлые ямки. И я опускаю в них свои колени, и чувствую обнимающее соединение с теми, кто стоял здесь раньше. Отхожу в поклоне, а оторваться от живого измученного лика Христа не могу. Подходит Степан и шепчет, что ему показалось, будто Иисус приоткрытыми глазами наблюдает за каждым подходящим.
На жертвенный поднос в волнении кладем вынутые купюры из карманов, первые попавшиеся из множества перемешанных разного достоинства, — разумеется, сто рублей…
Едем дальше мимо полей и лесов, деревень и восстающих из руин церквей. По окончании чтения канона преподобному Серафиму Володя рассказывает нам кое-что из истории. Мы предлагаем ему повозить нас по святым местам, и он сразу соглашается. Въезжаем в Дивеево, по плавному повороту едем по краю поселка и тормозим на стоянке, плотно заставленной автобусами и легковушками разных мастей. За аллеей старых тополей высится огромная колокольня с аркой. Нам туда. Идем со Степаном и потираем саднящие тупой болью поясницы. У меня позвоночник просто горит, как в огне. Эх, старость не радость.
Как учили меня старшие по вере друзья, когда приезжаешь в монастырь, прежде всяких дел надлежит приложиться к святым мощам. Так что направляемся к раке с мощами преподобного Серафима Саровского, к величественному Троицкому собору. На входе делаю три поясных поклона, а в пояснице что-то хрустит, трещит и колет острыми иглами. «Лапоточки продолжаются…» Не дай, Господи, сломаться мне здесь так некстати.
Выстаиваем очередь к мощам святым. Позвоночник продолжает жечь, будто огнем. Погружаюсь в молитву и чувствую, что всякая моя просьба о помощи угодна любимцу Пресвятой Богородицы, будто он рядом, и я к нему обращаюсь вслух, а он на каждое мое прошение согласно кивает головой.
— Скажи, отче Серафиме, как спастись?
— Смирением и терпением, радость моя. Только так.
— Батюшка святой, как познать волю Божию?
— Все в сердце, ваше боголюбие, все там. Внимай сердечку своему — оттуда Господь тебе и подскажет.
— Как выдержать натиск зла, батюшка Серафим?
— Зло для злых, а ты будь добрым, оно тебя и не тронет.
— А как же тебя, батюшка, разбойники били да истязали? Неужто ты злым был?
— Так это я сам Господа об этом упросил. Так переживал я вольные страсти Спасителя, что и сам восхотел стать их причастником. Когда благодать поселится в сердце твоем, то и ты сам пожелаешь страдать за Христа.
— Отче Серафиме, помоги мне…
— Если ты приехал ко мне, радость моя, то уж и гостем дорогим и другом моим стал. Так я тебя теперь до самого Страшного Суда под ручки поведу, — улыбается мой собеседник, как солнышком освещает. — А когда ты по Канавке Царицы Небесной пройдешь, то сама Матушка наша Заступница тебя по головке погладит. Вот увидишь… — снова полыхает солнечной улыбкой преподобный Старец.
Неожиданно скоро подходим к раке. Позвоночник все еще горит, но меньше. Здесь сильное благоухание: то ли от множества цветов, то ли от святых мощей. С трепетом прикладываюсь, прошу Преподобного помочь в нашем деле и не дать мне сломаться. Под гулкий протяжный сердечный набат прохожу дальше.
Здесь монахиня заступом самого преподобного старца о. Серафима слегка поколачивает по нашим спинам. Затем прикладываемся к ботинкам Батюшки, а за спиной слышим, как трудница рассказывает кому-то, что ежедневно с ботиков пыль с песочком стирают, словно батюшка Серафим каждый день обходит в них свои владения. Собеседница таким же взволнованным шепотом говорит, что монахи при переоблачении святых мощей каждый раз отмечают, что плоть на косточках нарастает. Так что скоро уж, наверное, Батюшке на проповедь всемирного покаяния подниматься…
Выходим из собора, и я понимаю, что со мной что-то сейчас произошло. Что-то было — и пропало. Ощупываю карманы, осматриваю себя — все на месте. Что же я потерял? И вдруг меня озаряет: боль в позвоночнике исчезла! Сообщаю об этом Степану. Он констатирует: «лапоточки».
За вторым собором, Преображенским, тоже огромным, за оградой, от Креста с камнем начинается хождение по Канавке Богородицы. Народу почти никого. Достаем четки, прикладываемся к мокрому от росы Кресту и медленным шагом идем, шепотом читая «Богородице, Дево, Радуйся…» С высоких деревьев снимаются черные тучи воронья, и весь наш путь в утреннем зыбком тумане озвучивается оголтелым карканьем. Вокруг нас крупным белым дождем шлепается их обильный помет, но ни одна капля не попадает на нас. Прикладываемся к иконе Новомучеников Российских, прикрепленных к оградке лиственницы, посаженной Государем-мучеником в 1903 году.
Дальше путь пролегает мимо сараев, где громко опохмеляется местная богема. От этой краснолицей хрипатой тусовки отделяется и увязывается за нами, остервенело гавкает и клацает зубами в сантиметре от наших ног грязная взъерошенная псина. Однако укусить не решается. Не дают… Последние из полутора сотен Богородичных молитв дочитываем, стоя у последнего Креста. Потом обсуждаем явление нам покрова Богородицы во время искушений. Степан бледен, видимо сильно испугался, но держится молодцом, и глаза его сияют.
В ложбинке под изгородью у телеграфного столба на мокрой траве мирно почивает нищий с костылями. От утреннего холода нас знобит, а этот лежит себе и посапывает, как на перине. Рядом с ним у асфальтовой дорожки валяется цигейковая шапка с мелочью. Мы со Степаном лезем в карманы и наугад достаем купюры. Как вы думаете, какого достоинства?..
Самое главное мы сделали: получили благословение от Богородицы и батюшки Серафима. Теперь можно и о жилье подумать. Володя ждет нас у машины. Он предлагает отвезти нас к знакомой странноприимнице. Дом её стоит недалеко от монастыря на соседней улочке. Мы входим, спрашиваем хозяйку. Из-за ширмы в конце коридора к нам выходит круглолицая улыбчивая женщина в платочке и говорит, что для «таких гостей» у нее есть отдельная комнатка. Правда, сейчас она занята, но завтра жильцы съедут. Ну, а пока можно разместиться со всеми. И мы по лестнице поднимаемся на второй этаж «ко всем». Здесь одно большое помещение, разделенное перегородкой на две части: мужскую и женскую. На полу — ряд матрасов. Выбираем себе два рядом, бросаем сумки в головы. Спрашиваем хозяюшку, сколько за три дня, учитывая переселение в комнату. И она называет все ту же круглую, с двумя нулями, цифру.
Гений чистоты
Во время службы народ в соборе ведет себя по-разному. Те, которые ближе к алтарю, тихи и сосредоточенны, в середине появляется некое легкое движение: ставят свечи, переходя с места на место, делятся впечатлениями с соседями, а у входа, да еще рядом со свечными ящиками — здесь и вовсе почти светские беседы и нравы.
Меня влечет вперед, в покой и страх Божий, но сейчас мы со Степаном стоим у свечного ящика в очереди подавателей записок и печально глядим на тех, кто без очереди тянут записки к монахине, лукаво надеясь, что это им на пользу. Степан в отличие от меня совершенно спокоен. Во всяком случае, внешне. Пожилая монахиня безропотно принимает у всех исписанные именами листики, тихонько задавая уточняющие вопросы и разбираясь с деньгами. Руки с записками тянутся со всех сторон. Те, кто без очереди, особенно настойчивы. Вспыхивающее во мне раздражение заливаю успокоительной прохладой Иисусовой молитвы. Для этого мне надо смотреть в какую-нибудь точку. Выбираю для этого звездочку на образе Богородицы «Умиление», ту самую, которая на кротко склоненной прекрасной главе Пречистой Девы.
Несколько раз мимо проходит старушка и толкает жестким локотком. «Колдунья, что ли?» — проносится во мне. Трижды получаю от нее укол локтем и колючий взгляд темных малюсеньких глазок. Трижды с ласковостью в голосе прошу у нее прощения за свою неуклюжесть. И снова свожу глаза к звездочке и возвращаю молитву в гортань.
Вот и наша очередь. Пожилая монахиня отошла вглубь, а передо мной стоит юная послушница лет семнадцати с кроткой улыбкой, едва заметной в уголках пухлых детских губ. Старушка у нее за спиной вопрошает, где крестики с мощевиками, называя ее Херувимой, а девочка-монахиня отвечает ей тоненьким с легким пришепетыванием голоском. И все в этой девочке подобно ее таинственному чину: легкие движения, тихий голосок, кроткая улыбка — все ангелоподобно, мягко сияет чистотой и благоуханным девичеством. «Отними у ангела крылья — станет дева; дай деве крылья — станет ангел».
Протягиваем ей наши записки, а мне хочется спросить, как ей приходится в этом жестоком мире, где так трудно ей хранить себя, ограждая черной одеждой, являющей символ смерти для мира сего. Но тут я вспоминаю, что монаха в послушании ограждают семь ангелов, представляю себе это всесильное, лучезарное окружение с огненными мечами — и успокаиваюсь. Эта девочка-монахиня, эта огненная Херувима защищена лучше любого богатого или сановного человека.
Видимо, эта моя разноголосица отражается на моем напряженном помятом лице, поэтому по губам монахини пробегает улыбка, с которой добрая мать обращается к своему несмышленому дитю. Несколько секунд длится мое общение с девочкой-монахиней. Несколько слов, пара движений, легкий отблеск небесного отсвета на ее личике — а я будто сам очистился и засиял, как закопченный на костре чайник от «надраивания» его белым речным песочком.
Отходим в сторону, а мой взгляд по привычке ищет золотистую звездочку на главе Пречистой Девы Марии — точку опоры моей немудреной молитвы. И в этот миг по чудотворному образу пробегает нечаянный багряный свет солнечного луча, кроткие полуопущенные очи словно приоткрываются, и я читаю в их ясной глубине отсвет такой же, как и матушки Херувимы, ласковой материнской улыбки. Мне нужно туда, ближе к «Умилению», но плотная толпа людей на позволяет приблизиться даже на шаг. И я замираю, где стою. Как бы извиняясь, гляжу на прекрасный лик Девы Марии, пожимая плечами, и печально улыбаюсь. Но, что за чудеса! Снова ловлю на себе ободряющий и успокаивающий материнский взор.
В это время рядом со мной происходит некое движение, приглушенно звучат слова извинения, и плотная толпа расступается. Впереди встают четверо: деревенского типа священник, его худенькая, болезненная на вид матушка и двое очень похожих на родителей — юноша и девушка. Парень, как бдительный телохранитель, обозревает сурово окружающих и, не найдя ничего опасного, устремляет взгляд вперед. Девушка по-детски увлеченно разглядывает иконостас, образы, укрепленные на столбах и огромное золоченое паникадило в сотнях горящих лампочек.
И снова мне доводится стать свидетелем «гения чистой красоты». Стройная, высокая, тоненькая фигурка девушки как бы подчеркивается свободным светлым платьем. На лебединой шее изящная головка с выбившимися из-под платочка прядями светло-русых волос. Нежное личико еще не утратило детской округлости, но черты его уже выявляют врожденную благородную красоту. Движения ее осторожны и плавны. Поклоны и крестные знамения благочестивы и неспешны. По всему видно, что ей привычно внимание окружающих, но осознание этого лишь укрепляет осмотрительность каждого движения.
Вспоминается словесный портрет монахини Марии из «Летописи Серафимо-Дивеевского монастыря» архимандрита о.Серафима Чичагова: «Мария Семеновна была высокого роста и привлекательной наружности; продолговатое, белое и свежее лицо, голубые глаза, густые, светло-русые брови и такие же волосы. Ее похоронили с распущенными волосами».
Ох, и непроста жизнь ваша, красавицы! Все время в центре внимания, в перекрестии взглядов — любующихся, завистливых, любопытных, а порой и похотливых. Не зря самые красивые русские девушки уходили в монастыри, подальше от липкой паутины взглядов, подальше от ярмарки невест, где торгуют девичьей красотой…
Вокруг нас волнами прокатывается возмущение, нарастает толчея и шум разговоров. Внутрь собора входит еще одна толпа паломников, потом еще. Со стороны раки слышится громкий крик, визг, похожий на поросячий. Все оборачиваются туда, подаются поглазеть на чьи-то муки. «Бесноватая кричит. Как ее, бедную, враг мучит, ай-я-яй!» — слышу за спиной. Отчаянный крик, потом злобный хохот и снова поросячий визг повторяются, переходят в истерический плач и мало-помалу стихают. Только жалобные всхлипы и участливые материнские слова раздаются в наступившей тишине. Но вот пробегает шумок, шевеления и слышу впереди себя: «А ведь молодая какая! И красивая! Да так хорошо одета. Надо же!..». По сердцу резануло нехорошее предчувствие, будто это имеет ко мне отношение.
Пытаюсь успокоиться и сосредоточиться на службе. Но вот очередная волна буквально выталкивает меня к выходу, и я оказываюсь на паперти. Следом протискивается Степан, несколько взъерошенный, но, по-прежнему, невозмутимый. Здесь толчея еще возбужденнее, разговоры громче, бойкие растрепанные девчушки по-цыгански выпрашивают деньги, хвалясь друг перед дружкой звонкой добычей…
Идем по дорожке среди цветов, идем в тишину, проходим под аркой колокольни и сворачиваем к небольшой Казанской церкви. Здесь, кроме молодой семейной парочки у ларька с иконками, — никого. Дверь церкви открыта и меня тянет, зовет туда внутрь. Прохожу первым и сильно ударяюсь макушкой о низкую притолоку. Степан шепчет «лапоточки» и следует за мной, низко склонившись. В притворе у монахини покупаю свечи и, снова задев головой притолоку, с благодарностью потирая ушибленные места, вхожу в желанный покой.
У подсвечника монахиня, не поднимая глаз, принимает у меня свечи, плавными движениями гибких рук зажигает и ровнехонько ставит. За спиной тонкий девичий голос полушепотом читает Неусыпаемую Псалтирь. По ковровым дорожкам, неслышно ступая, обхожу раки со святыми мощами. Здесь покоится преподобная м.Александра — первая настоятельница, которой явилась Сама Богородица и указала строить здесь обитель. Вот рака с мощами преподобной м.Елены, умершей по просьбе батюшки Серафима вместо Михаила Мантурова, так нужного ему тогда для продолжения строительства. «Благослови, батюшка Серафим», — только и сказала она, а через три дня душа ее в сонме ангелов возлетела на Небеса.
А в этой раке под золотистым покрывалом с крестами покоятся мощи любимой Батюшкиной воспитанницы, девочки-монахини Марии, в схиме — Марфы. Ей он доверял сокровенные тайны о будущем Дивеева, России, мира. Опускаюсь в земном поклоне на колени, прикладываюсь к крестикам на покрывале… А во мне звучит тоненький девичий голосок: «А какие видом-то монахи, Парашенька, на Батюшку, что ли похожи?»
Ругал Батюшка сестер, которые плакали по смерти м.Елены, а когда м.Марфа в свои девятнадцать умерла, то сам больше месяца плакал, слез не мог остановить. Так же и по моему лицу льются слезы, а в ушах звучит тонкий девичий голосок… А благоухание здесь, тишина, покой… Уходить отсюда не хочется. Хорошо, будто в преддверии рая. Теперь эта дивная схимница — Настоятельница Небесного Дивеева, у престола Святой Троицы. Преподобный Серафим так велел молиться ей: «Госпоже и мати наша Марфо, помяни нас у престола Божия во Царствии небесном!»
За своими переживаниями не заметил, куда пропал американец. Выхожу, оглядываюсь, нахожу его стоящим лицом к церковной стене. Плечи его сотрясаются. Я подхожу и мягко хлопаю по спине. Он не оборачиваясь пожимает плечами и громким срывающимся шепотом произносит:
— Не понимаю, Дмитрий. Я ничего не понимаю… Это мистика. Они рядом, они живые!
— Это действительно тайна из тайн, Степан. Здесь дом Божий. Здесь все живет Духом Святым. Небо и земля тут соединяются. А вечность — с краткой земной жизнью. Святые в Царствии небесном на самом деле ближе к нам, чем многие живые люди.
Садимся в машину, и Володя везет нас на Серафимов источник. Выезжаем из поселка и полчаса едем мимо деревенек, широких полей, древних сосновых и березовых лесов. Высокие свечи синих цветов сплошными зарослями окружают дорогу. Каждая пядь этой земли исхожена преподобным Серафимом, его «Дивеевскими сиротками». Из-за поворота дороги показывается стоянка, плотно заставленная автобусами и машинами. Выходим и устремляемся сквозь толпы народа по мостику через речку к синему озерцу.
Здесь рядом с часовней установлена икона Батюшки с цветами. Прикладываемся к прохладному стеклу и вдыхаем тонкий аромат. В этом месте сквозь голубоватую воду просматриваются округлые донные камни. Огибаем слева по дорожке озерцо и поднимаемся по крутому холму к большому золотистому Кресту. Раньше он стоял на куполе Дивеевского Троицкого собора, потом кресты сменили и этот установили на источнике. У его подножия горят свечи, один за одним идут к нему паломники. Прикладываемся и мы.
Видимо, у меня при этом задралась рубашка и обнажилась часть спины. Затем чувствую какое-то неприятное шевеление и пальцами почесываю поясницу. В палец левой руки впивается раскаленная игла. Подношу укушенное место к глазам, а из первой фаланги торчит коричневой иглой осиное жало. Быстро вытаскиваю его и высасываю яд. Палец горит и чешется, но терпимо. «Лапоточки», — слышу шепот Степана. «Слава Богу за все», — слышу свой шепот. Дальше спускаемся по лестнице к мосткам и садимся на скамейку.
У наших ног переливается бирюзовая святая вода. В ней отражается часовня. Вот по лесенке в воду спускается пожилая женщина в белой рубашке. От ее шумных окунаний по воде расходятся круги. Отражение часовни искажается, извивается и передо мной мелькает силуэт батюшки Серафима с крестом в благословляющей руке.
Под нерешительным взором американца раздеваюсь. Молюсь Господу, Пресвятой Богородице и преподобному Серафиму. Пролезаю под перилами ограждения и опускаюсь в воду. Пока ноги касаются дна, и уровень воды устанавливается на уровне груди, меня обжигает ледяной холод. Трижды окунаюсь и обратно по перекладинам перил, как по лесенке, забираюсь на дощатый настил. В голове несколько раз проносится легкий вихрь, тело горит, как от жара, душа поет и звенит! Не вытираясь, брызжа во все стороны хрустальными каплями, одеваюсь.
В это время мой Степан медленно раздевается, аккуратно складывает одежду на скамье и внимательно слушает бородатого парня лет двадцати пяти. Тот объясняет, что в святой источник окунаться надо с головой трижды и желательно три раза по три дня. Обязательно с головой, потому что тогда все до единого бесы из тебя выскакивают, и ты очищаешься.
Степан погружается в святой источник и, фыркая, улыбаясь, возвращается на мостик, присаживается на скамью. После холодной воды все тело горит, поэтому холода не ощущаешь. Потихоньку одеваемся. Негромко переговариваемся, боясь нарушить царящий здесь мирный покой. Наш советник по имени Виктор, трудник монастыря, рассказывает нам, что почти каждый день ездит сюда окунаться. За два года наблюдал множество случаев исцеления. Приезжали сюда на инвалидных колясках, а уезжали на своих ногах. Девочка одна тут с месяц назад упиралась, не хотела в воду святую входить, так ее папа обхватил руками и вместе с ней окунался. А девчонка кричала басом, как пьяный мужик: «Все равно не дам тебе курить бросить!»
Бесноватые здесь кричат, а потом исцеляются и становятся мирными. Вот и сегодня днем видел он, как девушка красивая и хорошо одетая кричала здесь, как резаный поросенок. И снова мое сердце сдавило, будто это меня касается. Я прошу Виктора описать ее подробнее. Пока он составляет ее словесный портрет, мои подозрения все более укрепляются: кажется, нас со Степаном ожидает одна очень важная встреча.
Одетые и свежие, с мокрыми волосами — идем по мосткам к стоянке. С благодарностью подходим к образу преподобного Серафима. Снова тонкое благоухание исходит от иконы.
Заглядываем в часовенку у озера. Здесь среди иконок, свечей и книг обнаруживаю цветную фотографию с отражением в синеве озерной святой воды силуэта шатра с луковкой и крестом часовни. Только что я видел это! — в изгибе озерной волны отражается батюшка Серафим, осеняющий крестом купающихся… По моей спине медленно прокатывается волна мурашек, сверху вниз и обратно. Степан из-за плеча разглядывает фотографию, широко открыв рот.
Сразу за мостиком через речку — стол, где продают чай с пирожками. Мы с аппетитом перекусываем, угощая нашего рассказчика, и предлагаем подбросить его домой. Виктор соглашается.
Володя, заводит машину и, обернувшись к нам, весело говорит:
— Вы, мужики, будто заново родились. Приятно на вас посмотреть.
Едем мимо древних сосен, молчим, глядя в окна. Красиво здесь! Но кроме этого что-то еще загадочное постоянно притягивает взоры. Мне, например, кажется, что где-то рядом, может быть, вон за той стройной березкой, или за этой мощной сосной — ходит в светлом балахоне величайший светоч земли русской — батюшка Серафим. И не иконно застывший, но живой — подвижный, улыбчивый, необычайно добрый, с пронзительным взором всевидящих ясных глаз.
— Володя, останови, пожалуйста, — слышу рядом изменившийся хриплый голос Степана.
Машина прижимается к обочине, я выхожу, наклоняю переднее сидение, выпускаю его. Он выпрыгивает, пробегает несколько шагов и падает в песок на колени. Его голова медленно опускается, лоб упирается в песок, спина сотрясается.
— Эк, парня проняло! Видать не зря сюда приехал, — громко шепчет Володя.
— А сюда никто зря не приезжает, — шепчет ему в ответ Виктор.
Нерешительно подхожу к Степану и тоже становлюсь рядом на колени. Кладу ладонь на выгнутую спину с выступающим позвоночником. Он громко всхлипывает, вытирает мокрое лицо и сдавленно произносит:
— Это святая земля, Дима! Это святая Русь… — он гладит песок, кочку с пучком примятой травы. — И это моя земля, моя Родина, слышишь? Ты что думаешь, я тупой бесчувственный американец, да? Да мне ходить по этой земле страшно, потому что она святая, понимаешь? Ее целовать нужно, а я, как скотина, хожу по ней. Это моя земля! Это земля моих предков! Это моя Родина! Моя Русь!
— Да Степан, твоя… И никто у тебя этого не отнимет.
— И в эту… в этот Содом американский я возвращаться не хочу. Там одна мерзость! — он отрицательно мотает головой, растопыренными пальцами показывает на сосны, небо, карьерное озерцо в песчаных берегах. — Здесь! нужно жить. Здесь! хочу умереть…
— Хорошо, Степан, только прежде нам с тобой много чего сделать нужно.
— Димитрий, ты только скажи что — я сделаю.
— Господь укажет нам — и что, и где…
Перелом
Говорили мне раньше, предупреждали, что бесполезно что-либо планировать в таком святом месте, как Дивеево. Ангелы здесь водят людей. Ранним утром стоим со Степаном в очереди на исповедь. Единственный священник — и не меньше сотни исповедников. Шансов исповедаться у нас почти нет. Вчера вечером, когда нас буквально вытолкнули из собора, исповедь у нас уже сорвалась. Первыми заняли очередь. Но неожиданно открыли доступ к образу «Умиление», и пока мы прикладывались, священник принял полсотни людей и ушел.
Я мысленно взываю сейчас к преподобному Серафиму, Степан же неотрывно смотрит на «Умиление» и тихонько шепчет молитву Богородице. Перед нами целая толпа народа. Входит еще одна группа людей и пристраивается почему-то параллельно с нами, потихоньку оттесняя нас от аналоя.
Вдруг меня под локоть берут чьи-то сильные руки и влекут в сторону, я автоматически цепляюсь за Степана — так, один за другим, мы первыми оказываемся у второго аналоя. А священник, выдернувший нас из толпы, стоит, опираясь рукой на аналой, и улыбается нам. Если я исповедуюсь недолго и на удивление дежурно, то Степан мой, стоя на коленях, рыдает, как дитя. Священник нагибается к нему, накрыв епитрахилью, и говорит, говорит с ним… Но, слава Богу, они, кажется, оба довольны исповедью, и мы отходим в левый придел поближе к мощам батюшки Серафима. Здесь собралась сотня, не меньше, причастников.
Сейчас мне принимать Святые Дары. Через несколько минут встречать и принимать в «доме моем» Творца и Вседержителя всего и всех, а там, внутри дома моего темно и холодно. Вот так, Дмитрий Сергеевич, показывается тебе твоя «великодержавная» серая немочь. Американец целует землю, Русь святую прозревая духом, горит покаянным огнем, а ты — как глыба гранита, будто каменюка замороженная… Как ты там называл отошедших от Православия? Что, даже и произносить этого словечка не хочешь? Это не потому ли, что на сегодня это твоя характеристика? Господи, прости меня, прах и пепел, возомнивший себя чем-то стоящим! Никто я пред Твоим явлением, пред Судом Твоим, пред величием Твоим, пред всесовершенным Совершенством Твоим. Прости меня, Господи, грязь подножную, недостойную Тебя!..
Меня стучат по спине и женским голоском спрашивают, сколько времени. Нас предупреждали насчет колдунов, которых так и тянет к святым местам. Разумеется, я на вопрос не отвечаю, часто-часто повторяя спасительное имя Господа. Тогда та же рука долбит Степана по спине, и тот же ласковый голосок интересуется, нет ли у нас в машине свободного места, потому что ее благословили ехать в Киевскую Лавру. Степан бледнеет, но, уткнувшись в пол, стоит, как каменный, только шевелит губами. Не добившись от нас ничего, женщина по очереди пристает к другим. Кто-то не выдерживает и сгоряча резко отвечает — этого ей только и надо. Вокруг скандала народ волнуется… Ох, сколько темной нечисти она успевает напустить в мятущиеся души людей, снявших покров смирения… «Не суди…»
Молодая плечистая мамаша держит на руках годовалого мальчика, рядом стоят его старшие брат с сестричкой, которые по очереди касаются то ручки малыша, то ножки и улыбаются ему. Малыш вертит головой, рассматривая окружающих, взгляд его по кругу доходит до скандалистов — он открывает в пол-лица рот с розовым языком и четырьмя зубиками, закрывает глаза и принимается истошно орать на одной ноте: «А-а-а-а-а-а…. (мать деловито размашисто крестит малыша и отдельно — его распахнутый ротик) …а-ап!» — в ту же секунду замолкает малыш и, как ни в чем не бывало, продолжает глазеть на людей.
Но вот и Чаша сверкает в руках священника — над нами, над суетой, над всем. Две тени из скандального угла уносятся прочь, а мы все, как один, падаем ниц — Христос «нас ради человек и нашего ради спасения» сошел с Небес. Встаем. Сначала с одной стороны раздается истошный визг. Потом краем глаза вижу, как с другой стороны — падает пожилая женщина, ее подхватывают молодые мужчины, она сначала гавкает, как цепной пес, а потом густым хриплым басом кричит: «Товарищ Ленин, спасите! Христос по мою душу пришел!». Женщина разбрасывает крепких парней, ее хватают за руки и прижимают к полу. Но она изворачивается и, раскидав всех в стороны, с истошными воплями выбегает из храма.
В это время перед нами две монахини держат за руки девушку, она повизгивает и вырывается, но к Чаше подходит. В какой-то невидимой внутренней борьбе, передергиваясь всем телом, сама открывает рот, принимает Святые дары и сразу обмякает. Теперь только одна монахиня поддерживает ее под руку и ведет к столу с теплотой. Мокрое от слез, красное лицо девушки поворачивается ко мне — и я узнаю Лену, очаровательную собеседницу у камина в доме Доктора. Она, не видя никого вокруг, с опущенными глазами проходит мимо. Дивны дела Твои, Господи!
Причащаемся и мы. Степан стоит рядом на благодарственной молитве с носовым платком в руке. Мой взгляд снова устремлен к «Умилению». Глаза Пресвятой Богородицы кротко прикрыты, но материнская мягкая улыбка так и согревает дивный светлый лик, и тепло это вливается в самую глубину сердца. И батюшка Серафим с большой иконы одобрительно взирает на нас: «Христос воскресе, радости мои! Отныне вы дети мои до конца времен».
Из храма идем во временное свое пристанище. Заворачиваем в магазинчик, набираем еды и с пакетами в руках входим на второй этаж дома. Здесь за чайным столом всегда кто-нибудь сидит. Увидев нас, женщина отодвигается в угол, освобождая нам место. Выкладываем снедь и предлагаем соседям присоединиться. Кроме женщины за столом — папа с трехлетним сыном на руках. Мужчина приветливо здоровается и желает нам Ангела хранителя за трапезой. Сынок просит соку, Степан придвигает ему на выбор несколько разнокалиберных пакетов. Папа благодарит и спрашивает, откуда мы. Узнав, что из Москвы, просит подать записки на Афонское подворье. Мы киваем, и он, аккуратно вырвав из тетрадки листок, тут же за столом пишет имена.
На вид мужчине лет сорок, красив, одет со вкусом, но одежда заметно поношена. Заглядывает на секунду к нам с женской половины молодая женщина с девочкой на руках, шепчет что-то ему на ухо и скрывается за дверью. Видимо, жена его. И тоже красавица. Только что-то в этой семье не так. Выглядят вполне благополучно, молодые и красивые, но болезненно-бледные и необычайно тихие. Я беру записки, в которых рядом с каждым именем приписано «болящ.» и отношу в комнату, определяю в рюкзак. Беру его с собой в столовую и ставлю в ноги, достаю оттуда столовые приборы.
Степан уже соорудил мне сэндвич с паштетом. Женщина разливает чай и рассказывает:
— Забрали моего Павлика в армию и направили в Чечню. Тогда испугалась я очень. Не дай Бог, что с ним случится, я не переживу. Плакала все, ревела… А соседка и направила меня к батюшке нашему посоветоваться. Я раньше в церковь ходила только свечку поставить, да и то раз в год по великим праздникам. Батюшка посоветовал сюда ехать. Приехала на три денечка, а живу четвертый месяц. Ехала, думала, как же там без меня хозяйство, куры, корова. Ничего, все управилось. Зато здесь молюсь за Павлушку, и на сердце такое спокойствие, будто сынок мой рядом со мной, а не на войне. Из деревни соседка переслала письмо его военное, так он сообщает, что у него все хорошо, жив-здоров, мол, не волнуйтесь. А я теперь и не волнуюсь даже. Работаю на послушании в трапезной, в собор хожу, на Канавку Царицы Небесной, да все молюсь батюшке Серафиму, как отцу родному. Он все и устраивает.
— А мы второй раз приезжаем, — вступает мужчина. — Почти всех родных похоронили… Мы из зоны Чернобыля… Там одни верующие и выжили. Если бы не вера, и нас бы уже не было, нам сказали, что мы приняли пятикратную смертельную дозу радиации.
Мужчина печально улыбается, как бы извиняясь. Мальчик на его коленях с наслаждением пьет сок через соломинку. Красивый мальчик, только бледный и не по-детски тихий и серьезный.
Пьем чай, жуем бутерброды, друг за другом ухаживаем. У каждого своя боль, своя судьба, но хорошо нам здесь. Это невозможно объяснить, но нам… удивительно хорошо, случайным и незнакомым людям, из разных сторон призванным сюда и посаженным за одним столом. А тут и Степан разговорился.
— А я русский, но приехал из Америки. Здесь снова становлюсь русским. Чувствую, как корни мои в эту землю врастают. Я сейчас смотрю на вас, и вы мне все, как родные. Впервые вижу вас, а мне хочется умереть за вас. Нет… это словами не скажешь. Я просто вас люблю. Простите…
Мальчик перелезает к Степану на колени и доверчиво обнимает его. Американец прижимает его к груди и бережно гладит, гладит белые пушистые детские волосы.
— Там, в Америке, мне было плохо. Все только и говорят, что о деньгах. Чуть в сторону от этой темы — и стоп. Они превращаются в глухих. И все бы, вроде, хорошо там у меня: дом, жена красивая, карьера — а на душе тяжело. Только здесь и отошел немного, задышал полной грудью. Вы сами не знаете, как это хорошо жить в России.
— А кем вы работаете? — спрашивает женщина.
— Архитектором. Дело в том, что живу я в Майами, а там это престижно. Есть такое направление в архитектуре, как арт-дизайн. Это оформление фасадов яркими такими цветами. Платят за это много. Через тестя я добился заказа на отделку станций монорельсовой дороги и нескольких престижных зданий, и нам, троим сотрудникам, удалось меньше, чем за год стать миллионерами. Только все это… не интересно. Они там рай на земле пытаются построить. Все занимаются развлечением, вкусным питанием, красивой одеждой. Все украшают, разрисовывают, цветы везде… А в результате получается Содом. Больше трех четвертей населения — цветные. Их бизнес — наркотики, контрабанда, преступность. Белые держатся вокруг гомосексуальной мафии. В общем, новый Содом…
— Да, это уж лучше в нищете, только не в Содоме жить, — кивает женщина. Не ровен час, огненной серой, как старый Содом, Господь зальет.— Ты уж, милый, если русский, то и живи тут. Здесь каждое деревце, каждая травинка — все родное. Дома и смерть красна. Где еще спасаться-то, если не в России.
— Вы знаете, дорогие мои, здесь, на этой святой земле я это понял. И решил для себя абсолютно, что останусь жить здесь, дома, в России.
Я готов развить эту тему. Мне нужно так много сказать, объяснить, но… В этот миг внутри моего рюкзака приглушенно дребезжит телефон. Каким ненужным и неуместным кажется мне этот звук из другой жизни, из того мира. Однако он продолжает существовать и назойливо требует моего участия.
— У вас все хорошо? — звучит искаженный помехами голос Доктора.
— Да, так хорошо, как сейчас, признаться давно не было.
— Как наш объект, как Стив?
— Врастает в новую жизнь всем сердцем. Он молодец. Он гораздо лучше нас всех.
— Ты вот что, Дима… В моей жизни так много было глупости и предательств. Оказывается, самое трудное в жизни это не деньги заработать, не власть над людьми заиметь — при наличии каких-то минимальных качеств это сможет почти любой. Теперь я понял, что самое главное — это иметь рядом честного человека, на которого можно положиться, которому можно доверить спину. А с этим у нас большая проблема. Что-то с людьми происходит нехорошее. За тысячу долларов любой, вчера еще частный парень, может родного брата предать. Стыдно признаться, Дмитрий Сергеевич, я без «Кольта» и охраны в сортир не хожу. Ты, Димка, у меня один…
— Может, ты преувеличиваешь, Филипп Борисович?
— Нет. Один. Такой слабый — и такой несокрушимый… Это мне еще понимать — не понять… Теперь слушай. Мне очень нужно это тебе сказать прямо сейчас. Ты потерпи меня еще немного. Я на тебя возлагаю все мои надежды. Очень и очень многое. Я знаю, тебе что-то покажется ненужным, многое тебе придется менять и перекраивать на свой лад — это твое право. Пока я буду рядом, я тебе буду только помогать, абсолютно доверяясь во всем. Я положу под твои ноги всех врагов…
— Вот этого не надо!
— Ладно. Ладно… Сейчас от меня что-нибудь нужно?
— Пожалуй. Отмени все силовые заготовки по Степану. Все решается мирным путем. Еще неплохо передать мне Игоря в помощь. И еще ты обещал Лену от прежней жизни оградить, то есть от возможных осложнений с той стороны. Так вот она уже порвала. Следующий — Игорь, имей ввиду.
— Что у вас происходит?
— Война. За спасение души человека. Без пальбы и треска, тихая и почти незаметная. Только здесь на нашей стороне такие силы, что враг смят и позорно бежит, сломя голову.
— Почему там нет меня? Дима, почему все это прошло мимо?
— Приезжай. Брось все и приезжай.
— Так просто… Нет, Дмитрий Сергеевич, кажется, в этот последний экспресс я уже опоздал.
— Это твои слова.
— Так я заканчиваю. Еще раз прошу тебя понять. На тебя у меня вся надежда.
Отбой. Гудки. Тишина.
И этого прорвало. Что-то будет…
На вечерней службе встречаем Лену. Это уже не прежняя роскошная, обворожительная женщина, играющая некую порочную роль. В этом новом качестве Лена, должно быть, похожа на ту юную, чистую девочку-подростка, которая еще не знала страшного и ответственного выбора: согласиться на сладкий грех или с горечью воздержаться. Она сейчас, будто опалена огнем, уничтожившим всю нажитую нечистоту. По всему видно, что это состояние для нее — как возвращение в невинное детство, только через печальный опыт жестоких мучительных страданий. Но, тем дороже бесценный опыт, тем крепче будет ее воля к спасению, к удержанию в себе благодати, которая куплена немалой ценой. Поэтому она сейчас таинственно недоступна, и словно, светится изнутри.
Лена только кивает, потупив глаза, и сообщает, что у нее все хорошо. Она решила здесь пожить, сколько получится. За ней тут приглядывают, помогают, появились подруги. Так что волноваться за нее не надо. Мне кажется, что встреча со мной тягостна для нее. Возможно, я невольно напоминаю ей прежнюю жизнь, с которой она порвала.
— А как твоя мама? — спрашиваю. — Ты говорила, она болеет.
— Здесь решаются все проблемы. Насчет мамы мне тоже обещали помочь. Я ее сюда привезу, — ее усталое лицо озаряется улыбкой. — Пресвятая Богородица все устроит. Все!
— Спасайся, сестренка.
— Спаси тебя Господи, — шепчет она. — Прости меня, пожалуйста.
Чуть позже выходим из собора и видим сидящего на лавочке полковника Игоря. Он приглашает нас пройтись и поговорить.
— Когда я убил первого человека, — начинает он свой рассказ, — во мне ничего даже не дрогнуло. Знаете, как говорится, первый — это всегда испытание. «Мой первый» был такой мразью!.. Даже посмертный оскал его — как у волка. Дальше в разных странах пришлось работать, и там всякие бывали объекты, но все такие же волки в человеческом обличье. Вернулся в страну и не узнал ее: все другое, люди закрылись, почернели. Среди вчерашних советских людей вдруг замечаю одного за другим — тысячи, сотни тысяч волчьих морд с оскаленной пастью. Изучаю жизнь и вдруг понимаю, что в стране полнейший беспредел. Кто денег урвал, тот и хозяин, тот и творит, что хочет. Однажды в сороковом магазине при мне один такой в золотой цепи оттолкнул старушку, та упала и заплакала. От беспомощности, от нищеты, оттого, что никто даже руки ей не подал. Я подскочил к ней, поставил на ноги и сунул в карман денег. Потом часа два выслеживал ее обидчика. В переулке его подловил, когда тот из машины вышел. Прижал к стене и спрашиваю, кто дал тебе право беспомощных обижать? Он в ответ мне — только мат и угрозы. Когда я к его жирному горлу клинок прижал, он сразу крутость растерял, деньги стал мне предлагать. Вижу — это уже не человек, это волк, враг. Одно движение клинка — и нет его. Последние слова его — сплошная ругань, тьфу… А потом оказалось, что этот подонок был из новых русских… ментов. Ко мне пришли большие люди и предложили выбор: тюрьму или работать также, но по их списку и за очень приличные деньги. Я одно попросил, чтобы мне давали для изучения дело объекта, чтобы не подсунули мне какого хорошего человека под заказ.
— Интересно, что же было в деле Стива?
— Разное… Например, связи с «голубой» мафией. Получал же он заказы на монорельсовые станции, рестораны. А кто их там распределяет?
— В общем, надували тебя, как хотели, господин профессионал. А все потому, что тебе враг нужен. Они тебе врагов и пекли, как блины. Им это дело привычное. А своего собственного убийцу за внешними заботами ты и не приметил. А он раз от разу в тебе сил набирал, рос, как на дрожжах. Душу твою изводил потихоньку. Да так потихоньку, что за резкими своими порывами ты этого и не замечал.
— А что со мной здесь происходит? Почему все мои «объекты» как живые передо мной скачут?
— Душа твоя просыпается и требует очищения. Батюшка Серафим помогает тебе врага твоего невидимого побороть. Это будет посложней, чем людей Божиих жизни лишать.
— Каких Божиих?..
— Именно так! Каждого человека Господь создавал и каждого любит, каким бы он не был. И только Сам Творец волен судить и наказывать людей.
— Это что же получается — преступники будут гулять на свободе, а я за них свечки ставить?
— Знаешь, брат Игорь, не надо пытаться решать вселенские задачи. Это все от гордыни. Сейчас для тебя главное — это со своим внутренним врагом справиться. А уж очистишься покаянием и благодатью, тогда Господь откроет тебе твой путь. И даст все необходимое для новой жизни.
Сталкер
По утреннему, прохладному туману проходим по Богородичной Канавке. Сегодня здесь тихо. Вместе с нами по кругу с четками проходят сосредоточенные люди. Впереди идет парень лет за тридцать с бородой в кожаной куртке и спортивном костюме. Левой рукой он перебирает крупные деревянные четки, правой размашисто крестится. У каждого из четырех крестов кладет земной поклон.
За сараями рядом с Канавкой на костылях стоит и трясется всем телом от утренней сырости нищий. На нем только рваная рубашка, вся в дырах. Наш бородач молча снимает свою куртку, надевает на плечи нищего и, как ни в чем не бывало, проходит дальше. Тот, открыв рот от неожиданности и выкатив глаза, низко кланяется. Мы со Степаном протягиваем ему деньги. Он только мотает чумазой головой и сдавленно мычит. «Богородице, Дево, радуйся…», — шепчем себе под нос. Перед глазами все искрится, вспыхивают и сверкают десятки радужных огоньков — то ли от обильной росы под солнцем, то ли от нечаянных слез.
Также следуя за бородачом, подходим к длинным столам летней трапезной для паломников. Берем тарелки с кашей, хлеб, чай и ставим на стол под навесом. Я прошу парня прочесть молитву. После обычных «Отче наш» и «Богородице, Дево…» он читает молитву за обидящих и ненавидящих, а также за благотворителей. Садимся, степенно кушаем, знакомимся с парнем.
Зовут его Сергей, он три года живет здесь и трудится во славу Божию в монастыре на ремонтно-строительных работах. Как попал сюда, не помнит. Когда жена его бросила и с детьми укатила на край света, он впал сначала в отчаяние, потом в запой. Из черного провала памяти высвечивает картинка: стоит он зимой в одних резиновых сапогах и трусах на площади города, ему холодно и одиноко, и взмолился он Богу… Потом снова провал. А потом оказался он здесь, в Дивееве, одетым и даже с небольшими карманными деньгами.
— Как же ты теперь без куртки? — спрашивает Степан, с обожанием глядя на необычного сотрапезника.
— Что же, по-твоему, Царица Небесная не видит мою нужду? Небось, не замерзну…
— А могу я тебе сделать подарок? — полушепотом спрашивает Степан и, не дожидаясь ответа: — Окажи мне честь, возьми, пожалуйста, мою.
Степан решительно снимает с себя дорогую куртку с жутким количеством молний, карманов, каких-то вентиляционных клапанов и набрасывает на крутые плечи Сергея.
— Спаси тебя Господи, брат добрый, — невозмутимо принимает дар Сергей и ровным голосом продолжает: — Здесь впервые в жизни я понял, что такое мир в душе.
— Что же это? — спрашиваю, усиленно моргая глазами.
— А это когда посылают на послушание — и ты просто идешь и работаешь. Вроде бы и не спешишь, держишь Иисусову молитву, а получается все как надо. Это когда у тебя нет ни копейки, и тебя это не волнует. Это когда на тебя идет бандит с ножом, а ты спокоен, как танк — и он вдруг в последний момент разворачивается и с воплем убегает в туман. Кушаешь раз в день, и больше не хочется. Когда спишь пару часов урывками и остаешься бодрым.
Закончив трапезу, выходим за ограду монастыря. На секунду останавливаемся, и Степан показывает на череду высоких берез вдоль ограды:
— Смотрите, смотрите!.. У этих берез стволы и ветви наклонены к собору. Не на юг, как положено по законам ботаники, а на восток.
— Действительно, — отвечает Сергей. — Хожу здесь каждый день, а не замечал…
Идем дальше. Сергей говорит о том, что чудеса здесь каждый день. Вдруг слышим крик. Огибаем какой-то сарай. Здесь под кряжистым деревом громко сквернословя, хрипло рыдает пьяная женщина в зимнем засаленном пальто. Она потрясает кулаками и кого-то ругает. Сергей уважительно просит ее помолиться о нас, называя ее Любушкой.
— Пятнадцать лет в тюряге! Ни за что! Засудили, сволочи! — орет женщина, рассыпая куски хлеба и печенье из дырявых сумок. Мы со Степаном нагибаемся, собираем хлеб и возвращаем в сумки. — Какие хорошие мальчики. Денюжек на стакан дадите?
— Да у тебя, Любушка, все равно отнимут, — сетует Сергей.
— Она святая, — шепчет мне Степан, ползая рядом со мной на корточках.
— Пятнадцать лет ни за что! — снова блажит она хриплым голосом. — Жизнь угроблена! Все меня бьют, выгоняют, грабят, гады… Ни угла, ни кола, ни двора!.. Нет в этой жизни счастья, ребята! Такие хорошие, добрые мальчики…
Мы со Степаном и Сергеем все ползаем у ее грязных мужских башмаков, собираем сыплющиеся галеты. А блаженная рыдает во весь голос и гладит, гладит нас по голове татуированными, грязнущими… теплыми материнскими ладонями…
Через несколько минут мы втроем входим в избу на краю села. На кухне Сергей ставит чайник на газовую плиту. Мимо тенью проходит один бородач, следом другой… Обходим комнаты: мастерская, где над темной доской склонились иконописцы, светелка с матрасами на полу и одеждой по стенам на гвоздях, и, наконец, входим в спаленку с двумя кроватями и столешницей на двух деревянных колодах.
— Вот здесь, если хотите, можете спать, — предлагает хозяин. — Сейчас выпьем по кружке чаю, и отдыхайте.
Молимся у красного угла, заставленного и завешенного разнообразными иконами. Пьем чай с медом.
И не надо упрашивать нас прилечь — мы размягчаемся в этом дружеском, братском доме, по телу растекается тепло, и мы ложимся на кровати, на полчасика…
…Уж не знаю, где я был и вряд ли вспомню, что там было, но просыпаюсь с ощущением, что только что закончилась прекрасная добрая сказка с хорошим завершением: «…и жили они долго и счастливо». Присаживаюсь, озираюсь — на второй кровати в красном свете лампадки различаю также сидящего Степана, трущего глаза. Открывается дверь и входит Сергей:
— Проснулись? Предлагаю помолиться и с Божьей помощью сходить на Казанский источник. Эх, и сильный источник скажу я вам, братья! Да что говорить, сами все узнаете.
— Что ж, поэкспериментируем, — ляпнул я, и через десяток шагов, по моей пояснице словно колом треснуло. Да что же это, сызнову мне и так больно! Дальше Степан с Сергеем буквально тащат меня на себе, потому что каждое движение отдает в поясницу острой болью. Но мне спокойно. Впереди хорошее.
Спускаемся в пойму реки, проходим по мостику и по раскисшей глиняной дорожке сходим к деревянной купальне. Я со стоном присаживаюсь на скамью. В голове вместе с болью пульсирует Богородичная молитва. Кое-как раздеваюсь, крещусь и спускаюсь по лесенке в обжигающую холодом воду. С воплем трижды окунаюсь с головой — и выхожу на деревянный помост свежий и веселый. Боль в спине прошла, будто ее и не было. Странно, но это уже не очень-то удивляет. Убедившись, что я в порядке, один за другим окунаются в чудесную воду источника и мои друзья.
Когда мы, веселые и шумные, выходим из купаленки, сумерки сгущаются и слоистый туман поднимается над речкой. По склону обрывистого берега шустрая бабушка погоняет стадо пестрых коз. На пойменных холмах в последних лучах солнца золотятся дома, весьма солидные.
— Здесь московские знаменитости селятся, — поясняет Сергей, назвав несколько звучных имен. — С тех пор, как сюда перенесли мощи батюшки Серафима, цены на жилье взлетели в несколько раз и сейчас вполне сопоставимы со столичными. Старожилами, которые из верующих, замечено, что происходит некий таинственный процесс: неверующие отсюда уезжают, а верующие прибывают. Это батюшка Серафим помощников к себе призывает.
— Помощников чего? — спрашивает Степан.
— А ты не знаешь? Тогда нужно много рассказать. Ну, слушай. Батюшке Серафиму за его великие подвиги много раз являлась Сама Богородица и открывала тайны будущего. Некоторые из них Батюшка рассказывал своим Дивеевским сироткам, Николаю Мотовилову, другим. Получается, что после отступления России от Православия и предательства Государя в начале двадцатого века и искупления кровью мучеников Россия возродится и вновь станет Православной монархией. Сам преподобный Серафим поднимется из гроба, оживет, воскреснет и станет проповедовать покаяние. Сюда съедутся множество людей со всего мира. Как же, такое чудо! И станет Дивеево всемирным центром Православия. В это время в Иерусалиме восстановят храм Соломона и воссядет в нем на престол посланник смерти. Сначала он привлечет к себе множество помраченных людей. Чем? Да примерно тем же, чем и сейчас: множеством ярких эффектов, деньгами, властью, ложью. Только все это будет многократно умножено. Видимо, будет попущено сильное сатанинское искушение. Будут открыты границы, любой желающий бесплатно сможет поехать в Иерусалим. Вот любители халявы рванут туда тусоваться, оттягиваться, кайфовать, поклоняться супермену и клеймо на лоб и руку ставить. Пока в России будет Божий помазанник, антихрист будет его бояться, но что-то произойдет… люди снова отпадут от Православия и Государя. Тогда и войдет в Россию антихрист с огнем и мечем. Тогда и откроется его звериная сущность. Подойдет он в Дивеево, только Канавку перейти не сможет — она огненной стеной станет перед ним. И все, что будет внутри Канавки — храмы с православными людьми — все это поднимется на Небеса.
— И когда же это будет? — спрашивает Степан полушепотом.
— Может, завтра начнется, а может, лет через десять — Бог весть. Наше дело быть готовыми каждый день.
Сергей увидел в конце улицы знакомого, извиняется и ненадолго покидает нас. Мы садимся на скамейку у забора и расслабленно протягиваем ноги. Из калитки выглядывает улыбчивая бабушка и гостеприимно зовет в избу молочка отведать. Мы с радостью соглашаемся. В горнице Степан крутит головой: ему все интересно. Бабушка рассказывает, как являлась ей Сама Богородица, как «вот туточки по комнате ходила, ручкой коснулась» ее и бабушка с тех пор стала здоровехонькой. Показала иконы преподобного Серафима и Богородичную «Умиление» с коричневыми потеками по стеклу киота: мироточили, видно, обильно.
Мы стоим среди комнаты, открыв рты от удивления и восторженного возбуждения. А Степан говорит, что явления Богородицы всегда истинные, не от падших ангелов, потому что Богородица Сама об этом Сына Иисуса просила. Увидев наше полное к ней расположение, бабушка разулыбалась и стала рассказывать, как к ней «приезжает много богомольцев, даже батюшки, и она всех привечает, всех кормит, спать ложит». И молочко нам в кружках протягивает. В это время влетает Сергей, хватает нас за руки и с криком: «быстрей-быстрей, нас ждут!» выталкивает на улицу.
При этом страшным шепотом рассказывает, что эта бабка колдунья, что колдунов тут чуть не каждый второй, потому что «где благодать, там и нечисти не счесть». А чтобы урок пошел нам в прок, рассказывает собственную историю:
— Помните Славу у нас дома? Ну, такой, молчун, исихаст… Вот мы сидим с ним прошлой осенью во дворе на лавочке и последнее тепло провожаем. Так же, как вы сейчас, расслабились, рассупонились… И тут женщина в калитку входит, молодая такая, улыбается и яблочки нам целый тазик ставит: кушайте, мол, ребята, у нас урожай большой, девать некуда. Ну, мы, как нехристи какие, без крестного знамения, без «благослови, Господи» хватаем и — хрусть! Женщина улыбнулась и ушла. А нас, как обесточило! С каждой минутой силы уходят, ничего поделать не можем. Сначала Слава упал, как мертвый. Я давай Псалтирь над ним читать. А самого так мутит-крутит, что все плывет перед глазами. Заходит один казак знакомый и помогает нам до Казанского источника доползти. Окунаемся и вроде как оживаем. Приходим домой — снова падаем. Так под чтение Псалтири, и окунания в святом источнике только на третий день отошли с Божией помощью. Так что расслабляться здесь нельзя, братья, никак нельзя. Любую мелочь берешь в руки — крести, не ленись.
— Свят, свят, свят, — крестится Степан.
— Ты что… так просто? — шепчет Сергей.
— Ты о чем?
— Это же серафимская песня. Сказано, что серафимы трепещут, произнося эти страшные слова. Это очень серьезно! Послушай, брат добрый, не ради тщеславия, но во славу Божию. Как-то зимой ночью остановился я на этих словах. Думаю, как же это так: Бог есть любовь, а самые близкие Господу ангелы — серафимы — трепещут от страха, прикрываясь шестью огненными крыльями. Дурак я был, прости Господи!.. Встал на колени и давай молить Господа, чтобы мне узнать, что за трепет такой. Господи, помилуй! Много ли, мало ли времени прошло, не помню… Только как накатило! Как затрясло меня! Господи, помилуй… Как будто сильные руки меня взяли за плечи и трясут, трясут… Страшно так стало! Я уже умираю от страха, а меня трясет и трясет. Я только ору «Господи, помилуй» — все молитвы из головы вытрясло. А как вспомнил вот эти серафимовские «Свят, Свят, Свят», как их прокричал, так все и закончилось, слава Богу. Так что слова эти с большим трепетом надо произносить, брат. Прости меня, Бога ради.
Спустя некоторое время стоим на молитве. По очереди читаем вечернее правило, покаянный канон, кафизму. Молитвослов и Псалтирь на церковно-славянском, изрядно захватанные, хранят и источают тепло рук, глаз, сердец. После молитвы выходим на улицу, а над нами — огромная луна среди множества ярких звезд на черном небе. А вокруг лунного диска, сверкающего начищенным серебром, — тройное светящееся кольцо в полнеба.
Жизнь и смерть: встреча
Домой в Москву возвращаемся с неохотой. Особенно тяжко стало при пересечении кольцевой. Отвожу Степана на такси в гостиницу. Долго прощаемся. Поздней ночью возвращаюсь домой и я.
А через несколько часов, глубокой ночью, ближе к утру будит меня Дуня:
— Пора в роддом ехать, воды отошли.
— А ты часом не обдулась?
— Нет, это воды. Пора.
Пересчитав от недосыпа все углы, тряся головой, как солист хард-рока, пытаюсь сообразить, что надо сделать в первую очередь. Кое-как одевшись, на ходу застегиваясь, выбегаю на пустые улицы, с полчаса ловлю машину. Все транспортные средства, как сговорились, просвистывают мимо. Опомнившись, начинаю молиться — и первая же легковушка тормозит передо мной. Вкратце обрисовываю белобрысому парнишке ситуацию — и отвожу свою женушку в родильный дом.
Она стоит на весах, с огромным животом, выпирающим из мятой ночной рубашки, улыбается, машет ладошкой на прощанье, и дверь за ней закрывается. Эта ее беззащитная полудетская улыбка, этот непомерно большой живот, выдающийся из ее тоненького девичьего тела — запечатлеваются в моем сознании. Трогательная картинка эта весь день будет стоять перед глазами и согревать меня. Спускаюсь по ступенькам, выхожу на гулкую ночную улицу и обнаруживаю частника на прежнем месте. Оказывается, в спешке я с ним забыл расплатиться. Очень кстати. Сажусь и возвращаюсь домой, чтобы еще часок-другой подремать.
Не тут-то было. Звонят по телефону и сообщают, что ночью умер Доктор. Еще вчера играл в теннис, энергично работал, улыбался девушкам, кушал английский бифштекс, принимал голливудские витамины, чтобы жить до ста тридцати лет… А сегодня ночью какой-то тромб оторвался от стенки какого-то кровяного сосуда и перекрыл артерию, снабжающую кровью головной мозг — отёк мозга. Мгновенная смерть.
Совершенно отупевший от нахлынувших событий, весь день с помощником покойного Валерием езжу по моргам, похоронным конторам, объезжаю три монастыря с сорокоустами, изучаю бумаги покойного. Огромный, как наемный убийца, с интеллигентным лицом в толстых очках Валерий Иванович, держится со мной, как с начальником. Оказывается, согласно воле Филиппа Борисовича, зафиксированной в нотариальных бумагах, в случае его кончины вся его собственность, включая контрольный пакет акций концерна, наследуется мной.
Вечером узнаю по телефону, что я стал отцом девочки «три восемьсот, пятьдесят один». А через пять минут на руках вношу гроб с телом покойного благодетеля в зал торжеств его офиса.
Есть время постоять в тишине. На безжизненное накрашенное лицо смотреть не хочу. Здесь рядом витает живая душа покойного и требует молитв. Она в смятении. Ей сейчас проходить мытарства. Ее будут истязать темные существа, которые всю жизнь соблазняли, поэтому будут заявлять свои права на эту душу. И не надо ей сейчас ни этих цветов, ни пустых слов соболезнований, ни тем более спиртовых возлияний «за упокой» — ничего, кроме молитв.
В этот миг я вспоминаю наш последний разговор по телефону. А ведь Доктор тогда прощался… И скорбел, что ему недоступна такая поездка. «Почему там нет меня? Дима, почему все это прошло мимо?» Может быть, эти слова были приняты Спасителем за его покаяние, за радость, что дело идет к мирному исходу. Во всяком случае, если Господь и забирает душу от земной жизни, то в момент наивысшей готовности к спасению. И сейчас мне становится понятным, почему Филипп Борисович так схватился за мою убогую особу: в его окружении просто не было ни одного верующего. Ну, что ж, брат, сделаю все возможное, чтобы Господь помог тебе на мытарствах.
Достаю Псалтирь и читаю кафизму по усопшему. Меня никто не тревожит. Молиться за ближнего, тем более за усопшего, очень радостно. В такие минуты как никогда ощущаешь близость преклоненных к твоим устам небес. И все бы ничего, если бы ни сомнение… На каждой «Славе» положено читать молитву со словами «…аще бо и согреши, но не отступи от Тебе, и несумненно во Отца и Сына и Святого Духа, Бога Тя в Троице славимого, верова, и единицу в Троице, и Троицу во единстве, православно даже до последнего своего издыхания исповеда…» Каждый раз слова эти заставляют меня запинаться, сомневаться и скорбеть. И только на третьей «Славе» они произносятся легко. Не знаю точно, что это значит, только настроение улучшается.
Не успели работники фирмы ритуальных услуг оформить помещение траурным реквизитом, как в зал хлынул народ. Скоропостижная смерть всеобщего любимца шокировала всех его знакомых. Растерянные люди подходят ко гробу и не могут оторваться от созерцания мертвого лица вчерашнего здоровяка и жизнелюба. Подавленные и рассеянные, толпятся люди и мешают подойти вновь пришедшим к шикарному гробу, утопающему в цветах.
Валерий Иванович подводит ко мне незнакомых солидных мужчин и учтиво представляет. Все как один, выражают глубокое соболезнование и надежды на совместное продолжение дела, начатого покойным. Ввиду отсутствия вдовы и ближайших родственников, принимаю соболезнования.
Наконец, вижу человека, которого хочу видеть: ко мне сквозь толпу пробирается Юра. После чудесного исцеления от смертельной болезни, его несколько месяцев держали сначала в районной больнице, потом в престижной клинике при мединституте. Когда вся столичная медицинская наука пожала плечами и развела в недоумении руками, его выписали. С тех пор, не без участия покойного, он восстанавливал здоровье в южном санатории и подмосковном доме отдыха. В настоящее время Юра выглядит, абсолютно здоровым. Единственно, чего в нем не осталось и следа, это суетливой загнанности в угол. Он спокоен, дружелюбен, взгляд углубился и прояснел.
— Здравствуй, миллионер, — приветствует он меня сходу. — Ну что, нас ожидают великие перемены?
— Это как положено… — задумчиво отвечаю, не представляя, что впереди. — Удивительный день, Юра, не правда ли? Ты должен был умереть — но полон сил и здоровья. Человек, который хотел доказать, что будет жить до ста тридцати — мгновенно умирает от какого-то тромба. А еще сегодня моя Дуня родила дочку, которую мы ждали много лет.
— Поздравляю, Дмитрий, — Юра пожимает мне руку и белозубо улыбается.
— Дмитрий Сергеевич, примите, пожалуйста, наши глубокие соболезнования, — слышу с другой стороны. — Надеемся, что наше взаимовыгодное сотрудничество будет продолжаться.
— Видишь, Юра, как оно получается, — продолжаю мысль, — выходит, грань между жизнью и смертью так хрупка!..
Отдав смерти предостаточную дань, еду в роддом. Помнится, Дуня говорила, что там какие-то необычные порядки. Например, мужьям разрешается присутствовать при родах, а матери брать ребенка в палату и неразлучно с ним общаться. Захожу в приемное отделение, говорю с сестрой, а в голове кружится впечатление героя Хемингуэя о знакомстве с новорожденным сыном: «он похож на ободранного кролика с лицом старика». Меня одевают в белый костюм, похожий на космический, и проводят в палату к жене.
Сияющая Дуня чуть осунулась, побледнела, но вся так и светится материнским счастьем. На месте привычного огромного живота плоско… Та-а-ак, к этому нужно еще привыкнуть. Нескладно поздравляю ее, а сам глазами ищу свою наследницу. Со страхом склоняюсь к маленькому сверточку на подушке.
Слава Богу, ничего кроличьего, тем более, старческого. На меня круглыми голубенькими глазенками взирает ангельское личико, чистенькое, розовое и гладкое. Удивительно напоминающее мне мое собственное и Дунино одновременно… Хотя, нет-нет, моего, конечно, в этом ангельском личике гораздо больше. Да. Именно! Вот уж никакого сомнения, кто ее папуля — это уж точно. Я первый раз в жизни здороваюсь с безымянной пока еще дочкой. Она отвечает мне надуванием розовыми губками радужного пузыря. Мы с ней внимательно смотрим друг на друга, знакомимся. Кто-то там говорил мне, что новорожденные дети почти слепые, или видят как-то перевернуто… Ерунда. Вон как внимательно изучает своего папулю.
Так вот ты какая, моя долгожданная доченька. Вот, значит, кто будет учить меня чистоте и детской непосредственности. Этими круглыми глазенками буду я снова глядеть вместе с тобой на мир Божий, удивляясь множеству милых мелочей: цветочкам, бабочкам, облакам, мухам и птичкам… Вот, значит, как ты выглядишь, мой крошечный диктатор, воспитатель, воскреситель… Не знаю, как я тебе, но ты мне очень и очень нравишься. Моя маленькая доченька. Моя большая надежда.
Эпилог
Множество сохранилось мест на земле, где хорошо человеку. Мне бывает хорошо на изумрудном альпийском лугу под высоким фиолетовым небом, на платановой аллее черноморского побережья, на краю скалы над бесконечным сверкающим морем, в просторных светлых березовых рощах, в полынных ковыльных степях, в великой пустыне Африки…
Но, не в роскошных отелях и помпезных ресторанах находил я отдохновение душе, а в монашеских нищих кельях, под молитву, на трапезе любви под хруст ржаных сухарей с жиденьким чаем. Не в обществе славных гениев и цветущих красавиц среди золота, зеркал и роз нашел я блаженство, а в пропитанной потом и слезами святой земле, по которой нес крест Спаситель.
В теснинах непрестанных скорбей и тайных слез, среди нищеты тела, но величайшего богатства души — в облупленных сельских церквушках, в комнате одинокого друга, в деревенской светелке — оттаивало сердце в лучах незримого света, проникающего, сквозящего, льющегося из вечной обители Света Светов.
После открытия международных дочерних фирм в дальних странах, после визитов, встреч и переговоров, после кондиционированной духоты апартаментов и лимузинов — мы едем сюда, в лесной монастырь. В дни моего смятения по поводу обретения огромных денег и власти отец Виктор попросил меня поработать во славу Божию. И благословил меня строить жилье простым людям, для будущей Русской монархии, в возрождение которой он свято верит.
Все сомнительные дела концерна мне удалось свернуть. И так думаю, все это «отсечение» прошло довольно быстро и почти безболезненно, именно, благодаря молитвам и благословению батюшки. Кроме моей персоны, в совет директоров введены Юрий и Валерий. Начальником службы безопасности работает полковник Игорь. Наша родная контора вошла в концерн одним из подразделений, отнюдь не последним.
Никаких кадровых перетрясок мы не санкционируем. Состав трудового коллектива меняется естественным путем: трезвые и честные остаются, а воры и пьяницы уходят сами или коллеги их убедительно просят. Меня, например, очень удивило и обрадовало, что мои бывшие куратор и участковый бросили пить и с рвением принялись за новую работу.
Оказывается, честный труд на благо людей и будущей монархии меняет людей. Да и воруют люди от невыплаты заработка, а пьют от бессмысленности — а с этим у нас все нормально: и заработки приличные, и цели наши благие люди принимают всей душой. Сейчас наше предприятие занимается, в основном, строительством жилья, сельских усадеб, перспективных промышленных предприятий. Часть прибыли мы направляем на восстановление двух монастырей и нескольких церквей.
Отец Виктор благодарно принимает пожертвования, но постоянно сдерживает наши подвижки к излишней роскоши. По его мнению, монастырь — место молитвы, аскетики, уединения. Здесь ничего не должно быть лишнего. Он даже был против парового отопления в храмах и братском корпусе, едва уговорили. А сослужат ему в храме иеромонах Стефаний, бывший в миру американцем Стивом, а диаконом — отец Борис, бывший комсомолец, одним из первых работавший здесь. Бригадой строителей руководит Василий. Попросились к нему работать Петро, Максим, Гена-маклер и, разумеется, Валентина.
Рядом с монастырем построили несколько домов для мирян и странников. В один из них частенько наезжают Дуня с нашей дочкой Анастасией. Назвали мы ее так не по нынешней моде, а потому что эта малышка стала для нашей семьи воскресительницей — так переводится ее святое имя. Так что первые шаги в своей жизни делает наша дочка по святой монастырской земле.
Как и раньше, лучшее место и время для меня и моих друзей — это в монастыре. Особенно люблю после службы посидеть в келье отца Виктора. Здесь все так и осталось, как в наш первый день знакомства: стол, кровать, печурка… и такая тишь, такой мир в душе!.. Здесь, под треск березовых поленьев, под чай и сухарики, мы говорим о будущем России, о нашем участии в этом святом деле, о воле Божией, освещающей наш путь. Здесь, в этой убогой монашеской келье, в молитве и трезвом покое творится наше будущее.
Итак, этап схождения вниз завершается взлетом. Вот уж чего никак не ожидал. Хотя, сейчас, после раздумий и воспоминаний, должен признаться, что таинственное ожидание чего-то необычно светлого и хорошего пронизывало мою жизнь с самого детства. И сегодняшний взлет — это совсем не то вожделенное блаженство, что изредка высвечивает из сокрытого от нас будущего. Жизнь в Церкви, как бы она ни была чудесна и непредсказуема, эта жизнь — в самом глубоком смысле — дает мне твердую надежду на то, что самое интересное впереди. Да, мы все проходим через очистительный огонь скорбей, болезней и старости, но за этим обязательно последует великая радость.
Оглядываясь на прошлое, начинаю понимать, насколько ценен каждый миг жизни, каждая встреча, каждое событие. Если бы пережить все сначала, имея хоть часть нынешнего опыта, я бы, наверное, каждый день проживал как великий день. К любому человеку — гению, бомжу, старушке в автобусе, пьянчужке в забегаловке, случайному собеседнику — я бы относился, как к вестнику, Божиему посланнику. Ничего нет случайного и малоценного в моей жизни, все ценю и уважаю, как бесценный дар Отца непокорному, глуповатому, блудному сыну. За все благодарю, как нищий благодетеля. И чем ниже склонюсь в благодарственном поклоне, тем богаче следует дар свыше. Потому что только так и растем: через схождение — ввысь!
Светлый четверг, 9 мая 2002 г.




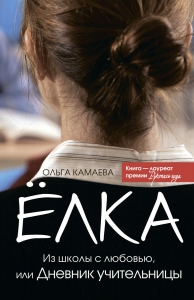


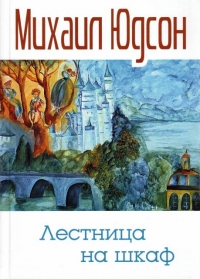




Комментарии к книге «Восхождение», Александр Петрович Петров
Всего 0 комментариев