Рудольф Ольшевский НО ПАСАРАН
Все, что произошло со мною в детстве, мне кажется, случилось вовсе и не со мной, и вообще не в жизни, а в кино, которое я видел в кинотеатре имени Уточкина на Дерибасовской. Вот поднимаюсь я по ступенькам, которых раньше было так много, а теперь их все можно пролететь за три прыжка. Перед входом всегда толпилась очередь. Но как приятно в ней постоять на длинной веранде, похожей на капитанский мостик, за которым зеленое море городского сада с двумя посиневшими от времени металлическими львами и круглой ротондой для духового оркестра. Валерка, который ходит в музыкальную школу Столярского, говорит, что все эти трубачи — халтурщики. Ну и что, пускай. Зато какую музыку они выдували из этих труб на общественных началах! До сих пор, как вспомню эти вальсы, плакать хочется. Довоенные и военные песни делают воздух упругим. Все пространство от Греческой площади до улицы Ласточкина дышит этими песнями. А там внизу, вокруг площадки, стоят вернувшиеся с фронта мужчины. Солнце блестит на их медалях. Солнце пылает на медных трубах, и рикошетом отскакивают блики во все стороны. Кружатся под музыку блики, падают на мои глаза, полные слез, которые я прячу от всех.
«Бьется в тесной печурке огонь». Пока попадаешь в кино, песня обволакивает тебя, и ты входишь в зал настроенный на нечто величественно-трагическое и в то же время бесшабашно-легкомысленное. Оттого что позади такое значительное время, а впереди — вечность. И ты стоишь на этом перекрестке на виду у судьбы, похожей на ту, что была придумана греческими богами, которые жили по соседству с нами в краеведческом музее напротив оперного театра.
Каким огромным казался нам кинозал, а уж экран и вовсе уходил в бесконечность. Недавно я зашел в этот маленький залик детского кинотеатра имени Уточкина. Как подходит это имя этому месту. В детстве я думал, что так назвали его в честь птиц, летящих по небу. Но все оказалось куда интереснее. На самом деле, жил да был в Одессе когда-то такой авиатор — Уточкин. Тоже летал по небу. Был один из первых летчиков. И дело это казалось тогда опаснее и романтичнее, чем сейчас работа космонавта.
А еще этот самый Уточкин был знаменит тем, что по известной Потемкинской лестнице он съехал на спор на велосипеде. Пролетел все двести ступенек и перед стеной порта притормозил. Мы потом половину лестницы, сто ступенек, проходили вниз головой, в стойке на руках. Но это уже было жалким подражанием тому стремительному падению, о котором долго говорила вся Одесса.
— Что вы мне говорите, будто Эйзенштейн гений? То, что он еврей, это еще ни о чем не говорит. Подумаешь, в его фильме коляска с ребенком съезжает по Потемкинской лестнице? Так эту хохму он украл у нашего Уточкина. Не мог придумать что-нибудь своего.
Однако это я вспоминаю уже о другом кино. В моем никто ни у кого ничего не воровал. В моем была таинственная тьма казавшегося тогда огромным зала, которую над нашими головами пронзал яркий луч, вылетающий из крошечного окошка в стене. В луче этом был спрятан неведомый мир, который только на экране становился реальностью. Из ничего возникало изображение. Летящие в световом потоке тени, неосязаемые духи, превращались в людей. Они двигались, разговаривали, плакали и смеялись, обретали белый квадрат пространства и неизученную геометрией фигуру времени.
И вот, много лет спустя, стало мне казаться, будто все мое детство каким-то загадочным способом проникло в этот живой луч, и память моя спрессована на экране в кинотеатре имени Уточкина, что находится на Дерибасовской, в трех кварталах от моего дома.
На небесах щелкнули тумблером, и память моя встрепенулась. Вот я реву на руках у мамы. Отец еще здесь, рядом. Он держит за руку сестру. И нас несет толпа то в одну, то в другую сторону. Бабушку мы уже потеряли. Ее оторвало от нас и отбросило неизвестно куда.
Нам нужно попасть в воронку, в горлышко песочных часов, через которое людской поток тянет к трапу последнего большого парохода, покидающего осажденную Одессу. Мы были уже совсем рядом, песчинки, летящие из одной колбы часов в другую, когда поток отклонился и отбросил нас в сторону. Судьба настойчиво отводила нас от прямой, ведущей на трап парохода «Владимир Ленин». Она словно знала наперед все, что произойдет с ним, и щадила нас. Ей словно было известно, что послезавтра это большое судно наткнется в открытом море на мину и все эти счастливчики, которым сегодня повезло взобраться по шатким ступеням трапа на палубу, все до одного погибнут.
С того дня всякий раз перед тем как заболеть, я вижу во сне большой пароход, переполненный улыбающимися людьми. Я узнаю их, хотя никогда не был знаком с ними. Одни и те же счастливые лица. Тысячи незнакомых улыбок. Я уверен, что все они были на том затонувшем пароходе. Они смотрели на нас сверху с чувством превосходства, думая, что уже спаслись. Они и в моем сне так думают. Но я-то знаю, что послезавтра мы услышим их крик, хотя будем находиться за сто миль от них, от тонущего корабля. И жар расходится по моему телу.
Я боюсь толпы. Каждый год Первого мая и Седьмого ноября я с ужасом смотрел на демонстрации, ожидая, что этот красный муравейник вот-вот куда-то понесет. Как тогда в порту. Демонические демонстрации. В конце тысячелетия это мое предчувствие сбудется. Понесет целые народы. Но это будет уже другая жизнь. А тогда я кричал в орущей массе народа и голоса моего никто не слышал. Разве что Господь Бог, который все делал, чтобы мы не попали на это судно.
Я звал свою бабку, будто чувствовал, что она больше никогда не появится. Через пять лет наша дворничиха, тетя Маня, отдаст моей маме ключи от нашей довоенной квартиры, в которой уже будут жить чужие люди, и скажет: «Бедная Клара. Она оставила мне их, уходя в гетто, будто в театр музкомедии. Маня, сказала она, мне это нужно — туда идти. Но я пойду, чтобы не говорили, что я не пошла. Если меня будут спрашивать, скажи, что я скоро вернусь. Если скоро не получится, полей фикус. А, придурки, зачем я им нужна, зачем?»
Толпа опять потащила нас к трапу, но его уже поднимали. Между пароходом и причалом стремительно росла зеленая полоса воды с громадными голубыми медузами.
Нас осталось в порту совсем немного. Люди кинулись на вокзал, на сортировочную, на автостанцию, в хаджибеевскую степь на попутки. Но отец, видимо, что-то знал и мы оставались на причале. Спустя какое-то время к берегу подошел маленький пароходик, пыхтя закопченной трубой, словно боцман курительной трубкой. Это был теплоход «Львов». Мы чуть ли не первыми попали на его палубу. В одно мгновение на причале снова появился народ. Но это уже была не толпа. И суденышко вместило всех, кто случайно оказался в порту. Только моей бабки нигде не было. Она кинулась в город, видимо, думая, что и мы сделаем то же. У суденышка был какой-то перепуганный гудок. Он несколько раз просипел, торопя тех, кто и так со всех ног бежал к причалу.
А отец остался на берегу. Он стоял и неестественно весело улыбался, махая нам рукой. Прямо отсюда он должен был явиться в военкомат. Вообще-то у него был «белый билет». Недавно ему сделали операцию, и он прихрамывал, стараясь делать это незаметно. Однако немцы были под Одессой, и бронь свою он никому не показывал.
Завтра на грузовике он уедет на фронт за Ближние Мельницы. Больше я его никогда не увижу, только буду помнить, как стоял человек на пустом причале и весело махал нам рукой. Сегодня моему сыну столько же лет, сколько было ему тогда, улыбающемуся нам, словно его снимают на фотокарточку.
А «Львов» медленно отходил от берега.
Как интересно монтировалась моя судьба. У режиссера, снимавшего это кино, казалось, были ограничены возможности, и он зафрахтовал всего одно дешевое суденышко. Сколько раз на моем жизненном пути возникнет этот «Львов»! Через пятнадцать лет я часто буду ждать на причале его возвращения из рейса. Мой друг Валерка пойдет работать на него матросом сразу же после школы. Надо же, чтобы именно на него, на это корыто, вытащившее из смерти меня и еще несколько сотен людей в сорок первом. Кажется, будто кто-то специально решил рассказать мне о нем побольше. Еще до войны в порту этого коротышку считали героическим судном.
До тридцать шестого года у теплохода была другая национальность. Он был испанцем, и звали его «Тарагона».
Капитан «Тарагоны», товарищ Хосе, воевал против франкистов. А когда испанское сопротивление было сломлено, он набил свое суденышко детьми погибших соотечественников и через Средиземное, а затем Черное моря повез их в Одессу. Вот чудак, не мог взять курс на Сан-Франциско? Там и у ребят, и у него все сложилось бы совсем иначе.
Сердобольные одесситы встречали пароход со слезами на глазах. Если бы кроме них никого больше в этом государстве не было! Вся Одесса уместилась на Потемкинской лестнице и на колоннаде возле воронцовского дворца. Играли духовые оркестры, развевались красные флаги и цвела акация. Сводный хор грузчиков порта пел «Интернационал». Он, правда, в их исполнении смахивал на «Шумел камыш», но разве они виноваты, что ритм революционной песни его автор позаимствовал у русской народной, сопровождающей застолье: «Вставай проклятьем заклейменный, а ночка темная была».
Детей передавали с рук на руки от самого порта прямо к бронзовому Дюку де Ришелье. Под ним змеилась бесконечная очередь, желающих попасть в список будущих родителей этих чернявых ребятишек.
— Кто крайний? Детей хватит?
— Спрашиваете. Вы же видите, их целый пароход.
А товарищ Хосе в Одессе не засиделся. Он укомплектовал команду, запасся топливом, водой, провиантом и отправился за новой партией сирот.
После второго рейса капитан женился на своей буфетчице одесситке Мусе. Она жила на Малой Арнаутской, и окна ее квартиры смотрели прямо на Привоз. Не спускаясь на улицу, с балкона она могла узнать, почем сегодня связка бычков.
Свадьба не уместилась на пароходике. На палубе стоял только стол для родственников невесты и начальства пароходства. Основное же веселье гудело на причале. Пели «Шумел камыш», только он сегодня был вперемешку с «Интернационалом». «Шумел камыш, деревья гнулись. Весь мир голодных и рабов». Каждые пять минут кто-нибудь из матросов, грузчиков или торговцев рыбой на базаре поднимался по трапу, чтобы выразить свое уважение испанскому капитану и его Мусичке, а также сообщить, что там, на причале фаршированная рыба кошмарно переперчена, и поэтому товарищ Хосе должен срочно поцеловать невесту. Короче, «Горько!» Испанец никак не мог понять, какая связь между фаршированной рыбой и поцелуем. Однако с удовольствием подчинялся требованию гостей. А они хмелели, поднимали новые тосты, в которых соглашались, что «лучше, упаси господи, умереть стоя, чем жить, не дай бог, на коленях. И вообще, да здравствует наша Муся и ваша Долорес, простите за выражение, Ибаррури!»
— Будь здоров и не кашляй, капитан! — Кричали они, держа правую руку, сжатой в кулак, у виска.
Милые, добрые, веселые одесситы! Какие вы смелые на свадьбе этого мужественного человека. Сейчас вы готовы рискуя, действительно, не про вас будет сказано, жизнью, вместе с ним везти детей из фашистской Испании. Где вы будете, когда этого человека придут арестовывать в мае будущего года? Вы же знаете, кто это с дворником поднимается по лестнице. Так включите одновременно все вместе свет, вы же соседи. Высуньтесь в пижамах из окон и разом крикните: «Но пасаран!»
— Ша, ша, ша. Это же НКВД. Ваши хохмы там не проходят. И вообще, за кого сейчас можно поручиться? Вы уверены, что ваш папаша не английский шпион? Не германский диверсант? Поздравляю ваших родителей — у них преданные дети.
Через двадцать страшных лет перед ним извинятся.
— Мы извиняемся. Сами понимаете, такое было время. Вас оклеветали. Между прочим, ваши же. Возвращайтесь на свой пароход. Вы снова капитан, товарищ Хосе. Еще раз простите. Но вы видите, они — не прошли. Извините третий раз за двадцать лет каторги.
Во дворе на Малой Арнаутской, когда он вернулся, распахнулись все окна в апрель 1957 года. Соседи в пижамах высунулись до пояса из окон своих квартир.
— Фима, что я тебе говорил, он такой же немецкий шпион, как я китайский император.
— Ты меня с кем-то путаешь. У нас с тобой не заходила об нем речь.
— Забыл? Не помнишь? Значит у тебя не только геморрой, но и склероз.
На корабль они пришли вдвоем — испанец и его жена. Посередине трапа он остановился.
— Тебе плохо? — спросила Муся.
— Мне хорошо, — ответил он.
Капитан наклонился и поцеловал ступеньку. Худой, подтянутый, седой, он был похож на Одиссея. Во всяком случае, нам, романтикам-дуралеям так казалось. Валерка был дежурным. Он стоял на палубе у трапа. Капитан пожал ему руку.
— Сегодня ветрено, матрос? — заметил он с иностранным акцентом, хотя и окая.
— Да, товарищ капитан, — отвечал Валера, — дует «молдаван».
Хосе посмотрел на жену.
— Так называется береговой ветер с запада, — ответила она.
— А, местный муссон, — рассмеялся испанец.
Они ходили в Мариуполь, город, в который во время войны плыли и мы. Рейс длился неделю. Я ужасно завидовал Валерке. Это ж надо — неделя солнечных бликов на зеленой воде и соленого ветра в лицо. Улыбок упитанных казачек, везущих в Одессу вяленую рыбу и горы арбузов, сваленных прямо на палубе. Неделя молодого здоровья, распирающего новые тельняшки.
И вдруг в эту веселую беспечность ворвалась чужая боль. Капитан умер, не проплавав и месяца. Это была первая смерть, которую мы видели рядом. Война не в счет. То было далеко, и там стреляли. А тут он лежал в гробу около парохода, спустившего свой полинявший флаг. Мимо проходили люди, не по сезону одетые в черное. А чуть поодаль весело, как бегущая мимо вода, сверкали медные трубы. И вот они запели. Воздух стал упругим и твердым, а беда сделалась осязаемой. Звук спрессовал горе, и женщина заплакала. Ее плач проник в нас.
На кладбище пахло сырой землей и сиренью. Мы шли по кладбищенской аллее, растянувшись за гробом, как длинная вечерняя тень. Казалось, что капитан спускается в преисподнюю, а за ним тянется эта тень, от которой он скоро отделится. Вдоль процессии, как плоскодонки под черными парусами, сновали кладбищенские нищенки.
По обе стороны от нас привстали на цыпочки кресты, словно покойники, раскинув руки, застыли над своими могилами.
— Ты повыше, Сева, — произнес уже наполовину просевший крест, — скажи мне, кого это везут?
— Кудрявого чудака с большим носом.
— Так они кладбище перепутали. Им не сюдой, а на еврейское.
— Ни, вин нэ маланэць. Коло нього люды розмовляют иньшою мовою.
— Якою?
— Закордонною.
— Шо? Так в Одессе по новой интервенция?
Кладбищенская попрошайка, будто услышала голос с того света.
— Кого привезли? Русского или еврея? — уточнила она.
— Испанца, — ответила ей пароходская официантка.
— Что вы говорите? — удивилась попрошайка. — И где же вы его взяли?
Рядом с холмом свежей земли положили гроб, а сбоку — красный столбик со звездой и молодой фотографией капитана. Юноша, когда снимался, не думал, что эта фотография появится над его могилой. Неподалеку на подушечке тускнели два темно-бордовых ордена Боевого Красного Знамени. За каждый испанский рейс по ордену. По сравнению с пылающими на груди наградами руководителей пароходства, они казались горсткой остывших углей. При обыске их так и не нашли — Муся умела прятать товар, когда надо было. Долгое время она дула на эти угольки, чтобы они не потухли, и ордена тлели в ее тайниках, а вот теперь разгорелись на багровой подушечке, превратившись в два запекшихся кровавых сгустка.
Двое никому не известных одинаково одетых мужика молча сопровождали нас с самого начала. Сперва они побаивались Муси и то и дело с опаской поглядывали на нее. Здесь же, на кладбище, они успокоились и даже отошли в сторону перекурить «Беломор». Но расслабились службисты не во время. Когда затихла музыка, и трубачи стали выбивать слюну из мундштуков, Муся выпрямилась, отвела назад плечо и в наступившей тишине внятно сказала:
— Холера на твою рябую голову! Чтоб ты перевернулся в гробу, усатый гавнокомандующий!
Двое, как по команде, выбросили «беломорины» и сердито замахали оркестру. Трубачи сбивчиво заиграли веселый марш.
А через несколько месяцев из двуспального мавзолея ночью воровато вынесли того, кого прокляла эта женщина, и закопали под забором, главным забором державы — под Кремлевской стеной.
Сколько пространств осталось за кормой этого маленького теплохода — «Тарагона». Сейчас мне кажется, будто он переплывал из одной эпохи в другую. Я бы не удивился, если бы узнал, что на нем плавал Колумб или даже Одиссей.
Ведь говорят же, что каждый из нас прожил много жизней за те тысячелетия, которые просуществовало человечество. И капитан из Испании, ставший впоследствии сибирским зеком, возможно, был когда-то мадридским евреем, открывшим Америку. Ему проще было стать в прошлом Колумбом, чем в будущем уголовником. Будь он когда-то Одиссеем, стало бы понятно, что не случайно в его последней судьбе плескалось море и появилась одесситка Муся. А что вы думаете, вполне возможно. В нашем городе все может быть.
Хотелось бы знать, а чьи имена стоят по ту сторону жизни за моей судьбой? Эй, откликнетесь, строители государства Урарту, иудейские пастухи, римские солдаты из тринадцатой когорты!
Будем знакомы.
В море, и правда, не видно, какое тысячелетие за кормой.
А разве на земле видно? Какой век был, когда отсидев в Сибири двадцать лет, вернулся в Одессу капитан Хосе? Наверное другой, не тот, когда меня увозил от фашистов маленький пароходик «Львов».
Рядом с мамой устроилась на палубе толстуха, которой папа при посадке помог вписаться в габариты трапа. Она расплылась на палубе, как медуза на берегу, и сразу же стала спрашивать:
— И куда вы теперь отправляетесь?
— Я знаю? — развела руками мама. — В Сибирь. Там живет жена брата. Так мы поедем к ней.
— О чем вы говорите? В Сибирь. Там сто градусов. А в Ташкенте у вас нет жены брата?
— Вы, наверное, думаете, что моя мамаша — мать-героиня?
Женщина залезла в карман и протянула нам с сестрой по конфете.
— Я таки знала, что на пароходе будут дети.
Она тарахтела до самой ночи и замолкла только тогда, когда взошла луна. Море стало светлым, и это было опасно, так как в любую минуту нас могли увидеть немецкие летчики.
Я задремал, но неожиданная суматоха тут же разбудила меня.
— А ну-ка поднимайся! Пошли к капитану! Живо!
Оказывается это относилось к маме.
— Ша, что вы шумите. У нее дети. Она мать детей. — Вступилась за нас соседка.
— Мать-перемать! — взялся за кобуру военный.
В каюте с плотно зашторенным окном было так накурено, будто там висела дымовая завеса. Молодой военный играл в шахматы с капитаном.
— Товарищ лейтенант, у нас снова ЧП. Вот привел немецкую шпионку. — Вытянулся перед старшим по чину наш провожатый.
Лейтенант неохотно оторвался от доски.
— Шпионку говоришь, Сидоров? У, да их тут целых три. Еще два шпиончика. — Улыбнулся он капитану.
— Вы не имеете права, я — жена красного командира. — Гордо вскинула голову моя маленькая мама.
— Слышишь, Сидоров, а ты говоришь — шпионка. — Передвинул лейтенант вперед фигуру.
— Так точно, товарищ лейтенант, подавала сигналы зеркальцем вражеской авиации.
Лейтенант поднялся и подошел к нам. Роста он оказался высоченного. Наклонившись, военный взял из рук мамы сумку и щелкнул ее замком — двумя блестящими металлическими шариками. Даже при тусклом свете лампочки они весело сверкнули.
— Диверсия, да, Сидоров? — лейтенант устало посмотрел на своего подчиненного. Видимо, тот ему изрядно надоел. — Вот что, размести-ка диверсантов в каюте тридцать два. Она свободна.
— Есть, товарищ лейтенант!
— Спасибо, молодой человек, — сказала мама, — мой муж тоже лейтенант. Он остался воевать в Одессе.
— Сидоров, — остановил нас великан, когда мы уже были в дверях, — и консервы возьми в моем рюкзаке, булку хлеба и консервы. Накорми шпионов.
— Ой, что вы молодой человек, мы и так вам уже благодарны.
— Будет исполнено! — неожиданно улыбнулся Сидоров.
А через четыре дня мы пришвартовались в Мариуполе.
Fueled by Johannes Gensfleisch zur Laden zum Gutenberg
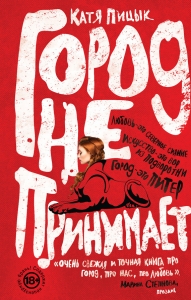



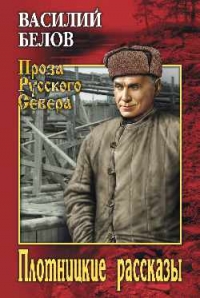
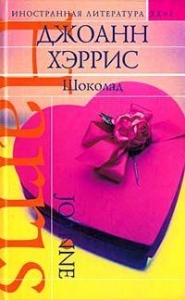


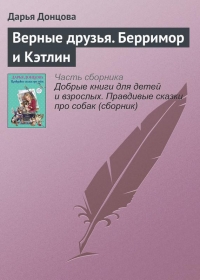



Комментарии к книге «Но пасаран», Рудольф Александрович Ольшевский
Всего 0 комментариев