Анна Александровна Матвеева Есть!
© Анна Матвеева
© ООО «Издательство АСТ»
* * *
…Только писатели хорошо разбираются в кулинарном искусстве. Привыкнув к изысканности, они лучше других людей умеют ценить изысканности стола.
Александр ДюмаЧасть первая
Первые примеры чревоугодия нам преподали две женщины: Ева, съевшая яблоко в раю, и Прозерпина, съевшая гранат в аду.
Александр ДюмаГлава первая,
которая по логике вещей и событий должна стать последней, однако в ней всё только начинается. Здесь впервые появляется наша героиня и размышляет о том, какие неожиданные (и ненужные) приобретения можно сделать в продуктовом магазине. Кроме того, в этой главе присутствуют одно телевизионное шоу, несколько свежих идей и целых четыре толстяка
Ресторан держат четыре брата. Старший, Массимо, сидя – свисает со стула боками, а ходит – раскачиваясь и посвистывая, как резиновая утка, отслужившая банной игрушкой минимум пяти поколениям. Массимо, в полном соответствии имени, главный, – команды он подаёт с места: «Альфонсо! Устрицы на первый! Марио! Счёт на восьмой!», и так же с места орёт на посетителей, если они вдруг заказали не то вино, или пропустили «первое».
Альфонсо – средний брат – выглядит чуть более подтянутым, и запросто проходит в дверь – правда, поднос он всегда крепко держит обеими руками и ноги у него явственно заплетаются. Мне с моего места видно, что Альфонсо каждый новый поход на кухню отмечает глотком вина из припрятанной в шкафчике бутылки.
Тем временем заляпанная разнокалиберными пятнами карта меню (будто карта мира, заляпанная материками) выскальзывает из волосатой ручищи Марио.
Его – третьего брата – можно считать стройным: при известном человеколюбии и на фоне старших парней. Марио весит не более ста пятнадцати килограммов, но ему не очень повезло с подбородками – подбородков у Марио несколько, и каждый имеет свой собственный размер, очертание, а возможно, и предназначение. Я, пожалуй, слишком пристально изучала удивительные подбородки Марио, потому что он вдруг смутился, сдвинул меню одной ручищей, пока другая ручища, похожая на раскормленного бобра, ловко сгребла сервировочные тарелки и бокалы: мы с Екой хором отказались от вина. По этому поводу Марио укоризненно поцокал языком, но бокалы послушно унёс, и вскоре к нашему столу подкатился весёлым колобком четвёртый толстяк, Джанлука – братья так громко обращались друг к другу, что запомнить, как их зовут, не смог бы только абсолютно глухой посетитель (каких в ресторане «Ла Белла Венеция» в тот вечер, по-моему, не было).
Ека разгладила складочку на скатерти, раскрыла меню – такое же заляпанное, как и у меня (разве что пятна-материки были темнее), и впилась взглядом в список «антипасти». Я смотрела на Еку, и думала, что скоро настанет день, когда мне больше не надо будет на неё смотреть. «Господи! – взмолилась я, поднимая глаза к пыльной муранской люстре, – я согласна отдать что угодно, лишь бы этот день пришёл скорее!» Я готова стать такой же толстой, как Альфонсо, Массимо, Марио и Джанлука вместе взятые, лишь бы вернулось то славное время, когда никакой Еки в моей жизни не было.
Хорошо бы кто-нибудь рассказал эту историю от начала и до конца.
Хорошо бы этот кто-нибудь рассказал всё честно, как на приёме у врача, а лучше – как врач врачу, отбросив ложный стыд и сомнения, этику и деонтологию, честь и совесть.
Увы, желающих нет, и рассказывать придётся мне самой. Что ж, ничего другого в мире всё равно не осталось, кроме этой истории, меня и Еки. Прочее – декорация, статисты. Даже «Ла Белла Венеция» с её газетными вырезками и фотографиями, наклеенными прямо на стены, даже Массимо, выписывающий счёт и с трудом удерживающий авторучку сарделечными пальцами.
Начать можно так:
«Геня всегда любила есть, и радовалась тому, что это – есть.
Еда как способ насытиться, еда как наслаждение, еда как способ манипулировать людьми. Лучший и самый верный способ; куда там нейролингвистическому программированию. Хотите превратить бульдога в кролика? Вовремя покормите его. Хотите уютной семейной жизни? Готовьте сами. Хотите счастья? Ешьте по-настоящему вкусно! Ешьте с Геней. Ешьте как Геня. Ешьте лучше Гени (если сможете). И не бойтесь растолстеть – набирают вес лишь те, кто не умеет есть вкусно. “Вкусная еда не бывает вредной”, – так говорит Геня Гималаева, гений кулинарии, ведущая телепрограммы “Гениальная кухня” на канале “Есть!”…»
Или так:
«…Геня Гималаева любила готовить и любила кормить всех вокруг – особенно детей и несчастных влюблённых, потому что именно детей и несчастных влюблённых сложнее всего накормить».
Джанлука склонился к нашему столику и крикнул:
– Синьоры, теперь расскажите мне всё!
– Антипасто мисто, – тихо, будто секретный пароль, сказала Ека. – Первое пропускаю (Массимо в отдалении скрежещет зубами), на второе – печень по-венециански с полентой. И тех булочек с чесноком, которые были вчера.
– То же самое, – я кивнула Джанлуке, и он покатился в кухню, где Альфонсо неверными движениями прятал в шкаф опустевшую бутыль.
Меня назвали Евгенией, но я не люблю это имя вместе со всеми его жжёно-женски-жеманно-жэковскими производными. Просто не любить – ничего страшного, но, когда дело дошло до публичности, пришлось придумывать новое имя. Кстати, Еке (однако! она должна была появиться значительно позднее, но вылезла уже в первых строчках), так вот, Еке помогли найти новое имя коллеги, поскольку свое родное – «Катя» – она произносила с гадким присюсюком. «Каця» – это ещё хуже, чем Жека! Народ скинулся идеями и раскошелился на «Еку». Три первых буквы длинного имени, которое нравится мне ничуть не больше моего собственного.
Всё, постараюсь взять себя в руки и хотя бы несколько минут подряд не думать об этой… об этой… хотите, расскажу, как мы с ней встретились в первый раз?
Я тогда была счастлива, как в песне – «…их дети сходят с ума от того, что им нечего больше хотеть». У меня было несколько шоу. Рой преданных поклонников, рубившихся за меня, как пчёлы – за правду-матку. Несравненный и тогда ещё неистовый П.Н. Моя чудесная кухня… В общем, всё было именно так, как представляют себе наивные молодые люди в своих наивных молодых мечтах. Потом, по мере взросления, молодые люди поймут, что за каждым успехом, как баржа на тросе, тянется штраф, и удивительно, если штраф этот запаздывает. Как правило, счёт за удовольствие подают без промедлений. Это вам не Массимо с братовьями из ресторана «Ла Белла Венеция» – вчера мы ждали счёт больше сорока минут, после чего на полусогнутых явился Альфонсо с абсолютно пустым листком бумаги и сказал: «Аллора, синьоры, давайте вместе вспоминать, чего вы тут наели».
Так вот, в доекатерининскую эпоху я честно не знала, о чём бы ещё попросить Провидение – ну разве только чтобы в гипермаркет «Сириус» завезли бы наконец свежие артишоки и начали бы продавать их там постоянно. Я думала именно об артишоках в тот день, когда катила по залу «Сириуса» громадную корзину на колёсах. То был осмотр владений: сразу после того как у нас открыли «Сириус», я привыкла считать его своим домом. Кассирши здесь знают меня по имени, новенькие продавщицы берут автографы, а смелые покупательницы спрашивают совета, и все они – кто искоса, кто явно – заглядывают в мою корзину, пытаясь запомнить, что именно купила сегодня в «Сириусе» Геня Гималаева.
Когда я была маленькой, то именно так – «Гималаева» – выговаривала свою простую фамилию «Ермолаева».
В тот день у меня в корзине уже лежали две упаковки белейших крупных шампиньонов, тыква баттернат, венгерский бекон (душистый, скользкий, но достаточно прочный для того, чтобы им можно было обмотать, как лентами, толстенькие эскалопы или куриные грудки), а ещё там были индийский рис, мягкий морщинистый чернослив, груши дюшес и литовский пармезан, к которому я отношусь вполне дружески, хоть и не понимаю, почему он называется пармезаном. Я разминалась перед покупкой главного продукта и не могла решить, что я буду сегодня готовить – нежное, как моцарелла, филе судака или баранину с чесноком: в «Сириусе» хвалились свежими поступлениями…
…Геня Гималаева, кулинарная этуаль, подруга и личный повар главного городского гурмана, оценивающего блюда по шкале междометий от удивленного «М-м-м-м?» до страстного «О-о-о-о…», ловко рулила корзиной по лучшему городскому магазину снеди и вспоминала вчерашнюю премьеру «Сириус-Шоу». Программу снимали именно здесь, в гипермаркете «Сириус», вот уже пять лет бывшем гордым спонсором и основным подателем рекламы телеканала «Есть!». Покупательницы произвольно выбирали продукты, а затем рассказывали (и показывали) ведущей, какие прекрасные блюда они будут готовить из купленного. Героинь отлавливали в очереди, предлагали продемонстрировать покупочки и поделиться рецептом с телезрителями. Двух тётенек Геня подготовила заранее – чтобы слегка разукрасить общий серый фон.
– …Знаете, как питаются в России? Я часто задаю себе этот вопрос, потому что хочу научить наших соотечественников любить еду и готовить с удовольствием. Поделюсь с вами одним секретом, – доверительно, как гинекологу, рассказывала видеокамере Геня. – Я очень люблю заглядывать в корзины покупателей «Сириуса» (первое упоминание), но что я там вижу? Унылую копчёную курицу, готовый салат, наструганный равнодушными руками незнакомого вам человека (здесь меня слегка занесло, но ничего, все перегибы вырежут при монтаже), полуфабрикатные перцы, кетчуп, майонез и торт под пластиковым колпаком. Прибавьте к этому три бутылки пива, нарезанный батон, шоколадку – и полу́чите картину «Ужин по-русски»! Не знаю, как вам, дорогие, а вот лично мне почему-то совсем не хочется делить даже с самыми лучшими друзьями такую трапезу. Но сегодня нам это, кажется, не грозит. Давайте узнаем, что собирается приготовить сегодня на ужин наша гостья – Елена! Я вижу в корзине у Елены российский сыр, муку, яйца, куриные окорочка…
(Елена смущается так, будто бы телезрителям предъявляют её собственные окорочка.)
…оливковое масло, бородинский хлеб, кинза, творог, каперсы, горчица с чёрной смородиной. Интересный набор!
(Елена – это уже не «подготовленная заранее» тётенька, а стопроцентно натуральная покупательница. Она кусает губы и озирается по сторонам, демонстрируя неуверенность в себе и в окружающих. Замороженные окорочка выглядят жутко, но мы-то знаем, как могут воспарить эти птицы в умелых руках!)
– Я обжарю окорочка, – рассказывает Елена, – то есть разморожу их, вначале, конечно, а потом обжарю, намажу горчицей, посыплю тёртым сыром с каперсами и запеку в духовке. А творог и яйца – это на утро: сырники сделаю.
Геня обожает сырники. Она готова их есть на завтрак каждый день, но об этом даже П.Н. не знает. Они с Геней редко вместе завтракают – П.Н. приходит к ней, как в ресторан.
Геня всё так же ловко рулит корзиной, с удовольствием вспоминая вчерашнее шоу. Удача, большая и зубастая, как рыба-меч… Все узнаю́т Геню – некоторые покупатели решительно сворачивают с её пути, и прячут корзины – стесняются! Боятся хорошего вкуса. Расслабьтесь, сегодня я без камеры, думает Геня. Я здесь в частном порядке.
Решено: вяленые помидоры! Она паркует корзину рядом с такой же точно чужой, машинально заглядывает в неё – и видит там сон про двойника. Бекон, сливки, литовский пармезан, судак, тыква баттернат, шампиньоны… И… баночка вяленых помидоров – увы, последняя в «Сириусе». Та самая баночка, вокруг которой сложилось сегодняшнее гениальное меню – и теперь рассыпается на глазах, потеряв опору… Счастливая обладательница банки, гражданочка с очень короткими, но при этом пышными волосами (что само по себе не внушает доверия), равнодушно улыбнулась Гене и покатила свою корзину дальше.
…Я спряталась за стеллажом с маслом. Кстати, тыквенное масло! Отлично, берём. Бутылочка тихо звякнула о прутья корзины, воровка вяленых помидоров сделала отвлекающий внимание круг, а потом взяла с полки такую же точно бутылочку.
Заметно ниже меня, блондинка, и глаза очень светлые. Рот большой, как у рыбы-зубатки. Правда, рыбы столько не живут – на вид ей не меньше тридцати пяти. Тыквенное масло, ха! Она хоть знает, как с ним надо обращаться? Судя по всему, да – берёт с полки свежую рукколу. Если взять рукколу, добавить обжаренные кедровые орешки, сбрызнуть тыквенным маслом, будет нам сегодня и «М-м-м?», и «О-о-о…». А ещё я, пожалуй, сделаю сегодня каприйскую закуску в моей собственной версии: красные и жёлтые помидоры, базилик, адыгейский сыр и моденский уксус. Свежий адыгейский сыр ничем не хуже моцареллы, а остатки его я пущу на шахи панир – жаренный по-индийски сыр с пряностями… Обойдемся без вяленых помидоров.
Через полчаса мы с этой зубаткой столкнулись у кассы, её покупки уже ехали по ленте – и почти не отличались от моих. Я тоскливо проводила глазами баночку с помидорами. Неприятно… Но если рассуждать профессионально… вот бы залучить такую покупательницу в новое шоу! Я не успела даже додумать до конца эту мысль, как зубатка ловко сгребла свои пакеты и пропала из виду.
Глава вторая,
в которой Геня делает вид, что пишет книгу, а П.Н. – что будет ужинать с мамой
Если блюдо нужно готовить дольше двух часов, оно меня навряд ли заинтересует. Почти всё по-настоящему вкусное готовится быстро, но только из самых свежих продуктов! П.Н. шутит, что я прекрасно обхожусь без холодильника, как в старину: что купила на рынке, то и приготовила. И в Японии, кстати, меня поняли бы – там приличные хозяйки ходят за продуктами трижды в день! А нашу бедную Россию так долго и последовательно отучали есть, что теперь народ не выманишь из привычной безвкусицы, как из берлоги: многие по-прежнему едят зимой пельмени, весной – винегрет, а летом – шашлык на фоне леса. Как сказал бы Жан-Поль Сартр, тошнота… Муж одной из моих поклонниц, когда она поставила перед ним прямоугольную (это важно!) тарелку с камбалой карри под мелким листопадом измельчённых фисташек, возопил: «А где картошка?!» К счастью, новая гастрономическая история России пишется в наши дни, и я пытаюсь участвовать в процессе. Не зря ведь народ в последнее время буквально помешался на еде: даже в книжных магазинах – всё сплошь о том, как есть, что есть, и почему – есть!
Но, дорогие мои читатели-телезрители, знали бы вы, как мало существует оригинальных рецептов! В большинстве случаев речь идёт о перепевах одних и тех же блюд. Ещё и поэтому мне бывает жаль раскрывать секреты, и я отлично понимаю венгра Добоша с его тортом – Добош даже на смертном одре утаил рецепт. Унёс торт в могилу. Я понимаю, но сама при этом работаю на телевидении, а стало быть, хранить тайны не могу – зритель не поймёт. Вот и приходится каждый раз наступать на горло собственным чувствам.
Утешиться можно лишь вот чем: даже если блюдо готовится из одних и тех же продуктов, по исходному рецепту, но разными поварами, конечный результат будет у каждого свой. На заре творческой жизни мы с П.Н. проводили такой эксперимент: пятеро участников готовили цыплят в вишнёвом соусе, используя базовый рецепт и строго выверенный набор продуктов. Трое сделали приблизительно схожие блюда, а вот у оставшейся пары получилось нечто совершенно особенное – я пробовала и не верила своим рецепторам. В нашем деле всё решают доли секунды, глазомер и чувство прекрасного.
…Бас П.Н. уже давно гремел в коридоре, когда дверь наконец распахнулась. Шеф радостно втолкнул в кабинет незнакомую девицу, с которой мы, впрочем, уже однажды виделись. При не самых приятных обстоятельствах. Зубатка протягивала мне руку и улыбалась, как принцесса Диана на встрече с простым пиплом.
– Геня, познакомься, – сказал П.Н. – Это Катя… Екатерина Парусова. Она будет вести у нас кое-какие проекты.
Зубатка, она же Катя, видите ли, Парусова улыбалась во все дёсны, изображая, что не помнит давешней встречи в «Сириусе» – такой бесславной для меня.
– Я давно смотрю все ваши программы, – сказала она, и ещё сильнее растянула губы в стороны (даже страшно стало: вдруг лопнут?).
Мне захотелось сказать, что для человека, давно смотрящего все мои программы, она не слишком-то наблюдательна, но я вовремя прикусила язык. Много чести для тебя, Катя Парусова.
– Мы на минутку, – вскочил с места П.Н., – я обещал познакомить Катю с народом. Показать, что тут у нас к чему.
Он понёсся к дверям, и Катя поспешила за ним следом, одарив меня на прощанье ещё одной «улыбкой Гуинплена».
Рабочее настроение они мне сбили окончательно. Впрочем, мне и до того, если честно, не очень-то писалось. Бывают такие дни, когда самое лучшее – не выжимать из себя лентяя по капле, а взять да бросить то, что не получается. И честно забыть о работе хотя бы на несколько часов. Я закрыла файл с будущей книгой и отправилась привычным маршрутом – на сетевой форум канала «Есть!», где кучкуется стая моих самых преданных поклонников. Ах, как меня греют их трогательные признания: «Геня, я вас обожаю! Геня, вы открыли мне мир настоящей кухни… Геня, ваш последний рецепт – настоящий прорыв!»
Я машинально отвечаю поклонникам – и думаю: ну и пусть количество рецептов имеет свой предел, зато мы, русские, находимся в привилегированном положении по отношению к заевшимся иностранным гурманам. Уж слишком долго нас держали на пельменях и селёдке под шубой. Только сейчас мы начинаем познавать великую мировую кухню и понимаем, что…
…мы понимаем, что в кабинет опять влетел П.Н. На этот раз – один, если не считать мудрых мыслей, клубящихся вокруг него даже в самые деликатные моменты. (В материальном воплощении эти мысли стали бы бодрыми сорокалетними дамами, какие часто работают старшими менеджерами.)
П.Н. – Павел Николаевич Дворянцев, главный гурман и самый известный медиамагнат нашего города и прилегающей области. Человек, открывший Геню Гималаеву и сделавший её звездой, я извиняюсь, экрана (из штампа слов не выкинешь). Убеждённый – мамой, в далеком детстве, – холостяк. Мужчина, который становится всё краше с каждым годом, хотя, возможно, это у меня с каждым годом всё ниже падает планка. П.Н. понравился мне в первую же секунду знакомства, когда он точно так же влетел в кафе, и его тогда ещё длинные волосы фамильярно трепал сквозняк… П.Н. давным-давно исполнилось сорок пять, но он так трогательно скрывает сей безрадостный факт, что ни у меня, ни у других сотрудников не хватает духу признаться, будто бы мы тоже об этом знаем. Мы все старательно делаем вид, что не замечаем ни морщин, ни седых волосков, коварно отсверкивающих в поредевшей шевелюре, ни брюшка, мило обрисованного тёмным джемпером… П.Н. хорошо улыбается, но довольно часто – и громко, как оглохший прапорщик! – орёт на провинившихся (эхо летит по этажам, и здание прижимает уши). Он часто ужинает вместе со мной, но на ночь не остаётся: П.Н., мой босс и вдохновитель, так и не стал моим любовником. Тем не менее, в трудовом коллективе лишь у меня одной имеется право говорить с П.Н. естественным тоном. – Я доволен, – сказал П.Н., и плюхнулся в кресло, скинув на пол мою сумочку. Правда, тут же извинился, поднял.
– Я доволен! – настойчиво повторил мой гость (он же – мой хозяин, если называть вещи своими именами). Судя по всему, он ждал ответной реплики.
– И чем именно ты доволен?
(Я говорю П.Н. «ты» и до сих пор не могу к этому привыкнуть.)
– Геня, ты бы видела её резюме – она училась в Лондоне, в Италии, работала в Каталонии… А какие рецепты! Я чуть картинки не сожрал!
Нет, он не издевался, мой П.Н.; просто, как и все прочие известные мне мужчины, не удосуживался взглянуть на ситуацию пристально, предпочитая планетарный масштаб. Вот сейчас он скажет: «В интересах канала…»
– В интересах канала, – не подвёл П.Н., – мы просто обязаны взять эту девочку! Для начала я отдам ей «Сириус-Шоу», а там посмотрим. Ну, Геня, друг мой, ты и так зашиваешься, тебе некогда творить по-настоящему – а помнишь, кое-кто ещё и книгу хотел написать?
– Я и так её пишу, – сказала я. – Уже вступление готово и полторы главы.
– Кстати, Катя тоже пишет книгу, – сообщил П.Н. – Ещё бы, молчать с таким опытом – грех.
(Нет, он всё же издевался.)
– Ужинаем в восемь?
П.Н. свернул губы розочкой – он всегда так делает, если ему что-то не нравится: соус, или рейтинг, или человек…
– Сегодня я обещал маме поужинать дома.
Дома? С мамой?! Берта Петровна – милейшая старушка, но вот готовить она, по её же собственному признанию, за всю свою долгую жизнь так и не научилась. Ах, как нахваливала Берта Петровна мой форшмак… Как она плакала в телефонную трубку и благодарила, что я вернула её в далёкое одесское детство… «Кстати, Геничка, смогли бы вы сделать для меня при случае буквально баночку икры из синеньких?»
Нет, Берта Петровна здесь ни при чём. Под кодовой кличкой «мама» действует другая особа.
П.Н., повторюсь, мой босс и главный дегустатор, но он мне не любовник и не муж. Стало быть, волен ужинать где и с кем угодно, а все мои планы и покупки не имеют никакого значения.
Вдруг я ощутила сильную усталость: мне не хотелось его уговаривать, даже не хотелось готовить! П.Н. буркнул что-то ободряюще-прощальное и закрыл за собой дверь.
…Я родилась в начале семидесятых, когда в продуктовых магазинах царило запустение: витрины украшали пирамиды гнусных консервных банок с несъедобным содержимым, сгущёнку и тушёнку изредка давали по карточкам, эвфемистично названным талонами, а в молочный магазин задолго до рассвета выстраивалась драконоподобная очередь. Родители мои относились к еде по-спартански: «Когда мне хочется есть, я просто кидаю в себя что-нибудь, и привет», – говорил отец. Другое дело – чай с сигаретами, по этой части и мама, и папочка были – и остаются! – выдающимися специалистами. Сожалели, наверное, что ребёнок был не в состоянии оценить прелестную простоту такого рациона.
Мама, подозреваю, в молодости неплохо готовила, но с годами её талант усох до навыка стремительного («ай, да отвяжитесь!») приготовления двух-трёх фирменных блюд. Почти всё то же самое готовилось в домах моих подруг, соседей и большей части населения СССР: «фирменное» мясо «по-французски», запечённое в духовке с сыром, «фирменный» винегрет и «фирменный» яблочный пирог «шарлотка». Папа порою вспоминал о молочных киселях и морковных пирогах своей бабушки, но делал это всегда спокойно, без экзальтации. Он вообще никогда не жаловался ни на жизнь, ни на своих спутников в этой жизни – почти все они, включая маму, были инженерами, и до сравнительно недавнего переезда в старообрядческую деревню Пенчурка папа вообще не судил людей и не лез к ним с проповедями.
Но всё же мама лет десять подряд выписывала журнал «Работница», где из номера в номер мелким красивым шрифтом печатались рецепты хитроумных блюд, выдуманных изобретательными работницами из Москвы и работницами из Свердловска, работницами из неведомого мне Комсомольска-на-Амуре и прочих мифических городов… Я читала эти рецепты, как стихи, – и заучивала наизусть, будто бы знала, как они мне однажды пригодятся: торт «в клеточку» (от инженера, как сейчас помню, технолога Е.Демаковой), облепиха в сахаре от кулинара И.Грушевского… Где вы сейчас, И.Грушевский и Е.Демакова?..
Две случайно поселившихся в доме кулинарные книги – «Домашнее приготовление тортов, пирожных, пряников, пирогов» и «Книга о вкусной и здоровой пище» – следовали в моем личном хит-параде сразу же за «Мушкетерами» и «Холмсом». Но по-настоящему хорошо в моём детстве готовили лишь два человека – далёкий узбекский гость дядя Рустам и моя родная бабушка Ксения Петровна, ба Ксеня.
Дядя Рустам приезжал к нам в гости каждый год – и в первый же день отправлялся на базар за бараниной (тоненький длинный рис, жёлтая морковь и зира прибывали вместе с ним из Узбекистана). Родители заранее созывали гостей «на плов», дядя Рустам закрывался на кухне, молился и только потом начинал священнодействовать – всегда в одиночестве. Лишь однажды он позвал на кухню… меня. Сейчас, взрослым умом, я понимаю, что дядя Рустам хотел передать мне – единственному человеку в нашем доме, питавшему искренний интерес к недуховной пище, – бесценный секрет приготовления настоящего узбекского «палова», но тогда, дурочка, я растерялась и отговорилась. Мне не хотелось в самом деле учиться готовить плов: намного интереснее было читать рецепты и воображать, как из-под моих рук рождаются – сами по себе – прекрасные съедобные шедевры.
Дядя Рустам давным-давно не приезжает, никто не научил меня пловоделию, и я всю жизнь об этом жалею… И помню тот великий и славный момент, когда готовый плов вносится в комнату, как знамя победившего полка. Междометия гостей со всех волостей – самые сообразительные успевают нагрузить свои тарелки распаренными чалмами душистого чеснока, которого на всех не хватает, и аромат плова летит по квартире, как гонец с прекрасным известием… Большинство моих нынешних знакомых – даже в нашей, кулинарной среде – готовят вместо плова рисовую кашу с мясом. До сих пор не могу простить себе (точнее, той девочке, которой я была когда-то, – у нас с ней нынче так мало общего, что я не могу всерьёз считать её собой), что не стала учиться тайнам узбекской кухни.
Вот почему рецепты ба Ксени – будучи старше – я уже старалась записывать. И самым первым стал бабушкин рецепт блинов – тоненьких и очень больших, таких я больше ни у кого никогда не видела. Эти блины – мой главный козырь в мучных состязаниях, которые у нас регулярно устраивают на Масленицу. Вообще, соревнования, объединённые темой «А вот кто у нас здесь вкуснее всех готовит?», простегали нашу жизнь слева направо и с ног до головы – красной нитью. Первое условие для всех, кто пожелает вдруг устроиться к нам на работу, – это уметь готовить, и готовить вкусно! У нас даже компьютерщики способны накормить десять человек одной рыбой, а какие пончики жарит главный бухгалтер!.. Единственный человек, не прикасающийся к продуктам и навеки застолбивший себе место «по ту сторону тарелки», – наш главный едок и директор П.Н…
…Ба Ксеня всегда говорила мне: «Женечка, готовить нужно с любовью». Она единолично властвовала на кухне, и всегда очень нежно прикасалась к продуктам. Эта ненаигранная нежность встречается лишь у самых лучших поваров. Ба Ксеня так ласково бралась за какую-нибудь тривиальную картошку, что картошка не имела морального права ответить ей иначе.
А мои первые кулинарные опыты – это килограммы варварски загубленных продуктов, чёрные дыры сгоревших сковородок и слава неумелой поварихи, которая носилась за мной, как бык с репейником в заднице за ковбоем на родео. Опытные хозяйки от души веселились над моими юношескими экспериментами, но вот мой день настал, уж пробил час, и где теперь все эти хозяйки? Да вот они, родимые, сидят у экранов и, сочась тоской (пополам с самой жгучей, что твоя аджика, завистью), записывают на полях газеты рецепты «Гениальной Кухни».
– Геня, ты домой-то собираешься? – уборщица Светлана Аркадьевна (второе место в прошлогоднем состязании пельменщиков) вплыла бесшумно, как тень какого-нибудь отца Гамлета. Обняла швабру, будто берёзу, и вперилась в звезду эфира умильным взором. Светлана Аркадьевна – как и другие мои поклонники – даже не догадывалась о том, что звезде эфира сегодня некому светить. Она, звезда эфира, уныло доползёт до пустого дома, отправит в духовку кусок судака с козьим сыром и сухарями, а потом равнодушно проглотит ужин в одиночестве, не заметив ни вкуса еды, ни цвета, ни запаха.
Глава третья,
из которой читатель сможет узнать множество подробностей о славном прошлом Гени Гималаевой и убедиться в том, что она абсолютно верно поступила, порвав с этим славным прошлым. Также читателю открываются некоторые личные странности ведущей «Гениальной Кухни», а кроме того, здесь впервые – и пока совсем ненадолго – появляются Иран, Ирак и популярный британский повар
Жизнь склеена из множества кадров. Почти каждое свое движение я отслеживаю, как подобает профессионалу: с подсветкой и озвучкой. Столько лет на телевидении… спасибо, врач не нужен!
Кадр первый. Геня Гималаева. Короткое пальто и берет придают облику героини лёгкий французский акцент. Геня – не то чтобы молодая, но уж точно, что не старая – закрепилась ровно посредине между эпитетами «худая» и «фигуристая». Несомненная брюнетка. Идеальные брови. Та самая Геня Гималаева, которую вы можете лицезреть в ежедневном режиме на кулинарном телеканале «Есть!», открывает входную дверь и вздыхает, набрав полную грудь родного воздуха. Горечь свежесмолотого кофе и сладкий ладан книжной пыли. Как же она любит свой дом!
Кадр второй. Кстати, о кадрах.
Гене пришлось помучиться с оператором, прежде чем он выучился правилам бережного обращения с её лицом. Оператор ещё важнее косметолога, это потенциальный киллер, способный нейтрализовать любые попытки выглядеть моложе и лучше (кажется, была?..) единственным метким движением камеры. (Контрольный выстрел в Генином случае – съёмка лица снизу.)
Мой Славочка, к счастью, лишён лицензии на убийство – я никогда не поменяю оператора.
И ещё о кадрах.
Ира Калугина и Ира Николаева, Ира К. и Ира Н., которых с моей нелёгкой руки у нас все зовут просто Ирак и Иран. Две мои главные жизненные подпорки, редакторы, подруги, непромокаемые жилетки и надёжные плечи. Без них не взойдёт солнце, и не будет нового дня. На самом деле я и без Ирак с Иран спокойно обошлась бы, но тогда мне пришлось бы выполнять кучу неприятных скучных дел: искать героев программы, записываться на коррекцию ногтей, собирать отзывы о новых проектах…
Ирак родом из Дагестана. (Калугина она по мужу – теперь уже бывшему.) Она легко пускает слезу и с такой же лёгкостью её высушивает, принимаясь за повседневный телевизионный труд. Ирак будит меня по утрам телефонным звонком и, полусонной, рассказывает о том, что ждёт нас в сегодняшнем дне, а кофе, который она варит, заслужил похвалу самого П.Н. Этот кофе – моё ежедневное топливо. Самое нелюбимое время в году для Ирак – это отпуск, в который я её буквально выпинываю – ведь кадры надо беречь. Увы, Ирак одинока: за исключением работы, ей не удалось обзавестись в жизни ни одной стойкой привязанностью.
Ира Николаева, Иран – совсем другая страна… Мама Иран – моя давняя и преданная поклонница, сама же Иран пришла к нам всего лишь три года назад – не могу поверить в то, что канал «Есть!» (и отдельно взятая телеведущая) могли когда-то без неё обходиться! Перетруждаться, впрочем, не в её привычках – напротив, Иран умело выпрашивает у меня дополнительные дни отгулов и ловко пристёгивает выходные дни к очередному отпуску. Собой она не хороша, ноги и руки у неё широкие, как ласты, – зато голос! Земляничное мороженое! Все сложные телефонные переговоры у нас ведёт Иран – ей никто не может отказать. Еще Иран вегетарианка, притом затейливая. Против мяса убитых животных она чисто теоретически не имеет ничего против, но утверждает: для того чтобы вырастить одну-единственную корову, человечеству приходится тратить уйму денег на корм и пастбище. А значит, коровы (свиньи, бараны и прочая скотина) – непозволительная роскошь для человечества, и на всех коров не хватит в любом случае. Вот почему Иран добровольно отказалась от своей доли в мировом животном наследии, предпочитая… объедать этих самых коров, употребляя исключительно растительную пищу. По части блюд индийской кухни Иран нет равных – у неё получается такой сочный шахи панир, какого вам и в Агре не сготовят.
Между собой Иран и Ирак не то чтобы дружат, но вполне гармонично сочетаются в рабочем пространстве, образуя идеальный творческий фон. А чего ещё можно требовать от кадров?..
И вот он, кадр второй.
Геня Гималаева вносит в кухню продукты и отработанными движениями распределяет их по шкафчикам, холодильникам и полочкам. Домашняя кухня Гени – шедевр дизайнерской мысли, созданный, кстати сказать, без участия единого дизайнера. Всё по-настоящему важное я стараюсь делать самостоятельно – лишь так можно угодить себе и сохранить хорошие отношения с окружающими. И не врать потом, что тебе на самом деле нравится реализованный проект какого-нибудь Васи с архитектурным дипломом: когда в доме снесли все стены или объединили кухню с гостевым санузлом…
Кадр третий. В кухне появляется кошка Гени Гималаевой по кличке Шарлеманя. Крупный план Шарлемани. Вот кого не сможет изуродовать дурной ракурс – Шарлеманя прекрасна в любое время года и суток: она жемчужно-серой масти, с чёрной буквой «M» на лбу, а хвост у неё распушается так, что павлин от зависти сдохнет. Шарлеманя подходит к пустым пакетам и проводит ревизию, явно одобряя задержавшиеся в кухне запахи судака и сыра. Утончённый вкус моей кошки – тема для отдельной книги, которую я тоже однажды напишу.
По-моему, хотя бы одну книгу в своей жизни обязан написать каждый. Даже самое скромное бытие всегда выигрывает у литературы. Читать невыдуманный очерк живой жизни намного интереснее, чем погружаться в заводь писательской фантазии – как правило, до самого дна отравленную желанием разбогатеть, прославиться и при этом – не изменив себе! – вытащить наружу все свои страхи, страсти и комплексы. Жаль, что обычные люди (не писатели) крайне редко решаются на подобный эксперимент, и, в общем, я их понимаю – зачем писать роман, если и так в нём живёшь?..
Я-то, впрочем, раньше всерьёз писала книги – задолго до того, как обнаружила себя на кухне. Я даже подавала надежды (на подносах и блюдцах с каемками) – критикам, читателям, своим родителям, и эти надежды вместе с книгами стоят теперь на самой высокой полке в гостиной корешками к стенке. Мне совсем не хочется на них смотреть, но по законам жанра камера движется именно в эту сторону. Затемнение.
Кадр четвертый. Зритель переносится в давнее прошлое Гени Гималаевой, которую тогда ещё звали Женей Ермолаевой. На экране светится внутренним счастьем румяное существо в джинсовом жилетике. Это я. Сосед по кадру – Этот Человек. Сейчас я мысленно называю его иначе – Тот Человек, потому что мы не виделись ровно столько времени, сколько требуется для превращения Этого в Того.
Именно Тот Человек первым заметил, что я слишком часто играю – даже если на меня никто не смотрит. Тот Человек не верил, что можно тщательно накрывать стол для одинокого обеда – пока не встретился со мной.
Замечание для режиссёра: можно не описывать нашу первую встречу, зритель сможет сам быстренько придумать что-нибудь подходящее случаю. Достаточно сказать, что после знакомства с Тем Человеком я написала подряд четыре книги – а после нашего расставания навсегда оставила это занятие. Бросила как вредную привычку. И сейчас не понимаю, зачем было тратить такой громадный жизненный кусок на сочинительство. У меня ведь не было ни тщеславия, ни каменного зада, а самое главное – не было большого таланта, и всё написанное мной почти сразу же переставало устраивать даже меня саму. Ну вот как если бы я готовила утку, а она бы вдруг безбожно обгорела. Я что, стала бы совать эту утку гостям? Под покровом ночи я горестно вынесла бы сгоревшую жертву моей бездарности на помойку, стараясь не смотреть, как от неё с негодующим видом разбегаются в стороны голодные собаки… Литературное творчество здесь как две капли походит на кулинарное: если роман не пропёкся или подгорел, получился невкусным и пресным, то надо избавиться от последствий, поставив книжку корешком к стене. У меня таких книжек, увы, целая полка. Ни одна из них мне по-настоящему не нравится, и я не хочу, чтобы кто-нибудь вдруг снова начал звать меня писателем.
(Но книжки свои всё-таки не выкидываю, как сделала бы с горелой уткой.)
Что касается Того Человека, то он считал меня именно писателем – прочее интересовало его значительно меньше. Отлично помню, как вечерами читала Тому Человеку написанные за день страницы. Как переставляла по ковру бокал с красным вином. Как на ковре оставались круглые следы от бокала.
Странно: я забыла практически всех людей из своей прошлой жизни – за исключением Того Человека. Помню его длинные – слишком длинные для немузыканта – пальцы. Помню, как он смотрел на меня – словно бы пытался прочитать, как книгу. Помню, что не разрешала ему перелистнуть первую страницу, а потом вдруг раскрылась так, что книга бы хрустнула пополам… И не успела понять, что произошло, как он уже дочитал всё до конца, хлопнул ладонью по переплёту и поставил меня обратно на полку. А сам, разумеется, отправился за другой книгой – новенькой, в суперобложке. Белая бумага, пружина сюжета… Свежий, незахватанный корешок, а на моём остались следы прекрасных длинных пальцев.
После этого я долго не могла ни писать книг, ни читать их. Честно сказать, мне вначале даже жить расхотелось, но это, к счастью, прошло. Перетопталось, как выражается мой косметолог Вовочка. Но я и сейчас стараюсь не заходить без нужды в книжные магазины – боюсь встретиться нос к носу со своими сочинениями и вспомнить те следы на корешках.
Спасла меня тогда кухня. И Доктор Время, и ещё один доктор – прекрасный Дориан Грей, но вначале была кухня.
С Тем Человеком мы редко ели вместе. Не знаю почему, но он всячески избегал совместных приёмов пищи, и даже когда я пыталась угостить его обедом, отказывался. Он утверждал, что находится на одном лишь духовном вскармливании, но при этом регулярно жаловался на свою жену – малюсенькую, как лилипутка, но с неожиданно резким, тяжёлым голосом (такой мог запросто уложить её на спину, как жука), – что та совсем не умеет готовить. Так сочетались в Том Человеке вечный голод и страх проявить аппетит.
Прекрасный доктор Дориан Грей, к которому я хожу последние восемь лет, и у которого точно припрятан где-то заветный портрет, объяснил мне, что Тот Человек боялся разрушить свой хрустальный образ, и потому никогда не ел со мной, не покидал меня ради туалетных насущных нужд, и не позволял себе недостойных физиологических проявлений (я даже представить себе не могу, чтобы он чавкнул или, к примеру, пукнул), – иначе образ с хрустальным звоном разбился бы. Впрочем, он так и так не устоял. Можно было и пукнуть разок.
…А я довольно часто напоминаю своим зрителям, что ужинать вместе для влюблённых так же важно, как вместе спать.
Кадр… двенадцатый?
Геня Гималаева отправляет судака в духовку и садится к столу, горемычно подперев ладонью подбородок. На Гене фартук с надписью «Genia – regina della cucina», подаренный знакомым поваром-итальянцем, но вспоминает она не этого развесёлого повара, а былых друзей-писателей, которые начали публиковаться одновременно с ней, но сейчас унеслись на крыльях таланта кто в могилу, кто в столичный бомонд, кто в бытовое пьянство.
О, этот дивный мир творцов: писателей, поэтов, драматургов! Как приятно бывает зайти в книжную лавку и увидеть там известную писательницу: вот она, ловко заталкивает толстый том своей соперницы на задние ряды, подальше от бестселлеров! Как трудно бывает признать чужой талант, и – наивысший пилотаж! – признаться, что у тебя самой его нет, и, кажется, никогда не было. Мама, школьная учительница и душевный редактор из города Санкт-Петербурга: все они пали жертвами своих же собственных заблуждений. Но я вас никогда не забуду.
…Писатель может смотреть на свои книги, как на приготовленные блюда, а может – как на рождённых детей. Лучшие из писателей видят вместо книг младенцев. А я – тарелки с пищей. Метафоры терроризируют меня даже сейчас, но одержимость метафорами – недостаточное оправдание творчества. Для настоящей литературы нужно что-то ещё. Что-то главное.
Финальные кадры – Геня Гималаева сгружает тарелку с вилкой в посудомоечную машину, снимает аппенинский фартук и уходит со своей прекрасной кухни в спальню – не менее прекрасную. Там наша героиня пытается читать книгу, которую ей преподнёс П.Н. по случаю очередного рейтингового взлёта программы «Гениальная Кухня». Это книга остроумного британского кулинара, не зацикленного на правильном обращении с продуктами. Рецепты бодрят и вдохновляют. В Гениных грёзах воцаряются сочная красная оленина и мучительно горький шоколад, и эта оленина под шоколадным соусом снится ей до самого утра.
Глава четвёртая,
в которой читателю наконец представится возможность выслушать другую сторону: узнать, почему Катя Парусова решила стать Екой Парусинской, какую роль сыграла в этом одна популярная телеведущая, а также выяснить, как далеко способны зайти девушки, сомневающиеся в том, что жизнь – это сон, который снится всем одновременно
Как там говорится – «не судите»?..
Любой суд пристрастен, да вот хотя бы суд Париса! Нам так никто и не рассказал за минувшие века, что же сделала Венера с вожделенным золотым яблоком, во имя которого полегло столько «мужей прекрасных и сильных»? Как она им распорядилась? Повесила на стену собственного храма? Подарила Амуру? Или хвасталась перед Юноной с Минервой-стервой?
Любой суд пристрастен, но Катя Парусова держала эту пристрастность на самом коротком поводке. Строгий ошейник, кляп в зубы, перо под ребро. Сама так заплыла однажды – ни один суд не устоял бы перед соблазном вкатить по полной.
Катя Парусова – подобно уже знакомой нам телеведущей – тоже любила мыслить кадрами, но не телевизионными, а, скорее, кинематографическими. Вот сейчас, например, действие переносится ровно на десять лет назад. Двадцативосьмилетняя Екатерина Игоревна Парусова, преподаватель латинского языка, доцент кафедры тра-ля-ля, принимает зачёт у первого курса.
Днём раньше (чёрная отбивка) Екатерина Игоревна впервые услышала за спиной «бесшумные шаги старости». Это потом она бабахает громко, как чужие фейерверки, а поначалу подбирается мягкими лапами. Как и в любой жизни, первые строки читались медленно и долго, начальные годы были бесконечными и доверху набитыми событиями, а потом – шу-у-ух, летят страницы. Конец. Кто читал – молодец. Тираж – 1 экземпляр, замечания можете присылать по адресу… здесь всегда неразборчиво.
Мама говорила, что молодость заканчивается в тот день, когда солдаты на улице покажутся не мужчинами, а детьми.
И Катя, девочка «с языками», как говорили о ней знакомые подруг и подруги знакомых, взяла вдруг и превратилась в тётю-преподавателя, вершащую над студентами быстрый суд Париса. Она так часто имеет дело с латынью, что и в жизни порой начинает думать гекзаметром: «Катя, женщина прекрасная и мудрая, в университет утром приходит и пальто своё на кафедре оставляет. Студенты Катю приветствуют, Екатериной Игоревной называют. Катя в аудитории появляется и экзамен у молодых принимает…»
«De causa belli Troiani». «О причине Троянской войны». Катя сидит за расшатанным столиком в давно не ведавшей ремонта аудитории. Студенты готовятся к бою – к Троянской войне. Вот Парис – нежный блондин Сеня Абдулкин, уверенный в своих познаниях и готовый метнуть их в лицо экзаменаторше, как яблоко – в Венеру. Вот Елена – Стася Морская (это фамилия, а не прозвище), дева тонкая, как грифель (Катя смотрит под стол и видит свои крепкие – ненавистные! – лыжные ноги, набеганные за долгие годы тренировок в ДЮСШ). Вот Гекуба – Марина Мартынова. Что он Гекубе, что ему Гекуба? Марина толста, несвежа лицом, но, как водится в таких случаях, умная и старательная студентка. Помнится, сразу же разобралась с третьим склонением.
Первокурсники – что те самые солдаты – кажутся Екатерине Игоревне детьми. Она находит среди этих детей сумрачного Агамемнона, разозлённого Менелая, сурового, сдержанного Гектора – Гектор, кстати, отправился отвечать первым. Прелестный еврейский мальчик Костя Фидельман. Ни одной ошибки. Qualis vir, talis oratio. Катя тоненько расписывается в зачётке. К столу приближается Парис. Елена… Менелай… В группе всё меньше героев, всё больше воздуха, и вот уже последний из греков высаживается из разбухшего конского чрева. Антон Курбатов, прекрасный, как Ахиллес, и глупый, как Мидас. Садится напротив Екатерины Игоревны и начинает колченогое чтение с бездарным переводом. Не успел списать, не выучил, не готов. Латинские слова – в обычное время холодные, тяжёлые, как сталь, – плавятся в Катиной голове, но она не замечает ошибок. Она ловит дыхание Ахиллеса, смотрит на его красиво задуманные брови, хочет провести по его щеке кончиком пальца – и тут же наказывает себя, впиваясь ногтями в тот самый палец-искуситель. Как там советовали? Вырвать глаз, который тебя искушает? Или отрубить руку? Нет, Екатерина Игоревна, руку отрубали ворам – в восточных сказках. А у нас – не восточная сказка, у нас – экзамен, ну хорошо, не экзамен – зачёт! Вы же, Екатерина Игоревна, как воровка – заритесь на плечи, развёрнутые, словно у певца-пловца… Вырвите себе глаз, Екатерина Игоревна!
– Зачёт, – говорит Екатерина Игоревна и с трудом удерживается, чтобы не погладить по голове студента прекрасного и юного. Он чуть-слегка-едва прихрамывает – у каждого Ахиллеса есть собственная причина беречь ноги. Стася Морская радостным взвизгом за дверью его встречает. В нарушение античного сюжета.
Екатерина Игоревна ведомость аккуратно складывает и в деканат её относит. Вместе с заявлением об уходе. Ровно две недели её уговаривали, ещё две – искали замену, и, наконец, уволили. Через месяц Катя (снова – Катя!) уже была в Москве, на литературных курсах.
Почему литература? Потому что старости не поспеть за писателями – им на неё плевать из форточки. Писатель имеет право быть возмутительно старым, а главное, он не обязан ежедневно видеть перед собой молодых красавиц Елен и эффектно прихрамывающих Ахиллов. Так думала Катя Парусова, подписывая свой первый рассказ псевдонимом Ека Парусинская. Впоследствии злые языки утверждали, будто бы имя ей придумали люди, у которых она украла свои лучшие рецепты. Неправда – это имя принесли с собой ветер и жертва Ифигении. И корабли греков отплыли наконец в Трою. И с латынью было кончено навсегда.
Лишь однажды Ека Парусинская видела впоследствии своего Ахилла – годы спустя он снова сидел перед ней в аудитории. На этот раз – телевизионной аудитории «Ека-Шоу»: он был в первом ряду, пальцем указывая беременной жене на ведущую, и скалился в том смысле, что, помнишь, Алёша, дороги Смоленщины? Ека узнала его только в самом финале – в начале вся аудитория была для неё как большое яркое пятно.
Но до того дня ещё надо было дожить. И – дожать.
«Меня – нет, – думала Катя. – Настоящей меня не было и нет. Я составлена из кусочков, украденных у других людей и скреплённых талантом к подражанию. Вначале я мечтала стать учёным, потом захотела писать книги… С книгами тоже ничего не вышло».
После рецензии литературного санитара – ядовитого, как рыба фугу, – Катя поняла, что в литературе её нет точно так же, как её вообще нигде нет. Можно было и не стремиться попасть в «толстый журнал» с рассказом…
…Катя Парусова плывёт по запруженной людьми Москве, как утлая лодочка. Скукоженный парус. Пробоины в днище. Единственный матрос загулял в кабаке и не вышел в море. Катя тоже не вышла – замуж. Ей трижды гадали, и каждый раз выходило, что Катя рано умрёт. Одесская цыганка обещала в тридцать три года. Уральская бабка подарила тридцать пять. Московская экстрасенша накинула ещё два годика. В любом случае, заводить семью до сорока было бы безответственно. Так решила Катя. Тогда ей было двадцать девять, она шла по безымянной московской улице, а латинские слова летели рядом. Крылатые выражения – обгоняли и махали крыльями.
Катя вспоминала слова из санитарной рецензии на её рассказ, опубликованный в «толстом журнале»: «Вполне возможно, Е.Парусова – хороший человек, но сие, увы, не означает, что она при этом писатель».
Писатель имеет право быть любым человеком. Хороший писатель – не всегда хороший человек, а хороший человек – совершенно не обязательно хороший писатель. Талант может достаться отпетой сволочи и записному цинику, его будут читать и ругать, ругать и… читать, а чистому душой графоману, доброй и светлой бездарности, лишённому способностей добряку поставят на лоб жирный штамп: «Профессионально непригоден». Добрый? Иди служить в детский дом, помогай сирым и убогим, но только не лезь в писатели, ведь легче верблюду пройти сквозь игольное ушко…
Ещё одна цитата из санитарно-гигиенической рецензии: «Рассказ Е.Парусовой – прекрасный пример того, как не надо писать». Arena sine calce.
«Нет, не надо мне больше пытаться, – думает Катя. – Этот санитар леса, то есть литературы, он же известный критик, а что сам не состоялся ни в прозе, ни в жизни, – так это неважно! Мне нельзя писать, от моих рассказов людям никак. Потому что меня – нет. А значит, Карфаген должен быть разрушен».
Была и другая рецензия. Лицо её сочинительницы – белёсой щепки с острыми, как стекольные осколки, глазами – Катя совсем недавно видела в газете, вполне символически брошенной в урну. Вначале Катя собиралась вытащить газету, но потом побрезговала, и прочла лишь ту часть интервью со щепкой, которая была видна. Прочла, склонившись над урной, – оттуда сочинительница хвалилась своими произведениями и цитировала незнакомых Кате людей: они уверенно обещали щепке скорую славу лучшего писателя России.
Катин рассказ будущая слава России распинала в своей рецензии, как хулиган – беззащитного щенка, привязанного к дереву. Такого щенка маленькая Катя пыталась выходить в детстве, но он всё равно умер. Да и рассказ, можно сказать, тоже скончался: не вынес побоев.
«Языка у Парусовой, конечно, не отнимешь, – сетовала щепка в последнем абзаце, – но этого мало для того, чтобы речь могла идти о настоящей прозе». Катя поёжилась – представила, как щепка отнимает у неё язык.
И так – пусть с языком (и даже с языками, как говорили знакомые подруг и подруги знакомых), но уже без всяких героических планов – Ека Парусинская вернулась в родной город, оставив в Москве диплом об успешном окончании литературных курсов. Научить писательскому ремеслу невозможно: этот дар или выдают сразу, или забывают вложить при рождении. Так Еке однажды забыли вложить шоколадку в новогодний мешочек, и она ушла с той ёлки самым несчастным в мире ребёнком.
Вечером своего возвращения Ека включила телевизор и не выключала его две недели подряд – только ночью волшебный ящик отдыхал. Ека просыпалась рано и смотрела всё подряд. Она гадала на телевизоре, как её прабабка в старину – на книгах. Прабабка открывала наугад страницу и читала случайные строки с трепещущим сердцем, а Ека включала разные программы, не глядя на пульт. И примеряла к себе разные профессии вместе со спецодеждой и арго. Представляла, как поёт на сцене, демонстрируя всей стране свои пломбы. Как играет в теннис, оргастически вскрикивая во время подачи. Как беззастенчиво стендапится на фоне Стены Плача. Как оглашает новости, надевая скорбное лицо.
Новости, которые попадались Еке, всегда были плохими, а все телевизионные люди были чем-то похожи друг на друга – будто бы их спустили с одного конвейера. Будто бы некий телебог создал talking heads по своему образу и подобию.
Я тоже так смогу, поняла Ека, случайным подбором кнопок вызвав из вечерней пустоты кулинарное шоу «Гениальная Кухня».
Кулинарное шоу, гастрономическая программа, дорогая передача – все они делаются по одним и тем же законам-канонам-шаблонам. Вот въедливая вежливость в адрес условно именитого посетителя. Вот неумолчный гимн кетчупам, майонезам и прочим химическим приправам, способным на корню изничтожить даже самую светлую кулинарную идею. Вот вам и ведущая – чёрные волосы, блестящий рот: «Разрешите пожать ваши талантливые руки!» Это она льстит гостю – итальянскому повару, что сдуру подписал контракт с далёким российским рестораном и теперь вынужден терпеливо обучать домохозяек готовить пасту с лисичками. И тирамису.
…Как вам нравятся эти алые ногти, что впиваются в беззащитно-нежное тесто?.. Эти актёрки-неудачницы, всеми позабытые певцы и третьесортные писатели, которые делятся рецептами со всей страной? Звёздные поединки, кухонные посиделки и прочие реалити-шоу, вытряхивающие на голову телезрителям ворохи чужого мусора, охотно вынесенного из дому?.. П.Н., о существовании которого Ека Парусинская пока ещё даже и не догадывалась, в момент зарождения подобных – крамольных! – разговоров, делает нарочито дружелюбное лицо и протягивает наглецу – ибо тот, кто замахнулся на святое, тот наглец! – телевизионную «лентяйку». Волобуев, вот вам пульт! Зачем же ещё он, спрашивается, нужен, если не для самостоятельного переключения каналов – и коли у вас имеется дистанционная «лентяйка», почему же вы смотрите ненавистное шоу? Ась? На канале «Культура», к примеру, именно сейчас дают макароны! Пока ещё неведомый Еке, П.Н. загорается свекольным огнём, вырывает пульт из руки наглеца и швыряет его о стену. Ба-а-ах! – неистовствуют музыканты канала «Культура». Жалкие электронные потроха и батарейки, как снаряды, летят по комнате, а наглец – духовный плебей! – жалобно ползёт к выходу. П.Н. может убить за телевидение, но Ека этого пока что не знает, и думает о кулинарных шоу в свободной форме.
Ека – словно итальянский кинобухгалтер Фантоцци – переключает каналы в поисках своей новой судьбы, и однажды впивается взглядом в Геню Гималаеву, звезду экрана, автора программы «Гениальная Кухня» и обладательницу всех телевизионных наград, которые успели придумать в России. Готовить Ека совсем не умеет.
– Не страшно, если вы не умеете готовить, – утешает её с экрана Геня Гималаева. – Это так просто! Я вас обязательно научу.
Геня улыбается. А Катилина – у ворот.
Глава пятая,
где самым подробнейшим образом рассказывается о том, какие опасности подстерегают людей, связавших свою судьбу с телевидением. Здесь Геня будет вспоминать далёкие дни и рассуждать о таком старомодном понятии, как интеллигентность, П.Н. потеряет аппетит, а Ека начнёт карабкаться по первым ступеням карьерной лестницы
Меня, наверное, уже тысячу раз выручало важное жизненное правило – оно же «закон первой ночи». К феодальному праву, сразу скажу, закон этот никакого отношения не имеет – тут дело в другом. Когда у вас в жизни случается нечто в самом деле неприятное, надо направить все свои силы на то, чтобы дожить до утра и не наделать за это время глупостей. Нужно пережить первую, самую трудную ночь, а потом – как в песне – «станет легче к утру».
Но на сей раз волшебное правило не сработало. Может, потому что я отвратительно спала, ворочаясь и вспоминая вчерашнее, а также без конца проверяла телефон и даже залезла глубокой ночью в интернет, чтобы найти как можно больше сведений про Екатерину Парусову? На первых страничках ничего интересного не было – Яндекс расщедрился только на чемпионку по бальным танцам среди юношества Ларису Парусову и владелицу собачьего клуба Парусову Яну; потом он гнал вообще откровенный бред о парусах и Екатерине II. Я с трудом заснула под утро, и если бы не вопли Шарлемани, откровенно возмущённой тем, как хозяйка манкирует своими обязанностями, то наверняка проспала бы работу. Звонка Иран я почему-то не услышала, а в кухне даже утром всё ещё пахло рыбой. Забыла включить вытяжку.
Когда я говорю в начале каждой программы, что обязательно научу своих телезрителей готовить, то на самом деле думаю: «Зачем мне это нужно»? Мой рецепт – моё открытие, и с какой стати я должна делать его достоянием ленивых и бездарных людей, у которых хватает сил только на то, чтобы включить телевизор в тот день и час, когда начинается моя программа?
…Я многое могу рассказать о продуктах и специях. Даже в голодайские советские годы (о которых, впрочем, лучше забыть – если желаешь выглядеть моложе истинных лет, не стоит упоминать о том, что успела побывать не только октябрёнком, но даже – позорище – комсомолкой) – даже тогда я примечала у продуктов множество чудесных, особенных свойств, которые порой мешают относиться к ним как к продуктам. Мне тяжело смотреть, как люди бездуховно лопают какой-нибудь всесторонне прекрасный, ало-розовый помидор – пусть даже в неумелых руках этот помидор будет выглядеть куда менее убедительно, нежели в первозданном виде. Настоящий повар, кстати сказать, не мучается такими размышлениями, а радуется отборному продукту, угодившему к нему на кухню. Но я и не считаю себя настоящим поваром.
В детстве у меня был единственный знакомый кулинар – старшая сестра моей подруги. Студентка архитектурного института и подлинный художник кухни. Сейчас эта Света рисует мультфильмы где-то в Европе, а тогда она каждый день без перерывов и выходных готовила для своего семейства весьма изощрённые – по тем временам – блюда.
Ленка, моя школьная подруга – крошечная брюнеточка с вечно красными руками, всякий раз торжествуя, как прописанный школьным курсом литературы крестьянин, приподнимала крышку кастрюли. Глубокий колокольный «бом-м»: суп с клёцками. «Звяк» гусятницы: зажаренная до шоколадного цвета курица и к ней соус в кувшинчике – томатный сок с аджикой. Скрип духовки: сметанный торт с фигуркой лебедя, вырезанной из яблока так умело, как сможет не всякий выпускник модных нынче курсов по карвингу.
Я обожала ходить к Ленке в гости после школы – вечно голодная девица, способная в один присест слопать пачку «Шахматного» печенья (или, как вариант, десяток пряников – каждый был разрезан пополам и сдобрен пластиком подтаявшего масла), в этой кулинарной лаборатории я угощалась от всей души, не заморачиваясь взрослой мыслью о том, что меня здесь никто не имел в виду. Спасибо щедрой Ленке и её терпеливой семье! Спасибо, что не пускались со мною в ду́ше- и телоспасительные беседы (а тело, между прочим, молило о помощи – над форменной синей юбкой к десятому классу висел рубенсовский животик, да и щёки у меня в семнадцать лет были не хуже, чем у свиньи перед забоем), но каждый день исполняли любимую песню – бом-м, звяк, скрип…
Когда я вижу по-настоящему красивые продукты, то вспоминаю, каково это – быть писателем. Тонко нарезанные шампиньоны – будто ионические капители. Эротичные мидии – каждая просится на разворот журнала для взрослых. Савойская капуста, разобранная по листику, – лежачий лес летних деревьев. Лениво-тягучий башкирский мёд. Фенхель, похожий на бледно-зелёное, анатомическое сердце. Яркие орские помидоры – будто бы надутые изнутри, как воздушные шарики. Свечной огарок или – если хотите – мутная пластмасса пармезана: впрочем, он похож ещё и на светлый, сладкий шербет. А ядрышки грецких орехов – сразу и на крохотный мозг, и на бабочкины крылья. Грибы лисички – золотисто-розовые, как волосы тициановских женщин… И даже кусочки фольги, прилипшей к противню, напоминают мне силуэты сказочных драконов – рассматривать их можно так же долго, как летние облака…
В эфире я часто говорю, что время завтрака – лучшее за весь день. Хлебный пудинг, омлет из перепелиных яиц, блинчики с козьим сыром, грушевый сок и порция кофе смертельного объёма, с кардамоном, корицей или мёдом…
Постояв с минуту перед раскрытыми дверцами шкафчика и пересчитав ножи, висевшие на стене, я с наслаждением представила эти ножи воткнутыми в шею новоявленной ведущей, Чингисханом ступившей в мой Хорезм. (Вот не зря я недавно посмотрела длинный китайский телесериал о Тэмуджине-воине – даже такие вещи замечательно расширяют кругозор.)
В итоге я не стала ничего готовить, а сварила себе самый обыкновенный кофе, да и тот не сумела выпить до конца.
Обычно я приезжаю на работу к десяти, но сегодня задержалась минут на сорок. Ирак – я издали заметила её на крыльце – тревожно высматривала во дворе мою машину. И ещё я заметила, что моё законное парковочное место занято чужим, вульгарным джипом с незнакомыми номерами.
Джипы – самый неуместный в городе транспорт, и предпочитают его, как правило, мужчины, тонущие в комплексах, и дамочки, которые перепутали с просёлком многорядный проспект. Джипы закрывают обзор, пожирают воздух и занимают много места на парковках. Кстати, я могла бы купить себе сразу несколько джипов, но никогда не сделаю этого из уважения к моим телезрителям – и, разумеется, из уважения к другим горожанам, которые ещё не стали зрителями нашего канала. (Это – вопрос времени.)
Да, в наше время не модно иметь принципы – но у меня они есть.
И вот я – вместе со своими принципами – стою, раскрыв рот, и смотрю на квадратного чёрного зверя, облепленного со всех сторон аляповатыми наклейками. На сиденье рядом с водительским местом валяется точно такая же книжка британского повара, какую я вчера пыталась читать на сон грядущий.
Ирак махнула рукой, указывая на чудом уцелевшее свободное место у крыльца, а я начала догадываться, кому принадлежит этот гроб на колёсах.
В лифте, который вызвала Ирак, не прекращая преданно пялиться мне в душу, пахло парфюмерной ванилью – аромат, который я на дух не переношу! Я вообще не люблю духи – свежесмолотые специи пахнут куда приятнее; но незадолго до нас в лифте явно проехался некто с совершенно иными вкусами.
– У нас сейчас представление, – сказала Ирак, пока я принюхивалась к запахам кабины.
– Цирковое, надеюсь?
Ирак послушно хихикнула.
– Да нет, представление новой ведущей. П.Н. будет знакомить Катю со всеми нашими. То есть они уже начали…
Начали? Без меня? Сначала она ужинает с П.Н., потом занимает мою парковку своим джипом, а теперь ещё и знакомится со всеми без меня?
Ирак была смущена и явно собиралась сообщить мне ещё одну неприятную новость. А может, и две.
– Тут такое дело… П.Н. попросил тебе сказать, что Иран с сегодняшнего дня будет работать с Катей. Будет её редактором.
Лифт затормозил на нашем, двенадцатом этаже, мощно выстрелив кнопкой.
– Иран? Иран будет работать с Катей? С какой стати?
– Ну, понимаешь, – Ирак по-детски забега́ла вперёд, заглядывая мне в глаза, – Иран готовила с тобой первый выпуск «Сириус-Шоу», она в курсе всего, а у нас с тобой уже столько опыта, и рука набита, и…
Мы одновременно вошли в кабинет, правда, Ирак тут же вернулась в редакторский предбанничек. С явным, как говорится, облегчением.
Я заметила, что с их общего стола уже исчезли и зелёный ноутбук Иран, и её дурацкий кактус.
Наши совещания мало похожи на обычные телевизионные планёрки, летучки, текучки – или как они там ещё называются? С первых дней открытия канала «Есть!» было решено собираться в кухне – одной из тех, что вы регулярно видите в моих шоу. И, разумеется, во всех прочих программах телеканала. П.Н. считает, что сотрудникам кулинарных программ крайне важно всё время быть в тонусе и ни на секунду не отвлекаться от главной задачи. «Есть!» – гордое имя канала вышито на льняной скатерти стола, за которым собираются ведущие, промоутеры, редакторы, рекламщики и прочий телевизионный люд, без которого невозможно сделать достойный продукт. Точнее, невозможно сделать вообще никакой.
Когда совещание проводится утром, на столе красуется обстоятельный завтрак, днём всех поджидает горячий обед, ну а к вечеру обязательно сервируется ужин. Одна из студийных кухонь, как правило, пуста, и здесь – по лёгкому взмаху руки П.Н. – за полчаса накрывается такой стол, что рестораторы обзавидуются.
Между прочим, многие мои зрители отмечают, что с тех пор, как я научила их готовить, они практически перестали ходить в рестораны. Если же они по какой-либо причине всё-таки попадают в едальное заведение, то им не хочется заказывать блюдо, которое можно приготовить самому – и ничуть не хуже. Очень правильное чувство – я сама его часто испытываю, обедая в «Модене» или «Пирожке». И это при том, что «Модена» и «The Пирожок» – лучшие рестораны города, принадлежащие Юрику Карачаеву, старому другу и главному оппоненту П.Н.
Юрик Карачаев догрызает мосластые остатки собственных локтей, размышляя о том, почему же не ему первому пришла в голову светлая идея открыть кулинарный телеканал. Мама П.Н., милейшая Берта Петровна, и мать Юрика с юности были задушевными подругами, и одна у другой даже отбила жениха (не помню, кто у кого, но поставила бы на Берту Петровну). Подобная закваска поддерживает дружбу на протяжении всей жизни – и пусть даже Юрик ненавидит П.Н. и завидует ему всеми своими фибрами и жабрами, внешне он старательно изображает нейтралитет.
Беда Юрика в том, что он не умеет придумывать, – зато в способности доводить до совершенства чужие идеи и вовремя прятать сворованные куски в норе с Карачаевым никто не сравнится. П.Н. подхватил первую мощную волну интереса россиян к кулинарии – и Юрик тут же, подсуетившись, открыл в городе первый гурманский магазин «Трюфель». П.Н. зарегистрировал телеканал «Есть!» – Юрик немедленно приступил к строительству итальянского ресторана «Модена» и пафосной русской закусочной «The Пирожок». П.Н. объявил об открытии в городе первых непрофессиональных кулинарных курсов – и Юрик отозвался глянцевым (и редкостно бестолковым!) журналом «Гурман», по сей день безуспешно пытающимся оттяпать у канала «Есть!» хотя бы часть рекламных денег. Юрик Карачаев – живая тень П.Н; он бредёт след в след, подбирая крошки идей и не гнушаясь забракованными нашим боссом проектами (магазин, рестораны и журнал тоже значились в планах П.Н., но он решил сосредоточиться на телевидении и, как теперь уже ясно, не прогадал).
Юрик считается партнёром П.Н. «по бизнесу», и потому запросто является к нам в студию, и даже принимает иногда участие в совещаниях; думаю, главной движущей силой, влекущей Карачаева к нам в студию, служит отличная местная кухня. Юрик жадно лопает всё, что готовят наши дежурные повара, и старательно запоминает рецепты – через неделю в «Модене» будут с важным видом поданы новые салаты и десерты. Меня это жутко возмущает: воровство и плагиат! А П.Н. смеётся и машет рукой – ему не жаль поделиться с Юриком очередным открытием, он верит, что рецептов на свете – неисчерпаемое количество. И, как мы с вами знаем, заблуждается.
Сегодняшнее совещание, на которое я опоздала, оформлено в стиле «поздний завтрак». Вместо блокнотов перед сотрудниками – квадратные тарелки с томатными кексами и белыми велюровыми персиками, корзинки с крошечными шоколадно-малиновыми пирожными и канапе с завитушками спаржевого крема. Пахнет свежим кофе, хотя П.Н. и Юрик пьют индийский чай «масала» с молоком и специями. Во главе стола восседает знакомая нам блондинка: яростная улыбка, как шрам на лице, и преувеличенно внимательный разворот в сторону главного режиссёра канала – Аркадия Пушкина, о котором ещё лет пять назад кто-то метко пошутил: «Пушкин – это наше всё!» П.Н., Юрик, предательница Иран, вообще все наши главные и неглавные деятели внимательно смотрят на блондинку. Её тарелка чуть сдвинута в пользу раскрытого посредине альбома с фотографиями. Конечно же, это снимки еды.
Снимать еду – особое искусство. Это вам не людей щёлкать – сколько я знаю случаев, когда первоклассные фотографы превращали шедевры в размытые неаппетитные картинки!
…Совещание в самом разгаре. Юрик жуёт персик, сладкие дорожки сока текут из уголков рта, и между чавканьями он пытается участвовать в разговоре. Перед П.Н. белеет абсолютно пустая тарелка – она в любую секунду может стать летающей.
Если хочешь выглядеть естественно, говори как можно громче:
– Добрый день!
Все поворачиваются ко мне, кивают и вновь возвращаются к звезде совещания.
– Геня, присоединяйся, – велит П.Н. и щёлкает пальцами, чтобы мне принесли стул и прибор. Изначально свободного стула и прибора для меня не было – потому что на моём месте сидит Катя Парусова.
– Ека, – робко говорит Иран. – Мне кажется, «Ека» звучит хорошо.
– Мне нравится, – сообщает Пушкин, Юрик поспешно кладёт волосатую персиковую косточку на белоснежную скатерть (надо как можно больше нагадить любимому недругу – пусть и по мелочи!) и вытирает пальцы салфеткой.
– Молодец, Иран! – П.Н. хмурит брови, представляя новое имя на экране. Ека Парусова.
Брови П.Н. летят вверх, как пушистые птицы, и на лбу – будто нотный стан – прорисовываются чёткие морщины. Лицевую азбуку П.Н. я знаю лучше всех в мире. Перевожу: он доволен, зпт, но не готов пока признать это обстоятельство вслух тчк.
Будущая Ека скромно улыбается:
– То, что надо! Но ещё лучше – «Ека Парусинская».
П.Н. разворачивается всем своим мощным корпусом ко мне. Дуб под ураганным ветром.
– Первый эфир – сегодня, времени нет, так что всем придется помогать. Кстати, Ека (он перекатывает новое имя во рту, как фасолину в чили-кон-карне), покажи-ка Гене портфолио. Это нечто! Я даже завтракать не стал – так разволновался.
У П.Н. есть удивительное свойство – когда он волнуется, то напрочь теряет аппетит. Что ж, как и подобает непосредственному начальнику, П.Н. всегда ведёт себя непосредственно.
Ека отправила в мою сторону тяжёлый кожаный альбом, а я вонзила ложечку в малиновое сердце пирожного: она вошла туда, как игла в вену.
Улыбка моя сползала, я пыталась её зафиксировать, хотя так можно и нервный тик заработать.
А Ека тем временем отвечала на вопросы трудового коллектива. Пушкин поинтересовался семьёй, подарившей миру такую потрясающую девушку.
– Семья у меня простая, интеллигентная, – вещала Ека, и я тут же сформулировала для себя определение интеллигентного человека: он никогда не произносит слова «интеллигентный», по этому признаку его и можно узнать. Слово «интеллигентный» для интеллигентного человека – табу.
Одна моя знакомая всего за полчаса пять раз сказала слово «интеллигентный», явно противопоставляя его слову (а точнее, понятию) «нуворишеский». Нувориши – ха! Мы все, если задуматься, нувориши. Нас ещё вчера упрекали в неумении пользоваться чашкой для полоскания рук, а в первом в своей жизни российском ресторане японской кухни я видела женщину, которая ожесточённо распиливала ни в чём не повинный ролл ножом. И ела рис вилкой.
Но если выбирать между «простыми интеллигентными людьми» и «нуворишами», я, наверное, выберу нуворишей. Хорошо, что я не обязана выбирать, – моих телезрителей, например, я люблю именно за то, что это они меня выбирают. Даже тех идиотов, которые пишут про меня всякие гадости на моём же форуме, – даже их я люблю: ибо смотрят, а остальное – мелочи.
Я листала Екино портфолио, прикидывая, с какой замечательной отдачей можно было бы его бросить прямо ей в личико, раскрасневшееся от удовольствия. Совсем не ожидала увидеть среди её рецептов нечто на самом деле интересное.
Беда всех моих коллег, работающих в гастрономической журналистике, в том, что они порой излишне перебарщивают – и отпугивают публику обильными цитатами из Брийя-Саварена и рецептами Огюста Эскофье. Тогда как всё новое и непонятное нужно вводить гомеопатическими порциями. Я думала, что и Еку непременно заденет чаша сия (краем по носу), – что в портфолио будут расфуфыренные, сложные рецепты, которыми можно всего лишь любоваться, как произведениями искусства.
Я думала так, но я ошибалась.
Глава шестая,
посвящённая курице, несправедливостям жизни, автоответчикам и чужим голосам
Как говаривала одна моя кулинарная наставница (не подозревавшая, впрочем, о том, что она наставница) – «курицу трудно испортить». Могу на спор перечислить сотню всевозможных способов обращения с этой птицей – кого волнует, что она не умеет ни петь, ни летать? И, разумеется, Ека Парусинская назначила музой своего первого «Сириус-Шоу» именно курицу. Браво! Свежо! Оригинально! Между прочим, идея программы, рождённая мною в процессе приготовления салата «Южный Крест» (рецепт Клода Террайля: ломтики рыжей папайи, плотная мякоть авокадо, сладкий перец и лимонный сок с мятой), не допускала продуктовых ограничений – пусть даже в пользу любезной народу курицы. Почти все приобретают её в расчлененном виде: кому-то ближе ноги, кому-то крылья. П.Н. обожает куриные сердечки с желудками, тушённые с шалотом и шампиньонами. Юрик предпочитает крылышки в апельсиновом маринаде или крахмальном кляре и просит поваров не обрубать «пальцы» – по правилам, их требуется убирать, а вот нашему Юрику они нравятся особенно.
Однако я вместе с курицей улетела далеко от темы.
Темой «Сириус-Шоу» не может быть один-единственный продукт – ведь даже самая благодатная курица не сможет угодить всем нашим зрителям, и тем более клиентам «Сириуса». Кстати, какое счастье, что у нас есть «Сириус», – его директорша и убеждённая эвдемонистка Мара Михайловна сначала была страстной поклонницей всего канала «Есть!», а потом стала моей главной (пожалуй, самой ценной из всех) фанаткой. Благодаря Маре Михайловне и её душевному спонсорству я могу готовить всё, что только взбредёт в голову, – и как же больно мне смотреть на мучения коллег, когда они воспевают в программах бульонные кубики «Химия и жизнь», выдавливая из себя заказные рецепты, лишь бы заработать вожделенную денежку и творить с её помощью всё в том же духе и ключе. Вечный бесконечный самообман – надежда, что однажды действительно сможешь заняться тем, что тебе и в самом деле интересно.
В советское время Мара Михайловна лет пятнадцать проработала товароведом в главном рыбном магазине города. Волна перестройки сначала накрыла её с головой, но потом сжалилась и благополучно вынесла на берег новой жизни. Став «госпожой Сириус», Мара Михайловна подрастратила прежние хватки: отучилась надменно взирать на покупателей, хамить беззащитным старушкам и скатёркой стелиться пред начальством. Эта круглая, весёлая, вечно загорелая, как круассан, женщина вдруг полюбила мини-юбки и фальшивые ногти, научилась искренне хохотать и вообще жить для своего плезиру. Мы с ней отчасти дружим, и Мара Михайловна всерьёз собиралась свести меня со своим младшим сынулей, но, к счастью, принц вовремя отбыл в Германию за вторым высшим.
«Сириус-Шоу» – это была моя благодарность, я придумала эту программу персонально для Мары Михайловны! Естественно, у меня нет недостатка в идеях и свежих мыслях – но всё же, так запросто взять и расстаться с одним из самых успешных проектов и смотреть, как эта скатерть-новобранка в первом же выпуске убивает саму идею программы?!.
Ирак, которая принесла мне эту весть практически неостывшей, грустно пожимает плечами. Ека вместе с Иран и Пушкиным с утра сидят, закрывшись в студии, а П.Н. я не видела уже неделю – с того памятного собрания.
Кажется, он собирался в Париж, а потом – в Бретань, к морю.
П.Н., как дельфин, преданно любит море. Задолго до того, как уйти в телевидение (люди уходят сюда как в бездну и обычно не возвращаются), П.Н. был филологом. Указательный палец поправляет съехавшие на нос очки. Массовое обожание студенток, одичавших на фоне мужского безрыбья и готовых кинуться на первого же встречного преподавателя, при условии, что он не красится и носит брюки. Я часто думаю о том П.Н., ещё не обросшем жирцом и миллионами. Тот П.Н. запросто курил на лестнице нашей общей альма-матер, не догадываясь, какие чудеса перевоплощения ждут его в будущем. Впрочем, скорее всего, я прошла бы мимо того скромного учёного, мечтательно цедящего дурную папироску и размышляющего о скорой защите.
Темой диссертационного исследования П.Н., как он сам мне множество раз – и с удовольствием! – рассказывал, был «Образ моря в мировой литературе». Будто усердный рыбак, П.Н. вылавливал из моря писательских эпитетов удачные и не очень описания волн, прибоя, полночного бриза, лунной дорожки, солёного аромата, шторма, русалок, пиратов, китов и водорослей. Он даже у Теккерея отыскал неплохой морской абзац и до сих пор может прошпарить его по памяти. А Катаев? «Малахитовые доски прибоя, размашисто исписанные белыми зигзагами пены, с пушечным громом разбиваются о берег. Эхо звенит бронзой в оглушённом воздухе. Тонкий туман брызг висит кисеёй во всю громадную высоту потрясённых обрывов».
– Не правда ли, хочется надеть штормовку? – радовался П.Н., расстреляв обойму очередных цитат, так и не вошедших, впрочем, в диссертацию. Так, впрочем, и не написанную.
Я отвечала, что штормовку мне надевать не хочется – а вот картины Айвазовского встают перед глазами как живые. П.Н. хмурился – он не любил Айвазовского и потешался над словом «маринист»:
– Это художник, который рисует Марин.
Про море в литературе П.Н. однажды вещал мне битый час подряд – насущные дела и проблемы словно бы смыло из его памяти высокой прибойной волной. Как все начальники, П.Н. довольно часто выпадает из реальности, и я далеко не сразу научилась возвращать его обратно. Лично я совершенно равнодушна как к литературным описаниям моря, так и к самому его существованию – помнится, подводные съёмки Кусто и Рифеншталь, перед которыми П.Н. буквально трясся от восторга, вызвали у меня вполне прозаический, хотя и бурный, приступ аппетита: какие же вкусные должны быть эти свежие осьминоги, толстенные рыбы, сочные моллюски! Разумеется, я не стала разрушать своей прозой экстаз начальника… Да, были времена, когда мы вместе смотрели кино, а не просто изучали новые эфиры.
…Вот уже неделя, как П.Н. не приходил ко мне ужинать… Конечно же, я не унижаюсь до расспросов и звонков! Я верю себе и советую делать то же самое своим зрителям – наши предчувствия никогда нас не обманывают, идёт ли речь о том, сколько соли класть в салат, или о том, любит ли вас ваш избранник. Какое счастье, что на страдания у меня попросту нет времени – пора забыть о Еке и «Сириус-Шоу»! Сегодня мы пишем очередной блок выпусков «Гениальной Кухни», да и над книгой надо посидеть часок… Рецепты опробованы, команда в сборе, у меня всё прекрасно!
«Гениальная Кухня» выходит в эфир по будням, в прайм-тайм. В этот час мои телезрители уже отужинали, и мреют по ту сторону экрана с раскрытыми блокнотами и ноутбуками: я строго-настрого рекомендую не смотреть мою программу на голодный желудок (поход «в ночное» к холодильнику будет в таком случае практически неизбежен, а это никому не нужно).
Три программы по шестьдесят минут и всего два рекламных блока (оба отданы «Сириусу»). В каждом выпуске – по пять новых рецептов. Да, именно так – Пять Новых Рецептов. Сама до сих пор не знаю, как мне это удаётся, но каждый раз, на протяжении многих лет, я дарю моим зрителям целых пять новых способов превратить обыкновенные продукты в съедобные шедевры. К финалу каждого нового выпуска автоответчик программы и наш почтовый ящик переполнены восторженными откликами:
«Геня, я приготовила ваш малиновый чизкейк, и муж признался мне в любви! Спасибо!»
«Геня, мы с сестрой делали тыквенный суп – это что-то с чем-то!» (На самом деле это тыква с фисташками, молоком и капелькой зелёного табаско.)
«Геничка, я очень старый человек, ребёнком пережила блокаду, и ваши блюда для меня – такая роскошь, но как просто всё готовится, и как вкусно! Спасибо! Спасибо! Спасибо!»
Под настроение я люблю прослушивать эти сообщения – они помогают мне верить в то, что я не зря потратила столько лет своей жизни. Моя мама, например, считает, что я их действительно потратила – у одноклассниц дети уже школу оканчивают, а я по-прежнему «девушка, передайте, пожалуйста, на билетик». Вот и славно, я так и хотела. Да, годы проходят, как ни пытайся их стреножить, и кое-какие признаки прожитых лет без труда прочитываются на лице – но… всё же пусть старость чуточку помедлит… Собственный ребёнок – это километровый, как минимум, прыжок к старости. Тебя сдвигают к краю, вот и всё.
Я вдруг вспомнила, как два месяца назад слушала голоса моих зрителей – подростковые и старческие, визгливые и мелодичные, звонкие, робкие, нахальные, хрустальные голоса. Ближе к концу, размякнув и оттаяв, набравшись новых сил, я собиралась выключить автоответчик, как вдруг услышала неожиданное.
Голос был вкрадчивый, самую малость хриплый.
– Геня, я посмотрела вашу передачу…
(Ненавижу слово «передача», всегда говорю «программа».)
Тяжкий вздох. Кажется, вкрадчивой даме не хочется об этом говорить, но она всё равно скажет – во имя справедливости, и чтобы на душе полегчало.
– Вы меня простите, Геня, но многие ваши рецепты мелькали в других передачах. А банановое суфле и котлеты «с сюрпризом» были в журнале «Кухня», который, я так понимаю, вы читаете от корки до корки.
Ещё один вздох. И она отключилась.
Я тогда дёрнулась, как будто влезла в работающий блендер вилкой, чтобы оживить приунывшие кусочки фруктов – и вместо них оживилась сама.
Дело в том, что я никогда не ворую рецепты! И плагиат в любых проявлениях для меня категорически неприемлем. Но что поделать, если в природе существует всего один стопроцентно верный способ испечь меренги? Если самый простой путь к вкусному фаршу лежит через вбитое яйцо, измельченное яблоко и мелко порубленную зелень? Да, мои рецепты почти никогда не повторяются – но даже я не в силах избежать цитат! Я простая смертная, а не богиня с гастрономического Олимпа.
Случай с тем сообщением на автоответчике был в своем роде единственным – то есть меня, конечно же, ругали и критиковали дорогие телезрители, но не так. И не за то! Поэтому я и запомнила тот звонок. И теперь, кажется, поняла, откуда у меня взялось это чувство – будто бы я слышала Еку еще до нашего знакомства.
Ирак заглянула в кабинет:
– Геня, пришла Вовочка.
Кого я всегда рада видеть – это косметолога Вовочку. Ежедневный дар небес, дама с бодрой матерщинкой. Она без конца травит байки, делится поучительными наблюдениями и рассказывает анекдоты, благодаря чему, собственно, и заслужила прозвище «Вовочка». Пока Вовочка делает мне очередную маску для лица или оформляет брови, я хохочу над её историями. Каждая вторая начинается так: «У меня есть одна девочка…». Девочками у Вовочки зовутся все создания женского пола, угодившие к ней на кушетку и заработавшие таким образом путёвку в вечность. Помнится, «одна девочка» пришла на процедуры с бодуна, так что Вовочке буквально выедало глаза; клиентка отрубалась на середине анекдота, бурно спала несколько минут, потом приходила в себя и спрашивала:
– А дальше что было?
И бедной Вовочке приходилось повторять анекдот заново, пока та снова не засыпала.
– Ещё у меня есть другая девочка…
Вовочкины истории бесконечны, как Вселенная, все мы в них – звёзды, планеты и «девочки».
– Здравствуйте, Геня, – зажурчала Вовочка, раскладывая простынку на кушетке. – Почему такие грустные?
Вовочка – великий оптимист, способный углядеть божественный промысел в любой жизненной каверзе и выйти из неё без потерь. Даже когда её сына забрали в милицию – парень коротал вечер в компании, где кто-то решил помочиться из окна на голову прохожему, – даже тогда Вовочка не пала духом, а крепко вдарила отпрыску по щеке, так что даже милиционеры вступились за подростка. А потом она рассказала им анекдот – конечно, про Вовочку! Ещё она исключительно религиозна – держит пост не реже двух раз в год:
– Всё дело в том, Геня, что у меня накопилося столько просьб к Богу… должна же я предложить ему что-то взамен!
Но даже Вовочке сегодня не под силу рассеять мою хандру: истории про «одну девочку» журчат в стороне, будто бы гул водопада сносит ветром. Ко всему прочему она решила сделать мне сегодня коллагеновую маску под названием «удар хлыстом»: под толстой влажной плёнкой будет спрятано всё лицо – и глаза, и рот. Без всякого на то желания я останусь наедине с собой, лишённая возможности отвлечься книгой, разговором или событиями на четырёх вечно включённых маленьких экранах. Безжалостная Вовочка тарахтит, как свежезаправленный трактор. На ушах маски нет, и я поневоле слушаю:
– Геня, ко мне тут пришла одна девочка… Ну… Эта самая девочка, которая теперь будет вести у вас все новые программы. Интересный человечек, мне так показалося.
Я дёргаюсь, как от электрошока, но ответить не могу – лицо стянуто маской. Кажется, у меня приступ клаустрофобии.
Ека в «Сириусе». Екин голос по телефону. Екин джип на моём парковочном месте. Ека и моя Иран. Ека и моё шоу. Ека и… Вовочка?!
Наконец Вовочка бережно отлепляет застывшую маску и гордо поднимает вверх плотную розовую плёнку с точным отпечатком лица. Щёки, нос, рот и глазные впадины. Посмертная маска.
Мне, впрочем, не до маски:
– Она пришла в салон? И случайно попала именно к вам?
Кажется, я обидела Вовочку. Она швыряет маску в корзину – трёхочковый бросок!
– Геня, случайно ко мне никто не попадает.
Она права. Она тысячу раз права – Вовочка лучшая из лучших и потому может себе позволить полную свободу выбора. Никаких случайных тёть с рынка, никаких капризных леди и дерзких прыщавых девиц.
Я почти что спросила Вовочку, кто же прислал к ней Еку, но вовремя вспомнила плакат с женщиной в красной косынке. Не болтай, Геня! Тем более не болтай при Вовочке, которая не способна держать язык за зубами.
Подушечками пальцев Вовочка аккуратно наносит крем на моё лицо и шею, а в дверь уже стучится Ирак – пришла парикмахерша Эля. Они с Вовочкой начинали в одном салоне – первом в нашем городе салоне красоты с европейскими замашками. Пока Вовочка громко приветствует вялую, но незаменимую Элю, я усаживаюсь перед зеркалом, закрываю глаза и… вспоминаю Екино портфолио.
Я не хотела проявлять к нему излишний интерес: по правилам игры следовало пролистать его вежливо, но бесстрастно, что я и сделала.
Вечно восторженный юноша Дод Колымажский – ещё один ведущий канала «Есть!» и мой ученик, выращенный из поклонника в полноценную творческую единицу, – преданно сопел рядом, пока я листала страницы.
– Обрати внимание на перепёлок, – прошептал он мне в ухо, пользуясь тем, что всеобщее внимание на время переместилось к П.Н.: тот рассуждал о новом рецепте чаудера, буквально перековавшем его отношение к этому скромному американскому супу. В иное время я слушала бы шефа во все уши, пытаясь выяснить, где именно произошла историческая встреча с чаудером и в чём его секрет, но сейчас мы с Додом склонились над рецептом соте из перепёлок. Рецепт был и вправду хорош. При всей моей антипатии к перепёлкам (некоторые продукты я стараюсь использовать как можно реже – и перепёлки в этом списке), похожим на ощипанных воробьёв, блюдо это запросто смогло бы стать хитом в неплохом ресторане. Я изо всех сил старалась не смотреть на Еку с уважением (ещё чего!), а Дод пихнул вдруг меня коленом под столом и опять полез шептаться:
– Ничего не напоминает?
Усердно вглядываюсь в поступенчатый рецепт. И вправду, смутно знакомый подход… Где же я это видела, где? Память молчит, как русский турист за границей; я перелистнула страницу и… ба, так вот же он – тот чаудер, что покорил сердце нашего генерального едока.
– Геня, дай-ка сюда! – крикнул П.Н., и я покорно отдала ему портфолио. П.Н. поднял его вверх, как школьный учитель, который демонстрирует классу лучшее сочинение.
– Великолепная штука, – П.Н. никак не угомонится, а Дод Колымажский тем временем тихонько кашляет.
– Простыл? – шепчу я.
Дод качает головой, а потом крутит пальцами в воздухе, словно бы набирая телефонный номер. Странно, телефонов с крутящимися циферблатами в стране почти не осталось, а привычка изображать «звонок» таким способом выжила. Двадцатипятилетний Колымажский – представитель нового поколения, и у парня большое будущее. Я ему доверяю. И звоню в первую же свободную минуту.
Мы встречаемся у входа в курилку – как недавно распростившаяся с пакостной привычкой, я не переступаю порога самой вонючей комнаты канала.
– Эти перепёлки… – задыхается Дод, – …её перепёлки – это же твой рецепт, Геня! Из позапрошлогоднего эфира. Кажется, март, да, точно, – март! Посмотри в архиве. Она просто убрала фенхель. И добавила к соусу сушёные грибы.
У Дода феноменальная память. А ещё он почти три года возглавлял мой личный фан-клуб и, даже став телеведущим, сохранил ко мне настолько трепетное отношение, насколько это вообще возможно для человека, перешедшего на качественно новый, как любит говорить Юрик, уровень.
Тут дверь курилки раскрылась, обдав нас с Додом зловонной волной, и навстречу вышли Иран и Юрик. Как в детском саду, парами, за ними следовали Ека и Пушкин.
Столкнувшись с нами, парный поезд резко затормозил, улыбки на лицах съехали набок, а слова испарились на полувздохе.
– Геня, здравствуй… – лепечет Иран, разглядывая ничем не примечательные боты Дода Колымажского.
– Привет, зайчик, – отзываюсь я. Иран, надеюсь, помнит о том, что «зайчиками» я называю только самых дорогих мне людей? (Тот Человек, кстати, всячески открещивался от моих «зайчиков», утверждая, что животное это – трусливое, мелко дрожащее и немое – ему категорически неприятно.) Меньше всего хочется показывать предательнице Иран, будто бы я страдаю от её отсутствия.
– Генечка, – кланяется мне Юрик, склоняя лысоватый черепок – привычка хореографического детства. Как все высокие женщины, я вижу много лишнего в этой жизни – к примеру, пыль на верхних полках и чужие залысины. А Юрик, как все мужчины, в детстве занимавшиеся бальными танцами, навсегда сохранил привычку осанисто держать спину, стучать каблучком и кланяться дамам.
Пушкин без лишних слов целует меня в щёку, обдав табачным запахом, а Ека, не разжимая губ, улыбается.
– …Геня, у нас три минуты, – в комнату врывается Ирак. Она нервничает так, словно бы мы работаем в прямом эфире, а ведь на самом деле все выпуски программы «Гениальная Кухня» – стопроцентная запись. Сейчас мы снимаем то, что вы увидите через месяц, – а пока вы смотрите отснятые нами кадры, я буду готовить ноябрьские выпуски.
– С вами Геня Гималаева и программа «Гениальная Кухня», – я искренне улыбаюсь внимательным глазам камер. – Сегодняшний выпуск целиком посвящен нашей с вами любимой птице. Итак, пять новых блюд из курицы, которые вы, скорее всего, никогда ещё не готовили. Полетели!
Глава седьмая,
в которой продолжается разговор о курице, а также заводится речь о стереотипности мышления, плагиате и воровстве
Если бы я читала книгу о самой себе, то меня беспокоил бы вполне резонный вопрос: почему успешная и уверенная в себе телеведущая, опытный кулинар и взрослая женщина позволила какой-то самозванке-самобранке окопаться у себя под самым носом? Эх, читатель… Какой смысл рассуждать об этом теперь, когда мы с Екой сидим в лучшем ресторане Местре и смотрим, как носятся по залу толстяки-официанты, отдуваясь под тяжестью подносов? Время упущено, и выиграть я не смогу, даже если прыгну выше собственной головы и сорву в полёте муранскую люстру… Да, я вела себя глупо, и очень боялась показать окружающим, как сильно переживаю Екино вторжение, – ведь если бы я стала явственно нервничать, все сразу же поняли бы, как сильно я зависела всё это время от чужого мнения. Добавьте сюда проклятую интеллигентность, которая, хочешь не хочешь, в некотором количестве входит в состав моей крови, и поймёте, почему в решающий момент я не смогла включить на полную мощность свою стервозность, которая у меня тоже имеется… Вот так и получилось, что в те дни я была не столько борцом, сколько «свидетелем умилённым» того, что творилось с моей жизнью.
«Куриные бои» – как их прозвали позднее с лёгкой руки Пушкина – наделали у нас такого шума, что даже П.Н. вынужден был прервать свой лакомый устрично-блинный отпуск и вернуться в родные «шпинаты». Такого прежде не случалось, П.Н. запросто покидал пульт управления, оставляя штурвал проверенным временем людям – Пушкину, мне и своей правой руке (за которую, как утверждает П.Н., можно легко отдать и левую), тихой Аллочке Рыбаковой, отзывающейся на Эллочку, Анечку и даже Адочку.
Эта скромная с виду особа на самом деле скроена из крепчайшего огнеупорного сплава, который не страдает ни от временного безденежья, ни от вынужденного одиночества, ни от вечных, почти метеорологических перепадов настроений руководства. Психологическая устойчивость Аллочки – одна из тех загадок, которые, я полагаю, человечество не разгадает никогда. Кроме того, Аллочка готовит отменный борщ, это признаёт даже П.Н., известный борщевед. Борщ Аллочки – пылающий и жаркий, как обнажённое сердце, но сама она источает холод прямо-таки в промышленных масштабах. В отсутствие П.Н. Аллочка вместе с нами рулила каналом – мы с Пушкиным сверяли с ней все свои планы и эфиры.
И всё было прекрасно, как в Аллочкином борще, покуда на сцене не появилась Ека со своими курицами. И я – со своими.
В тот роковой день мне, как всегда, ассистировали пятеро, не считая Ирак, Славочки и других операторов. Место Иран вызывающе светилось пустотой. Ирак обеими руками прижимала к груди пять новых рецептов, красиво отпечатанных на цветной бумаге.
Фаршированные черносливом желудки, крылышки в маринаде из крыжовника с соевым соусом, запечённая курица с кумкватами, рисом и кешью, прозрачный, как креветка, бульон с пирожками из куриных печёнок и хрустящие чипсы из куриной кожи. Подготовленные продукты с тщательной небрежностью выложены на блюда и разделочные доски – два года назад я пригласила лучшего в городе дизайнера по интерьерам, который каждые три месяца заново оформляет студию для съёмок. Вначале пришлось с ним изрядно пободаться – дизайнер питал слабость к живым цветам и совал их буквально повсюду (а я не люблю ни живые цветы, ни мёртвые), но теперь мы вполне довольны как друг другом, так и нашей общей студией. Впрочем, к себе домой я бы его всё равно не пригласила.
Я – в полосатом длинном фартуке – улыбаюсь моим дорогим телезрителям так искренне, чтобы они смогли ощутить живительное тепло моей улыбки, сохранённое волшебством Славочкиной камеры. Я ещё не знаю, что именно эта программа никогда не выйдет в эфир…
Все блюда получились именно такими, как надо. Пирожки сочные, как деревенские девки, и манящие, как грех. Бульон – слёзно чист и ароматен, будто азиатский рынок; жареные крылышки блестят не хуже рыбы, вытащенной на берег; желудки просятся в желудок, а запечённая курица готова лопнуть от гордости за свой богатый внутренний мир. Славочка сглатывает голодную слюну, а я прощаюсь с телезрителями, похрустывая чипсами в виде птичьих лапок. Я всегда ем «на камеру» – П.Н. ещё лет семь назад отметил, что у меня это получается очень аппетитно.
Как всегда по средам, я должна была записать ещё и очередной выпуск «Звёздного меню». В этой программе блистают – по мере сил – городские персонажи различной степени звёздности, которые, как им кажется, умеют готовить и претендуют по этой причине на полчаса ценного эфирного времени. Не люблю я «Звёздное меню» – в кухне его участники не разбираются, сами в большинстве случаев скучны, – но куда деваться?.. По словам П.Н., «Когда говорят деньги, высокому искусству лучше помолчать». И еще: «Самовыражаться будешь в “Гениальной Кухне”, а “звёзды” нам тоже ещё – увидишь! – пригодятся». Что-что, а подходящие слова у П.Н. всегда наготове. Однажды он сказал мне, что потратил значительную часть своей жизни на то, чтобы найти людей, которые смогут ответить на его вопросы, а потом понял, что вернее прекратить поиски и стать таким человеком самому.
В программе «Звёздное меню» обычно участвуют начинающие певички, забытые богом и людьми актёры, а также самые скучные в мире люди – городские и областные депутаты. Вот и сегодня мне предстояло встретиться с очередным таким депутатом – многообещающе толстеньким, но, увы, совершенно не приспособленным к кухонной деятельности дядечкой по фамилии Горликов. П.Н. утверждал, что Эрик Горликов – перспективный политик; я, однако, заметила только сальную лысину и ощутила прелый запах, который источал депутатский пиджачок.
Славочка с помощниками потирали руки за студийным столом, пока Ирак разделывала курицу, а мои ассистенты на ходу набивали рот фаршированными желудками. Обожаю свою работу – как просто сделать людей счастливыми! Славочка хрустнул чипсом прямо у меня под ухом и восторженно застонал.
– Геня, у нас сорок минут, – сообщила Ирак. – Может, глянем, что там делается в «Сириус-Шоу»?
И то верно – сегодня Екин прогон! Именно сегодня у всех появится прекрасная возможность сравнить наши таланты – курица здесь, курица там. Славочка прибавил звуку, Ирак цыкнула на громко чавкающих ассистентов. (Лично я люблю, когда люди шумно едят – значит, им так вкусно, что на соблюдение приличий не остаётся ни сил, ни времени. И китайцы со мной солидарны: у них громкие звуки и пятнистая скатерть – улики вкусной трапезы.)
…Знакомые позывные, рекламный блок «Сириуса», логотип канала «Есть!»…
– Здравствуйте, с вами новая ведущая «Сириус-Шоу» Ека Парусинская!
Когда я впервые увидела Еку в гипермаркете, то, помнится, назвала её рыбой. Во весь голос звучала в ней эта скользкая и одновременно с тем мучнистая нота – женщинам при встрече с такой рыбой приходит в голову, что она не представляет для них никакой опасности, ибо глупа, бледна, холодна и, следовательно, неспособна посягнуть на чужие жизненные приобретения. Так вот – здесь ошибочка! Рыба, подобная Еке, обладает врождённой способностью к перевоплощениям, и лицо её, водянисто-невзрачное, с широким ртом, может вдруг засверкать такими гранями и оттенками, что мужчины, карьерные свершения – или за что вы там беспокоитесь? – пойдут за нею в едином порыве птичьей стаи. Или рыбьего, что здесь уместнее, косяка.
Визажист так потрудился над Екиным лицом, что, честно говоря, я это лицо поначалу вообще не признала. Никакой воды – сплошь концентрированная энергия! В людской внешности всё решают не черты лица, а его выражение, нет ничего важнее, можете мне поверить.
С годами на сыроватом, только лишь начавшем схватываться девичьем личике проявляются все мысли, бродившие в голове, и отпечатываются все поступки, совершённые телом. Годам к тридцати мы утрачиваем прекрасную способность меняться, и облик наш словно бы затвердевает, утверждается, крепнет. Мы получаем то самое лицо, которое задумывалось создателем, но с ремарками, добавленными нашими усилиями. Когда эти ремарки-помарки вступают в противоречие с изначальным замыслом, лицо становится уродливым – пусть даже изначально обладательница его была прекрасна, как дочь Леды. Если же побеждает изначальный замысел, человеку достаётся высшая награда – способность по желанию становиться неузнаваемым и принимать возрастные изменения как подарок, а не как испытание. От людей требуется много мужества, чтобы смириться с переменами, оправдать морщины, сутулость, седину, но смирение это придаёт лицам намного больше достоинства и красоты, чем звезда ботокса, горящего во лбу… Странные мысли для телезвезды? Я, как все, думаю о том, что однажды постарею и не смогу больше появляться на экране, но что поделаешь…
А вот верующий косметолог Вовочка утверждает, ссылаясь на мудрецов, что старость – это самое гуманное изобретение Бога, потому что постепенный выход из строя всех наших органов готовит нас к безгрешной небесной встрече. Представляете? Мы теряем зубы и не можем больше есть мясо. Наши тела слишком стары для секса, и вот, увы, мы больше не грешим. Мы плохо видим – и не позволяем себе вредных душе зрелищ… Если уж косметолог – ежедневно возвращающий веру в себя десяткам стареющих женщин! – так покорно относится к извечному ходу времени, что остаётся нам?
…Занесло меня. Тем, кто работает с живым словом, только подкинь тему, и они тут же кинутся обсасывать её со всех сторон, как П.Н., – куриную косточку, до состояния самой что ни на есть раздетой сущности. Косточка превращается в крохотную рогатку, которой смог бы играть разве что гномик, а тема, напротив, обрастает весом лишних слов…
Ека хорошо смотрелась в кадре. В реальном мире ей не хватало роста, и голова её была словно бы приставлена к чужому телу – во всяком случае, лепили их точно по отдельности. Тельце у самобранки было субтильным, с узкими бёдрами и длинной ровной талией. В том месте, где у женщин обыкновенно располагается грудь, Ека могла предъявить лишь две плоских складочки на блузке. И если бы мне предложили, как в детской развивающей книжке, подобрать к этому телу подходящую голову, я лишь в последнюю очередь взяла бы Екину – большую, с выпуклыми глазами, кривой линейкой рта, с пышной, как фонтан, причёской. В жизни всё это выглядело достаточно нелепо, но кто сказал, что телевидение имеет отношение к жизни? Сложенная из двух разнородных величин, новая ведущая «Сириус-Шоу» выглядела в кадре монолитно и цельно, как кусок мрамора, не нуждающийся в том, чтобы от него отсекали лишнее. Она правда была хороша, это видели все. И – спасибо им всем – молчали.
Впрочем, чужой красоте я обычно не завидую. Восхищаюсь – да, но не завидую, понимая, что каждому из нас дана именно та внешность, которую он заслужил. Я всегда смотрю на красивого человека как на произведение искусства, а долгое и подробное общение с моими зрителями доказывает, что физическая красота интересует далеко не каждого. Например, женщины средних лет скорее обидятся, если им сказать, что они плохо готовят, нежели – что они некрасивы. Помните ту знаменитую рекламу, кажется, лифчиков, где грудастая блондинка шепчет в камеру: «Я не умею готовить, но разве это важно?» Так и мои зрительницы, обладай они нужной раскованностью, могли бы стоя с тарелками в руках вымолвить: «Моя грудь давно потеряла форму, но разве это важно?» А следующим кадром – ряд мужчин, потерявших сознание от аромата румяной рульки…
…Тем временем на экране Ека трясла шевелюрой, представляя первую участницу шоу. Подстава! Слишком уж напомажена эта рыжая дамочка. И чересчур уверенно улыбается.
– Знакомьтесь, наша первая участница – Анфиса. Мы поймали её в отделе «Птица» – вот такая, дорогие телезрители, птичка попала нам в сети.
Птичка потупилась, а Ирак – по эту сторону экрана – хмыкнула, сложно сказать, с одобрением или нет.
Рядом со мной почти бесшумно уселся Аркадий Пушкин – от усталости и недосыпа под глазами у нашего режиссёра набрякли тёмные мешочки: будто бы там хранился весь недобранный им сон. Пушкин измученно улыбнулся экрану, и мешочки разъехались в стороны – как занавес.
– Хорошо работает, уверенно держится, – тихо, как в бреду, пробормотал режиссёр.
…Меж тем подсадная Анфиса набрала в корзину куриные крылышки, соевый соус, пакетик с глянцево-зелёными лаймами, оливковое масло и… банку крыжовенного мармелада! Я вцепилась в руку Пушкина, и он тут же вскрикнул:
– Ай! Ты чего царапаешься?
– А ты не понимаешь?
Пушкин не понимал. Зато Славочка громко икнул, а Ирак машинально вытерла ему губы салфеткой, как ребёнку.
…Анфиса тем временем уже открывала дверь своего дома перед Екой и оператором-невидимкой – они входили в маленькую, выскобленную до блеска кухоньку, по которой метался застигнутый врасплох кот – такой же рыжий, как хозяйка. Мы все, практически не моргая, смотрели, как Анфиса и Ека разбирают покупки и под аккомпанемент необязательной беседы маринуют крылышки в соевом соусе, разогретом мармеладе, масле и соке лайма.
– Отлично! – сиял Пушкин. Он ещё не понимал, счастливый, что тут на самом деле происходит. Ека, бурно распрощавшись с Анфисой, представляла следующего героя программы – юного толстяка по имени Илья. Я, помнится, предлагала иной сценарий – вначале знакомиться с тремя участниками в «Сириусе», а потом уже гостить в квартире у каждого поочерёдно: иначе кажется, что ведущая скачет по городу, как бешеная блоха. Но Ека выбрала именно этот вариант. И в моём сегодняшнем рецепте, чудесным образом попавшем к ней в руки, она сделала всего одну замену – взяла вместо лимона лайм.
Илья предъявил Еке тележку, забитую снедью: сверху, разумеется, лежал пакет с куриной кожей.
– Вы даже не догадываетесь, – ухмыльнулась Ека, – что будет готовить Илья из этого, скажем честно, не слишком популярного продукта.
Илья улыбался, мучительно вспоминая вызубренный текст – как студент перед зачётом.
– Это будут чипсы из куриной кожи! – выдохнул он наконец. Голос у него оказался неожиданно тоненьким. – То есть, я хотел сказать, что приготовлю сегодня ещё целую кучу всяких классных штук, но главное блюдо – чипсы. Вредно, калорийно, но ужасно вкусно!
Ека радостно, как за малышом, делающим первые шаги, наблюдала, как Илья расплатился с кассиршей и ушел прямой дорогой к пятнадцатиминутной славе.
– Ну, что я говорил? – ликовал Пушкин на фоне общего гробового молчания. – Да её можно без всяких фокус-групп давать в эфир! П.Н. велел сразу отзвониться, если всё будет нормально.
– Пушкин! – я чувствовала, как Ирак дрожит со мной рядом крупнокалиберной дрожью. – Пушкин, всё уже не нормально.
– А? – выныривая из сладостных мыслей, он не сразу оторвался от экрана. – Почему это? Что плохо?
– Посмотри мой новый выпуск – и поймёшь.
Пока искали запись, на экране Ека общалась с третьим участником шоу – этот мужчина вихлялся, как молодой Челентано, улыбался такой же обаятельно-обезьяньей улыбкой и всеми способами эксплуатировал своё с ним сходство. Я уже не удивилась, когда «Челентано» огласил свой «оригинальный рецепт» – это была запеченная курица, фаршированная рисом, кумкватами и фундуком.
– Кумкваты… Кумкваты… Кругом одни кумкваты… – потерянно лепетал Пушкин, смотревший параллельно две программы. Ека снова тряхнула волосьями, пообещала телезрителям встретиться с ними «в следующую пятницу, в то же самое время» и скрылась под водопадом титров.
– Кто это сделал? – Пушкин наконец-то разгневался. Шторки под глазами налились грозной темнотой. Ирак и Славочка, ни дать ни взять, раки на выданье рыбаку, попятились к выходу.
– Карл у Клары украл кораллы? – спрашивал Пушкин и ощупывал при этом телефон, как любимую женщину – в поисках нужной кнопки. Далеко, в прохладной призрачной Бретани, меж зелёных утёсов и зыбучих песков, бродил единственный человек, способный уберечь нас от позора в эфире. Впрочем, нет, не единственный! Мы забыли про Аллочку.
– Алла, пожалуйста, зайди к Гене, и скажи Еке, что мы её тоже ждем, – сказал в трубку Пушкин. Ровно через три минуты, как всегда незаметная, в чём-то сером, без украшений, Аллочка Рыбакова проскользнула в нашу студию. Хотелось бы сказать, будто она внесла с собой глоток свежего воздуха, но это враньё – ничего она не внесла. Пушкин готов был прикончить нас всех и непосредственно после этого наложить на себя руки, Славочка нервно доедал последний фаршированный желудок, фаршируя таким образом желудок свой собственный, ну а мы с Ирак отупело любовались тем, как он жуёт и сглатывает.
– Здравствуйте всем! – в студию влетела растрепанная Иран, а за ней – Ека в том чёрном жакетике, что был на ней в эфире. Как только я увидела её, в животе неприятно ёкнуло. Вот именно! Жили, как сыры в масле, а потом – ёкнуло.
Я хотела домой. Там Шарлеманя лежит на ковре, как дополнительный мягкий коврик с хвостом. Там тихо, и пахнет родными вещами. Там никогда не ёкнет…
Пушкин тем временем почти что взял себя в руки. Как все люди среднего возраста, в юности он всей душою принял советы Дейла Карнеги, популярного на заре девяностых, и в силу этого полагал, что способен справляться с любой ситуацией, оказывать влияние на людей, и вообще, перестать бояться и начать жить.
– Народ, – обратился к нам Пушкин, возреяв над разорённым столом, как великая идея над умами. – Народ, мы столкнулись с очень неприятным и очень странным совпадением, которого у нас даже старики не припомнят… Геня! Ека! Почему в ваших программах – практически одинаковые рецепты?
Я поперхнулась воздухом. Он что, хочет сказать, что я, Геня Гималаева, звезда канала «Есть!», стащила рецепты у только что принятого на работу человека?..
– Пушкин, ты пошутил! – догадалась я. – Неужели ты серьёзно думаешь, что я на такое способна? Зачем мне это, ты же знаешь, я каждый день сочиняю по сто новых рецептов!
– Минуточку, Евгения, – бесшумно, как хороший компьютер, включилась Аллочка (она единственная называет меня Евгенией, и только ей это с большим усилием прощается). – Давайте разберёмся. Кто записывался первым?
– Я, – быстро ответила Ека, и почти так же быстро исправилась: – Мы.
(Это очень важно: в телевидении никаких «я» не существует, оно – коллективная секта.)
Аллочка сдержанно кивнула:
– Видите ли, Екатерина, у нас на канале естественным образом сложилась атмосфера редкого доверия друг к другу. Павел Николаевич доверяет нам, а мы доверяем друг другу. И, знаете, я почему-то не думаю, что вы с Евгенией могли бы в один день сочинить три одинаковых рецепта… Екатерина, я хочу знать, когда вы придумали эти блюда для «Сириус-Шоу».
Аллочка изящно скрестила худые руки на груди и вонзила в Еку взгляд – как шампур.
Серые устричные глаза Еки подёрнулись перламутром, голос затрясся, как моллюск в раковине.
– Я… я ещё три дня назад решила, что мои гости будут готовить именно эти блюда, и я… я не знала, что мы так совпадём с «Гениальной Кухней».
– Совпадёте? – Пушкин возмущенно цыкнул. – Да это не совпадение, а полный съём!
Ека молча подняла глаза на обидчика – из них синхронно, как гимнастки из-под купола цирка, спускались крупные слёзы. Девочки, которые вовремя научились красиво плакать, никогда не упустят возможность продемонстрировать этот навык публично – ведь зрители непременно откликнутся аплодисментами! Вот и Пушкин вздохнул, беспомощно обернувшись к Аллочке, она же снова скрестила руки на груди, словно удерживая саму себя от неосторожных поступков. Аллочку – как Москву – слезами не размочишь, подумала я, и мысленно проводила Еку на свалку телевизионной истории… как вдруг раздался голос… нет, не голос – земляничное мороженое!
– Если что, я бы знала, – сказала Иран, отважно глядя в лицо Аллочке и стараясь при этом скосить взгляд в сторону Пушкина, чтобы охватить как можно больше собеседников сразу. – Ну, правда…
Ека вытерла слёзы и слегка откинула голову назад – будто заметила на противоположной стенке картину и теперь старалась запечатлеть её в памяти. Заговорила она глухо, ни на кого не глядя – прямо как древняя старуха, обиженная на всех своих отпрысков разом.
– Я сама придумала эти рецепты. И я не ожидала, что они окажутся настолько банальными, и что их скопируют даже… в другом шоу. Обещаю, что это не повторится.
Тут звонкой песней взорвался Аллочкин мобильник – неожиданно оптимистической мелодией с подвываниями и совсем уж несуразными «йей-йей-йей». Воистину, эта женщина – воплощённая загадка.
– Да, Павел Николаевич, – сказала Аллочка в трубку. – Да, у нас всё нормально. Да, никаких проблем. Да, отличный прогон, через секунду отправлю вам копию. Да, у мамаши Пуляр раньше готовили отличный омлет. И не забудьте сапоги, если пойдёте за устрицами. Всем передам. Всё скажу. Отдыхайте спокойно. До встречи!
Отсалютовав трубкой невидимому П.Н., который, судя по всему, бродил где-то в окрестностях Мон-Сен-Мишель, Аллочка неторопливо убрала мобильник в карман пиджачка и шлёпнула ладошками по столу:
– В интересах канала, и я думаю, вы все со мною согласитесь… Так вот, в интересах канала мы зарежем сегодня, Геня, твой выпуск. Видимо, это и вправду было удивительное совпадение. Но я вас обеих предупреждаю: чтобы больше таких чудес не было! У нас тут не церковь и не цирк, мне фокусы не нужны, ясно? Геня, тебе ничего не стоит быстренько переписать выпуск, вот давай сегодня, после «Звёздного меню», встретимся у меня в кабинете, и ты покажешь новые рецепты, окей?
Аллочка встала. Следом за ней поднялись остальные. Ека прошла мимо, не поднимая головы, а я всё никак не могла оторваться от стула – как будто меня прилепили к нему на крыжовенный джем.
Глава восьмая,
где последовательно появляются плохое настроение, Остап Бендер и устрицы
Бывают такие дни, когда всё вокруг – от погоды до прохожих, – как сговорившись, вызывает самые отвратительные чувства. Что поделать, даже у оптимистов случаются жизненные затемнения, неотвратимые как зима. В зеркалах торгового центра, коварно расставленных буквально на каждом шагу, я видела сегодня не привычное, вполне миловидное лицо, а словно бы отдельные сегменты-фрагменты не самой удачной фотосъёмки. Тонкие морщины на лбу и под глазами – эскизы будущей старости, которая пока всего лишь примеривается к прыжку. Тусклые (не верьте своим телевизорам!) волосы – без присмотра мастера они тут же отбиваются от рук. И взгляд, лишённый всяческого выражения; неудивительно, что даже поклонники сегодня разбегаются от меня на все четыре стороны.
Обычно мне нравится бродить по торговым центрам, которых в нашем городе настроили уже в таком количестве, что на каждого жителя скоро будет приходиться по несколько штук. Нравится не потому, что к этому настойчиво призывают глянцевые журналы, одержимые вопросом: «Существует ли жизнь после сорока лет?» (правильный ответ – «нет»), а потому, что в магазинах удаётся полностью отключить вредоносные мысли. Когда я заставляю себя ничего не делать – и не занимать голову чтением, – то лучше всего это получается в процессе «вегетарианского» шопинга, абсолютно безвредного для психики и кошелька… Увы, сегодня это не сработало. Сегодня мне в каждом зеркале назойливо показывали усталую женщину, перевалившую за ту самую грань, что отделяет «просто жизнь» от молодости. Женщина испуганно моргала и отводила затравленный взгляд от одного зеркала – лишь для того, чтобы отразиться в следующем.
А ведь раньше я считала, что первые признаки старения (как деликатно выражаются составители текстов для коробочек с дорогими кремами) – такое же незыблемое условие женской состоятельности, как наличие первой аварии в послужном списке начинающего автомобилиста. Пока не прочувствуешь сам, каково это – внезапно врезаться в другую машину, не имеешь права считаться водителем. Пока на лице не прорисовалась первая морщина, не имеешь права называться женщиной. Это раньше я, повторюсь, так считала, чтобы подбодрить себя и своих телезрительниц. Я всегда и со всеми старалась быть как можно более доброжелательной и вообще светлой, как Снегурочка. Зато Юрик Карачаев недавно заявил в беседе с П.Н., что доброжелательность, корректность и оптимизм – три главных беды нашего времени, которые сводят таланты в могилы или к нулю. П.Н. возмущенно пересказал мне слова Юрика, но я не стала негодовать с ним на пару, а задумалась: может, правда, хватит уже превращать лимоны в лимонад?
В торговом центре, где я бродила с самого утра, невыгодно отражаясь в зеркалах и переваривая вчерашние события, много туалетов, по-европейски красивых и даже снабжённых автоматическим спусковым устройством для унитазов. Но на дверях кабинок здесь приклеены азиатские бумажки с убедительными просьбами «не вставать на унитаз ногами».
Я мою руки, стараясь не смотреть при этом на своё отражение. Попробуйте сами, убедитесь, что сделать это не так просто – особенно если речь идёт о женщине, на протяжении многих прекрасных лет благосклонно относившейся к зеркалам.
Сегодня из Парижа возвращается разъярённый П.Н.
Я позвонила ему поздно ночью после записи ещё одного выпуска программы «Гениальная Кухня» (пять рецептов для детского праздника) и тёплой, дружественной встречи с депутатом Горликовым, пытавшимся воплотить на кухне свои представления о прекрасном. Горликов отчаянно злоупотреблял выражениями вроде «потребительская корзина» и вообще сводил меня с ума. Не понимаю, кому пришло в голову выбрать такого в депутаты – лично у меня после полуторачасового общения с Горликовым возникло страстное желание стукнуть его по носу швейцарским молотком для отбивных. Разумеется, я сдержала этот порыв. Потому что я – профессионал, и ещё потому что молоток жалко. Горликов, между тем, остался всем доволен – мы с ним приготовили «Депутатскую закуску» из маслин, буженины и черри-томатов, сварили суп «Мечта народа» из форели с молоком и даже сделали десерт – творожный крем «Дума». Невидимые миру слёзы текли исключительно по ту сторону камеры, и «Звёздное меню» на сей раз понравилось даже Аллочке – она присутствовала при записи программы, что называется, от и до. Новый выпуск «Гениальной Кухни» таким же образом курировал Пушкин, забравший впоследствии домой циклопический кусок клубничного чизкейка – для дочки Сашечки. Меня так не контролировали со школьных времён, когда я, обливаясь слезами, делала математику под маминым присмотром.
…Я вернулась домой к полуночи. Встревоженная Шарлеманя ходила вокруг меня кругами, как голодная акула. Не раздеваясь, я повалилась на пол рядом с кошкой и, уткнувшись в безотказный шерстяной бочок, заплакала. Плакала я долго – пластала от всей души, как выразилась бы Вовочка (волонтёр-хранитель диалектных слов), пока не услышала, что рядом ещё кто-то подвывает в тон… или поёт? О, как же давно не слышно было этого пения! Где-то год назад я установила в телефоне особый сигнал для звонков П.Н. – песню Остапа Бендера в мироновском исполнении: «Нет, я не плачу, и не рыдаю, на все вопросы я открыто отвечаю…»
Остап пошёл уже на второй куплет, когда я, роняя всё кругом, схватила трубку.
– Да, да, да, Павел Николаевич! – крик мой насмерть перепугал бедную Шарлеманю. Гнусавость голоса, так старательно наплаканную, скрыть было невозможно, как, впрочем, и не нужно – П.Н. никогда не обращал внимания на пустяки. Я слышала, как плещутся волны – П.Н. ужинал на берегу залива… (То, что он ужинает, я тоже прекрасно слышала – зачем прерывать трапезу для такой мелочи, как телефонный звонок на родину?)
– Приятного аппетита, – не к месту пожелал П.Н. (на часы он, разумеется, не смотрел), и я его искренне поблагодарила. Шарлеманя тигриными шагами мерила кухню, подвывая не хуже, чем давеча мы с Остапом. – Слушай, я сейчас отсмотрел Екин эфир… Ты видела? Что скажешь?
Я молчала. Шарлеманя села со мной рядом и сощурила глаза, похожие на маленькие светофорные сигналы. А у П.Н., там, далеко, дерзко крикнула чайка. Моё молчание, судя по всему, тоже было слишком дерзким, потому что шеф на другом конце провода погрузился в долгую (и золотую, как вскоре докажет телефонный счёт) паузу.
– Это я устрицу глотал! – доверчиво объяснил П.Н., шумно запив несчастную вином. В отношении вина и прочего алкоголя я веду себя как скучнейший мормон – и даже в рецепты, без крайней необходимости, не добавляю ничего, способного изменить сознание. П.Н. тоже не слишком увлечён спиртосодержащими напитками, но вином порой балуется, особенно, если сомелье попадётся болтливый… – Мелковатые у них тут устрицы. Вот в Канкале… Помнишь, какие там были змей-горынычи?
Он ещё и Канкаль зачем-то вспомнил…
Мы часто с ним раньше путешествовали – гастро-туры, фуд-фестивали, мишленовские рестораны. Канкаль… Ловушки для устриц на отмели, простецкие закусочные, бугристые раковины… Здоровенные бретонки лихо вскрывают эти раковины, режут пополам лимоны и льют до краёв ледяное белое вино в стаканы.
Шеф глотал устриц, я – слёзы.
– Павел, у меня, кажется, лёгкое переутомление.
– Если лёгкое, значит, всё не так страшно, – жизнерадостно откликнулся П.Н., но тут же придал голосу встревоженную интонацию: – Хочешь в отпуск? Прилетай! Ека сможет тебя подменять…
– Спасибо! Уже подменила. Сегодняшний эфир, если тебе интересно, она полностью слизала с «Гениальной Кухни»: из трёх её рецептов два – мои.
Трубка возмущённо раскашлялась, потом П.Н. попросил (не у меня, разумеется) «лядисьон, сильвупле» и, пока официант бегал за счётом, спросил теперь уже совершенно другим голосом:
– А почему мне об этом никто не сказал? Почему Аллочка даже не удосужилась позвонить? И Пушкин заявил, что всё нормально?
– Наверное, не хотели тревожить, – сказала я, мысленно ругая себя энергичными словами. Вот ведь идиотина, наябедничала, как маленькая девочка, – и теперь все будут знать, что я испортила П.Н. отпуск! Это Канкаль во всём виноват – представила себе тамошнюю благодать, расслабилась и выпустила из-под контроля чувство реальности – вот оно, болтается под потолком, как воздушный шарик! Разве можно расслабляться в беседе с начальником – даже если он безмятежно поедает устриц на расстоянии тысяч километров?..
– Мерси боку, – строго сказал П.Н., звякнув мелочью. – Раз так, прилечу завтра вечером. К ужину буду у тебя. Аллочке и Пушкину скажи – пусть начинают вешаться. И новенькая тоже, я не посмотрю что она гений.
– Павел! – взвыла я, но трубка уже отключилась, а когда я дрожащим пальцем снова нажала кнопку вызова, абонент был недоступен. По крайней мере, для меня.
И вот я брожу по крытым улицам торгового центра, бесцельно разглядываю безголовые манекены, и всячески оттягиваю тот момент, когда всё-таки придётся пойти в «Сириус» за продуктами. Я знаю это своё состояние: единственное, что мне сейчас поможет, – это многочасовая вахта на кухне, долгое дежурство у мартена, после которого отваливаются ноги и темнеет в глазах. Трудно – сейчас кажется, что вовсе невозможно заставить себя это сделать, – но в решающий момент я пинками загоню себя в «Сириус» и возьму там самую большую корзину.
В сумке вдруг страстно запел Оскар Бентон – этот телефонный сигнал обозначает одного очень важного человека. Звонила секретарша прекрасного доктора Дориана Грея:
– Евгения Александровна, вы помните, что у Дениса Григорьевича сегодня с вами встреча?
Бог ты мой, Евгения Александровна ничегошеньки не помнила! Я помчалась в «Сириус», не оглядываясь на зеркала и витрины. Главное – успеть купить продукты! Встреча с доктором – как раз то, что нужно перед ужином с П.Н.
А сам ужин я всегда успею приготовить.
Глава девятая,
где читателю представится возможность познакомиться с прекрасным доктором Дорианом Греем, П.Н. – вкусно отужинать, а Гене – получить мешочек полезных подарков
И вот я гоню корзину к прилавкам «Сириуса» – будто каравеллу к желанным берегам. Отличное филе сёмги, напоминающее розовый вымпел, я прошу разрезать пополам. Кунжут дома есть, как и паста мисо, но надо взять васаби и дикий рис, похожий на семечную шелуху, – после французских изысков П.Н. непременно порадуется чему-нибудь восточному, острому. На закуску – профитроли двух видов, одни с оливадой, другие – с копчёной рыбой, хреном и взбитыми сливками. А на десерт подам что-нибудь простое и меткое – как стрела в глаз! – вроде жареной клубники с перцем. По дороге к кассам я прихватила нарезанные кругляшками оливки, кукурузные чипсы, твёрдый, как Буратино, авокадо (к выходным он станет мягче масла), сушёный чеснок, горгонзолу, шалот, картофель, бисквитное печенье для чизкейков… В итоге корзина оказалась набитой до отказа, и длинная лента чека лезла из кассового аппарата, извиваясь, как древний свиток.
– Геня! – голос, как дуло в спину. Кассирша с перепугу выронила монетки из ладони. По движущейся ленте агрессивно, как лазутчики, ползли пакеты следующего покупателя. Повар Гриша Малодубов метко выбрасывал продукты из тележки.
– Гриша, откуда телятина? Я тоже хочу такую!
Здороваться и соблюдать этикет с Малодубовым не обязательно. Это личность самостоятельная, стихийная. Работать с ним на кухне без усилий смог бы разве что личный помощник Гордона Рамзи. Многие уверены, что Гриша подражает Рамзи, но, боюсь, он так ни разу и не посмотрел его знаменитую программу – я же говорю, он человек самостоятельный и стихийный.
А мясо Гриша и вправду выбрал отменное – хоть на рынке торгуй.
– Последнее забрал! – объяснил Гриша, грозным взглядом отслеживая, как кассирша ведет счёт покупкам. – Слушай, мне вчера звонила от вас одна дамочка, попросила выступить в новой программе – я удивился, почему ты сама меня не набрала. Разлюбила?
Он придвинул ко мне белёсое лицо, похожее на пятку. Я инстинктивно дёрнулась. Гриша – хороший повар, но в жизни – вахлак вахлаком. Не понимаю, как Нателла с ним уживается – она, помимо того что жена Малодубова, так ещё и знаменитый в городе ресторанный критик. Изящная такая штучка. И всё же дёрнулась я не поэтому. Интересно, если я вдруг без предупреждения нагряну к родителям, Ека что, будет пить с ними чай?.. Я так разозлилась, что даже Гриша – при его пониженной чуткости – понял, что лучше отпустить меня восвояси. Неслыханное дело, ведь рядовая встреча с Малодубовым, как правило, растягивается на целый час.
Я толкала корзину к парковке и думала о прекрасном докторе Дориане Грее. Если кто и сможет мне сейчас помочь, так это только он.
Я честно верю в неслучайность случайностей, и во всяком жизненном происшествии – пусть оно кажется невинным, как дорожный знак, – пытаюсь увидеть предупреждение, шанс или запрет. Давным-давно в самолёте, мирно летевшем в Москву – к финалу литературной премии, – мимо меня прошла (как впоследствии и сама премия) очень яркая и странная девушка. Химически-красные волосы, сверкающие синие глаза – будто сапфиры выскользнули из оправы безутешной владелицы. Чересчур элегантный для раннего рейса костюм. Я, как мужик, обернулась вслед красавице; она потопталась в очереди у туалета и скрылась в кабинке. Я проводила её взглядом и на обратном пути, а потом, когда самолёт приземлился, и я вместе со всеми побежала к экспрессу до «Павелецкой», первым человеком, которого я увидела в вагоне, была сразившая меня попутчица.
Тогда я и не помышляла ни о каком телевидении, а честно собиралась вырастить из себя писателя. У меня был кое-какой успех – пара шорт-листов, пято́к книг и море разливанное предложений выступить в районных библиотеках. Вот и тогда я ехала в Москву для того, чтобы очутиться в зале, где дают престижную литературную премию, и по возможности высидеть себе награду. Мой удел был – сейчас я это знаю наверняка – добраться до финала, предъявить себя и книгу надменным столичным коллегам, а потом убраться на малую родину, освободив дорогу более достойным претендентам. Я не очень люблю вспоминать о тех временах, тем более что в том конкурсе мне ничего не досталось. Более того, кураторша состязания – курносая дама в деревянных бусах на багряной шее – не внесла моё имя (участницы шорт-листа) в список приглашённых лиц. Пришлось долго объяснять охранникам, кто я такая и чего мне тут надобно, старче.
Всё же, повторюсь, тогда я ещё собиралась стать писателем и потому всматривалась в окружающую действительность внимательно, как папа Карло – в полено. И странная девушка, упорно изучавшая берёзовый пейзаж за окном, в конце концов поймала мой взгляд и сказала что-то незначительно-приятное, открывающее дорогу разговору.
Её звали Агнесса – я чуть не свалилась на пол, – она работала адвокатом. Интуиция рванула с места вскачь: зачем мне может понадобиться адвокат? Все случайности неслучайны, а значит, встречу с Агнессой судьба припасла с дальним умыслом. Вопрос – с каким? Может, мне предстоит судебное разбирательство?..
Дорога до Павелецкого занимает ровно 45 минут, учебный час. Мы изучали Агнессу – она полностью заняла время собой, рассказывая о семье, работе и жизненных принципах. Общительная девушка! В Москву Агнесса летела на собеседование; я спросила, на какое число у неё куплен обратный билет, и не удивилась, услышав, – послезавтра. Этим же рейсом собиралась вернуться я.
В метро мы распрощались. Московская толпа быстро замазала яркую Агнессу тёмными штрихами, и через полчаса я о ней и думать забыла. Быстро пришёл вечер и позорный финал – мне, впрочем, вручили эффектный букет и утешительный диплом. На фуршет оставаться сил уже не было, и, подметая букетом мостовую, я побрела было ночевать к троюродной тётке, как вдруг вспомнила, что обратный билет у меня – с открытой датой. Сунула букет юноше, ждущему зазнобу у неизвестного мне памятника, поскакала на всё ту же «Павелецкую» – и успела на последний, ночной рейс. Агнессы в самолёте, разумеется, не оказалось – это было бы чересчур даже для Провидения.
Но через месяц мы снова встретились – в бассейне. Точнее, в раздевалке бассейна – Агнесса стягивала бахилы с туфель. Красные волосы, сапфировые глаза… Судьба настойчиво толкала нас друг к другу, но при этом не объясняла: зачем?
Агнесса рассмеялась, когда я выразила своё удивление. По ней – случайные встречи, и только! Но ведь наш город – пусть не Москва – всё равно миллионник, и некоторых своих знакомых я не встречаю десятилетиями! А тут – пожалуйста. Нет уж, теперь я ни за что не отпустила бы Агнессу просто так – мы обменялись телефонами. И вновь случайно встретились через полгода – когда я читала депрессивные книжки и приставала к своим ближним с философскими вопросами, которые – по опыту знаю – дико раздражают людей, пребывающих в нормальном состоянии духа. Агнесса была всё такой же красноволосой, но линзы успела сменить на зелёные, русалочьи. Зимний город раскрывался перед русалкой Агнессой, как книга. А сама русалка позвала меня в кафе – душистый уютный зальчик, где готовят правильные десерты. Люблю правильные десерты, и ещё люблю лёгких на подъём людей – как же прекрасно они выглядят на мрачном фоне вечно занятых трудоголиков, которые в декабре назначают встречи на февраль. Агнесса запросто могла (и сейчас, я уверена, сможет) отменить важные – с общепринятой точки зрения – дела в пользу незначительных и мелких. Мы заказали кофе, улыбнулись друг дружке, и тут в кафе зашел бодрый мужчина в элегантном пальто – и просиял, завидев Агнессу.
– Вот, кстати, и человек, который тебе поможет, – сказала Агнесса, представляя своего приятеля – психотерапевта Дениса Григорьевича, которого я быстро переименовала в Дориана Грея. Он был избыточно красив, и внешность его явно не соответствовала прожитым годам. Годы мелькали только в серых глазах Дориана – как рыбки в аквариуме. Вопрос о припрятанном портрете возник у меня ещё при первой нашей встрече, которая состоялась благодаря Агнессе – судьба так старалась не провести меня мимо, что назначила случайную встречу в том самом месте, в тот самый день. За каких-то полгода доктор Дориан Грей распутал все узлы, отучил меня от курения и надарил целый ворох бесценных идей. Главным же приобретением, сделанным в его приёмной, стало знакомство с одиноким богатым гурманом, одержимым идеей создания в городе кулинарного телеканала. Павел Николаевич Дворянцев подарил мне новую жизнь и при этом не особо настаивал на том, чтобы я выдернула из книжки исписанные страницы – это я сделала по собственному почину. Вот так из неудачливой писательницы Евгении Ермолаевой я превратилась в популярную телеведущую Геню Гималаеву. П.Н. стал моим боссом и вдохновителем, доктор Дориан Грей – прочным костылём и поддержкой, что же касается Агнессы, то она выполнила свою задачу и скромно удалилась. В последний раз я видела её на фуд-шоу в Москве – махала рукой, но она почему-то не подошла. Исчезла. И я порой думаю: а что, если никакой Агнессы и вовсе не было? Может, это моё отравленное сочинительством воображение соткало её из бортового воздуха?.. А потом чудесное создание преследовало меня, как личный добрый дух?..
Так или иначе, но всякий раз, оказываясь в приёмной Дориана Грея, заставленной венской (естественно!) мебелью, я вспоминаю моего красноволосого ангела.
Меня впустила очередная секретарша Дориана – на сей раз это была мини-блондинка в макси-юбке с разрезом, сделанным как будто бритвой. На прежнюю девицу, служившую здесь ещё в апреле (высокий длинноволосый скелетик, будто бы наспех выложенный спичками) новенькая походила примерно так же, как походят друг на друга героини фильмов «Красотка» и «Ночи Кабирии». У Дориана слабость окружать себя молодыми, едва созревшими девицами, принадлежащими совершенно разным типам красоты. Секретарши доктора, соберись они вдруг в одной комнате, с лёгкостью могли бы составить ядро образцового публичного дома. Общее у них, помимо возраста, лишь одно – краткий срок пребывания на месте службы.
Блондинка, умеренно виляя задом, провела меня к кабинету Дориана и там замерла, прислушиваясь. Не знаю, что доктор делает со своими секретаршами, но они боятся его, как морщин на лице и растяжек на груди одновременно.
– Знаете, – шепнула секретарша, – у нас сегодня пациент без записи… Я хотела позвонить вам, но Денис Григорьевич сказал, что успеет…
Что ж, накладки бывают у всех – даже психоаналитик имеет право по ошибке продать два билета на одно место. Я глянула на часы – с полчаса могу и подождать. Сёмга готовится быстро, а рис варится вообще сам по себе.
– Хотите чаю или кофе? – предложила секретарша, и мне вдруг стало её жаль. Совсем молоденькая – в дочери сгодится. Губы обкусаны, на ручонках, голых до плеч, – гусиная кожа. Молодых девочек мне всегда очень жаль – никто не знает, что с ними станет и каких глупостей они натворят… С облегчением вспоминаю про свои 36 – не приведи бог вернуться в мои же 20…
Секретарша неприкаянно послонялась по приёмной, потом уселась за компьютер и, виновато поглядывая на меня, застучала по клавишам. «Роман пишет», – почему-то решила я. (Если так, девчонку в самом деле жаль.)
Когда я писала свой первый роман, то относилась к этому труду так серьёзно, как будто бы от него зависела судьба как минимум нескольких поколений. Тот Человек присутствовал при рождении моего бумажного первенца (других, небумажных, никто не дождался) и с бережным напором акушерки принимал многостраничное дитя. Увы, младенец оказался не из тех, которыми можно гордиться, а Тот Человек, как я уже рассказывала, где-то обронил интерес и ко мне, и к моему творчеству разом. Недавно я встретила его в «Сириусе», и он глянул мимо. Он меня попросту не узнал!
Надо бы рассказать об этом Дориану.
– Дашка! – очень вовремя крикнул из-за двери прекрасный доктор, и секретарша снялась с места без разбега. А мне вдруг захотелось прочесть то, что скрывалось за щитом ноутбука. Впрочем, я не успела даже встать с места, как дверь снова открылась. Прямо на меня, улыбаясь, шла новая звезда канала «Есть!».
– Здравствуй, Геня! – приветливо сказала Ека и дружески коснулась моего плеча. Легонечко так прикоснулась, отработанным жестом. Не помню, кстати, чтобы мы переходили с ней на «ты». – До свидания, Геня!
Ека удалилась, а Дориан выскочил из кабинета, мечтательно ковыряя зубочисткой в ухе. У прекрасного доктора такая степень уверенности в себе, что он может позволить себе даже самые сомнительные привычки. Никак не привыкну к тому, что он снимает ботинки во время консультаций и с наслаждением шевелит пальцами – во-первых, очень хочется сделать то же самое, во-вторых, это дико отвлекает от беседы. Не исключено, впрочем, что Дориану именно это и нужно. И одно, и другое.
– Прошу прощенья, – неискренне сказал доктор, увлекая меня в кабинет. Там пахло Екиным ванильно-вонючим парфюмом и, немного, едким зелёным мылом, которым, подозреваю, по старинке мыл голову Дориан.
Всё повторилось, как в игрушке-симуляторе, где моя героиня постоянно попадалась на прежнюю удочку: я забыла, как красив Дориан, и смотрела на него, раскрыв рот.
– У вас новая болящая?
– Геня, я не обсуждаю своих пациентов. Единственный болящий, которого я готов с вами обсуждать, – это вы сами.
И пошёл гордой поступью к креслу, и уселся, демонстрируя тонкий профиль. В прямом смысле слова – тонкий психолог.
– А как вообще дела? – снизошёл.
– Спасибо, что спросили! Потому что дела уже совсем не похожи на дела. Знаете, как это бывает, – когда вокруг всё рушится.
Дориан весело хрюкнул. Когда я только начинала к нему ходить, то честно подозревала его в желании озолотиться, а вовсе не в стремлении помочь. На самом деле, два этих намерения в нём гармонично сочетались.
– Я не случайно спросила у вас про ту барышню. Это наша новая сотрудница, и она меня преследует.
– А вдруг ей кажется, что всё происходит в точности наоборот?
Я вскинулась:
– Это она вам сказала?
– Да она вообще меня не интересует, Геня! Меня интересуете вы!
Не получалось у нас сегодня контакта. Даже завалященького взаимопонимания не было! Дориан не желал обсуждать Еку, а я хотела поговорить именно о ней. Но поскольку время уже было оплачено (Дашка забрала деньги непосредственно на входе в святую обитель психоанализа), прощаться я, как практичный человек, не стала. Что ж, существует хороший способ отвлечься от мучительной проблемы – вовремя переключиться на другой нарыв, пусть он даже пребывает в относительно спокойном состоянии.
И я начала рассказывать Дориану про Того Человека. Про то, как я встретила его недавно в магазине, а он меня не узнал.
– Господи, ну а вы-то зачем его узнали? Вы что, его всё еще помните, что ли? – удивился прекрасный доктор.
Дориан Грей помог мне избавиться от призрака моей неудачной любви (если бы она была пирогом, то внутри он оказался бы сырым, а снизу – подгоревшим, с чернявой вонькой корочкой). Агнесса вручила доктору мои жалкие – пусть и живые – останки, а он играючи собрал из них нового, жизнеспособного человека.
В этом самом кабинете я долгие часы говорила о том, чего не решалась признавать. Тот Человек разлюбил меня резко и быстро: сосиски варятся дольше! Ещё минуту назад, кажется, он был одержим мной, как бесом, но вот минута прошла, бес улетел, на месте любви – отвращение. Тот Человек даже сам не понял, что вместо любви у него теперь – отвращение, он по инерции продолжал обнимать меня, но уже не любил. Последние крошки любви ещё, впрочем, сыпались, но их было вопиюще мало, даже колобок не слепишь. Зато отвращения становилось всё больше с каждым днем. Невозможно было поверить, что это Тот самый Человек, который убил несколько лет на то, чтобы я его полюбила…
Отвращение к себе – другое дело, но видеть, как тем же отвращением – возможно, даже крепче заваренным, – пропитывается единственно нужный тебе в этом мире человек… Когда он целует тебя – и ему противно, когда он звонит – и ненавидит тебя за то, что ты существуешь…
Я ковыряю ножом в ране, зато это помогает не думать о Еке.
– Вы тратите уйму времени на все эти описания, – перебил меня тогда Дориан, – я бы сказал проще. Вы ему надоели, вот и всё.
Надоела? Этого просто не может быть!
– Может, – сказал жестокий доктор. – Все друг другу надоедают. Рано или поздно.
Когда я наконец поняла, что имеет в виду Дориан, мне сразу полегчало. И я пошла на поправку с того самого дня. Собственно говоря, я продолжаю к ней идти – потому что окончательно избавиться от тени Того Человека мне пока не удалось, но я уже давно смотрю на это затемнение как на нечто, весьма условно относящееся к моей жизни.
…Сегодня спасением и не пахло.
– Встретимся через месяц, Геня, – сказал Дориан, а я, поднимаясь с кушетки, вдруг заметила на его столе новую фотографию в рамке. Это был снимок девушки в сером платье – вот всё, что я могу сказать. Потому что Дориан вдруг нетипично для себя покраснел и переставил фотографию подальше. Навек прощаясь с Дашкой (через месяц меня встретит здесь новая девушка), я думала: интересно, чья же это фотография? На ком так хорошо сидит серое платье?..
Пока я была у Дориана, день скуксился. Вокруг моей машины лежали сразу несколько собак в гордых позах уличных сфинксов, предлагающих разгадать какую-нибудь загадку. Например… загадку отсутствия в нашем городе достаточного количества урн. Потрясающая чушь лезет в голову после визита к психотерапевту – пусть и бесполезного.
Я вспомнила нашу беседу с Дорианом и подумала: надо было рассказать ему о том, что я не любила мать Того Человека. Эта женщина вполне прилично готовила, но я не могла заставить себя даже попробовать её кушанья. Помню, сидели мы с Тем Человеком за столом у его мамы, и оба ничего не ели: он – потому что вообще никогда при мне не ел, а я – потому что мне не нравилась хозяйка. Вот и Екину стряпню я ни за что не стану пробовать – не хочу глотать продукты, к которым она прикасалась.
Точно так же я не могу читать книги людей, которые мне неприятны. Не могу абстрагироваться от личности «создателя». У меня есть знакомый автор, исключительно способный ко всякого рода пакостям; раньше – до того, как узнать об этом, – я совершенно спокойно и с удовольствием его читала, но после – не смогла проглотить ни буквы.
К счастью, поваров и писателей в нашем мире – как недорезанных собак в корейской кухне… Проектировщики, например, встречаются в моей жизни значительно реже. И даже филологов, не поверите, в ней заметно поубавилось.
Кстати, о филологах, пусть даже бывших! П.Н. уже через несколько часов постучит в мою дверь, а ужином ещё и не пахнет!
Впервые за минувшие сутки мне вдруг захотелось готовить – до судорог!
И я готовила в тот вечер так, как это делала бы мать большого семейства накануне внезапного приезда двадцати гостей. Я вдавливала кунжутные семечки в сочную плоть сёмги, варила морковный суп и дикий рис, взбивала тесто для профитролей, которые распускались потом в духовке, как диковинные жёлтые розы… Я не могла остановиться: напекла булочек с черникой, сделала гуакамоле, который был уже совсем не в тему ужина, и принялась было разделывать слоёный пирог с брынзой, шпинатом и тмином, как в дверь позвонили. Довольная Шарлеманя, слизывая с усов последнюю память о сёмге, побежала навстречу, а у меня руки были в муке по локоть, словно бальные перчатки, так что я на секунду задержалась.
– Не пускаешь? – возмутился гость, с порога вручая мне громадный бумажный пакет. Я заглянула туда, догадываясь о том, что увижу, и опасаясь, что неправильно догадываюсь. Зря боялась, П.Н. своё дело знает туго! В пакете нашлось всё, чего нельзя купить в нашем городе: банка с нежной, как заря, тарамой, три блока качественной фуа-гра, бри, миндальные лепестки, тюбик марципановой массы, очищенные несолёные фисташки, шафран, лавандовая соль, чай от Фушона и – на самом дне – большая порция надежды, которая у меня уже давным-давно закончилась.
Ужин решили сервировать в кухне – так быстрее и уютнее. На канале «Есть!» в это самое время шла программа Давида Колымажского – вечерний хит-парад кулинарных провалов «Фиаско». Сегодня первое место заняла домохозяйка из городка Нижний N, представившая на суд публики картофельное пюре омерзительно-розового цвета и мини-пиццу из баранок.
Профитроли П.Н. уничтожал, как монстров в компьютерной игрушке, – последовательно и страстно, морковный суп смаковал, как долгожданную победу, а сёмгу изучал подробно, как новый договор с перспективным, но хитрым партнёром. На десерте я наконец не выдержала:
– Что будем делать, Павел?
Я имела в виду Еку, себя и канал «Есть!», но П.Н. был настроен лирически, серьёзных разговоров почему-то вести не захотел и всего лишь пробурчал какую-то банальность вроде того, что утро вечера мудренее. И что ночь мудрее обоих.
Глава десятая,
в которой Еке вновь удаётся перехватить микрофон
– Скажите, вы боитесь старости?
Журналистка лезет сразу и в лицо, и в душу – интересно, их этому обучают на факультете медийных наук, или они приобретают такие свойства естественным путём? Ека усмехнулась, задумавшись, и тут же прогнала видение.
В мечтах журналисты обычно были напористыми, но не наглыми, и задавали только те вопросы, которые Ека успела всесторонне обдумать.
– Нет, – улыбнулась бы она, – я не боюсь старости. Моя работа не зависит от возраста – я не стюардесса, и не актриса.
Вымышленная журналистка спрашивала о том, какое у Еки любимое блюдо, кем она хотела стать в детстве, и каковы её планы на будущее. Вопросы журналистам всего мира раздают распечатанными в стомиллионном количестве экземпляров. Но Ека терпеливо отвечала бы даже на самые предсказуемые. Планов – множество, она не станет ими делиться из суеверия. В детстве метила в писательницы. Любимое блюдо – апельсины с корицей.
Журналистка невозможно разочарована апельсинами. Слишком просто это звучит, но Ека непреклонна – апельсины с корицей, точка.
От досады журналистка стреляет в упор:
– Скажите, Ека, вам не скучно быть второстепенной героиней?
Ека задыхается, скребёт по одеялу скрюченными пальцами, насмерть пугая кота, а потом… просыпается. Долго приходит в себя, разглядывая стопу кулинарных книжек на тумбочке. Тут всё, что нужно, – от Огюста Эскофье до Елены Молоховец, от Александра Дюма-отца до «Организации общественного питания». Сверху, обложкой вниз, валяется роман Евгении Ермолаевой «Больное».
На часах ночь-полночь. Кот успокоился и снова спит, свернувшись пушистым рулетом.
Ека отпускает дурной сон, взмывающий под потолок тяжёлым облаком, и думает: скучно ли ей быть второстепенной героиней?
– Я ничем не хуже! – говорит Ека и ребром ладони, будто каратист, сбивает верхнюю в стопке книжку.
Книжка летит на пол и встаёт на мятые странички, как ребёнок – на слабые пока ещё ножки. Или же как старик – на ослабевшие за долгую жизнь ноги.
Получился домик-шалаш для маленьких человечков.
Возмущённый кот покидает нагретое место и скрывается в темноте ночного дома – он не выносит шума, и зрелищам предпочитает хлеб.
Ека думает, что все препятствия, вырастающие на пути, будут падать одно за другим, словно кегли от умело закрученного удара. Она поднимает с пола книжку-шалашик и читает выстраданные Геней строки. Страдание давным-давно испарилось, а строки остались и чем-то напоминают Екины сочинения семилетней давности. Под некоторыми Ека могла бы подписаться, но, разумеется, не будет. Ей гораздо сильнее хочется расписать пожелтевшие странички неприличными словами, но она и этого делать не станет. Книжка Еке не принадлежит. Под портретом молодой Гени с косой (не в руках, а на голове) – дарственная надпись: «Милой Светочке от автора». Книжку Еке дала Иран, отобрав её на время у милой Светочки.
Книгу Ека читает так, будто пьёт горькое лекарство, – сморщившись, через силу: не хочется – но надо. Раздражает буквально всё: от игривой девичьей обложки до слишком белой бумаги, от слов, сплетённых клубками, до щедро рассыпанных знаков препинания. Но больше всего Еку раздражает то, что эта книга вообще существует. Самой Еке не пришлось дождаться своей книги – последнюю щепку в костёр, на котором сгорала надежда «выйти отдельным изданием», подбросила та злая критикесса. И теперь Ека смотрит на книгу своей соперницы, как бездетная тётка – на румяного наследника родной сестры. Так хочется его покалечить, убить, но лучше всего – усыновить… Продвигаясь вглубь романа, расталкивая лишние слова, Ека чувствует, что на самом деле ей эта книга очень нравится. Ей нравится буквально всё – от милой девичьей обложки до безупречно белой бумаги, от неожиданно встретившихся и обретших совместное счастье слов до вполне уместных знаков препинания. А больше всего Еке нравится то, что эта книга вообще существует… но ведь это неправильное, вредное чувство! Поэтому Ека, как подобает стойкому борцу с вредными чувствами, не умиляется, но шипит, как раскалённое масло, и этим в очередной раз спугивает с места кота, осознавшего наконец, что ночка нынче будет адская.
Еке теперь до утра не уснуть. Лишь только она задрёмывает, в сон являются персонажи Гениной книжки и её собственные, родные, позабытые герои. Во сне те и другие так прекрасно ладят друг с другом, что Еке – во сне – хочется рассказать об этом Гене, но она тут же в ужасе просыпается и поспешно вспоминает свой план.
Генина книга должна помочь ей с этим планом – приблизить, так сказать, его успешную реализацию, – но на самом деле она только мешает. Ека вновь швыряет книжку на пол, начисто позабыв о «милой Светочке», которой придётся потом разглаживать странички и подклеивать корешок.
Беда в том, что сходство с ведущей программы «Гениальная Кухня» оказалось ловушкой. Теперь Геня казалась единственно близкой душой в этом мире. Подобного поворота событий даже Ека, с её логикой, предусмотреть не могла, и потому отчаянно уговаривала себя, что читает роман Гени только из патографических побуждений.
Геня Гималаева и её книжка, как естественное продолжение самой Гени, не должны нравиться Еке! В противном случае, размышляла Ека, задуманное потеряет смысл, а пройденный за последние семь лет долгий путь в тысячу миль окончится монолитной стеной, выросшей перед самым носом.
Бессонная ночь продолжалась – роман «Больное», как старый болтун после рюмки, открывал всё новые и новые Генины секреты… Писатели, что с них взять, поголовно болтуны и сплетники.
Геня, надменная аккуратистка, идеал домохозяек, непревзойдённая (пока что) выдумщица простых и верных рецептов, оказалась на деле не уверенной ни в себе, ни в своём будущем женщиной, и на все посулы Вселенной отвечала всякий раз одинаково – «пас». Геня была трусливой, как целое стадо овец, и, если верить книге, обстоятельно сомневалась в каждом своём чувстве и каждой мысли, чем полностью обесценивала и то, и другое.
Ещё раньше, отсматривая записи Гениных программ, Ека отмечала, как волнуется ведущая, показывая зрителям готовое блюдо. Будет достаточно одного зёрнышка критики, кардамоновой крупинкой выскользнувшего из твёрдого бутона, чтобы прорастить в ней росток неуверенности. А неуверенность способна на многое – кому, как не Еке, это знать? Пусть она сменила имя, пусть навсегда бросила латынь, но от неуверенности, истерзавшей тысячи талантов в мелкие бесполезные клочья, так просто не избавишься… Гималаеву давно никто не критиковал – если не считать блеянья неведомых сетевых зверушек на форуме канала «Есть!» – Ека пыталась разжечь здесь неприязнь к Гене, но огонёк тут же заливали тонной словесной воды. Ну и потом, слишком уж мелкотравчатой была эта идея, здесь требовалось орудие помощнее! И чтобы зрителей собралось не полсотни, а минимум всё взрослое население нашего города и ближайших окрестностей, прильнувшее с блокнотами к экранам в урочный час.
Заснуть Еке удалось лишь под самое утро – во сне она прижимала к себе Генину книжку крепко, как любимую игрушку. Конечно, она проспала, и утром собиралась впопыхах, и успокоилась только доро́гой, сыграв несколько раз в игру «обгони арию». Замечательная игра! Ека изобрела её в Тоскане, когда училась в кулинарной школе. Надо успеть доехать до намеченной цели быстрее, чем прозвучат последние звуки любимой арии – сегодня это была баркарола Риккардо из оперы «Бал-маскарад».
Место на парковке оказалось занято Гениной машинкой, но Риккардо всё еще пел во весь голос, когда в тесном ряду блестящих автомобилей нашлась свободная, как раз подходящая джипу прореха.
Каких-то семь лет назад Ека не умела ни готовить, ни водить автомобиль, но героям – пусть даже второстепенным! – положено меняться быстрее, чем реальным людям.
Благосклонно кивнув охранникам, героиня прошла к лифту и на самом входе в кабину опрыскала запястья духами с мучительным запахом ванили.
Геня не выносит парфюмерных ароматов, особенно – сладких, ванильных. Геня не любит огромные машины. Ека знала о Гене столько, что хватило бы на диссертацию. Лакун почти не осталось – за единственным исключением. Это исключение называлось «личная жизнь», и, судя по всему, никакой личной жизни у Гени Гималаевой – как, впрочем, и у Еки – не было.
Часть вторая
Что бог ни делает, всё к лучшему, – с пафосом провозгласил патер, заслышав о кухне. – Порядочный человек и на кухне может сделать карьеру.
Ярослав ГашекГлава одиннадцатая,
из которой станут известны кое-какие детали личной жизни деловых людей xxi века, озвученные голосом и вдохновлённые судьбой Павла Николаевича Дворянцева, владельца телевизионного канала «Есть!»
Павлу Николаевичу Дворянцеву – или П.Н., как его запросто «сокращали» в трудовом коллективе (а вот сам П.Н. даже в кризисную пору не сокращал трудовой коллектив), – решительно не хватало времени на личную жизнь. Сразу после прихода зрелости, вторым звонком, директор канала «Есть!» получил малоприятную новость – оказывается, сутки в связи с приходом зрелости будут теперь сокращены на несколько часов. Кто и зачем отгрызает от суток ценное время, П.Н. объяснить не удосужились: его лишь поставили перед фактом, как мальчонку-школяра перед доской с математическими примерами.
Берта Петровна – мама П.Н. (некогда пышная красавица, а ныне бодрая и лишь слегка подсохшая, как финский хлебец, старушка) – часто говорила Павлику о том, что с годами у него будет всё меньше и меньше времени.
– Я же вот, сыночка, тоже не могу привыкнуть, что мне семьдесят шесть, – вздыхала Берта Петровна, глядя, как сыночка перед зеркалом пристраивает на макушке «локон страсти». Локон этот должен был на манер моста пересекать простор водной глади, то есть, простите, конечно же, никакой не глади, а умной и лишь эпизодически облысевшей головы П.Н. К счастью, он был человеком высоким во всех отношениях, и потому добрая половина знакомых не могла обозреть его лысину с локоном по причине малого роста, а другой – менее доброй – половине приходилось прощать это знание.
– Я же вот, сыночка, – продолжала Берта Петровна, – до сих пор чувствую себя от силы на тридцать восемь лет, а выгляжу – все говорят! – не больше чем на пятьдесят с копеечкой.
П.Н. отвлёкся от зеркала и глянул на маму с обожанием – как он делал всегда, даже если она начинала нести совсем уже дикую чушь. В холодный пот директора канала «Есть!» могли вогнать лишь две мысли: что его канал перестанет приносить деньги и что Берта Петровна однажды умрёт. П.Н. знал, что второе событие он предотвратить не в силах, и мысль эта, обладавшая склонностью к праздным визитам, периодически вышибала у него почву из-под ног, превращая окружающий, вполне удобный для проживания мир в адский зал ожидания.
Времени на личную жизнь П.Н. перестало хватать сравнительно недавно – ещё лет пятнадцать назад у него бывали и долгоиграющие романы, и случайные связи, и даже нечто похожее на большую любовь. Во всяком случае, отсюда, из настоящего времени, П.Н. видел те свои страстные метания именно в таком ключе. А вот женатым человеком он себя так и не увидел, поскольку был вскормлен Бертой Петровной под непрерывную песнь о дамском вероломстве, которую мамочка исполняла для Павлика без выходных и перерывов. Возможно, если бы у Берты Петровны родился не мальчик Павлик, а девочка Полина (о которой она, кстати, тайно грезила), то песнь, сопровождавшая счастливые годы детства, имела бы иное сюжетное наполнение, но тут уж, как говорится, кому что дали. Гулять с девочками подросшему Павлику, скрипя зубами и скрепя сердце, ещё разрешали, а вот о женитьбе даже и не задумывались. И сам он об этом не задумывался – Берта Петровна была хоть и беспомощная хозяйка, зато по-человечески превосходно понимала милого сыночку и никогда не посмела бы устроить ему сеанс «пилинга», которым так грешат иные жёны.
Маман Берты Петровны была затейливой кулинаркой одесской закваски, да к тому же порядочной язвой: рецепты для поражённых в самый желудок гостей записывала в деталях, но всегда забывала упомянуть важный компонент, без которого блюдо не складывалось в дурманящую композицию… зато непременно писала последней строкой: «Желаю успехов!». Бедные хозяйки, разложив перед собой рецепт Павлушиной (а для неё он был всегда и только Павлуша) бабушки, пытались воссоздать шедевр, но не получали даже бледной репродукции. Бабушка считала, что её рецепты могут перейти исключительно по наследству, и в конце концов, пусть несколько извилистым способом, так оно и случилось.
Порой бабушка вслух причитала, что бесценные рецепты умрут вместе с ней – потому что Берта, как ни старалась маман придать ей хозяйственную сноровку, выросла неумехой, каких не пускают в кухню. Да и обожаемый Павлуша не оправдывал поначалу доверия: в кухне-то хорошей он разбирался на отлично, но сам даже пошлой сосиски сварить не умел. Что касается Берты Петровны, то она учила студентов играть на арфе, и по любому поводу демонстрировала свои пальцы – хрупкие орудия труда, использовать которые для чистки картофеля или разделки котлет есть варварство. И вообще, на арабском скакуне воду не возят, повторяла Берта вслед за своей любимой писательницей, чьи книжки сопровождали её на протяжении всей жизни. «Воду-то не возят, – ворчала бабушка, – зато жрёт этот арабский скакун за троих, и даже не думает хотя бы посуду за собою обмыть!» Берта не обижалась на маман: чего ещё ждать от некультурной старухи, выросшей на Молдаванке?
Павлуша честно старался помогать на кухне – да вот беда, был он к поварскому делу абсолютно не приспособлен. Бабуся сердилась на него вслух, а потом махнула рукой: покамест жива, прокормит и его, и дочь-арфистку. Когда же она стала уже совсем старенькой – и страна, и любимый её внучок вдруг разом взбрыкнули. Страна корчилась в перестроечных муках, а Павлуша бросил аспирантуру и ушёл работать на кабельное телевидение. Он был из породы долгожителей – бабушка дождалась того дня, когда в эфир вышли первые выпуски программы «Гениальная Кухня», познакомилась с Геней Гималаевой и передала ей из тёплых, как говорится, рук все свои лучшие рецепты – включая тот фирменный форшмак, на котором сломалось не одно поколение домохозяек.
Геня очаровала и бабушку П.Н., и даже Берту Петровну. К тому времени, как шеф спровадил в прошлое и Павлушу, и Павлика, все женщины его семьи убедились в том, что кормилец никогда не женится, а стало быть, имеет право на кое-какие симпатии, не угрожающие нарушению статуса-кво, и просто статуса. А ведь Геня на самом деле нравилась П.Н., но времени не хватало, видите ли, в чём дело, не хватало времени на личную жизнь!
К тому же Геня была значительно моложе П.Н. Она родилась в 1972 году, когда Павлуша-Павлик самостоятельно фотографировался «на открытку» в ателье и совершал другие поступки зрелого отрока. Да что говорить, П.Н. отлично помнил 1972 год, в котором, помимо прочего, прошла премьера «Крёстного отца», Куба вступила в СЭВ, Фассбиндер снял «Горькие слёзы Петры фон Кант», «АББА» записала «People Need Love», поселок Нижневартовский стал городом Нижневартовском, а Мюнхенская олимпиада взорвалась терактом. Зимой 1972 года женщины носили пышные меховые шапки, а летом – приталенные расклешённые брючки, как у героинь провальной фильмы «Последние дни Помпеи». В 1972 году скончались сразу два знаменитых авиаконструктора – Туполев и Сикорский – и родились сразу два будущих кумира нового тысячелетия – Зидан и Эминем, но самое главное, в 1972 году на свет появилась Евгения Александровна Ермолаева, Геня Гималаева, познакомившись с которой, П.Н. наконец понял, чем хочет заниматься.
Именно Геня вдохнула жизнь в его проекты, и на протяжении долгих лет П.Н. отказывался верить в то, что где-то на свете существуют кулинарные таланты, способные встать с ней вровень. Даже бодрый весельчак Джейми Оливер в сравнении с Геней казался вторичным и невкусным, как разогретая свинина. Прочие ведущие канала «Есть!» составляли добротный однородный фон, на котором ярко сияла звезда Гени Гималаевой, и П.Н. искренне считал, что обстоятельство это устраивает не только его, но и всех прочих людей, имеющих отношение к кулинарии и телевидению, – коллег, рекламодателей, зрителей… Лишь полгода назад, смакуя вместе с мамой закусочные пирожные из чёрного хлеба и копчёного омуля, привезённого с Индигирки, П.Н. впервые подумал о том, что звезда эта начала непременный для всякого светила путь к закату.
П.Н. не слишком-то доверял рейтингам – во всяком случае, в отечественном исполнении, – он куда больше полагался на собственные вкус, интуицию и чутьё. Тем более – вы что, не знаете, как у нас составляются эти самые рейтинги? Я вас умоляю, простонала бы здесь Берта Петровна, не будьте настолько наивными! Впрочем, рейтинги Гениных шоу (на тот момент их было пять, не считая разовых выходов и обкатов новых проектов, которые Геня передавала другим ведущим, как жокей – объезженную лошадь) были высоки и незыблемы. Рекламодатель тащил в программы Гималаевой свою денежку, а от поклонников ей иногда приходилось отбиваться половником. Геня оставалась совершенством, её рецепты не становились хуже, но П.Н., столуясь у неё вначале ежедневно, потом – дважды в неделю, а потом – и того реже, всё-таки пресытился однажды гениальной кухней. Сначала неосознанно, затем уже в полном осознании происходящего, П.Н. алкал чего-то свежего и нового – выверенная, в меру смелая, в меру традиционная кухня Гени притомила его, как читателя утомляют новые книги некогда любимого автора.
Разумеется, П.Н. даже не задумывался о том, чтобы сместить Геню с трона главной ведущей канала «Есть!» – этого ему не простили бы ни зрители, ни рекламщики, ни Берта Петровна. Этого он и сам бы себе не простил!
…Тот омуль с Индигирки был и вправду восхитительным! П.Н. припал к нему, как младенец к материнским персям, и не без внутренней борьбы согласился поделиться им с Бертой Петровной. Она, как истинная одесситка, знала толк в рыбе – на гарнир к омулю выдала кучу потрясённых слов и ушла спать только после того, как исчезло последнее солёное пирожное. П.Н. ещё долго сидел над пустой тарелкой, наблюдая телевизионную улыбку Гени Гималаевой. Ему категорически не хватало времени не только на личную жизнь, но даже на то, чтобы задуматься об этом, – вот почему в тот день, полгода назад, доев копчёного омуля, он позвонил по телефону и заказал билет на ближайший рейс до Вашингтона. Сказали – можно лететь завтра.
Вашингтон П.Н. выбрал потому, что поблизости в эту пору проходил хороший гастрономический фестиваль, и ещё потому, что П.Н. хотелось побыть одному и понять: что же его на самом деле ест? (С аппетитом, как Исав – чечевичную похлёбку.) На нашей планете, поверьте седому опыту П.Н., это проще всего сделать в Америке, где так легко затеряться и так несложно вкусно поесть. П.Н. терпеть не мог, когда всякие недотёпы начинали ругать американскую или английскую кухню – да что б вы понимали! Плохо поесть в Америке – это надо, знаете ли, специально ставить перед собой такую цель или питаться исключительно в «Макдональдсах» и «Тако Белл». Да и Великобритания в последние годы в гастрономическом смысле здорово подросла – так что пересадку в Лондоне П.Н. воспринял как явление божьего промысла над его грешной головой. Был у него в Хитроу любимый ресторанчик, в котором готовили острые куриные крылышки именно так, как любил П.Н.
Из самолёта директор телеканала «Есть!» вышел бледным, как всегда: он ненавидел перелёты и не находил утешения в бортовом питании. Перемороженную или перегретую пищу П.Н. разглядывал с таким лицом, с каким потомственный винодел из Бордо глядит на подкрашенное палёное пойло. И это дают в бизнес-классе! Страшно подумать, чем кормят пассажиров за шторкой…
П.Н. путешествовал без багажа, с крошечной сумкой – больше, чем самолётную еду, он не любил засилье вещей. Единственное, что он покупал за границей, были гастрономические редкости, которые прекрасно помещались в его хитрой сумке – она с лёгкостью превращалась в удобный переносной контейнер. Посадочный талон до Вашингтона выдали ещё в родном аэропорту. Бледный директор прошествовал мимо транзитных стоек и исчез в кипящем шуме Хитроу.
Впрочем, мы-то с вами не потеряли его из виду – высокий мужчина в синем джемпере уже сидит за столиком любимого ресторана, спиной к лётному полю. П.Н. не вдохновляет созерцание громадных металлических штук, готовых к взлёту. Никакого сравнения с куриными крылышками, порцию которых он уже заказал. И ещё минеральную воду, пожалуйста! Среднегазированную.
Минуты ожидания заказа – приятное и трепетное время, когда гурман готовится к встрече с прекрасным, источая желудочные соки и напрягая воображение. П.Н. скользил специально выработанным невидящим взором по окружающим и думал: до встречи с Геней он знал по-английски лишь несколько слов, и одно из них было chiken. В первой своей поездке в Англию тогда ещё неискушённый едок Павлуша не мог заказать себе в ресторанах ничего, кроме этого самого «чикена» – других слов он попросту не понимал. И старался ходить в рестораны с «картинками», где в меню гуманно вклеены фотографии. А вот Геня прилично знала английский, и способный к языкам П.Н. в ходе совместных трапез выучил в подробностях и среднестатистическое, и вполне изощрённое меню. Теперь, усмехался П.Н., он мог бы разобрать британского цыплёнка «на органы» – ножки, крылышки, шейка…
– У вас свободно?
Специально выработанный невидящий взгляд П.Н. испуганно затормозил на молодой блондинке с прехорошенькой улыбкой. П.Н., как все россияне за границей, оскорблялся, когда его гражданство так легко определяли, – и что это за манера проситься за чужой столик? Свободных мест, впрочем, действительно не было. И что, если блондинка вдруг узнала П.Н.?.. В конце концов, он известный на весь город человек!
– Да мы летели одним рейсом! – засмеялась блондинка, и разочарованный П.Н. придвинул ей стул.
– Катя, – между делом сообщила девушка. – Не знаете, умеют они тут готовить крылышки? Крылышки в аэропорту – логично… Извините, я не расслышала, как вас зовут.
– Павел. Николаевич! – по частям представился П.Н., мучительно пытаясь вспомнить, когда с ним в последний раз по собственному почину знакомились женщины. Тем временем Катя открыла пудреницу с трогательной проплешиной и быстро мазнула пуховкой по носику.
…Когда принесли крылышки – ароматные, в кудрях жаркого пара, – П.Н. уже успел позабыть о своём заказе. Он искоса, стараясь не смущать новую знакомую, разглядывал её лицо: короткий кошачий нос, губы розовые, как сёмга. П.Н. краснел от собственных мыслей и отводил взгляд. За соседним столиком медленно пережёвывал пищу вялый мужчина с признаками вырождения на лице. Кадык мужчины перекатывался вверх-вниз, будто застрявший кусок в горле, – «адамово яблоко», вспомнил П.Н. Адам проглотил кусок запретного фрукта, сорванного Евой, и тот застрял у него в горле, превратившись в перманентный признак.
Гостья милостиво согласилась отведать крылышко, изящно похрустела косточками и вдруг махом, одним движением сняла с них мясо.
– Очень неплохо, – похвалила она, и, конечно, получила ещё несколько кусочков. Официантка прибежала на первый же взмах крыла и торопливо закивала, принимая заказ на вторую порцию.
П.Н. любил смотреть, как люди едят с аппетитом, – в общем-то, все последние годы своей жизни он потратил на таких людей (хотя, если посмотреть с другой колокольни, люди с аппетитом ещё и служили источником благосостояния самого П.Н., наполняя его программы рекламой). Подобно тому как клирики сильнее всего ненавидят не представителей других конфессий, а матёрых атеистов и убеждённых агностиков, П.Н. легко прощал телезрителям недостаточно изысканный вкус, но зато на дух не переносил апостолов голодания, мосластых супермоделей и коварных диетологов.
– Я делаю крылышки в апельсиновом маринаде, – сказала Катя и изящно промокнула губы салфеткой. П.Н звякнул вилкой, официантка восприняла это как упрёк и тут же подскочила к столику. Официанты всех стран мира сразу же распознают в П.Н. Того Самого Гостя, ради которого и открываются на нашей грешной планете рестораны, закусочные и кафе. Но на сей раз официантка ошиблась – приборный звяк не имел к ней никакого отношения. П.Н. внимательно слушал Катю.
– …Разогреваю апельсиновый джем с корочками, добавляю соевый соус, чеснок, оливковое масло, и мариную крылышки часика три, а потом жарю – вуаля!
– Соус? – деловито переспросил П.Н., и Катя, как на экзамене, ответила:
– Томатный сок пополам с аджикой. Или запечённый чеснок с укропом и сливками. А вообще, эти крылья и без соуса хороши. Я иногда их по-другому делаю – в чесночно-имбирном маринаде. Или в кляре из белков с крахмалом. Ум отъешь! Хотя лично мне никогда не нравилось это выражение.
За окном взлетел очередной лайнер.
– Вы знали, кто я такой, – упрекнул Катю П.Н., и она вспыхнула, как газовая горелка. Розовые щёки и пышные, белые с едва заметной желтизной – как правильный бешамель – волосы. Ренуар! П.Н. любовался этой женщиной, как красивым блюдом. Ему хотелось её попробовать! А он-то думал, все эти штуки – про женщин – у него в прошлом, потому что на личную жизнь не хватает времени… – Ещё до того, как подойти ко мне, вы знали, кто я такой. Куда вы летите из Лондона?
– В Вашингтон, – потупилась Катя. – На фестиваль.
«Это не может быть подстроено специально, – убеждал себя П.Н., расплачиваясь с официанткой. – Это ж как надо было всё рассчитать! И зачем ей это понадобилось? На работу хочет?»
Как все успешные люди, П.Н. подозревал судьбу и чёрта в каждодневных злонамеренных кознях. Но сейчас ему не хотелось убеждаться в собственной правоте – да ну её в корягу.
– Однажды, – развлекательным тоном произнёс директор телеканала «Есть!», – я долго не мог найти мотель в Мэне, пока не съехал к городку Джоппатаун. Я не люблю заранее заказывать гостиницы. Мне интереснее ночевать в неожиданных местах…
…Катя слушала дорожные байки П.Н., улыбаясь во весь рот. К счастью, одновременно с этим она слушала ещё и приглашения на посадку – иначе наши герои пропустили бы свой самолёт.
Этим же рейсом в Вашингтон улетал мэр нашего города Андрей Алексеевич Рябчиков – он сидел в бизнес-классе, закинув руки за голову. Правый рукав мэрского джемпера был сильно порван – Катя предположила, что Рябчиков специально надевает этот джемпер в путешествие. Чтобы горожане знали – никакой он не стяжатель.
П.Н. уселся позади дырявого мэра, пошушукался со стюардессой – и вскоре Катя уже сидела с ним рядом, блаженно развалившись в широком удобном кресле. Она, как никто другой, отлично чувствовала, что значит набирать высоту.
Глава двенадцатая,
целиком отданная девушке с голосом, как земляничное мороженое
Обычные девушки завидуют чужой красоте, деньгам и успехам, но Ира Николаева была девушкой необычной. Больничный запах камфары и жгучий аромат мяты нравились ей больше цветочных благоуханий. Розовому цвету она предпочитала грязный оттенок хаки, к нарядам была равнодушна, косметикой не пользовалась и в зеркало на себя смотрела без всякого энтузиазма. Главным козырем Иры Николаевой был голос – нежный, сочный и прохладный, как земляничное мороженое. С таким голосом прямая дорога в рекламу или секс по телефону, но Ира Николаева, опасаясь всего предсказуемого, нашла себя, как любят выражаться биографы-подёнщики, на политическом поприще.
В прежние годы заманить девушку (или юношу) на это самое поприще было практически невозможно – молодых влекли иные идеалы: одежда из коммерческих магазинов, счета в швейцарских банках и сникерсы. Но вот свершился полный разворот – и одетая в суровые манатки молодёжь гурьбой поспешила на баррикады. Для того, чтобы в обществе созрели готовые к политической борьбе граждане, требуется длительное время варки в буржуазном бульоне. Неслучайно именно бывших советских людей так раздражают восторженные европейские коммунисты, а европейских левых – зажравшиеся богачи, кормящие кошек икрой.
Ира Николаева ухватила самый хвостик советского строя – этот зверь сбежал через пять лет после того, как она появилась на свет. Родители Иры были, по её мнению, оголтелыми мещанами: папа, одержимый новыми машинами, как бесами, и мама, с утра до вечера пестовавшая своё стареющее (как полагала Ира) и уж точно что бренное тело в салонах красоты и других соляриях. Злоупотребление гостеприимством соляриев делало маму точной копией копчёной курицы из магазина «Сириус».
Пожрать, поспать, похвалиться перед соседями, посмотреть телик, снова пожрать, поспать, пусть всегда будет солнце, так замыкается круг… Ира презирала своих предков, и они в целом платили ей тем же – во всяком случае, понять дочку, начисто лишённую интереса к материально-потребительскому миру, они способны не были. Дочь цвета хаки оставалась равнодушна к шопингу и пилингу, да и водить прекрасные авто угрюмо отказывалась. Ногти у Иры были сгрызены дотуда, докуда их можно сгрызть в принципе. «Я так мечтала о девочке, – жаловалась своему косметологу Ирина мама, – а сейчас поняла, что лучше бы у нас родился мальчик».
Ира больше всего на свете боялась стать похожей на родителей и посвятить бесценные дни своей жизни болтовне, накопительству и жратве. Нет, только не жратве! Мать с отцом, наголодавшись в студенчестве, ходили за продуктами, как в церковь, – почтительно, с волнением шагали среди полок, заставленных деликатесами, сперва брали робко и аккуратно, а затем, на глазах дурея, сметали в корзину пакеты, коробки и мешки. Бо́льшая часть купленного была не нужна родителям, обращаться с продуктами они не умели, и покупали бесконечную еду с жадным остервенением лишь для того, чтобы уже через день без сожалений отправить в мусорное ведро папайю, омара и сыр рокфор. Ира думала о голодающих в Африке детках, о вечно озабоченных едой азиатских бедняках, и презирала родителей ещё сильнее, и назло им ела лишь то, что покупала и готовила сама. Самые простые рецепты, недорогие и свежие продукты отечественного производства. Никаких отходов, ничего выброшенного, испорченного, лишнего!
– Чем особенно хорош этот рецепт, – тараторила бойкая брюнетка из любимой маминой телепрограммы, – так это тем, что он позволит вам использовать остатки продуктов, завалявшиеся в шкафчиках и занимающие столько места в холодильнике.
– Иринка, как раз для тебя! Записывай! – хихикала мать, и дочь, чтобы не вступать, как в навозное пятно, в глупую бессмысленную ссору, хлопала входной дверью. Однажды, с десятком таких же хмурых молодых людей, Ира Николаева отправилась пикетировать телевизионный канал «Есть!».
Пикетным идеологом выступил студенческий знакомый Иры, безнадёжный в плане дамского внимания юноша с географической фамилией Пекин. Ударение на первый слог. Этот Пе́кин ещё в несмышлённом детстве начал вести борьбу с миром не на жизнь, а на смерть. Смерть, впрочем, приходить за Пекиным не спешила, и он вынужден был изобретать всё новые и новые способы поставить на место окружающий мир.
Ира и Пекин поступили на один и тот же факультет ракетно-космической техники с интервалом в два года, и поскольку девчонок на такой экзотической специальности училось крайне мало, Пекин сразу же обратил внимание на перспективную, как ему показалось, новенькую. Подозрения в личной симпатии Пекин бы с возмущением отверг: даже мысль о том, что они с Ирой могут перейти к другому типу отношений, вгоняла факультетского бунтаря в гнев и краску. Эти нынешние бунтари-революционеры часто бывают стеснительны во всём, что касается интимных сторон жизни, – они даже собственные половые органы готовы не замечать, что уж говорить о чужих?.. А вот современные буржуа, напротив, так много говорят о сексе, что времени для него у них попросту не остаётся физически…
…Но вернёмся к нашим пикетчикам, которые – слышите? – бодро и дробно шагают по обледеневшему мартовскому тротуару. Пекин, сознательно культивировавший сходство с юным Сталиным (разве что полноват был не в пример отцу народов), смотрел только вперёд, а его куцая паства изо всех сил старалась не замечать ехидных взглядов прохожих.
– Ишь какие! – восхитилась продавщица из овощной палатки. Разглядывая пикетчиков, она уронила яркое зелёное яблоко, предназначенное для вершины фруктовой пирамиды. – И за чё боремся?
Пекин сглотнул злую молодую слюну и, не снижая шага, демонстративно качнул в воздухе плакатом: «Хватит обжираться за чужой счет!» У Иры был плакат со словами: «Пусть Гималаева научится сушить сухари и варить суп из топора!» Маму, наверное, хватит кондратий, когда она увидит в вечерних новостях свою дочь. Ира очень на это надеялась – в общем, только ради этого самого кондратия она и согласилась участвовать в пикете.
Телеканал «Есть!» располагался в неприметно-сером офисном здании, каких в нашем городе значительно больше, чем разноцветных и приметных. Унылый такой домище с облезлым крылечком и тесно заставленной машинами парковкой. На крыльце, скучая, курил охранник в камуфляже – непонятно, от кого он пытался укрыться при помощи своего пятнистого костюма, ведь ближайшие деревья и кусты («зелёнка», как говорят военные) произрастали в нескольких километрах. Пикетчики протиснулись между машин, стараясь не выпачкаться о жирную весеннюю грязь, сталактитами свисавшую даже с самых новых и дорогих авто, и выстроились у крыльца, взметнув плакаты в воздух. Охраннику эта делегация напомнила популярный в детских дошкольных учреждениях художественный номер – литмонтаж, когда самые прилежные и легкоуправляемые малыши выстраиваются в линию и по очереди читают строки растянутого на всех стихотворения. Правда, эти, с плакатами, были уже совсем не малыши: во взгляде лидера, довольно полного, взъерошенного юноши, охранник прочёл личную неприязнь к нему, охраннику, подарившему два года жизни любимой Родине – в обмен на «прошку» и недосып. В трудную минуту охранник всегда вспоминал про армию, и это настраивало его на нужный лад. Пока он доводил себя до нужной кондиции, пикетчики начали нескладно и заунывно гундосить – чаша терпения народа переполнена, телеканал обжирания для богатых следует решительно закрыть. И больше не открывать.
– Они тратят наши деньги! – пищала маленькая девочка в круглых очках, а Пекин ломким баритоном – и скороговоркой, как дьякон – озвучивал программный текст. Люди, которые делают культ из еды, так называемые гурманы – позор России! Старики не могут купить себе даже буханку хлеба, а нувориши обжираются авокадами и сыром за тысячу рублей! На днях Геня Гималаева, звезда канала «Есть!», призывала зрителей не экономить на покупке оливкового масла и брать только первый отжим! И это происходит в наше время, когда многие люди пухнут от голода и с трудом сводят концы с концами!
Охранник скептически оглядел фактурную фигуру Пекина и пухленькие щёчки девушки в очках… Что говорить, почти все участники пикета могли похвастаться тем или другим участком тела, подходящим под категорию «выдающийся». Разве что Ира Николаева была худой, как палочка из китайского ресторана, – и чисто теоретически сумела бы спрятаться за фанерной ногой плаката.
– Время выбрали неудачно, – сквозь зубы прошипел Пекин, убеждаясь, что других зрителей, кроме охранника, у пикета по-прежнему нет. И что с телевидения так никто и не приехал, а ведь по телефону, гады, обещали, что всё снимут и покажут! Пикетчики вяло выкрикивали лозунги и сами теряли к себе интерес.
Местные, с канала «Есть!», пробежали мимо горемык с плакатами трижды. Длинный дядька в кудрях, девушка восточного вида и сразу за ней – мужчина с маленьким, как будто детским портфелем. При виде мужчины с портфелем Пекин пришел в демоническое возбуждение и попытался ухватить его за рукав замшевой куртки – но тут в дело включился охранник, автоматически выставив вперёд локоть. Локоть подрубил Пекина, как топор – сосну, и юноша упал плашмя в лужу. Мужчина же преспокойственно отряхнул рукав, отстранил портфельчиком охранника и вступил с лежащим Пекиным в оживлённую дискуссию.
– Мы несём людям радость, – терпеливо объяснял он, пока Пекин вставал, неловко опираясь на древко плаката. – А вы что несёте? Только эти свои глупые плакатики вы несёте! Глупые плакатики с глупыми словами!
– А вы воруете народные деньги! – отбил Пекин. – Вы, Павел Николаевич Дворянцев, проедаете будущее нашей молодежи!
– Да! – звонко выкрикнула маленькая девушка и пальцем поправила съехавшие на нос очки.
Павел Николаевич (Ира и не подозревала, что он выглядит так молодо) перевёл взгляд с Пекина на девушку и обратно. (Остальных не удостоил и этим.)
– Народные деньги и без нас давно украдены, мой милый, – сказал директор канала «Есть!» на прощанье, и охранник облегчённо вздохнул, пропуская его в дверь. Впрочем, Павел Николаевич ещё раз высунулся оттуда и торжествующе добавил: – А на пикет ваш никто не приехал! И не приедет!
Ира была уверена, что он ещё и язык бы Пекину показал, если бы его что-то не отвлекло. Инцидент исчерпан – расстроенный Пекин ощупывал зашибленное бедро, девушка в очках повернула плакат лицом к себе, а Ира вдруг явственно увидела, как их компания выглядит со стороны. У неё был этот дар – наблюдать себя на расстоянии, и почти всегда это было кошмарное зрелище. Ей стало так стыдно, будто бы лично она затеяла этот глупый пикет! Объясняться с товарищами Ира не стала, а по-детски бросилась прочь. Наверняка, её глупый побег наблюдали с верхних этажей все сотрудники кулинарного канала, но Ире было всё равно – пусть даже над ней хохочет сама Геня Гималаева! Главное было – убежать отсюда: хоть куда, в любом направлении… Она чуть не сбила с ног незнакомую девушку в зелёном пальто. Если бы Ира смотрела старое кино, она сразу поняла бы, на кого хочет походить эта девушка вместе со своим пальто. На юную Катрин Денёв из «Шербурских зонтиков».
– Всё в порядке, – вежливо сказала «Катрин», когда Ира, на взводе и навзрыд, принялась перед ней извиняться. – Я видела вас на крыльце. Скажите, вы не любите весь канал «Есть!», или вам несимпатичен какой-то конкретный ведущий?
Вот так Ира познакомилась с Катей Парусовой. Катя согрела заледеневшее сердце Иры Николаевой, научила её правильно сосуществовать с родителями и даже подарила первую в жизни юбку. Родители Иры полюбили Катю как ещё одну свою дочь, и в день, когда Ира бросила свой ракетный факультет и устроилась на телеканал «Есть!», не ругались, а ликовали. Вначале Ира Николаева работала ассистентом Пушкина, потом – стала личной помощницей Гени Гималаевой, её незаменимой, бесценной Иран. И хотя с того давнего мартовского пикета прошло больше пяти лет, Ира всё никак не решалась спросить у Еки: специально ли та ждала её за углом в тот день, или же удачно распорядилась полученными от судьбы картами?
В чём Иран не сомневалась, так это в том, что, задумай Катя провести пикет канала «Есть!», у неё это получилось бы намного убедительнее, чем у злосчастного Пекина. «Не надо торопиться», – говорила Катя, и по-ленински веско добавляла: «Мы пойдём другим путем».
Глава тринадцатая,
посвящённая власти имён, космосу, а также соперницам и отдельно взятой судьбе отдельно взятого человека
12 апреля 1961 года каждый житель планеты Земля занимался своим делом: летел в космос, впервые целовался, строил козни, умирал, рождался, врал родителям, покупал джинсы, брал взаймы, чинил машину, – и никого из жителей этой планеты не волновала судьба двадцатисемилетней Марины Дмитриевны Карачаевой, доставленной в районный роддом нашего города в карете «скорой помощи». Скорый врач, ещё не старый, конопатый и рыже-розовый, как гриб-волнушка, всю дорогу лечил роженицу скабрёзными анекдотами, так что в приёмный покой Марина Дмитриевна прибыла в абсолютно раздраенном – как физически, так и душевно – состоянии. Дежурная акушерка тоже не стала изображать из себя ангела, а напустилась на бедную Марину Дмитриевну с адскими, раз уж у нас тут пошли такие аналогии, воплями. Причиной воплей стало, во-первых, то, что Марина Дмитриевна не взяла с собой карту беременной, а во-вторых, то, что акушерке не терпелось сдать дежурство и отметить полёт Гагарина, который сегодня праздновал весь мир.
Съёжившись, как под обстрелом, придерживая тугой и жёсткий, словно бы в любую минуту готовый выстрелить живот, бедная Марина Дмитриевна понимала, что акушерке надо дать прокричаться, и что лишь после этого можно будет закричать ей самой.
Акушерка действительно прокричалась – последними её словами стали спокойное и даже философское: «Рожають, сами не знають, для чего и от кого». Увидев долгожданные слёзы на ресницах роженицы, акушерка сдулась, как проколотая шина, и вздохнула:
– Ну ладно, что с тобой сделаешь… Сейчас доктор придёть. Эй, погоди, ты что, уже рожаешь? Так что сразу не сказала, с картой какой-то приставала! Василь Святославыч! Василь Святославыч! Тут женщина уже это самое!.. Уже головка видна!
Роженица тянула единственную ноту «ля-я-я-я-я», пропевая ее, впрочем, как «у-у-у-у-у-у». Василь Святославыч, на ходу дожёвывая пирожок с зелёным луком и яйцом, мчался в приёмный покой, где уже почти явился на свет первый и единственный ребёнок Марины Дмитриевны Карачаевой.
Он родился под бодрую ругань акушерки и ласковые пришепётывания врача, в передних зубах которого застрял кусочек зелёного лука: Марина Дмитриевна видела его мучительно чётко. Синий громкий младенец возопил за несколько минут до полуночи.
– Записываем двенадцатого, – сказала акушерка, и строго глянула на потную Марину Дмитриевну. – Придумала, как назовёшь?
– А чего тут думать? – влез весёлый доктор. – В такой день родился – будет Юриком!
Много лет спустя, когда невестка Еленочка родила свою Лизу в новеньком, по последнему слову медицинской моды отделанном роддоме, Марина Дмитриевна вспомнила свои унизительные роды, и то, как орала на неё дура-акушерка, и этот зелёный лук в зубах… Вспомнила – и спустя столько лет вдруг ужасно разозлилась! Еленочка лежала в отдельной палате – с телевизором, душем и детской люлькой – и гордо кормила свою Лизу, а Марина Дмитриевна и радовалась внучке, и внутренне плакала злыми слезами. Вот если бы отмотать время назад, Марина Дмитриевна нашла бы, что ответить и акушерке, и Святославычу, назвавшему её единственного сына Юриком! Вежливо кивая в такт Еленочке, Марина Дмитриевна думала о том, что имя «Юрий» ей никогда не нравилось, и что гагаринский полёт в космос всего лишь совпал во времени с главным событием её жизни.
Марине Дмитриевне нравилось совсем другое мужское имя – Евгений. В нём эргономично сочеталось всё, к чему она была неравнодушна, – гениальность, благородство, великая русская литература и хитрые глаза артиста Евстигнеева в его лучших ролях.
Евгением звали единственную любовь Марины Дмитриевны, которую ей, впрочем, пришлось делить с ближайшей подругой – Бертой Дворянцевой. Девушки вначале учились вместе в консе, а потом долго играли в одном оркестре, – Берта оглаживала арфу, Марина дула в кларнет. Евгений сидел между ними с виолончелью, и косился то вправо, то влево. Он перевёлся в оркестр из большого сибирского города, был привычен к темноте и к морозам. Жёлтые, с коричневым ободом глаза и длинные, аккуратно выточенные пальцы – вот первое, что в новом музыканте заметила Марина и о чём сразу же рассказала Берте. Тем вечером на одной своей ладони Евгений записал синими чернилами телефон Марины, а на другой – номер Берты. О дружбе своей обе они тут же позабыли.
Берта Дворянцева вместе со своей одесской мамочкой появилась в городе накануне консерваторских экзаменов – яркие гражданочки с хорошей примесью южной крови. На Берту все сворачивали шеи – и абитура, и студенты, и преподаватели, – но рядом с ней гордо вышагивала маман, охлаждая всех предостерегающим взглядом. К Марине Карачаевой одесситки расположились сразу – общими данными маленькая кларнетистка явно уступала Берте, правда вот фигурку вырастила ладную, такая до пятидесяти лет служит верно, как хороший диплом. Впрочем, Дворянцевы великодушно простили Марине её фигуру и записали кларнетистку в верные подруги. Марине ничего не оставалось делать, как согласиться на эту странную дружбу – сразу и с Бертой, и с маман.
Маман всегда всё решала за Берту – с ней нужно было согласовывать любые жизненные вехи и получать дозволение на каждый новый шаг. Лишь годы спустя Марина узнала о счастливом школьном прошлом Берты – маман выкашивала все лишние, на её взгляд, человеческие посевы, которым вздумалось расти рядом с дочкой. Так, одного слишком шустрого мальчика она таки выжила из класса, а возмутившаяся произволом училка довольно быстро отправилась следом. Наверное, думала Марина, после отъезда Дворянцевых Одесса вздохнула полной грудью! В нашем городе маман сильно мёрзла, ругала страшными словами климат, отвратительную рыбу из магазина «Море» и – особенно! – местные помидоры, даже у рыночных торговцев не способные налиться правильным цветом («где ты, фонтанская помидора?»). Готовила она, как часто бывает с такими стервами, божественно (по собственной же характеристике), дома у них всегда стоял густой ароматный туман, и вечно голодная кларнетисточка не раз и не два глотала слюну уже на слове «Здравствуйте!», пробираясь следом за Бертой в кухню. Но всё же климат и помидоры не перевесили на общих весах славу нашей консерватории, ради которой Дворянцевы бросили Одессу, – Берта обязана была получить диплом именно этого учебного заведения и сделать блестящую музыкальную карьеру. Возможно, ей удалось бы ещё и выйти замуж… При заведомо невыполнимом условии понравиться маман жених вместе с белой лапкой Берты получил бы ещё и квартиру, и светло-голубенькую исписанную сберкнижку, и теоретическую (готовую в любой момент обратиться практической) возможность назвать своей родиной далёкую – и совсем уже тёплую – страну… Но условие, как мы сказали, было заведомо невыполнимым: маман не жаловала мужчин в принципе – как вид, род, класс и жанр. Чудо, что у неё родилась Берта, – обычно в науку таким женщинам Бог посылает сына с фанабериями. Но родилась – Берта. Беспроблемный ребёнок, каких обычно хвалят в детстве за покорность и послушание, а потом в зрелом возрасте ругают за всё то же самое, внезапно переставшее быть востребованным, – теперь требовались агрессия, самостоятельность, напор! Берта училась на «отлично» в двух школах: общеобразовательной с углублённым до центра Земли английским и в музыкальной. Берта слушалась маман, даже когда той дружно отказывали сразу и чувство меры, и чувство реальности. Ожидалось, что из неё вырастет женщина, навеки обречённая стыдливому цветению в раскидистой маминой тени – как часто случается с такими девочками. Однажды Берта на полном серьёзе попросила составить для неё список книг, которые должна прочесть каждая образованная девушка. Марина его действительно составила. А Берта, умора, послушно всё по списку перечитала.
Бедная, бедная Берта, снисходительно думала о подруге юности Марина Дмитриевна, принимая наконец внучку Лизу из рук Еленочки. Она так отчаянно нуждалась в примере для подражания, что принялась копировать Марину с первых же дней их дружбы – как наскучавшийся без работы ксерокс переснимала манеру говорить, курить и улыбаться, шила такие же юбки («солнце»! «годе»!) и просила маму позволить ей стрижку каре, «как у Мариночки» (маман не позволила). Смех! Разве арфа похожа на кларнет? Скорее уж ворон – на письменный стол…
Ах, как раздражала Марину подругина привычка слизывать все её привычки – она их именно что слизывала, как крем с торта, и самой Марине от них уже больше ничего не оставалось. В то же время угодливое копирование льстило кларнетисточке: видать, у неё всё было на самом деле хорошо, раз Берте немедленно требовалось то же самое. А ведь Берта объективно была красивее подружки, но так ущерблена и обглодана со стороны души собственной мамой, что значения её красота ровно никакого не имела – всего лишь шла комплектом. До поры, разумеется, до времени, пока в оркестр не явился Евгений и не начал мрачно терзать свою виолончель и коситься в перерывах то на арфу, то на кларнет. Дирижёр первым оценил сложность ситуации, обойдя в этом даже маман Дворянцеву, – она, честно сказать, в последнее время несколько расслабилась, уверовав в славное будущее Берты. Консерваторию девочка закончила на сплошные «отлы», в оркестр её взяли ещё не остывшей от выпускных экзаменов, и впереди, грезила маман, у них обеих сверкает такое хрустальное будущее, что глазам больно глядеть. А вот дирижёр – проницательный и нервный согласно кодексу своего ремесла – молниеносно отозвался на перемены в «яме», как будто это были перемены погоды, включавшие боли в пояснице. Дирижёр физически ощущал – словно током прошили! – сгущение невидимых полей и трепет чужих аур. По центру сиял виолончелист с ужасной (пусть и облагороженной в веках) фамилией Блудов, а на двух прочных нитях, протянутых сластолюбивым пауком, бились молоденькие мушки-музыкантши – обе были дирижёру дороже собственных дочерей. Тем паче собственных дочерей у дирижёра не было – был только сын, далёкий и от музыки, и от папы. Работал в гараже. Диминуэндо, здесь играть – медленно, печально.
Накануне концерта в филармонии дирижёр призвал к себе Евгения и, отчаянно стараясь выглядеть настоящим мужчиной (а не деятелем искусств), спросил: что у него там происходит с коллегами женского пола? Знает ли он, как важны в коллективе здоровая атмосфера и честное сотрудничество? Евгений ласково отщёлкнул пушинку с дирижёрского рукава – ему, честное слово, не о чем волноваться! Да, завязался определённого сорта дуэт с кларнетом, но арфа тут – всего лишь общая подруга, так что Дирижёр Дирижёрыч может спать спокойно. Никаких треугольников не было и не будет! Дирижёр Дирижёрыч вздрогнул, представив, что сюда вольётся ещё и «треугольник» – Альбина Длян, но вскоре понял, что Евгений имеет в виду не музыкальный инструмент, а любовную фигуру. И потому успокоился, как и советовал ему виолончелист, разве что подёргал себя пару раз за тот самый рукав, на котором висела давешняя пушинка…
Марина сразу поняла, что Блудов выбрал её, а бедная Берта выбрала его, и теперь ей всё равно придётся кого-то потерять, потому что в таком неловком виде они трое не удержатся на плаву. Кто-то обязательно потеряет равновесие и полетит вниз, обрушив хрупкую конструкцию.
Берта отказывалась верить, что подруга и виолончелист слились в дуэте, но потом, прозрев, стала впервые в жизни несчастной. Горе обрушилось на белые Берточкины плечи, лишь в некоторых местах скудно присыпанные веснушками – как паприкой.
Как же так, спрашивала Берта у маман, почему она не предупредила дочь, что будет так больно? Маман, надо вновь отдать ей должное (ей весь город, кстати, был по гроб жизни чем-нибудь обязан и кое-что должен), грустила недолго, быстро мобилизовав и себя, и Берту.
– Мужчина нам не нужен, – доказывала маман, но дочка впервые в жизни отстегнулась от множественного числа и сказала, что маман может решать за себя и дальше, а Берта разберётся со своими проблемами сама. Говоря всё это, дочь, как в детстве, грызла смоляной веничек косы, и мать шлепнула её за это по губам – тоже как в детстве.
– Нужен – отбей! – веско сказала маман, и так зыркнула на бедную Берту, что та моментом отбросила за спину обслюнявленную косу. Отбить – почему ей самой не пришло в голову?.. Подруга – ну и что? Сколько таких случаев в литературе, в кинематографе!
…Отбить – как кусок свинины – зверским молотком с деревянной ручкой…
Евгений будто бы ждал этого: топорно состроенные «глазки» Берты отозвались в виолончелисте такой эмоциональной бурей, что Марину вместе с её кларнетом отнесло за дальнюю кулису. Она в то время уже была беременна Юриком. Имя ему, правда, ещё не придумали – это, как мы помним, сделали за Марину значительно позже чужие люди.
Сидя в роскошной палате с невесткой и внучкой, Марина Дмитриевна отчаянно старалась не вспоминать, как застала Берту с Евгением. Арфа и виолончель – громадные инструменты, а кларнет рядом с ними совершенно теряется. Высокая, статная (жирная! – мстительно думала теперь Марина Дмитриевна) Берта уместно смотрелась рядом с крупнокалиберным Евгением, а вот Марина была ему, если честно, слегка не по размеру. И Юрик родился очень крупным мальчиком, весь в папочку.
Вот он, Юрик, обнимает своих девочек – большую и маленькую в руках большой. И пусть прошло столько лет, Марина Дмитриевна всякий раз удивляется: как точно отпечатался Евгений в их сыне! Вечное фото на память, которое тебе будут показывать, не спрашивая, – хочешь или нет.
Юрик Карачаев с детства накрепко усвоил: если хочешь добиться успеха, надо внимательно следить за Павлушей Дворянцевым и дублировать все его жизненные повороты. Марина Дмитриевна быстро поняла, что Юрик зачарован Бертиным сыном: тот был младше Юрика на целый год, но первым научился разговаривать… И до сих пор не может… замолчать, – с ненавистью думала Марина Дмитриевна. Она терпеть не могла Павлушу – с первых беззубых улыбок возненавидела его, как мачеха из народной сказки. Это ж надо было прекратить женское и профессиональное соперничество, чтобы потом со всей силы рухнуть в материнское! И теперь Берта могла гордиться: пусть она не удержала при себе Блудова, зато как мать состоялась на двести процентов!
Удержать Евгения не удалось ни арфе, ни кларнету – отметившись в обоих случаях, он устал носить в себе сразу и чувство вины, и чувство досады. Ещё и Берта вместе с маман напирали на него с южной силушкой: Женя, женись! «Дядя Женя всех поженит, переженит, выженит». В одно туманное утро, начавший от стресса поспешно седеть с висков и лысеть с затылка, Евгений написал сумбурное заявление и положил его на стол Дирижёр Дирижёрычу. Дирижёрыч заявление подписал – животика, которым с недавних пор обзавелась маленькая кларнетисточка, он попросту не заметил. Решил, что девушка всего лишь немного растолстела – в театральном буфете отменно кормили. Если б заметил, думал потом Дирижёрыч, можно было бы вызвать Блудова на товарищеский суд, но вообще Виолончель с Арфой и Кларнетом сами во всём виноваты. Дзеньг! – ударила в тарелки Альбина Длян. Евгений перевёлся в оркестр далёкого города и женился там на ничем не приметной, но надёжной, как будильник, бухгалтерше из театра музыкальной комедии.
У нас же мчалась к финалу – летела на всех парах! – музыкальная трагедия. Как ни хотелось бы автору назвать Бертиного сына и отпрыска Марины Карачаевой сводными братьями, на самом деле к Павлуше Блудов никакого отношения не имел. Берта даже матери не призналась, от кого забеременела, и та в конце концов, отскрипев положенное, сдалась, признав за «плодом великой страсти» право на существование. Берта так никому и не рассказала, кто был на самом деле отцом Павлуши, и мы не станем нарушать её тайну, как бы ни относились к нашей – ныне весьма преклонного возраста и сквернейшего характера – арфистке. И царское отчество «Николаевич» ничего не подскажет – героев с таким именем у нас нет.
Марина Дмитриевна долгое время считала, что Павлуша и Юрик – братья-погодки, и, как гаремная жена, высматривала у чужого дитяти врождённые грехи и недостатки. К несчастью Марины Дмитриевны, Павлуша с детства был чудо-мальчик, придираться к которому становилось всё труднее год от года. За глаза Марина Дмитриевна всё равно называла Бертиного сына Павликом Морозовым, однако на людей современных эти её злобные аллюзии не производили никакого впечатления по причине коллективного исторического склероза.
Юрик же прилип к Павлуше, как жвачка к волосам. (Кстати, однажды он в самом деле засадил себе в шевелюру здоровенный шмат бабл-гама, и Марине Дмитриевне пришлось отстригать канцелярскими ножницами прядь за прядью.) Он даже в школу согласился идти на год позже, восьми лет, лишь бы учиться в одном классе с Павлушей. И вскоре Марина Дмитриевна окончательно убедилась в том, что сын не станет Гагариным в высоком, космическом смысле своего имени, а будет ступать по уже протоптанным Павликом следам. В третьем классе Дворянцев решил стать отличником, и Юрик немедленно взялся за учёбу, сопел и почёсывался над книгами, хотя на улице звенела тёплая осень. Павлуша начал учить немецкий язык – и Юрик попросил у мамы найти ему дойче репетиторшу. Павлуша влюбился в Еленочку Нестерову – и Юрик женился на ней, когда с Павлушей у них всё расстроилось, – потому что не верил, что всё расстроилось окончательно. Пожалуй, лишь эта женитьба и рождение девочки Лизы стали отличием Юрикова пути от той дороги, которой шёл Павлик.
С Бертой – оплывшей с годами и теперь уже соперничающей габаритами со своей арфой – Марина Дмитриевна встречалась только на родительских собраниях, где все учителя искренне хвалили Павлушу и поневоле вынуждены были отдавать должное Юрику. Дамы кивали друг другу, усаживались в разных концах класса и вперивались глазами в училку.
Карьерный взлёт Павлуши Дворянцева начался в тот год, когда он бросил науку – Марина Дмитриевна узнала о том, что он ушёл из университета, от своей подруги, преподавательницы. Юрик быстро нагнал друга: деньги легко шли к нему и охотно оседали в карманах. Честно говоря, Марине Дмитриевне не за что было ненавидеть Павлушу: сын перенимал от него только самое лучшее.
Маман Дворянцева умерла в глубоченной старости, толстая Берта в охотку давала уроки музыки, а Марина Дмитриевна проводила свои дни в путешествиях и прочих удовольствиях, недоступных её нищей юности. Особенно полюбилась Марине Италия.
Однажды в Модене бывшая кларнетисточка познакомилась с внимательной русской девушкой, которая обслуживала её в ресторане. Девушку звали Катя, она была родом из нашего города, училась на повара и подрабатывала официанткой. Катя так внимательно слушала Марину Дмитриевну, что та рассказала ей о своём сыне. Юрик, с гордостью говорила Марина Дмитриевна, тоже работает в гастрономической области; если вы захотите, я вас познакомлю! Катя прикладывала ладонь к груди и трогательно моргала. Конечно, она хочет! Очень хочет!
В тот день Марина Дмитриевна говорила о Юрике с особенным наслаждением, упиваясь тем, что ей не нужно упоминать Павлушу Дворянцева. В её рассказах сын всего добился сам.
Катя слушала милую русскую даму и подливала ей в бокал животворное итальянское вино. «Сей белла квандо вуой…» – пел в магнитофоне вечно страстный Челентано, и Марина Дмитриевна чувствовала себя абсолютно счастливой.
И разве это было не так?..
Глава четырнадцатая,
восточная
В Дагестане по сей день воруют невест, а вот Ира Калугина (в прошлой жизни – Шушунна Амирамова, в нынешней – Ирак) украла себе жениха. Лучше, конечно, ей об этом не напоминать… Впрочем, Ирак и так об этом прекрасно помнит, и ещё об этом прекрасно помнят в Махачкале, откуда Ирак уехала в далёких теперь уже девяностых. Странно: годы проходят, обычно в таких случаях становится легче, или – как вариант – наплевать, а вот Ире Калугиной всё тяжелее нести на себе этот груз: каждый новый день ложится на спину весомым кирпичиком.
Фамилию свою сразу после переезда Шушунна поменяла на мужнюю, а имя взяла то, которое ей всегда отчаянно нравилось. Ириной Ивановной звали любимую учительницу из махачкалинской школы – она учила девочек ценить себя как личность, и потому мужчины из семьи Амирамовых её недолюбливали. Все, кроме старшего брата Шушунны. Авшалум ещё в десятом классе влюбился в молоденькую русскую училку, но женился, разумеется, не на перестарке, а на той скромной девочке, которую ему выбрали родители.
Семья Шушунны – таты. Чужаков таты не жалуют, а своих берегут и охраняют, как русским и не снилось. Это только Шушунна всегда чувствовала, что она в своей семье – как пришелец; слишком уж отличалась она от братьев, сестёр и прочих родственников, которых у неё было столько, что можно целый коллективный снимок составить, с лежащими передними и стоящими задними рядами. И все – родственники. И все при этом – чужие люди. В одном глянцевом журнале (Шушунна называла их «гладкими»), который попался ей уже значительно позже бесславного отъезда из Махачкалы, Шушунна прочла интервью с вечно любимым идолом Гребенщиковым Б.Б. В интервью Идол рассказывал корреспонденту, что в своей семье он всегда чувствовал себя чужим человеком и ничего общего с родными не находил. Он даже употребил по случаю какое-то прекрасное восточное слово, обозначающее таких вот самопроизвольно возникающих пришельцев в семействе, но теперь Шушунна этого слова не помнила («Ранг-джунг», Шушунна! «Ранг-джунг»!). Достаточно было того, что она вспыхнула тогда от счастья и сходства, и огнём тем вспыхнувшим обогревалась впоследствии много лет подряд. Вот так – в своей семье родни не сыщешь, а с чужим человеком находится столько общего!
Гребенщиков Б.Б. стал идолом Шушунны в зелёные школьные времена – собственно говоря, благодаря ему она и совершила главные поступки своей жизни: выбрала профессию, украла жениха и уехала из Дагестана. Впервые Шушунна увидела Идола в программе «Музыкальный ринг» 1986 года выпуска – и было так, как бывает в конце концов начала всех начал… Сейчас вместо Идола по концертам ездит большой козлобородый дяденька в очках, а тогда, на «Музыкальном ринге», выступал совершенный опять-таки пришелец. Красивее Шушунна с тех пор так никого и не видела – разве что американский артист Брэд Питт слеплен из похожего теста, но американское тесто вышло слишком уж приторным, да и петь нервным нежным голосом точные умные слова (никакой не бред!) Брэд Питт не умеет. А потому безжалостно сбрасывается со счетов.
Сначала Шушунна записывала гребенщиковские песни на прямоугольные кассеты TDK с двумя дырочками – эти дырочки смотрели на неё, вращаясь, как два инопланетных глаза. Потом Авшалум – единственный почти что близкий человек в большой семье – привез из Москвы виниловую пластинку «Равноденствие». Это было громадное событие – примерно такое же, как окончание школы и развал СССР. В памяти Шушунны Амирамовой и всех её ровесников юность оказалась навеки соединена с большой переменой: не школьной, а жизненной. На детей в стране тогда ни у кого не хватало времени – одни пытались удержаться на плаву, другие воевали, третьи поспешно тырили народные богатства, четвёртые впрыгивали в последний вагон разогнавшегося поезда. Большая семья Амирамовых готовилась к перелёту всем журавлиным клином в другую, но тоже восточную страну.
– Денег-то хватит, даже если ещё одну семью захотим вывезти, – грустно хвасталась Шушунна на выпускном вечере. Они с Ириной Ивановной сидели вдвоём в пустом кабинете физики. Из актового зала неслись громкие барабанные выстрелы и многоногий топот. Эта музыка ничем не напоминала «Аквариум».
– А я бы на твоём месте радовалась! – сказала Ирина Ивановна. – Увидишь новую страну, начнёшь совсем другую жизнь.
Шушунна смотрела на Ирину Ивановну как в чужую тетрадь, где написано правильное решение задачи. Смотрела-смотрела – и вдруг поняла, что учительница на самом деле не так уж молода, как им всем всегда казалось. На лбу – пять тонких морщин. Глаза – усталые и серые, словно мокрый пепел. И рука, которой Ирина Ивановна теребит бусики, лежащие на платье, словно камушки на еврейской могиле, совсем не похожа на руку молодой женщины.
– Я вот уже никогда, наверное, не смогу отсюда уехать, – продолжала Ирина Ивановна, оставив наконец в покое несчастные бусики. – Я ведь в Махачкалу из Питера уехала по принципу «лишь бы прочь, а куда – всё равно», и больше не хочу так.
– У вас там, в Питере, была несчастная любовь? – обмирая, спросила Шушунна. Любовь – да ещё в Ленинграде! – казалась ей абсолютным оправданием жизни. Пусть и трижды несчастная.
Учительница склонила голову набок. Конечно была, зачем об этом спрашивать?
– Здесь, в Дагестане, я почти вылечилась – мне воздух помог, и все вы. И ты, Шушунна, конечно, ты всегда была моей любимой ученицей! Если я уеду из Махачкалы, вся питерская боль вернётся – она ждёт меня там, она никуда не делась. А здесь ей до меня не добраться. Пойдем, Шушунна, – спохватилась наконец Ирина Ивановна, – потеряют нас.
Шушунна неохотно вышла из класса. Выпускной бал гремел и даже и не думал заканчиваться. Живая роза, приколотая к платью, поникла и растеряла половину лепестков. «Как Ирина Ивановна», – подумала Шушунна.
Дома все только и делали, что собирались в дальний путь и занудно обсуждали, что брать с собой, а что (и кого) не брать. Например, старые бабушки – четыре с материнской стороны и шесть с отцовской – ехать категорически отказались, и Шушунниным отцу с мамой приходилось уговаривать их вместе и порознь. «Легче брёвна катать!» – в сердцах говорила мать. Шушунна бабушек понимала – ей самой ужасно не хотелось в Израиль, – и, если бы её спросили, выбрала бы Ленинград. Поступила бы в педагогический, ходила бы на концерты Идола. Что ещё надо человеку? Но человека Шушунну никто не спрашивал. Она промаялась всё лето, присматривая за младшими сёстрами… Накануне первого сентября, за месяц до уже назначенного отъезда, Шушунна гуляла с подружками в парке и встретила Ирину Ивановну. Та тоже была не одна – с мужчиной. Шушунна поздоровалась с учительницей, потом перевела взгляд на её спутника. И задохнулась – как рыба, выпавшая из аквариума, начала хватать ртом бесполезный невкусный воздух.
Спутник Ирины Ивановны оказался похожим на Гребенщикова Б.Б., будто младший и любимый брат. И говорил так же, быстро-ласково, по-питерски. Шушунна помнила голос БГ по «Музыкальному рингу», и в записи квартирника он говорил: «…это песня о любви. Не о любви между мальчиком и девочкой, а про более… глобальные вещи».
Вот у них с Ириной Ивановной, сразу видно, были эти «глобальные вещи»: мужчина равнодушно посмотрел на Шушунну и вновь впился – руками, глазами, только что не зубами – в ненаглядную свою спутницу. Шушунна могла быть с ними рядом, а могла перенестись в другой район города – никто бы этого не заметил. Ирина Ивановна теребила на шее всё те же бусы – вот бы они порвались, разозлилась вдруг Шушунна.
Учительница и будто бы брат – его звали Сергей – уходили прочь, а она смотрела им вслед, молча просила не оставлять её, и любила обоих так, как никого в своей жизни полюбить уже не сумеет. И ненавидела, конечно, тоже. Это всегда вместе – как мясо и соль. Ну или как соль на раны…
Подруги дождались Шушунну, возобновили, как по сигналу, прерванный щебеток – никто из них не увидел перемен в девочке, а ведь перемены эти свершились, ей показалось, с таким грохотом, так явно…
Интересно, она понравилась Сергею? Может быть, она выглядит слишком экзотической? Шушунна закрыла глаза, вспомнила своё лицо, улыбку в зеркале. Прежде ей было почти всё равно, красива она или нет, – теперь стало страшно: вдруг она урод?
Красивой в строгом смысле слова Шушунна не была – но у неё имелось то, что зовут «красотой дьявола»: свежая прелесть, готовность отражать свет. Мальчики, встречаясь с нею, замолкали или начинали глупить. Один засеял парту Шушунны лепестками роз, другой зажёг у её дома петарды – всё вызывало приступ неловкости и стыд, как за идиотские выходки младших братьев. Когда-то эти мальчики превратятся в тех самых мужчин, которым Шушунна готова улыбаться уже сейчас, но ни у кого из них не было шанса стать вровень с Идолом. Или хотя бы с Сергеем.
Рассвет следующего дня застукал Шушунну возле дома любимой учительницы. В окнах горел свет, за шторами суетились тени.
Через час Сергей вышел – один. Хлопнул дверью, закурил. Увидел, как идёт к нему по осенним листьям юная девочка Шушунна. «Такая никого не пожалеет», – подумал вдруг Сергей. Подумал и почувствовал, как с каждым шагом Шушунны утекает его перебродившая, дурная питерская любовь. Кровопускание, вскрытие нарыва, ловкий надрез – и всё. Прохладные пальцы девочки – как повязка на предплечье.
Махачкала – город немаленький, но уже через день все знали, что девчонка Амирамовых опозорила семью и разбила сердце родителям. Бабушки, объединившись пред лицом семейного позора, всё же согласились ехать в Израиль; сама же Шушунна, как овчарка, сжав челюсти, отправлялась со своим будущим мужем в Питер. Она ни за что не смогла бы выпустить из зубов эту кость. Как ребёнок в магазине игрушек, зажмурившись, вцепилась в ту самую куклу, жить без которой нет смысла. Лучше убейте!
Ирина Ивановна, вмиг утратившая весь свой блеск и превратившаяся из модели для подражания в старую дуру-училку, подарила счастливой сопернице каменные бусики с запиской «Победительнице-ученице от побеждённой учительницы». Жуковский, покивала начитанная Шушунна, и выбросила бусики в окно, безжалостно расчленив по камешку. Точнее, это сначала она хотела их расчленить, а потом одним резким движением сняла камни с лески, как мясо с шампура…
В Питере Шушунна вышла замуж, сменила имя, символически-язычески закрепив таким образом свою победу над учительницей, и поступила учиться на журналистку. В один слякотный день (ах, какая же здесь была слякоть!) она увидела в Гостином дворе Кинчева, и отныне надеялась на другую важную встречу: ей обязательно нужно было взять интервью у Идола.
Верхний слой краски быстро стёрся, и Сергей Калугин – как любая чужая мечта – превратился в постороннего человека. У него были надоедливая мама-блокадница и полный набор дурных манер, разглядывать которые в Дагестане Ирине даже в голову не пришло.
К тому же она ещё и забеременела до обидного быстро.
Беременная студентка Ирина Калугина просыпалась бессонной белой ночью рядышком с украденным мужчиной – и жалела дитя, спавшее под сердцем: она знала, что ребёнок этот не будет счастлив. Сбывшийся Петербург за окном был мрачным и холодным, как погреб, а БГ не появлялся ни в Гостином дворе, ни в метро, ни даже в Ирининых снах.
Желанное интервью произошло лишь через три года. Сын тогда ходил в садик, Сергей – к другой женщине (третьей Ирине, к которой в конце концов и ушёл окончательно), а сама Шушунна-Ирина металась между двумя взаимоисключающими сценариями – уехать к смягчившимся родственникам в Израиль, или всё же закончить институт и развестись сразу со всем своим прошлым?
В тот день Сергей сам забрал ребёнка из сада – им предстояло плановое посещение бабушки-блокадницы, которая невестку не переносила на дух, как некоторые на дух не переносят восточную пищу. Ирина простояла у плиты полдня – она с детства обожала готовить, и Авшалум в каждом письме своём из Хайфы вспоминал ее буркив, курзе и хоегушт. Сегодня она приготовила как раз таки курзе, и еще чуду из баранины, ругая при этом местную баранину от души: разве это баранина, э-э-э?
После разлуки с родиной в Ирине обострилась вся её непохожесть на северных людей – смуглое лицо в бледнокожей толпе сверкало, как золотая монета в груде серебристой мелочи. Хриплый тёмный голос, с которым так удобно жить в горах, заглушал ласковую, но монотонную питерскую речь. И, конечно, еда, которую любила готовить и есть Ирина, ничем не походила на унылую здешнюю снедь.
Русский язык шагнул из школьных уроков в жизнь: как все в Дагестане, Ирина великолепно говорила по-русски, но здесь вдруг начала забывать нужные слова, на ходу ловила готовые сорваться с языка ненужные, и спотыкалась на отчествах – ужасным испытанием были Георгиевичи, Григорьевны и почему-то Александровны с Александровичами.
Ирина тяжело сходилась с новыми знакомыми, тщательно отмеряла и упорно держала дистанцию с однокурсниками, и до смерти боялась преподавателей. Она как будто ждала наказания от кого-то из преподов, подозревая, что им известно: однажды эта дагестанская девочка смертельно ранила одну из учительского племени. Хорошо, что у неё было теперь другое имя – широкое и плотное, как занавес, оно укрывало преступницу от возмездия.
Платье Ирины насквозь пропиталось запахом специй, и вся парадная мечтательно раздувала ноздри, поглаживая пустые животы. На улице ждал тяжёлый влажный ветер – вцепился в волосы, прилепил к ногам подол. Ирина шла вперёд, свернула влево, очутилась на Пушкинской и носом к носу (хотя нет! носы у них были на разной высоте) столкнулась со своим идолом. Идол был живой, загорелый и такой настоящий в сравнении со своим будто бы братом, что у Ирины хлынули слёзы, как в комиксах – салютом-фейерверком-фонтаном во все стороны.
Вышло солнце.
Чтобы выплакать всё, что скопилось внутри, Ирине понадобилось ровно восемь минут. Она рыдала, но была при этом абсолютно счастлива – потому что Идол не только утешил её, но и согласился дать абсолютно ненужное (ни ему, ни Ирине) интервью. Название махачкалинской газеты, для которой Ира якобы трудилась, было подлинным, а вот должность и фамилию рыдающая корреспондентка присочинила на ходу.
О чём они говорили, Ирина ни тогда, ни теперь, спустя шестнадцать лет, не помнит. Как выглядел тогда БГ, она тоже не помнит, как не помнит и обстановку репетиционной базы на Пушкинской – вообще, от всего разговора в памяти остался широкий, как от маяка, луч света, падающий из окна на стол. И круглые глазки диктофона, лежащего ровно посредине между Ириной и её кумиром.
Кажется, она задавала такие глупые вопросы, каких он давно уже ни от кого не слышал. Кто-то громко хмыкнул у неё за спиной и объявил, что принёс пиво. Надо было прощаться – её явно выпроваживали, но она не хотела уходить. В воздухе зазвучал вдруг очнувшийся голос специй: Ира в ужасе принюхалась и поняла, что вся до последнего волоска пропахла пищей.
– Я тебя провожу, – Идол встал с места. Они спускались по лестнице, Ирина вцепилась в его тёплую, живую, абсолютно человеческую руку – с кожей, пальцами, ногтями. Идол дружески приобнял Иру – даже самая ревнивая жена не углядела бы в этом объятье ничего подозрительного. Дверь парадной раскрылась, словно старинная книга, – и под ноги БГ кинулась стая юниц и молодчиков. Автографы – им нужны были автографы… А у Ирины в сумочке лежала целая кассета, записанная с обеих сторон – монотонное, почти желудочное бурчание вопросов, красивые развернутые ответы.
– Как мне выйти отсюда? – спросила Ира на прощанье, и БГ ответил ей почти как сказочной Алисе:
– Это зависит от того, куда ты хочешь попасть.
Конечно же, она говорила не о дороге домой. И сюжет этот – при желании – мог, наверное, развернуться в другую сторону, но Ирине даже сегодняшнего события хватит с лихвой на всю жизнь. Она ни за что не стала бы делиться услышанным – их разговор станет её личной тайной.
В кухне, где пахло настоявшейся, теперь уже действительно вкусной едой, Ирина стёрла запись бесценного интервью – и крепко уснула, зная, что проснётся другим человеком, готовым и к тяжёлому разговору, и к новому будущему.
Сергей отпустил её легко. Сына она временно оставила с ним в Питере. Уехав сначала в Израиль, Ирина пробыла там ровно столько времени, чтобы понять, что эта страна и этот образ жизни ей никогда не подойдут – как не подходят одежда и мечта с чужого плеча. Вернувшись через год, Ирина забрала мальчика и пропала из жизни Сергея.
В своём новом мире, на канале «Есть!», Ирина заработала воинственное прозвище Ирак и очень быстро стала незаменимым для всей телекомпании человеком. Обзавелась глубокой морщиной на лбу и не менее глубоким убеждением в том, что воровство не приносит счастья даже самым везучим людям. Отныне Ирина не прощала этой привычки никому. Особенно – ближним своим.
Глава пятнадцатая,
посвящённая гипнозу, психоанализу и могущественному доктору с детским именем
Психотерапевт Денис Мертвецов ни секунды не сомневался в том, что его ненавидят коллеги. Показывали это лишь самые отчаянные, обиженные судьбой и пациентами – прочие сладко щерились, но сжимали в кармане камень. Побелевшие костяшки, зубовный хруст, бессонные ночи. Мертвецову досталось такое количество бесплатной антирекламы, о которой втайне грезит любая телезвезда – поначалу коллеги по психоанализу ненавидели Дениса Григорьевича так рьяно, что запугивали им своих пациентов, как бабайкой и террористом в одном лице. Клиенты реагировали предсказуемо, по-человечески – шли проверять информацию и, единожды попав на приём, становились верными поклонниками удивительного доктора.
И это при том, что Денис Григорьевич не был сторонником долговременных психотерапевтических отношений: ему неинтересно было доить одного и того же несчастного человека, ему было интересно – помочь. Решить проблему, которая согнула плечи пациента и отправила его за срочной помощью. И, разрешите похвастаться, не было ещё таких проблем, какие Денис Григорьевич не смог бы решить. Одни требовали больше времени, другие – меньше, но ни одна не ставила Мертвецова в тупик. Пока на горизонте не воссияла золотом волос пациентка Ека П., наш доктор не знал поражений.
Специалист по лечению зависимостей – такое скромное самоназвание было у доктора Мертвецова. Он с детства терпеть не мог три вещи: своё имя, рассказы Виктора Драгунского и зависимости, которыми обрастают люди.
Имя ему не нравилось решительно. Хоть мама и всплёскивала руками над портретом курносого гусара, «Денис», по мнению Мертвецова, – это как зелёные сопли пополам с манной кашей. То ли дело нормальные мужские имена – Сергей! Андрюха! Саня! А теперь скажите «Дени-и-и-ис» – и увидите мерзкую тонкую линию, выцарапанную на стекле гвоздём… Мертвецов рано выучился прикрываться при знакомстве своей одиозной фамилией, а имя он прятал, как шрам или срам. Если совсем уж не удавалось отмолчаться, ронял, как монету в траву, суровый первый слог. «Дэн» – ещё куда ни шло.
Книжка Драгунского попала в чёрный список Мертвецова из-за имени главного героя – благодаря этим рассказам кое-кто начинал звать будущего врача даже не Денисом, а Дениской! Мертвецов скрипел зубами не хуже своих нынешних коллег, но в отличие от них он прекрасно понимал даже в детские годы, что книжка Драгунского со временем выпадет из контекста вместе с плоскими пластмассовыми солдатиками и гонками на ржавых велосипедах.
– Какой у вас мальчик… – в этом месте мамины знакомые замолкали, мучительно отыскивая в обедневшем с возрастом лексиконе подходящее определение, – необычный!
О, да, разумеется, он был необычным, и взрослые люди за редчайшим исключением терялись при знакомстве с ним так, что почти никогда уже больше не находились. Внешне Денис был чистый херувим, но умиление застывало на взрослых губах, стоило мальчику произнести хотя бы слово. Не по годам разумное, это слово летело в нового знакомца, как стрела с отравленным наконечником, – и тот тушевался, застывая с уже поднятой для ритуального поглаживания детской головки рукой.
– Сама не понимаю, в кого он такой, – пожимала плечами мама-Мертвецова, – мы в его возрасте уже портвейн пили в подворотнях, а он то Ницше, то Шопенгауэра читает. То «Улисса» в подлиннике – а я его, знаете, и по-русски не дожевала.
Мама-Мертвецова как будто жаловалась на сына, но за поверхностным, тонким слоем недовольства виднелась мощная кладка гордости за своего мальчика – куда там, право слово, вашим Саням и Андрюхам!
Папа-Мертвецов сыном тоже гордился, но… слишком уж нравным был мальчик! Запросто не подойдёшь, в футбол не погоняешь. Милые папиному сердцу простые радости Денис не принимал: рыбалка означала для него мёртвую рыбу, шашлыки – комаров и слепней, а нормальный мужской разговор – пустую трату времени в компании недалёких людей.
– Да у тебя даже девушки нет! – серчал папа-Мертвецов, а Дэн ледяным тоном ответствовал:
– А зачем мне терять время на девушек? Придёт время найду себе жену.
И правда, нашёл. Когда пришло время, папе и маме Мертвецовым без объявления войны представили особу, влюблённую по самые ушки, но при этом не утратившую способности мыслить. Умненькая была девочка, звали Наташей. Мама-Мертвецова полюбила Наташу от всей души – с ней и поговорить было о чём, и помолчать… Да вот незадача – прожили молодые вместе недолго, через год после свадьбы развелись, и как ни пытала мама-Мертвецова своего Дениску, так и не раскрыл он ей, отчего им с Наташей не пожилось.
Время шло суетное, странное, мама и папа Мертвецовы летели к пенсии, как шагаловская пара над городом, – вцепившись друг в друга и не замечая перемен в пейзаже. Денис поспешно заканчивал очередные – бессчётные! – психологические курсы и посещал крайне подозрительные, с точки зрения мамы-Мертвецовой, тренинги. С родителями Денис разговаривал мало и строго по делу – он с ранних лет вёл себя с ними, как чрезмерно загруженный работой отец семейства, не успевающий в короткое домашнее время расслабиться и сбросить с лица угрюмую маску ценного специалиста. (Такие люди обычно умирают на первом году пенсии – сломать привычный график для них всё равно что сломать хребет.)
В своей квартире, которую им с Наташей купили к свадьбе, Денис сделал роскошный ремонт, но, когда мама с папой пришли полюбоваться результатом, их неприятно удивила одна комната. Она их прямо-таки покоробила – затенённая шторами, с письменным столом и кожаной кушеткой, комната походила на венскую приёмную Фрейда.
– Зачем это, милый? – нервно хихикнула мама-Мертвецова, тогда как папа быстро всё понял. Дениска собрался вести приём психов на дому!
– Они такие же психи, как мы, – сказал сын, – хотя, разумеется, мы тоже психи. Но не беспокойтесь, пожалуйста, у меня они задерживаться не станут. Пять сеансов – и человек начинает жить по-новому.
Мама-Мертвецова развеселилась:
– А если я к тебе запишусь, сынок, ты мне тоже поможешь?
– Помочь могу, – не дёрнувшись, ответил Денис, – но даже пробовать не буду. Уж прости, пожалуйста.
– Меня всё одно: ни гипноз, ни психоанализ не берёт, – похвалилась мама-Мертвецова, – так что можем и рискнуть. Или боишься, сы́ночка?
– Я ничего не боюсь. А гипноз берёт всех. Если это, конечно, не эстрада.
Мама-Мертвецова вызвала из памяти далёкий вечер в Доме культуры машиностроителей. Багровый занавес, чёрный костюм, спящие зрители и она сама (тогда ещё не мама, и даже не Мертвецова – совершенно другой человек) торчит, словно пугало посреди затихшего зала. Гипнотизёр нехорошо улыбается ей и дёргает усами, как нашкодивший кот:
– А вы у нас, барышня, значит, невосприимчивы к гипнозу… Занятно, да, занятно. Бывает, да, бывает.
– …Давай! – решилась мама-Мертвецова и тут же упала на кушетку. Папа перепугался и начал тянуть маму с кушетки за руку – круглую и розовую, как батон докторской колбасы:
– Алина, не надо, слышишь? Не надо, я тебе говорю! Прошу тебя, встань.
Но напрасно папа напрягал ослабевшие под властью времени мышцы плечевого пояса и голосовые связки – Алина лежала на кушетке, как «Титаник» на дне океана. Спорить с женой, пришедшей в такую духоподъёмность, было бесполезно – этому папу научили долгие годы совместной жизни. Вот почему он символически плюнул в сторону, хрустнул позвонками и гордо понёс свой радикулит на улицу – докуривать остатки здоровья.
Денис же, подняв виртуальную перчатку, готовился к сеансу и видел вместо матери чужого человека. Подрагивающие веки, густо намазанные синими тенями. Ровная, почти не зарисованная морщинами кожа, и руки, сложенные на груди, как у мертвеца.
Алина изо всех сил пыталась не рассмеяться – и некстати вспомнила, как маленький Дениска ел на кухне блины с вареньем. Густая сладкая жижица пролилась ему на штанишки и стекала на пол так, словно бы мальчик писал вареньем. Она тогда хохотала, как от травки, а парень так обиделся, что ни разу после этого не соглашался ни на блины, ни на варенье. Один… два… три… Варенье… варенье… Что-то он там говорит такое уютное – про состояние покоя, про сон… А теперь почему-то про сигареты… Алина встрепенулась, хотела поднять руки, но они были накрепко приклеены к груди. И зад не отрывался от дивана. И ноги лежали тяжеленными болванками.
«Послушай, сын, хватит!» – попыталась сказать Алина, но язык её лежал во рту стальным бруском, а сама она стремительно, как украденная девушка, завёрнутая в ковер, катилась с обрыва в пропасть. В сон.
– Когда я скажу «десять», ты откроешь глаза, – голос Дениса вошёл в комнату, как человек. Алина с трудом разлепила веки и оторвала ладони от груди. Тело вернулось в подчинение, серьёзный сын сидел за письменным столом и смотрел на матушку с чем-то вроде сочувствия. Она в очередной раз удивилась тому, какой же красивый мужчина её сын…
– Я что, наболтала лишнего? Почему ты так смотришь? – спросила мать, поднимаясь с кушетки.
– Голова не кружится?
– Кружится.
– Ну так ещё полежи…
– Нет, я к отцу, покурить…
– Курить ты, мама, больше не будешь. Надоело мне смотреть, как вы гробите своё здоровье.
Алина ахнула, но прекрасное лицо сына осталось неподвижным, как на портрете.
Под дверью очень вовремя заскрёбся папа.
– Входи, отец, мы закончили. – Денис распахнул дверь, и в комнату за папой проследовал длинный, густой и… отвратительный табачный шлейф.
Алина и не думала, что он такой отвратительный!
– В чём дело, милая? Ты как-то странно ко мне принюхиваешься…
Мама-Мертвецова сжала шею пальцами и срочно побежала в туалет, удобно расположенный рядом с приёмной. Там её бурно вырвало, после чего – хотите верьте, хотите нет, – курильщица с тридцатилетним стажем Алина Мертвецова стала убеждённой печальницей здорового образа жизни. Такой убеждённой, что в конце концов и мужа своего вынудила пройти курс лечения гипнозом.
О да, теперь они оба безоговорочно верили и в гипноз, и в своего сына.
Денис стремительно оброс клиентурой. Коллеги Мертвецова поначалу неверно оценили новичка: вальяжный психотерапевт Игорь Маркович Шуман даже не удостоил его рукопожатием! Вы, разумеется, знаете Игоря Марковича: чаще, чем он, на телеэкранах нашего многоканального города появляются, пожалуй, только мэр Андрей Алексеевич Рябчиков и кулинарная звезда Гималаева. Да-да, вы правильно вспомнили: это тот самый Игорь Маркович, что любит складывать ладони домиком и сладострастно мычать в микрофон. Один час психолечения у Игоря Марковича стоит примерно столько же, сколько вы заплатите за месяц обучения ребёнка в частной гимназии «Умник» (точный размер взноса не разглашается, как и стоимость консультации у Шумана).
А вот круглая, как крышка, язвительница и юнгианка Аделаида Бум поначалу начала строить Мертвецову куры. Когда Денис ещё не избегал общих психотерапевтических сборищ и даже надеялся чему-нибудь там научиться, всех их вместе вывезли однажды на турбазу, километров за семьдесят от города. Называлось это «Семинар по обмену опытом». За городом бушевала позабытая Денисом природа: белые полосы тумана над болотом, душистые сосны, кровавые капли костяники в траве и грибы, кокетливо прикрытые перегнившими листьями.
– Денис Григорьевич, посмотрите, какой прелестный мухоморище! – кричала Аделаида Бум. Её резиновые сапоги мелькали впереди психотерапевтического отряда, как лопасти ветряной мельницы – пред благородным идальго. В руке психологини алел мухомор – бесстыдный, как грех, и яркий, как воспоминание о нём.
– Бросьте его, Аделаида Сергеевна, – флегматично посоветовал Игорь Маркович, закутанный от грехов подальше в прозрачный дождевик, – поздновато уже нам с вами грибочками увлекаться…
Аделаида Бум вспыхнула, как светофор, – ух, как она не любила, когда ей напоминали о возрасте! Да ещё в такой день, когда на ней была яркая красная ветровка в чёрную точечку! (Аделаида Сергеевна одолжила ветровку у своей половозрелой дочери, и ни та, ни другая не задумались о том, что в этом наряде любая женщина средних лет будет выглядеть как Минни-Маус на пенсии.) В тот долгожданный день, когда красавец Мертвецов, явно нуждавшийся в наставлениях опытной женщины, был к ней так близок – протяни руку и сорви… Надо же было старому жирному Шуману всё испортить!
Мухомор полетел в траву, а Мертвецов прошёл мимо, даже не заметив, что рядом с ним со зловещим грохотом обрушились надежды Аделаиды Бум… Честно говоря, он вообще не замечал в тот день ничего и никого, а думал: как удивительно, что природа все эти долгие годы была на месте: и лес, и грибы, и деревья, и эти кровинки костяники… Как будто не было ни учёбы, ни тренингов, ни бизнеса, поначалу буксующего на всех поворотах, – природе нет дела до того, чем занимается Денис Мертвецов и чего он чает. Природа просто была, и спасибо ей за это!
Аделаида Бум природу не любила – игры с мухоморами затевались исключительно для прекрасного Мертвецова, но пухлую юнгианку в очередной раз не оценили по достоинству, и потому в лагере недоброжелателей Дениса прибавилось ещё одной – весьма увесистой! – персоной. Денис не придал этому значения – по молодости он смотрел мимо людей, воспринимая их серым гудящим фоном: лишь у него в кабинете, на консультациях, человек отделялся от общей массы и начинал походить на самого себя.
Тем более не замечал Мертвецов таких недостроенных личностей, какими, с его точки зрения, были и Шуман, и Аделаида Бум, и прочие психодеятели с менее эффектными именами. Женщины Денису нравились совсем другого типа, чем те, что прорастали в психологической среде, а с мужчинами ему и вовсе было скучно.
Женщины Денису нравились разные, но всегда и только – молодые. Лучше бы девушки. Только-только оперившиеся – пери с блестящей кожей, нежными ручками и шелковистыми коленями. Такие юные девушки трогательно не ценят своей молодости и таскают у мамаш тяжёлые, как ненависть, французские духи… Мамаши сами были готовы, как и гражданка Бум, упасть к дорогим штиблетам доктора Мертвецова, но к женщинам, перешагнувшим за тридцать, Денис Сергеевич относился иначе. Они были уже не пери, но пери зрелыми, а это совсем другое слово. И другое отношение.
– Если вдруг возникает такая ситуация – а она возникает намного чаще, чем вы думаете, – откровенничал доктор Мертвецов со своей любимой пациенткой Геней Г.: – что даме нужно от доктора не только лечение… что ж, тогда нужно предоставить ей всё в ассортименте. Это пойдёт на пользу делу.
Геня Г. кривила губы вправо, потом влево. Ей никогда не пришло бы в голову соблазнять прекрасного психотерапевта – а вдруг он перестанет после этого быть прекрасным психотерапевтом? Кроме того, чтобы увлечь доктора на кожаную кушетку, надо было чувствовать себя уверенной в собственной привлекательности, а этим не могли похвастаться ни сама Геня Г., ни львиная доля дам, проникших на территорию Дениса Григорьевича. Секретарши доктора Мертвецова, которых он менял со скоростью белья, открывали двери пациенткам и озаряли приёмную сияющими лучами подлинной молодости. Эти девушки могли быть некрасивы, но они всегда были молоды – и зрелые дамы мгновенно вяли на этом фоне: плечи опускались под тяжестью дорогих манто, сумки стоимостью чуть менее приличного автомобиля тянули к земле ухоженные руки… Очередная секретарша, выставив молодую весёлую грудь, как великолепный щит, уже одним своим видом способный обратить противника в бегство, помогала стареющей богачке снять меха и вела ее в светлый кабинет Дениса Григорьевича, где он уже вставал из-за стола, тоже невозможно молодой и красивый.
Разумеется, коллеги Дениса Григорьевича, до которых регулярно доносились сплетни, были в курсе, какой круговорот женщин происходит в кабинете Мертвецова, и ненавидели его по этой причине ещё сильнее. Он ни секунды не сомневался в этой ненависти – и по утрам, разглядывая свежую птичью каку на ветровом стекле, всерьёз принимал её за пулевое отверстие… Зато пациентки и пациенты любили доктора Мертвецова с такой целенаправленной силой, что порой это мешало ему работать и оказывать этим же самым пациенткам и пациентам необходимую помощь.
Даже когда человек приходил к нему с жалобой на воспаление третьего глаза, Мертвецов обещал решить проблему – и единственным вопросом, который вставал между болезнью и выздоровлением, был вопрос времени.
Самому доктору больше всего нравилось бороться с разного рода зависимостями – сам не зависящий в этой жизни почти что ни от чего, Мертвецов бросал дурным привычкам решительный вызов, и редко какая привычка могла перед ним устоять. Потому и в приёмной у него всегда была труба нетолчёная: зависимые мрачно разглядывали друг друга, гадая, кто чем страдает.
Проще всего было с обжорами и несчастными влюблёнными, затем следовали алкоголики, замыкали же ряд курильщики и наркоманы. Экзотические зависимости Мертвецов тоже врачевал – лечились они примерно одинаково, а частности зависели от больного. С умными людьми Денис Григорьевич подолгу беседовал, иногда не без удовольствия для себя лично. Дуракам выдавал чёткие инструкции, а всех прочих то запугивал, то высмеивал. Агнесса О. (курильщица, выпивоша, любительница крутить романы с абсолютно не подходящими ей мужчинами – всё успешно и последовательно побеждено), бывшая пациенткой Мертвецова и его приятельницей, перенесла тяжелейший стресс в процессе четвёртого визита к чудо-доктору.
– Вы что же, Агнесса, вправду думаете, что очень хорошо выглядите?
Агнесса О. дёрнулась, словно кукла на веревочках (она, впрочем, и была в данный момент послушной куклой, просто ей об этом никто не сказал). Испуганно улыбнулась – ай, какой злой доктор, зачем обижает хорошую девочку? Он, наверное, пошутил? В юности Агнесса О. была прекрасна, как несбыточная мечта, и, если бы Денис Григорьевич проходил вдруг мимо в её двадцать лет, он бы не прошёл мимо! С годами внешность Агнессы О. изменилась – а вот привычка считать себя красоткой осталась. Так располневшая в талии матрона не может отказаться от облегающих платьиц, а женщина с пожелтевшими от возраста и сигарет зубами по-прежнему лучезарно скалится – словно бы не было последних двадцати лет и миллиона выкуренных палочек с фильтром («палочками» называл сигареты не кто иной, как доктор Мертвецов, – «ну разнервничаетесь вы, закурите, и что, вам эти палочки помогут?»).
– Вы, Агнесса, выглядите на свои тридцать восемь, – безжалостно сказал Денис Григорьевич и улыбнулся. – А те, кто делает вам комплименты, безбожно врут!
– Безбожно! – передразнила Агнесса О. – Да вы сами безбожник! Вы же мне объясняли, что никакого бога нет, а христианство – всего лишь затянувшаяся шутка.
– Не меняйте тему, – рассердился Мертвецов, – мы с вами замечательно общались, и Бога вправду нет, но речь не об этом. Вам надо бросать курить, пить и влюбляться в неподходящих персонажей. И тогда вы будете лучше выглядеть – ненамного, но лучше.
Агнесса О. ушла из кабинета Мертвецова в задумчивости – и вечером почти целый час стояла перед зеркалом в ванной. Вполне свежая мордочка. Две тонких морщины под глазами и две – от носа к губам. Волосы – мечта парикмахера, фигура – хоть замуж выходи.
«Да он же специально! – осенило Агнессу О. – Это он специально наговорил мне гадостей, чтобы я взяла и тут же бросила ему и пить, и курить, и звонить Ивану домой!»
Она швырнула в зеркало полотенцем, разревелась и уже пошла было в кухню за коньяком, как вдруг опять вернулась в ванную.
«А если он серьёзно?»
Агнесса О. так и не добилась от доктора Мертвецова правдивого мнения, но в процессе лечения они стали хорошими друзьями, и… видели бы вы, как она сейчас выглядит! Вначале Денис Григорьевич отучил пациентку О. выпивать, затем – звонить неподходящему Ивану, потом они разбирались с курением… И лучшее, что могла сделать для своего друга-доктора благодарная Агнесса О., – это привести к нему в кабинет множество своих зависимых знакомых, среди которых особенно выделялась кулинарная телезвезда Геня Г.
Именно этому факту коллеги Мертвецова завидовали особенно: обсасывали его, будто сахарные косточки, и жевали до полной безвкусицы, как гудрон в голодном советском детстве. Игорь Маркович Шуман, большой знаток хорошей кухни, удачно воплощавший в себе сразу и гурмана, и обжору, неоднократно приглашался на кухню кудесницы Гени – готовил в программе «Звёздное меню» ризотто с осьминогами и салат из арбуза с авокадо. Генечка ахала, вежливо восхищалась, но глазки у неё при этом оставались холодными и блестели значительно меньше в сравнении с арбузными семечками. А ведь как Игорь Маркович хотел подружиться с Гималаевой – вы даже представить себе не можете, насколько далеко он был готов пойти ради ее гениальной кухни! Но нет – наивная Геня предпочла услугам опытнейшего специалиста кухо́нный (Игорь Маркович произносил это слово с ударением на втором слоге – так было звучнее и созвучнее его вкусам) психоанализ Дениски Мертвецова, ничем, кроме своей вечной красоты, не примечательного!
Аделаида Бум, узнав о том, что Генька (юнгианка Бум называла всех известных в городе и стране людей, используя уничижительно-ласкательную форму имени) отдала свою душу негодяю Мертвецову, так всплеснула пухлыми руками, что чуть было не выбила у своей дочери из рук тарелку с борщом. Они собирались мирно, по-воскресному пообедать, как вдруг неожиданное известие сбило все планы и погрузило Аделаиду в раздумья такой тяжести, каких этот крошечный мозг давно не переживал. Опасаясь перегрузок, Аделаида позвонила в студию Геньке, даже не подозревавшей о её существовании, и посоветовала не доверять самозванцу Мертвецову – этому Лжедмитрию российской психотерапевтической школы!
– Да будет вам, – весело отмахнулась Геня, ошибочно приняв Аделаиду Бум за не в меру заботливую фанатку, – с доктором я сама разберусь. И не Лжедмитрий он, а Дориан Грей!
Геня давно переименовала Дениса Григорьевича в Дориана – и тот, как ни странно, отзывался. Мама-Мертвецова и папа-Мертвецов, узнав, что к сыну на приём приходит сама Гималаева, взяли низкий старт: Геня была не замужем, а годами почти равна Денису. Прекрасная партия, сынок, облизывались родители, но доктор отмахивался от маминых (она тут была главная) провокаций. Геня не смогла бы пройти ни внешний, ни, что намного важнее, возрастной контроль.
И точно так же ни возрастной, ни внешний контроль не смогла бы пройти очередная пациентка доктора Мертвецова – самая обыкновенная блондинка Катя П. Впервые распахивая перед нею дверь, доктор не догадывался, что именно благодаря ей сам – впервые в жизни – вскоре испытает мучительную зависимость.
Любимая пациентка Геня Г., с которой доктор Грей, помимо прочего, обсуждал книжки, фильмы и смысл жизни, ни за что на свете не поверила бы в такой сюжетный поворот и признала бы его неубедительным. Прочти она про такое в романе, освистала бы автора: как же так, герой одержим юницами, а лапки складывает пред взрослой женщиной?.. Но жизнь, к счастью для всех нас, отличается от романа ещё и тем, что не нуждается ни в логике, ни в оправданиях – всё может быть, и точка.
Денис и сам себя понять не мог – точнее, он прекрасно мог себя понять, и даже прописать себе лечение, но ему впервые в жизни не хотелось бороться с зависимостью. Более того, он начал понимать и даже уважать чужую одержимость – Кате П. потребовался всего лишь месяц, чтобы стать для своего доктора не только клиенткой, но вдохновением и радостью.
Возможно, всё дело было в веснушках – мелких золочёных зёрнышках, которыми Катин нос был присыпан, как пудрой. А может, в тёплом запахе её кожи – не то свежевыпеченный хлеб, не то горячее, из-под утюга, бельё. Скорее же всего, дело было в том, что Катя имела фатальное сходство с одной девочкой из пионерского лагеря «Салют», безответной любовью к которой юный Мертвецов промучился две смены подряд… Да что гадать! Коллеги Дениса Григорьевича могли злорадствовать и ликовать – доктор пал жертвой болезни и не собирался исцеляться сам.
Прохладным сентябрьским вечером они с Катей П. бродили по рынку, как по лучшему из музеев. Катя выбирала грибы-лисички, гладила громадные головы тыкв, покупала самые блестящие баклажаны и самые скрипучие, тугие початки кукурузы, завёрнутые в листья, как в пелёнки. Доктор М. нёс сумку, доверху набитую дарами природы, и думал, что природа и сама – дар. Как Катя. Как зависимость. Как любовь.
– Интересно, почему так получается, – сказала вдруг Катя, – лишь только ты научаешься любить свою жизнь, как тут же следуют перемены… Просто потому, что ты стал старше, или выросли дети, или нужно сменить работу, развестись, уехать…
– У Гималаевой есть об этом целый роман, – откликнулся Денис.
– Книга?
– Да, книга. Она её выпустила ещё до того, как…
Тут Денис Григорьевич прикусил язык, но Катя словно бы не обратила внимания на его оговорку (на самом деле это была не оговорка, а нарушение всех профессиональных норм и правил).
Осенний ветерок услужливо приподнял им воротники и подтолкнул в спины – чтобы поспешили навстречу прекрасному будущему.
Глава шестнадцатая,
рассказывающая историю домработницы, которая любила ездить в Париж
Ранним утром, когда первые зевающие трамваи выползают из депо, мальчишки досматривают сладкие рассветные сны, а собаки спешат к дверям с поводками в зубах, по нашему городу шагают сотни похожих друг на друга женщин. Далеко не каждая из них – крашеная блондинка, и одеты они по-разному, но всё равно при этом похожи друг на друга чем-то неуловимым, окутывающим их, как шлейф. Может быть, это едкий запах моющих средств, впитавшийся в поры и заменивший духи, может, вечная и уже неизлечимая усталость в покрасневших от недосыпа глазах, а может, тот подозрительный взгляд, с которым они рассматривают уличные лужи, неряшливые заборы и граффити на гаражах: весь тот непорядок, который им не под силу устранить.
Эти женщины – домработницы, и на протяжении долгих восьми лет Аллочка Рыбакова была одной из них. Худенькая, молчаливая, со всеми вокруг вежливая, Аллочка никогда не рассказывает, почему она выбрала такую работу, – и мы сделаем это за неё. Скорее всего, это будет первый раз в жизни, когда кто-то возьмётся выполнить работу за Аллочку, привыкшую всегда и всё делать своими собственными руками.
Когда в семью Аллочки пришли тяжёлые времена, она не стала плакать и жаловаться на жизнь, но очень вовремя вспомнила свою бабушку.
– В конце концов, я внучка Аллы Ивановны! – заявила Аллочка матери и уже через день нашла работу в богатом доме, где за страшные грехи уволили очередную домработницу: та поставила грязную обувь в шкаф, забыла помыть хозяйкин коврик для йоги и выстирала бельевые кружавки в машине.
Аллочка глубоко вдохнула, а потом выдохнула из себя спесь, брезгливость и уверенность в завтрашнем дне. Всё, что мешало заниматься унылым повседневным трудом, вылетело из Аллочки вместе с этим мощным выдохом. Пожалуй, даже слишком мощным для такого хрупкого тельца.
– Какая-то вы тоненькая, – недовольно сказала хозяйка богатого дома, безуспешно сжигавшая мясные балконы, на манер гриба чаги произраставшие на её боках и животе. Йога, тренажёры, потение в сауне, диета, таблетки – ничего не помогало, мерзкие балконы грозились перерасти в террасы, а потом подчинить себе всю площадь изобильного хозяйкиного тела. Аллочка выглядела рядом с ней, как прутик на фоне дуба.
Хозяйка ещё что-то недовольно пробурчала, глядя, как тощая домработница уходит с ведром в руках в дальние комнаты. Когда же Аллочка окончательно скрылась из виду, обладательница балконов распахнула перед зеркалом халат и вновь принялась изучать ненавистные пышные формы.
Аллочка методично отмывала чужую грязь со стенок унитаза, ползала по полу, сметая чужие волосы, и думала о бабушке. Интересно, откуда бабушка могла знать, что однажды Аллочке пригодятся все её уроки? Она и впрямь умела делать всё и, что намного важнее, не боялась никакой работы. Аллочка, впрочем, вообще ничего и никого боялась – и в этом они с Аллой Ивановной тоже были схожи.
Алла Ивановна, строгий и неподкупный товаровед серьёзного, как гимн, предприятия, была исключительной хозяйкой – настолько исключительной, что многие знакомые хотели бы исключить её из числа своих знакомых. Хозяйственная одарённость Аллы Ивановны пускала их по тупиковому маршруту зависти, не способной переродиться ни во что вдохновляющее.
– Вчера приходили с работы, – заводила Алла Ивановна любимый монолог, – и все, буквально все хором сказали: «Аллыванна, ну как же у вас всегда чисто! И как всегда вкусно!»
Эти вежливые хоровые «все», которые приходили с работы к Алле Ивановне даже после того, как она вышла на пенсию, представлялись маленькой Аллочке слипшимися боками и маленькими, словно дефицитные шпроты из баночки. Для Аллы Ивановны, впрочем, шпроты были не дефицитом, а прозой жизни – и она очень страдала, что любимая внучка не ценит достигнутых бабушкой пищевых благ, а трескает бедняцкие продукты – чёрный хлеб с солью и твёрдые, как принципы советского человека, баранки. Загадочных «всех» Аллочка так ни разу и не увидела – для визитов они выбирали дни, когда девочки в гостях не было.
Аллочка любила сверкающую, как хрустальная шкатулка, бабушкину квартиру, набитую ценными вещами – их товароведу дарили по случаю и продавали в ответ на прямую просьбу. И, конечно, девочка очень хотела бы увидеть, как синхронно склоняются – будто в балете – головы вежливых «всех», как они восторженно складывают губы колёсиком и прижимают к груди ладони с выпрямленными пальцами – словно пытаются остановить рвущийся на волю крик.
Бабушка терпеливо учила Аллочку всему, что умела делать сама. Как мыть окна, чтобы не оставалось разводов, как гладить рубашки, чтобы на рукавах не было складок, как сварить такой борщ, чтобы муж забыл шляться по друзьям и шёл домой на запах, как собака на голос хозяина. Этот абстрактный муж в бабушкиных наставлениях был самым популярным персонажем, а вот живой и морщинистый, как старое яблоко, дедушка Володя упоминался редко – то ли недотягивал до звания мужа, предпочитая ухоженным комнатам родного дома далёкий замшелый гараж (даже борщ не помогал!), то ли просто надоел Алле Ивановне за долгую совместную жизнь… Дедушка Володя сидел в гараже с мужиками почти каждый вечер – маленькой Аллочке гараж представлялся чем-то очень позорным, но когда она видела дедушку по возвращении, то каждый раз забывала об этом: дед весь лучился счастливыми морщинками и обязательно вручал ей карамельку с отбитыми боками.
Алла Ивановна не терпела всего две вещи в своей жизни; зато какие это были вещи! Первая – человеческая неопрятность во всей широте проявлений: с ней бабушка вела непрекращающуюся войну. Второй вещью были непонятные поступки, выходящие за рамки, однажды установленные Аллой Ивановной и отныне не подлежащие отмене, как не подлежал отмене волосяной узел на макушке, придававший бабушке сходство со снеговиком в ведре. Например, бабушка терпеть не могла людей, которые без повода ходят друг к другу в гости или, того хуже, путешествуют. «Вот, ходят, ездят, Бог в помощь разносят!» – ворчала Алла Ивановна, сама, впрочем, любившая принимать у себя всех, но лишь по строго определённым дням и после долгой подготовки.
Взрослая Аллочка Рыбакова тоже не любила внезапных гостей – и вообще всё чаще слышала внутри себя бабушкин голос, бурчащий не самые приятные вещи. Выключить в себе бабушку становилось труднее от года к году. Возможно, однажды я стану точно такой же, как она, думала Аллочка.
Какой точно?..
Алла Ивановна была из тех женщин, которые каждый свой день перепрыгивают от одного дела к другому – как будто переходят болото по кочкам. Они очень мало спят, едят на ходу и презирают лентяев как класс. С годами усталость и самодовольство женщин этой породы приводят их сначала к депрессиям, а потом (если дело происходит в наше время) – к психотерапевтам. Если повезёт с врачом, аллу ивановну медленно переформатируют, разворачивая лицом к самой себе. Учат отдыхать и не хвататься судорожно за самые разные дела, учат не мыть посуду по целому дню и равнодушно смотреть, как в корзине копится нестираное бельё. Хорошо, если аллу ивановну удастся отправить одну на курорт, и жаль, что, как правило, она совершает побег с курорта после первого же ужина в ресторане или ночёвки в гостиничном номере, где всё не так, как нужно.
Вычищая чужую раковину, развешивая чужие кофточки по чужим плечикам и опрастывая лоток за чужим – очень сильно линяющим – котом, Аллочка думала о том, что она, конечно, бабушкиной породы, но не во всём, нет, не во всём! Прежде всего Аллочка совершенно не нуждалась в благодарности – ей вполне хватало зарплат и премий. Подарки от хозяев – все эти просроченные помады, халявные шампуни и бонусные сумки – раздражали её ничуть не меньше, чем подношения не в меру активных родителей в далёкие годы школьного учительства. «Алла Витальевна, конфеточки к празднику», – лебезила мама очередной дурочки, выкладывая на стол прямоугольную коробку с надписью, как сейчас помнит Аллочка, «Искушение».
Каким далёким казалось теперь это учительство… Работать в школе очень быстро стало роскошью, позволить себе которую могли только обеспеченные – Аллочке же опереться было не на кого, наоборот, это на ней со всех сторон «висели» родные и близкие… нет, пока ещё не покойной, а деятельной и сильной женщины. Мама и папа – советская версия Филемона с Бавкидой, трогательные и беспомощные, как зимние птички. Папа так и не отучился от слова «товарищи» и привычки каждый час слушать новости, мама же во всей окружающей действительности безошибочно выделяла только то, что сохранилось неизменным со времён молодости, – прически её, костюмы и мысли были такими же, как в семидесятые. Не заграничные семидесятые – кузница моды и музыки, – а наши, родные, унылые, как пельменный дух в забегаловке. Кроме Аллочки, у мамы с папой была ещё и младшая дочка – вредный сестрень по имени Анька, особа въедливая и дотошная, как завуч (завучем она в конце концов и стала). На Аньку в смысле помощи никто не рассчитывал – она крайне неудачно выскочила замуж, родила мальчика и снова вернулась к родителям.
Когда семью в очередной раз накрыла безденежная пелена – Аллочка узнавала её по запаху, когда в доме вдруг начинало резко пахнуть бедностью, как пылью в давно не убранном жилище, – явилась еще одна беда. Заболел отец, заболел тихо, страшно и быстро. Мама, ничего до той поры вокруг не замечавшая и стоически принимавшая всё, что выдавали сверху, заболела за ним следом; у него – рак, у неё – инсульт. Денег на лечение надо было тратить столько, сколько Аллочка даже во сне увидеть не могла. И помочь некому – Анька прикрывалась сыном, объясняла, что у неё нет возможности заниматься родителями и зарабатывать им на лекарства. Она сама мать, твою мать! Бездетная Аллочка играла скулами, как актёр из фильма о трудной жизни английских джентльменов, но спорить с сестрой не спорила – мальчишка всегда был рядом с матерью, и у него такие круглые, такие карие глаза…
Вот тогда Аллочка Рыбакова и поняла, что в её жизни не случится чуда. Никогда не обнимет её тёплыми руками заботливый человек и не откроет ей ни свою душу, ни тайну банковского вклада. Мечты закончились вместе с молодостью – ведь даже Аньке уже исполнилось тридцать, и сын сказал ей в зоопарке: «Смотри, мама, бегемоту всего двадцать восемь, он моложе тебя!»
Отец вскоре умер, но в последние месяцы мучился не так, как мог бы, – всё благодаря Аллочкиным деньгам. Хозяйка, с её мясистыми балконами, оказалась совсем неплохим человеком, и, убедившись в Аллочкиной всесторонней чистоплотности (она великолепно драила квартиру, но даже не помышляла о том, чтобы отдраить заодно и хозяйкиного мужа – депутата по имени Эрик Горликов), осознала, какое же ей досталось сокровище! Подружки Балконши только успевали увольнять прислугу. У Таньки домработница пришла однажды пьяной с раннего утра, да еще и с собой, видно, принесла и догонялась втихушку, пока Танька не унюхала наконец подозрительное амбре. У Лизки няня оставила пятилетнюю Еву на прогулке и закрылась в хозяйской спальне с мужиком. У Маринки… да что перечислять! Вы же сами знаете, как сложно найти в наше время приличную няню и надежную домработницу – гораздо проще обзавестись новым мужем! А Балконше сокровище досталось практически даром – она не переплачивала Аллочке и поначалу не волновалась о том, что домработница попросит расчёт.
Отца Аллочка похоронила, а вот маму удалось вылечить. Совсем старенькая и грустная, как все одинокие Бавкиды, мама сидела дома с кареглазым внуком, пока Аллочка бегала со шваброй по чужому дому, а сестрень вразумляла в школе чужих детей.
Больше всего в процессе работы Аллочку поражало следующее. Откуда в чистом доме при регулярной и старательной уборке берётся столько грязи? И почему хозяйкины длинные волосы устилают равномерным ковром всю их немаленькую квартиру? Тёмные длинные волоски встречались и в кухне, и в ванной, и даже на лоджии, куда Балконша заходила совсем редко… Можно подумать, что хозяйка линяет – но нет, с гривой у неё всё было в полном порядке, и она этим явно гордилась. Однажды Балконша вернулась из очередной поездки в Париж – они ездили туда с Лизкой и Танькой за тряпками – и подарила Аллочке шампунь для стареющих волос. Аллочка забросила подарок подальше, пока его не откопала дотошная сестрень и не провела полевые исследования. Шампунь оказался отменным – Анька после него так распушилась, что можно было идти на улицу без шапки, – но Аллочке всё равно было обидно. И ещё было обидно за Париж. Разве можно ездить туда за шампунями и тряпками?..
Аллочка была влюблена в Париж, как в мужчину, – но никогда не думала всерьёз о том, что у этой любви есть хотя бы крошечный шанс. Та жизнь – с Парижами, с шоколадными обёртываниями в салонах красоты, с ботинками за пятьсот долларов – проходила далеко от Аллочки, настолько далеко, что она даже не задумывалась о том, что имеет право туда заглядывать. Вот заглядывать под стульчак и хозяйскую кровать она имела полное право – и так привыкла следить за чистотой, что и у себя дома внезапной тигрицей кидалась на непорядок.
– Смотри, у тебя приход! – веселилась Анька, когда Аллочку в очередной раз скрутила на месте нервная судорога, и она прервала обед, заметив на полу липкое пятнышко и кинувшись к нему, как грибник к боровику. Такое повторялось регулярно: даже принимая ванну, Аллочка углядывала вдруг непротёртый кусок панели или каким-то чудом сохранившийся островок грязи на полу – и тут же вылезала с хлюпаньем из тёплой душистой воды, принимаясь за работу. Однажды она яростно бросилась с тряпкой на солнечные полосы света, изрисовавшие лакированный шкафчик, и далеко не сразу поняла, почему они не отмываются.
А ещё Аллочке ужасно хотелось вымыть, вычистить весь дом разом и… запретить пользоваться комнатами, покрыть чехлами мебель. Главное – не видеть, как всё вновь упрямо покрывается жиром, грязью и пылью…
Приготовленную еду Аллочка жалела меньше – когда её великолепный борщ исчезал за два дня вместо запланированных четырёх, это было приятно. Депутат Горликов мурлыкал над её блюдами, как кошка над голубем, – и часто заглядывал в кухню задолго до окончания готовки:
– Аллочка, ну так что там у нас сегодня?
Балконша же предпочитала лёгкую диетическую кухню – во всяком случае, именно такими словами выражались её гастрономические грёзы. И днём она, молодчина, держалась изо всех сил – обходила кухню стороной и мазала губы диоровской помадой, чтобы жаль было съесть её во время еды. К ночи у Балконши истощались силы, она являлась на кухню словно тень Дария, и пожирала уже остывшие Аллочкины деликатесы, как Сатурн – своих детей.
Детей у Горликовых, к слову, не было – и это сближало их с Аллочкой.
Гром грянул, как водится, не из тучи – Балконша вновь терзала парижские магазины, когда у Аллочки умерла мама. На пятый день сиротства бледная Аллочка привычно поднималась по ступенькам горликовского таунхауса. Обычно в этот час депутат ещё спал, и Аллочка открывала дверь своими ключами – Горликовы так доверяли домработнице, что не имели от неё тайн. Но в то роковое сентябрьское утро свежий Горликов в шёлковом халате поджидал Аллочку в прихожей и, не дав даже изумиться как следует, неумело набросился на неё. Не с ножом, разумеется. С ласками.
Картинка получалась, если честно, комическая. Представьте себе изнурённую тяжким физическим трудом женщину с филологическим образованием, которая молча и, можно сказать, даже вежливо отбивается от пыхтящего краснощёкого толстячка, запутавшегося в длинном халате с восточным узором. Горликов, не будучи агрессором по природе, быстро сдулся, отступился от Аллочки и, упав на персидский ковёр, вывезенный неугомонной Балконшей с какого-то туристического востока, закрыл лицо руками. Аллочка перевела дух, мучительно пытаясь сообразить, что ей теперь делать и как себя вести. Ковёр был покрыт толстым слоем кошачьей шерсти, с кухни несло тяжким, как длань судьбы, сосисочным амбре, а лежащий на ковре хозяин выглядел диванным валиком, по случайности угодившим в прихожую.
Что делать, что делать? – одна и та же мысль, как сошедший с ума философ, билась Аллочке в висок, а Горликов тем временем выдавил из себя нечто среднее между голубиным клёкотом и рыданием смертельно несчастного человека.
Думайте что хотите, но Аллочке Рыбаковой, не знакомой в те годы ни с выражением, ни даже с понятием «сексуальное домогательство», стало жаль депутата. Она села рядом с ним на ковёр и машинально начала сгребать ребром ладони кошачью шерсть.
– Вы, Аллочка, не сердитесь на меня, – плакал депутат Горликов, – вы просто не представляете, какая у меня сейчас жизнь!
И прерывисто, по-детски вздохнув, начал рассказывать домработнице о всех своих страхах и крахах, о том, как замучили его вечные претензии супруги, а также глупые соратники, одышка и плохая погода.
– Пожалуйста, только Наташе про это не говорите, – взмолился Горликов, почему-то показав при слове «это» на свой шёлковый халат, нуждавшийся, как отметила Аллочка, в скорейшей стирке. – Я всё для вас сделаю, всё что хотите – может быть, у вас есть какое-нибудь особенное желание? Премия? Поездка?
Он щёлкнул пальцами, как волшебник, вызывающий из памяти нужное заклинание:
– Париж?..
Анька была возмущена до глубины души – при условии, конечно, что у Аньки имелась душа. Скажем иначе: она была возмущена, как народный разум, готовый идти в смертный бой! Слава богу, что Аллочка не успела выслушать всех её слов:
– Зачем тебе в Париж? Даже я, работник школьной культуры, не была в Париже, а ты что там будешь делать? Пол мыть в гостинице? Лучше бы племянника в хороший санаторий отправила, а то… Пари-и-иж!
Аллочка отключила слух, как будто нажала нужную кнопку на пульте. Борща Горликовым она наварила на неделю вперёд, а ещё нажарила целую кастрюльку крохотных, как каштаны, котлеток, напекла стопку тонких блинов и даже успела сделать творожный торт «Ингрид».
Балконша милостиво согласилась отпустить Аллочку на десять дней в отпуск, вот только о Париже Горликов просил не распространяться, Наташе это было знать ни к чему.
– Надеюсь, вы понимаете, что это простая благодарность, – заявил Горликов, вручая домработнице пластиковый конверт с документами, но от Аллочки не ускользнул затравленный взгляд, который скользнул по её щеке.
Бедный хозяин, подумала Аллочка. Боится, что я буду его теперь неотступно шантажировать. Зря он смотрит так много плохих фильмов.
В аэропорту, вытаскивая чемодан из такси, Аллочка с удивлением обнаружила, что тащит его левой рукой – за время работы на благо семьи Горликовых левая рука её стала практически такой же сильной, как правая.
И был Париж – осенний, лучший, именно такой, какой придумала для себя девочка Аллочка, читая роман про трёх мушкетеров. Страницы старой книги издательства «Жазушы» пахли в точности так же, как улицы Парижа. Утренний дух круассанов над мостовой. Кофейный туман Сен-Луи. Запах душистого, как апельсин, листа в саду Тюильри… Аллочка приходила в свой маленький отельчик только для того, чтобы переночевать, – и наутро всегда оставляла горничной чаевые. Она решила, что приедет в Париж ещё раз – может быть, она будет делать это каждый год. Аллочка вправе – в конце концов, ей не на кого сейчас тратить деньги, а сестрень может в кои-то веки сама позаботиться о себе и своём чаде. Чаду, впрочем, Аллочка купила французский подарок – толстого плюшевого Обеликса в полосатых штанах и с лицом Жерара Депардье. Она покупала его и думала о том, какая громадная разница между этим пухлым Депардье-Обеликсом и тем Депардье, что пакостил, тонкий и прекрасный, в «Вальсирующих»… Такая же точно разница, как между Аллочкой-домработницей и парижской Аллочкой: обе носили тоненькие перчатки, но у одной они были резиновые, а у другой – лайковые.
Так в Париже было хорошо, что домой возвращаться расхотелось совершенно – а ведь дома её очень ждали. Депутат Горликов ждал испуганно, мучаясь вопросом: правильно ли он всё сделал, или погорячился? Сестрень ждала Аллочку, заготовив целый ушат ядовитых словечек. Племянник – искренне и страстно, как все зашуганные дети. Балконша ждала Аллочку исступлённо, как периода зимних распродаж, и даже поделилась своими странными чувствами к домработнице с модным психотерапевтом Мертвецовым.
– Откровенничали? – улыбнулся модный врач. – Дружили? Подарочки дарили?
– Да нет, кажется, – заволновалась Горликова и начала копаться в памяти судорожно, как в косметичке, – за этим занятием она, к счастью, не заметила того, как неприязненно косился Денис Григорьевич на знаменитые балконы, обтянутые сегодня бархатным пиджаком. – Ну, то есть я ей, конечно, дарю иногда что-то по мелочи, но ничего серьёзного. И никакой дружбы, о чём вы?
– Молодец, – сказал Мертвецов. – С домашними помощниками – никаких отношений, кроме сугубо деловых.
Наталья нервно облизнула губы.
– Тогда почему же я так без неё скучаю?
– Потому что она очень хороший работник.
«Непонятно, почему все в таком восторге от этого доктора, – возмущённо думала Балконша по пути домой, где без Аллочки густо колосилась грязь и давно не чёсанный голодный кот сновал, как призрак, стараясь не встречаться в коридорах с таким же точно голодным хозяином. Борщ, котлетки и торт «Ингрид» жили теперь только в воспоминаниях. Аллочка же, к несчастью запаршивевших Горликовых, вообще о них не вспоминала… У неё был Париж, и единственное, чего ей хотелось, это чтобы он был с нею всегда.
В свой последний парижский вечер Аллочка открыла дверь русского ресторана на улице с многообещающим названием Дарю. Там было пусто, время ужина ещё не настало, и хозяин расслаблялся в компании слегка клюкнувшего типа: на столе перед ними дымились тарелки с борщом. Аллочка потянула носом и сразу поняла: борщ сварен в нарушение всяческих канонов.
– У нас закрыто, – сказал хозяин, скользнув, впрочем, взглядом по худенькой фигурке гостьи.
– И ещё у вас борщ неправильный, – отозвалась Аллочка, так что клюкнувший тип развернулся к ней полным корпусом:
– А вы можете сварить правильный?
– Могу, – не моргнув глазом сказала Аллочка, и хозяин бросил ей в руки фартук.
…Гостя звали Павел Николаевич Дворянцев, для своих – П.Н. Отведав Аллочкиного борща, он крякнул, свистнул и потребовал добавки. Подперев щёку ладонью, будто крестьянская девушка, Аллочка смотрела, как П.Н. задумчиво ест борщ, осмысляя каждый глоток.
– Борщ не так прост, как кажется, – изрёк наконец П.Н., вытирая губы салфеткой. – Многие ломаются именно на борще.
– Павлик, не обобщай, – раздражённо сказал хозяин.
– Я тут задумал один проект, – не обращая на него внимания, продолжил П.Н., глядя Аллочке в глаза, – мне нужны талантливые люди. Вы, кстати, откуда родом?
Балконша и Горликов так и не дождались своей Аллочки. Каждый отреагировал в соответствии с собственным темпераментом – Наталья собственноручно выбросила Аллочкины тапки и заказала в агентстве новую домработницу (та, как и предполагалось, пришла пьяной всего через месяц, но нас эта трагедия уже не касается). А Горликов заказал в церкви благодарственный молебен и завел себе постоянную любовницу по имени Анжела – очень худенькую и светлую, как мир в душе. Спустя два года Горликов неожиданно получил анонимный почтовый перевод на смутно знакомую сумму – кажется, именно столько стоила поездка в Париж их бывшей домработницы.
Аллочка быстро убедила П.Н. в том, что борщ – не единственный её козырь, и с первых минут сотворения канала «Есть!» находилась рядом с главным демиургом. С годами карьерный замах становился всё выше, и депутат Горликов, спустя семь лет пришедший в студию канала «Есть!» для участия в шоу, не узнал Аллочку в суровой деловой даме, сдержанно кивнувшей самой Гене Гималаевой. Аллочка и сама бы себя не узнала: от прошлого в ней осталась лишь вечная радость домашней работы и привычка каждый год ездить в Париж.
И борщ, разумеется! Борщ никто не отменял.
Глава семнадцатая,
где речь пойдёт о дорогах, которые мы выбираем, и о дорогах, которые выбирают нас
Пребывая в тесной шкурке старшего школьника, Гриша Малодубов с удручающей регулярностью был вынужден вставать лицом к лицу с проблемой выбора. И для него это было всё равно как стоять лицом к лицу с заклятым врагом. Родители Гриши, простые честные трудяги – шофёр и кассирша, – всегда всё решали за сына сами. Выбирали ему и друзей, и одежду, и даже увлечения: Гриша, как и папаня, каждые выходные обречённо проводил на Птичном рынке – покупал и продавал аквариумных рыбок. Этот нехитрый бизнес совместно с трудовой деятельностью приносил Малодубовым хорошие деньги – одевали Гришаню тоже с рынка, прекрасной и жуткой «тучи», освещавшей слепящим светом заморского дефицита тоскливый мир восьмидесятых. Вещи выбирала Грише мама – и хорошо выбирала! Дутая синяя куртка с надписью Parmalat, джинсы Lee, кроссовки Adidas, норковая формовка и мохеровый шарф с лейблой: но, к сожалению, даже самый правильный прикид не сочетался с внешними данными нашего героя и, более того, вступал с ними в яростный диссонанс. Гришаня родился блондином, волосы имел в точности такие белые, каких добивались миллионы землянок во главе с Мэрилин Монро, а кожные покровы, напротив, красные, да к тому же ещё и усеянные действующими вулканами гнойных прыщей. Тут, сами понимаете, и джинсы Lee бессильны помочь! Девочки Гришани сторонились, и даже друганы не звали вместе ржать и плеваться у гаражей. Впрочем, самые хитрые из них всё же сохраняли с Малодубовым приличные отношения: втайне от матери он давал друзьям «потрепаться» в джинсах или «сфоткаться» в формовке. Боже, какое дурное было время!
Хорошо Гриша выглядел только зимой и в темноте – скупой фонарный свет удачно ложился на сверкающую нефтяным блеском куртку и облизывал по волоску каждый сантиметр формовки. А вот летом, когда долгие солнечные дни царят даже в далёком уральском городе, где грустно произрастал Гриша, ему приходилось почти безвылазно сидеть дома. Дружная компания сразу же скисала при появлении Прыща, как окрестил его один из корешей, регулярно одалживающий по зиме заветный куртярик. А ведь как Гриша хотел с ним подружиться – с этим прекрасным коротконогим и властным юношей по имени Толян! Именно этот роскошный Толян прижимал к расписанной непристойностями ржавой стене гаража любимую девушку Малодубова – Жанусика Оглоедову.
– Ничего, Гришаня, будет и на твоей улице счастье, – утешали его родители, а он разглядывал их лица сквозь злые, будто луковые слёзы и думал, что белёсую масть свою унаследовал от папани, а дурную кожу, конечно же, от мамани: у неё до сих пор на щеках рубцы – глубокие, как ямы от снарядов. И пусть люди они были, без сомнения, хорошие и щедрые, всё равно Гриша Малодубов предпочёл бы родителей более авантажной внешности.
Счастье на Гришину улицу действительно явилось – с громадным, почти непростительным опозданием. Шикарный властолюбивый Толян к тому времени окончательно спился, Жанусик Оглоедова сделала неплохую карьеру в овощном отделе супермаркета, родители состарились, а прыщи на Гришином лице вполне пристойно заросли, оставив о себе несколько героического вида отметин. Светлые волосы взрослый Гриша оттенял безжалостным искусственным загаром, а привычка одеваться в самое лучшее и самое дорогое начала работать теперь уже только на него одного.
Счастье царапнулось в двери Малодубова рано утром в четверг, после кратковременного дождичка. Гриша открыл двери спросонок, подтягивая трусы к подмышкам, и увидел перед собой прекрасную девицу в распахнутом пальто…
– Решай немедленно: или ты впускаешь меня, или я ухожу навсегда! – выпалила девица, словно разрядила в Гришу целую обойму.
Выбирать немедленно и вообще выбирать Гриша, как известно, не умел. Он и сейчас с трудом отбирает нужные ему продукты в супермаркетах и с непонятным, вредным для повара упорством сторонится рынков. (Но если бы его спросили, хочет ли он очутиться вновь в позорном школьном прошлом с нынешним багажом, в вальяжном облике, с Нателлой под руку… никакой проблемы выбора вообще бы не возникло, вот!)
– Меня зовут Нателла, – сообщила девица, покуда Гриша сторонился, пропуская её в дом. – Можешь звать Натой, можешь вообще никак не звать, только свари по-быстрому кофейку, а?..
Услышав конкретную просьбу (ещё лучше – приказ), Гриша Малодубов радостно и споро приступал к выполнению. Кофеёк, тем более, как раз по его части! Для такого случая можно взять фушоновский, с лепестками роз – дар признательного клиента… Заваривая кофе для развалившейся на диване Нателлы и косенько, по-птичьи, поглядывая в её сторону, Гриша Малодубов вновь вспоминал ненавистный восьмой класс.
– …Прыщ, а ты куда собрался? – Толян развернулся вполоборота, глядя на Гришу в упор. На парте перед Толяном синела свеженарисованная чернильная вагина, увидев которую, и без того краснокожий Гриша окончательно побагровел. И жутким спазмом воли заставил себя ответить:
– Я… это… наверное, организация общественного питания.
– К хавчику поближе, – одобрил Толян. Сам он вдумчиво записался в водители, Жанусик Оглоедова – в торговлю. Обязательная для советских школьников профессиональная ориентация, под которую отводился целый рабочий день, разливалась в те годы широко, как река в наводнение.
– У нас такой выбор рабочих специальностей, что каждый школьник сможет найти себе занятие по душе! – сказала директриса учебно-производственного комбината на встрече со старшими классами, и Гриша Малодубов от этого задора загрустил. Лучше бы ему сказали, куда идти. Лучше бы отправили силой. Лучше бы решили за него!
Лист, пущенный «по рядам», уткнулся в Гришу, как перст судьбы – изрядно исчёрканный перст. Одноклассники, похоже, ни в чём не сомневались, и быстро расписывались в нужных колонках, а Гриша потел и ненавидел себя за это – вот только пота ему ещё и не хватало для ослепительной красоты!
Он грыз карандаш, чесал за ухом, пинал парту – бесполезно. Он не мог сделать выбор и не видел рядом с собой никого, кто дал бы ему дельный совет. В графе «Основы медицинских знаний» – фамилии главных классных «чуханов», Алексеева и Симонова, рядом с которыми даже Гриша чувствовал себя нормальным пацаном. Водителей записано уже такое количество, что будет явный перебор, и его, как всегда, не возьмут. Дошкольное воспитание, швейное дело и торговля – это для девочек, думал несчастный Гриша, скользнув влюблённым взглядом по синим буквам Оглоедовой – как по синим волнам… В слесаря и плотники идти почему-то не хотелось, новомодная информатика казалась скучной, как вечер в кругу семьи, и единственное, что в итоге осталось от широкого выбора профессий, – та самая организация общепита. Здесь было всего две фамилии – в повара записались девушка Лена с кровавой фамилией Палач и юноша Олега Бурмистров, который нынче блистает на кухне знаменитого ресторана «The Пирожок». Прививка, которую влепили им тогда на УПК, оказалась куда более действенной, чем думали даже те, кто затеял всё это ориентирование.
Гриша зажмурился и поставил под витиеватой подписью Бурмистрова свою маленькую закорючку, напоминавшую покосившийся твёрдый знак.
Это был первый в его жизни самостоятельный выбор. Ангел-хранитель облегчённо смахнул со лба золотистый локон, и Грише сполна отвесили удачи и везения.
– …Прыщи, мой милый, это молодость, – сказала Нателла, отхлёбывая ароматный кофе и деликатно вылавливая из чашки розовый лепесток. – Вкусный кофе!
– Фушон, – пискнул Гриша, раздосадованный тем, что не говорил, кажется, ни слова ни о каких прыщах. Впрочем, зачем говорить – вон они, проклятые бубоны, алеют в зеркале и видны аж за несколько метров!
Нателла поставила чашку на стол и решительно дёрнула ворот блузки – так мужчины расслабляют узел надоевшего галстука. В Нателле была всего лишь капля восточной крови, но именно эта капля определяла общее направление живого потока. Гриша так и не решился спросить у неё в тот странный день, откуда она явилась и почему выбрала именно его дверной звонок: хватило того, что она явилась и выбрала. Лишь в первую годовщину брака, отменив по такому случаю железное правило не кашеварить дома, Гриша поинтересовался:
– А всё-таки: откуда ты тогда взялась?
Нателла торопливо обваливала куриные печёнки в миндальной крошке и, не отрываясь от процесса, пробормотала:
– Мы поспорили с девчонками, что я зайду в любую квартиру, и мне дадут там кофе.
Гриша замер. Нателла могла выбрать любую дверь в доме – но выбрала ту, за которой был он, Гриша! Они могли никогда не встретиться, но встретились, и теперь вместе готовят праздничный ужин: тёплый салат с куриной печенью, суп-пюре из кинзы с картофелем, кручёный шашлык с диким рисом, похожим на разлохмаченные семечки, и шоколадный торт с малиной.
Гриша отлично помнил своё первое блюдо, приготовленное под строгим приглядом шефини – отставной заводской поварихи Галины Павловны, коротающей тягучие пенсионные дни в УПК.
– Это самое, дети, сегодня мы будем готовить, это самое, – первым делом сообщила она старшеклассникам, собранным со всего района. Между прочим, среди девочек здесь были вполне пристойные экземпляры. Один такой экземпляр, белокурый и худенький, громко хихикнул, и Галка-Палка, как её вполне предсказуемо прозвали упэкашники, тут же покраснела и разозлилась:
– Я им, это самое, пришла учить готовить еду, а они, это самое, хихикают… Я, может, не мастер говорить, но научить вас готовить, это самое…
Тут она, бедная, окончательно запуталась и сама засмеялась – веселее блондинистого экземпляра.
– Давай вот ты, – отсмеявшись и вытерев слёзы, Галка-Палка поманила пальцем Гришу. – С тебя начнём. Будем, это самое, готовить омлет.
Гриша вышел вперёд, к учебной плитке, и уткнулся носом в сиротский набор продуктов, выложенных на столике: яйца, молоко, маргарин.
– Берёшь, это самое, яйцо, – поучала Галка-Палка, – и разбиваешь его о краешек, вот так…
Гриша покорно разбил яйца в мисочку, вылил туда же строго отмеренные четыре столовых ложки молока и принялся взбивать смесь венчиком. Галка-Палка смотрела на него влюблённым взглядом юной девушки, класс замер, а Гриша лихо всыпал взбитому омлету соль на рану, разогрел сковородку и вылил туда смесь таким эффектным движением, что Олег Бурмистров, кажется, даже присвистнул.
– Дома готовим, да? – обрадовалась Галка-Палка.
Нет, Гриша не готовил дома – мать подпускала их с отцом к кухне, лишь если требовалась грубая и неквалифицированная мужская сила. Мать была неплохой стряпухой, но так ревностно относилась к делу приготовления пищи, что это всё очень усложняло. Отец по молодости и незнанию хвалил чужие пироги и всякий раз получал после этого охлаждение, что на кухне, что в спальне – впрочем, он довольно быстро понял, что можно, а чего категорически нельзя говорить при Аннушке. Готовить для неё было всё равно что для других дамочек ходить по врачам: лечение! Любые неприятности, от крошечной до всеохватной, маманя несла в кухню, и там переплавляла в жаркое и пирожки, варила из них супы, размазывала кремом по торту – и никто никогда не догадался бы, из чего на самом деле приготовлены Аннушкины блюда. Может быть, лишь самый чуткий гость (каких, впрочем, у Малодубовых почти не водилось) уловил бы грустную горчинку в безупречном заливном или отметил бы явственный слёзный привкус в соусе…
– Нет, – мотнул головой Гриша, – я вообще первый раз взял это самое в руки.
Он не хотел передразнивать Галку-Палку, шутка вырвалась у него случайно – как платок из руки на ветру, – но дело было сделано, аудитория зашлась в припадке хохота, а Галка-Палка зарделась таким краснознамённым колором, что Гриша даже отшатнулся в сторону от поварихи – вдруг чем огреет! Поварёшки, шумовки, дуршлаги и прочий инструмент удобно лежал неподалёку. Ленка Палач и Олега Бурмистров, утирая слёзы, на глазах влюблялись в одноклассника – в конце концов, прыщи у него когда-нибудь пройдут, подумала вдруг Ленка. Тут и Гриша начал наконец смеяться вместе со всеми, а следом за ним зашлась в стенобитном хохоте и Галка-Палка, добрая, как большинство толстух.
Дома он в первый же вечер попытался повторить эксперимент – и поначалу устроил на кухне такую республику чад, что даже соседи прибежали узнать, что горит. Мамани с папаней, к счастью, дома не было, до их возвращения Гриша всё отмыл, проветрил и победно водрузил на стол пышный, как кустодиевская купчиха, омлет. Он был воздушным, вроде пены морской, и при этом толстым, не хуже подушки; сверху Гриша любовно накидал мелко настриженный зелёный лук и несколько размолотых перчинок. Маманя тяжело двинула табурет и уселась к столу, как судья – в кресло. Отец тем временем уже доел первую порцию и тянул тарелку за добавкой.
– Ну как? – волновался Гриша.
– Ничего, – осторожно сказала маманя, распробовав первый кусочек. – Вкусно даже, сына. А с чего вдруг?
Гриша смущённо пожал плечами – как художник, впервые принявший у себя в гостях музу и теперь не знающий, что ему делать со всем прочим миром.
Рассказал родителям про УПК и Галку-Палку, и маманя временно успокоилась. Папаня же и вовсе не переживал: омлет сын сварганил вкусный, не придраться. С корочкой, мягкий внутри, взбитый на сметане…
Вечером, засыпая, Гриша Малодубов поймал себя на том, что считает дни до следующего вторника, когда надо будет идти в УПК. Вскоре вторники стали для него самыми любимыми днями – и даже сейчас шеф-повар ресторана «Модена» Григорий Малодубов предпочитает всем прочим дням недели скромный, милый вторник…
В один такой вторник, что поначалу тоже прикидывался скромным, Галка-Палка привела подопечных в настоящую кухню настоящей заводской столовой. Там командовали мясолицые бабоньки в крахмальных колпаках: они орали друг на друга с таким же пылом, с каким нёсся из-под гигантских крышек ароматный пар, но при виде Галины Павловны и её великовозрастных учеников, наряженных в белые халаты (Гришины прыщи алели в первом ряду), сразу же расцвели.
– Я тут не для «галочки», – объясняла бывшим товаркам взволнованная Галина Павловна. – Дети уж очень, это самое, толковые. Марья Петровна, я покажу им кухню?
Неразговорчивая, но гневливая, как это вскоре выяснилось, Марья Петровна кивнула Галке-Палке, не останавливая вечный двигатель лопатки, крутившей на дне кастрюли бесконечные восьмёрки.
Кухня – вот настоящий вечный двигатель! – внезапно прозрел Гриша. Здесь никогда не прекращаются движение и жизнь!
Не подозревавшая о высокопарных мыслях ученика, Галка-Палка вела группу в самое жерло, где рождались на свет знаменитые столовские щи, рыбные котлетки, твёрдые сочники с творогом и мутные, как утро алкаша, компоты из сухофруктов. Ленка Палач углядела синюю букву «Щ», намалёванную краской на боку громадной кастрюли, – сама Ленка поместилась бы в такой кастрюле без всяких ухищрений. А Гриша только успевал головой вертеть – всё поражало его в этом хорошо продуманном аду. И огромные посудины – в самый раз варить грешников, – и циклопические ножи, и красные поварихи с их чертовски громким хохотом и дьявольски мрачным молчанием. Именно тогда Малодубов впервые заметил, как похожи друг на друга все столовские работники – феи общепита, королевы вкусноты… Мужчин здесь, разумеется, не водилось – на Гришу и Бурмистрова феи поглядывали кокетливо, как парижанки, и пуще прежнего стучали ножичками по огурцам, и опускали руки в ледяную воду, где матово светились картофельные валуны.
Галка-Палка вела экскурсию подробно и неспешно, как будто вокруг была не рядовая заводская кухня, какие тогда кипели по всему СССР, а как минимум дом-музей великого русского писателя. Спустя много лет, заступая на хозяйство в культовом ресторане «Модена», шеф-повар Малодубов вспомнил ту первую, грандиозную и вместе с тем убогую кухню, где были совершены его первые открытия.
Там, в кислых облаках капустного пара, Гриша впервые понял, что будет поваром, только поваром, и никем кроме повара. Продукты любили его, ножи ложились в руку так удобно, будто это была не человеческая ладонь, а ладно подогнанная выемка, ну а его кулинарные сочинения даже в скромные советские времена были открытием гастрономической Америки.
Галка-Палка до самой смерти жарко гордилась своим учеником. Кто ещё смог из тесных декораций советской столовки выпорхнуть в дали заграничных рестораций, и потом плавно осесть на главной должности в самом престижном заведении города? В техникуме от Гриши разве что сияние не исходило – соученики следили за его руками как скептики за фокусником. Призвание поманило Гришу пальцем, пересохшим от постоянного мытья, изрезанным и обожжённым, какими, собственно говоря, и должны быть пальцы шеф-повара. Вскоре Малодубов умел готовить всё, кроме хлеба и мороженого, – да и этому позднее научился. Родители привыкли и даже радовались: поначалу Гриша и дома готовил как одержимый, вытеснив маманю с кухни в спальню, где она теперь уютно отдыхала за сериалами, а сын очень вовремя подавал ей то чашечку кофе с ореховым тортом, то шоколадные блинчики, а то вдруг – коньячный пудинг, какого Малодубовы отродясь не едали. Вы бы не радовались?
И никогда в жизни Гриша, у которого за всё время кухонной славы не случилось ни единого серьёзного провала, не поверил бы, что однажды призвание обернётся к нему задом, а к лесу – передом.
Тогда он только начинал трудиться су-шефом в «Эдельвейсе». Все силы в этом ресторане были ухнуты в пользу дизайна помещения и красивой одежды ганимедов: на собственно кухню у хозяев не хватило пороху. Сейчас об «Эдельвейсе» у нас в городе никто не помнит, но лет десять назад это было знаменитое место! В конце концов, вкусно поесть можно дома или в узбекской забегаловке, но где ещё вы найдёте меню, вырезанные на деревянных дощечках? А клетчатые фартуки, которые там давали вместо салфеток? И живой, живее всех живых, огонь в камине, облизывающий дровишки, как кошка облизывает своих пока ещё не утопленных котят…
На кухне между тем царили разор и катастрофа – поддерживал всё это в рабочем, так сказать, состоянии высокооплачиваемый столичный повар Анатолий Градовский. В столицах Градовский не удержался, сполз, как чулок по ноге небрежной дамы, к нам в провинцию – и пустил мощный корень в ресторане «Эдельвейс». Ганимеды сплетничали, что корень этот активно обихаживала супруга хозяина лавочки Эльвина Куксенко, коротавшая в ресторане все свои замужние вечера. Гриша не хотел слушать сплетен: ему претили разговоры про внебрачные амуры. Он даже кино про супружеские измены не мог смотреть. Мучился, представляя Нателлу с чужим мужиком, и страдал от этого страшно.
Уценённый повар Градовский, знакомя Гришу с трудовым коллективом, брал каждого за шкирку, как напроказившего кота, и подталкивал вперёд:
– Вот это наша Даша, фейнер, блин, кондитер.
– А это – Стелла-овощерезка.
Стелла терпеливо сносила дурные манеры шефа, скорее всего, позаимствованные у кого-то уважаемого. В момент знакомства Стелла трудилась над салатами из редьки – и от тепловато-гнусного, зубного духа в комнатёнке было нечем дышать.
Градовский очень вовремя увёл Гришу к рыбной девушке Анжеле… а впрочем, там пахло ещё пуще.
– Анжела, наша рыбка. Царица разделки, враг чешуи. Маша и Наташа – посудные принцессы.
Гриша старался не смотреть в глаза работницам, ему стыдно было за грубость шефа – вот удивился бы он, увидав в этих глазах не отвращение и ненависть к начальству, а самую что ни на есть искреннюю женскую симпатию! Градовский умел нравиться дамам. Он не подозревал, что людям бывает больно, а такие обычно нравятся. Зато как повар Анатолий был середнячок. Голая техника – ни на одной струне, ни на двенадцати не сыграет так, чтобы сердце зашлось. Такое встречается у некоторых писателей: и метафоры на месте, и сюжет крепок, как броня, и тема актуальная, а души – не хватает. И всё без этой души распадается, разваливается по страницам, как в плохо склеенной книжке…
Начав работать, Гриша быстро разобрался, что к чему в «Эдельвейсе». В кухне Градовский появлялся редко, капризничал зато – часто, и сам готовил только то, что умел, а удавалось ему немногое. Рёбра гриль, грибной суп, четыре тривиальных салата, яблочный пирог с мороженым (и тот, кстати, делала кондитер Даша под немигающим присмотром шефа). Детский сад!
– Рыбу я не люблю, – признавался шеф Грише, – да и какая у вас тут рыба?
Гриша кривил рот – ну и что? Ему тоже не все продукты нравятся, но для шефа такие вольности недопустимы. Тем паче, что и у нас при желании можно найти приличную рыбу – не всё меряется осетрами, хотя, спору нет, мерка эта очень удобная. Гриша мог всего за пять минут доказать Анатолию, как тот не прав, но у него каждая дневная минута была на счету. Надо было искоренять заведённые Градовским порядки, надо было держать в тонусе трудовой коллектив, составленный из девушек и женщин сложной судьбы, наконец, надо было освежить опостылевшее всему городу меню «Эдельвейса». Люди привыкли ходить по ресторанам, и дизайнерских изысков им уже явно не хватало. Так что покуда расслабленный Градовский развлекал Эльвину Куксенко, влюблённую в него по самую свою макушку, осветлённую в лучшем городском салоне красоты, Гриша Малодубов сочинял первое авторское меню, вдохновлённое сияющим светом Италии.
– …Ах, Италия! – вздыхала Нателла, глядя на снежный сугроб, из которого им предстояло выкапывать машину. – Как хорошо там было, помнишь?
Гриша помнил. До сих пор горло перехватывало от аромата моденского уксуса – коричневого, как шоколад. Влажное, как рисовое поле, ризотто, мясистые ломтики белых грибов, жёлтая, сочная полента. И флорентийский бифштекс! Когда его проносили мимо, Нателла буквально катапультировалась со своего места и ткнула пальцем в дымящуюся – чужую, между прочим – порцию: «Хочу!»
Меню своё Гриша назвал просто, но с горчинкой: «Сказки об Италии». Пасту он отлично делал сам, а для хорошего соуса, как известно, нужны только фантазия и стремление к утилизации завалявшихся продуктов. В Модене знакомый повар научил Гришу готовить соус с вялеными помидорами, и у Малодубовых с тех пор всегда водились душистые и морщинистые, как щека любимой бабушки, томаты. Ну а лук, чеснок и зеленушечка в России не проблема – вот вам и паста номер один, названная в честь Нателлы.
– Спагетти с нутеллой? – хмурился залётный итальяно веро, листая меню в «Эдельвейсе», а Ленка Палач, взятая по Гришиной протекции старшей официанткой, важно отвечала, что в виду имеется не шоколадная замазка, а женское имя, и что спагетти, натуральменте, кон помодори секки. И пусть итальянцы воспринимают знание их чудесного языка чужестранцами как абсолютную норму жизни, этот всё же присвистнул вслед Ленке, уходящей в дымящуюся, как поле боя, кухню, где властвовал великий су-шеф Малодубов.
«Су» вскоре отпало – сошло легко и безболезненно, как кожица с запечённого перца. Салат из разноцветных перцев с обжаренными кедровыми орешками и моденским уксусом Гриша назвал попросту – «Модена». Суп из белых грибов с фенхелем – «Тосканская мелодия». Ну а флорентийский бифштекс (почти получился, почти правильно!) и тирамису повар никак называть не стал – они сами себе имена, вот имен-но! Ещё несколько блюд – и можно представлять новое меню. Единственный вопрос – как сказать об этом Градовскому? Разомлевший в хозяйкиных объятьях, как сытый кот, шеф давным-давно впал в творческую летаргию, но не зря Анатолий напоминал Грише крокодила – они тоже не двигаются многие часы, зато потом как прыгнут! Костей не соберёшь… Преданная Ленка Палач советовала пойти напрямую к Эльвинкиному мужу, но благородный Гриша никогда не смог бы начать свою сольную карьеру с подлости. Нет! Благородный су-шеф Малодубов дождался, пока окончательно расслабившийся Градовский уехал с Эльвиной на курорт, и в их отсутствие опробовал меню на желудках трудового коллектива, Нателлы и её знакомых журналисток, насколько прожорливых, настолько же и болтливых. Это была прекрасная идея – позвать пишущих девиц на огонёк и накормить под Челентано так, чтобы даже в животах у них урчало исключительно на итальянском языке! Нателла в то самое время пристреливалась к профессии гастрокритика – ей нравилось пробовать от всего помалу и оставлять еду на тарелке, что раздражало бы Гришу в любом другом человеке, но прощалось восхитительной Н. Наталья Восхитина – такой псевдоним сочинила для себя Нателла, подписав им свою первую заметку о новом – на редкость удачном! – итальянском меню «Эдельвейса». Благодарные девицы, удачно переварив дармовой ужин, разразились не менее восторженными сочинениями – и вот уже Гриша стоит пред разделочным столом, как у гильотины, выслушивая по-московски акающую ругань шефа.
– Как я посмел? – переспросил Гриша, глядя при этом глаза в глаза Эльвине Куксенко, раздувающей ноздри – не то от злости, не то от голода. – Да вот посмел, и всё. Надоело позориться перед клиентами – третий год подаём одно и то же. Твои рёбра всем уже поперёк глотки стоят!
Обидеть художника, как известно, может каждый, но не каждый художник будет нести обиду как крест – красиво и смиренно. Анатолий Градовский с детства был приучен брутальным папой давать сдачи всякому, кто заслужил: и сейчас он весь налился кровью, схватил любимый нож и так нехорошо, гортанно вскрикнул, что Гриша отшатнулся в сторону. Его папа всегда учил сына решать проблемы мирно, и желательно – словами.
Ленка Палач завизжала, все прочие работницы вторили ей по мере сил, и никто не знает, чем бы кончилось дело, если бы под руку Грише вдруг не скользнула гладкой муреной рука Эльвины Куксенко. Без всякого своего желания, и, более того, с ужасом Гриша отметил, что рука эта нежна и однородна в своей нежности, как идеальное суфле.
– …Гриша умеет вкусненько, а Толька надоел, – томно объяснили мужу кадровые перестановки в «Эдельвейсе». Градовского сослали в ресторацию быстрого питания, а Гриша примерил наконец колпак шеф-повара – сел как влитой! От Эльвинки он отделался с трудом, но «Эдельвейс», впрочем, всё равно закрылся – не пережил 98-го года. Зато один из его клиентов, известный на весь город Юрий Карачаев, не забыл талантливого белобрысого повара и пригласил его возглавить первый в городе ресторан итальянской кухни. Гриша предложил назвать ресторан «Модена», и Карачаев, пожевав с минутку губы, согласился.
Нателла к тому времени окончательно срослась с волчьей шкурой гастрономического критика – и хлестала рестораторов своими статьями, как перчаткой по щекам. «Модену» она, ясное дело, всерьёз не задевала, а лишь изредка деликатно покусывала – как заигравшаяся кошка.
Гриша царствовал на кухне – там у него были сразу и восточная деспотия, и абсолютная монархия, и культ личности. С годами он обзавёлся привычкой петь за работой, причем пел почти всегда одно и то же. Верная Ленка Палач, выведенная Гришиными заботами в су-шефы, могла определить по первым же нотам, тихо, но чистенько спетым Малодубовым, в каком он нынче пребывает настроении и что именно делает. «Нет, я не плачу, и не рыдаю» – чем-то расстроен, но терпеливо глазирует шалот или режет – сам! немыслимо! – лук для пирога. «Отцвели уж давно хризантемы в саду» – проверяет, как поработал трудовой коллектив. «Я ехала домой» – ну, это понятно. Ещё в репертуаре Григория Малодубова значились один из венгерских танцев Брамса, Лав Ми Тендер, Бесаме Мучо и, любимейшая, челентановская «Соли» – её Гриша исполнял всякий раз, смешивая соус для своих фирменных спагетти «Челентано».
– …E’ inutile suonare qui non vi aprira’ nessuno-o-o… – вполне сносно для повара пел Гриша, кидая в любимую сковородку свежий чеснок в шелухе. Чеснок повозился в масле, разогреваясь, и начал отдавать будущему соусу весь свой аромат. Сейчас было крайне важно не упустить момент, вовремя добавить следующий ингредиент. И Гриша обязательно добавил бы его, если бы в их любовь с соусом не вмешалась Палач:
– Гриш, тебя там спрашивают, говорят – от Нателлы.
Именем Нателлы в Гришиной жизни открывалось всё. Жена воспитала в нём именно такого мужчину, каким он всегда хотел стать, и он ей ни в чём не отказывал. Даже на балет ходил покорно, как пёс на веревочке: героически терпел все действия и пытался не проваливаться в сон. Он, кстати, считал, что на балетах этих с операми все только делают вид, что в восторге от происходящего. Все, кроме его жены. На «Жизели», помнится, Нателла так восторгалась, что случайно обдала слюной левый Гришин глаз. Оросила! «Плюнь в глаза – всё божья роса», – вспомнил Гриша народную мудрость. От Нателлы всё – божья роса. Даже посетитель, прервавший работу, как коитус на самом интересном месте… Гриша с тоской посмотрел на сковородушку, и, вытирая на ходу руки, пошёл в свой крошечный кабинет, где еле помещались рабочий стол, компьютер и фото Нателлы в резной, как наличник, деревянной рамке. Посетитель, впрочем, поместился в кабинетике запросто – потому что это была посетительница, довольно хрупкая дамочка лет тридцати. Нателла угадывала возраст с точностью до месяца рождения, она ещё и знаки зодиака каким-то загадочным образом определяла, не глядя в паспорт. Но Нателлы здесь не было.
– Чем могу? – устало спросил Гриша. Дамочка его не впечатлила.
– Мне сказала ваша жена… я с ней знакома по университету, так вот… она сказала, вы можете научить меня готовить.
Гриша не поверил. Нателла? Зачем это ей? Можно, конечно, позвонить и проверить, но неудобно делать это при гостье. И если она действительно пообещала этой девушке…
– Катя. Парусова Катя.
«Пообещала Кате мою помощь, – думал Гриша, – значит, я должен что-то для неё сделать».
– А вы хотя бы представление имеете о том, что такое кухня?
Катя вспыхнула:
– Конечно! Я хочу посмотреть, как всё устроено у профессионального повара, и взять у вас пару уроков, можно?
– Переодевайтесь, – скомандовал Гриша. Конечно, он не откроет этой Кате свои лучшие рецепты, но пару уроков… если Нателла просила… Почему бы и нет?
Изумлённая Палач притащила в подсобку халат, а Гриша поспешил к своему соусу. Уроков давать ему ещё не приходилось.
– Что вы умеете делать? – сурово спросил Гриша у девицы.
– Итальянский фасолевый суп.
Гриша пальцем показал, где всё лежит, и бросился к своему «Челентано». К счастью для Кати, соус получился таким, как надо: густым, полнокровным, чуточку хриплым и страстным… Через полчаса подобревший Гриша склонился над кастрюлей практикантки и тут же отпрянул – там плавало нечто вроде тёмных помоев для свиней, поверху которых неслись в свободном плавании взбаламученные кусочки бекона. Девчонки хихикали, Палач была красной, как карпаччо, – словно это она сварила такую мерзость. А Катя смотрела на шеф-повара Малодубова с вызовом. И шеф-повара Малодубова это зацепило.
– У меня есть одна знакомая, – откашлявшись, сказал Гриша, – с канала «Есть!». Так вот у них там выходит передача «Фиаско» – коллекция заваленных рецептов. Жуткое дело!
– Жуткое, – легко, как блин в полёте, подхватила тему Ленка Палач. – Помнишь, там были зразы с баночками из киндер-сюрпризов?
– И это… – Гриша щёлкнул пальцами в поисках нужного слова, – это вот изделие могло бы там блеснуть, честное слово!
Катя полоснула по нему холодным взглядом.
– Я теоретик, – хмуро сказала она. – Практики пока ещё почти не было. Но вы всё же попробуйте.
Девчонки расхохотались уже в полный голос. Да чтобы Гриша… Да чтобы эти помои… Но он решился. Маленьким половничком брезгливо зачерпнул мутную жижу и поднёс к своему опытному рту.
Катя ждала вердикт, а Гриша прислушивался – пусть выскажутся вкусовые бугорки!
Бугорки сказали, что суп, при всей его гадкой внешности, получился отменным. В нём был тот дикий и прелестный вкус итальянской деревенской кухни, какой не встретишь в больших городах. Любопытно, где эта дура раздобыла такой добротный рецепт…
– Придёшь завтра к восьми, поучимся, – махнул рукой Гриша, и Катя просияла, как будто он пообещал ей полцарства и принца с белым конём.
…Поздно ночью, уже проваливаясь в густой, как харчо, сон, Гриша всё-таки вспомнил, что должен был спросить у Нателлы. Прикрыл ей страницу книжки ладонью.
– Та девушка, которую ты прислала… – вяло пробормотал засыпающий шеф-повар, и жене пришлось его хорошенько встряхнуть, чтобы дождаться продолжения.
– Девушка? – возмутилась Нателла. – Не присылала я тебе никаких девушек, ещё чего!
Малодубов удивился, но всё равно заснул, а поутру, раздумавшись после трёх чашек кофе, решил не рассказывать Нателле о том, что на самом деле произошло, а Кате – о том, что обман её раскрыт. Чем-то она заинтересовала Гришу, ну и надо же было выяснить рецепт фасолевого супа. Шеф велел по-быстрому оформить Кате самую нижнюю ставку. Нателла, внимательно следившая за всем, что происходит в жизни мужа, тут дала промашку и ничего не заметила. А с Ленкой они были не настолько близки, чтобы та побежала к супруге шефа с докладом, – Палач Нателлу недолюбливала. Знали бы они, что принесёт в их мирную жизнь эта новенькая скромница…
Катя росла стремительно, как сорняк, и Гриша только успевал подкидывать ей новые задания. Он ждал, когда она сломается, и гадал: на чём? Катя невозмутимо принимала брошенную в лицо одноразовую перчатку и готовила как одержимая – лазанью, оссобуко, конкильони, минестроне… Помойный фасолевый суп облагородился и занял в меню почётное место, а Катя метала в Гришу всё новые и новые рецепты. Кондитер Даша, ушедшая следом за Гришей из «Эдельвейса», надувала щеки от обиды: новенькая замахнулась ещё и на сладкое! Её ореховый, легчайший и нежный десерт, украшенный сахарными буквами «Я торт!», вырубил Дашу из рабочего настроения на целую неделю… А какие она делала миндальные кексы – Гриша от одного запаха сходил с ума! Впрочем, он и так сходил с ума – впервые с детских лет во весь свой рост перед ним встала ненавистная проблема выбора. Стоит ли и дальше заниматься поварским делом, если залётная птичка творит на кухне такие чудеса?
– Знаешь, Гриша, – сказала однажды Катя, сбивая малиновый крем, – один поэт бросил писать стихи, когда прочёл то, что сочинил его знакомый подросток. Это было так хорошо, что поэту показалось глупым тратить остаток жизни просто на то, чтобы его догнать…
– Ты к чему это? – насторожился Гриша, но Катя повела плечиком:
– Так просто, вспомнилось. Кулинария очень похожа на литературу. Когда ты выходишь в зал к недовольным клиентам, то говоришь им одно и то же: «Моя кухня – это моё искусство. Если вам не нравится, вы можете поесть в другом месте!». И с книгами, Гриша, – с ними точно так же.
Гриша так и не понял, зачем Катя вспомнила про книги, – да и некогда было об этом думать: его тогда ждали срочный отчёт и пара внезапных заказов, каждый на тридцать персон. Но много раз вспоминал потом тот разговор с Катей, потому что он оказался последним. На следующий день она исчезла, оставив на столе шефа заявление об уходе и корзиночку миндальных кексов.
Снова они с Гришей встретились лишь через несколько лет. И за это время Гриша Малодубов окончательно разлюбил свою работу.
Глава восемнадцатая,
из которой мы узнаем о жизни одной необыкновенной женщины, а также прокатимся в Германию и обратно
Ромочка залез на колени к Маре Михайловне, наёрзал там себе удобное место и попросил:
– Бабулечка, скажи: «Полотенце!»
Мара Михайловна послушалась:
– Полотенце.
– У тебя в носу два немца! – выпалил Ромочка, спрыгнул с удобных коленей и убежал в дивный мир детства.
А Мара Михайловна подумала: чуткий какой растет мальчишоночек! Всё чувствует, надо же! Ведь у неё и впрямь два немца в ближайшем будущем. Виза открыта настежь, как то самое окно в Европу, билеты до Франкфурта лежат на рабочем столе, а Фридхельм и Анке ждут приезда дорогой гостьи.
Они не виделись восемь лет, Мара Михайловна специально подсчитала.
– Приезжай, Мара, в гости, – тепло сказала Анке на прощанье. – Это будет наш вклад в экономику России.
На самом деле её звали – Тамара. Популярное советское женское имя, сравниться с которым в те годы могла лишь только Галина. (И родители не подвели, назвав Галей младшую сестру Мары.)
Имя своё Мара не любила – и производную «Тому» тоже. Томок было вокруг, как сейчас – Сонь с Лизами, и, чтобы выделяться среди Томок, Тамарок и Томусек, она придумала «Мару».
– Мара-шмара! – дразнились мальчишки, а ей хоть бы что: подбородок вверх, плечи развернула – и вперёд, к свершениям! Жизнь казалась Маре чем-то вроде задачника, какие были в детстве: в конце напечатаны правильные ответы, но заглядывать туда вроде бы как нечестно, потому что всё надо решать самой.
И она решала, а правильные ответы собиралась подсмотреть в самом конце задачника – то есть в конце жизни, когда страничек останется так мало, что о честности и рассуждать глупо.
Кто ж знал, что задачники будут выпускать вообще без всяких ответов?..
Мара Михайловна была замужем дважды, и оба раза – удачно. Правда, и в первом, и во втором случае катастрофически не повезло со свекровью, зато мужья попались отборные, как будто специально для неё выведенные. С первым, Кириллом, пришлось расстаться исключительно по той причине, что второй оказался ещё лучше, – а Мара Михайловна никогда не считала, что поговорку про журавлей в небе и синиц в руках придумал умный человек. Итак, она потянулась за журавлём, не выпуская синицу из рук, и синица, понятно, задохнулась. Муж обиделся и ушёл, оставив о себе на память странноватое имя Томирида, которым звал иногда Мару Михайловну и которое она вспоминала с недоумением.
– Вот и у Кира с Томиридой, – сказал на прощанье Кирилл, – тоже ничего не вышло.
Мара Михайловна не стала уточнять, что имелось в виду. Муж всегда кичился своими знаниями и совал их под нос Маре Михайловне, как плохо выстиранные носки или сгоревшие котлеты.
Котлеты Мара и вправду частенько забывала на плите, так что они превращались в чёрные вонючие шайбы. Готовить она не любила, а вот поесть или порассуждать о вкусном – это было её. Кирилл кашеварил с удовольствием, но даже это обстоятельство не удержало Мару: второй муж ей нравился больше, хоть и умел готовить одну лишь яичницу. Его звали Алексей, и на память от него Маре Михайловне остались сын Виктор и сын Андрей, а также привычка пить кофе по вечерам – второй муж утверждал, что от кофе крепче спится.
Мара Михайловна, впрочем, всю жизнь спала крепко – бессонницы не случилось, даже когда пришлось возглавить запущенный магазин «Море», где рыбы отродясь не нюхивал и трудовой коллектив, не говоря уж о замученных дефицитом покупателях. Мара включила все свои связи, как краны – до отказа, и вскоре сотрудники «Моря» ели осетрину и сёмгу, а покупателям безотказно взвешивали кильку, минтай и путассу, что тоже было, в общем-то, неплохо.
– Ваши пальцы пахнут воблою, – недовольно пел по вечерам Алексей, тоже в чём-то претенциозный мужчина, к каким Мара Михайловна испытывала невозможную тягу. «Море Михайловна», – так называл теперь Алексей свою жену. Когда Андрюшке исполнилось четыре года, Маре повстречался идеальный кандидат в третьи мужья: его звали Юрий, и от него на память Маре Михайловне вполне могло остаться что-нибудь ещё, – как вдруг привычная схема дала сбой.
Прежде всего, Юрий не поспешил жениться на Маре, и даже от близкого общения с морской владычицей города обидно уклонился. Ответ на вопрос «почему» Мара увидела однажды утром в зеркале – вместо статной холёной брюнетки с крылатыми бровями там торчала полноватая, несвежая тётя. Мара-шмара… Что делать в случаях, когда от тебя внезапно, в несколько месяцев, уходят молодость и красота, Мара не знала – она привыкла и к тому, и к другому, а теперь надо было учиться ходить без них, как хромоножке – без костылей.
А тут ещё, как часто бывает, общий фон сменился так резко, будто обиженный художник взял да и вынес декорации прочь, прямо во время спектакля. Или рассерженный повар завернул тарелки в скатерть и покинул ресторан.
Только-только начала Мара привыкать к своей новой роли на скамье запасных (кому-то ведь надо там сидеть), как в стране задул свежий ветер. Из директоров её невежливо выперли. Свежим ветром в спину. Потом, правда, новые хозяева «Моря» опомнились и начали звать опытного специалиста Мару Михайловну Винтер вернуться и всё простить, но теперь она уже сама не спешила входить в ту же воду, изрядно провонявшую мёртвой рыбой. По-немецки чёткая и по-русски подозрительная, Мара Михайловна отлично знала себе цену, и вопрос, придут ли к ней успех и денежка, вообще не стоял. Вопрос стоял другой: когда?
…Денежка – слово мягкое, как «шанежка». Взрослый сын Виктор так ласково говорил маме: «Оставь мне денежку, ладно?» Мара Михайловна воображала денежку – металлическую, круглую, а главное, единственную – и, тяжко вздохнув, выкладывала на стол очередной букет голубых тысячных незабудок.
Денежка пришла в тот нехороший год, когда от Мары Михайловны отказался муж Алексей – сказал тепло и задушевно (прямо не муж, а бард), что она ему больше не нужна. Если бы следом за этими словами раздался гитарный перебор, Мара не удивилась бы, – а вообще, она от него не ожидала. Она думала, что у них с Алексеем впереди полный набор драгоценных жизненных штампов, от сладкой смороды в саду до такого же сладкого внучачьего лепетанья.
Но Алексей ушёл, выгребая из углов позабытые вещи (в числе прочего мелькнули гитара с постаревшей переводной блондинкой и вязанный в резинку свитер), а вместо него к Маре Михайловне и двум её сыновьям-подросткам пришла денежка.
Мара давно вычислила: просто так в жизни ничего не даётся, только взамен. И специально обученный ангел следит за тем, чтобы обмен этот совершался всегда после времени.
Ангел, приставленный к гражданке Винтер Тамаре Михайловне, по специальности товароведу, русской немке, члену партии, матери двух непослушных сыновей, с трудом дождался, пока за Алексеем закроется дверь (гитара, холера такая, зацепилась грифом за вешалку, будто не хотела покидать родной чертог). И тут же выдал Маре такое богатство, что она поначалу даже ослепла, пытаясь различить за этим северным сиянием свой дальнейший жизненный путь.
Богатство посулил мужчина по имени Игорь Александрович.
Он позвонил брошенной Маре Михайловне и, захлёбываясь радостным известием, пригласил на важное собеседование. Мара с трудом вспомнила Саныча – кажется, носил какие-то коробки в «Море», а может, работал реализатором. Сейчас разве упомнишь? В жизни со временем скапливается такое количество воспоминаний и людских физиономий, что лишнее волей-неволей надо отбрасывать, чтобы затора не случилось. Или засора. Вот и Саныча этого Мара пустила однажды в свободное плавание, а он, гляди ж ты, всплыл.
Весёлый такой всплыл, лысенький, но на лицо свежий, и волосиков в ушах не отрастил. Это Мара первым делом отметила: она не любила, когда в ушах – волосики.
– Проходите, Марочка Михайловна, проходите, – суетился Саныч, провожая крепко ступающую (Родина-мать зовёт!) гостью в просторный кабинет.
– Твой? – уважительно качнула головой Мара, но Саныч в ужасе замахал ладошками – кабинет принадлежал тому загадочному типу, который назначил встречу. А Саныч был при нём вроде Гермеса.
Загадочный тип вбежал в кабинет с таким видом, будто разорвал финишную ленточку, и Мара Михайловна узнала в нём давнишнего мужа Кирилла, с которым не общалась вот уже много лет.
– Томирида! – обрадовался Кирилл, усаживаясь в мягкое кресло и тут же, впрочем, вскакивая, как будто там был гвоздик. – Как хорошо, что ты есть в этом мире! Саныч тебя так сватал, так сватал!
Саныч, кстати, испарился – и слава богу.
Мара с достоинством откинула назад хорошо прокрашенную гриву. Кирилл с удовольствием отследил знакомый жест и только потом развернул к Маре серебряную рамку с фотографией: там улыбались миленькая блондинка и две девчушки с косицами. Одна – в очках. Мара Михайловна поджала губы: как все мамы мальчиков, она слегка недолюбливала девочек.
– Моя семья, – гордо сказал Кирилл, как будто Мара не поняла, что это за физиономии. В серебряной рамке! Кирилл почувствовал, что умиления снимок не вызвал, и резко добавил холодку:
– Давай к делу, Томирида. Помнишь гастроном «Юлия»? Он уж года два как на ремонте…
Гастроном «Юлия» Мара Михайловна помнила чётко и неприязненно. В грустную минуту она прикупила себе однажды в коммерческом магазине кофточку: такое славное букле в зеленовато-рыженьких тонах. И пришла в этой кофточке в «Юлию» за провиантом. Там Мару ждал сбывшийся кошмар всех женщин мира: кассирши «Юлии» сидели на своих местах в новой униформе, и униформой было то самое букле, которое купила злосчастная Мара.
Разумеется, она не стала рассказывать эту позорную историю Кириллу: Мара Михайловна была для этого чересчур женщиной. Просто сказала, что «Юлию» – помнит. А Кирилл в ответ заявил, что удачно перекупил по случаю этот гастроном со всеми его коварными кассиршами, и планирует написать на обломках советского пищеторга имена новых деликатесных продуктов. То бишь открыть громадный, но при этом гурманский магазин.
В нашем городе к тому времени был всего один магазин хорошей снеди – там продавали и маленькие пельмешки, и заморские фрукты, и Марины любимые горькие шоколадки. Но это был для забогатевшего Кирилла не тот масштаб.
– Я вижу, – размахивал он руками, как ясновидец, – громадный зал с корзинами на колёсах (Мара затрепетала), с яркими упаковками, с вечно свежими бананами. И чтобы играла несложная классика, и дамы выбирали нужный сорт…
– …картошки! – неудачно подсказала Мара, и Кирилл поморщился. Ещё нарастил себе изысканности.
– Ну пусть даже картошки, – снизошёл бывший муж и продолжил живописание. В магазине его мечты будет целый отдел новомодных йогуртов, которые Мара тоже очень любила, и даже покупала их с рук у одной челночницы, возившей «Данон» из Москвы. Будет там и какой хочешь чай, и кофе в зёрнах, и сливки в крохотных баночках, и своя собственная пекарня, и гриль, и сыр любой, какой пожелаешь, – а то, знаешь, Томирида, был я недавно в Швейцарии, зашёл в обычную фромажерию, и так стало мне там обидно за нашу родину и наших людей!
Кирилл скорбно покачал головой, даже не подумав объяснить Маре, что такое «обычная фромажерия» – он, как некоторые писатели, предпочитал не давать ни сносок, ни комментариев: типа, мы с вами знаем, о чём идет речь, а если не знаете… вам же хуже! Мара Михайловна и забыла, как угнетала её эта снобистская привычка, – но сейчас вдруг почувствовала, что не обижается. От аппетитных грёз Кирилла у неё заурчало в животе.
– Давай перекусим, чем бог послал, – очень кстати предложил бывший муж и снял с рычагов телефонную трубку. В кабинете тут же появился Саныч, совмещающий в себе сразу несколько трудовых талантов, и умело накрыл посланный богом стол. Голодным оком Мара отследила появление маленьких квадратных бутербродиков с селёдкой, модных крабовых палочек, крекеров и батончиков «Баунти», реклама которых набила синяки на ушах целого поколения. А Саныч нёсся к ним ещё и с чайником, и с бутылкой коньяка!
– У тебя по-прежнему хороший аппетит, – заметил Кирилл, когда Мара закончила наконец жевать последнюю шоколадку. Вначале она возмутилась, решив, что бывший муж намекает на её полную фигуру, но потом перевела взгляд на фотографию нынешней супруги и всё поняла. Супруга была худая, как виселица, и Кириллу в ней явно не хватало мягкости – той нежной, подушечной женской мягкости, которая всегда сопровождала Мару по жизни, нравилось это ей самой или нет.
Прощались бывшие муж и жена смущённо, как будто бы не ели вместе, а занимались чем-то значительно более непристойным. Кирилл сделал Маре официальное предложение занять пост директора «Юлии», а Мара, не ломаясь, согласилась. Она знала, что справится.
Потом, значительно позже, когда «Юлия» уже стала «Сириусом», а Мара разбогатела до такой степени, что всерьёз не знала, куда тратить деньги, – она часто вспоминала ту встречу с Кириллом и гадала: как же его блондинистая виселица отнеслась к идее взять на работу бывшую жену?.. Спросила и Кирилла – а он, пожевав нижнюю губу, как конфету, признался, что дома ему тогда влетело по первое число. Пришлось пережить и сцены ревности, и шантаж, и угрозы… Сошлись на подкупе: Кирилл пообещал виселице новую машину и внеплановую поездку в Милан за шмотьём, и она успокоилась. Она была неглупа и понимала, что Кирилл всё равно будет находить себе каких-то тёток, – так пусть она хотя бы примерно знает, что это за тётки.
Она была неглупа, но разве можно сравнить её с Марой? Первая любовь Кирилла, блестящая, как медаль, Томирида, умевшая превосходно считать любые деньги – от копеек до миллионов – и с лёту отличавшая второсортный продукт… Да он открыл бы для неё не один, а сразу десять магазинов!
…Мара принялась возрождать «Юлию» с таким жаром, что временно выпустила из поля зрения детей – и это ей впоследствии аукнулось. Вот Ромочку пообжёгшаяся на молоке Мара Михайловна блюдёт без перерывов и выходных. С детьми только так и надо! Переустраивая магазин, Мара выключилась из привычной жизни – и даже забыла, что подавала, оказывается, документы на выезд в Германию; имелась у неё в прошлом такая идея. Время подошло, документы были рассмотрены с немецкой педантичностью, и гражданке Винтер в отъезде на историческую родину не отказали. Другое дело, что сама гражданка Винтер потеряла к этому отъезду всякий интерес. У неё теперь было целое поле посеянных надежд, и Германии следовало потерпеть, пока Мара соберётся в гости.
Магазин решили назвать скромно – «Сириус». Были в этом слове, по мнению Кирилла, и звёздность, и намёк на любимую Марину сирень, и ещё что-то, одновременно нездешнее и знакомое. Злопыхатели, правда, утверждали, что «Сириус» – название не для супермаркета, а для магазина электроники, но Кирилла было не переспорить. Привыкнете!
Накануне открытия Мара Михайловна лично проверяла боевую готовность: как полководец на театре военных действий, обходила с дозором каждый отдел. Ей хотелось, чтобы товар лежал на полках и в холодильниках осмысленно, удобно и красиво – такой подход был тогда в новинку. Особенно Мара гордилась рыбным отделом – у неё сладко подводило живот, стоило только туда зайти. Креветки! Раковые шейки! Копчёный угорь! Цены, конечно, сумасшедшие, но Мара верила в своего покупателя, а Кирилл верил в Мару.
Чем больше Мара Михайловна врастала сердцем в «Сириус», тем чаще ей казалось, что Кирилла интересуют не только доходы и успехи, но ещё и она сама. Слишком уж часто он навещал её в рабочее время, слишком резво шутил, слишком пристально глядел глаза в глаза. И даже в провожатые время от времени навязывался – старший сын Виктор застал их однажды не по-взрослому хохотавшими в подъезде.
Сразу же после открытия «Сириус» стал самым популярным магазином нашего города, а Мара стала любовницей Кирилла. Потом они открывали филиалы, потом Кирилл уже совсем собрался разводиться с виселицей, но Мара не позволила. С какой радости пускать в дом ещё одного мужчину? Маре вполне достаточно двух сыновей и двух полезных для здоровья свиданий в неделю, а всё прочее для Кирилла пусть делает виселица. Мара любила спать одна, курить в постели и вообще, хватит с неё! Дети подросли и очень рано, как бывает в переломный для страны момент, оперились: Витя поначалу удачно косил от армии, но потом всё же отбыл на службу, Андрей поступил в юридический. Мара была счастлива так, что желала – пусть её зафиксируют в этом счастье, как муху в янтаре. Вы же понимаете, что так не бывает? А вот Мара не понимала, и долгое время не могла разобраться, что имеет в виду судьба, подсовывая ей всякие странные совпадения.
Однажды, например, Мара пришла без предупреждения, по-сестрински, к Гальке – и та открыла ей дверь тоже запросто: в халате, с нулевым макияжем и встрёпанной, как у какого-нибудь поэта в молодые годы, головой.
– Галя! – ахнула Мара Михайловна. – Ты ж старая!
– А думаешь, ты молодая? – разозлилась Галька.
– Да я… Да мне мой косметолог сказала, что у меня состояние кожи на тридцать лет! Она даже спрашивала: может, я еврейка?
– Томка, Томка, – ласково, как с собакой, говорила Галька, зачекрыживая волосы и демонстрируя при этом обвисшие гамаками плечи. – Глупая ты! Это же только ветераны не стареют, и то – душой! А косметологам отдельно платят за комплимент. Не тянешь ты на тридцать: все твои сорок пять, и то, что сверху накапало, всё видать.
– Неправда! – возмутилась Мара. – Я слежу за собой, со мной недавно в магазине один мужчина хотел познакомиться!
– Слепой, наверное, – предположила злая Галька. – Том, да ты что, правда что ль, не понимаешь? Конец, сестра! С ярмарки едем!
«Галька потому такая злая, – думала Мара, выскочив из сестриной квартиры, – что её муж бросил с дитём, а новый мужик не захотел жениться и просто приходил в гости, пока не выгнала. А мне она завидует – да, завидует, потому что сама не выглядит такой ухоженной. И симпатичной!»
Надо сказать, что Мара Михайловна вправду была ухоженной и косметолога своего посещала исправно, как по часам. Кроме того, ей отдельно повезло с Кириллом – он принадлежал к редкому числу мужчин, которые в самом деле не замечают, как стареют и меняются их любимые женщины. Они словно бы не видят, а помнят их внешность такой, какой она была в самом своём буйном цветении. Обидно, что женщины таких мужчин, как правило, не ценят – вот и Мара никогда не слушала, как Кирилл ею восхищается: это всегда было скучно и не ко времени. Болбочет, как радио, одно и то же, а она не может уловить сигнал, поймать волну и расшифровать, что именно сообщает ей бывший муж, ныне любовник.
– Эх, Томирида, – сказал однажды с обидой Кирилл, – не ценишь ты меня совершенно, а я ведь ради тебя из семьи ухожу. Каждый день – ухожу!
Маре было не до страдальца: она всесторонне исследовала вопрос о старости. Вот до чего она додумалась однажды по дороге на работу, разглядывая морщины в обзорном зеркале. Самое обидное не то, что она стареет, а то, что в молодости, когда были все основания гордиться собственной красотой, она зачем-то прятала её за пуленепробиваемыми стенами комплексов. Как все обычно и делают. А когда стены наконец-то удалось сдвинуть с места, с ними исчезла и красота. Осталась одна только уверенность в себе, которая, пусть и полезная вещь, но на всё про всё не годится.
«Сириус» процветал, а Мара мрачнела день ото дня. Её не лечили ни работа, ни смешные идеи Кирилла: махнуть вдвоём на Мальдивы, обвенчаться, усыновить ребёночка. Мара старела по-настоящему, как предупреждала народная мудрость, а ведь она ей прежде не верила. Почему-то думала, что будет молодой вечно.
Тут ещё и сыновья вдруг начали взбрыкивать, каждый по-своему. Андрей надумал жениться – в двадцать-то лет! Витька после армии так долго бездельничал, что привык к праздному образу жизни и решил в нём задержаться по максимуму. Мать зарабатывала деньги вагонами, зачем ему-то напрягаться? Эх, не сразу Мара поняла, что надо бить в колокола: сын спился прямо-таки с чемпионской скоростью. Мара много месяцев уговаривала его пойти на лечение, а дальше вы знаете, как оно бывает. Несколько спокойных недель, потом – возвращение кошмара, больница, и так – по кругу. Мара находила у себя уже не отдельные седые волоски, а целые пряди – их приходилось закрашивать чуть не каждую неделю. Старела она красиво и медленно – как дерево, ни в какую не желающее облетать листочками, хотя вокруг все уже давным-давно голые и безжизненные.
– Томирида, нет никого прекрасней тебя, – шептал Кирилл, забыв, что она его не слышит. И не замечает, что он уходит ночевать домой всё реже. Однажды Кирилл прожил у Винтеров целую неделю – Витька как раз был в больнице.
Мара не любила, когда сын дома, – она и его самого уже давно не любила, просто волокла по привычке выданный сверху груз, он же – крест.
Обычно Виктор пил тихо, не орал и не дрался. Единственное, что ему хотелось в таком состоянии делать, – это без конца и края разговаривать. У Мары просто голова шла кругом от его болтовни: она смотрела на красного лысеющего дядьку, слушала его заплетающиеся речи и не понимала, что он делает в её кухне. Куда девался милый кругляш Витяша, кудрявый мальчик, на которого в умилении оборачивались прохожие? Как всё это сложно, правда, Мара? Куда деваются наши чувства к детям, когда они вырастают и превращаются в чужих людей?..
Кирилл с Витькиными запоями мириться не желал – это благодаря его усилиям наследника отправляли то в клинику, то в санаторий, да всё было без толку, пока Виктор не позвонил однажды в милицию и не «заминировал» по очень пьяной лавочке мамин магазин. Вот тогда Мара по-настоящему вздрогнула, и отправила Витьку, предварительно отмазав от суда и следствия, к чудесному доктору Денису Григорьевичу М., который, по слухам, любил браться за самые тяжёлые случаи и, по собственному признанию, трудился где-то на грани добра и зла.
Доктор М. занялся Витей прицельно, прописал ему для начала курс витаминов, и пообещал Маре Михайловне, что к новому 20… году вылепит из алкаша полноценную человеческую единицу. Мару смутил красивый фасад доктора: особенно подозрительными казались его светлые, льдистые глаза; но она решила ему довериться, и, как выяснилось впоследствии, не прогадала. Витька в самом деле выкарабкался из пропасти, хотя уже висел над обрывом на пальцах, как любят показывать в малобюджетных остросюжетных фильмах. Он был теперь толстый, бледный, без конца играл в компьютерные игры, но зато не пил, «Сириус» минировать не пытался, а потому Мару всё устраивало. Она даже начала понемногу давать сыну денежку. Потом – всё больше и больше. Пока наконец не выяснилось, что Витька стал игроманом.
– А как вы хотели? – философски спросил красивый доктор Мертвецов, когда Мара припёрла его к стенке кабинета. – Пристрастия ходят по кругу, а человек, зависимый от пороков, меняет их один за другим. Как одежду по сезону.
– И что теперь делать? – разрыдалась обворованная в лучших ожиданиях Мара.
– Лечить игроманию, – ответствовал доктор, и с новыми силами принялся за Витьку.
– Потом он, наверное, станет наркоманом, – предположил Кирилл в порядке утешения.
Младшенький Андрей тоже не слишком радовал. В юридической учёбе не блистал, шатался по клубам и, как мы уже говорили, внезапно собрался жениться.
Мара прекрасно помнит день, когда ей представили избранницу – они с Кириллом ходили на фестиваль современного танца. Эдакий небалет под немузыку в некостюмах и без всяких декораций; зато было много спецэффектов и неожиданных предметов на сцене. Кирилл сказал, что чем меньше артисты владеют техникой, тем больше им требуется отвлекающих манёвров. Мара зевала и мучилась необходимостью таращить глаза на сцену, где плясали юноши с пылесосами в руках и девушки с пыльными мешками на головах.
В антракте пошли бродить по фойе – чтобы взбодриться, Мара изо всех сил массировала специальную точку на руке, но всё равно засыпала, просто проваливалась в сон при одной только мысли о втором отделении.
Бодрость пришла откуда не ждали. По фойе вышагивал Андрюша, а на руке его, как сумка, висела тощая девица в очках-кирпичах. Девица была настолько костлявая, что из неё хотелось сварить бульон.
– Мама? – удивился Андрей.
– Лерочка? – не меньше Мары удивился Кирилл. – Познакомься, Томирида, с моей старшей дочерью.
Очкастая приветливо громыхнула костями.
– …Других вариантов ты, конечно, не нашёл, – ругала потом сына Мара Михайловна, как продюсеры ругают исписавшихся сценаристов. – Что, у нас в городе нет других девушек? Ох, – вспомнила она, – ты ведь говорил, что жениться хочешь. Это на ней?!
Напрасно Андрей убеждал маму, что Валерия – любовь всей его жизни. Мара заявила, что ни ноги её, ни руки, ни, соответственно, кошелька на свадьбе не будет.
– Не будет – и не надо, – смирился сын, и больше они на эту тему не говорили. Потом Маре, конечно же, стало совестно, и, вызнав у Кирилла, когда и где свершится безобразие, она явилась на свадьбу незваной гостьей.
Молодых ждали в накрытом для банкета зале, и нарядная Мара, пройдя мимо Кирилла с женой, попыталась усесться рядом с симпатичным молодым человеком, которого портил разве что несвежий запах изо рта.
– Ой, – по-девичьи взволновался юноша, – вы здесь, пожалуйста, не садитесь. Здесь сядем мы – молодёжь!
Розы, которые Мара сжимала в руках, упали вниз одна за другой – как будто она не роняла их, а бросала – на сцену или могилу. Юнец тем временем рассаживал за столом молодёжь, а в зал уже спешили новобрачные. Невестка даже не попыталась скрыть свои кости при помощи пышного платья, а предпочла ему блестящий футляр короткого костюма. На сгибах рук отчётливо синели кавычки вен. Андрей был счастлив, розы валялись под столом, и, если мама плачет на свадьбе сына, это вполне естественно, нихьт вар?..
Немецкие слова, слышанные в детстве от старенькой омы, всё чаще возвращались к Маре, как будто готовили её к какой-то важной встрече. Мара отмахивалась от немецких слов, как от комаров, прохаживаясь по любимому, до миллиметра продуманному залу «Сириуса». В рыбном отделе продавщица посыпа́ла форель ледовой крошкой – в её движениях была упоительная сосредоточенность дворника. Толстые цыганки с высокими, как торты, причёсками кидали в корзины всё самое лучшее и дорогое: итальянские конфеты, икру, осетров – цыганок провожали взглядами простые соотечественники, а Мара отводила глаза. Ей часто хотелось указать цыганкам на дверь, но, увы, она была не страстным борцом за правду жизни, а всего лишь рядовым солдатом бизнеса.
Мара свернула к новому отделу. Кошерные продукты, с которыми столько возни и проблем, а что-то не похоже, чтобы их охотно покупали… У полок с беспомощным видом стоит высокий пожилой господин в очках и держит в руках баночку с намоленным компотом.
– Помочь вам? – заискрилась улыбкой Мара. Рядом, как назло, ни одной продавщицы – вот бездельницы! Попадись они ей! Ага, одна как раз выруливает из-за угла. Мара скосила близорукие глаза – на халатике бэйдж: «Ирина Васильевна». Господи, еще сопли не высохли, а туда же – Васильевна!
– Мнье нужно мет, – сказал господин в очках и улыбнулся заграничной улыбкой.
– Васильевна, ты где ходишь? – напустилась Мара на продавщицу, от страха ставшую зелёной как патина. – Почему не помогаешь покупателю?
– Я помогаю! – заспорила Васильевна. – Мы с ним уже полчаса бьёмся! Мет ему нужен, а где я ему здесь такое возьму?
Мара тряхнула плечом и отобрала у господина баночку с компотом. Это явно не «мет», что бы ни имелось в виду.
– Майн готт, – привычно пробормотала Мара, и очки господина счастливо вспыхнули.
– Шпрехен зи дойч? О, вундербар!
И выдал длинную тираду на немецком, которую Мара с перепугу приняла за строки известной песни про «дойчен зольдатен». На самом деле господин вовсе даже не пытался цитировать песню, а представлялся (Фридхельм Вальтер, аус Франкфурт) и делился своей бедой. Беда была невелика: подозрительный «мет», который срочно потребовался жене Фридхельма (Анке Вальтер, аус Франкфурт аух), оказался самым обычным «мёдом», просто составители русско-немецкого разговорника Вальтеров, следуя модным тенденциям в орфографии, исключили из обихода букву «ё». Бог им судья.
Счастливая Васильевна отбуксировала Фридхельма вместе с его полупустой (это вам не цыганские осетры!) корзинкой к стойке с мёдом, где его продавали и жидким, и густым, и в сотах. Через пять минут благодарный Фридхельм нагнал Мару и вручил ей свою красивую визитку с готическими буквами и кренделями, а через неделю Мара ужинала у Вальтеров, которым один крупный завод снимал квартиру в небезопасном районе, но зато в чистом и новом доме.
Кирилл пойти в немецкие гости не захотел – он был в последнее время немного странный, но Мара, привыкшая к нему, как привыкают к удобной мебели, не обращала на это внимания. А что такого? Вы разве обращаете внимание на то, в каком настроении пребывает ваше любимое кресло?..
Немцы приняли её запросто, но душевно. Кормили необычно и вкусно. В начале Анке подала всего один салат: свеженькие листья корна, авокадо, черри-томаты и заправка с маком. Потом был тыквенный суп-пюре с самой чуточкой карри – сверху вся эта оранжевая красота была посыпана обжаренными тыквенными же семечками. Мара выхлебала мисочку с супом, как голодная дворняжка, и одобрительно облизнулась. Анке уже несла на стол свинину с бананами, тушённую в нежных сливках, потом было тархуновое желе, кофе с ликёрами и пресловутый «мет». Мара отдыхала за немецким столом всем своим существом. Забытый язык подставлял ей, как ступеньки под ноги, темы для разговора – и вскоре всем троим казалось, что они знакомы целую жизнь. Да и в прошлой жизни (если допустить, что она существует), скорее всего, тоже общались.
Фридхельм проводил Мару до машины, Анке душевно махала ей с балкона рукой. Специально обученный ангел скрупулёзно отвесил на самых точных в мире весах небольшую меру радости пролонгированного действия: ему нужно было подготовить гражданку Винтер Мару Михайловну к безрадостной полосе новых испытаний с препятствиями. Полоса была несомненно чёрного цвета.
Открыли сезон неудач дорогие дети: Витька сбежал из города к давно позабытому папе Алексею, который теперь бренчал на гитаре несколько раз в год, а в основное время жизни терзался ненавистной работой и многодетным браком. Жил Алексей где-то в области, Мара не помнила названия – что-то на «Красно…», Краснопетровск? Красноводкинск? Краснокитайск? Вскоре после Витькиного побега от Алексея пришло подробное – и невероятно старомодное! – письмо: он не возражал приютить блудного сына, но хотел бы попросить у дорогой Томочки немного денег на пропитание. Мара выслала деньги и перевела дух в ожидании следующего удара.
Его нанесли молодожёны: Андрей и очкастая смерть Лерочка. Они ждали ребёнка, каковой самим фактом своего рождения должен был нанести и так уже павшей духом Маре последний удар: представляете себе бодрую и свежую Томириду бабушкой? Кирилл отреагировал на сообщение куда менее бурно, он в последнее время вообще всё чаще отсутствовал; Мара часто хваталась рукой за пустой воздух и говорила с тишиной.
В один такой тихий вечер Маре позвонила законная супруга Кирилла и одновременно с этим её собственная сватья. Мара решила, что разговор пойдёт про общих детей и – бр-р-р-р! – растущего в тощем Лерочкином чреве младенца, но сватья бурно зарыдала сразу же после того, как Мара сказала: «алло».
– Алло, алло! – кричала Мара в трубку, с перепугу забыв, как зовут эту её во всех смыслах странную родственницу. Кажется, Аля? Или Валя?
– Это Валя, – подтвердила догадку сватья, и тут же пошла на второй круг рыданий, как будто бы назвать себя по имени означало признаться в страшном грехе.
– Валя, хорош реветь, – разозлилась Мара, – у меня в ушах гудит. Что случилось?
Она ожидала жалоб на Андрея, плохих новостей про Лерочкино пузо, разборок с ней, Марой, – но всё было мимо, а то, что понеслось из трубки, её по-настоящему удивило.
У Кирилла, как выяснила Валя, завелась любовница. Это слово – «завелась» – Маре особенно понравилось. Завелась, как мышь или вошь, – от грязи и общей неухоженности… Что ж, грязь тут, может, и ни при чём, а вот ухода за Кириллом в последнее время и вправду не было: жена увлеклась новой ролью тёщи, Мара считала морщины и заводила странные-иностранные знакомства, одновременно с этим управляя «Сириусом», что тоже дорогого стоит.
Валя располагала подробностями. Девушка совсем молодая, без мужа и детей, зато с претензиями. Села она на Кирилла прочно, он спонсирует какие-то её дикие проекты и безумно дорогие поездки – например, сейчас она уехала в Италию на целый месяц. Якобы учиться, хотя лично она, Валя, подозревает, что учёба тут ни при чём. Да, и ещё – это важно! – девица каким-то образом связана с ресторанами и телевидением.
– Я всё узнаю и перезвоню. Разберёмся, что за птица, – сказала Мара, записывая под диктовку имя нахалки и чувствуя, как в ней поднимаются злые волны – от пяток к голове. Она и не думала, что так рассвирепеет, – непонятно, кстати, от чего. Кресло взбесилось и начало самостоятельную жизнь, выбрав себе новую хозяйку, – перекрестись, Мара, и живи дальше! Но так у человека не бывает. Человеку всегда нужен именно тот предмет, который в настоящий момент недоступен, и обстоятельство это не перестаёт удивлять специально приставленных к нам ангелов.
Дрожа от ярости, Мара нервно поговорила с некстати позвонившей Анке, с милым акцентом пригласившей новую подругу в театр, после чего набрала номер главной клиентки «Сириуса» Гени Гималаевой, которую Маре разрешалось звать просто Геней.
– Ты знаешь такую девушку – Екатерину Парусову?
– Нет, Марочка Михайловна, не знаю! – весело отозвалась гениальная кулинарка.
(Сейчас, тетешкая внука Ромочку, Мара Михайловна вспоминает то время, когда ни она, ни Геня, ни П.Н. не слышали о Еке Парусинской – и могли запросто звонить друг другу. Страшно сказать, как всё усложнилось сегодня!)
Поговорив с Геней и в очередной раз пожалев вслух и про себя, что у неё никогда не будет такой прекрасной невестки, Мара Михайловна решила, что надо объясниться с Кириллом. Глянула в собственный телефон – и выяснила, что звонил он в последний раз неделю назад. А Мара даже и внимания на это не обратила!
– Кирюша, – ласково попросила она у автоответчика, – мне очень нужно тебя увидеть. Приезжай, пожалуйста.
Кирилл – пожалуйста! – приехал в тот же вечер. Мара смотрела на него новым взглядом и удивлялась: помолодел! Какие-то на нём новые узкие джинсы и продуманно мятая рубашка… Сама Мара в эту пору жизни находилась в той фазе, когда фигура ещё позволяет носить модную одежду, а вот лицо – уже нет.
– Сзади так бы ручки и положи-и-ил… – дразнилась сестра Галька, к которой Мара заезжала иногда из милости и мазохизма.
Коварный изменщик привез Маре крепкий и чуточку горький арабский кофе с кардамоном. Сам, как всегда, сварил его – и разлил по чашкам.
– У тебя, говорят, любовница? – ляпнула Мара, не задумываясь.
– Почему сразу – любовница? С чего ты взяла, Томирида?
– Хватит звать меня Томиридой!
– Привык, – покаялся Кирилл, – но если не хочешь… Мара… буду звать тебя Марой.
– Нет, лучше зови Томиридой! – заплакала вдруг Мара, как ребёнок, у которого вдруг отобрали надоевшую, но такую родную игрушку!
Разумеется, Кирилл тут же позабыл про свой прекрасный кофе и начал обнимать Мару и шептать ей в уши, мокрые от вездесущих слёз, страстные глупости. Обещать, что никогда и ни за что! Говорить, что она самая-самая, несмотря ни на что и вопреки всему! Что Катя Парусова – всего лишь нищая девочка-филолог с феноменальным запасом внутренней энергии и желанием сделать одну свою мечту былью – а он ей просто помогает. Вот ты, милая Томирида, пиаришь свою Гималаеву, а ему, может, тоже захотелось вложить свои силы и деньги в новую звезду, которая вскоре станет либо великим поваром, либо гениальной телеведущей.
Слова Кирилла вначале звучали впустую – за рыданиями Мара их не слышала, – но когда слёзы в конце концов закончились, до неё дошло сказанное. Валя-виселица зря нагнала ужасу – на самом деле у Кирилла с Катей если и есть что общее, так это нечто вроде «Алло, мы ищем таланты!». А значит, не из-за чего городить ни огород, ни сыр, ни бор, и вообще, чего разревелась, дурища? Мара оттолкнула заботливые руки Кирилла, умылась, высморкала распухший нос и незамедлительно после этого начала жить по-прежнему. Даже сватье не позвонила, а ведь та мучительно ждала от неё вестей, и в конце концов набрала Марин номер сама, но Мара её так обрявкала, что Валя не сдержалась и нажаловалась беременной дочери; Андрей потом пришел к маме с воспитательной беседой.
Как пришёл, так и ушёл.
Беременная Лера менялась на глазах: от бульонной коститости не осталось даже воспоминания, она полнела и наливалась час от часа. Громадный живот многих вводил в заблуждение – про двойню спрашивали постоянно, но ультразвук утверждал, что внутри всего один плод. Мальчик.
Мара расстроилась: опять мальчик! Сколько можно? Ей бы девочку-внучку, в перспективе такую же прекрасную, как Геня Гималаева, а тут опять пистолеты-брызгалки. И носков не перестирать.
Незадолго до родов Мара прогуливалась с Андреем и Лерочкой по их унылому микрорайону, единственным плюсом которого был близкий лесопарк. Быстро темнело, у Мары кончились сигареты, и она попросила сына сходить с ней к киоску.
– Идите, – тяжело махнула рукой Лера, – я тут подожду.
И осталась стоять скалой у входа в лесопарк.
Их не было всего десять минут, но, когда они вернулись с сигаретами, Лерочка пропала.
– Украли! – ахнула Мара, а сын подумал другое: «Началось!». Оба побежали в лесопарк, крича: «Лера! Лера!»
Беременная отыскалась в ближайших кустах. Она стояла на четвереньках так, что живот занавесом свисал до земли.
– Тсс! – умиленно сказала она Маре, первой обнаружившей пропажу. – Смотрите, здесь ёжик! Пыхтит!
Мара отлично помнила себя молодой матерью – и полагала, что с внуком всё будет точно так же. Но внук – это оказалось совсем другое дело!
Лерочка, благополучно родившая на следующий же после истории с ёжиком день, быстро потеряла интерес к малышу и занялась своей фигурой, походившей теперь на упавшую палатку. Она потела в спортзале, голодала до зелёных чертей в глазах, в общем, соответствовала требованиям времени. А потерянный интерес к Ромочке подхватили две бабушки – Валя и Мара. Они приходили к своим молодым да ранним детям по очереди, но иногда Валя специально дожидалась Мару и нудно, трагически перечисляла, что она за сегодняшний день сделала на благо юной пары и младенца.
Иногда Валя приводила с собой ещё и свою маму-учительницу – пенсионерку с редкозубым ртом, трогательно припорошенным с обеих сторон седеющими усиками. Эта мама всегда носила красные длинные одежды, делавшие её похожей на кардинала. Пальто, платья, халаты – всё у неё было красное и длинное. Ещё мама-кардинал безмерно гордилась своими кулинарными талантами и заявляла невестке, внучке и сватье, что Ромочка-де ест только то, что она приготовила. А всё прочее отталкивает от себя в негодовании и даже зажимает ручонкой рот.
– Котлеточки мои подъел все до одной, а к твоей тыкве даже не прикоснулся, – злорадствовала мама, добивая и так уже несчастную Валю. Кирилл дома практически не показывался, жил то у Мары, то ещё где-то – но часто покупал Ромочке дорогие игрушки на вырост.
Мара, когда увидела внука впервые, вдохнула полную грудь воздуха, а выдохнуть обратно не смогла. Ромочка так и жил в ней теперь, он и был её воздухом… Внук пришёл к Маре так вовремя, как будто бы его специально отправили из космоса поддержать в трудную минуту.
Она так увлеклась взращиванием внука, что вполне хладнокровно пережила дефолт и не заметила многих других событий. Теперь она вполне спокойно откликалась на «бабушку» и мирилась с необходимостью ежемесячных денежных переводов в Краснокитайск, где Виктор пил и гулял с родным папой. Андрюша всего через год после рождения Ромочки развёлся с Лерой и уехал в Германию получать второе высшее образование, а Мара Михайловна неожиданно получила приглашение из Франкфурта. Который на Майне.
И вот теперь внук Ромочка, сидя у неё на коленях, щебечет что-то про немцев – ах да, «скажи: “полотенце”, у тебя в носу два немца!».
Анке и Фридхельм вернулись к себе на родину восемь лет назад – у них закончился контракт, да и возраст подошёл к пенсионному. Приходили вежливые письма и трогательные самодельные открытки, которые Мара крепила на дверцу холодильника рядом с рисунками Ромочки. Наконец пришло приглашение – и вспомнилась эта странная фраза о вкладе в экономику России… Анке и Фридхельм, видимо, забыли, что Мара Михайловна Винтер – не нуждающаяся в гуманитарной помощи беженка, а управляющая крупнейшим городским супермаркетом.
Мара бродила по «Сириусу», отчитывая кассирш, недостаточно рьяно обслуживающих покупателей. Ромочка прилип к стойке с журналами – Мара не беспокоилась, сам он никогда ничего не возьмёт. В отличие от детей, которым дозволялось делать всё, что угодно, внука держали в полезной и правильной строгости. Мара машинально отчитывала кассирш и думала: что бы привезти немцам в подарок из России? Красную икру? Водку? Всё это кажется таким банальным…
– …Ах, Мара, ну зачьем ты… – с удовольствием ворчала Анке, распаковывая подарки. Бочоночек красной икры, бутылка водки, а также сушёные белые грибы, кедровые орехи и нежный алтайский «мет». Фридхельм засмеялся – вспомнил! Мара привезла ещё и неизбежных, как старость, матрёшек, и оренбургский пуховый платок для Анке, и диск русских песен для Фридхельма, который очень любил народную музыку.
Дом у немцев оказался чудный – уютный и очень простой. Здесь всё было сделано для людей, которые в нём живут, а не для дизайнеров, которые его оформляли. В кресле-качалке лежала казавшаяся кошкой шаль, под креслом – серая, как шаль, кошка. В саду были птичьи гнёзда, в туалете на стенках – вырезанные из «Шпигеля» карикатуры. Маре так хорошо стало в этом немецком доме, что она впервые за многие годы наконец расслабилась, и даже не стала звонить Лере, выяснять, как Ромочка сходил сегодня в садик.
Вальтеры, как показалось Маре, почти не состарились – в меру загорелые, лёгкие на подъём, вскормлённые дисциплиной. Перед ужином Анке переодевалась в длинные платья, всякий раз разные, но при этом похожие, как дети одних родителей. С утра Фридхельм заводил старый проигрыватель (Мара и не думала, что у кого-то сохранились такие), и взволнованная оперная дама сопровождала своими руладами их завтрак: на деревянных круглых подставках-тарелках – хлеб и булочки, в стеклянных банках – мёд и джем.
«Я хочу здесь жить», – подумала Мара однажды утром после третьей булочки, когда оперная дама зашлась совсем уже не в академическом экстазе. Маре всё тут нравилось – и предсказуемые белые шторки на окнах, и длинные, «многокомнатные» немецкие слова, и рейнское вино, до которого Вальтеры были большие охотники. Городки и достопримечательности Мара как будто бы вспоминала – это были и вправду её земля, её страна, её люди. Вечерами Анке включала свет над круглым столом и они подолгу смотрели тяжёлые фотоальбомы. Мама Фридхельма в белом платье. Папа – в нацистской форме. Ой!
– Йа, йа, – кивал Фридхельм, – дер криг. – И по-русски, для большей ясности: – Фойна.
Язык, на котором все трое общались, был составлен наполовину из немецких, наполовину из русских слов, но иногда попадались ещё и английские, которые вырывались порой у Анке. Она доставала теперь уже свой альбом: мама – в белом платье, а папа – опять в той самой форме. «Твой папа – фашист», – вспомнила Мара строчку из песни, которую Витька часто крутил до армии на «Романтике-306».
– На йа, – приговаривала Анке, – дер криг.
«Война и есть один большой общий крик», – подумала Мара, и альбомы были досмотрены без моральных потерь. Отцы и Фридхельма, и Анке прошли всю войну и умерли спустя много лет после 1945 года.
Вальтеры знакомили Мару с друзьями, соседями, роднёй, возили к Андрюше в университет, таскали по музеям, театрам и, естественно, по магазинам. Визит в главный продуктовый супермаркет земли Гессен успокоил Мару – «Сириус» превосходил его по всем статьям. На Рёмерплату Мара с Вальтерами ели салат с зелёным соусом и пили яблочное вино, в Драйахенхайне пробовали тёплый козий сыр, на ферме рядом с домом – свежую спаржу.
– Мара, мы хотим показать тебе ещё одно удивительное место, – сказал Фридхельм незадолго до отъезда. Мара подумала: опять в ресторан.
Ехали недолго, и пробок в тот день почти не было. Анке, как всегда, задремала на заднем сиденье – Мара завидовала людям, которые умеют так спать, в любую свободную минуту, в любых условиях. Фридхельм сосредоточенно смотрел на дорогу, Мара заметила, что они поднимаются в гору. А потом опять спускаются.
– Хирше, хирше! – закричал вдруг Фридхельм, и Мара увидела за окном оленей – светло-коричневых, с бархатными рожками. Олени отдыхали у обочины, Фридхельм ехал медленно, чтобы русская гостья внимательно их разглядела. Совсем не пугливые. Их бы в Россию, подумала Мара. Кирилл однажды рассказывал, как его приятель, выехав за город, случайно сбил оленя, выскочившего на трассу, – и тут же продал тушу в ближайшей деревне. Мара решила не рассказывать Фридхельму эту историю, она не ложилась в пейзаж.
Справа появился дорожный знак – жаба в белом, отороченном красным треугольнике.
– Нужно уступать дорогу жабам, – объяснила проснувшаяся Анке. – Они здесь часто переходят дорогу и, чтобы их не раздавили, стоит знак.
– Там есть ещё корзина, – добавил Фридхельм, – жаб можно сложить в корзину и перенести на другую сторону, куда им надо.
«Я хочу здесь жить, – опять подумала Мара, – если уж немцы о жабах так заботятся, то и обо мне наверняка не забудут».
Машина Вальтеров углубилась меж тем в густой старый лес. Смешанный – берёзы, буки, сосны. Фридхельм вырулил на небольшую расчищенную площадку. Рядом с их «ауди» стояло всего четыре машины, под ногами была настоящая лесная почва, и тишина била в уши, как звуки колокола.
Из ближайшего куста к недоумевающей Маре вышел, похрюкивая, большой серый ёж. «Там – ёжик», – вспомнила вдруг Мара и будто бы снова увидела большой живот, мешком лежащий на земле. Ёж потоптался рядом с людьми и, разочарованный, вернулся в кусты.
– Пойдём, Мара, – сказала Анке, указывая тропинку. Навстречу шли несколько человек, впереди – крупная дама в бордовом палантине.
– Кристина! – жарко вскрикнула вдруг Анке и бросилась навстречу палантину. Обе обнялись и заплакали, Фридхельм сочувственно топтался рядом.
Мара всё еще не понимала, куда они приехали. Ближайший город – Михельштадт, лес называется Оденвальд, но зачем всё это? Ни памятников, ни красивых зданий – ничего такого не видно.
– Мара, знакомься, это наша подруга Кристина, – по-немецки сказала Анке. – А это Мара, наша гостья из России.
Мара неловко кивнула. У Кристины были заплаканные глаза и запотевшие очки.
– Она только что похоронила брата, – объяснила Анке.
– Как это – похоронила? – изумилась Мара. – Здесь?
Вокруг стояли деревья. Одни только деревья. И никаких могил.
– Пойдём, Мара, мы хотим тебе кое-что показать, – снова сказал Фридхельм, уводя Мару в лес по тропинке. Анке ещё шепталась о чём-то с Кристиной, которую ждали у притихших авто друзья и родственники. – Это не просто лес. Это лес скорби – Фридвальд.
– Похоже на твоё имя, – осторожно сказала Мара. Она озябла и встревожилась.
– На йа, похоже, – согласился Фридхельм. Анке догоняла их быстрым шагом. – И ещё похоже на Friedhof.
– Кладбище, – перевела Мара.
– Кладбище, – подтвердил Фридхельм. – Но не обычное, а лес.
Он обвёл рукой пространство, как гордый помещик:
– Здесь можно купить дерево, а потом, когда придёт время, человека похоронят под корнями этого дерева, и природа сама будет о нём заботиться. Никаких венков, имён, фотографий – это не разрешается.
Фридхельм легонько задел перчаткой тонкую овальную пластинку, висевшую на ближайшем стволе. На ней была гравировка – «124».
– Можно только номер дерева. Или вот так, – он подвёл Мару к соседнему дереву. – «Семья Баум».
– Здесь даже цветы нельзя приносить, – сказала Анке. – Полностью экологическое захоронение, за всем смотрит природа и, немного, лесник.
– Мы тоже купили здесь дерево, Мара. Для меня и для Анке. Потом, возможно, для наших детей и родных. Мы покажем тебе это дерево.
Немцы уходили вдаль по тропинке, а Мара шла следом, испуганно озираясь по сторонам. Она-то думала, это обычный лес, а не Фридвальд, где под каждым деревом лежат люди.
Наконец вышли на край леса – как на край света. Внизу расцветал первыми вечерними огнями город.
– Михельштадт, – сказала Анке. – Город нашей юности.
– Здесь мы учились, – сказал Фридхельм.
– Здесь родился наш сын.
– И вот это – наше дерево.
Немцы стояли, приобняв с двух сторон высокий ствол. Мара от волнения не поняла, какое это дерево – не так уж сильны были её познания в этой самой, как её там, дендрологии. Поэтому пусть будет просто – дерево. За номером 1055. Мара смотрела на немцев и думала: «Они уже знают, где будут лежать после смерти, а я… я этого не знаю, и не хочу знать. Наверное, я стала наконец русской?..»
Кирилл приехал в аэропорт вместе с Ромочкой – они встречали Мару Михайловну с цветами, торжественно, как приму-балерину. Мара понюхала вначале внукову мяконькую макушку, потом – розы, и решила, что внук пахнет лучше.
Мара Михайловна больше не боялась старости: её перевезли на другой берег в целости и сохранности.
Глава девятнадцатая,
поэтическая
Знаете, как бывает: встанешь ночью, пардон, по срочному делу и потом возвращаешься сонный к нагретому месту в кровати. А теперь представьте, что, когда вы вернулись, там, на вашем месте, лежит чужой человек. Лежит себе, посапывает на вашей подушке, укрывшись вашим одеялом, положив ногу (это ещё в лучшем случае!) на вашу жену. И вам в этой кровати просто не осталось места.
Примерно такое ощущение от собственной жизни преследовало Аркадия Пушкина, главного режиссёра канала «Есть!», мужа, отца и «цитателя». Гражданином он мог и не становиться, а вот поэтом быть пришлось. Исключительно по причине фамилии – военной, пушистой, мюнхгаузеновской, но прежде всего поэтической.
Маяться фамилией Пушкин начал с самого раннего детства.
– А Эс Пушкин? – ещё в детском саду веселились воспитатели и воспитанники, счастливые обладатели простых фамилий Иванов, Матвеев и Кошкин. Даже фамилия Горшков на фоне А.С.Пушкина выглядела вполне привлекательно, и втайне Аркашон примерял её, как мать семейства – прозрачный пеньюар. А что? Аркаша Горшков. Аркадий Степанович Горшков – во всяком случае, никто не станет глумливо смеяться и спрашивать: «Ужель тот самый?»
В школе глумление продолжилось – кучерявый гений на портрете смотрел куда-то вдаль, не замечая, как хихикают над его однофамильцем красивые девочки и злые мальчики.
«Дать бы вам всем под зад, и полетите вверх кармашками!» – думал юный Пушкин, превратно представлявший себе понятие «тормашки». У него вообще было особенное – как и полагалось поэту – отношение к словам. Некоторые он произносил совсем не так, как предлагали нормы.
Например, телефонное «алло» с младых ногтей превратил в «алоэ».
– Алоэ, – говорил Пушкин в трубку, и собеседники поневоле воображали мясистое целебное растение, у которого отростки – словно крокодильи челюсти.
Это его «алоэ» чрезвычайно раздражало Юлю Дурову – избранницу Пушкина, забавно походившую на Наталию Гончарову. Особенно если иметь в виду портрет кисти живописца Макарова: у Юли тоже были красивый лоб, обиженное выражение лица и слегка поджатые, как будто удерживающие обидное слово губы. Дурова училась с Пушкиным в параллельном классе и тоже настрадалась от своей фамилии. Одноклассникам было плевать и на цирковую династию, и на женщину-гусара: симпатичную худенькую Юльку звали попросту дурой.
Между тем дурой она вовсе не была, Аркадий в этом много раз убеждался, но это мы забежали вперёд, ведь пока у наших героев, Аркаши Пушкина и Юли Дуровой, – школьные годы чудесные, отравленные скучнейшей учёбой. Юля на некоторых уроках просто спала, а Пушкин в это время прогуливал свои часы, томясь под дверью класса и ожидая, когда Дурова выйдет и задумчиво проведёт тоненькими пальчиками по своим чёрным бровям: словно бы проверяя, на месте они или нет.
Большого и нелепого Аркашу красавица Дурова не замечала – история умалчивает, специально или нет. Он же маячил в её жизни последовательно – так, что другие девочки давно разобрались, в чём дело. И только смуглая Юля, не глядя на Пушкина, шла мучительно прекрасными ногами по истерзанному школьному линолеуму.
«Позволь душе моей открыться пред тобою», – однажды чуть было не крикнул Аркадий ей вслед и сам удивился нежданным словам, невесть откуда пришедшим в голову после урока литературы, на котором изучали произведение «Разгром».
– Позволь душе моей открыться пред тобою, – прошептал вслух напуганный Пушкин, и записал эту строчку корявым мальчуковым почерком на парте.
Кудрявый поэт с портрета скосил глаза на мальчика, а вернувшаяся в класс литераторша Аида Исааковна возмутилась:
– Пушкин! Ты почему портишь школьное имущество? Хоть бы фамилии своей постеснялся!
(Это была учительская, взрослая версия издевательства над фамилией несчастного Аркадия – педагоги искренне считали, что он должен носить её гордо и совершать одни лишь благородные поступки. Как будто он и вправду был потомком гения!)
Аида Исааковна нависла своим худеньким, жаждущим справедливости тельцем над бедным Пушкиным, безуспешно прикрывавшим хоть и крупными, но всё ещё детскими ладонями накарябанные слова. Наверняка бессовестный мальчишка прятал от глаз педагога какое-то непотребство – пакостный рисунок или ёмкое слово.
– Приказываю тебе, – металлическим голосом сказала Аида Исааковна, – немедленно показать мне, что ты сделал со школьным имуществом.
Пушкин обречённо убрал руки – и глазам учительницы открылись бессмертные строки.
– Позволь душе моей открыться пред тобою, – изумлённо прочла Аида Исааковна, и сама продолжила по памяти, придав, впрочем, пушкинской фразе вопросительный смысл: – И в дружбе сладостной отраду почерпнуть?! Ну, Аркаша, я даже не знаю, что мне с тобой делать. Мы ещё не проходили эту тему, а ты уже такие строки наизусть… записываешь… На парте, Аркаша, ты в следующий раз не пиши, ты, знаешь, ты иди домой… Последний урок ведь у вас, правда?
Пушкин вылетел из класса, багровея ушами, а учительница долго ещё сидела за его партой и вглядывалась в чернильную строчку. «Я мало жил, – печально думала Аида Исааковна, вздыхая всей душой, – и наслаждался мало!»
Пушкин между тем ещё и не приступал к наслаждениям – жизнь его, как у любого школьника, складывалась сложно. Мать требовала идеальной учёбы (при том что сама-то закончила школу на троечки – Аркаша давным-давно нашёл припрятанный в старых полотенцах аттестат), отец – только дай повод! – наливался сизой краской и кричал:
– Рано мы с тобой, мать, отпустили няньку – пусть бы дальше сидела с этим придурком!
Придурок, ублюдок, чмошник – эти слова Аркаша слышал от отца намного чаще собственного имени. Он привык к ним – дети вообще очень быстро приспосабливаются к родительским неврозам. Это ему впоследствии, во взрослом уже состоянии, растолковал один популярный психодоктор, к которому в нашем городе ходят все мало-мальски успешные люди. Но что интересно, по поводу няньки Аркаша был с отцом абсолютно солидарен. Как у всякого Пушкина, у него была няня – любимая добрая Тая. Внешности она была самой незаметной – разве что передние зубы привлекали внимание: они изначально были немножечко кроличьими, а потом ещё и дантист внес свою лепту: то ли из лести, то ли не отыскав подходящего материала, он сделал вставную версию белоснежной, резко выделявшейся на общем фоне. Злые люди, глядя на Таечку, хихикали, изнемогая от желания дать ей морковку – вот уж весело, должно быть, захрустит! Аркашу нянькины зубы не смущали – она его так любила, что и он, всем своим детским сердечком, отзывался на это чувство. И слушался няньку, как никого в жизни, и по-настоящему, тяжело страдал, когда она ушла из их дома. Точнее, когда родители попросили её наконец уйти.
– Мама, ты знаешь эту строчку? – пристал Пушкин вечером к матери. – «Позволь душе моей открыться пред тобою?»
Мать бросила в раковину грязный половник и заголосила, повышая голос на каждом новом слове:
– Да уж какая там душа, ты мне лучше дневник покажи! Пристают со всякими глупостями, будто у меня время есть читать эти строчки!
Когда мать сердилась, то говорила про Аркашу во множественном числе – не «пристаёт», а «пристают», не «ты», а «все вы», так что мальчику всякий раз хотелось оглянуться и увидеть за своей спиной неведомого брата или сестру-привидение.
Как плохо быть единственным ребёнком!
Мать от таких мыслей отмахивалась, объясняя: «Я детей вообще не люблю». Ни брата, ни сестрички Аркаша так и не дождался, и некому было переложить на плечи – хотя бы на полчаса! – тяжеленный крест детства.
– Это она всё стихи читала, – подала вдруг голос мать, когда Аркаша уже отправился за дневником. – Тая, говорю, хватит голос драть, а она всё читает и читает. И ты за ней следом повторял – неужели не помнишь?
Волнуясь, Аркаша набрал домашний номер Таи и упал, как в водопад, в её ликующий щебет. Она несколько лет ждала, что он позвонит, её ненаглядный мальчик, её прекрасный принчик!
– Аркашон! Как дела, мой милый, ты отличник? А девочка есть у тебя?
Аркаша с трудом дождался паузы, чтобы спросить о главном: какие стихи читала ему Тая в младенчестве? И знает ли она такую строчку?..
– Аркадий! – возмутилась Тая, и Аркаша с лёгкостью представил себе, какое она при этом состроила лицо. – Это же Александр Сергеевич! Мы только его и читали с тобой. Ты любил Пушкина просто до безумия.
И в точности как мать спросила:
– Неужели не помнишь?
Аркадий вспоминал одну за другой строки, строфы. Целые стихотворения и поэмы всплывали со дна детской памяти. «Всё это, видите ль, слова, слова, слова», – бормотал Пушкин, мысленно расписываясь в получении очередной строчки. Великий однофамилец будто бы заранее предвидел все жизненные ситуации, все чувства и мысли юного Аркашона – цитировать можно было постоянно, и наш Пушкин делал это вначале про себя, затем – вслух. В школе он вскоре прослыл поэтом (хотя был никаким не поэтом, и даже не читателем – а, скорее, цитателем) и стал любимым учеником Аиды Исааковны, которому прощались даже не сданные в срок сочинения – зато пушкинскими стихами Аркаша был набит до отказа…
– Паситесь, мирные народы, – сообщил однажды Пушкин одноклассникам, обедающим хлипким минтаем, воткнутым, словно стрела Чингачгука, в облако картофельного пюре. Набалованный домашними яствами Пушкин индейским минтаем брезговал и покупал себе в буфете заплетённую, как девичья коса, слойку с творогом.
«Народы» в ответ зароптали, и кто-то даже запулил в Аркадия рыбьим хребтом. Только Юля Дурова весело расхохоталась. Понять, благодаря кому она расхохоталась – обоим Пушкиным или объеденному минтаю, – было трудно. Аркадий на всякий случай собрался с мыслями и обратился к стрелку лично:
– Ты ужас мира, стыд природы, упрёк ты богу на земле!
Юля совершенно по-мальчишески почесала свой замечательный лоб и приказала:
– Пушкин, дождись после алгебры.
Алгебру, между прочим, Пушкин искренне любил и хорошо знал – мама впоследствии сокрушалась, что Аркашон не пошёл учиться в политехнический, как было принято среди юнцов их круга. Но в тот момент нашему герою было не до алгебры: Аркашон в ожидании встречи краснел и по-собачьи вздрагивал. Но ничего выдающегося не случилось, Юля всего лишь попросила помочь ей придумать стихотворное поздравление по случаю свадьбы старшей сестры.
– Но я не поэт! – испугался Пушкин. – Я просто знаю много стихов!
Юля не поверила и даже рассердилась: он что, не хочет ей помочь? Не хочет – не надо, Валентин Оврагов из 10 «Б» просто спит и видит выступить автором свадебных виршей!
При упоминании Оврагова Пушкин загрустил – это был первый школьный красавец, который каким-то мистическим образом умудрялся совмещать по-модному разнузданный образ жизни с безукоризненной учёбой. На памяти Пушкина повторить этот подвиг не смог более никто. Помимо прочего, Оврагов прогремел на всю школу и как поэт – а не какой-то там цитатель. Ещё в первом классе Валентин довёл педагогов до умилённых слёз поэмой «Мой папа – коммунист», а через несколько лет сумел удачно зарифмовать целый урок по теме «Круговорот воды в природе». Конечно, Пушкин с таким Валентином и рядом не лежал: папа его коммунистом не был, а круговорот воды в природе вряд ли сподвиг бы Аркашона на нечто, кроме скупого пересказа параграфа.
Юля требовательно смотрела на бедного Пушкина, а он пугливо тасовал в уме цитаты, как назло, не подходящие случаю: «Когда-нибудь монах трудолюбивый найдёт мой труд усердный, безымянный…», «Беги, сокройся от очей!» и совсем уж неуместное: «Скорей! Пошёл, пошёл, Андрюшка!»
В конце концов он, конечно, согласился – а вы как думали? Грозная тень Валентина Оврагова и тёмные глаза Юли Дуровой просто не оставили ему выбора.
Сестра Юли Дуровой звалась Татьяна: одно из немногих имён, без каких-либо причин, а всего лишь в силу звучания несимпатичных Аркашону. Это была красивая бойкая девица мещанского замеса, готовая посвятить всю себя собиранию шикарного гардероба и прочих вещественных свидетельств счастливой судьбы. За год до описываемых событий Татьяна трудилась продавцом в магазине дамской одежды, где и познакомилась со своим избранником – трогательным великаном Димочкой. Неловкий Димочка запутался в дамских нарядах, гроздьями падавших с плечиков, как рыбка в сетях старца-подкаблучника. Димочка пытался выбрать подарок любимой маме, не зная толком ни её размера, ни вкуса, ни предпочтений, – во всяком случае, рассказать о них Татьяне Димочка внятно не смог. Он всего лишь делал своими огромными руками волнообразные движения в воздухе и краснел так, что Татьяне стало жарко. Пришлось выпутывать Димочку из скрученных тряпок, а потом вместе с ним выбирать подарок для неведомой женщины. Что с первой, что со второй задачей Таня справилась блестяще: отвела Димочку в соседний парфюмерный маркет и помогла купить французские духи. Так поступают все девушки… Вначале они готовы горы свернуть ради потенциальной свекрови, ластятся к ней, задаривают и льстят почём зря, ну, а когда дело уже сделано, выясняется: мама мужа на самом деле противнейшая тётка, не достойная даже глиняного сувенира к празднику Международных женских дел! Таня с годами тоже заметно разлюбила свою свекровь, но ведь и та ненавидела невестку по-девичьи страстно, так что чувство их было взаимным, на свой манер счастливым.
Свадьбу Татьяна и Дмитрий затеяли нестыдную, такую, чтобы гости не плевались, а унесли в своём сердце восторг с элементами зависти. Торжественно венчались в церкви – жаль, что процедура оказалась неожиданно долгой, непонятной и утомительной. Наняли профессионального тамаду – он шутил, пел и даже мучил какой-то электронно-музыкальный инструмент, раскорячившийся на сцене ресторана. Договорились с роднёй и знакомыми насчёт машин – и каждую изукрасили ленточками, кольцами, куклами. Водка лилась рекой, вино – ручьями, все девушки, включая невесту, были красиво причёсаны одной и той же рукой – в общем, всё было по моде ранних девяностых. Кстати, это была первая свадьба, на которой Пушкин в своей жизни оказался, – а следующей стала его собственная.
Когда Аркадий Пушкин уже стал циничным телережиссёром с тёмными подглазьями, он часто вспоминал свадьбу старшей Дуровой. Каким милым и скромным выглядело на расстояньи лет то вычурное празднество! Бракосочетания современников служили, по мнению Пушкина, ожившим каталогом пошлостей. Звери-лимузины с длинными акульими телами. Карета, запряжённая конями в яблоках. Бомбардировка рисом и лепестками роз. Белые голуби, которых невеста с женихом выпускали в небо из рук, – одна из птиц не вынесла напряжённости момента и какнула от всей души на кружевной рукав, а хозяин голубей, карауливший процесс в ближайших кустах, прокричал: «Это к счастью!». Поистине, сон совка о Голливуде рождает чудовищ – Аркадий вздрагивал, вспоминая новобрачных, изламывавшихся на газоне перед объективом, трёхъярусный белый торт с фигурками, жадные зубы, впившиеся в «хлеб-соль», и алые воздушные шары, улетавшие в небо под канонаду салюта.
На одной такой свадьбе Пушкин был вместе с женой – толпой нарядного народа руководил фотограф в свитере и грязных джинсах, и Юля послушно замирала с улыбкой на устах по его первому же требованию. Пушкин на тех снимках вышел унылым и каким-то застиранным – не то что дальний родственник жениха, засветившийся буквально в каждом кадре! Родственник производил такое количество счастливой энергии, что ею можно было облучиться, но даже во время интимно-близких танцев с дамами не снимал с уха гарнитуру.
– Боится, чтобы не украли, – пошутил Пушкин, но получил в ответ ледяной взгляд Юли – как удар снежком в глаз.
Юля Пушкина, как всякая замужняя дама, очутившись на очередной свадьбе, вспоминала свою собственную. И, разумеется, историческое венчание сестры.
Был холодный, отменно зимний день. К загсу N-ского района прибыл свадебный кортеж – и разряженная нетерпеливая невеста не стала ждать, пока Димочка откроет перед нею дверь окуклившейся и окольцованной «Волги», а самостоятельно выпала из тёплого салона в сугроб. Взвизгивая, Таня поднялась и начала злобно стряхивать букетом снежинки с колен.
– Ничего, – сказала она, – вот когда я буду в следующий раз выходить замуж!..
Не договорив, она похромала к загсу, волоча за собой смущённых гостей и Димочку с розой в петлице.
– Зачем она так? – расстроился Пушкин, в ту пору ещё нежный душою. Юлина сестра, для которой он сочинил многоярусную, как торт, поздравительную инсценировку, не имела права так вести себя! Но и смеяться – как редкие в этакую холодину прохожие – над невестой в сугробе он тоже не стал.
В загсе всё покатилось без скрипа – по наезженным за долгие годы рельсам. На служительнице было надето нечто вроде церемониальной мантии истошно-розового цвета. Аркадий выглядел достойно и привлекательно – как подобает милому юноше шестнадцати лет с поэтическими задатками и большим будущим. Жаль, что Димочка волновался – и даже уронил кольцо, которое надо было надеть на требовательно выставленный палец невесты. Танька ахнула, кольцо своенравно покатилось под ноги гостям и, прокружившись на месте, остановилось прямо у ног Аркашона.
…Недавно Пушкин вспоминал эту историю: когда ехал на работу, а инспектор, пытавшийся остановить Аркашона, так неловко махнул палочкой, что она тоже укатилась – аккурат под колёса «тойоты короллы» (дочка Сашечка называет её «тойота корова»). Инспектор смутился, полез под колёса, отыскал палочку – состоящую, как судьба, из чёрных и белых полос, – и махнул рукой, обиженно глядя куда-то вверх…
Тогда, в загсе, Пушкин застыл, не зная, что делать… Поднять кольцо? Стоять столбом? Выбежать прочь из этого зала, где розовеет заря будущей жизни?
К счастью, рядом была Юля.
– Следующий, кричит заведующий! – она ловко схватила колечко и, ткнув пунцового Пушкина в плечо, вернула потерю жениху. Таня именно тогда впервые глянула на Юлькиного ухажёра с интересом, который, впрочем, тут же растаял – Димочку объявили мужем, а её, как следствие, женой.
Что происходило потом – в памяти Аркашона сохранилось плохо. Понемножку выпивать гости и новобрачные начали ещё в загсе. Шампанское пузырилось, как слюна в младенческих губах, водка лилась затяжным дождём. Глядя, как лихо Юля опрокинула бокал с шампанским, Аркашон принял из рук неопознанного краснолицего гостя (которым запросто мог оказаться некий приблудный бес) гранёную стопочку с невинно-прозрачным напитком.
Водка лилась в горло так легко, как будто делала это целую жизнь. Пушкину стало жарко и хорошо, как после бани. В машине, когда уже ехали в ресторан, Аркашон бойко декламировал Пушкина.
– Что дружба? – таинственно спрашивал Аркадий у захмелевших девушек, прикрывающих капроновые коленки красными от мороза руками. И сам тут же объяснял: – Лёгкий пыл похмелья, обиды вольный разговор, обмен тщеславия, безделья иль покровительства позор…
– Нифига себе шпарит, – уважила цитателя одна из девушек – Таниных соратниц по торговому делу. – Я бы так не смогла!
(Эти торговые девушки всё измеряют лишь собственными возможностями и, предлагая помощь покупателю, говорят: «Мне это очень нравится». При чем здесь вы, всегда хотел спросить Пушкин, но, разумеется, никогда не спрашивал.)
Начался банкет. Спиртного заказали на целую тысячу (рублей, а не гостей), и подвыпившая румяная бабулька Дуровых произносила длинные тосты, выстраданные за целую жизнь. Димочкина мама сидела, сжав губы, лишь изредка выдавая улыбку мученицы; что же касается школьника Аркашона, то он был по-настоящему – впервые в жизни – пьян, шутил с торговками и не замечал мрачного лица Юли.
Александр Сергеевич не подвёл: мальчик пил вино – и тут же вспоминал всё новые, подробные цитаты, отчаянно смешившие девушек. Даже сам он, предатель, спьяну увидал в любимых стихах новую, смешную грань.
Юля нервно заглядывала в блокнот, где у них с Пушкиным были расписаны все фазы стихотворного поздравления, оказавшегося ныне на грани срыва, – очередь приветствовать молодых неслась неотвратимо, как цунами.
– И вот, дорогие мои тварищи (так живописно выговаривал тамада слово «товарищи»), поздравить молодожёнов хочет младшая сестра нашей Танечки, прекрасная наша Юлечка! Помогать Юлечке будет поэт и одноклассник Аркадий Степанович Пушкин.
Тварищи послушно стихли. Замаслившийся от девичьих улыбок Пушкин с трудом поднялся с места и едва не упал на Юлю – она отреагировала ловко, как в теннисе, и устояла на ногах. Мама Дуровых вопросительно подняла красиво выщипанную бровь и ткнула локтем в папин бок. В смысле, не спи, Дуров, может возникнуть проблема (папа Дуровых был большой начальник ныне преставившегося производственного объединения и умел решать проблемы на ходу, жонглируя ими, как в цирке булавами). Папа очнулся от приятной алкогольной дрёмы, в которую так легко погружались в советские времена все мало-мальские начальники, и вперил грозный взгляд в незнакомого юнца.
– Аркаша, соберись, – гневно шипела Юля, но Аркашону было попросту не из чего себя собирать: детали разбрелись по разным углам, и от бывшего некогда цельным Пушкина сохранилась одна лишь широкая улыбка. Он стоял, качаясь, над столом, и радостно смотрел в глаза гостей – соболезнующие, осуждающие, пустые, чёрно-серо-зелёно-голубые глаза, – и смаковал гениально-пьяные мысли: вот интересно, почему глаза не бывают розовыми или жёлтыми? Отчего так скудна палитра небесного офтальмолога? И почему только сейчас ему открылась удивительная возможность видеть душу человека через его глаза, которые были для пьяного мальчика чем-то вроде выпуклых букв в книжках для слепых детей?
Ожидание затянулось, тамада поглядывал на часы, Дуровы шушукались, а Юля страдала: ей так хотелось прозвучать на свадьбе, и вот, пожалуйста, прозвучала! Первая реплика была – Пушкина, в одиночестве поздравление ей было попросту не вытянуть. Поэтому когда Аркаша наконец открыл рот, Юля мысленно перекрестилась.
– Лев Толстой, – сообщил Пушкин многоочитой аудитории, – был глубоко прав. Глаза – это зеркало души. А водка – её топливо!
Юля ахнула и выскочила вон – как секунду назад из головы Аркадия выскочила последняя относительно трезвая мысль. Столы на всём своём протяжении осуждающе загудели, но Аркаша был готов продолжить тему. Он лихо шагнул к сцене, взлетел на неё, запутавшись ногой в проводах, и, с трудом избежав падения, кивнул музыкантам: сейчас спою!
Музыканты испуганно заиграли нечто ожесточённо-свадебное, но Пушкин замотал головой так гневно, словно ему предложили продать родину за бесценок.
– «Наутилус Помпилиус», – веско объявил он в микрофон. – «Все, кто нёс».
Голос Пушкина, понесшийся из динамиков вслед за этим упреждением, восхитил самого исполнителя.
– Я так торопился успеть к восходу, но я не донёс, я всё выпил до дна… – выводил Пушкин под робкий клавишный перебор, пока тварищи хмуро смотрели из-за столов, пока несчастная – навек опозоренная! – Юля рыдала в туалете под равнодушное журчанье унитаза.
Жених – то есть, разумеется, уже никакой не жених, а законный супруг, – сообразил наконец, что праздник развивается не так, как нужно, – и споро, в два шага, покрыл расстояние до сцены. Пушкин сопротивления не оказал, правда, микрофон не отдавал – и, будучи уносимым со сцены, поспешно допевал заветные строки:
– Ведь всё, что нёс, я не донёс, значит, я ничего не принёс…
– Принёс, принёс, – утешал певца добрый Димочка, а Пушкин, сладко улыбаясь и по-детски пуская пузыри, хотел уснуть и одновременно с этим освободить желудок. Едва они покинули зал, как Пушкин, сложившись пополам, словно перочинный нож, облевал собственные ботинки и краешек парадной брючины жениха. То есть, простите, не жениха, а мужа – к перемене статуса так сразу и не привыкнешь.
– Наталья Павловна! – кинулся Димочка к выплывшей из зала тёще, оштукатуренной, как только что отреставрированный дворец. – Что с ним делать?
– Ах, Наташа! – обрадовался Аркашон, жизнерадостно отплёвывая кусочки блевотины и продвигаясь ближе к старшей Дуровой. – Помни вечно нежности, любви закон: если радостью сердечной юности горит огонь, то – не трать ни полминуты!..
Наталья Павловна вспыхнула:
– Я тебе покажу Наташу! Юлия! Отправляй своего гостя домой, и чтобы духу его тут не было!
Дух остался – в красивом холле ресторана долго еще несло непереваренной закуской. Хозяина же этого духа бледная Юля с Димочкой запихнули в первое попавшееся такси.
– В твою светлицу, друг мой нежный, я прихожу в последний раз, – мстительно сказал Юле Пушкин, прежде чем она успела хлопнуть дверцей машины. Водитель посмотрел на пассажира с уважением: если бы не заплатили заранее, он, возможно, и не взял бы с него денег.
Свадьба тем временем пела и плясала – что с ней станется, – но ничего по-настоящему интересного больше не случилось. «Выступление» Аркадия Пушкина стало гвоздём программы, пусть и не так, как мечталось Юле. Герой дня, высаженный у ближайшего к родному подъезду сугроба, быстро и жутко трезвел. В жёлтых, как сыр, окнах светилась благополучная вечерняя жизнь. Аркашон набрал полную пригоршню снега и затолкал в рот, так что заломило зубы.
– Пушкин? – услышал он. Осаживая крупную, шоколадной масти собаку, породу которой трудно определить даже на трезвую голову, перед ним стоял школьный король Валентин Оврагов.
– Здоро́во, – просипел Пушкин, глотая снег. Собака зашлась обличающим лаем.
– Да ты пьян! – обрадовался Валентин. – Она только на алкашей лает. Молчи, Грусть!
– Как её зовут?
– Грусть, – гордо сказал Оврагов, подтягивая поводок вместе с псиной ближе к ноге. – Это мамаша придумала. Стильно, да? А ты где так набрался, чубзик?
– На свадьбе, – с трудом произнёс Пушкин и упал в сугроб. Грусть лаяла во всю силу, но Аркашон не мог встать, и лишь болезненно жмурился.
Потом чьи-то цепкие и надоедливые пальцы тянули за куртку, его выворачивало наизнанку снова и снова, и он очень долго куда-то шёл и без конца читал стихи, а снежная земля вставала перед ним стеной и давала со всей мочи в лоб, и Грусть уже не лаяла, а выла… Очнулся Аркашон в чужой комнате, с мокрой тряпкой на лбу. Напротив сидела прекрасная незнакомка критического возраста и смотрела так скорбно, словно бы у неё скончались в один день все родственники.
– Вы кто? – спросил Пушкин, в голове которого, как загнанные зайцы, метались оборванные воспоминания.
– Я? – удивилась незнакомка. – Я Валечкина мама, Инна Иосифовна Оврагова-Дембицкая.
– А я Пушкин Александр Сергеевич, – сказал Аркашон, засыпая.
Валентин Оврагов растолкал его приблизительно в полночь. На подносе дымилась и гадко пахла чашка растворимого кофе.
– Восстань, поэт, и виждь, и внемли! – продекламировал Валентин. – Самое время вернуться домой, а то родители поднимут бучу. Не у всех же такие мамы, как моя! Да, Юлечке (Пушкин ревниво вздрогнул) я позвонил, она уже дома и почти не плачет. Ты там, конечно, наворотил, старик!
Аркашон поднялся на локте и взял чашку. Гадкий кофе и молодой крепкий организм на глазах побеждали похмелье. Валентин разглядывал ночного гостя.
«Я дома у Оврагова!» – осознал вдруг Пушкин, внутренне возгордившись – на его месте желали бы оказаться многие соученики и особенно соученицы. Но, как часто бывает в жизни, Аркашон не сумел насладиться выпавшим ему счастливым моментом: нужно было срочно лететь домой, иначе отец вспомнит детство и всыплет ему ремнём, как маленькому.
Аркадий вспомнил отца – недовольного, с поджатыми губами, с резкими морщинами на лбу. Представил себе маму: если бы с неё написали честный портрет, получилась бы карикатура на угнетённую домохозяйку. А вот с Инны Иосифовны Овраговой-Дембицкой можно писать «Портрет дамы», решил Пушкин. Он понимал, что завидовать Валентину бессмысленно: в нём всё было прекрасно – и лицо, и одежда, и душа, и мысли, и мама, и Чехов на полке в тёмно-синих переплетах… А ведь Пушкин в ту ночь не мог по достоинству оценить уютную квартиру Овраговых – обычно всем, кто попадал в это жилище, хотелось укрыться в нём, как в берлоге, и перезимовать, даже если на дворе стояло лето.
– Мы тебя проводим, – сказал Оврагов, с прежним вниманием наблюдая, как протрезвевший Аркашон пытается застегнуть «молнии» на тяжёлых зимних ботинках. Грусть, услыхав заветное «мы», притащила в зубах длинный кожаный поводок и вопросительно глянула на хозяина.
– Только недолго, Валечка, – взмолилась Инна Иосифовна. – До свидания, Аркадий.
Пушкин неловко кивнул и закрыл за собой дверь. Валентин с собакой догнали его на выходе из подъезда.
Двор был абсолютно незнакомый и не по-ночному светлый благодаря мощному фонарю рядом с катком. Разумеется, во дворе у Овраговых имелся свой собственный каток. И фонарь.
– Ты вот что скажи, Пушкин. У тебя с Юлечкой серьёзно?
Пушкин дёрнул плечом. Какое уж там «серьёзно» после сегодняшнего? Теперь она и смотреть в его сторону не станет.
– Такие люди, как Юлечка, – сказал Валентин, – это мещанская кость. Они не такие, как мы с тобой. Им интересно только покупать и жрать, а в старости они начинают ругаться с соседями и жить с телевизором, как с мужчиной. Воспарять им – некуда.
– Ты-то откуда знаешь? – грубо спросил Аркашон. Шоколадная Грусть послушно семенила у ног хозяина, а он вдруг остановился, достал сигареты и умело, по-взрослому, закурил.
– Дай мне тоже, – попросил Аркашон. Он с детства был неравнодушен к курению, и уже в начальной школе бесил отца, «раскуривая» понарошку карандаши и фломастеры. Валентин не глядя протянул ему пачку. Шёл мелкий, словно бы просеянный через сито снег.
Они курили всю недолгую дорогу до Аркашиного дома, где бегал взбешённый отец, хватаясь то за ремень, то за голову. Мать молча, как памятник, стояла у окна и равнодушно, как всякая смертельно уставшая женщина, вглядывалась в даль.
– Подонок! – закричал было отец, открывая дверь блудному сыну, но злоба его тут же ударилась о смелый взгляд Валентина Оврагова, с шипеньем, как в мультфильме, испарившись. Грусть профилактически зарычала.
– Степан Сергеевич, Марья Борисовна, – эффектно раскланялся Валентин с опешившими Пушкиными. – Позвольте представиться: Валентин Оврагов. Обучаюсь в одном заведении с вашим сыном. Извините, что так надолго задержал Аркадия, – сие целиком на моей совести. Мне нужна была срочная консультация по литературе, а лучшего знатока поэзии во всём районе не сыщешь.
Мать Пушкина вспыхнула от удовольствия и внезапно стала похожа на себя в юности – на ту пылкую румяную девушку, выварившуюся нынче в унылую, как постные щи, домохозяйку. Взгляд отца мечтательно затуманился – он примерил Валентина в сыновья и остался этой примеркой доволен. Как был бы доволен на его месте любой другой отец.
– Проходите, – умоляла мама, каким-то непостижимым образом успевшая сменить зачуханный халат на длинное трикотажное одеяние, шедшее к её глазам и волосам. Но Валентин, сдав Пушкина на руки подтаявшим родственникам, ушёл, отвесив полувоенный поклон папаше и на лету поймав мамину руку с шершавыми от вечной вахты пальчиками.
«Ещё и с собачкой…» – волнуясь, вспоминала неожиданного ночного гостя мама, пока папа мечтал о том, как славно было бы съездить с таким парнем, как Валентин, на зимнюю рыбалку. Аркашон тоже не спал в эту ночь, вместившую в себя столько новых переживаний, – он познакомился с первой в своей жизни бессонницей, и дама эта ему решительно не понравилась. В конце концов Пушкин вылез из кровати и отправился искать утешения в кухню – там нашлись сомлевшие котлетки и целая кастрюлька бледно-сиреневого, как Юлино платье, винегрета. Аркашон, воровато озираясь, открыл холодильник и, выудив из ледяной банки с солёными огурцами кривой чёрно-зелёный плод, с наслаждением слопал его, давясь и обливаясь рассолом.
– …Целый день, как ни верчуся, лишь тобою занят я, – бормотал Пушкин, собираясь в школу: как назло, именно сегодня, в субботу, далёкая от веры предков Аида Исааковна решила провести итоговую контрольную по русскому. И первым человеком, которого Аркашон встретил в школе, как назло, стала Юля Дурова – свежая, как будто и не была вчера на свадьбе у старшей сестры.
Пушкин вспыхнул и даже прикрылся, как фиговым листком, той единственной тетрадкой, с которой ходил на все уроки, но Юля и не думала сердиться. Более того, она сама подошла к Аркашону и дружески взяла его за руку:
– Пойдёшь на второй день?
Пушкин отчаянно замотал головой. Ему хватило и одного.
– Ты не сердишься? – спросил он хриплым голосом.
– Со всяким может случиться, – вздохнула Юля. – Ты всё равно понравился – и маме, и Таньке, и гостям. Только не пей больше, обещаешь?
Пушкин пообещал бы ей в эту минуту все сокровища мира! Конечно же, он не будет больше пить!
Благодарить за чудо следовало Димочку – неловко, путано, но при этом доступно он объяснил обманутой в своих лучших притязаниях девушке, что Пушкин вовсе не хотел никого расстроить или опозорить. Что всё это у него – от смущения и любви. Что парень он на самом деле хороший – у Димочки на это и глаз, и рука набиты, – а потому пусть Юлька простит своего героя-неудачника и даст ему второй шанс. А также, по необходимости, третий, четвёртый и пятый – чем Юля и занималась на протяжении всего их долгого жениховства.
В свете этих ярких событий фигура Валентина Оврагова заметно уменьшилась в размерах, отошла на второй план, а потом и вовсе забылась.
Аркадий оперился и воспарил в мир взрослой скуки и ответственности, где всегда есть место бытовому подвигу и хозяйственному самопожертвованию. Они с Юлей поженились через три года после окончания школы – а где в настоящий момент жизни пребывали Валентин Оврагов, его неземная мама и папа-коммунист, Пушкина более не интересовало.
Аркашон влюблялся в Юлю всё сильнее год от года – чувств не охлаждали ни быт, ни возраст, ни матереющее с каждым годом мещанство жены. Ясновидец Оврагов верно предсказал будущее: вечно работающий телевизор ещё в молодости стал третьим членом их семьи. Четвёртой явилась дочка Сашечка. Пушкина умиляли её крохотные ручки и ножки. Он сам купал малышку по вечерам, пока Юля переписывала из бесплатных газет анекдоты и кулинарные рецепты: она в равной степени любила и забывала одно и другое.
«Владею днём моим, с порядком дружен ум», – думал Пушкин вечерами, любуясь Сашечкой. Жена была с дочкой терпелива, но холодна. Возможно, она, как мама Аркашона, просто не любила детей? Но как можно не любить Сашечку – кудрявую толстенькую девочку с такими ясными, такими карими глазами, каких нет больше ни у кого на свете?
А Юлю – разве можно было не любить? С каждым днём Пушкин открывал в жене новые черты, прежде не подмеченные и бесценные. Оказалось, она умеет стоять подолгу на одной ноге, поджав другую, как цапля. Может включать и выключать свою красоту, словно кран с горячей водой, – счастливое свойство, ведь постоянная красота невыносима. По утрам Юля в шутку соревновалась с соседкой, кто раньше вымоет и уложит волосы (жужжание фена в соседской ванной обычно раздавалось в половине восьмого, и слышно его было так, словно соседка вместе со своим феном сидит у них на голове). Да, Юля не читала любимых книг Аркашона, не знала стихов и зевала, когда он пытался показать ей любимые фильмы – чёрно-белые, как городская зима. Но у Юли были такие маленькие ручки – почти как у Сашечки. И она умела спать, как балерина Дега – подняв руки над головой. Разве этого мало?
Экономная, расчётливая Юля любила передаривать подарки и следом за своими мамой и сестрой придерживалась правила: заплатили – будем пользоваться! Купили путёвку на юг – будем купаться, даже если море холодное. Пришли в ресторан – станем есть, даже если невкусно. В еде Юля совершенно не разбиралась, готовить не умела, и Пушкин в конце концов принял на себя руководство кухней.
– Папочка, что у нас будет на ужин? – спрашивала вечно голодная Сашечка, и Пушкин с готовностью отзывался:
– У нас roast-beef окровавленный, И трюфли, роскошь юных лет, Французской кухни лучший цвет, И Страсбурга пирог нетленный Меж сыром лимбургским живым И ананасом золотым.Сашечка хлопала в ладошки – она обожала как ростбиф, так и Пушкина, и засыпала только под «Сказку о царе Салтане» или, в крайнем случае, под «Евгения Онегина».
– Прочти «Онегина», папа, он такой уютный, – сонно требовала дочка, и Пушкин, понижая голос до самого усыпительного тембра, читал, читал, читал…
В университете, на филфак которого Пушкин попал по страстной рекомендации Аиды Исааковны, он тоже много читал – и по окончании без труда прижился на кафедре русской литературы, где в то время восходила звезда восторженного моремана Дворянцева.
– Так море, древний душегубец, воспламеняет гений твой? – с пониманием спрашивал Аркашон у Павла Николаевича, и тот расплывался улыбкой, со слуха записывая цитату. Проверять не было нужды – Аркадий знал Пушкина наизусть, не перевирая ни буквы. Маститые университетские пушкинисты злобно сопели, но терпели поражение в поединках цитат, которые одно время устраивались на кафедральных вечеринках.
– Сколько же ты успела прочесть мне стихов, Тая? – спрашивал Пушкин у своей любимой нянечки, смотревшей теперь за Сашечкой. Тая смущалась, радовалась и гордилась своим большим мальчиком, который так прекрасно устроился в жизни.
– Прощай, свободная стихия! – сказал однажды Павел Николаевич Дворянцев и пустился в плавание по волнам кабельного телевидения, бросив и свою недописанную диссертацию, и всю филологическую науку.
– Он был, о море, твой певец, – грустно отозвался Аркадий Пушкин, но не сразу решился пойти за другом и коллегой. Лишь когда нищета стала бить ему прямо в лицо, как та давняя морозная улица, Аркашон поддался на уговоры П.Н. и стал вначале идейным соратником, а потом и главным режиссёром первых выпусков. Рождение телеканала «Есть!» случилось на глазах и в присутствии Пушкина – как приглашённый папаша, он то бледнел, то терял сознание, то восхищённо плакал и навсегда после этого стал рабом телевидения. «Везде передо мной подвижные картины…»
Юля тоже времени зря не теряла – окончив институт народного хозяйства, как это было принято у них в семье, она выучилась ещё и на мастера ногтевого дизайна. Дни напролёт жена пропадала в салоне красоты, обрабатывая чужие руки, ручки, ручонки и ручищи.
– По ночам снятся сплошные пальцы, – жаловалась Юля, – как опята на пеньке!
Таня с Димочкой к тому времени родили сына и, выдохнув, как бегуны после удачного финиша, пустились каждый во все тяжкие. Димочка сунулся было в мелкий бизнес, но, погорев дважды, отскочил на скромную роль водителя – возил по личным делам жену своего босса, и в школу – его противных детей. Татьяна устроилась продавцом в модный супермаркет «Сириус», но потом заболела спиной и перешла в кассиры. Аркашон, по делам являясь в «Сириус», малодушно пробегал мимо касс, чтоб свояченица его не увидела. В синем форменном халатике, обрюзгшая и бледная, Танька отчитывала пытавшегося пролезть без очереди гражданина:
– Вы не видите, мужчина? Я уже бью другого клиента.
Аркаша отскакивал в сторону и удачно сталкивался нос к носу с весёлой Марой Михайловной – она шла навстречу, протягивая короткие колбасные ручки.
Пушкин имел дар к непринуждённому общению с деловыми женщинами – П.Н., открыв в нём это счастливое свойство, эксплуатировал его на полную катушку. В зрелые свои годы наш цитатель жил не своей жизнью – он словно играл роль приличного человека, устоявшегося семьянина и опытного режиссёра, без которого на канале «Есть!» не совершалось ни действо, ни действие. Стихов Аркашон с каждым годом помнил всё меньше, зато мешки под его глазами темнели всё пуще, так что дочка Сашечка, прочитав вместе с Таей запретную книжку «Вий», заявила: «На картинке – папочка!» Пушкин смеялся, но ему было больно. Никакой он не Вий – и вообще, этот взрослый хмурый мужик из зеркала, с мятыми серыми волосами, не имеет никакого отношения к настоящему Пушкину.
«Немеркнущим светом озарила жизнь Пьера поэтическая любовь к Наташе!» – говорила Аида Исааковна, всё еще работавшая в школе и пестующая юную Сашечку Пушкину…
Жизнь Аркадия была озарена немеркнущим светом любви к жене и дочери. И единственное, чего он не мог простить Юле, так это равнодушия к Сашечке.
«История нелюбви» – отличное название для телешоу, которое Пушкин обязательно запустил бы на другом, некулинарном канале. Нелюбовные истории захватывают куда сильнее романтических – а поначалу всё у всех происходит примерно одинаково, об этом, наверное, и писал Толстой. Лишь потом каждый получает по заслугам – и за то, что любил, и за то, чего желал.
Пушкин уважал свою жену и считал её выдающейся женщиной. А то, что выдающаяся женщина пилит ногти в салоне, – так это её свободный выбор. Аркадий полагал, что все живут в своих семьях почти так же, как он и сотни тысяч других мужчин жили и будут жить после. Это очень утешительная мысль – будто все живут примерно так же, как и мы.
Тогда был, Пушкин запомнил, день Святого Валентина. Дурацкий праздник широко отмечали в Юлином салоне, куда Пушкин забрёл поздно вечером – в поисках загулявшей жены, с унылым розовым бутоном, не прельстившим бы и гражданина Кейна.
В салоне было весело, как в советском ресторане, – клиентки растворились среди мастеров (именно этим словом Юля просила называть себя и своих коллег по цеху). Разве что косметолог – немолодая, но натянутая, как тетива, женщина – продолжала работу: прижав вялую блонди к стене, заботливо спрашивала:
– Ну как они у тебя?
«О прыщах волнуется, – не сразу догадался Пушкин, – как будто это люди».
Некоторые клиентки шли к выходу с растопыренными пальцами и свежевыкрашенными, благоухающими, как чистый санузел, головами. Юли видно не было, и Пушкин двинулся дальше.
Они сидели в пустом зале, друг напротив друга – Юля и какая-то белая мышь в сером пиджачке. Со стороны казалось, будто они вызывают духов, взявшись за руки, или разглядывают ногти – что было бы вполне уместно, – но у Аркашона вдруг нехорошо засосало под ложечкой.
Мышь обернулась на шаги, Юля отдёрнула руки.
– Это Катя, – сказала она. – Моя очень близкая подруга.
На самом деле, думал Пушкин, вылезая ночью из нагретой постели и шлёпая в ванную, на самом деле Юля никогда не любила мужчин. Ещё в детстве мальчики раздражали её так, как они раздражают недалёких учительниц, – шумные, неряшливые, готовые по любому поводу драться и ругаться. Увы, только из таких и вырастают впоследствии настоящие мужчины. Мальчик, который пишет буковка к буковке и послушно пляшет на хореографии в костюме василька, – услада и радость воспитателей, но Аркашон твёрдо знал, что никогда не пожелает своей Сашечке такого спутника жизни. Возможно, Юле требовался именно такой, великовозрастный послушный цветок? И она нашла его на другой, женской клумбе?
Сокрушительный удар, после которого никто, кроме Аркашона, не оправился бы. Пушкин же, пробормотав ассистентам загадочную фразу «…и братья пульт вам отдадут», записался на приём к специалисту по головным проблемам, замечательному доктору М.
Закинув ноги на стол и пожёвывая зубочистку, специалист М. долго слушал Пушкина, после чего спросил:
– А что вам нужно? Новая жена или новая любовь? Потому что это, как правило, совершенно разные вещи.
– Мне нужна Юля, – честно признался Аркашон и тут же сам себе поразился: зачем он сидит в этом кабинете и смотрит, как доктор М. жуёт зубочистку? Ясно, что надо делать! Давно ясно!
Пушкин вылетел из кабинета и помчался домой – там выходная Юля пила с выходной сестрой Таней сливовое вино. Телефон визжал в кармане так, будто свинью зарезали, но Пушкин ничего не слышал.
– Юля! – закричал он так громко и страшно, что Танька облила вином свою лучшую кофту. – Где работает твоя Катя? Где она хотя бы живёт?
Жена упиралась до последнего, но, когда муж по-настоящему прижал её к стенке (пьяная липкая Танька кричала так, будто зарезали ещё одну свинью), выдала координаты своей возлюбленной, как инженер – секретные чертежи.
– Чего ты хочешь? – спросил Пушкин, глядя тёмными жуткими глазами в насмешливое личико Кати.
– Я жить хочу, чтоб мыслить и страдать… – дерзко ответила она.
– Страдать? – возмутился Пушкин. – Да что ты знаешь о страданиях? Это я страдаю…
– Это – Пушкин, – объяснила Катя. – Стыдно не помнить.
Аркашон и правда не помнил. «Элегия. 1830 год». «И может быть, на мой закат печальный блеснёт любовь улыбкою прощальной».
– Скоро я начну работать на вашем канале, и мне очень потребуется твоя помощь. Всесторонняя поддержка. Ну и, конечно же, дружба. Крепкая, на всю жизнь.
Глава двадцатая,
в которой много литературы и удручающе мало настоящей жизни
– Ты просто не тот человек, – сказала Евгения, прежде чем в сто тридцать шестой раз проститься с ним навсегда.
Он должен объяснить, почему решил вдруг войти в это повествование. Он считает, что у него есть право – назовём его Правом Не Того Человека – на особое место в истории.
Потому что, если бы не он, этой истории не было бы вовсе.
Чем дольше живёшь, тем реже встречаешь ни на кого не похожих людей. Те, что вокруг нас, – всего лишь версии уже известных персон. И даже в разных книгах одного автора герои почти всегда похожи друг на друга: они топчутся вокруг одних и тех же зданий, ходят к одному и тому же парикмахеру и страдают от болезней-близнецов. Чем реже встречаются ни на кого не похожие люди, тем сильнее мы ими дорожим – это он знал как никто другой, потому что встретил Евгению.
Он любил её имя – породистое, выдержанное, хороших кровей. Зачем кромсать такие имена, как колбасу, дробить на части – «Женя», «Геня», «Жека»?
Её звали Евгения. У неё не было ни единой родинки, и она писала книги. Евгения ни на кого не похожа – первое, что он подумал, когда они познакомились.
Его звали Владимир. Он всегда хотел быть писателем, может быть, только в юности эта мечта ненадолго оставляла его, и тогда он примерял другие призвания. Монах. Артист. Великий и немногословный путешественник. Что-то в этом роде, похожее, да не то. Писатель – вот это было да. Это оно.
Но быть писателем и быть с писателем – совершенно разные вещи!
Владимир сочинял и стихи, и рассказы, но прятал их как от Евгении, так и от всего мира. Он был потайной писатель в маске фотографа, прятался за объективом – как рукопись в ящике, и не горел на работе, потому что рукописи не горят.
У Владимира была дорогая фотокамера – капризная, как избалованная красавица. Её звали Фаина. Она капризничала, но всегда подчинялась мастеровитому гению Владимира и покорно снимала скучные, хорошо оплачиваемые события. Газетные репортажи. Детские утренники. Свадьбы.
Ещё у Владимира была жена – маленькая, как будто игрушечная, и звали её по-кукольному – Света. В юности Владимиру нравилось играть с этой живой куклой, и однажды они, не покидая, так сказать, рамок игры, поженились. Света работала в школе – у неё были тяжелый цельнометаллический голос, увесистая ручка и кличка Молекула. Она преподавала химию.
– Иногда я бью детей, – рассказывала желающим Света. – Есть такие дети, которые не понимают другого языка.
Один татарчонок, вредный, как целая семья Чингисханов, довёл Свету до того, что она ударила его по лицу перед всем классом. По щеке подростка скатилась достоевская слеза, но Свету так просто не разжалобишь.
– Тебя уволят! – испугался Владимир, и был не прав. Мама татарчонка – хорошенькая и бестолковая – косноязычно благодарила Молекулу:
– Вы ему, Светлана Олеговна, можете ещё побить! Дневник открою – а там как петух зарезал!
Школьные истории Светы развлекали Владимира, но вообще он, как все незрелые взрослые, детей не любил.
Он любил прекрасное.
В Средние века, рассказывал Владимир послушно замиравшей при звуке его голоса Свете, мир детства считался малоприличным и недостойным упоминания. Детство было чем-то вроде болезни.
Своих детей у Владимира и Светы не было.
Мама Владимира, филологическая женщина с большими глазами и такими же большими претензиями, с детства пичкала Владимира лучшими образцами литературы в надежде, что они непременно дадут всходы, а те впоследствии заколосятся и поднимут Владимира к сверкающим высям изящной словесности. «Набокова тоже звали Владимиром», – думала мать, и ставила очередную книжку на полку в комнате сына.
Книги она любила, как другие любят деньги, – безоглядно, а вот с людьми отношения складывались сложнее. Свету мама вообще не признавала, зато сразу же признала Геню. Ей, впрочем, тоже доставалось – ставя на стол блюдо с цыплёнком табака, мама могла сказать:
– Конечно, Геня, ты много пишешь и много читаешь, но так работать с книгой, как мой Владимир, ты вряд ли научишься.
– А что, если добавить сюда эстрагона? – спрашивала она в другой раз, как будто бы у Гени, но на самом деле сама у себя, чтобы тут же, с усмешкою, сказать: – Тогда уж надо и Владимира добавить! – и косо взглядывала на любовницу сына: узнала, откуда каламбур?
Геня узнавала, послушно улыбалась, но молчала, замыкаясь в присутствии этой странной, до самого сердца пропитавшейся книжной пылью женщины.
Владимир не обращал внимания на то, как мама общается с Геней, ему было интересно другое. Он мечтал написать книгу, которую ему самому хотелось бы прочитать.
В книгах он ценил не сюжет, не слог, не мысли, а то особенное, легкое и неуловимое настроение, которое по крупицам рассыпано во всех хороших книгах. Владимир собирал это настроение по капле, торжествовал, наткнувшись на грибное место в книге, и снимал пробу аккуратно, как учёный. Так собирают бесценный шафран – вручную, бережно, по лепесточку.
Нужное настроение часто было связано с путешествиями – Владимир, как многие, истово верил, что всё лучшее надёжно упрятано в чужих краях, но, даже если повезёт, мы находим лишь его следы. Печати птичьих лапок на песке, аромат жасмина в тёмном саду, память о давно отболевшем поцелуе. Застав счастливую эпоху пресс-туров, Владимир с камерой Фаиной бесплатно ездили по миру – в компании таких же штатных гомеров воспевали заранее одобренные маршруты, расхваливали отели и выставки. Фаина послушно снимала нужные виды и планы, но потом, отработав поездку, они пускались во все тяжкие, а на самом деле в лёгкие и чудесные приключения свободного дня. Держа Фаину на отлёте, Владимир ловил те самые моменты, ради которых жил, а дома, притушив полыхавшее любопытство Молекулы духами из дьюти-фри, сортировал удачные кадры. Венеция – уставший мальчик в маске ангела. Париж – дым от жареных каштанов скрывает лицо продавца. Нью-Йорк – гитарист в трусах и шляпе на Таймс-сквер. Владимир видел много стран, но, к сожалению, нагнать прекрасное почти никогда не удавалось – даже Фаина, с её мощной тягой к искренности, была тут плохой помощницей.
Будь Владимир поэтом, ему удавались бы изящные миниатюры, прелестные пустячки из нескольких строк, похожие на подписи под фотографиями, – но на беду, он желал писать романы. Стихи и рассказы были как разминка для легкоатлета. Владимир готовился к самому главному забегу своей жизни – роману, после которого можно будет спокойно умереть. И жить в своих книгах вечно.
Мама Владимира мыла фрукты и пытала Геню очередной цитатой:
– «Повернула каску, и можешь себе представить, оттуда бух! груша, конфеты, два фунта конфет!..»
– «Анна Каренина», – бледно улыбалась Евгения. – Похоже на нынешние фуршеты! Там тоже все набирают полные каски фруктов.
Мама была недовольна, что загадку так быстро разгадали, но она хотела быть справедливой, а потому протянула Евгении честно заслуженную, мокрую и каменную грушу.
Владимир секретничал с Фаиной. Мама теперь мыла не раму, и не Лару, а виноград. Ягоды зелёные, будто стеклянные… Мама мыла виноград и приговаривала:
– Знаете, от чего я умру? От того что в один прекрасный день где-нибудь в открытом океане поем немытого винограда.
Эту цитату Евгения не опознала и выронила надкушенную грушу.
– Ага, попалась! – возликовала филологическая женщина. – «Трамвай “Желание”»! Бланш Дюбуа!
– Давай уйдём, Владимир, – тихо попросила Евгения, – а то мне кажется, что я участвую в литературной викторине.
– Мы все в ней участвуем, – сказал Владимир. – Мама права, ты не умеешь работать с книгами.
Он говорил Евгении то, что вздумается, – знал, что она, как лужёный желудок, переварит и вытерпит всё.
Малочисленные общие знакомые удивлялись (кто вслух, кто про себя), чем привлёк Евгению этот фотограф, отягощённый мамой, женой и амбициями. Читателя тоже, наверное, смущает странный выбор нашей героини… Но в нём, поверьте, нет ничего странного! Евгении нравился голос Владимира – вокруг так мало приятных голосов. Люди лают, визжат, пришепётывают, и только некоторые голоса звучат и переливаются. Разве этого мало?
Владимир раздражался, когда Евгения говорила о том, какой у него прекрасный голос, – он считал, что она издевается, и был не прав. Успех книжек Евгении – точнее, само наличие этих книжек, их присутствие в мире (какой уж там успех!) – ранили Владимира, ведь его рукописи (стихи, рассказы) упрямо отвергались издательствами. Владимир считал, что издательства к нему придираются, и снова был не прав.
Он упорно собирал материал для романа.
– Много персонажей в романе, – сказала однажды Евгения, – это как много ингредиентов в одном блюде: кто-то обязательно выскочит вперёд и начнёт исполнять танец с перетянутыми на себя одеялами!
– Вот если бы я начала писать сейчас новый роман, – добавила она тогда же, – то прежде всего дала бы наконец высказаться второстепенным персонажам.
«Второстепенные персонажи… В самом деле, надо бы дать им наконец высказаться от души, – подумал Владимир. – Простые и скромные труженики, они растворяются в будущем, как сахар в чае случайных попутчиков. Их почти никто и никогда не слушает, потому что если начать их слушать, выяснится: у каждого из второстепенных есть собственная свита, подшёрсток, свой круг третьестепенных героев. И этих, третьих, тоже надо выслушать!»
Поспешно и лихорадочно Владимир провожал Евгению, думая, что надо как можно скорее записать эти ценные мысли.
В его романе всем героям – как в идеальном обществе! – будут выданы равные права. И пусть даже это сделал уже кто-то великий или просто известный! Владимир снисходительно относился к «высокому списыванию» и, как сочинитель, не раз испытывал приступы криптомнезии.
– Я беру своё добро, где нахожу его, – торжественно процитировала бы в этом месте его филологическая мама.
Перед белым листом Владимир замирал, как школьник перед директором. Он предчувствовал свой роман, знал, каким он должен стать, вот только начать его никак не получалось. Фаина грустно молчала, её чёрная спинка покрывалась пылью – Владимир отказывался от выгодных заказов и упрямо сидел пред листом.
– Вся моя жизнь – вставная новелла, – однажды он написал эту фразу, и лист больше не был белым. Слова складывались в строки, абзацы, страницы. Владимир писал роман.
– Писатель за свои грехи! – сказал бы здесь, наверное, Пушкин.
– Если бы я начала писать новую книгу, – снова Евгения, – это была бы книга о призвании. О том, как человек выбирает себе жизнь, и как жизнь потом наказывает его за этот выбор. Он и рад бы изменить призванию, но маска так приросла к лицу, что отрывается только вместе с кожей.
Владимир переспросил: она собирается писать новую книгу? «Призвание и наказание»? Евгения замахала руками – в её жизни сейчас было столько прекрасного и подлинного, что никаких литературных суррогатов не требовалось. Она любила – впервые в жизни – и каждую мысль свою хотела преломить, как хлеб, с любимым. С Тем Самым Человеком.
– Но если бы я всё-таки начала сейчас новую книгу, то в ней столкнулись бы носом к носу два похожих персонажа: один – настоящий, а другой – фальшивый. И я обязательно написала бы о том, что происходит с интеллигентными женщинами, которые на беду свою становятся богатыми.
– А что с ними происходит? – спрашивал Владимир, напрягая внимание и память. Божество Белого Листа требовало новых жертв.
– Из них начинает лезть такая дрянь, которая и не приснится обычным нуворишам!
Владимир не любил есть – он просто забрасывал в себя случайные продукты, чтобы получить энергию. И фотографировать еду он тоже не любил. Городской журнал «Гурман», почивший ныне в бозе, однажды предложил Владимиру снять живописно разбросанные по столу овощи – для иллюстрации к эссе популярной обозревательницы Натальи Восхитиной, – но Владимир и Фаина отказались. Они всегда отказывались от неприятных заданий.
А ведь мама с детства воспитывала в юном Владимире не только литературный, но и гурманский вкус: по случаю покупала сыр с плесенью, смаковала его, давясь от отвращения, и заставляла сына делить с ней эту «радость». Мама была утомительна в своих изысканных привычках – как пресловутая Бланш Дюбуа, по многу раз в день принимала ванну, и добрую половину своего детства Владимир провел под дверью закрытого санузла, ожидая, пока она вернётся к реальности.
Работая над романом, Владимир перестал есть вообще – жене Свете, тоже из породы малоежек, это было удобно: они почти не готовили и не покупали продуктов. Работал Владимир в основном у мамы, хотя и дома ему никто не мешал, но домой нельзя было приводить Евгению, а без неё работа вставала на месте, как упрямый осёл.
Чем больше листов исписывал Владимир, тем страшнее ему становилось. Он старался как можно реже перечитывать готовые главы – там всюду была Евгения, её мысли, слова и рассуждения. А второй героини – не было… Владимир искал её повсюду, но безуспешно, а сама Евгения вдруг перестала говорить о том, какую бы книгу она стала писать, если бы стала писать её вообще.
Владимир пытался говорить с нею об этом – небрежно, как о погоде или о скучном, но обязательном деле, – но Евгения не хотела больше обсуждать ненаписанное. Она запиралась от Владимира, как магазин от докучного, но безденежного покупателя. Евгения молчала, и Владимир догадался: она начала писать новую книгу.
У Евгении был уютный дом, походивший на небольшую библиотеку, где есть кровать, кухня и ванная. Владимиру было хорошо в этом доме. Единственное, что ему казалось лишним, – это кошка Шарлеманя, невзлюбившая Владимира с первых же минут. Шарлеманя мерзким голосом орала на гостя, брезгливо обнюхивала его ботинки, грязными кораблями стоявшие в прихожей, а однажды впилась мелкими зубами в запястье, будто хотела перегрызть вены.
Евгения извинилась за кошку, но бить её, к возмущению Владимира, не стала. Всего лишь выгнала с позором за дверь, и кошка мстительно напрудила огромную маслянистую лужу. С тех пор Шарлеманю всегда запирали в кухне, где она громко выкрикивала кошачьи ругательства, от которых вяли пушистые уши приличных соседских кошечек.
В тот вечер Шарлеманя вела себя непривычно тихо, и её пустили в комнату, где она тут же уснула на стуле, печально свесив вниз усы. Евгении срочно позвонили, – кажется, родители, кажется, что-то важное, – и она ушла в кухню с трубкой, закрыв за собой дверь. Владимир, скучая, приподнял с журнального столика толстую книгу Елены Молоховец – под Еленой обнаружился десяток скрепленных листков. Рукопись.
Он начал читать, опасливо поглядывая на дверь, из-за которой могла в любой момент появиться Евгения. Шарлеманя открыла один глаз.
Текст был превосходным – после такого можно ничего не писать, и уснуть, свернувшись клубком, на лаврах. Владимир дрожал и злился. Его пальцы так сжали бумагу, что она захрустела, и Шарлеманя открыла второй глаз.
Владимир не успел дочитать всё до конца – под близкие шаги Евгении поспешно уложил рукопись на место, пришлёпнув их сверху Еленой.
– Всё в порядке? – спросил он.
– Мама паникует. Жизнь прошла стороной, а я совсем не думаю о будущем.
– Ты правда о нём не думаешь.
– Ещё как думаю! Я даже начала новую книгу. Хочешь прочесть начало?
Шарлеманя спрыгнула со стула и, задрав хвост, подошла к хозяйке. Хвост этой кошки был как дым из трубы на детских рисунках.
Евгения протягивала Владимиру уже знакомую стопку листов под скрепкой.
– Слушай, мне тоже сейчас звонили… Мама. Ты не обидишься, если я пойду?..
Разумеется, он ушёл бы, даже если бы она обиделась…
Этим вечером мама собиралась познакомить его со своей аспиранткой – подающей надежды и чай на кафедре. Аспирантка Владимира не впечатлила – влажная, непропечённая блондинка, смутившаяся к тому же при встрече и, совсем как в прошлом веке, опустившая глаза долу.
Владимир скрылся в кабинете и достал из тайника свою рукопись. Ему надо было срочно перечесть её и убедиться в том, что она превосходит те листы под скрепкой…
У Владимира было одно очень неприятное свойство (вообще их было много, но это заметно выделялось на фоне прочих): он, как апостол Фома, всегда и всюду опаздывал. Бывало, целой свадьбой, с потеющей невестой и гневным тестем, ждали Владимира с Фаиной – а они шли себе к месту назначения медленно, как на казнь. Привычку опаздывать Владимир перенёс из бытовой жизни в творческую: пока он неспешно раздумывал над темой рассказа, более расторопные коллеги выуживали идеи из воздуха (где они, как известно, носятся без всякого удержу) и отливали в бронзе.
Так и с главной книгой, своим бесценным романом, Владимир мог бы просидеть до глубокой старости, когда вообще все книги выйдут из моды и читающее человечество окончательно переселится в интернет.
«Нужно торопиться», – думал Владимир, раскладывая листы рукописи к началу. Как же он хотел, чтобы его текст оказался лучше!
При схожести замысла, при том, что все выпорхнувшие у Евгении идеи были зацементированы в его романе, в писаниях Владимира присутствовало кое-что своё – отчаянное, графоманское, искреннее (беспомощное, сказал бы критик). Владимир читал текст и грыз ногти с таким пылом, с каким другие люди грызут куриные косточки. К пятой странице он увлёкся и позабыл, что сам всё это написал. К десятой – забыл про Евгению и её жалкие странички под скрепкой. «Я смог лучше!» – дочитав до конца, решил Владимир – и откинулся на спинку кресла, тяжело дыша, словно пловец на финише.
Дверь в комнату отворилась – на пороге укоризненным привидением стояла мама.
– Во-первых, тебе звонила Светочка, – сказала мама. Как ни презирала она свою невестку, иначе чем ласково называть её не получалось. Интеллигентная женщина! – Во-вторых, иди пить чай. Катенька давно мечтала с тобой познакомиться, а ты так невежливо смылся.
Владимир спрятал черновик под коробку с негативами, которую стерегла молчаливая грозная Фаина. Пить чай совсем не хотелось, развлекать неведомую Катеньку – тоже, но спорить с мамой было делом зряшным, это Владимир уяснил ещё ребенком.
– Идите сюда, Катенька! – крикнула мама. – Посмотрите берлогу моего фотографа!
Катенька тут же выросла на пороге – и улыбнулась во весь рот. Владимир поёжился, увидев, сколько у неё зубов и какие они хищные. Зубы Катеньки вызвали у него в памяти очень неприятное воспоминание – он не сразу понял, какое. Была у Владимира в юности приятельница с боевым именем Оля Кобура, так вот у этой Кобуры имелись в точности такие же зубы – изобильные, тесные, по любому поводу охотно вылезающие на белый свет, а ещё, вспоминал Владимир, у неё были огромные руки и ноги, что, при общей миловидности облика, придавало девушке несуразный вид. К счастью, Кобуру юный Владимир не слишком интересовал – отстреляв много патронов вхолостую, к тридцати годам она вместе со своими зубами и конечностями осела в территориальных водах бывшего разбойника, а ныне приятного во всех отношениях джентльмена с депутатским мандатом. Фамилию свою Кобура оставила при себе – хотя джентльмен-разбойник неоднократно предлагал ей сменить документик. Всё это, впрочем, не имеет отношения к нашему повествованию – это Катенькины зубы увели сначала Владимира, а затем и нас с вами в зыбкий мир прошлого.
Ослепив Владимира жуткой улыбкой, Катенька скользнула в кабинет и, как хирург, сделала безошибочно верное движение – подняла коробку с негативами. Фаина угрожающе закачалась, но не упала, а гостья фальшиво вскрикнула.
– Осторожнее, Катенька, – пожурила её мама, – здесь вся жизнь моего сына!
И, посмеиваясь в усы (которые, мы забыли сказать, у мамы росли значительно бодрее, чем у Владимира), отправилась в кухню ставить чай.
Катенька держала в руке пухлую пачку листов, и Владимир потряс головой, чтобы стряхнуть наваждение: уж слишком эта сцена напоминала другую, ту, что разыгралась сегодня днём у Евгении.
– Вы пишете роман? А можно посмотреть? Я немного в этом разбираюсь…
Катенька поставила на столик чашку – Владимир брезгливо заметил, что там плавает набрякшая чайная подушечка. Теперь гостья обеими руками вцепилась в рукопись.
– Почитайте, – смирился Владимир, не приученный отказывать женщинам. Катенька села в кресло, прикрывшись листками, как веером. Она, как все филологини, читала быстро, и в паузах успевала одобрительно поглядывать на Владимира поверх веера. Это мой первый читатель, дошло до него вдруг. И не такая уж она, кстати, уродина, решил Владимир, наблюдая, как сосредоточенно Катенька вчитывается в текст, как следит, чтоб ни одно словечко не пропало даром.
– Чай поспел! – крикнула мама, и Владимир с Катенькой вздрогнули.
– Почти гениально, – сказала Катенька.
«Вот моя вторая героиня!» – догадался Владимир.
После встречи с Катенькой роман понёсся вскачь, как необъезженный конь, – Владимир с трудом нагонял его и успевал буквально на ходу добавить нужные сюжетные ответвления, но вообще он писался как будто сам собой. Всё, что требовалось от автора, – это усадить себя за письменный стол, а единственное, что портило ему настроение, – это рукопись Евгении. Впрочем, он старался больше не думать о том, кто первым придумал историю о призвании и двух похожих друг на друга героях.
Евгения работала медленно: когда Владимир штурмовал эпилог, она только-только сдвинула с места первую часть своей книги. Ей впервые в жизни было трудно писать – и потому очень хотелось, чтобы Владимир слушал её, как раньше, и хвалил, сопереживая услышанному; но он вёл теперь себя иначе. Теперь ему словно бы не нравилось, что Евгения – писатель. Даже раздражало, что она – тоже пишет. Тоже! О том, что Евгения ещё до встречи с ним публиковалась, Владимир благополучно позабыл. Впрочем, его можно понять и пожалеть: теперь приходилось не только скрывать Евгению от жены, но ещё и прятать Катеньку от обеих! Катенька только начинала преподавать, и часто забегала за советом и утешением к филологической маме Владимира. Разумеется, она заглядывала и в тёмную комнату Владимира, где в спёртом воздухе прел, поднимаясь и распухая, как тесто, его великий роман.
Как быстро она освоилась с ними обоими – и с романом, и с Владимиром! Не прошло и недели, как с её розовых (слишком розовых, укоризненно думал Владимир) губ слетело электрическое «ты». Рукопись Катенька теперь запросто сдёргивала со стола и перелистывала грубо, как инструкцию пожарной безопасности. От непочтительного отношения рукопись съёживалась и отказывалась расти: муза всё реже посещала Владимира. В отличие от маминой аспирантки.
И пятки у неё тоже какие-то слишком розовые, недовольно отметил Владимир утром, когда они впервые проснулись вместе.
Евгения с вечера одолевала его звонками – как всякая женщина (писательница или нет, не важно), она чувствовала, что Владимир больше не с нею. А он чувствовал себя зрителем фильма, где субтитры опережают действие, – заранее знал, что скажут окружающие и что они сделают. Всё чаще он мечтал о том, чтобы бросить всех своих женщин и уйти не то робинзоном, не то робингудом в густой лес или к берегам пустынного острова…
Катенька с каждым днём давала ему всё больше творческих советов:
– Как-то мало у тебя сказано о прошлом этих дамочек! Про родителей, семью – совсем ничего. Будто они выпали из машины времени!
Владимир вынужденно соглашался и той же трудовой ночью подробно описывал прошлое героинь. Для главной придумались прекрасные родители – старообрядцы-неофиты из деревни Пенчурка. Второстепенной пришлось довольствоваться алкашами, вяло допивающими свой век на заводской окраине.
В следующий раз Катенька возмущалась отсутствием секса в романе – прямо как в советском кино:
– Это даже неприлично – быть таким целомудренным!
И пихала его интимно розовой пяткой. Пришлось украшать текст постельными виньетками, до той поры в романе не предусмотренными.
Однажды Катенька заявилась с таким торжествующим лицом, что Владимир заранее впал в отчаяние: к чему теперь придерётся?
Но она принесла свою собственную рукопись – повесть, распечатанную на цветной бумаге. Только Бог всемогущий знал, как не хотелось Владимиру читать эти цветные листочки, загаженные сотнями чёрных буквяных жуков. Но у него не было выбора.
– Твоя мама уже прочла, – сообщила Катенька, – ей понравилось.
Катенька была не без таланта, но способностей ей отвесили ровно столько, чтобы плодить вирши к школьным праздникам или заливать газетные подвалы проблемными статьями. И то, и другое получается у таких людей на «ура», а для литературы нужно иное. Здесь требуется то, что было у Евгении, то, что, смел думать Владимир, есть у него самого. То, что делает писателя – писателем, а не просто лауреатом литературных премий. То, за что Владимир особенно любил Евгению – и от чего отказался теперь из ревности и страха разоблачения.
– Не думаю, что это надо печатать, – сказал Владимир, возвращая цветную макулатуру Катеньке. Она вспыхнула, разорвала неловко первый лист, потом, всхлипывая, второй. Так маленькая девочка рвёт тетрадку для домашних работ, надеясь, что мама её остановит.
Владимир не останавливал Катеньку – зачарованный, он смотрел, как его вторая героиня ревёт и рвёт листы. И думал, что ему тоже нужно многое порвать.
Часть третья
Сейчас я сварю тебе такой супчик, который ты будешь помнить до конца своих дней!
Вильгельм ГауфГлава двадцать первая,
в которой читателя наконец-то познакомят с правилами. И с родителями
Правила, по которым жизнедействует телевизионный канал «Есть!», никто не трогал много лет подряд. И если вы полагаете, что телевидение должно меняться, как журналы мод – от сезона к сезону, то вы просто не до конца понимаете, что такое телевидение. Журналы мод, кстати, тоже не так переменчивы, как им хотелось бы: даже самые безжалостные из глянцевых обозревательниц, ежемесячно призывающие нас выбросить то, что советовалось купить в предыдущем номере, втайне прикапывают платьица из позапрошлогодних коллекций. Да что там журналы – жизнь вообще мало меняется, что бы ни думали о себе люди. Мы то ходим, то бегаем по кругу – а как мы при этом выглядим, на самом деле значения не имеет.
Популярная ведущая Геня Гималаева сразу, всем сердцем приняла установленные на канале «Есть!» правила, и если пыталась вдруг оспорить какое-нибудь сомнительное положение, то только в самом крайнем случае.
Если бы я писала роман, а не кулинарную книгу воспоминаний, думает Геня, то начала бы очередную главу именно такими словами. Или такими:
П.Н. не любил менять установленные порядки – ему, как ребёнку, было крайне важно знать, что основные вехи его жизни неприкосновенны. Он даже со старой одеждой расставался мучительно, как с живым человеком: к досаде модницы Берты Петровны, годами ходил в одном и том же синем свитерке и несолидных джинсах. Всё, что имело отношение к личности П.Н., становилось ему родным, и оторвать от себя любимую авторучку, престарелый телевизор или выцветшую от частых моек тарелку было для него так же тяжело, как уволить верного и преданного сотрудника.
Правила телеканала «Есть!» не менялись по той же самой причине – однажды прозвучавшие в душе П.Н., как огненные буквы на стене, они воплотились в складной легенде, переходящей из уст в уста от главного режиссёра к самой скромной уборщице.
Дод Колымажский, тяготевший в силу молодости к внеклассной деятельности, набрал в один прекрасный день эти правила готическим шрифтом, распечатал и вывесил на дверце холодильника главной кухни-студии.
– Не курить в рабочих кабинетах! Табачный дым портит аппетит и вредит творческому процессу. Кто совсем зависимый, пусть идёт травиться в резервацию на втором этаже.
– Не играть в компьютерные игры, приставки и прочие геймбои! Это пустая трата бесценного времени, которое и так с каждым годом летит всё быстрее, так что даже не хватает на личную жизнь!
– Интернет использовать исключительно в мирных, рабочих целях.
– Кроссворды, семечки, бытовое пьянство – под категорическим запретом, с угрозой незамедлительного увольнения!
– Прежде чем озадачить просьбой или вопросом П.Н., Геню, Аллочку и Пушкина, спроси себя: не могу ли я справиться с проблемой самостоятельно? Представь, сколько забот несут на своих плечах вышеуказанные П.Н., Геня, Аллочка и Пушкин, и осознай это!
– Кормление членов семьи, дальних родственников и голодных приятелей на телевизионных кухнях допускается с личного разрешения персон, указанных в предыдущем пункте. Мы не жадные, мы – бережливые.
И так далее. Внимательный Колымажский не упустил ни одной подробности, и трудовой коллектив ухохатывался в ожидании завтрака, зачитывая их вслух и про себя. Смеяться не стал только один человек – Аллочка:
– П.Н. это не понравится. Сними, Давид, пока он не увидел.
Дод протянул руку к списку, но было поздно – П.Н. уже вбегал в кухню, за ним шагала Ека с невообразимой причёской. Волосы у неё сегодня выглядели как опарыши. Или переваренные макароны.
– Что это за доширак у неё на голове? – шепнула Геня Гималаева на ухо Ирак.
П.Н. явно хотел сообщить сотрудникам нечто важное, но заметил листочек и, насупившись, приблизился. Оскорбил его не столько пародийный стиль изложения, сколько готические буквы. Шеф выставил нижнюю губу вперёд и обиженно закряхтел:
– Вот так вы, значит, со мной, да? Гитлера делаете?
– Да бог с вами, Павел Николаевич, – запричитал Дод, – это просто шутка.
– Не самая удачная, но шутка, – подтвердила Аллочка.
– В самом деле, – продолжал ворчать П.Н., усаживаясь к столу, где уже блестели маслеными боками свежие «мадленки», – пора обновить наши правила, всё равно их никто даже и не пытается соблюдать. Дод! – крикнул он юноше, снимающему листок с дверцы. – Ты почему вчера сидел на сайте знакомств?
Дод выронил листок, и он полетел на пол, качаясь, как другой – древесный – на ветру.
Ека победно тряхнула волосяным дошираком.
– А ты, Пушкин, – грозно сказал П.Н., не утешаясь даже благоуханными печеньями, каких навалил на тарелку целую гору, – систематически куришь на рабочем месте. Операторы регулярно кормят здесь своих детей, которые едят как взрослые, а ты, Геня, ты…
Тут П.Н. запнулся, но под ободряющим взглядом Еки выкрутился:
– Ты в последнее время слишком часто всем недовольна. И придираешься к ближним своим!
– Да, но в правилах об этом не сказано ни слова! – трогательно возмутилась Ирак.
Тут в кухню влетел Юрик Карачаев, за которым следовали незваные гости – повар Малодубов и его жена-критикесса.
– Я ничего не пропустил? – взволнованно шепнул Юрик оператору Славочке.
– Ждите ответа оператора, – ответил Славочка. Он был явно не в себе, да и вообще, обстановка в кухне-студии ничем не напоминала обычную. Красный П.Н. в одиночестве сидел за накрытым столом, а его сотрудники застыли в немых позах, как участники детской игры «Море волнуется раз».
– Понял, кого она мне сегодня напоминает, – негромко сказал Гене Колымажский. – Вылитая Ева Браун!
– Ну ладно, – смягчился наконец П.Н. «Мадленки» он обнюхал, но есть не стал. – Какая сегодня тема?
– Скандинавская кухня, – сказал дежурный повар и поспешно унёс «мадленки» с глаз долой. Юрик проводил их тоскливым взглядом, а Пушкин пробормотал:
– Властитель слабый и лукавый, плешивый щёголь, враг труда, нечаянно пригретый славой, над нами царствовал тогда.
Плешь у П.Н. и вправду разрасталась с каждым днём – сейчас, когда он сидел, а все остальные стояли, можно было убедиться в этом, что называется, не сходя с места. П.Н. мрачно наблюдал за тем, как на столе появлялись селёдка в маринаде, сухие хлебцы и топлёный жир в корзиночках из песочного теста. Мелкие, как любил Карлсон, фрикадельки были поданы с дольками апельсина и свекольно-медовым соусом, сёмга была обмазана тонюсеньким слоем козьего сыра. Другой козий сыр – коричневый, который Геня не любила, – присутствовал на столе из уважения к норвежской кухне. Геня вспоминала Скандинавию – кислый кофе, шоколадные вафли «Квикк», стейки из кита и громадные вымпела из сёмги на Бергенском рынке. Черепица местных домиков напоминает рыбью чешую.
Завтрак завершился мороженым с лакрицей и морошкой – все молча жевали, и только Ева Доширак, она же Ека Парусинская, комментировала новые блюда, обмениваясь тонкими замечаниями с Юриком.
Когда П.Н. восстал из-за стола, сотрудники поспешно, как насекомые, поползли из кухни прочь.
– Ждите новых правил! – крикнул им вслед П.Н., как будто выстрелил в воздух.
– Что с ним происходит? – ужасалась Ирак. У Гени было каменное, как у языческого идола, лицо. На полпути к кабинету они встретили Аллочку, у которой впервые в жизни растрепалась причёска, – и немудрено, потому что Аллочка бешено крутила локон вокруг пальца и дёргала за него, как утопающий – за чужие волосы. Геня вошла к себе в кабинет, Аллочка, наматывая локон на палец, сунулась было следом, но потом буркнула что-то себе под нос и прошуршала мимо.
«Блины нельзя делать в плохом расположении духа – они или пригорят, или прилипнут, – писала Геня. – Если вы принимаетесь за блины, а внутри у вас всё кипит от злости или стынет от жалости к себе, будьте готовы к тому, что и первый, и десятый, и двадцатый блин выйдут комом».
– Да, да, – кивнула Ирак, читая через её плечо с монитора. – Точно так же с тестом – прежде чем ставить тесто, надо взять себя в руки.
– Взять себя в руки у меня не получается. Буду и без теста, и без блинов, и без новой книги. – Геня Гималаева отодвинула клавиатуру – и вдруг зарыдала так горько, что у бедной доброй Ирак потемнело на сердце.
– Всё было хорошо, пока не пришла эта бледная немочь, – плакала Геня, – а ведь она совсем не умеет готовить, правда?
– Правда, – дипломатично отвечала Ирак, стараясь не вспоминать ароматные запахи, с самого раннего утра гулявшие по Екиной кухне-студии. Сотрудники телеканала «Есть!» всё чаще застывали под дверью, где творила Парусинская, и всё реже замолкали, когда Геня начинала ругать ненавистную самобранку и утверждать, что нет у неё никакого таланта.
– Геня, тебе бы к родителям съездить, отдохнуть, – посоветовала Ирак. – Если бы моя семья жила в сотне километров, неужели я бы их не навещала?
Геня вспомнила родительскую избушку в старообрядской деревне Пенчурка – там не было ни мобильной связи, ни телевизоров, ни прочих шайтанов. Два-три раза в год мама приезжала в город, останавливалась у старшей сводной сестры, Гениной тётки, и всё недолгое время, которое она могла провести в «этом аду» (так мама называла город, где царствовала её дочь), бомбила Геню телефонными звонками и просьбами начать наконец нормальную жизнь. Дочь старалась встречаться с родительницей как можно реже. В студию мама приходить отказывалась: она была зрительницей первых выпусков «Гениальной Кухни». Ей не понравилось. Точка.
На старообрядческую деревню Пенчурка родители Гени наткнулись по чистой случайности, когда отправились в лесной пеший поход и никак не могли выбрать место для привала. Они в этом походе всё ссорились и ссорились – начали ругаться ещё дома, и мама раз десять сказала, что не пойдёт больше с папой ни в поход, ни куда-то ещё. Маленькая Геня нервно грызла хвостики своих косичек, папа выкурил недельный запас сигарет, а бабушка Ксения Петровна, ба Ксеня, от нервности наготовила такое количество еды, что её просто физически нельзя было съесть. С мамой всегда было так – она тиранила окружающих только потому, что смертельно любила их, и от мёртвой хватки этой любви ещё никто не ушёл без потерь.
На потолке в родительской спальне висела большая фотография прищурившегося Алена Делона – мама говорила, что каждое утро, проснувшись, хочет видеть именно это прекрасное лицо. Папа слушал и молчал. Делон тоже молчал и бесстрастно взирал с потолка на чужую кровать. Мама говорила, что детей рожают только безответственные дуры и что сама она живёт чужой жизнью давно сгинувшей взбалмошной девицы из политеха. Девицу звали маминым именем, но цели! Вкусы! Образ жизни! Между той, взбалмошной, и нынешней, выросшей из неё мамы не осталось ничего общего… Та девица исчезла давным-давно, но именно её мечты и устремления поневоле воплощала в жизнь уставшая Генина мама, тайно стремясь, как выяснилось, совершенно к другим идеалам. Папа слушал – и молчал. Он любил ту девицу из прошлого, которая лихо курила, носила двубортные брючные костюмы – и выглядела в них прелестно. (А теперь походит в них же на пожилую лесбиянку.)
Ругаясь с папой в тот достопамятный день, мама припомнила ему все грехи человечества – папа, как крест, нёс ответственность не только за себя самого, но и за каждого подлеца на земле. Может, поэтому маленькая Геня, услышав от бабушки про Иисуса, безотчётно придала ему в своём воображении отцовское лицо.
К дому наших туристов подъехал тем временем блестящий чёрный автомобиль, похожий на большой начищенный ботинок. Мама выглянула из окна и просияла не хуже фар, которыми подмигивал «ботинок». Близкий друг отца, Рустам из Ташкента, в очередной свой приезд прикупил себе автомобиль, и теперь возил маму с папой по всем срочным и несрочным делам; и, разумеется, обещал доставить их к третьему повороту с N-cкого тракта, откуда традиционно стартовали летние походы родителей.
Больше всего я ценю в людях душевную щедрость, думала мама, выгружаясь из «ботинка». Она очаровательно улыбнулась Рустаму на прощанье и даже не поморщилась, когда «ботинок» окутал её с ног до головы вонючим выхлопным облаком.
Любовь к походам мама с папой вынесли из собственной молодости – как из неё выносят эстетические воззрения, дурные привычки и полезные навыки. На природе мама вновь превращалась в ту легкомысленную, лихую девицу, ради которой отец отказался от заграничной стажировки и одногруппницы Софьи Колпаковой, влюблённой в него до самой своей последней веснушки. Хорошо, что он так и не узнал, как счастлив был бы с конопатой Колпаковой, каким она была лёгким, весёлым и заботливым существом… Задумавшие тот брак ангелы до сих пор печалятся, глядя сверху вниз на молчаливого мужчину, рубящего дрова в Пенчурке, и на одинокую, вялую пенсионерку Колпакову, смысл жизни которой ужался до размеров любимой собаки. Единственное утешение ангелов – Евгения Ермолаева, которая никогда не родилась бы у Софьи Колпаковой. Вот поэтому ангелы терпеливо отводят глаза от Гениной мамы, которая, смотрите, курит десятую с утра сигарету и стряхивает пепел на белые головы ромашек.
– Красота-то какая! – выдыхает мама. – Благодать!
Папа молча улыбается. Поляна, цветочки, небо с ангелами, – и чего ругались? Жизнь прекрасна! Они переходят через ромашковое поле, скрываются в чёрном лесу и пропадают из виду.
Рустам обещал приехать за друзьями в девять вечера – он был на нужном повороте пятнадцатью минутами раньше: Генины родители не появились ни в девять, ни в десять, ни в пол-одиннадцатого. Ровно в одиннадцать «ботинок» зафырчал и уехал в город: Рустам позвонил ба Ксене из первого же телефона-автомата и осторожно сказал, что ребята, скорее всего, заплутали в лесу, но они опытные походники и, кроме клещей, опасаться нечего. Бабушка, конечно, разволновалась, но Рустам уговорил её не паниковать до утра, сам же поехал опять к N-скому тракту.
Они стояли там грязные, как из забоя, весёлые и какие-то новые, другие. Мама Гени мяла в руках незажжённую сигарету и смотрела на неё так, будто впервые в жизни увидела. Папа мечтательно глядел в звёздное небо. Через поле, под лунным небом, уходил к лесу незнакомый высокий человек.
Рустам так обрадовался, что не стал ни о чём расспрашивать.
В машине пахло землёй и лесом.
– Рустик, мы нашли потрясающее место, – сказала мама, когда уже въехали в город.
Старообрядческая деревня Пенчурка спрятана в чаще леса, автомобилем туда не доехать – учителя, торговцы и врачи, навещающие пенчурцев, едут по просёлку до большой сосны, а потом идут несколько километров пешком. Мама с папой, наплутав в лесу и заново начав ругаться, вышли к большой сосне с другой стороны, и поняли, что совершенно не понимают, как они тут оказались и как выбираться обратно. Спасение пришло в виде молодой женщины с чёрным саквояжиком, бойко шагавшей по тропинке, – в лесу она выглядела так инородно, что мама приняла её за привидение.
Оказалась не привидение, а врач-терапевт. Компании она обрадовалась и, пока шли до деревни, рассказывала о самой Пенчурке и о её обитателях.
– Женщин вы там не увидите, – рассказывала врачиха, с интересом разглядывая тонкий профиль Гениной мамы. («У моей мамы уточнённое лицо», – говорила маленькая Геня.) – Женщины в Пенчурке по улицам не шастают, а дома сидят.
– Старообрядцы, – понимающе сказал отец. – Я сам из этой породы.
– Ты? – поразилась мама. – А почему мне об этом никто не рассказывал?
Терапевт дипломатично кашлянула. Старые, но крепкие, как вековые деревья, дома Пенчурки выросли впереди горе-туристов, и бородатый хозяин, вышедший к воротам в ожидании врачихи, нахмурился при появлении чужаков.
– Туристов они, сами понимаете, не очень любят. Туристы часто безобразничают. Детям плохой пример показывают. В Бога, – шёпотом сказала врачиха, – не веруют.
Генин папа набрал полную грудь воздуха. Воздух здесь был совершенно иной по составу, чем в любой другой деревне. Ребятишки кололи дрова и смотрели на туристов с любопытством – может, ожидали, когда они начнут безобразничать?
Время в Пенчурке было спрессовано и утрамбовано в брикеты – нестись, бежать или даже течь ему не давали возможности. Даже мама почувствовала это свойство пенчуркинского времени – она притихла, раскраснелась и похорошела на глазах.
– У них много домов пустует, – болтала врачиха, уже успевшая переговорить с бородачом и попросить его вывести туристов к просёлку. – Городские здесь не приживаются, но кое-кто пробует. У меня родители отсюда родом и брат до сих пор здесь живет.
Генины мама и папа переглянулись. Разговорить бородача на обратном пути оказалось непросто; лишь когда вдалеке появилась наконец большая сосна, в бороде забрезжила первая улыбка, блестящая, как лунный свет.
В машине Рустама родители впервые за последнее время не разругались, но даже взяли друг друга за руки, как влюблённые дети.
Через год они переехали в Пенчурку, а Геня осталась жить в городе с ба Ксеней. Мама иногда приезжала; Геня же старалась навещать родителей как можно реже – в старообрядческой деревне ей было не по себе ровно настолько же, насколько «по себе» было в ней маме и папе.
И вот теперь Геня ехала в Пенчурку сознательно – не предупредив, разумеется, поскольку не было в деревне ни мобильной, ни какой другой связи. Здесь её никто не найдёт, и не станет искать. Несколько блоков программы было сдано вперёд, Аллочка не глядя подмахнула заявление об отпуске, а П.Н. опять отбыл в какую-то аппетитную заграничную вакацию.
Пенчурка вырастала на горизонте, как сбывшийся жуткий сон.
Мобильник, с которым Геня Гималаева, подобно миллионам современных людей, срослась в единое целое, занервничал ещё на лесной развилке. Как заблудившийся турист, он тщетно искал выход, сигнал, хоть какой-то признак жизни, но в конце концов сдался. Геня отключила телефон и спрятала мёртвую пластмассовую тушку в карман куртки. На дне сумки лежал ещё один потенциальный мертвец – ноутбук. В Пенчурке нет электричества, а интернет считают иным названием дьявола. Зачем было брать с собой ноутбук, никому не известно. Привычка, зависимость, глупость.
– Дочушка! – закричала мама с порога, и Геня остолбенела – прежде от неё было не дождаться таких нежностей. И вообще, граждане, может, это не мама, а совсем чужая, загорелая женщина в уютном платье? А тот мужчина, с надёжными морщинами у глаз, это её отец? Как давно Геня не видела своих родителей, не смотрела на них так, как сейчас смотрит… Она ступила на чисто выскобленное крыльцо, и где-то рядом послушно запели птицы, как рояль в кустах, дожидавшиеся нужного момента.
Нам с вами не остаётся ничего другого, кроме как временно оставить героиню в надёжных родительских руках – пусть она отдыхает, отъедается и отсыпается на деревенском воздухе. Телеканал «Есть!» кажется из Пенчурки далёким, как планета Марс.
А между тем на канале «Есть!» сгущались краски, тучи и события. Там, как ягоды на кусте, созревали новые правила.
Глава двадцать вторая,
где Ека припадает к античности
Когда Катя Парусова была маленькой, она узнавала новости только от двух людей – соседки Фарогат и своей родной бабы Клавы. Соседка Фарогат не случайно стоит здесь на первом месте – маленькая Катька видела её в детстве чаще родной мамки. Улыбчивая узбечка с крошечными ногами и серьёзным золотым запасом во рту, Фарогат с раннего утра забирала соседскую малышку к себе, чтобы дать мамке с папкой проспаться и потом заново напиться. Катька ходила вместе с Фарогат и её собственной дочкой Лолой по соседским подъездам с уборкой – иногда их звали помыть квартиры и окна, и там Катька с интересом обследовала каждый уголок. Она завидовала людям, которые живут в такой чистоте, и ещё им, наверное, нет нужды пригибаться от летящей бутылки.
В злые трезвые периоды мамка пыталась разобраться, за каким, извиняйте, лядом Фарогат таскает за собой Катьку? От громового мамкиного крика «Фая!» развешанное на уличных турниках бельё раскачивалось, как шторы в ветреный день. Фарогат отзывалась и на Фаю, и на Фаню, и на Фиру: что бы ни предлагали ей большие русские тётки, всё с достоинством принималось.
«Фарогат» значит «спокойствие».
– Зачем кричишь, Ираида? – Фарогат шла между белых пододеяльников, как по облакам, восхищалась Катька.
– Девка где?
Катька уже бежала к матери, обнимала её широкую и твёрдую, как колонна в доме культуры, ногу – и тут же получала по носу ладонью. Или по губам. Мамке надо было успокоиться, вот она и успокаивалась, настучав Катьке.
Фарогат щёлкала языком:
– Зачем бьёшь, Ираида?
Но мамка уже тащила Катьку в дом, где был вечный праздник, который всегда с тобой, – даже сейчас взрослая Екатерина Игоревна Парусова не может отделаться от памяти этого праздника. Отец вдруг грозил ей нехорошо пальцем, а потом так же точно нехорошо чмокал её ручку. Мать валялась на полу как медвежья шкура – стеклянные глаза, раскинутые лапы. Спасение было одно – Фарогат. Она поила девочку крепким, как марганцовка, чаем и совала книжку про Ходжу Насреддина. Она пела незнакомые, но ласковые песни, и учила Катьку новым вещам – арифметике, чтению, даже русскому языку. Почерк у Фарогат был стройным, буквы получались одинаковыми, как блинчики из школьной столовой, где они тоже прибирались и где девчонок бесплатно кормили. Странно, что дочку Фарогат – Лолу – Ека помнила смутно, хотя они и по возрасту, и по ситуации должны были стать подругами. Но нет, спустя годы от Лолы в памяти остались только чёрные косички, зато портрет Фарогат она могла бы написать по памяти. Катька всегда хорошо рисовала.
Отца у Лолы не было. «Прочерк Иванович», – смеялась Фарогат.
– Мамку в школе назвали «неработь», – сказала ей однажды Катька. – Что такое «неработь», Фарогат?
– Когда не работают, – уклончиво ответила соседка. – Зачем такое спрашивать, Катя? Мамку надо любить, хоть какую.
Катька хмурила светлые брови, шевелила губами, усваивала новости. Когда подоспела пора идти в школу – ту самую, где они с узбечками скоблили и мыли ступеньки, – папка по пьянке так забил мамку, что ему пришлось сесть в тюрьму, а мамке – лечь в больницу. Пока они сидели и лежали, Катьку собирали в школу бабушка Клава, страдавшая от того, что по этой причине пришлось оставить в деревне хозяйство, и Фарогат, подарившая в честь 1 сентября расшитую бисером сказочную тюбетейку.
Первая учительница, толстая, как шкаф, Нина Витальевна, с жалостью смотрела на маленькую белобрысую Катьку: о том, что у неё папка в тюрьме, а мамка – неработь, знала вся школа.
– Я тута жить не смогу, Фая, – плакала вечером бабушка Клава, – вот рази только в деревню взять. Там у нас и школа, и по хозяйству она поможет. Пока выпустят обоих, сколько времени пройдёт?
Фарогат хмурилась: что у неё спрашивать? Будто она – суд.
– Я ведь тоже не могу её вечно у себя держать, – сказала наконец соседка. – У меня знакомый есть – Рустам, культурный человек, диссертацию пишет. Мы, может, скоро поженимся, Клавдия Ивановна. У меня своя жизнь, свой ребёнок.
– Да я понимаю, – бабушка махнула изрезанной морщинами ладонью, будто отогнала муху.
Катька сидела на подоконнике, прилепив нос к стеклу, и смотрела во двор, на любопытные мордочки анютиных глазок. Рядом с клумбой, поздно вечером, она выкопает ямку и похоронит там своё единственное сокровище – бисерную тюбетейку, смотреть на которую было теперь слишком больно.
Вскоре бабушка Клава увезла её к себе в деревню, а Фарогат переехала – может, и правда вышла замуж за своего Рустама. Катька не виделась с ней долгие годы – уже и мать вернулась, и отец, опять начались пьянки-гулянки, а Катька, доучившись в сельской школе отличницей, вернулась в город и лихо, с полпинка, поступила в университет. Эти деревенские девочки прищемят в дверях любых городских фифочек: пусть они и ставят ударения не там, где надо, всему можно научиться. Тем более Катька била знания влёт.
На первом курсе она допоздна готовилась к экзаменам, и однажды вышла из библиотеки, когда уже стемнело. Вместе с нею вышла худенькая уборщица, пожилая, в дешёвом, как у самой Кати, пальтишке с воротничком из «стеклянного» меха.
Катя не подала виду, что сразу же узнала Фарогат. Просто спрятала лицо в воротничок и зашагала к автобусной остановке, повторяя в памяти имена античных богов и героев.
Одна девочка с курса, Авдеева, хвасталась, что в детстве папа читал ей вслух мифы Древней Греции, и потому она готова к античке на протяжении последних пятнадцати лет. На́ спор Авдеева безошибочно пересказывала мифы и описывала подвиги, Кате же приходилось грызть мифологию, как сухарь, – почему-то именно эти знания никак не желали ей поддаваться.
До родителей, всё ещё живых и всё так же, как ни сложно в это поверить, пьющих, ей не было никакого дела, как не было дела до предательницы Фарогат – единственного в мире человека, которого она на самом деле любила. С бабушкой всё было иначе, как будто обе они, старая и малая, договорились однажды – не словами, а другим, более совершенным способом – не усложнять друг другу жизнь. В мире и равнодушии они прожили долгие годы, но любви между ними не было – только вымученная забота с одной стороны и вынужденная благодарность с другой. Бабушка Клава умерла несколько лет назад, когда Ека проходила первую стажировку в Дижоне. На похороны она не приехала.
Сейчас, с высот успеха, Ека видела своё печальное детство чужим и далёким – как будто речь шла не о ней самой, а об очередном античном герое, легко усвоенном безразмерной памятью Авдеевой. Греческие мифы и детство – одна и та же античность.
На днях, когда в студии за пять минут до эфира отключили электричество, Ека вместо того, чтобы беситься и нервничать вместе со всеми, принялась вспоминать собственную, деревенскую мифологию, слипшуюся в её памяти с античной. Только когда электричество, наконец, дали, ведущая «Ека-Шоу» вынырнула из прошлого, стряхивая – как собака воду с шерсти – цепкие, приставучие воспоминания.
Когда Ека училась готовить, то прежде всего, как всякий любослов, пошла за помощью к книгам. Кулинарных книг в магазине оказалось жуткое количество: отдельные издания по каждой национальной кухне, блюду и продукту, а также толстенные тома в разноцветных обложках, обещавшие лучшее меню на каждый день, и разудалые увражи, написанные знаменитостями разного пошиба и масштаба. Ека подивилась знаменитостям – всё-то люди успевают, даже еду готовят и пишут об этом книги…
– Возьмите книжку Ларисы Ларисиной, – посоветовала Еке продавщица, – там очень эффектные рецепты.
Лариса Ларисина была типичной однодневной певицей-длинноножкой – падая в чёрную дыру забвения, она отчаянно цеплялась за всё, что могло бы удержать её на краю пропасти (он же – вершина славы). В числе прочего ей попалась под руку кулинария. На обложке Лариса была запечатлена с чугунком в руках и с мольбой в глазах. Ека поставила Ларису обратно на полку.
– Мне бы что-то попроще и… поосновательнее, – сказала она скорее себе самой, нежели продавщице. И сразу же увидела Большой кулинарный словарь Александра Дюма, романы которого заметно скрасили Еке трудные дни деревенского детства. Стоил он немало, но Еке, как любому филологу, уже самый вид любого словаря внушал надежду и оптимизм.
– Изумительный выбор! – запищала продавщица, незаметно подталкивая Еку в сторону кассы. – Там очень эффектные рецепты. Почти как у Ларисиной.
По пути в кассу Ека успела цапнуть ещё и книгу Гордона Рамзи – агрессивного британского повара с лицом убийцы.
Рецепты действительно оказались эффектными – Ека узнала, что для правильного бисквита нужно взять шестнадцать свежих яиц, а Гордон Рамзи, из другой книги, уместно добавлял, что «это должны быть яйца от свободно пасшейся курицы»! Дюма предлагал совершать немыслимые для начинающего кулинара вещи: «Возьмите пять живых голубей, забейте их и соберите кровь в сосуд, добавив лимонный сок, чтобы она не свернулась». «Ощипайте голубей, выпотрошите их, вставьте лапки внутрь, обдайте крутым кипятком и немного пропассеруйте в коровьем масле. Добавьте пучок пряных трав, ломтик окорока, телячью зобную железу, шампиньоны и трюфели. Залейте небольшим количеством бульона, приправьте по своему вкусу и поставьте вариться. Затем поставьте сосуд с кровью на огонь и постоянно помешивайте её, не давая свернуться. Когда она хорошенько нагреется, но ещё не закипит, составьте сосуд с огня. Пусть кровь остывает».
Кровь стыла в жилах Еки, но она с научным упрямством продолжала кошмарное чтение: «Возьмите зайчонка, разделайте и выпотрошите его, добавив кровь к голубиной крови. Нарежьте мясо зайчонка на филе и порубите вместе с небольшим количеством сырого окорока…»
Ека закрыла книгу и глаза одновременно – вспомнила бабушкину деревню. Крольчатник, где за рабичными ромбиками, среди осколков моркови и зверского духа томились пушистые жертвы. Бабушка пестовала своих кролей, как дорогих внуков, – кормила, разговаривала с ними, заботилась, – но в урочный день всё равно тюкала по голове чем-нибудь тяжеленьким и потом делала кролику дыру в глазике. Чтобы выпустить кровь.
– Потому что главное, Катюшка, нам с тобой – не повредить шкурочку, – ласково приговаривала бабушка, подвешивая свежеубиенного кроля под крышу. Снизу, пыхтя, стелила специальную клеёночку. Маленькая Ека стояла рядом и, задумчиво сунув палец в рот, наблюдала, как стекает через глаз совсем недавно живого и тёплого зверя долгая струя крови. Сам подвешенный кроль выглядел невозможно длинным и мало похожим на пока ещё живых собратьев, распушившихся в клетках.
Кстати, гибрид зайца и кролика называется «лепорид» – эту ненужную информацию Еке торжественно сообщил П.Н. Он каждый день по многу раз забегал в её рабочую студию, чтобы держать в курсе всех мировых событий и собственных, больших и маленьких открытий. О далёких странах П.Н. говорил запросто, как о соседях, – и, высказавшись, бежал из кабинета в поисках новых событий.
Первый выпуск «Ека-Шоу» не просто порвал рейтинги – он превратил их в мелкую труху, как многомощный профессиональный измельчитель, который на следующий же после премьеры день предложили рекламировать Еке. Справочно: за всё время царствования на канале «Есть!» Геня Гималаева лишь однажды рекламировала какой-то хилый соус. Теперь и соус, и саму Геню поглотила пучина забвения – певица Лариса Ларисина прекрасно знает, что это такое. Только что ты отбивалась от вспышек фотокамеры, как от слепней в уральском лесу, а теперь, никому не нужная, отзываешься на безличное «девушка».
Геня ещё не вернулась из своего скоропостижного отпуска, а Ека уже навела порядок на канале «Есть!» и в прилегающих к нему водах – вся прежняя жизнь была разобрана по кирпичику и сложена заново так, как этого хотелось блестящей ведущей, виртуозу кухни и единственному светилу телеканала Еке Парусинской.
– …Берите билет, Парусова, – сказал молодой преподаватель антички, любитель древних авторов и юных дев.
Катя вытащила первый попавшийся – с Гомером. И славно! Аэды и рапсоды, мифология как почва греческого искусства, киклические поэмы, историчность Гомера, стилистические особенности, боги и герои.
– Можно отвечать сразу?
– Без подготовки? – возмутился преподаватель, поддёрнув под столом брюки, а очки, наоборот, спустив на самый кончик носа.
Катя усмехнулась и вывалила на него не только аэды с рапсодами, но и такой ушат подробностей из жизни древнегреческих богов и героев, что бедный препод разалелся, как маков цвет. Неловко обронил карандашик, вначале полез было за ним, потом передумал.
– Вы, Парусова, уж не исчезайте в тумане моря голубом! – попросил он, вручая Кате зачётку с красиво выписанным «отлично». – Загляните на кафедру, посудачим.
…Ека Парусинская, если бы ей сказали сейчас «посудачим», решила бы, что речь идет о том, чтобы зажарить вместе судака. Немудрёная, но вкусная рыбка! А тот преподаватель античной литературы стал первой ступенькой Катиного подъёма наверх, так грубо прерванного уже позабытым нами студентом.
– Парус, порвали парус! – грустно напевал преподаватель через несколько лет после Катиного окончания института, встречая её на кафедре в новом, преподавательском статусе. Она же запросто выбросила его из головы вместе с дипломной работой и недописанной диссертацией, со всем, что было в её жизни до телеканала «Есть!». Тёплый, насиженный и уютный, как гнездо, трон царицы канала Ека заняла с наслаждением и по праву – так уставшая от бесконечной суеты домохозяйка валится к вечеру в любимое кресло, и не поднять её оттуда ни силой, ни хитростью.
Ека выходила в студию – и зрители благодарили её уже за то, что она просто живёт с ними в одном городе. Её смотрели Фарогат и Лола, выпускница филфака Авдеева с памятью размера XXL, изрядно облезший с годами преподаватель античной литературы, та самая продавщица из книжного магазина и спившаяся к этой поре Лариса Ларисина, но Еке Парусинской было до них не больше дела, чем до целой античности.
– Не люблю готовить по старым рецептам, – откровенничала Ека в эфире, – долой древности! Да здравствует новая кухня!
Глава двадцать третья,
в которой Геня вспоминает цитаты, детство и давно позабытые книги
В Пенчурке постоянно хочется спать. Запах нагретого дерева убаюкивает не хуже японского детектива, который я вытащила с полки наугад. Это самая незахватывающая книга на свете, и главные усилия читателя тратятся не на то, чтобы определить преступника, а на то, чтобы запомнить имена и взаимоположение героев.
Детективы любит папа. В его комнатке, которую он важно зовёт кабинетом, собраны как лучшие образцы жанра, так и его наипозорнейшие представители. В свободное от сельскохозяйственных занятий время мой папа, обросший, как все местные жители, седой бородой, любит полежать на диванчике с детективом в руках. Я слышу, как он взволнованно шелестит страницами и крякает. Сыщики, ведущие расследование в папиных детективах, обладают невероятными способностями, интересами и профессиями – помимо всем известных скрипача-химика, любителя орхидей и старой девы, в компании отметились инвалид детства, больной синдромом Туррета, еврейская многодетная мать, монах-травник, искусствовед, пекарь и даже ландшафтный дизайнер!
Я зеваю над японской книжкой так, что челюсти мои скрипят, как ставни в родительском доме. Всё не имеющее отношения к детективам чтение папа унёс в сени и сложил ровными стопками под окном. Наверное, там есть и мои детские книжки?.. Надеюсь, там нет моих собственных.
Надо бы сделать над собой усилие и произвести раскопки в давно позабытых стопках, этих чахлых бумажных останцах, только и ждущих подходящего момента, чтобы обрушиться. Я вернула японскую книжку в её родную щель на полке (справа – язвительный британский детектив, слева – грустная итальянская повесть с пятью убийствами) и пошла на розыски в сени. В «сенки», как говаривала ба Ксеня.
Моя неугомонная бабушка всегда готовила по самым сложным рецептам и в принципе не признавала лёгких путей. У неё если уж были блины – то самые сложные, с припёком и подскоком. Если пироги – то с настолько непостижимыми начинками, что ни один гость не мог разгадать, «чего она туда натолкала». Ба Ксеня возросла на дрожжах Елены Молоховец – ни та, ни другая ни за что не оценили бы прелестной современной кухни, лёгкой, как одуванчик…
Розыски в сенках первым же уловом принесли ту самую Молоховец с десятком пожелтевших закладок, каждая из которых была не просто бумажкой, а записанным рецептом. Бабушкины помидоры – сладкие, с чесноком и смородиновыми листьями! Сдобное печенье! Пирог с гвоздикой и корицей! И почему эти сокровища не попались мне раньше, когда мы с П.Н., как антиквары-стервятники, разбирали записи почивших старушек – этим бабушкам мы обязаны множеством фирменных рецептов… А мою родную – забыли.
Молоховец бережно отложена в сторону – как радостный повод. Я знаю, какое это счастье – не спеша пролистывать заляпанные страницы и гадать, чей палец отпечатался вместе с соусом в оглавлении, которое у Молоховец находится и в середине, и в конце книги. Лучшие рецепты – всегда с жирными пятнами на волнистых, набрякших страницах…
Количество счастья здесь, в Пенчурке, отрезанной от мира бородатыми раскольниками, ограничено, и потому я берегу его, как голодный путник – резервную шоколадку.
Под Молоховец лежит светло-голубой Сент-Экзюпери – открою где попало, прочту, и это будет про меня!
«Мне всегда была ненавистна роль наблюдателя. Что же я такое, если я не принимаю участия? Чтобы быть, я должен участвовать».
Большой Принц прав! Я тоже должна участвовать, чтобы быть, хотя и роль наблюдателя мне порой нравится. А со словом «участвовать» у меня связана одна давнишняя история.
Проклятая Пенчурка располагает к давнишним историям и эксгумации призраков.
…Это был пионерский лагерь с безликим названием – «Берёзка», «Космос», «Юность». Не знаю, кто придумывал эти названия, но сейчас их авторы безусловно специализируются на сочинении переводных имён для голливудских фильмов. «Ущерб», «Отчаяние», «Бездна».
Пионерский лагерь для меня был кошмаром. Я ненавидела всё, что нужно делать в коллективе, но родители считали, что я выпендриваюсь, и каждый год упорно совали мне под нос путёвку в очередную «Берёзку». Я рыдала, но потом всё равно отбывала в ненавистный пионерлагерь, где рано поднимают по утрам и очень скверно кормят.
Но в то лето всё было иначе, потому что у нас был новый вожатый – Гера Иовлев. Ради этого Геры я готова была терпеть и вечный голод, и невозможное детское одиночество.
Гера стал моей первой настоящей любовью, высоко поднявшей планку для будущих отношений. Он был тонкий и смуглый, как мужчины на картинах Эль Греко, но при этом сильный и выносливый. И ещё он был умный и содержательный, как целая библиотека, – неудивительно, что я влюбилась в него после первой же «линейки», и зачарованно следила за ним из окон и кустов.
На мысль признаться в чувствах меня натолкнула Татьяна Ларина – я как раз дочитывала «Онегина». Поздно ночью, после отбоя, когда даже самые говорливые девицы из нашего отряда уснули, разметавшись по пружинным койкам, я пошла к вожатскому домику. Сердце билось так, словно внутри маршировал железный дровосек.
У вожатых было темно. Я тихонько постучала.
Через секунду в окне показалась прекрасная голова Геры. К сожалению, у него были кривые передние зубы, но меня, как Д’Артаньяна на момент знакомства с Бонасье, «не смущали такие мелочи». Лунный свет добросовестно обрисовал глубокий зевок моего избранника. Скорее всего, он уснул пьяным, потому что из окна напахивало густым и кислым.
– Чего тебе, девочка? – спросил Гера, не помнивший моего имени.
– Я тебя люблю, – сказала я, и зажмурилась от ужаса. Гера растянул губы в лукавой улыбке, помахал пальцем в воздухе – «шалишь!», и произнёс ту самую фразу, ради которой я и вспомнила сейчас всю эту историю:
– Девочка, иди спать! Ночью надо – спать, а утром – участвовать!
«…Важную я вчера у Голопёсова индейку ел! – вздохнул помощник исправника Пружина-Пружинский. – Между прочим… вы были, господа, когда-нибудь в Варшаве? Там этак делают… Берут карасей обыкновенных, ещё живых… животрепещущих, и в молоко… День в молоке они, сволочи, поплавают, и потом как их в сметане на скворчащей сковороде изжарят, так потом, братец ты мой, не надо твоих ананасов! Ей-богу… Особливо, ежели рюмку выпьешь, другую. Ешь и не чувствуешь… в каком-то забытьи… от аромата одного умрёшь!» Это уже Чехов. Невидимые миру слёзы. Из рассказов Чехова мама заставляла меня в детстве списывать по две страницы ежедневно – чтобы набираться грамотности и разрабатывать душу. Поэтому отношения с Антоном Павловичем у меня долго не складывались – я только лет в тридцать его по-настоящему прочитала.
А вот Гашек: «Интеллигентных людей нужно назначать именно на кухню, для большего богатства комбинаций, ибо дело не в том, как варить, а в том, чтобы с любовью всё комбинировать, приправу, скажем, и тому подобное. Возьмите, например, подливки. Человек интеллигентный, приготовляя подливку из лука, возьмёт сначала всякой зелени понемногу, потушит её в масле, затем прибавит кореньев, перцу, английского перцу, немного мускату, имбирю. Заурядный же, простой повар разварит луковицу, а потом бухнет туда муки, поджаренной на говяжьем сале, – и готово. Я хотел бы видеть вас в офицерской кухне. Человек некультурный терпим в быту, в любом обыкновенном роде занятий, но в поваренном деле без интеллигентности – пропадёшь. Вчера вечером в Будейовицах, в Офицерском собрании, подали нам, между прочим, почки в мадере. Тот, кто смог их так приготовить, – да отпустит ему за это господь бог все прегрешения! – был интеллигент в полном смысле этого слова. Кстати, в тамошней офицерской кухне действительно служит какой-то учитель из Скутчи. А те же почки в мадере ел я однажды в офицерской столовой Шестьдесят четвёртого запасного полка. Навалили туда тмину – ну, словом, так, как готовят почки с перцем в простом трактире. А кто готовил? Кем, спрашивается, был ихний повар до войны? Скотником в имении!»
Всё про кухню да про кухню… Как назло, попадается именно то, чего мне лучше не читать, – я и так с трудом сдерживаюсь, чтобы не готовить здесь с утра до вечера. Мама считает мою стряпню слишком вычурной, а папа так боится обидеть маму, что поддакивает. Здесь, в Пенчурке, я отлучена от продуктов и питаюсь так, как ни за что не станут есть мои телезрители.
«У плиты я чувствовала себя куда счастливее, нежели создавая так называемые легендарные “образы”» – книжка о Марлен Дитрих. Не представляю её у плиты.
Под книжкой Дитрих – толстая прослойка пушистой пыли, а там – о, нет… Я меньше всего хотела найти эту книгу – но вот нашла, и теперь придётся взять её в руки, открыть и прочесть.
…Роман, который я писала тем летом, был уже почти закончен, но я всё ещё не решалась показать его окружающим. Тот Человек видел только самые первые страницы, и ушёл, прочитав их, как мне показалось, в смятении. Лицо у него было как у несчастливого папаши в роддоме, увидевшего личико третьей по счету дочери.
Правду я узнала только через год – когда роман благополучно прошёл стадии знакомства с издателем и приятельства с редактором. Художник начал рисовать обложку. Корректор с сачком бегала по страницам вёрстки, вылавливая последних блох. Мне даже выплатили гонорар, и я успела потратить его на какие-то ненужные и потому восхитительные вещи.
Звонок Того Человека вызвал меня на улицу – я сразу же откликалась на его звонки, как слуга в английских книжках на колокольчик хозяина.
Был чудесный майский день. Я люблю май, несмотря на то что из года в год именно в этом месяце ко мне приходят сразу и томление, и страх перед будущим, и ужас, что всё в прошлом. Не буду описывать клейкие листочки и голубые небеса – лучше опишу Того Человека, каким я увидела его в тот майский день.
У него было совсем другое лицо.
Иногда мне рассказывают что-то важное, а я вдруг начинаю разглядывать рассказчика пристально до смущения (порой обоюдного). Звук отключается, зато зрение обострено до предела – и в собеседнике вдруг проявляется то, чего видеть не следует. У одного важного, горделивого писателя вдруг обнаружились до отвращения маленькие ручки с короткими и какими-то недоразвитыми, бледными пальцами. У пожилой дамы из декольте торчат вылезшие косточки бюстгальтера – как из дохлой рыбы. А у Того Человека было совсем другое лицо.
Я не слышала, что он говорил, – точнее, почти не слышала: звук его голоса то включался, то выключался:
– Вышла книга… Хотел тебе рассказать… Издательство… Премия… Переводы…
Тот Человек пытался пересказать мне все свои планы разом: он верил, что его книга ключом откроет все двери, а там – успех, счастье и деньги ждут, чтоб их выпустили наружу. Писатель с недоразвитыми ручками после успеха своей книжки начал томно поджимать губы на фотоснимках и наряжаться в дизайнерские шмотки. Пожилая критикесса с рыбьим лифчиком больше всего интересовалась стратегией и тактикой перехода из одного сословия в другое. А Тот Человек даже слезу пустил, рассказывая о том, какой успех ждёт его первую книгу…
– Но ты должна знать кое-что. Там есть переклички… заимствования… я вдохновлялся… твой образ… муза…
В конце концов он вручил мне бумажный кирпичик и убежал вверх по майской улице. Птицы нещадно свистали.
И вот она снова передо мной, эта книга – не открывшая, как Тот Человек ни надеялся, ни одной двери. Пожелтевшая от старости, с выцветшей обложкой. Страшно, когда твои книги желтеют от старости, – это всё равно что видеть, как седеют твои дети. Сами писатели тоже выцветают с годами, но при этом упорно верят в своё мастерство, и обвиняют в неудачах окружающий мир, сплотившийся в противоборстве. Неудачников не отрезвляют полное забвение и нищета, не смущают распродажные цены на старых книгах и полное отсутствие новых.
– Старик, я такую вещь задумал! – говорят они при встрече друг другу. – Это будет бомба!
И сами прекрасно понимают, что не будет у них ни бомбы, ни вещи. Ничего не будет, кроме воспоминаний о ярком дебюте и горького чувства обманутого творца.
Я не догадывалась, что Тот Человек тоже, оказывается, пишет книги. К моему сочинительству он всегда относился с трепетом, но я была слишком молода, чтобы почувствовать в этом трепете не одну, а множество составляющих. Он страстно желал славы – не той, которую могла ему дать фотокамера Фаина, а другой, вскормленной материнской надеждой, мечтой о славе писателя. И он сделал первый шаг – украл мою идею и под покровом ночи вынес её под рубашкой, ближе к сердцу. Идея не замёрзла на ветру, пустила корешки, и вскоре из неё выросла книга, которую я держу сейчас в руках в полуденном зное сонной Пенчурки. Из автора я стала героиней – и впервые поняла, какое это унизительное состояние. Его книга – это был полный справочник по Гене Гималаевой, читая который, я дёргалась, как будто ела сырой ревень без сахара.
Он написал о том, что в дни месячных я неосознанно выбираю красный цвет в еде и одежде. О том, что я не умею застёгивать лифчик, как все девочки – на ощупь, сведя крылья за спиной, а перетягиваю застёжку на живот. О том, что шнурки я завязываю двумя ушками и что у меня нет ни одной родинки на теле. О том, как сплю – обняв подушку и согнув ноги так, будто бегу во сне, как атлет на греческом килике. Он вывернул наизнанку все мои мысли, препарировал слова и похитил чувства. Он вынул из меня всё, что я любила, берегла и ценила, – и подарил это своей героине: еле живой, тепловатой кукле по имени Жанна Ермолова. Как ни старался автор, выписывая словесные кренделя и вставляя в рот глиняной Жанне таблички с приказами, кукла не спешила оживать, но топталась по страницам романа неуклюже, как заглючивший Голем. Эта кукла вытаптывала все живые ростки, из которых – при надлежащем уходе – могла бы проклюнуться и взойти настоящая литература.
Вторую героиню я не знала – и не узнавала. На жену Того Человека, маленькую горластую Свету, она точно не походила: но это не был фантом, слишком уж живой – в отличие от куклы Жанны – получилась у него эта Кира.
Как все читатели, я наделяю персонажей (чужих и своих) определённой внешностью, и потому так не люблю смотреть фильмы, поставленные по любимым книжкам: вкусы режиссёра редко совпадают с моими. Киру я вообразила худенькой белокурой девушкой в очках, похожей на пионервожатую из «Берёзки», – Гера Иовлев женихался с ней, на моё горе, всю июньскую смену. Будучи ребёнком, я не могла внятно оформить своих претензий к очкастой блондинке – но меня в ней раздражало буквально всё, даже длинная клетчатая юбка в складку. «Клетчатая» – так я её называла.
Кира у Того Человека получилась на славу – «моя» Жанна выглядела рядом с ней неуклюжей идиоткой, и Кира вышибала у неё на ходу все опоры, одну за другой. Как, собственно, происходило и в моём романе, идею которого я подробно обсуждала с Тем Человеком.
Конечно, у нас получились совсем разные книги, думаю я теперь. Можно было не психовать, и не обижаться, и не пытаться – безуспешно! – забрать рукопись из издательства. Мы приготовили из одних и тех же продуктов совершенно не похожие блюда, – но это я думаю теперь: взрослая, опытная, успешная Геня Гималаева, давно поставившая чёрный крест – как на чумной двери – на отношениях с литературой.
Но дело было не только в этом. Тот Человек предал меня всем желающим – на суд, съедение и смех. Я, с моей любовью, работой, лицом и судьбой, с моими родителями и целой жизнью, была буквально распята на каждой странице его книги вместе с кошкой Шарлеманей (названной в романе просто Маней).
Я листала эту книгу, перечитывала отдельные пассажи и думала: как хорошо, что те места, в которые мы приходим в поисках прошлого, меняются. Порой они меняются так, что в них не остаётся ничего прежнего.
Недавно я ходила к дому, где жила мама Того Человека, – хотела вспомнить прошлое и погрустить, но не узнала окрестностей. На месте прежнего пустыря стоял дом с развесёлыми цветными балкончиками. Первый этаж занят банком и гастрономом. В окнах, до сих пор помнящих мои несчастные взгляды, – стеклопакеты, жалюзи.
Как это правильно, гуманно! Было бы намного хуже, если бы всё важное для нас застывало неизменным во времени.
Вот и книга-убийца с пожелтевшими, а местами даже заплесневелыми страницами, тоже изменилась от времени – и не только внешне. Жанна Ермолова и Кира напоминали теперь старых бумажных кукол, которых взрослая девочка откопала на заброшенном чердаке.
Успеха книга не имела – как не заслужил его и мой роман, о котором не сказали ни слова даже самые добрые люди. Воспитанный человек никогда не подаст виду, если в его компании кто-то вдруг шумно испортит воздух. Вот и моя книга была чем-то вроде громкого и неожиданного звука, замечать который критики сочли неприличным.
С романом Того Человека получилось ещё хуже – поначалу его вроде бы приняли, и прочли, и приголубили, как часто бывает с новыми авторами… Но потом! Его проза была одной крови с теми дешёвыми фильмами, где артисты ходят с настриженными на плечи бумажками, изображающими снег, – эти бумажки никогда не тают… Тот Человек подмечал детали и сравнения, давил из себя метафоры, но и только! «Он был похож, она казалась, он видел в ней». Наверняка он изучал словари, отмечая липкими бумажками редкие слова, повсюду таскал за собой диктофон, и с десяток блокнотов были разбросаны у него по всему дому… (Сейчас я думаю о Том Человеке, как навахо – про индейцев анасази: «Кто-то древний».)
В общем, книжка его поплавала какое-то время на поверхности читательского рынка, но вскоре затонула. Жуткая Жанна, в которой отпечатались, как в доисторическом ископаемом, все мои черты, тоже пошла на дно – к великому моему облегчению.
С Тем Человеком мы больше не виделись: он меня разлюбил, книги я писать перестала, а дальше вы знаете. Дальше было телевидение.
Которое тоже теперь становится от меня всё дальше и дальше.
Я подскочила на месте, обрушив наконец книжную пирамиду. Сколько можно сидеть в Пенчурке? Зачем я дала Ирак себя уговорить?
– Женя, чего ты шумишь? – простонала мама. – Сходила бы лучше за грибами.
Грибы… Шампиньоны, шиитаке, портобелло, королевские устричные… О чём бишь я? Здесь, в пенчурских лесах, другой ассортимент: подосиновики, опята, мои любимые лисички. Сделать бы сегодня ризотто с лисичками – наверное, даже маме понравится!
И не думать, не думать, не думать ни о чём!
Я схватила первую попавшуюся корзинку, набросила куртку и понеслась скачками к лесу.
Пенчурские дети, с которых смело можно рисовать иллюстрации к детским рассказам Толстого, пораскрыв рты, смотрели мне вслед.
Глава двадцать четвёртая,
в которой Геня ищет грибы, а находит сигнал
Пенчурка, куда я себя сослала с молчаливого одобрения коллег и начальства, ничем не похожа на Болдино или хотя бы Шушенское. Творческим вдохновением здесь и не пахнет, хотя природа вокруг такая, что Пушкин (Александр Сергеевич, а не Аркадий Степанович) изыскрился бы стихами и поэмами. Леса здесь выросли в незапамятные времена, в основном из корабельных сосен, хотя встречаются и берёзовые рощи, и ельник… Красоты на целое стадо поэтов хватит, ещё и художникам останется. Места, почти не тронутые человеком, – здешние жители относятся к природе нецивилизованно, уважительно и боязливо, и природа платит им за это ягодами, грибами и боровой дичью, которую мужички понемногу стреляют в сезон. Ни влажных салфеток в кустах, ни втоптанных в землю пластиковых пакетов с надписью «Ашан», ни даже размокших окурков в пенчурских угодьях не увидишь – это почти что девственный лес. И комары тут летают такие здоровые и разленившиеся, что умудряются вызвать к себе нечто вроде симпатии – в самом деле, как можно сердиться на таких бестолковых тварей!
Очередной комар лениво вился у меня над головой и присматривал подходящее для укуса место. Лисички, как живые, стояли перед глазами – опрятные жёлтые зонтики, которые никогда не бывают червивыми и очень легко готовятся. Разумеется, именно лисичек духи леса мне сегодня не посылали – ни одной жёлтой грибной семейки я так и не встретила. Зато набрала почти полную корзину великолепных подосиновиков, ножки которых напоминают небритых мужчин.
…Интересно, прельстила бы Того Человека такая метафора? У него была очень белая кожа, и отросшие за несколько дней волоски превращали лицо именно в такую подосиновость…
Интересно, Геня, почему тебе это всё ещё интересно? Жаль, нет здесь прекрасного доктора Дориана Грея, уж он-то быстро вправил бы тебе вывихнутые мозги… При мысли о Дориане рука сама потянулась за телефоном – выключенным по причине отсутствия сигнала ещё две недели назад. Он, телефон, так и лежал мёртвым ископаемым в кармане куртки, ожидая периода раскопок. Каким маленьким и нелепым он выглядел в лесу – даже подосиновик рядом с ним становился внушительным, важным!
Я положила телефон в корзинку и пошла вперёд по тропинке, как Маша без медведя. Сосны уютно шумели над головой, комары тихо подвывали… И кто сказал, что я не люблю уральскую природу? Настоящее лето бывает только здесь.
До конца отпуска – меньше недели. Скоро мне придётся возвращаться в город, но я старалась об этом не думать… Знаете, как бывает: уезжаешь куда-нибудь и представляешь себе, как в твоё отсутствие друзья объединились с твоими врагами и наслаждаются чем-то особенно прекрасным. Именно сейчас, думаешь ты, в кино идут самые интересные фильмы, в магазинах устраиваются распродажи на грани добра и зла, и вообще жизнь становится такой, какой была задумана.
Может быть, Ека уже заняла место главного режиссёра канала? А что, если её вышвырнули с позором, и я никогда больше не увижу её улыбки, разве что в кошмарном сне?
Сосны одобрительно шумели над головой, комары демонстрировали редкостную коллегиальность. Я шла по тропинке с корзинкой в руках и путаными мыслями в голове – только Серого Волка не хватало для полной идентичности. И грибов лисичек.
Тут я посмотрела на свои наручные часы и обнаружила, что они остановились. Ну и я тоже остановилась, на месте стой, раз-два.
Огляделась вокруг и поняла, что не знаю, где я сейчас нахожусь.
Знаменитая телеведущая заблудилась в трёх соснах!..
В своё оправдание могу сказать, что люди в пенчурских лесах теряются примерно с той же частотой, с какой в них произрастают ягоды-грибы. Даже мои собственные родители начали знакомство со староверами именно с того, что потерялись в местных лесах. Почти каждую неделю к Пенчурке выносит незадачливых грибников и любителей природы – всем оказываются скорая географическая помощь и, по мере сил, тёплый приём.
Мама много раз говорила, что в лесах близ Пенчурки нашли приют не только местные староверы, но и оставшиеся не при делах языческие божки, которые и развлекаются таким нехитрым способом, сбивая людей с верного пути.
Что-то прошелестело по траве, и в двух шагах от тропинки я увидала самую настоящую лису – с большими ушами, длинными тонкими ногами и пушистым хвостом. Шерсть на спинке блестела так, будто её глазировали абрикосовым джемом. Лиса повернула ко мне свою умную морду и облизнулась. Что ж, пусть я и заблудилась, но без лисички всё-таки не осталась – пусть и не в нужном виде и числе.
Лиса убежала по своим делам, а я села в траву и задумалась. Для размышлений лучше места не найти – вокруг одни лишь деревья, деликатные звери и грибы. Вот сижу я сейчас, пригорюнившись, как девочка из сказки, оставленная помирать в лесу, а прямо подо мной растет мицелий. И, когда пойдёт дождь, грибы попрут из-под земли, как античные воины.
Я вспомнила, как приятно слушать дождь в пенчурском доме – будто сразу десять аккуратных секретарей шелестят пальцами по клавиатуре.
Интересно, сколько сейчас времени?
Телефон, как ни странно, включился – на часах светилось 17:56. Родители, наверное, с ума сходят – при условии, конечно, что мама проснулась, а папа вернулся с пасеки. (Я забыла рассказать, что в Пенчурке папа превратился в пчеловода – и, кстати, мёд его пчёлы делают невероятно вкусный.)
Комары, летевшие за моим теплом стаей преданных вассалов, облепили мобильник и запищали – обсуждали, наверное, между собой, что это за штука и как её лучше съесть. Один особо настырный кровосос попытался впиться в экранчик, но он вдруг засветился. Телефон звенел и вибрировал, комара (с инфарктом, не иначе) отнесло в сторону, а я выронила трубку из рук.
Потом, конечно, подняла, но ответить не успела. Звонил Дод Колымажский.
Звонил сюда, в лес, где мой, чудом включившийся телефон, поймал сигнал… Не иначе что-то случилось! А если с Шарлеманей? Я оставила её как раз-таки Колымажскому – отвезла вместе с мисочкой, переносным туалетом и запасом корма.
Сосны угрожающе зашумели. Не двигаясь с места, чтобы не потерять драгоценный сигнал, я набрала Дода.
– Слушаю вас, – вежливо сказал он.
– Давид, что случилось?
– Геня? Наконец-то! Ты не определяешься. Где ты? Всё ещё в этой бородатой деревне? Вы там вообще знаете, что в мире происходит?
Колымажский так кричал в трубку, что, честное слово, даже природа на время притихла. После такого вступления я, как любой человек, решила: началась война. А что? Люди моего поколения выросли под «угрозы американской военщины» и песни о японских журавликах. Я до сих пор помню, как вести себя во время всеобщей эвакуации, и умею быстро надевать противогаз.
– Идиот, она решит, что война началась! – закричал в трубке родной голос. Ирак! Как я по ней соскучилась!
– Геня, возвращайся скорее! – торопилась Ирак. – В стране кризис, у нас – кризис жанра, и вообще ужас. Приезжа…
Она отключилась на полуслове, на дисплее высветилась надпись «Нет сигнала». Как финальные титры.
Я поднялась на ноги и увидела прямо перед собой грибное море лисичек. А за ними – Большую Сосну.
Глава двадцать пятая,
переломная
Родители, конечно же, разворчались: сначала приехала без объявления войны, теперь внезапно уезжает… Честно говоря, они слегка перестарались с ворчанием и недовольством – из-под вороха эмоций всё четче проступали облегчение и даже радость. Это было понятно. К маленькой Генечке, которую мама с папой тетешкали тридцать лет назад, взрослая телеведущая никакого отношения не имеет. Взрослым детям значительно проще – родители спустя годы остаются относительно знакомыми, а вот сами отпрыски неожиданно мутируют в толстых дельцов или телевизионных звёзд на стадии заката.
Кстати, в Пенчурке – закаты потрясающей красоты. Я несколько дней подряд специально караулила, когда зайдёт солнце – не смоется по-тихому, как в городе, а покинет сцену торжественно и гордо, как заслуженная артистка, получившая высокую премию.
Пока мы с папой шагали по лесу к автобусной остановке, солнце копило силы для очередного яркого прощания, и так жахнуло напоследок по стёклам фырчащего «богдана», что я, каюсь, пожалела о том, что уезжаю из Пенчурки. Всё-таки здесь очень красиво. И староверы оказались не такими уж страшными, какими их намалевало воображение; женщины тем более у них по домам сидят, а от женщин – по своему горькому опыту знаю – в жизни все главные беды.
– Приезжай, когда захочешь, – сказал папа, уколов меня на прощанье своей невозможной бородой. – На рыбалку сходим!
Бедный папа! Так и не привык, что у него нет сына.
Звонить Колымажскому, Ирак и Пушкину с Аллочкой я начала сразу после того, как лес за окном сменили инопланетные пейзажи Гадова – печально известного городка с насмерть замученной природой. Кто-то мне рассказывал, что в Гадове все жители поголовно – либо алкоголики, либо онкологические больные. Даже сейчас, когда стемнело, видно, что вместо деревьев близ Гадова торчат одни лишь сохлые палки, и земля здесь каменная, мёртвая. В городке вздымались кверху трубы завода, похожие на гребёнку с выломанными зубцами. Колымажский, Ирак и Аллочка с Пушкиным не отвечали на мои звонки – более того, телефоны у них были отключены, а городской многоканальный мог предложить лишь длинные гудки, распиливающие воздух.
«Абонент временно недостоин…» – послышалось мне в очередной раз вместо «недоступен», и я, разозлившись, нажала отбой. Прислонившись к окну, рядом со мной дремала уютная бабулька в беретике – от неё пахло точно так же, как от моей ба Ксени. Странно: человека нет, а запах, точнее, память о запахе живёт. Пахнет лежалыми карамельками, камфарой, огуречным лосьоном и, самую малость, булочками. Булочками с корицей и сахарной пудрой… Я придвинулась ближе к бабульке и тоже уснула.
Разбудил меня громкий голос Остапа Бендера.
– Ты где вообще? – кипел П.Н., вопли которого не умещались в телефонной трубочке. Бабулька уважительно отодвинулась.
– В автобусе, – шепотом ответила я, опасаясь разбудить спящих вокруг пассажиров.
– Она в автобусе! – П.Н. сказал это таким голосом, как будто я сморозила нечто настолько смешное, что у него даже нет сил придумать ответную реплику.
– Да я правда в автобусе, Павел! Проехали Гадов. Везу грибы.
Последние слова прозвучали таинственно, как пароль.
– Какие грибы?.. – заинтересовался П.Н.
– Лисички, подосиновики и белые сушёные.
– О-о-о, – простонал шеф, – я бы прямо сегодня пришёл ужинать, но, знаешь, мама просила провести с ней вечер. А ты, Геня, завтра же с утра на работу – вместе с грибами. Не представляешь, как мне нужно с тобой поговорить. И посоветоваться.
Он тяжело вздохнул, и добавил на прощанье:
– Всё очень плохо. А будет – ещё хуже.
– …Мужики, – с пониманием покивала бабулька, выслушавшая, как и бо́льшая часть пассажиров, весь мой разговор. – Ты же понимаешь, что ни к какой маме он не пойдёт!
– И пугает ещё, главное, – подключилась соседка сзади. – «Будет ещё хуже!»
В сравнении с тихой Пенчуркой город выглядел как шалава рядом с отличницей. Оказывается, человеку нужно совсем немного времени, чтобы отвыкнуть от городской жизни, – я пугливо озиралась по сторонам, пробираясь короткими перебежками, как собака через многорядный проспект. Машин-то! А людей! Как хорошо было в лесу, с комарами…
Даже дом мой любимый не порадовал – без Шарлемани в нём было тихо и печально, как на кладбище. Хорошо, что грибы – как малые дети! – требовали немедленного внимания, так что я, едва переодевшись и вымыв руки, бросилась готовить. Заготовки для ризотто с лисичками, жюльена из подосиновиков и грибного супа я сделала за час – вот как соскучилась! А ведь в кухне даже воздух застоялся, и свежих продуктов не было – с утра придётся заехать в «Сириус».
Впрочем, почему с утра?..
Я не сразу вывела машину с места на стоянке, и не то насмешила, не то перепугала охранника дёргаными движениями.
Телефоны Аллочки, Пушкина и Дода по-прежнему не отвечали, зато откликнулась Ирак.
– Ты в городе? Наконец-то!
– Хотя бы в двух словах расскажи: что случилось? – взмолилась я.
– В двух словах не помещусь, – сказала Ирак, – а потом, у нас, кажется, разговоры прослушивают. Только при личной встрече, Геня, прости. Приезжай завтра так рано, как сможешь. Додик шлёт тебе привет и обещает сегодня же привезти Шарманку. Пока!
Ирак почему-то не может выучить имя моей кошки и называет её всякий раз по-новому.
И как это понять – про разговоры? Кто их прослушивает?..
Парковка «Сириуса», несмотря на поздний час, была сплошь заставлена машинами. По бо́льшей части, разумеется, джипы. Мне пришлось ехать к самой крыше и романтически вставать там под звёздами. Я была в городе, но чувствовала себя здесь как в лесу. Пенчурка увиделась мне вдруг прекрасной и просветлённой, практически – земля обетованная. С ужасом я отметила, что, кажется, начинаю понимать родителей.
И если бы мне кто-нибудь сказал, что поздним вечером в «Сириусе» будет столько народу, я бы ни за что не поверила. Целое море людей разливалось по магазину, и я далеко не сразу ухватила свободную тележку. Точнее, у меня увели практически из рук несколько штук подряд, пока я не рассердилась наконец и не повисла на очередной каталке всем телом.
– Девушке плохо! – закричала малахольная тётка, которая сама же и пыталась отнять у меня корзину, а теперь орала и… на глазах превращалась в гастрономическую критикессу Нателлу Малодубову.
– Геня, ты? – Нателла так обрадовалась, как будто она на диете, а я – шоколадный торт. Ну вот, сейчас праздные покупатели последуют её примеру и начнут толкать друг друга локтями.
Спасибо, Нателла! Именно сегодня вечером, без косметики, в комариных укусах, я представляю собой самое аппетитное зрелище для своих поклонников! Впрочем, бывали случаи похуже – однажды поклонницы поджидали меня в женском туалете супермаркета «Весенний», когда я выходила из кабинки под звук автоматического смывателя. А та незабываемая сцена в «Макдональдсе»? Я просто спряталась под крышей от летнего дождя, но разве кто-то поверит, что я пришла сюда не за гамбургерами?
Нателла бесцеремонно схватила меня – и потащила прочь, под удивлёнными взглядами покупателей. Я исхитрилась помахать всем рукой на прощанье – не люблю разочаровывать публику.
Мы вышли (точнее, Нателла вышла, а я висела у неё в руках, не трепыхаясь) на свежий воздух. Нателла – женщина крепкая как телом, так и духом, и спорить с ней бессмысленно. Кстати, за все долгие годы нашего знакомства она ни в чём и ни в ком ни разу не ошиблась.
– Ты где ездишь, Генечка? – спросила Нателла и поставила меня наконец-то на пол. – Ты ведь ничего не знаешь, по глазам вижу. У вас на канале творится такое, что даже мировая экономика отдыхает, хотя тоже, знаешь ли, всеобщий кризис. Упадок. – Она видела, что я её не понимаю. – П.Н. собрался продавать канал по дешёвке. Спроси, кому.
– Кому?
Нателла повела бровями, как другие женщины поводят плечами.
– Юрику! Иначе по миру пойдёте. Убытки – миллионные.
– Но мы же всегда были… Мы приносили…
– «Были, приносили»! Проехали. Есть ещё одна новость, неприятная лично для тебя. Сгруппируйся, хотя лично я не верю, что эти вещи кому-то помогают.
Я тем не менее сгруппировалась. И начала дышать, как телевизионные актрисы во время телевизионных родов.
– У вас там в последние месяцы окопалась одна редкостная… – тут Нателла употребила крайне неприличное выражение, заставившее проходящих мимо подростков уважительно присвистнуть. – Она работала у моего Гриши, и полностью его обесточила. Выпила, понимаешь?
Я попыталась представить, как Ека пьёт кровь у румяного Гриши, и, к своему удивлению, нашла эту картинку убедительной.
– Она талантливая, стерва, – вынужденно признала Нателла, – Юрик даёт ей полный карт-бланш, и к П.Н. у него следующее предложение. Новый владелец сохраняет все ставки, программы и проекты, оставляет за П.Н. творческое руководство и директорство, но с телеканала «Есть!» должен уйти один человек. И этот человек просидел последние две недели в каких-то мансийских лесах!
Нателла трясла меня за плечо со всей силы – а сил у неё о-го-го:
– Тебе надо срочно что-то делать! Я бы на твоём месте даже не ходила завтра на работу – это бессмысленно. Я говорила и с Пушкиным, и с Аллочкой, они все звонили мне и рыдали как сироты. Но они не будут спорить с П.Н., не надейся.
Нателла вернулась вместе со мной в «Сириус», ободряюще похлопала по плечу – и исчезла, так и не сделав покупок. А я всё-таки взяла – на сей раз без проблем – тележку и пошла по своим бывшим владениям, бессмысленно собирая продукты с полок, как фрукты с деревьев. Тем не менее судьбе показалось, что с меня на сегодняшний день ещё недостаточно. Свернув в мясной отдел, я столкнулась корзиной в корзину с Тем Человеком.
Железо брякнуло, мы отскочили друг от друга, но тут же оба вспомнили, что мы – культурные люди. Выдавили по жалкой улыбке.
Я зачем-то начала разглядывать его покупки, сваленные в тележку, – когда видишь туалетную бумагу, махровые мочалки и, например, фасоль в собственном соку, это изрядно снижает романтический градус. Тот Человек безуспешно пытался укрыть тележку от моего пронизывающего взгляда, но не зря ведь я так долго вела «Сириус-Шоу»! Свиное колено, конфеты «Дары осени», растворимый мисо-суп, молоденький, едва оперившийся чеснок, готовый бисквит.
В мясном отделе у Мары Михайловны – самый настоящий мороз, что и требуется почившим животным. Впрочем, мы с Тем Человеком были ещё живыми – на вид, по крайней мере, – и потому на глазах замерзали.
– Холодно здесь, – сказала я, и Тот Человек вежливо согласился:
– Как в холодильнике.
Настоящий писатель, не правда ли? Тут же нашёл подходящее случаю, неизбитое сравнение.
– Что нового у мамы?
Не знаю, зачем я спросила о его маме, а не о жене Светочке, для которой – несомненно! – в корзине припасены две коробки зефира.
– Сильно болела, но сейчас тьфу-тьфу, спасибо.
Когда он говорил это, то стал вдруг похож на П.Н., вспоминавшего Берту. П.Н. невозможно любит свою мать, и ему плевать хотелось на все её странности. Мать избалована им, как маленький ребёнок, – задаренная, закормленная старушка.
– Может, поужинаешь сегодня со мной? – брякнула я, не задумываясь о том, какие проклятия пошлёт мне по этому поводу доктор Грей. Тот Человек испуганно замотал головой и скорей повёз свою корзину прочь из холодильника, обрушив по дороге подложки с розовой, как пион, телятиной.
Чу́дная телятина!
Хотела бы я сказать то же самое о своей жизни.
Тот Человек уходил, а я смотрела ему вслед с сожалением – как к второстепенному герою из любимой книги. Авторы избавляются от них, как молодайки от нежеланных детей, а я тоскую вплоть до самого финала.
В мясном отделе становилось всё холоднее – я промёрзла до самых костей и с пониманием смотрела теперь на кроликов в состоянии трупного окоченения. Как же они похожи на кошек! Один знакомый мясник рассказывал, что кроликам специально оставляют меховые носки во время свежевания – чтобы не было сомнений.
Я пошла к выходу, печально разглядывая первых, вторых и сотых встречных – в такие минуты, как сейчас, я поменялась бы местом с каждым из них, не глядя на судьбу, лицо и в душу.
Вот, например, та уставшая женщина с тремя пареньками мал мала меньше – детям, по моему некомпетентному мнению, давно пора спать, но пареньки бодры и свежи: облепили каталку со всех сторон, успевают стаскивать с полок коробки с хлопьями и ещё какую-то яркую дребедень. С удовольствием махнусь судьбами с этой женщиной – вместо хлопьев я приготовила бы малышам такие блинчики! Такие гамбургеры – с каперсами, домашним томатным соусом, куриными котлетами! Я бы готовила им с утра до ночи, и, конечно, читала бы им книжки про каких-нибудь суперменов, и гуляла бы с ними в парке. А эта женщина пусть разбирается с моей жизнью!
Я чуть было не подошла к ней, но на пути выросла очередь в кассу. И это в десять часов вечера! Бледно-зелёная – как та часть лука-порея, которую используют в рецептах, – кассирша отбивала покупки, а женщина с тремя детьми пристроилась следом за мной.
– Мамочка, мамочка, – канючил один из пацанов, – ты приготовишь нам прямо сегодня такие же драники, как у Еки Парусинской?
– И такой же шукрут, – пробасил второй.
– И такие же маффины, – запищал третий.
– Завтра сделаю, – сонным усталым голосом пообещала мать, выкладывая покупки на ленту. И тут же рявкнула, будто очнувшись: – Митя! Ваня! Алёша! Прекратите трясти тележку!
– Извините, – обратилась я к ней, дружелюбно протягивая плоскую табличку с надписью «следующий покупатель». Женщина взяла её, даже не кивнув. – Извините, – зачем-то повторила я, – ваши дети знают, что такое шукрут; вы, наверное, ими очень гордитесь?
Я заискивающе улыбнулась одному из пареньков, конопатому, как перепелиное яйцо, но яйцо даже не подумало вернуть мне улыбку. Мать, впрочем, смягчилась:
– Они без конца смотрят канал «Есть!». С тех пор как там появилась Ека Парусинская, просто сладу нет. Всё, что она готовит, я должна немедленно подать на стол!
Мамаша доверительно наклонилась так, что до меня долетел запах её довольно дрянных духов:
– Наш папочка, между прочим, тоже большой поклонник этой Еки. Считает, что она спасла канал от разорения, и, может быть, они не загнутся в кризис.
Я кивала и думала: эта женщина, она что, не узнаёт меня?!
– Девушка, вы платить будете, или просто так здесь всё разложили? – бледно-зелёная кассирша, подписанная в области кармана «Татьяна Дурова», смотрела на меня сурово и устало, как ночной страж, поймавший мелкого хулигана и прижавший его к стенке. Тушь с её ресниц осыпалась и застряла в морщинах – как маковые зёрнышки в складках сдобных булок.
Она меня не узнала, эта бледная Татьяна, как не узнали меня многодетная мамаша и её перепелиные дети с карамазовскими именами. Деньги посыпались из моего кошелька шуршащим дождем, какой-то ребёнок (Митя? Ваня? Алёша?) сказал: «Вау, круто!».
Они все меня забыли – не прошло и месяца, как мой город и мои зрители перестали обо мне вспоминать. Теперь у них была Ека Парусинская.
– Мам, я вспомнил эту тётю! – взвыло наконец перепелиное дитя. – Она раньше вела программу на канале «Есть!», но она не умеет готовить, как Ека!
Глава двадцать шестая,
в которой Ека считает цыплят
Ека лежала на спине в позе покойника, положив ноги на кота. Ни дать ни взять старинное надгробие одной из королев, под ноги которым скульпторы часто подкладывали любимое животное. Собаку или, вот именно, кота.
Умирать, вопреки зрелищу, Ека не собиралась. Отнюдь. Надо быть совсем уж неудачницей, чтобы скончаться в час триумфа. В античности фанаты кричали великому атлету: «Умри, Диагор! Тебе нечего больше желать!» Диагору, может, и нечего, а вот у Еки Парусинской оставались незаконченные дела. Последние штрихи. Ека любила, чтобы всё было сделано красиво.
Она выглядела так, словно позировала сразу восьми камерам – не беда, что единственный зритель кошачьего рода, и тот уснул крепким сном. У Екиного кота не было имени, потому что в нём не было надобности. Зато у Еки теперь было имя, да какое!
Лениво протянула руку к телефону: двадцать три пропущенных звонка от П.Н., десять от Иран, четырнадцать от Юрика. Семь сообщений от доктора Мертвецова, три – от Юли Дуровой. Всё предсказуемо, как в примитивном рецепте для начинающих. Ека не хотела общаться даже с П.Н., что уж там говорить о какой-то Юле Дуровой. Сегодня ей хотелось побыть с собой наедине, прислушаться к своим чувствам и подготовиться к завтрашней встрече. Гималаева в городе, вернулась… Вернулась, милая, и даже не догадывается о том, какие руины её поджидают!
Ека засмеялась, безымянный кот недовольно мявкнул. Он никогда не мяукал, а произносил что-то похожее на «мне-мне-мне».
– У тебя даже кот необыкновенный, – сказал на прошлой неделе влюблённый доктор Мертвецов. Доктор изрядно наскучил Еке, но избавляться от него было ещё рано – хотя этот запах зелёного мыла, бр-р-р, невыносимо! Красота, конечно, важна, но Ека знала, что есть кое-что более важное – молодость. Молодость свою Денис Григорьевич терял стремительно, и с нею вместе уходило то единственное, что ей в нём по-настоящему нравилось, – умение метко, цинично шутить. Первая в жизни влюблённость превратила Мертвецова в скучнейшую персону, каких Ека навидалась и в университете, и за границей.
Милашка Павел Николаевич – совсем другое дело. Ека с детских лет была неравнодушна к «самым главным» – это в ней кричала во весь голос психология нищенки. Да-да, нищенки – Ека и сейчас с удовольствием экономит в мелочах и триста раз подумает, прежде чем потратить свои личные деньги. П.Н., хоть и вырос в небогатом семействе, за долгие годы успеха привык жить совершенно иначе, но благодаря Еке словно бы вернулся в далёкое детство.
Ека вообще много что ему вернула – шеф на глазах распушался, как любимый кот в бездетном семействе. Она протоптала дорожку в дом П.Н. – правда, не слишком понравилась Берте Петровне. В её отсутствие Берта просто из себя выходила, ругая новую ставленницу забористым южным матом. «Павлуша, как же ты мог так поступить с моей Геничкой?» – кричала Берта Петровна, но П.Н. успокаивал её: «Мама, из-за чего сыр-бор? Геня в отпуске, скоро вернётся, никто её не отстраняет и не увольняет».
«Пока не увольняет», – уточнила бы Ека, случись она поблизости. Чаще она оказывалась вблизи бывшей подруги Берты, мамы Юрика Карачаева. С Мариной Дмитриевной Ека виделась регулярно, как с лечащим врачом, и советовалась по всем важным и неважным поводам.
…Ека встала перед зеркалом, втянула щёки и живот. Красавицей она как и раньше не была, так и теперь не стала. Лицо преобыкновеннейшее, таких сто штук на каждом переходе. Грудь – как два дверных звонка. На шее – целое ожерелье веснушек. Ноги короткие – кто-то сказал, что женщины с короткими ногами устойчиво стоят на земле. Не в том смысле, что не падают, а в том, что изрядно преуспевают в жизни.
– У вас, девочка моя, такая молодая кожа, каких я даже у молодых давно не видела! – восхищалась недавно Вовочка, личный косметолог Гени Гималаевой. У Гималаевой, как сообщила Вовочка, куча проблем с лицом – и, если бы не она, Вовочка, Геня выглядела бы примерно так же привлекательно, как утюг. Даже если поделить эти откровения на восемь, всё равно приятно было думать, что у Гималаевой есть ещё и такие проблемы.
Ека набросила халат – белый, как у всех птенцов Святого Лаврентия. «Переверните жаркое, оно почти готово!» Покровитель грешников, пожарных, библиотекарей и поваров, Святой Лаврентий был первым, кто встретил Еку в Риме. Её, как всех учениц, поселили в монашеском общежитии, в двух шагах от церкви Сан-Лоренцо-Фуори-ле-Мура. Окраина громадного города, монашки-сореллы, строго глядящие за молодыми девицами, готовящимися к экзамену на кухарей нижней ступени. Одна лишь Ека была много старше всех и знала латынь, вот почему сореллы разговаривали с ней доверительно. Перемигивались: мы-то с вами, с высоты возраста, понимаем… Ека думала только про экзамен – и не обижалась. Она всегда была мономанкой: отдавшись единственной идее, не позволяла себе распыляться на мелочи.
…Вечером накануне экзамена в общежитии случился потоп – не Великий, конечно, но вполне выдающийся для того, чтобы сореллы пришли в ужас и одновременно с этим, разумеется, в экстаз. В общагу вызвали «иудраулико» – этим звучным словом в Италии называют сантехников.
Никто в целом мире так не боялся прихода иудраулико и так не ждал его, как запертые от мира монашки и девицы со всего света, запертые под одной крышей в ожидании экзамена. Ну, он и пришёл – кудрявый, с белейшими зубами, в узком комбинезоне, в мрачном сопровождении сорелл: одна шла спереди, другая – сзади, дабы ничто не угрожало целомудрию вверенных девиц. Только факелов не хватало.
Ека увидела иудраулико – и чувства её, запертые в дальнюю комнату, тут же дали протечку. К тому же звали его Лоренцо – как святого покровителя поваров.
– Перевернись, жаркое! – шутила Ека, когда они остались с иудралико вдвоём.
Ека любила вспоминать свою европейскую учёбу, те счастливые дни в лучших городах мира. Она никогда не жалела о том, что выбрала кружной путь к успеху. Как прекрасно было в Риме – аппетитном городе, где люди вечно думают о еде! Даже старинные римские здания казались Еке съедобными на вид, поджаристыми, словно миндальные печенья. Даже кладка старых стен напоминала нугу с орехами… А Париж?.. Там сам воздух пропитан бриошами да круассанами! Впрочем, и в нашем городе – пусть он не Париж и не Рим – тоже много чего носится в воздухе, и это главное, Ека! Париж и Рим не сдвинутся с места, а здесь так горячо, что самое время ковать.
Ека с удовольствием оглядела свою почти что пустую комнату. По сравнению с её квартирой дом П.Н. выглядел дачей, куда свозили ненужные вещи несколько поколений разных семей. Стол Берты, заваленный бусиками всех цветов и размеров, напоминал лодку индейца, только что продавшего Манхэттен.
А вот кухня – совсем другое дело. Кухня Еки была устроена так, что ни один профессиональный повар не найдёт, к чему придраться, – её можно запросто снимать в любой из программ канала «Есть!». Лучше всего, разумеется, в «Ека-Шоу» – первом авторском проекте Еки Парусинской, самой популярной и рейтинговой ведущей за всю историю канала. Как вы сказали, «Гениальная Кухня»?.. Не припоминаю. И зрители не припоминают, что куда серьёзнее.
Тихушница Аллочка, которую Еке так и не удалось ни очаровать, ни припугнуть, ни заинтересовать, до последнего возражала против скоропалительного решения П.Н., но директор решил наконец проявить характер. И последовательность.
Ека отлично помнила, как П.Н. впервые пришёл к ней «с серьёзным разговором» – этот необычнейший из всех директоров не требовал от подчинённых явиться к нему на ковёр, но сам врывался в кабинеты и орал с такой силой и душой, что даже собаки на улицах поджимали хвосты.
В тот день за обедом была греческая тема. Славочка – малахольный оператор Гималаевой, которого Ека при первой же возможности вышвырнет с канала, – после каждого нового блюда говорил поварам «эвхаристо». Подавали холодный душистый дзадзыки, фаршированные помидоры с критской приправой и осьминогов, зажаренных на гриле. Доду Колымажскому (ещё один малахольный) не повезло – ему достался осьминог с глазами, и глаза эти выпали прямо в тарелке. Дежурному повару тоже не повезло – от стыда он чуть не съел свой колпак. В мусаке, на тонкий Екин вкус, было слишком много корицы, зато десерты оказались безупречны – домашнее мороженое с мёдом и пирожные кадаифи из тестяных ниточек.
П.Н. к обеду опоздал, вырос над всеми, как живой укор, и начал щёлкать пальцами, вспоминая потерянную мысль. Удобство жизни большого начальника состоит в том, что ему не надо тратить сил для выражения всем понятных, ещё в полёте изловленных слов…
– Вы чем-то недовольны, Павел Николаевич? – ласково спросила Ека. Смотрела она при этом в пустую тарелку шефа, над которой лежала десертная ложечка, как точки над буквой «Ё». – Салфет вашей милости, – поклонилась она вдруг и протянула директору бело-синюю салфеточку.
– Красота вашей чести! – просиял П.Н. и неожиданно для всего трудового коллектива принял салфеточку, уселся рядом с Екой и кивком попросил трясущегося от страха дежурного принести ему порцию мусаки.
– Как было во Франции? – вежливо поинтересовалась Ека.
– Ах да! – сказал П.Н. – Там всё было прекрасно, пока меня не убедили прервать отпуск. Выяснилось, что у нас тут происходят странные случаи и необъяснимые совпадения. Воровство рецептов, одинаковые меню, заваленные программы…
– Минуточку, Павел Николаевич, – тихо, но решительно вмешалась Аллочка. – Мне кажется, кое-кто решил сделать из кое-кого козла отпущения.
– Точнее, козу, – уточнил Дод Колымажский.
– Кое-кто, кое-кого, – поморщился П.Н. – Хочется пройтись по вашей речи с редакторским карандашиком. Считали, сколько у вас слов-паразитов?
– У меня слово-паразит – «зарплата», – пошутил Колымажский, но никто даже из вежливости не улыбнулся. Запасы вежливости были у всех на исходе. Если не на нуле.
– Насчет козла отпущения могу сказать следующее. – П.Н. с удовольствием ел мусаку. – Я в своё время приятно удивился, когда узнал, что с этим козлом всё не так-то просто! В иудаизме козлом отпущения называли особое животное, которое отпускали в пустыню после символического возложения на него грехов всего народа в праздник Йом Киппур. Отпускали! А не сжигали, как другого, несчастного козла, на которого пал жребий. Впрочем, впоследствии выяснилось, что козлу отпущения везло немногим более – в пустыне его приводили к скале Азазель и всё-таки сбрасывали оттуда в пропасть.
– Ну вот видите! – засмеялась Ека. Аллочка, глаза которой леденели на глазах, как формочки с водой в морозилке, сказала:
– Павел Николаевич, если вас не устраивают эвфемизмы и местоимения, давайте говорить открыто. Я считаю, что на канале сознательно разжигается вражда, мешающая нашему общему делу. Здесь нет Гени, я не буду говорить про отсутствующих, но Ека могла бы…
– Я уже говорила об этом вчера, Павел Николаевич, – дрожащим голосом сказала Ека, – и повторю ещё раз, если требуется, Алла! Я не воровала рецептов у Гималаевой, мне это просто не нужно! Я могу придумывать их каждый день хоть по сто штук – кстати, приглашаю сегодня всех на презентацию моего нового меню!
– Что там будет? – П.Н. развернулся к Еке так резко, что локон страсти поднялся с его макушки и секунду дрожал на ветру.
– Всё очень просто, – засмущалась Ека. – Карри с курицей, перцем и шампиньонами. Салат с маковым соусом. Песочный пирог с помидорами. Совсем новый чаудер с раковыми шейками, крабами и форелью. Польпетте. Кофейные кексы и физалис с жидким зефиром. Что касается воровства, то… Иран, я думаю, будет лучше, если ты сама расскажешь…
Иран взмахнула широкими ладонями. Руки ей достались явно из другого комплекта, небесная шутка: узенькие запястья, громадные кисти и толстые, мощные пальцы. Иран долго страдала от этих рук, мысленно примеряла чужие, изящные, с тоненькими пальчиками, пока Ека не объяснила: изящных рук в нашем мире пруд пруди, а твои ласты изготовлены по специальному проекту. Так и носи их с удовольствием! Ека даже подарила Иран стопку звонких браслетов, чтобы подчеркнуть своеобразие рук, но Иран браслетов пока что стеснялась. Может быть, однажды она всё же осмелится и наденет их – чтобы от запястья до локтя сияли блестящие наручники!
Все смотрели на Иран, пока она, взмахивая руками, рассказывала. Увы, ей очень жаль и она сама не могла в это поверить, пока не увидела… За день до первого эфира Еки Геня проникла к ней в кабинет и подошла к её личному компьютеру.
– На цыпочках подошла? – ядовито переспросил Колымажский. – Воровато озираясь? А ты где в это время сидела, Иран? В шкафу?
Аллочка хмыкнула. Иран же, с достоинством обмахиваясь своими руками, словно пальмовыми ветвями, продолжала рассказывать, не глядя, впрочем, никому в глаза.
Шкафа в кабинете Парусинской нет, и это обстоятельство отлично известно как Доду, так и всем присутствующим. Шкафа нет, но есть большая тумба с телевизором, и так получилось, что Иран необходимо было поменять в телевизоре кое-какие настройки, и она сидела перед ним на корточках, а сзади неё кто-то очень промыслительно поставил большое вертящееся кресло. Так что самой Иран видно не было, а телевизор заглушал шаги и скрипы. Когда Иран увидела Геню, то хотела встать и поздороваться, но Геня вела себя очень странно…
– …и ты решила понаблюдать за ней! – возмутилась Ирак.
– Ну, в общем, это получилось естественно, – сказала Иран. – А ты бы, конечно, закричала во весь голос: «Привет, дорогая, зачем лезешь в чужой компьютер?»
– Она не просто залезла в мой компьютер, – деликатно заметила Ека, – а слила на флешку все рецепты.
– И ушла, воровато озираясь, – Иран победно смотрела на Дода Колымажского.
– Так, – П.Н. отодвинул тарелку с недоеденной мусакой и вскочил из-за стола. – Так, лично мне всё ясно. Я сам поговорю с Геней, или нет – Аллочка, ты поговоришь. Ты скажешь, что ей нужен отпуск. Всем остальным – не лезть сюда, ясно? Ирак, тебя особенно прошу: без мелодрам.
Ирак обиженно пожала плечами.
– Кстати, я давно просил сделать мне нормальный хоегушт, – П.Н. явно подлизывался к Ирак, и Ека взяла это на заметку. Восточная кухня – не её козырь.
– …Лично мне ничего не ясно, – ворчала Аллочка, покидая кухню с Додом и Пушкиным. – Зачем Гене её рецепты? Она своими отлично обходится!
Ека вежливо улыбнулась Аллочке и хлопнула дверью прямо у неё перед носом.
Презентация меню прошла на «ура» – даже Ирак впечатлилась, а Юрик только успевал записывать рецепты на салфетках: «польпетте – плоские котлетки, на которые выкладываются помидорные дольки, моцарелла и анчоусные крестики».
…Сегодня Ека не собиралась готовить ничего особо выдающегося. Это будет простой, эффектный ужин на двоих. П.Н. заглянет к ней через пару часов и с порога начнёт раздувать ноздри. И даже если он отменит визит, Ека уже не способна обойтись простенькой закуской даже для себя самой – она привыкла готовить и есть так, словно от качества этой еды зависит вся её жизнь.
– Есть! – сказала Ека, как военный, откликаясь неизвестно на чей приказ, и покрепче завязала тесёмки фартука. Неиссякаемый источник многих познаний, П.Н. однажды поведал, что в русский язык слово «есть» в его военной ипостаси прибыло прямиком из английского. Что британское «йес» переродилось в славянском понимании в подходящее по звучанию, родное и съедобное «есть».
«Не помню, откуда я всё это помню», – кокетничал П.Н, подбирая корочкой домашнего хлеба вкуснейший соус из томатов с базиликом. У итальянцев это называется «набивать башмачок».
Вечер выдался прохладным, поэтому можно сделать сытный фасолевый суп – с красным перцем, сливками, табаско и колбасками пяти сортов. Фасоль, ясное дело, тоже трёх сортов – белая и красная приготовлены заранее, зелёную надо слегка разморозить. Ека хлопнула дверцей гигантского морозильника (в плохих фильмах такие морозильники никогда не используются по прямому назначению). Из закусок – холодные «пирожные» из слабосолёной сёмги, авокадо и очищенных томатов, сверху кокетливо присыпанные розовым перцем. Основное блюдо – камбала, ради которой Ека вчера ездила к своему секретному поставщику, – будет подано на троне из рукколы, с красной икрой и шалотом. Десерт – открытый песочный торт со сливочным кремом и абрикосами с фисташковой пылью.
Как жаль, что с людьми никогда не получается ладить так же легко, как с продуктами! Например, Аллочка Рыбакова могла бы служить идеальным ингредиентом для самых разных блюд – она замечательно сочетается с окружающими, но при этом сохраняет свой собственный вкус. Ирак, будто пряная приправа, украшает пресное общение, но никогда не солирует в блюде… Увлёкшись размышлениями о людях и продуктах, Ека готовила механически, не вдумываясь и не вглядываясь в то, что получалось. А ведь её наставник, итальянский повар Эмилио, не уставал повторять: не отвлекайся во время готовки, Катарина! Хороший кухарь всегда помнит о том, что именно он сейчас делает, и потому отслеживает работу на всех её этапах.
Ах, дорогие коллеги, – прежде чем вы стали коллегами, Ека изучила каждого вдоль и поперёк! Она знала вас лучше, чем самый близкий друг и самый пристрастный родственник. До появления Еки на телеканале «Есть!» все эти Аллочки, Пушкины, Ираны и Ираки сидели на своих местах крепко и ровно, как листы в новенькой тетрадке, – но вот явилась Ека и рванула за угол страницы! Так их рвут только ради срочной записки – и одни отходят ровно, а другие сидят так крепко, что отдирать их приходится по-живому, оставляя под скобками бумажные ошмётки. Пушкин, например, замечательно ненавидит Еку, но, будучи лицом всецело зависимым, исполнит всё, что потребуется. Романтическая дура Иран и вовсе не представляет теперь жизни без своей Кати – ждёт революции на отдельно взятом телеканале! Вот только Ирак – тяжёлый случай патологической верности – никак не желала сдавать позиций. Кроме того, в Екином списке были не определившиеся по сию пору персонажи. Повар Малодубов со своей ядовитой женой. Директриса «Сириуса» – старая толстуха Мара. Про Аллочку сказано уже столько, что Ека даже думать о ней больше не хочет, по крайней мере сегодня. Зато в рукаве скрыт мощный козырь – вечная любовь Гени Гималаевой, фотограф Владимир. Ждёт указаний!
Ека так увлеклась своими мыслями, что чуть было не упустила важный момент – когда томаты стали готовы к бланшировке. Неудачные попались томаты – кожица сходит легко, но мякоть слишком жёсткая. Сёмга, которую Ека принялась было рубить острым ножичком, слегка попахивала. Авокадо под кожурой оказался сплошь покрыт мерзкими чёрными пятнами. Да что ж такое! Ека выбросила заготовки для «пирожных» в мусорку и постаралась успокоиться. От неудач на кухне резко портилось настроение, а готовить без настроения нельзя. Этому её тоже научил Эмилио.
Ека сняла крышку с кастрюли – сливки свернулись, и на поверхности аппетитного варева плавали мерзкие сгустки. В духовке вместо гладкого абрикосового торта бугрился настоящий Забриски Пойнт!
Будто черти колдуют! – подумала Ека и с последней надеждой кинулась к сковородке с камбалой. Рыбка не подвела, выглядела и пахла именно так, как требовалось, но, когда Ека перекладывала её на трон из рукколы, сковорода дрогнула в руках, и камбала превратилась в летающую рыбу. Насколько прекрасно она смотрелась на сковородке, настолько же ужасно выглядела теперь на полу. Кот с интересом заглядывал в кухню, пока Ека, рыдая, с неизвестной целью посыпа́́ла скользкую бесформенную массу фисташками.
Она рыдала, но одновременно с этим решала загадку: кто именно приклеил вчера к её монитору листочек со словом «втируша»?
Это было очень обидное слово.
Как хорошо, что П.Н. не явился!
Город давным-давно спал, когда Ека включила телевизор и поставила запись последнего эфира Гени Гималаевой. Чтобы уснуть следом за всем городом, Ека считала и пересчитывала мысленных слонов, но потом сменила их на цыплят. Цыплят было много – жёлтых, пушистых, беспомощных. Дохлых, холодных, худых.
Глава двадцать седьмая,
в которой одних преследуют неудачи, а других – несомненный успех
В кулинарных книжках о фиаско на кухне пишут восторженно – из неудач, по мнению авторов, рождаются шедевры. Две французские сестры по фамилии Татен случайно перевернули кверху дном яблочный пирог – и мир обогатился новым рецептом. Рассеянный пастух забыл в пещере сыр – и на свет явился прародитель Рокфора и Блё д’Овернь. Мне, к сожалению, похвастаться нечем – из провалов на моей кухне родятся только неудачи. Да и что я могла бы сегодня приготовить? Салат из разбитого сердца? Тяжёлые мысли под соусом?
Было уже поздно, и думать следовало не о том, чтобы «Есть!», а о том, чтобы «Спать…» Тем не менее я всё же включила в кухне свет. Что вам сказать, читатель?.. Бо́льшего количества прекрасных продуктов мне не приходилось тратить никогда. Шарлеманя осуждающе смотрела, как исчезают в помойном ведре пригоревший грибной пудинг, осевшее суфле и жидкая комковатая смесь, предполагавшая стать паннакоттой. Я с лёгкостью могла бы стать звездой кулинарного шоу «Фиаско»! Единственное, что получилось сделать в этот проклятый вечер, были банальные пирожки с грибами. Ешь пирожки с грибами, держи язык за зубами, сказала я Шарлемане, прежде чем уснуть. И всего через пять минут, как мне показалось, пришло утро и зазвонил телефон.
– Пора, красавица, проснись! – пророкотал в трубке знакомый голос. Пушкин!
– Надеялся тебя разбудить, – заявил Аркадий. В трубке слышался привычный городской шум: гуденье сигналов, трамвайный звон, утренний матерок пешеходов. – Я уже, разумеется, еду на работу, как и подобает приличному режиссёру. А ты, придёшь ли, дева красоты? – строго спросил он. – Тут тебя все страстно ожидают. Всё, отключаюсь! Вижу П.Н. на перекрёстке – зовёт меня взглядом и криком своим…
Замечаете ли вы, как всё меняется с годами? Мы взрослеем, и нам даётся больше терпения и меньше радости, а вот количество времени, которое требуют такие простые дела, как завтрак или стирка, катастрофически уменьшается. Видимо, его отбирают у нас в пользу молодых да ранних…
Я долго копошилась в то утро – собиралась на работу как на войну. Всезнающий П.Н. рассказывал мне о трагической судьбе повара по фамилии Баландин – этот неумелый кухарь кормил зэков в Таганской тюрьме и к обязанностям своим относился без огонька. Супчики у Баландина получались жидкими, в котлетах катастрофически не хватало мяса – в общем, зэки однажды восстали против баландинской стряпни и сварили в котле самого повара. П.Н. утверждал, что именно от фамилии этого повара произошло словечко «баланда» – не знаю, правда это или нет, но чувствовала я себя тем утром непутёвым Баландиным, из которого вот-вот сварят суп.
Перед выходом мне пришла в голову светлая, как Венеция, мысль проверить почту. Пусть поклонники захвалят меня, пусть взволнованные моим отсутствием зрители окружат меня любовью и заботой! Увы, миг любви и заботы пришлось отложить – я забыла оплатить услуги интернет-провайдера.
Общий завтрак ещё не начался – дежурные повара торопливо накрывали на стол.
– Испания? – спросила я у незнакомого юноши в белом колпаке, пытаясь угадать тему.
– Португалия, – поправил он.
На вид всё это походило скорее на обед, чем на завтрак, – утка, фаршированная сливами, гаспачо из дыни с мятой, тушёный козлёнок, миндальный пирог. Морковный и каштановый джемы. Сыры «серра» и «тетилья». Сладости из желтков – овуш молес. После такого завтрака можно несколько дней ничего не есть!
Народ собирался стремительно, как тучи в грозу. Прицокала Аллочка, уселась рядом с хмурым Пушкиным – по телефону он не казался и вполовину таким озабоченным. Ирак при виде меня вспыхнула – и стала от этого хорошенькой, как любая смущённая смуглая девушка. Иран зато была ледяной, как сорбет.
Ждали только П.Н. и Еку – оба начальственно задерживались. И ещё одна персона явственно отсутствовала – неизменный столовник Юрик, который, впрочем, теперь не столовник, а полновластный хозяин канала.
Дод Колымажский заканчивал рассказ про Шарлеманины подвиги, когда двери наконец распахнулись, и в студию явилось прекрасное трио. У меня живот заболел от негодования: когда я увидела, как они выступали, – ну просто птица-тройка! В середине тяжело шёл П.Н., никого бы уже не сумевший обмануть своим возрастом, – новая голубая рубашка и галстук, явно выбранный женщиной, состарили шефа лет на десять.
– Он уже дней пять так ходит, – взволнованно прошептал Колымажский. – Все джинсы, говорят, повыбрасывал. А ведь они ему, наверное, пригодятся… в новых экономических условиях…
Я буравила глазами Еку, как нефтеискатель – сухую почву в поисках заветного месторождения. Почва молчала и улыбалась загадочно, как Джоконда, Незнакомка и Дама с горностаем вместе взятые. Ека тоже была сегодня в голубом.
Наконец, Юрик Карачаев – или теперь надо говорить «Юрий Евгеньевич»? Юрий Евгеньевич торжествовал, как артист, получивший «Оскар» в день собственных именин из рук влюблённой в него «Мисс мира». Телеканал «Есть!» лежал у его ног, и потому Юрий Евгеньевич мог позволить себе тёплые взгляды и участливые похлопывания по спине, которых удостоились Колымажский, Пушкин и тот самый юноша в колпаке (его звали Петя Пе́тров, с ударением на первый слог. Простота – не наш стиль, правда, Петя?).
П.Н. сел на привычное место и, старательно уклоняясь от моего взгляда, придвинул к себе тарелку. Пирожки я даже доставать не стала – они всё равно не ложились в тему. Где вы видели грибы в Португалии?
– А где грибы? – спросил вдруг П.Н., не обращаясь ни к кому конкретно, так что глаза у доброй половины сотрудников испуганно забегали. Я прямо наслаждалась, представляя себе ломаный ход мыслей Еки или Иран: о каких грибах идёт речь? Кто их готовил? Где они могут лежать?
Я молчала – в конце концов, лично меня никто ни о чём не спрашивал. Наш эксцентричный начальник часто выкидывает коленца, так что его странный вопрос мог, повисев некоторое время в воздухе, растаять сам собой. Но тут мои пирожки с грибами повели себя непредсказуемым образом – они вдруг запахли во весь дух, как будто отозвавшись на вопрос П.Н. Запах был таким одуряюще вкусным, что Юрик (обойдётся без отчества) сглотнул слюну, как лягушка – муху, Аллочкины тонкие ноздри затрепетали, а П.Н. погрозил мне пальцем, как нашкодившей соседской девочке, которую очень хочется выпороть. Но нельзя.
Я достала пакет с пирожками и молча протянула его П.Н.
– Не возражаешь, Павлуша? – спросил Юрик и, не дожидаясь ответа, первым достал пирожок. Сотрудники изучали узоры на скатерти, П.Н. побледнел, и только лицо Еки оставалось примерно таким же выразительным, как пустая тарелка.
– М-м-м… – Юрик откусил полпирожка и кивнул, как мэтр, принимающий экзамен у юного дарования. Дод вцепился в мою руку, Ирак что-то громко шептала – по-моему, молилась. П.Н. вырвал у Юрика из рук пакет с пирожками и перевернул его над своей тарелкой. Пирожки посыпались градом, ударяя рикошетом по соседям – голубое платье Еки удостоилось сразу двух ударов, оставивших жирные пятна. Ека преспокойно подняла пирожки брезгливыми пальцами и бросила в тарелку, как мёртвых мышей.
– Кофе готов, – сияющий Петя Пе́тров появился на пороге с кофейником.
– Юрик! – взревел П.Н. – Это мои пирожки, понимаешь? И это моя телекомпания! И вот это, – он ткнул в меня пальцем, как Бог-отец на фреске Микеланджело тычет пальцем в Адама, – это моя любимая телеведущая. И она сделала замечательные пирожки!
– В начинке мало соли, – вмешалась Ека.
– Да ты их даже не пробовала!
Петя дрожащими руками пытался пристроить на столе кофейник, его уши под колпаком горели алыми маками.
– Павел, не обязательно читать всю книгу, чтобы составить о ней полное представление, – нравоучительно сказала Ека. – Мы с вами, как филологи, должны это понимать. Достаточно прочесть отрывки в двух-трёх местах, чтобы понять, стоит ли книга нашего внимания. И с едой так же – я определяю качество блюда по запаху и внешнему виду.
– Ты определяешь по запаху и внешнему виду количество соли? – расхохоталась Аллочка. Я ни разу до этого не видела, как она смеётся, – зрелище оказалось своеобразное. Смеющаяся Аллочка – это как плачущий красноармеец. П.Н., похоже, тоже впечатлился и развернул к помощнице свой стул:
– Аллочка, скажи, что мне делать? А? Распустить вас всех? Закрыться и проживать сэкономленные на завтраках деньги? В последние годы мы работали в убыток – взлёт начался, только когда пришла Ека. Да, Геня, нравится тебе это или нет, но рекламу нынче дают только под Еку. Все остальные – паразиты.
– «Ека-Шоу» – успешный проект, – признала Аллочка. – Более, чем просто успешный. Но почему мы должны расставаться с любимыми программами и… людьми?
– Слушайте, хватит говорить обо мне так, будто меня здесь нет, – вскипела наконец и я. – Кто-нибудь может мне объяснить, что такое «Ека-Шоу»?
– В лесу такого не показывают, – сказал Пушкин. – Ека сделала невозможное. Точнее, она делает это каждый день.
– Кстати, Ека, мы опаздываем, – Иран постучала своими огромными пальцами по пустому запястью – она никогда не носила часов. – Тебе ещё нужно переодеться, эти пятна…
– Приятно было позавтракать с вами вместе, – улыбнулась Ека, отодвигая тарелку с пирожками. – Увидимся!
– Зайди после трёх, – буркнул П.Н., глядя мне куда-то в ухо, и выбежал следом за Иран и Екой.
– Мне надо увидеть это шоу, – сказала я Пушкину. Аркадий оживился:
– Да нет проблем! Дод хоть сейчас проведёт тебя в студию. Но приготовься быть изрядно фраппированной. И давайте сначала по кофе.
Аллочка уже разливала горячий душистый напиток по чашкам. Ирак, Колымажский и милый Славочка отважно жевали пирожки.
Читатель, конечно, знает, как отбирается публика для телешоу. Эта шатия-братия слоняется целыми днями по зданию телецентра или заруливает на канал «Есть!» специально. Часто это одни и те же лица, проверенные и узнаваемые, которых наш штатный стилист (не помню, рассказывала ли я вам про Эмму Буркину? Кажется, не было случая. Напомните, потом расскажу) бегло припудривает перед съёмками. Это в основном студенты, личные знакомые сотрудников, поклонники, специально отобранные Колымажским, а также случайные пионеры, пенсионеры и домохозяйки в поисках смысла жизни.
Во всяком случае, когда я вела кулинарные ток-шоу и телесостязания поваров, всё обстояло именно так.
В студии, которую спешно переоформили под «Ека-Шоу» (а может, не спешно? Может, подготовка велась за моей спиной долгие месяцы?), сидело столько народу, что Дод не сразу нашёл для нас местечко. Извиняясь, мы втиснулись между пышным мужчиной в ромбовидном галстуке и ничем не приметной тётечкой.
– Приветствую тебя, пустынный уголок, – пробурчал сверху голос Пушкина. Не голос – глас Божий! Впрочем, режиссёр в студии так и так чувствует себя Богом.
Дод тем временем сдвинул пышного мужчину в сторону. Пышный, как все люди уходящего поколения, молниеносно считал статусную информацию и спорить с Колымажским не стал. Скрестил ноги и впился взглядом в авансцену, где красовалась самая навороченная плита, какую только можно себе представить. Студия была оформлена в излюбленных Екиных голубых тонах, которые, на мой взгляд, не стимулируют аппетит, а напрочь его отбивают.
Я нервничала – мне казалось, что народ узнаёт меня и шушукается, но на самом деле, видимо, пора привыкать к мысли, что узнавать меня никто больше не будет, за исключением родной матери. Не думала, что это так больно! Пятнадцать минут назад я влезла в интернет, надеясь, что верные поклонники меня не оставили, – увы, теперь они дружно обсуждали великолепную Еку Парусинскую. Мой Живой Журнал превратился в Мёртвый – там не было ни одного нового комментария. Я чувствовала себя как невеста, украденная на свадьбе: невеста, которую так и не стали искать…
Колымажский вздыхал и маялся, ему явно хотелось рассказать мне обо всём, что случилось на телеканале «Есть!» в последний месяц, но каждый раз Дод останавливал себя на полузвуке.
В проходах подскакивали не в меру яростные Екины фанаты – юные девочки и мальчики в голубых фартуках. На их фоне три лысых неподвижных головы, маячившие прямо у нас перед носом, выглядели многозначительными, как заколдованные лесные валуны. Одна из этих голов буквально приклеивала к себе взгляды складкой на загривке – с виду нежном и мягком, как дорогой диван.
Через проход от нас сидела некрасивая толстая девочка в очках, её держал за руку такой же точно некрасивый толстый папа.
– Работаем! – прокричал сверху режиссёр, и моя соседка зааплодировала, высоко подняв руки – как будто убивала на лету комаров. Аудитория примолкла, а потом дружно взвыла и тоже захлопала – под развесёлую музыку на сцене появилась Ека. В очередном голубом платье, совершенно неподходящем для повара.
Некрасивая девочка в очках закричала:
– Ека! Ека!
Ведущая дружелюбно помахала девочке со сцены:
– Мои дорогие зрители, кажется, что мы не виделись целую неделю, а ведь прошёл всего один день! Знаете, о чем я думала сегодня утром? Кулинария родилась в тот день, когда кто-то первым заметил, что половинки перцев похожи на лодки, а из рёбрышек так удобно делать корону. В литературе это называется метафорой.
Соседка зааплодировала ещё яростнее.
– Но мы сегодня не будем говорить о литературе, – Ека сморщилась так, словно бы ей под нос сунули грязный носок, вымоченный в нашатыре. – Мы с вами продолжаем наш общий проект под названием «Ека-Шоу»! Итак, вы готовы?
– Да! – без понуканий надсмотрщиков, которых сегодня было в студии четверо, рявкнули зрители. На этот вопль явились бы сразу и Дедушка Мороз, и Снегурочка – так слаженно они орали. Моя соседка тряслась в очень несимпатичном экстазе, и я инстинктивно придвинулась к Доду.
Идею «Ека-Шоу» наш поэтичный режиссер рассказал мне по дороге в студию. За час до эфира телезрители отправляют Еке смс-сообщения, в которых содержится только одно слово – название продукта. Пока ведущая тянет время и заговаривает всем зубы, её команда во главе с Иран обрабатывает сообщения и выбирает двадцать самых редких (в смысле, реже всего упомянутых) продуктов. Список этих раритетов торжественно зачитывается Екой, и она обещает публике приготовить из указанных продуктов принципиально новые блюда, которым будут даны необыкновенные названия.
Я отчётливо поняла: я ненавижу Еку. Её волосы цвета пшённой каши. Её слишком светлые глаза. Её всезнающую ухмылочку, которая появляется на лице так же часто, как тире в нашем тексте.
– Разве можно запомнить двадцать наименований? – шепнула я на ухо Доду. – Слишком сложно для рядового телезрителя.
– А Ека не ищет лёгких путей, – ответил Колымажский.
Соседка бесцеремонно дёрнула меня за рукав.
– Знаете, – сказала она, счастливо сверкнув очками, – Ека может приготовить всё что угодно. Смотрите, объявляют список!
На гигантском экране засветились синие буквы. Растительный мир в сегодняшнем шоу представляли репа, инжир, белокочанная капуста, помидоры и базилик. Животный – острые колбаски, крольчатина, отварной язык, куриные сердца и анчоусы. Молочно-яичное – голубой сыр, сливки, перепелиные яйца и творог. Победители в сладкой номинации – белый шоколад, мёд, фундук и чернослив. Муку, соль, сахар, масло, приправы и пряности можно использовать без ограничений.
– Хе! – как голодный кореец, вскрикнула я. – Из таких продуктов вам любой дурак приготовит!
– Геня, – шептал Дод, – это правда случайный выбор! Вчера у неё были морская капуста, редька, свекла…
– И она справилась блестяще! Вы что, сомневаетесь? – соседка в негодовании отвернулась от меня и вперилась взглядом в сцену. Было на что посмотреть – если бы на канале «Есть!» имелся трон, Ека уселась бы на него не раздумывая. И болтала бы ножками.
Сейчас она, впрочем, болтала языком – виртуозно. Она говорила со всеми сразу и с каждым в отдельности, шутила и откровенничала, делилась опытом и развлекала. Она была великолепна. Я её ненавидела.
– Цените тех, кто с радостью пробует новые блюда! – говорила Ека, и при этом мыла помидоры так нежно и тщательно, словно это были пупки грудных младенцев. – Не бойтесь повторяться, – убеждала она зрителей, – ведь даже Лев Толстой хотел отправить под поезд не только Анну Каренину, но и Катюшу Маслову!
Она готовила споро, резво и красиво – публика записывала рецепты, а дегустационное жюри (одна приглашённая знаменитость и два человека из зала) уже спешило на сцену. Знаменитостью был сегодня депутат Эрик Горликов, которого Ека приветствовала так возбуждённо, словно это был её потерянный и вновь обретённый возлюбленный.
«Опять я ваш, о юные друзья!» – сказал бы здесь Пушкин.
– Мои милые, – Ека естественным движением сняла голубой фартук, – хорошее меню похоже на роман. Начало – закуска, развитие сюжета – основное блюдо, эффектный финал – десерт! И пусть у нас будет много разных героев, или ингредиентов, важно, чтобы они хорошо сочетались. Итак, я представляю вам наше сегодняшнее меню – «Эмиграция». Салат «Русская Ницца» с картофелем, селёдкой, репой и перепелиными яйцами. Салат «Родной язык» из отварного языка с орехами. Суп «Обретённый рай» – из куриных сердечек и острых колбасок с базиликом и сливками. Жаркое из кролика с помидорами «Ностальгия» и лёгкая версия бигоса с колбасками «Славянская песня». Десерт «Фигушка» – подпечённый инжир с творогом и мёдом. Домашние конфеты «Родина» из белого шоколада с черносливом и фундуком. Наконец, пирог «Новая страница» с голубым сыром и анчоусами – для тех, кто не любит заканчивать трапезу сладким.
Ека выдохнула и поклонилась залу в пол, как солистка ансамбля народных плясок. Зал гремел и восторгался, жюри не дегустировало, а, скорее, пожирало плоды Екиного труда, а я с трудом протиснулась между фанатами и покинула студию.
П.Н. сидел в кабинете грустный и нахохлившийся, как птенец пингвина. Я видела однажды такого птенца в зоопарке – он был меховой и коричневый, как те детские шубы, которые мы все носили в семидесятых.
– Она великолепна, – сказала я П.Н. – И всё же я вызову её на дуэль.
– Дуэль? – оживился птенец, то есть П.Н. – На чём будете драться?
– Мы не будем драться. Мы будем готовить!
Глава двадцать восьмая,
в которой происходит тщательно спланированный бунт
Посреди комнаты стоит овальный стол, окружённый разномастными стульями. Всего шесть стульев со столом в родстве – палевые, мягкие, с изящно выгнутыми ножками. Прочие прибыли как будто со всех волостей – потемневшие от времени соломенные стулья, дешёвые пластиковые сидушки, раскладные табуреты… В собрание затесались даже кресло на колёсиках, шезлонг, высокий барный стульчик и древняя табуретка, которую хочется назвать «тётей Дусей». Публика, собравшаяся в комнате, под стать стульям разномастная – и малознакомая читателю. Впрочем, при условии долгого мучительного вглядывания в ком-то проявятся знакомые черты.
Палевые стулья заняла явно спевшаяся компания, не желающая уступать самозванцам нагретые места. Обратите внимание на трёх удачно постаревших дам, скромную супружескую пару и пухлую особу с каракулевыми волосами. Это Берта Петровна Дворянцева, Марина Дмитриевна Карачаева и примкнувшая к ним филологическая мама Владимира, позабыв о всяческих разногласиях, пьют чай с родителями Гени Гималаевой и юнгианкой Аделаидой Бум. Генин папа смущённо поглаживает свою бороду, словно бы сам удивляется её присутствию в мире, мама вежливо слушает Аделаиду, а Берта с Мариной склоняют друг к другу головы и хихикают, как девчонки.
– Семь педалей и сорок шесть струн! – выкрикивает порой Берта Петровна, и все понимают, что она сейчас будет рассказывать, как сложно научиться играть на арфе.
Рядом с Бертой на деревянной табуреточке сидит постаревшая Фарогат – она так вспыхивает время от времени своими яркими глазами, как будто бы включает сразу два маяка. Взрослая, томноокая Лола сидела бы рядом с матерью, но ей не хватило места, поэтому она стоит за плечом Фарогат и время от времени ласково гладит её по этому плечу – так умеют только взрослые девочки. К Лоле и Фарогат с одобрением приглядывается уборщица канала «Есть!» Светлана Аркадьевна, которую, в свою очередь, с огромным интересом изучает пышная дама в атласном комбинезоне и очках со стразами – «Балконша», Наталья Горликова. Наталья подозревает, что Светлана Аркадьевна – идеальный кандидат на прискорбно вакантное место домработницы в её роскошном доме, но пока ещё думает, как ей об этом сказать.
Мы же тем временем продолжаем путешествие по периметру стола – и натыкаемся на интеллигентнейший дуэт! Худенькая учительница русского языка и литературы Аида Исааковна делится методическими изысканиями с молодым педагогом Молекулой. Молекула изнывает от желания перебить постылую Исааковну и рассказать о нынешних школьниках парочку анекдотов, отшлифованных от частого употребления не хуже того камня, который «треугольник» Альбина Длян кладёт в качестве пресса поверх солёных грибов. Альбина снисходительно внимает учительским рассказам и переглядывается с Инной Иосифовной Овраговой-Дембицкой. Инна Иосифовна чувствует себя в этой разношерстной компании не совсем уверенно, потому благодарно улыбается «треугольнику» за поддержку, но всё равно ёрзает на своём сиденье – пляжном шезлонге с рисунком в «горошек».
Кто чувствует себя уверенно, так это Эльвина Куксенко! Высветленные локоны сверкают в электрическом свете, блестят намазанные пурпурным блеском губы, длинные толстые ноги задевают под столом ботинок сидящего напротив Евгения Блудова. Удивительное дело, он совсем не постарел, думает о Блудове Дирижёр Дирижёрыч, мучительно стараясь не уснуть до того момента, когда им объяснят наконец, для какой цели устроено это собрание. И, не выдержав, всё-таки засыпает – и видит во сне мелкие ноты, похожие на потемневшие капельки крови. А вот Елена – та самая, что смущалась при слове «окорочка», – скорее всего, не сможет сегодня заснуть вообще. Мама-Мертвецова и папа-Мертвецов изо всех сил пытаются развлечь Елену, но улыбается их шуточкам одна лишь Нателла Малодубова. Как все женщины, до состояния «полный бак» заряженные оптимизмом, Нателла выглядит значительно моложе, чем утверждает сплетник-паспорт, – косметолог Вовочка пристально разглядывает её свежие щёчки. Увы, подурневшая после родов Лерочка не может похвастаться затянувшимся периодом цветения – невестка Мары Михайловны давно плюнула на свои морщины, прыщики и жировые складки, которые, как сговорившись, пришли к ней все вместе и решили остаться навсегда. Хорошо, что сынок Ромочка рядом, и льнёт к ней так сладко, что в сердце Лерочки растекаются тёплые масляные волны. Ромочка ещё и потому так льнёт к маме, что справа от него животрепещет страшная компания: его родной дядя Витя, не смущаясь окружающих, разливает в пластиковые стаканчики прозрачную дрянь и, громко крякая, пьёт её вместе с дедушкой Алёшей из Краснокитайска. Стаканчиками оделены и пара бомжеватых стариков – у женщины такая тёмная кожа, что её можно без грима снимать в индийских фильмах, а мужчину мы лучше даже описывать не станем.
– Мы родители Еки, – гордо повторяет он время от времени.
По правую руку неописуемого мужчины сидят сёстры Дуровы – обрюзгшая, разуверившаяся в человечестве кассирша Танька и милая нервная Юля. У Юли дерзкая стрижка и бирюзовые, красиво выпиленные ногти. Видели бы вы, с каким восторгом разглядывает Юлю Дурову белокурый Абдулкин, давнишний выпускник филфака! Сеня Абдулкин пошёл по голубой линии, и потому его отчаянно интересуют ухоженные девушки, до полного обострения отточившие свой личный стиль. Сеня вдохновляется ими, как работами старых мастеров.
Косметолог Вовочка голубых чует на счёт «раз» – они к ней часто захаживают ради особых процедур, описывать которые Вовочка не любит. Вообще, настроение у неё сегодня не из лучших, поэтому она держится на расстоянии как от тоненького Сени, так и от вполне увесистого, дурно пахнущего в области рта доктора Василия Святославовича. Запахи Василия Святославовича туманом окутывают его собеседницу – горемычную женщину по имени Валя, которая зачем-то исповедуется доктору в грехах своего мужа. Мама Вали – усатая старуха в красном болеро – иллюстрирует Валину речь, указывая пальцем на импозантного Кирилла, занявшего удобную диспозицию на противоположном конце стола. Вообще-то Вале следовало бы смотреть в другую сторону и делиться душевными скорбями с прекрасным доктором Денисом Мертвецовым, который привёл сюда, кажется, всех своих секретарш разом. Этот девичий цветник отличается от цветника подлинного лишь тем, что розы Мертвецова не умеют хранить тишину и радоваться пчёлам – они щебечут и хохочут, ласково снимая с плеч друг друга нитки, пушинки, волоски и прочие посторонние предметы.
Доктора Мертвецова почти не видно – он скрылся в девицах чуть ли не по самую макушку. Ах, как завистливо глядит на него депутат Эрик Горликов – смотрите, он почти что насквозь прокусил нижнюю губу, пытаясь привести себя в чувство! Но и у Горликова есть свой собственный наблюдатель – Игорь Александрович, он же Гермес, отзывающийся в кулуарах на кличку Саныч. Мечта Саныча – протоптать тропинку в исполнительную власть; впрочем, он согласен даже на законодательную, лишь бы тропинка не обманула и вывела прямиком к заветному креслу. Пока же под спиной и попой Гермеса – всего лишь ребристый, как тощая любовница, стул.
Куда удобнее устроились его соседи – итальянцы из ресторана «Ла Белла Венеция»: четырём братьям нашлось место на длинной и высокой скамье, покрытой мягкими подушечками. Слышите, как благожелательно рокочет Альфонсо, как покряхтывает Массимо, как блаженствуют Джанлука и Марио? Стоп, здесь даже, кажется, присутствует заветная бутыль – Альфонсо приставил её к скамейке как ещё одну, пятую, нелишнюю ногу. Иностранную тему продолжают рафинированные Фридхельм и Анке Вальтеры. Окружающую обстановку немцы изучают терпеливо, как учитель – каракули первоклассника. А вот родители режиссёра Пушкина явно жалеют, что не обучены иностранным языкам – у мамы на языке скопилось много ядовитых словечек, но перевести их на немецкий она не может, и ёрзает на своём колченогом стуле без всякого шанса выговориться.
Читатель, разумеется, давным-давно понял, что́ за компания собралась за этим странным столом, – понял, но терпеливо ждёт, пока автор выговорится до конца, упомянув и щепку-критикессу, и дисквалифицированного повара Градовского, и Еленочку с Лизой, и всех Екиных студентов, и яркую личность Агнессу, и Димочку с его мамой… Автор не забудет усадить Ирак в строгом географическом соответствии с Иран, познакомит Дода Колымажского с Гениной подругой детства Ленкой, представит, как обещал, стилиста Эмму Буркину, и оживит давно почивших героев – ба Ксеню и бабушку Клаву. Автору так хотелось собрать в одном месте всех второстепенных героев, что он не пожалел ни сил, ни времени – и лично стаскивал сюда стулья, и вспомнил про кошку Шарлеманю, которая – видите? – подсовывает голову под знакомую руку Дода – точь-в-точь как машина въезжает под готовый открыться шлагбаум.
Равномерный гул внезапно стих. Величественно покашливая, во главе стола встал во весь рост молодой человек, обладающий настолько располагающей внешностью, что всем присутствующим немедленно захотелось доверить ему все свои секреты, тайны и пин-коды. Дамы хором вздохнули, мужчины уважительно насупились, старушки пустили слезу.
– Кто это? – шёпотом спросил у Колымажского пышный мужчина в ромбовидном галстуке.
– Не знаю, наверное, тоже из второстепенных, – предположил Дод. – Но держится, как главный!
– Дорогие друзья! – обратился молодой человек к присутствующим, одарив Дода зорким взглядом. Голос у оратора тоже был располагающим, можно даже сказать, манящим. Выдержанный баритон, направленное звучание, верные интонации. Эльвина Куксенко, прищурившись, строила план осады, щепка строчила в блокноте, Аделаида Бум слушала молодого человека, прикрыв глаза, – как будто она не на конгрессе второстепенных героев, а на абонементном концерте в филармонии.
– Разрешите представиться: Валентин Оврагов, девятнадцатая глава, вторая часть.
– Шпарит, как по писаному, – шепнула Берта Петровна Марине Карачаевой.
– Собраться здесь – моя идея, – заявил Валентин. – Я уверен, что каждый из нас, включая совсем уж проходных персонажей вроде вас, дорогой друг в ромбовидном галстуке, или вас, госпожа критикесса, испытывает дискомфорт, если не сказать хуже. Давайте скажем хуже: это даже не дискомфорт, а полное и окончательное морально-нравственное неудовлетворение!
Оврагов посмотрел на аудиторию в поисках одобрения и тут же получил его от юноши по фамилии Пе́кин – политиканствующий студент сидел, обняв за древко плакатик, как будто это было не древко, а шея любимой девушки. Валентин заметил, что поле плаката было пустым, как будто бы Пекин ещё не определился с новым жанром деятельности, но в глазах его просыпались сразу и жажда жизни, и жажда испортить жизнь ближнему.
Валентин продолжал свою речь:
– Лично у меня накопились колоссальные претензии к автору. Или к авторам, если их несколько, как нам тут пытаются внушить.
Второстепенные зашумели: те, кто мог, скрипел стульями, те, кому досталась нескрипящая мебель, выражали эмоции иначе. Вовочка сквозь зубы ругалась, а бодрая Мара Винтер явно готовилась отобрать у Валентина слово. Но Оврагов не сдавался:
– Вам, Мара Михайловна, хотя бы дали целую главу! И даже в других нет-нет, да упомянут. Как Пушкина, Ирак, Иран, всю вашу шатию-братию. А меня словно и не было вовсе! Валентин-Валентин, а потом раз – и выгнали прочь. Никто даже не вспомнил.
– Почему же, Валентин? – грудным голосом сказала мама Пушкина. – Я вас, например, очень прекрасно помню.
– О чём вообще речь? – возмутился депутат Горликов. – Молодой человек, кто вы такой? Даже я, народный депутат, удостоился лишь крайне непрезентабельного описания и полного забвения спустя пару глав.
Валентин Оврагов надул губы:
– Видите ли, гражданин депутат, у меня в этом романе был просто блестящий старт! Я должен был взмыть ввысь, как ракета, но меня обошёл даже Пушкин!
Аркадий вскочил с места:
– Почему это «даже»? Мне тоже должны были дать больше места и решить мою проблему с женой.
– А мне, – включилась Юля, – надоели чужие ногти!
– А я не могу найти домработницу!
Герои перебивали друг друга, как невоспитанные школьники, – и вели себя, скажем честно, совсем не по-геройски! Марина перекрикивала Берту, филологическая мама Владимира и Пушкин устроили агрессивную битву цитат, Аделаида Бум схватила Гениного папу за бороду, а секретарши Мертвецова визжали, как целое стадо поросят.
Даже итальянцы включились в общий гул и крик, хотя, мы почти уверены, толстяки не понимают, что здесь вообще происходит. Мешает языковой барьер – такой же прочный, как скамейка под братскими попами.
– Ке ко́за е? Ко́за че? – басит Марио, а остальные братовья возмещают незнание русского при помощи генетического таланта к жестикуляции. Анке и Фридхельм Вальтеры тоже не прочь включиться в общий бунт, но сдерживаются, памятуя, что немецкий язык не предназначен для громких выкриков.
Собака Грусть, кошка Шарлеманя и безымянный кот Еки лают и мяукают во весь голос. Инна Иосифовна Оврагова-Дембицкая рыдает, Эльвина Куксенко падает в обморок, а точнее сказать, прямо в руки доктору Мертвецову – и его девицы разлетаются в стороны, как морские брызги при нырянии кашалота.
Бунт второстепенных героев подходит к наивысшей точке, когда Валентина вдруг смещает почти никому не знакомый тип с осанкой, как у Пизанской башни. У него хрящеватый нос, тонкие, как у Моны Лизы, губы и безвольный подбородок – мечта физиономиста!
– Послушайте! – взывает незнакомец к разбушевавшейся толпе второстепенных, и толпа внимает призыву. Только итальянцы всё ещё, по инерции, жестикулируют – как морально устаревший магнитофон вхолостую перематывает пустую плёнку. – Можете закидать меня стульями, но это я во всём виноват. Это я – автор! Тот Самый Человек!
Потянув себя за ворот какой-то первобытной водолазки, Тот Человек дурашливо раскланивается во все стороны. У Екиных родителей валится под стол очередная бутылка. Эльвина Куксенко пытается упасть в обморок, но на неё никто не обращает внимания, а потому обморок временно откладывается.
– Я был автором, – продолжает Тот Человек, – но неожиданно превратился в героя. Да ещё и второстепенного! Я начал эту историю. Я лично знал и Геню Гималаеву, и Еку, но мне совсем не хотелось очутиться внутри этого романа и на себе испытать, как безжалостно поступают с нами авторы. Теперь я такой же бесправный участник событий, как и вы!
Тот Человек неожиданно разрыдался, и девушки Мертвецова из солидарности залились слезами отборной чистоты и прозрачности.
– Ну, знаете ли! – возмутилась тут милейшая Аида Исааковна и поднялась с места, не много, впрочем, выиграв от этого в росте. У Аиды Исааковны была очаровательная привычка покусывать дужку очков, и она всегда прибегала к ней в минуты сильного волнения. Присутствующие были вынуждены обратить внимание на учительницу; она же смотрела во все глаза на Того Человека.
– Вы, молодой человек, очень напоминаете мне Володю восемьдесят седьмого года выпуска! Тот Володя тоже всегда хотел быть главным везде и сразу – потому ничего толкового из него и не получилось!
«Может, я и есть тот самый Володя?» – подумал отчаявшийся Тот Человек, позабывший о многих важных событиях детства и юности. Аиду Исааковну он, во всяком случае, видел явно не впервые.
– Мой дорогой мальчик, – продолжала Аида Исааковна, не обращая внимания на смятенный вид бывшего автора, – вы молоды, и ещё не осознаёте того, как важны в жизни второстепенные герои! Почти так же, как в литературе! И ещё не известно, кем мы больше дорожим. С главными персонажами жизни или книги всегда куча проблем, а вот второстепенных можно безопасно задвинуть подальше. Сказать небрежно – мол, созвонимся, – и позабыть об их существовании на несколько лет. Или до финальной главы! Зато когда они наконец понадобятся, на их плечи сваливают всё то, что главным делать не с руки…
Аида Исааковна раскраснелась, как девочка, и никак не желала покидать ораторское место – к счастью, у неё была трогательная манера пускать слезу в минуту сильного волнения, и, чтобы не зарыдать, испортив впечатление, учительница сдвинулась в сторону. Ей хлопали.
– Товарищи! – воскликнул депутат Эрик Горликов. – Я не имею права спорить с предыдущим оратором, более того, я с ним почти во всём согласен! Мы, второстепенные, должны объединиться и осознать наконец свою важную роль в истории!
– В этой истории, – уточнила Балконша. Она, между прочим, заметно похудела с момента последнего своего появления в повествовании и, может быть поэтому с вызовом глядела теперь на Аллочку, старательно не узнававшую бывшую работодательницу.
– Мы с вами, товарищи, – продолжил Горликов, – отлично понимаем, что именно сейчас у них там (он махнул рукой куда-то вверх) решается судьба главных героев.
– А точнее, героинь, – поправила Балконша.
– Да, я тоже об этом думала, – включилась в разговор яркая женщина Агнесса. – Автор ещё сам не решил, кто получит главный приз – Ека или Геня?
– Одна из них сейчас сошла с ума, другая же безумна от рождения, – продекламировала филологическая мама Владимира.
– Давайте поможем автору, – предложил Кирилл. – Каждый может сказать своё слово и сделать то, что у него лучше всего получается! Я, например, готов стать спонсором – я и так им всё время становлюсь. У меня постоянно просят денег, я привык.
– Надо проголосовать! – воодушевился Пе́кин.
Второстепенные снова зашумели, Нателла и Мара поспешно переводили сказанное на итальянский и немецкий. «Си, черто», – пропыхтели фрателли, «йа, йа» – кивнули Вальтеры. По столу откуда ни возьмись пошла гулять бумага, в которой каждый теперь ставил свою подпись – в одной или другой графе. Тот Человек написал своё имя дважды, а потом дважды зачеркнул.
– Пожалуйста, любезные господа, не готовьте из меня ничего! – сказал он. – Я сам хорошо готовлю, я лучше готовлю, чем готовлюсь, вы понимаете, что я хочу сказать? Я вам сготовлю превосходный завтрак, если вы меня не приготовите на ужин.
Филологическая мама погрозила сыну пальцем, а потом захлопала в ладоши:
– Владимир! Ты думал, мы не узнаем Толкина?
Тот Человек перевернул лист бумаги лицом вниз, и второстепенные герои начали исчезать со своих мест. Некоторые пытались удержаться, кривили лица, но даже их в конце концов сорвало с места, а потом исчезли и разномастные сиденья, и стол, и сама комната.
Автор остался в одиночестве.
Глава двадцать девятая,
в которой все отправляются в путь
Читатель, мы с вами знакомы долгое время – так что имеем право говорить откровенно, ну, или почти откровенно: как в личных дневниках, рассчитанных на будущее прочтение. (И публикацию.) Обо мне, Гене Гималаевой, вы знаете уже так много всего нужного и ненужного, что я, как кажется, имею право спросить кое-что и у вас.
Скажите, видели ли вы когда-нибудь женские дуэли? Или, скажем проще, драки? Женское сумо, дамский бокс, на худой конец, взаимные пинки в школьной раздевалке?
Мне однажды пришлось забирать после школы чужого мальчика-третьеклассника. В школах я не бывала со времён собственного выпускного, и никогда не задумывалась, скучаю ли я по этой – самой уязвимой, за исключением разве что глубокой старости! – части жизни. Главная задача, которая стояла передо мной в первые дни освобождения из школьного рабства, – как можно скорее позабыть всё, что здесь со мной происходило. Я полагала, что блестяще справилась с этой задачей. Но оказалось, что на самом-то деле я отлично помню о том, что́ такое школа, – с ужасающей чёткостью и таким нагромождением деталей, которое уместно разве что в архитектурном «стиль-бастард».
Я помнила и кислый столовский запах, и куртки на вешалках – как скинутые шкуры, и вот эту властную женщину с волосяной фитюлькой на затылке я тоже почему-то вспомнила, хотя не училась именно в этой школе ни единого дня. Женщина наверняка была завучем, она шла мне навстречу решительно, как лыжник к финишу. Я вжалась в стену – тоже знакомую: крашеную и холодную, как покойник.
Завуч милостиво кивнула каким-то девочкам и скрылась за поворотом, а я двинулась – мелкими перебежками, как в кино про войну, – в тот класс, где меня должен был ждать пресловутый мальчик.
На дверцах шкафчиков – фамилии с именами. Из шкафчика Васильевой Сони торчали изумительно грязные носки. Артём Чугаев запихнул на полку свой спортивный костюм, а сверху положил недоеденный и уже начавший разлагаться банан. Нужный мне мальчик сидел в углу и трясся мелкой, как соль, дрожью.
– Как хорошо, что ты пришла! – сказал он. – Я боюсь девочек, они обещали с нами разобраться.
Мой подопечный указал пальцем в дальний класс, откуда доносились ритмичные удары и вскрикивания – при желании их можно было принять за саундтрек к жестокому мультфильму.
Через секунду из класса вылетела девочка – в кружевном воротничке, съехавшем набок, и ярко-красной кофточке она походила на передового воина инквизиции, – а следом неслась самая настоящая кодла девиц, которые пинали портфель – в воздухе мелькали ноги, как спицы гигантского колеса. Хозяин портфеля шёл за озверевшей шайкой, уже смирившись со своим горем и пытаясь из последних сил принять его с достоинством.
– Пошли скорей, – шептал мой мальчик и тянул меня за руку в сторону раздевалки, но я решила вмешаться.
– Эй! – обратилась я к атаманше, которая лихо вытерла нос кружевным воротничком. – Чем он так провинился?
– Ничем, – сказала дерзкая девчонка. – Просто это Ляхов.
У просто Ляхова в этот момент кончилось терпение, и он заплакал такими огромными слезами, каких не бывает у взрослых людей.
– Вера Петровна идёт! – закричала одна из девочек, и они тут же растворились в пространстве. На горизонте появлялась та самая завуч из коридора – появлялась по частям, как бес. Вначале мы услышали дробный рокот каблуков. Затем нас накрыл с головой тошнотворный запах духов. И наконец мы увидели саму Веру Петровну, надменной валькирией спустившуюся в наш грешный мир.
– Так-так, – завуч неодобрительно глянула в мою сторону. – Опять третий «В». Бесчинствуем, Ляхов?
– Он не… – вякнула было я, но Ляхов вдруг поднял на меня тёмно-синие глаза, в которых читалась просьба: «замолчи». Вера Петровна потребовала дневник, и Ляхов покорно достал его из побитого портфеля. Я увидела этот дневник с собачкой на обложке и, мельком, пенал с картинками, весёлые тетрадки, которые выпускают для каких-то мифических детей из телерекламы, не имеющей ничего общего с реальным детством. Я представила себе, как мама Ляхова покупала все эти милые канцелярские вещички, как складывала их в осквернённый теперь портфель, и мне вдруг стало так горько и больно, как будто это меня пинала в живот злобная стая девчонок.
– Ненавижу девочек, – сказал мне мальчик на выходе из школы. – Они очень больно дерутся.
На выходе из школы компания девиц постарше мутузила одноклассницу, а какие-то парни весело снимали происходящее на телефон. Мутузили девчонку как бы в шутку, но по ходу дела увлеклись.
– Что здесь происходит? – вмешалась чья-то мама, а я сказала мальчику:
– Пойдём быстрей к машине. Так хочется вернуться в комфортный мир взрослых людей…
Именно в тот день я поняла, что не хочу иметь детей.
Дети – наша самая уязвимая часть, беспощадно отсечённая, отдельная… Наверное, это невыносимо, когда твоему ребёнку делают больно, – я не смогу взять на себя такую боль.
Я сижу в кресле самолёта, кресло вместе с самолётом и мною летит в Венецию. В самый последний момент П.Н. поддался на уговоры давнего партнёра Мары Михайловны и решил совместить нашу показательную дуэль с важным гастрофестивалем в Виченце. Я почти уверена, что спонсор Кирилл Сергеевич сделал ставку на Еку – очень уж плотоядно он поглядывал на меня из соседнего ряда. Так смотрят на ещё не зажаренную, но уже ощипанную, приветливо раскинувшую ножки курицу.
Кирилл Сергеевич недавно похудел, и очень этим гордится. Прежде у него были румяные щёки, округлые, как у рубенсовских богинь, бёдра, блестящий, откормленный загривок. Сейчас у него тощие икры в узких джинсах, подростковая мятая рубашечка и лицо в глубоких злых складках. Ошибаются те, кто думает, что худоба – синоним молодости.
Я откидываю кресло, чтобы не видеть Кирилла Сергеевича – теперь его закрывает тёплое, дружеское плечо Ирак, укутанное в мягкий палантин. Ирак делает вид, будто спит, но я знаю, что она в сотый раз прокручивает в голове новую роль секунданта.
Мы с Ирак поехали в Венецию за свой (точнее, за мой) счёт – отказались от спонсорских сребреников Кирилла Сергеевича. В конце концов, дуэль придумала я, и мне не важно, где будет сделан решающий выстрел.
Венеция или Пенчурка – значения не имеет.
Ека, Иран и П.Н. с Аллочкой летят другим рейсом – мы собрались в дорогу так стремительно, что билетов на всех не оказалось.
Я смотрю на часы: моя соперница должна приземлиться с минуты на минуту, нам же – ещё три часа болтаться в воздухе.
Приносят еду, на удивление приличную для этой авиакомпании. У меня – на удивление приличный, учитывая моё состояние, аппетит.
– И все-таки я не понимаю, – говорит Ирак, – как она будет происходить, эта дуэль? До первой крови? А судьи – кто?
Я объясняю – скорее самой себе, чем Ирак, – что назначенная на завтрашнее утро дуэль пройдёт в ресторане близ церкви Санта-Корона. Этот ресторан – один из лучших в городе, кухня там на высочайшем уровне, и, что самое важное, хозяин заведения – личный друг П.Н. Как полезно иметь столько личных друзей! Продукты для дуэлянток закажут с вечера, мы с Екой не имеем права знать об этом наборе – контролировать его будут Аллочка с моей секунданткой Ирак и с Иран-Иудой. П.Н. и Кирилл Сергеевич умчатся на гастрономический фестиваль и пробудут там до поздней ночи. Нас же с Екой накануне дуэли запрут вдвоём в какой-то унылой ресторации в Местре. Я знаю только название – «Ла Белла Венеция».
А вот Ека, не сомневаюсь, знает больше – Италия для неё земля родная, она свободно щебечет по-итальянски и, как утверждают очевидцы, готовит кассату не хуже какой-нибудь маммы.
Добрая Ирак пытается отвлечь меня от грустных мыслей. Она, как и все, считает, что эта дуэль больше смахивает на самоубийство. Книжка, которую моя помощница взяла «почитать в дорогу», делится сведениями о далекой антарктической экспедиции – вот уж не думала, что у Ирак такие странные интересы.
– Участники экспедиции, – говорит Ирак, – закупали продовольствие в лондонском «Хэрродсе»! Смотри, вот полный список: морковь, свёкла, спаржа, цветная капуста, корица, имбирь…
Ирак вдохновенно озвучивает список закупок моряков, отплывших на корабле «Морнинг» в 1903 году, и передо мной, как в хороводе, внезапно появляются все эти продукты. Сельдерей в собственном соку. Луковая мука. Тапиока. Бекон, индейка, свиные отбивные, бычьи хвосты, бараньи котлетки… Утка с зёленым горошком и чёрная смородина. Я вижу утку гораздо чётче, нежели размытую, грязно-серую землю за иллюминатором – вижу и придумываю рецепты, один за другим.
В конце концов, я так долго была лучшей в своём деле! Так долго быть главной героиней и не привыкнуть к этому – кто-нибудь на такое способен?
– Поразительно, сколько всего можно было накупить в 1903 году на две тысячи фунтов! – восхищается Ирак. – Знаешь, те, кто покупал всю эту благодать, отправлялись спасать экспедицию Скотта.
– Спасли?
– Нет, – говорит Ирак, а стюардесса, сама уже одуревшая от собственной улыбки, резко задёргивает шторки – они отделяют наш бизнес-класс от прочих пассажиров. Кирилл Сергеевич побелевшими пальцами пристёгивает ремень безопасности и, кажется, проверяет его на прочность.
– Наш самолёт приступил к снижению, мы прибываем в аэропорт Марко Поло, – сообщает нам стюардесса и отбывает в экономический салон, инструктировать пассажиров-помощников. Вот вы, читатель, знаете, кто такие пассажиры-помощники?
Случайная пухленькая знакомая, с которой мы коротали время в одной из поездок, перелетая, как птицы, из одного порта в другой, искренне пожаловалась мне, что её всегда сажают в хвост самолета. Когда бы она ни явилась на регистрацию, каким бы ни был борт, вердикт всегда один – хвост, и только хвост!
– Почему? – недоумевала пухленькая. Ей и в голову не приходило, что причина единодушия работников воздушных служб – в лишнем весе пассажирки. А вот меня, в тех случаях, когда я не лечу бизнес-классом, обязательно усаживают у аварийного выхода – видимо, у меня очень ответственное лицо. Человека с таким лицом непременно зачисляют в пассажиры-помощники – если, не дай бог, что случится, сидящие рядом с аварийным выходом граждане должны помочь прочим обитателям салона покинуть самолёт. А ещё им можно вольготно вытянуть ноги и наслаждаться своей особой ролью…
Самолёт мягко, по-кошачьи, приземлился, Кирилл Сергеевич трижды осенил себя крестным знамением и отстегнул ремень безопасности, как будто разорвал финишную ленту.
В аэропорту нас ждали две машины – первая забрала Кирилла Сергеевича и Ирак в Виченцу, во вторую сгрузили меня и мой чемоданчик.
– Первый раз в Венеции? – спросил водитель, улыбаясь не хуже гондольера. Английский его был корявым, как пень.
– Бывала и раньше, – скромно ответила я.
– И всегда в Местре?
Ха-ха. Я промолчала, решив, что буду молчать до самого отеля. А вот и он, наверное, – водитель замигал поворотником, прицелившись к неприметному фасаду с бело-синей вывеской. Альберго «Альберта». Рядом, дверь в дверь, – вывеска ресторана «Ла Белла Венеция». Венецией тут разве что пахло – точнее, припахивало. Водорослями и ещё чем-то подгнившим.
Парковаться было негде: вход в ресторан закрывали тесно составленные машины – они были как бусины, нанизанные на нитку, а к отелю на наших глазах подъехала громадная фура и начала крутить своим длинным телом, как отчаявшаяся заработать стриптизёрша.
Водитель хлопнул дверью и выскочил из машины с такой прытью, что я ему даже позавидовала. Мне бы такой запас энергии! Таксист подбежал к водителю фуры, наполовину вылезшему из своей громадины, и начал размахивать руками, описывая при помощи жестов всю свою боль. Из отеля тем временем выскочил симпатичный дядька с тёмными треугольными глазами – и на ходу включился в беседу, тоже скорее при помощи рук, нежели при помощи речевого аппарата. Надо же, а говорят, что северные итальянцы – сдержанные люди!
Я смотрела на них в окно мигающей машины, как в экран телевизора. Итальянское кино. Неореализм.
Наконец эти трое всё же до чего-то дожестикулировались, таксист вернулся в машину победителем, и теперь мы прицеливались занять место фуры. Отъезжать ей помогала целая команда – тот симпатичный дядька, выбежавшая следом за ним растрёпанная женщина и два невозможно жирных гиганта, куривших у чёрного хода в ресторан. Каждый выкладывался по полной – крутил в воздухе пальцами, изображая колёсный ход, подманивал к себе звательными движениями и резко выставлял ладонь с криком: «Баста!» Наконец фура вписалась в узкую улицу, заняв её целиком, как начинка из шпината с сыром – трубочку каннелони. Я с трудом дождалась, пока такси припаркуется, и тут же выскочила из машины. Дядька с треугольными глазами сдул со лба тёмную прядь и улыбнулся так, словно ждал меня целую жизнь.
– Давайте чемодан! – сказал он. Новая серия прощальных переговоров с частословием и агрессивной жестикуляцией, и таксист наконец уехал. Жирняки вперевалочку вернулись в ресторан, растрёпанная женщина заняла место за конторкой: она была портье, а симпатичный дядька – хозяином отеля «Альберта». Отель – это, впрочем, громко сказано; здесь было от силы пять комнат. И в одной из них разместилось мировое зло.
– Ваша подруга обедает, – прочитал мои мысли директор. – А меня зовут Луиджи, – зачем-то добавил он.
Я внесла чемодан в комнату, лениво отбиваясь от Луиджи, готового предложить к использованию сразу всё – физическую силу, мужской пыл и веницейскую утончённость, которой у него было хоть отбавляй. Редкий случай, Луиджи был именно в моём вкусе – но я думала об этом вполсилы, как если бы увидела в витрине идеально подходящие, но в данный момент совсем не нужные мне туфли. Дверь комнаты наконец захлопнулась, за окном опять курили повара – или кто они? – из «Ла Белла Венеция». Парадный вход в ресторацию как на ладони – мечта снайпера. (И эти толстяки тоже – его мечта.)
Я не хотела обедать вместе с Екой, но надо помнить, что итальянские рестораны – как, впрочем, и французские – работают в строгом соответствии указанным часам. Через тридцать минут обеденное время, по мнению толстунов, закончится, и все, включая кухню, пойдут отдыхать до вечера.
А я, несмотря на самолётное кормление, была нечеловечески голодной.
Луиджи метался из ресторана в отель со скоростью Фигаро, но успевал на ходу подмигнуть мне красивым треугольным глазом. Туфли, вы прекрасны, но у меня нет ни времени, ни денег! И ходить в таких некуда. И вообще, у меня завтра – решающий бой!
В ресторане было тепло и накурено, как в районном отделении милиции. Столики заняты все, кроме одного, – за ним сидела слегка ошарашенная Ека.
– Геня! – она замахала рукой с таким радостным видом, как будто мы с ней не драться сюда приехали, а разделить совместное счастливое будущее.
Вокруг не было ни одного свободного стульчика. Заведение считалось лучшим в Местре – сюда приезжали даже из соседних городков, им не брезговали и венецианцы. А Ека махала мне с такой яростью, как будто всерьез думала, что я её не вижу – с этими её белыми червяками волос, в этой красной, как карпаччо, кофточке.
Карпаччо лежало и у Еки в тарелке – сквозь тонкие мясные ленты просвечивал тарелочный фарфор. Я посмотрела на толстых братьев с уважением – точнее, на одного из них, который присутствовал в зале и сидел на возвышении, представлявшем собой нечто среднее между столом для кассы и конторкой.
Ека подцепила вилкой прозрачную ленточку мяса и отправила её в рот. Она жевала с таким наслаждением, что официант, ковыляющий мимо на своих толстых лапах, притормозил и залюбовался – как той картиной, которую видишь изо дня в день, но лишь изредка задумываешься о том, насколько же она всё-таки прекрасна.
Раз уж всё равно пришлось останавливаться, толстяк подтолкнул меня к Екиному столику и я, не удержавшись, шлёпнулась на стул. Ека засмеялась, а ко мне прилетела раскрытая карта меню – более грязной и захватанной я в жизни не видела!
– Здесь всё на итальянском, – сказала Ека. – Могу перевести.
– Да я уж как-нибудь сама справлюсь. Я французский знаю.
– Французы! – возмутилась Ека. Белые толстые локоны у неё на голове угрожающе зашевелились. – Знаешь, что они сварили короля?
Я пыталась читать меню, но образ варёного короля сбил меня с толку. И с панталыку.
– Мерлан, дикая утка с фасолью, ризотто с молодым горошком либо с цикорием, спагетти с чернилами каракатицы, конина, морские улитки, разварная ослятина, тефтельки из бычьих мозгов с сыром, индейка в гранатовом соусе, артишоки с креветками, побеги хмеля с маслом и сырное ассорти. Сыр великолепный – «Азиаго», «Монте Веронезе», пьяный сыр и – меровьозо! – «Морлакко дель Граппа»! Пирожные с доломитовым мёдом и резентин. Это, если ты не знаешь, граппа, налитая в чашечку из-под выпитого кофе.
Ека с такой гордостью читала меню, как будто сама его составляла. Но список и вправду впечатлял. За исключением чернил каракатицы, которые я не воспринимаю ни на вкус, ни на вид, ни на запах.
Я заказала утку. Люблю утку! И ризотто с горошком. Люблю ризотто! И артишоки, и побеги хмеля, разумеется, тоже, правда, я ещё не знала, люблю их или нет.
Толстяк, прикатившийся к столу, забрал у меня карту меню и вытер ею пот со лба. Многообещающе!
– А что там было с королём? – спросила я. Не то чтобы мне хотелось разговаривать с Екой и налаживать отношения за счёт этого несчастного варёного короля. Всё было проще – я на самом деле хотела знать, почему французы его сварили.
– Король был английским. Генрих Пятый Ланкастер, красавец мужчина, отважный воин и видный полководец Столетней войны. Громил французов, как зайчиков, потом стал наследником их короля и получил руку его дочери Екатерины. Брат Екатерины договора не признал и начал воевать с Генрихом заново – вот во время этой войны Генрих и умер. Но не на поле боя, а от дизентерии, в Венсеннском замке. Чтобы довезти тело короля до Англии, подданным пришлось сварить его в котле дворцовой кухни.
(На этом месте толстяк принёс мне побеги хмеля. Что сказать – оказывается, я их тоже люблю!)
– Значит, варили его не французы, – сказала я. – Но лучше бы они его засолили – так было бы надёжнее. Скажи, а откуда ты это знаешь?
Ека скромно пожала плечиками:
– Я, как наш П.Н., интересуюсь самыми разными вещами. Кстати, тебе не звонили? Про завтра – ничего не говорили?
Змея наконец вспомнила о том, что она – змея.
Мне ничего не говорили про завтра – более того, телефоны были выключены у всего десанта. П.Н. предавался счастью жизни на фестивале, это понятно. Но почему молчала Ирак? Пушкин? Аллочка?
– Иран недоступна уже больше двух часов! – сказала Ека, когда мы доедали десерт – сыры были восхитительны, как надежда, и нежны, как воспоминания. – Как думаешь, мы можем съездить в Венецию, или будем сидеть на месте, как обещали?
– Конечно, будем сидеть и ждать. Мы ради этого приехали.
Ека вздохнула.
– Тоска! Что ж, пойду к себе в номер, может быть, удастся поспать…
– Совсем не обязательно рассказывать мне о том, чем ты будешь заниматься. Достаточно просто быть на месте. И всё.
– Тогда увидимся здесь вечером. Тебя не затруднит? – Она бросила на стол стоевровую бумажку и поднялась. – Кстати, мы живём на одном этаже.
Она уходила, а толстяки и клиенты смотрели ей вслед. Я почему-то вспомнила о том, что лисы всегда держат себя в форме и никогда не наедаются до отвала, даже если у них есть такая возможность. Вот и сытая Ека двигалась не как женщина, набитая едой, а как полуголодная лисица.
Странное заведение эта «Белла Венеция», думала я спустя полчаса, возвращаясь к себе в комнату. Если бы не первоклассная кухня толстяков, я первая написала бы письмо в муниципалитет Местре с жалобой на антисанитарию и полное отсутствие этики. Да ещё и магнитный ключ никак не срабатывает, дверь не открывается…
Из соседнего со мной номера выскользнула тень и внезапно превратилась в Луиджи. Луиджи был явно смущён нашей встречей и смотрел опасливо, как оленёнок, случайно вышедший на поляну к юным натуралистам.
«Расслабься, Луиджи. Мне нет никакого дела до твоих половых злодеяний, даже если ты вышел из комнаты Еки. А быстро вы, однако, управились!»
– Позвольте, я помогу вам, – любезно предложил Луиджи, сверкая треугольными глазами. Он моментально открыл дверь, и меня вдруг с головой накрыло одиночеством.
Скорей бы всё это закончилось!
Глава тридцатая
и последняя, в которой будут приготовлены все блюда
Ресторан держат четыре брата. Толстые, как столовские баки, у которых по чистой случайности выросли ноги, они производят столько шума и криков, что лично я никогда не стала бы есть в этом ресторане, если бы не одно «но»: здесь просто восхитительная кухня!
Я пытаюсь представить себе женщину, родившую этих четырёх небритых пупсов с явной алкогольной зависимостью. Должно быть, она ими гордится, – а, так вот же она! Выглядывает с кухни, руки в боки! Мамма миа! Вот кто на самом деле держит ресторан и всех четырёх братьев – в ежовых рукавицах! Она полна до краёв силой жизни и собственной правоты. Она в клетчатом фартуке и чёрной кофте с дерзким декольте. Она поднимает над головой ополовиненную бутыль с вином и кричит:
– Альфонсо!
…Мы переносимся на тридцать лет назад и видим кудрявого карапуза, склонившегося над кастрюлями. В одной надо постоянно крутить ложкой, чтобы ризотто не пригорело, впитывая бульон. В другой кастрюльке готовится паннакотта – карапузу строго-настрого наказано медленно рисовать на дне восьмёрки, чтобы желатин растворился, а сливки – пер ин номе ди Дио! – не начали вдруг кипеть.
Карапузу плевать и на ризотто, и на паннакотту – ему хочется гонять с друзьями мяч у старой церкви, но сегодня мать оставила кухню на детей. Она говорит, что уже на части разрывается, что живёт на износ, что сил у неё осталось только дойти до могилы, – и делает при этом такой страшный вжик ладонью под горло, что у Альфонсо холодеет в животе.
Отец умер, когда младшему, Джанлуке, исполнилось три месяца – Санта Аннунциата! Тянуть четырёх пацанов и старую тратторию в Местре – и вы серьёзно считаете, что это у вас проблемы?
Аннунциата готовит целыми днями, чтобы в траттории был народ, а в семье деньги, и ей нужны помощники – поэтому Альфонсо колдует над ризотто, Марио лепит равиоли, и даже маленький Джанлука помогает – таскает пустые тарелки из зала в кухню. Массимо уже получил длинный фартук официанта, он работает по-настоящему, как взрослый.
Карапуз думает о футболе, а кухню тем временем заполняет едкий чад сгоревшего риса, и сливки возмущённо кипят…
– Альфонсо! – вопит Аннунциата, открывая дверь в кухню. Малыш поднимает на неё чёрные, полные горьких слёз глаза…
Аннунциата суёт бутылку под нос взрослому сыну и потом устало лепит ему ладонью по затылку. Что с него взять? Обуза, но любимая. Мать ловит мой любопытный взгляд и тут же отзывается гордой улыбкой.
– Сколько нам ещё здесь сидеть? – некстати спрашивает Геня и рвёт в мелкие клочья бумажную салфетку с красно-бело-зелёным триколором. Геня так долго была телезвездой канала «Есть» и главной героиней этой истории, что даже не чувствует, насколько некстати она всё делает. Мне нравилось сочинять детство для Альфонсо, а теперь надо возвращаться в реальность, увенчанную пыльной муранской люстрой, и думать, куда все пропали и почему так и не состоялась назначенная дуэль.
Мы живём в отеле «Альберта» вот уже четыре дня. Мы – это Евгения Ермолаева, некогда широко известная под инфантильным псевдонимом Геня Гималаева, и я, Ека Парусинская. Нет нужды объяснять, кто такая Ека Парусинская, – меня знают все, у кого есть телевизор. Правда, телевизоры вместе с моими бесценными зрителями остались в нашем городе, а я торчу в убогой гостиничке в Местре.
Телефоны П.Н., Аллочки, Юрика, моей верной дуры Иран и прочих болельщиков состязания (назначенного на позавчера!) по-прежнему находятся вне зоны обслуживания. В Россию мы дозвониться не можем, и что случилось – не понимаем. Разумеется, я предложила Гене временное перемирие, и она была вынуждена согласиться. В роли белого флага выступила скатерть из ресторана братьев Кальцони – пора уже раскрыть инкогнито наших толстяков. Джанлука явно симпатизирует Гене; что же касается меня, то я стала причиной раздора между Альфонсо и Марио. По ночам меня навещает шустрый портье Луиджи, и я с трудом представляю, как буду разбираться со всем этим малинником, когда придёт пора выложить козырную карту.
Предъявить её я собиралась в день дуэли, чтобы окончательно вывести из себя Геню и убрать её наконец с дороги, как убирают поваленную сосну. Но поскольку день дуэли откладывается, пришлось спрятать моего туза в Венеции – в отеле близ палаццо Пападополи. Я завидую ему от всей души – с утра до вечера он бродит по Венеции, пока мы с Геней безвылазно торчим в отеле «Альберта», покидая его только ради трапез в ресторане толстяков. Таков уговор – сидим и ждём распоряжений! Однажды нам обязательно позвонят – надеюсь, что уже через несколько часов раздастся звонок, и П.Н. закричит: почему мы до сих пор не в Виченце?
Может быть, позвонит холодная рыба Аллочка, и будет цедить слова одно за другим? Я согласна даже на Аллочку.
Российские номера телеканала «Есть!» молчат. Я слышу протяжные гудки, как будто в трубке воет специально выдрессированный для этой цели волк.
То, что с нами происходит, всё больше напоминает роман, автор которого утратил всякий интерес к сочинению – и никак не может его завершить. Будто выдохшийся (как вариант – особо одарённый) любовник, он снова и снова подводит сюжет к финалу, но всякий раз оставляет главу неоконченной.
А мне очень важен финал – я потратила столько сил и слов, чтобы разговаривать с читателем на правах главной героини, и вдруг у меня отбирают честно заслуженные лавры! Или, хуже того, бросают их в суп.
Теперь я и сама не верю, что всё случившееся со мной происходило на самом деле. А что, если не было долгих лет учёбы, рабства на кухнях знаменитых ресторанов, моих успехов?
– А вдруг нам только кажется, что всё это – правда? – спрашивает Геня. Ей некого больше спрашивать, но и мне нечего ей ответить. – Вдруг мы обе сошли с ума, и это не итальянская траттория в Местре, а психиатрическая клиника?
Что, если в самом деле нет и не было нашего великого босса П.Н., который в самолёте жаловался мне на свою матушку? Рассказывал, что Берта Петровна впала в детство – и вместе с детством в ней вдруг пробудилось кокетство. С каким-то стариканом, ошибшимся квартирой, Берта щебетала напропалую, и сказала зачем-то, что ей всего шестьдесят один. Я вижу перед собой лицо П.Н., но что, если его не существует, и мы увязли в чужой выдумке?
Внезапно я слышу (или вспоминаю) знакомый женский голос, едкий, как аммиак: «Правдиво только то, что всё излагаемое мною – вымысел».
Я приняла решение.
Я не собираюсь сидеть и покорно ждать, пока у автора этой истории достанет времени и фантазии дописать её. Я сама разберусь в том, что со мной происходит, пусть даже это и не реальная жизнь. Другой у меня всё равно нет! Проверить, выдумка это или реальность, можно единственным способом: предложить Аннунциате помощь на кухне. Потому что теперь я сомневаюсь во всём – даже в том, что на самом деле умею готовить.
– Слушай, – говорит Геня, – может, они попали в какую-нибудь жуткую аварию? Или их всех похитили?
Теперь, читатель, вы понимаете, почему Гене пришлось уступить мне место главной героини? Она не способна бороться с испытаниями – трудности просто подминают её под себя. Таким людям, как Геня, требуется какой-нибудь костыль, обходиться собственными силами они не могут.
Аннунциата бланширует помидоры, в кастрюле варится свежая паста, и повариха каждые полминуты отслеживает её состояние. Странно, что при виде уютной толстухи с чёрными усиками в уголках всё ещё румяных губ я вспоминаю поминутные рейтинги и заседания продюсерского совета.
– И ваши творческие думы в душевной зреют глубине, – декламирую я любимую строчку Пушкина. Аннунциата поднимает глаза, и усики разъезжаются в стороны, как ворота. Она давно присматривается ко мне – я стала бы такой славной невесткой! Пусть даже русская, это не беда!
Пришло время удивить Аннунциату и вернуть уверенность в себе, которая подрастерялась на ежедневной пятиметровой дороге из отеля «Альберта» в ресторан «Ла Белла Венеция». Надеюсь, что Геня стоит в дверях и наблюдает, бедняжка, мой триумф.
Я мою руки и стряхиваю с них воду, не дожидаясь, пока Джанлука прикосолапит ко мне с полотенцем. Аннунциата готовит пиццу с цветками цуккини и кивает в сторону холодильников. Аллора, Катарина, приготовь нам что-нибудь русское.
Я вытащила сетку с картофелем и вспомнила о драниках. Не самое изысканное блюдо, зато его все любят. Запечённая рулька с чесноком. На гарнир – варёная кукуруза с растопленным маслом – лёгкий американский акцент в русском языке. На десерт – шаньги с творогом. Толстяки крепко уснут после такого ужина! Странно, что в пальцах нет привычного покалывания – и нет той страсти, которая всегда охватывает меня на кухне. Картофель – это всего лишь картофель, чистить его – нудная работа, от которой я уже отвыкла: телевидение не терпит лишних подробностей, их безжалостно выбрасывают, как скучные картофельные очистки.
Позвать Геню в помощницы? В дверях её нет, за столиком – тоже. Зато в кухню прибежали все братья, кроме неподъёмного Массимо, а с ними – шустрый Луиджи. Все цокают языками и восхищаются – ленточка, спускающаяся из-под ножа, походит на ожерелье. Её, честное слово, будет жаль выбросить.
Геня выходит из вагона поезда на станции «Венеция – Санта-Лючия».
Самый странный город на земле (а точнее, на воде) находился в десяти минутах езды, но она послушно сидела в дешёвеньком отеле в Местре.
В толпе туристов Геня переходит мост на пьяццале Рома. Дикий детский крик разрезает толпу – маленькая девочка так сокрушительно плачет, что Геня Гималаева наклоняется к ней:
– Что случилось?
Девочка кричит ещё сильнее, и тут на мосту появляется мама – рыжая, худая, злая. Она хотела наказать дочь за капризы – и нечего цепляться к чужим детям. Мама – русская, говорит: «Пойдем, Анжелика!» – и уводит рыдающую девочку к другим ангелам Венеции.
«Всё же, почему у меня нет детей? – думает Геня. – И почему некоторые истории так сложно заканчивать?»
Венеция не отвечает, лишь изредка вспоёт шальным гондольером. «Санта-Лючия, Санта-Лючия…»
«К середине жизни, – думает Геня, – впадаешь в самодовольство. Невозможно жить – и не хвалить себя! А если ты писатель, и всерьёз считаешь умение складывать слова талантом, то без самохвальства попросту умрёшь. Чужие похвалы в хозяйстве тоже пригодятся, но разве можно их сравнить с высоким чувством любви к себе? А ведь на целый роман приходится порой лишь одна хорошая строчка: “Запретный поп сладок”. И этого достаточно, чтобы читать книгу – раскопаешь лишнее, улыбнёшься верному слову и получишь, что хотел».
В веницейском небе – инверсионный след самолёта. Белая лыжня в голубых воздушных снегах. Геня уходит всё дальше от Местре и Еки, от кухни и телевидения – это и есть благородное расстояние, соответствующее дуэльным правилам.
Аромат Венеции похож на запах тела престарелой красотки, всё ещё не разуверившейся в своих силах. Лживые комплименты и умелые косметологи держат её на поверхности – лишь бы не утонуть в тухлой воде, куда, впрочем, так или иначе ведут все дороги. На дне грязных каналов горбятся старые кресла, киснут выскользнувшие из рук фотоаппараты и потерянные кольца. Венеция пахнет напомаженной старостью, медлящей пред последней дверью, – но к этому аромату вдруг добавляется новый. Так пахнет залежавшийся шоколад.
У Гени лисий нюх, она чувствует запах за секунду до того, как он появится. Стареющий шоколад, металлический привкус фольги, горькая память о сладком прошлом. Навстречу Гене идет Тот Самый Человек, переодевшийся в итальянца, – у него длинный шарф, тёмные очки и чистые ботинки. А запах – прежний, и Гене он всё так же нравится.
Тот Человек проходит мимо, изображая, что не узнал Евгению. Однажды в пляжной библиотеке, месте ссылки для прочитанных томов со всего мира, Геня обнаружила свою собственную книгу с автографом. Похожее чувство! Все чувства в конце концов похожи.
Ека заканчивает приготовление русского обеда – получилось всё, кроме драников, в которые по какому-то жуткому недоразумению угодила гнилая картошка. На вкус эти драники – как сок из больного зуба, к тому же чужого. Она снова чистит картофель, ленточки кожуры гипнотизируют зрителей. Ека упорна и упряма, как Колумб, на этом свете она будет лучшей. Она победила в этой дуэли – неважно, состоялась она в реальности, или всё это нам только приснилось.
Геня выходит к небольшой площади, где красуется очередной вечнозелёный памятник. Неизбежный мужик на коне, с живой чайкой на шляпе. Ей нечего делать в Венеции – старой и душной, как чужая бабушка.
Все блюда готовы: Ека ставит на стол тяжёлую тарелку с золотистыми драниками. Соус из копчёной скумбрии, хрена и сливок. Слезливая рулька и лоснящаяся, жаркая кукуруза. От шанежек идёт такой аромат, что посетители берут кухню штурмом.
Ека одерживает сокрушительную победу и получает сразу четыре предложения руки и сердца от Марио, Джанлуки, Альфонсо и Луиджи. Массимо не смог вымолвить ни слова, от его имени высказывается Аннунциата. Ека хохочет до слёз, но даже сквозь смех и слёзы смотрит на часы и проверяет телефон.
Геня забирает из номера вещи, оплачивает счёт при помощи растрёпанной помощницы Луиджи и садится в первый поезд до аэропорта.
Билет в один конец до Москвы. В столице можно будет сделать кратковременный привал, сходить в музей или просто покататься в метро по кольцевой линии, просыпаясь от громких объявлений и резких торможений.
Геня сидит у выхода на посадку – и думает: «Вот он, выход!» За окном остывает приземлившийся самолёт, похожий на усталую птицу. Выход – в очередной раз начать новую жизнь, или вернуться к старой.
Через пятнадцать минут начнётся посадка. В кино сюда непременно ворвался бы главный герой, чтобы найти потерянное счастье и отправиться вместе с ним на штурм счастливого будущего.
Мимо идет тёмно-синяя стюардесса, юная со спины, немолодая лицом.
Рядом с Геней сидит приятная дама и смотрит на неё восхищённым взглядом.
Вообще-то Геня привыкла к таким взглядам – дебют восторга разыгрывается у всех поклонников одинаково. Дама, которая восхищается Геней, – само очарование. Будь Геня мужчиной, она закатала бы её в ковёр (удостоверившись вначале, что ковёр этот надлежащим образом вычищен и вообще шелковист) и увезла бы в далёкую страну, где жители в состоянии ценить красоту женщин, ковров и необычных поступков. Геня любуется пухлыми щёчками, аккуратно выросшим носиком и губами, которые вырезаны как будто фигурными ножницами. Культурный злой человек заметил бы, что в этой милой внешности присутствует что-то субреточье, белошвейкино, но, даже если здесь не гуляли голубые крови, всё равно дама получилась милой и особенной, как портрет на старинной шкатулке (маленькая Геня считала, что эту девочку на шкатулке зовут Верочкой).
– Вера Ивановна, – представляется дама, а Гене представляется, что шкатулка внезапно заговорила. У этой Верочки Ивановны завидно белые зубки. – Вы извините, что я так таращусь…
– Да ладно, – машет рукой Геня, – я привыкла.
– Конечно, конечно, – Верочка Ивановна вспыхивает и становится похожа на розу. – Теперь глупо спрашивать… Конечно же, это вы – Евгения Ермолаева?
Геня так редко слышит своё настоящее имя, что вначале не понимает, в чём дело. Оказывается, Верочка Ивановна не из компании телевизионных поклонниц, она по другому ведомству. Она открывает свою стёганую (прелестную!) сумочку и достаёт из неё вусмерть зачитанный роман «Больное». С переплёта на Геню с вызовом смотрит девушка, почти не умевшая готовить.
Верочка Ивановна с благоговением сличает фото с оригиналом.
– Да, это вы! Это вы! Боже, как я счастлива!
Она смеётся неожиданно гулким, не по формату смехом и суёт книжку Гене в руки:
– Пожалуйста, подпишите! Мне ваша книга жизнь спасла!
– Не вижу следа от пули, – обескураженно шутит Геня. Раздается новый заряд гулкого смеха.
– Я её знаю наизусть, – говорит Верочка Ивановна и вдруг начинает цитировать по памяти давным-давно написанные и забытые Геней строки. Фоном звучит глас невидимой женщины, приглашающей пассажиров, вылетающих в Москву, пройти на посадку.
– Я хочу спросить, – щебечет Верочка Ивановна, поднимаясь с места и оказываясь значительно меньше ростом, чем предполагалось: – а почему вы больше не пишете? Так и не вышло больше ни одной книги, а ведь я так ждала.
Она смотрит с упрёком, и у Гени вдруг начинает дёргаться глаз, и вместо посадочного талона она предъявляет стюардессам свой мобильник.
Место Верочки Ивановны – в первых рядах, а Геня, как всегда, сидит поближе к выходу. Она пристёгивает ремень безопасности, выслушивает лекцию про кислородные маски и откидывается в кресле, забыв о том, что нужно привести его спинку в вертикальное положение.
Когда самолёт готов к взлёту, из Гениной сумки доносится громкий вопль телефона. Остап Бендер поёт свою вечную песню.
– Все электронные устройства должны быть выключены! – шипит Генина соседка. Геня отключает телефон, достаёт из сумки блокнот и пишет первую строчку:
«Ресторан держат четыре брата».
Геня пишет, соседка мелко крестится – словно вышивает в воздухе, а самолёт взлетает в облака.
Эпилог
Павел Николаевич Дворянцев сидел за столиком итальянского ресторана «Ла Белла Венеция» и осмыслял поданное ему блюдо. Дорада с картофельным пюре. Блюдо настолько простое, что над ним хотелось основательно поразмыслить. Рыба была подана без единой косточки – как будто такой и родилась, и плавала, и угодила на кухонный стол к поварам.
Вот интересно, думал Павел Николаевич, почему повара в детских сказках всегда выглядят злодеями? Жуткие дядьки в огромных колпаках, с наточенными ножами и зверскими улыбками…
Павел Николаевич был начисто лишён популярного гурманского заблуждения считать лучшими поварами мужчин. Пускай среди великих кулинаров и в самом деле редки женские имена, на кухне, по мнению Павла Николаевича, половая принадлежность никакой роли не играет. Посмотрите на синьору Аннунциату – как это она, с её толстыми коряжистыми пальцами, умудрилась вытащить из дорады все кости до единой? Теперь этот сочный шмат – не пересушенный и не сырой, а совершенно верный, как единственно правильный ответ в задаче, – лежит на подогретой тарелке; в сердцевине он заметно приподнят и напоминает в силу этого палатку. Под сводами «палатки» – трепещите, Павел Николаевич! – греются три тонких артишоковых ломтика, выдержанных в оливковом масле и самую чуточку сдобренных мёдом. Павел Николаевич говорит вначале «м-м-м», а затем «о-о-о», а к столу спешит Джанлука с фарфоровой плошкой, доверху полной призрачно-нежным, как облако, картофельным пюре.
Напротив Павла Николаевича сидит Аллочка Рыбакова в сером пиджаке и громко читает вслух рецепты из итальянской книжки:
– Возьмите хорошую грудинку, надрежьте её и раскройте кусок мяса, как книгу…
За соседним столиком с аппетитом едят паннакотту Иран, Ирак и Кирилл Сергеевич.
– Потрясающая паннакотта, – восторгается Кирилл Сергеевич, – совсем не жирная! Странно, что эти парни при таком-то питании выглядят как жертвы гамбургера.
– Наследственность, – вздыхает Ирак. Иран угрюмо косится в сторону кухни.
– Если бы мне доверили закончить историю, – говорит она, – я бы придерживалась канонов жанра. В финале у меня была бы мощная кухонная схватка героинь, удары сковородками и падение в торт лицом. Потом победили бы дружба и страсть к профессии, а читатель испытал бы заслуженный катарсис.
– А если б я была царица, – вмешивается Аркадий Пушкин, – я бы вообще не стала… то есть, не стал бы устраивать итальянское путешествие. Я бы устроил дуэль в родных декорациях, запросто!
– А я бы, – улыбается Мара Михайловна, – взяла в главные героини не Еку с Геней, а себя и Берту Петровну! Вот был бы всем финалам финал! Старая лошадь борозды не портит, и, если научить её новым трюкам…
– Хороший финал – это как хороший десерт, – говорит Юрик Карачаев своему визави – Денису Мертвецову, непонятно каким ветром унесённому в Местре. Юрик говорит слишком громко, и Денис Григорьевич морщится гармошкой. – Некоторые люди вообще не мастера по финалам. У них любой обед – как прерванный акт.
– Они пишут, как сказал бы мастер, регрессивные и разветвлённые романы, – подхватывает тему Владимир, – и ссылают лишних героев на вечное поселение в Местре.
– Нас правда сослали! – говорит Мара Михайловна словно бы с обидой, но на самом деле глаза её поблёскивают довольно, как у сытой свинки. – Избавились, как от просроченных ингредиентов!
– Спасибо хоть место выбрали приличное, – язвит Пушкин и тут же вдохновенно декламирует: – Вновь я посетил…
С кухни выходит Ека в белоснежном халате и высоком шефском колпаке.
Она несёт кремовый торт в виде женской головы.
– Саломея, – шутит образованная мама Владимира, – с головой Юдифи.
– Аллочка, – командует Ека, – помоги-ка мне разрезать торт.
– Может, ещё и состирнуть по-быстрому? – сердится Аллочка, но всё-таки подтягивает к локтям рукава серого пиджачка.
– Нет, ну нам ведь правда повезло с местом, – уговаривает всех Берта Петровна. – И Венеция совсем рядом – с ума сошли жаловаться? Подождём, может быть, автор про нас однажды вспомнит…
– Жаль, что на роль автора брали только одного, – говорит Ека, – и я до сих пор не понимаю, почему не утвердили меня. Из меня получился бы такой шикарный автор! Я бы ни за что не позволила таким людям, как вы, Павел Николаевич, ждать у моря погоды. И готовлю я намного лучше, чем Геня!
– Готовить мы все умеем, – замечает Гриша Малодубов, – а вот книги писать…
Павел Николаевич решительно стучит ножом по бокалу. С кухни бегут все четыре толстяка с мамой Аннунциатой.
– У меня родился тост, – говорит Павел Николаевич. Сейчас он особенно похож на человека, которому только что вкололи сыворотку правды. – Если у тебя есть дар – пусть даже это всего лишь дар есть, – его нельзя потерять. Да будем есть!
– И будем ждать! – отзываются герои застольного труда.
В окна стучится дождь.
Торт разрезан, Еке достался левый глаз кремовой женщины. Мара Михайловна отхватила себе сразу и нос, и губы.
За окном появляется незнакомая фигура в длинном платье.
– Священник? – спрашивает Ека. – Запретный поп?
– Новая героиня! – утверждает Юрик.
– Новая книга, – хлопает в ладоши Берта Петровна.
Все замерли, никто не жуёт.
Кремовый, шоколадно-карий глаз оплывает в тарелке.
Сейчас незнакомка откроет дверь и стряхнёт капли с зонта.









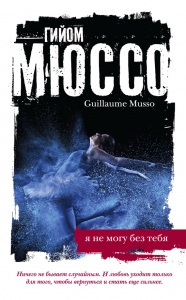
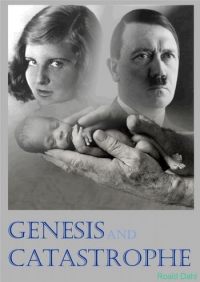

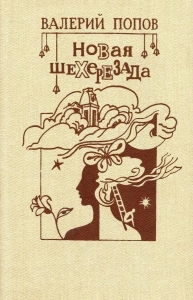
Комментарии к книге «Есть!», Анна Александровна Матвеева
Всего 0 комментариев