Лори Холс Андерсон Говори
Посвящается Сэнди Бернштейн, помогшей мне обрести голос, а также моему мужу Грегу, который слушает
* * *
Потрясающий роман о подростке. Метаморфоза героини тронет и вдохновит читателя.
Publishers WeeklyГероиня рассказывает о своем прошлом и настоящем с горькой иронией. Ее саркастический взгляд на вещи, честность, смелость и ее победа в финале запомнятся надолго.
BooklistЗахватывающий сюжет словно сошел с первых газетных полос. Эта книга берет в плен и не отпускает.
Kirkus Reviews* * *
Дорогие друзья!
Двенадцать лет? Неужели роман «Говори» был опубликован двенадцать лет назад?
Просто невероятно!
Конечно, после выхода книги я успела вырастить четверых детей. И три раза сменить местожительство. И написать шесть романов. И у меня на лице появились новые морщины, а спина с годами слегка закостенела. Но двенадцать лет? Не может быть!
Этого просто не может быть, потому что в глубине души я чувствую себя четырнадцатилетней. Я прекрасно помню, как меня мучили те же страхи, что и Мелинду. И я даже испытала натуральный шок, когда посмотрела на указанный в моих водительских правах год рождения. Помню и волнение, и тревогу, и смущение. Помню, каково это, когда тебе затыкают рот.
Так же, как и многие из вас.
За прошедшее десятилетие о своем романе я поговорила более чем с полумиллионом старшеклассников. И потеряла счет прочитанным письмам. А сколько слез было пролито у меня на груди теми, кто узнал себя в моей Мелинде! Вы изголодались по возможности говорить. И вам просто нужны взрослые, которые были бы готовы вас выслушать.
И мне хочется верить, что роман «Говори» в какой-то степени помогает вам обрести свой собственный голос. Но моя книга — это всего-навсего инструмент. Настоящие герои — те из вас, кто смог заглянуть в свою душу, преодолев страх, стыд, депрессию, ярость, и найти в себе смелость рассказать свою историю. И я вас всех за это глубоко уважаю.
В своей книге «Сердце женщины» Майя Анджелоу писала: «Если вам повезет, то одна-единственная фантазия может в корне изменить миллион реальностей».
Мне чрезвычайно повезло. Эта книга помогла целому поколению читателей сделать несколько шагов вперед по долгой дороге во взрослую жизнь. А вы, в свою очередь, помогаете мне на моем пути. Я счастливица.
И пусть у всех у вас хватит смелости, чтобы говорить.
Слушайте
Вы пишете нам
из Хьюстона, Бруклина, Пеории, Рая, Нью-Йорка, Лос-Анджелеса, округа Колумбия, со всей территории США на мой почтовый ящик,
Мой Space Face
Book
Живой журнал шепотов лучших друзей,
Сто тысяч доверительных шепотов Мелинде и
Мне.
Вы:
Меня тоже изнасиловали
я подверглась сексуальному нападению в седьмом классе,
в десятом классе, летом после выпуска,
на вечеринке
мне было 16
мне было 14
мне было 5, и он делал это в течение трех лет
я любила его
я даже не знала его.
Он был братом моей лучшей подруги,
моим дедушкой, отцом, маминым бойфрендом,
моим парнем
моим двоюродным братом
моим тренером
в тот вечер мы впервые встретились и…
четыре парня делали это по очереди, и…
я мальчик, но это случилось и со мной, и…
…Я забеременела и отдала свою дочь приемным родителям…
С вами такое тоже случалось?
А с вами?
Вы:
Меня не изнасиловали, но
мой папа пьет, но
я ненавижу говорить, но
моего брата застрелили, но
я изгой, но
мои родители разошлись, но
я не принадлежу ни к какой группировке, но
мы потеряли наш дом, но
у меня есть секреты, которые я храню вот уже семь лет,
и я режу
себя мои друзья режут себя
мы все режем режем режем
чтобы избавиться от душевной боли
…мой пятилетний двоюродный брат подвергся сексуальному насилию, и теперь он начинает вести себя агрессивно…
у вас были мысли о самоубийстве?
вы хотели его убить?
Вы:
Мелинда очень похожа на одну мою знакомую девочку
Нет, она очень похожа на
(меня)
я МелиндаСара
я МелиндаРоджелио я МелиндаМеган,
МелиндаЭмберМелиндаСтивенТориФиллипНавдияТьяра-МатеоКристинаБет
это продолжает мучить меня, но
но
но
но
эта книжка пробила мой защитный панцирь
это продолжает мучить меня я мучаюсь, но
но ваша книжка пробила мой защитный панцирь.
Вы:
Я плакала, когда читала это.
Я смеялась, когда читала это
глупо, да?
Я села рядом с такой девочкой…
ну, сами знаете, с такой девочкой…
я села рядом с ней потому что никто не хочет сидеть с ней за ланчем
и я чирлидер, такие дела.
«говори» изменила мою жизнь
пробила мой защитный панцирь
заставила задуматься
о вечеринках
дала мне
крылья эта книга
сняла печать молчания с моего рта
я шептала, плакала
засучила рукава я
ненавижу говорить но
я пытаюсь.
Вы помогли мне вспомнить, кто я есть.
Спасибо.
P. S. Наш класс собирается теперь анализировать эту штуку до скончания века.
Я:
Я:
Я: плачу.
За исключением первых и последних строф, эта поэма основана на строчках и словах из многих тысяч писем и имейлов, которые Лори получила за последние двенадцать лет.
Первая четверть
Добро пожаловать в среднюю школу «Мерриуэзер»
Сегодня мое первое утро в старших классах средней школы. У меня семь новых тетрадей, юбка, которую я ненавижу, и жуткие спазмы в животе.
Школьный автобус пыхтит мне навстречу. Двери открываются, и я вхожу внутрь. Сегодня я первый пассажир. Шофер отъезжает от тротуара, а я стою в проходе. Где мне сесть? Я не настолько убогая, чтобы сидеть на заднем сиденье. Если я устроюсь в серединке, рядом со мной может сесть абсолютно посторонний человек. А если я займу место впереди, то буду похожа на маленькую девочку; правда, это единственный шанс поймать взгляд кого-нибудь из своих друзей, если хоть кто-то из них все же захочет со мной поговорить.
Автобус подбирает учеников группами по четыре-пять человек. Шествуя по проходу, ребята, которые в средних классах были моими напарниками на лабораторных занятиях или подружками на уроках физкультуры, бросают на меня гневные взоры. Я закрываю глаза. Именно этого я больше всего и боялась. Когда автобус отъезжает от последней остановки, я единственная, кто сидит в одиночестве.
Шофер включает пониженную передачу, чтобы перетащить автобус через холмы. Мотор чихает и кашляет, парни на заднем сиденье выкрикивают непристойности. Кто-то явно переборщил с одеколоном. Я пытаюсь открыть окно, но задвижки не поддаются. Парень за моей спиной разворачивает завтрак и пуляет оберткой в мой затылок. Обертка падает мне на колени — ха-ха-ха!
Мы проезжаем мимо рабочих, перекрашивающих знак перед нашей средней школой. Школьный совет решил, что надпись «Средняя школа „Мерриуэзер“ — дом для Спартанцев» дает недостаточно сильный нравственный посыл, поэтому они переименовали нас в Синих Дьяволов. Словом, не так страшен черт, как его малюют. Правда, школьными цветами по-прежнему будут фиолетовый и серый. Школьный совет не расщедрился на новую форму. Старшеклассникам разрешают до звонка болтаться в коридоре, но девятиклассников сразу сгоняют в класс. Мы все делимся на группировки, или кланы: Качки, Сельские клабберы, Ботаники, Чирлидеры, Отбросы общества, Евротрэш, Будущие американские фашисты, Гламурные чиксы, Марты, или Домохозяйки, Страждущие художники, Трагики, Готы, Шредеры. Я не принадлежу ни к одной из группировок. Последние недели августа я провела за просмотром плохих мультфильмов. Я не ходила в магазин, на озеро или в бассейн, не отвечала на телефонные звонки. И вот теперь я еду в школу с неправильной прической, в неправильной одежде, с неправильным отношением к жизни. И никто не хочет сидеть со мной рядом.
Я — Изгой.
Высматривать своих бывших подружек — абсолютно бессмысленное занятие. Наша группировка — Простушки — распалась, и ее бывших членов переманили к себе конкуренты. Николь тусуется с Качками и теперь хвастается боевыми шрамами после летних спортивных соревнований. Айви блуждает между Страждущими художниками и Трагиками. Ее индивидуальность позволяет ей усидеть одновременно на двух стульях. Джессика переехала в Неваду. Невелика потеря. Так или иначе, но она дружила в основном с Айви.
Парни за моей спиной громко гогочут, и я знаю, что смеются они надо мной. Ничего не могу с собой поделать. Я поворачиваюсь. И вижу Рейчел в окружении ребят, одетых явно не из магазина ширпотреба. Рейчел Бруин, моя бывшая лучшая подруга. Она смотрит куда-то вдаль поверх моего левого уха. Слова застревают у меня в горле. Девочка, которая мучилась вместе со мной в младшей группе скаутов, которая научила меня плавать, которая все понимала про моих родителей, которая никогда не высмеивала мою спальню. Если в целом мире и есть кто-то, кому я до смерти хочу рассказать, что на самом деле произошло, так это Рейчел. У меня сжимает горло.
На секунду наши глаза встречаются. «Ненавижу тебя», — беззвучно произносит она. Поворачивается ко мне спиной и присоединяется к дружному ржанию. Я закусываю губу. Я не собираюсь об этом думать. Гнусная история, но она в прошлом, и я не собираюсь об этом думать. Губа начинает слегка кровоточить. Во рту появляется металлический привкус. Мне необходимо срочно сесть.
В классе я стою в середине прохода — раненая зебра из специального выпуска «Нэшнл джиографик», — выискивая взглядом хоть кого-то, хоть кого-нибудь, кто согласился бы сесть со мной рядом. Приближается хищник: спортивный седой «ежик», свисток на толстой по сравнению с головой шее. Возможно, это учитель обществознания, приглашенный на должность тренера в кровавом спорте.
Мистер Шея: Садись.
И я быстро сажусь на место. Еще одна раненая зебра с улыбкой поворачивается ко мне. У нее брекетов не меньше чем на пять штук баксов, но классные туфли. «Я Хизер из Огайо, — говорит она. — Я новенькая. А ты?» Но времени, чтобы ответить, уже нет. Свет тускнеет, и начинается промывка мозгов.
ПЕРВЫЕ ДЕСЯТЬ ЛЖИВЫХ ИСТИН, КОТОРЫЕ ВАМ ВНУШАЮТ В СТАРШИХ КЛАССАХ
1. Мы здесь, чтобы помочь вам.
2. У вас будет достаточно времени, чтобы успеть в класс до звонка.
3. Соблюдение дресс-кода обязательно.
4. Курить на территории школы строго запрещено.
5. В этом году наша футбольная команда станет победителем чемпионата.
6. Мы ожидаем от вас высоких показателей.
7. Школьные психологи всегда готовы выслушать вас.
8. Расписание занятий составлено с учетом ваших потребностей.
9. Код замка вашего шкафчика известен только вам.
10. Эти годы вы будете вспоминать со слезами умиления на глазах.
Мой первый урок — биология. Я не могу с ходу найти кабинет и получаю первое замечание за то, что брожу по коридору. Сейчас 8.50. Всего-навсего 699 дней и 7 академических часов до окончания школы.
Наши учителя — лучшие из лучших
Моя учительница английского ужасно безликая. Нечесаные патлы до плеч. И вообще, волосы до мочки ушей черные, а вьющиеся кончики — ядовито-рыжие. Непонятно, то ли она расплевалась со своей парикмахершей, то ли постепенно превращается в бабочку-монарха. Я зову ее Лахудрой.
Лахудра битых двадцать минут пытается привлечь к себе внимание, и все впустую, потому что она решительно не хочет на нас смотреть. Она склоняется над столом, волосы падают ей на лицо. Остаток урока она что-то пишет на доске и до опупения твердит насчет обязательного чтения. Она хочет, чтобы мы вели на ее уроках дневник и каждый день делали записи, но обещала их не читать. Я пишу о том, какая она странная.
На занятиях по обществознанию мы тоже ведем дневник. Наша школа, похоже, сумела закупить дневники по дешевке. И вот уже в девятый раз за девять лет мы изучаем историю Америки. Еще одна проверка умения работать с картой; неделя отведена на коренных жителей Америки, занятия, посвященные Христофору Колумбу, приурочены ко Дню Колумба, а рассказ о первых переселенцах — ко Дню благодарения. Каждый год нас заверяют, что мы вот-вот начнем изучать современную историю, но мы всегда застреваем на промышленной революции. Вторую мировую войну мы проходили в седьмом классе — кто бы мог подумать, что весь мир воевал?! Нам нужно больше каникул, чтобы учителя обществознания не теряли нюх.
Мой учитель обществознания — мистер Шея, тот самый парень, что нарычал на меня и велел сесть на место. Похоже, он положил на меня глаз: «Я буду наблюдать за тобой. Передний ряд».
Что ж, я тоже рада вас снова видеть. Спорим, он страдает посттравматическим синдромом. Наверное, Вьетнам или Ирак — одна из этих телевизионных войн.
В центре внимания
После урока обществознания я нахожу свой шкафчик. Замок слегка заедает, но мне удается его открыть. Потом я ныряю в толпу учеников, отправляющихся после третьего урока на ланч, и общий поток несет меня в сторону школьной столовой.
Я уже достаточно подкована, чтобы не брать с собой завтрак в первый день занятий. Ведь невозможно предсказать, какая упаковка будет считаться уместной. Коричневый бумажный пакет — это что, скромное свидетельство принадлежности к обитателям пригорода или же завершающий штрих экипировки лохов? Специальные сумки для завтраков — это что, идеальный способ защитить планету или же свидетельство наличия у тебя сверхзаботливой мамаши? Единственное верное решение — купить что-нибудь готовое. Итак, у меня достаточно времени, чтобы поискать в школьной столовой хоть одно дружелюбное лицо или укромный уголок.
На горячий завтрак сегодня дают индейку и порошковое картофельное пюре с подливкой, мокрый зеленый овощ и булочку. Я толком не знаю, как заказать что-то другое, поэтому просто тупо передвигаю поднос, позволяя кухонным дармоедам заполнять его. Стоящий передо мной старшеклассник ростом под восемь футов умудряется получить чизбургеры, картофель фри и два шоколадных кекса, и это притом, что он не произносит ни слова. Возможно, что-то по типу азбуки Морзе, только глазами. Вслед за Жердяем я прохожу в обеденный зал.
Я вижу парочку друзей — ребят, которых некогда считала друзьями, — но все они отводят взгляд. Соображай быстрее, соображай быстрее. Вон у окна сидит с книжкой та новенькая, Хизер. Я могла бы сесть напротив. Или незаметно проползти по-пластунски мимо мусорного бачка. Или, быть может, отправить свой ланч прямиком в этот самый бачок и двинуться к выходу.
Жердяй машет сидящим за столом друзьям. Естественно. Баскетбольная команда. Они осыпают его проклятиями — эдакое затейливое приветствие, распространенное в среде прыщавых спортсменов-молокососов. Он улыбается и пуляет в них кексом. Я пытаюсь поспешно пробежать мимо.
Плюх! Ком картофельного пюре с подливкой шмякается мне на грудь. Шум в обеденном зале разом стихает, все пялятся на меня, а я стою красная как рак. Теперь меня навсегда запомнят, как «ту девчонку, которую припечатали картофельным пюре». Жердяй дико извиняется и еще что-то там говорит, но четыреста человек в зале гогочут во все горло, а я не умею читать по губам.
Я так быстро выкатываюсь в коридор, что, окажись поблизости тренер по легкой атлетике, он непременно принял бы меня в свою команду. Но нет, сегодня дежурный по столовой — мистер Шея. А мистеру Шее абсолютно без надобности девочки, способные пробежать стометровку за десять секунд, если только они не пытаются поймать футбольный мяч.
Мистер Шея: Вот мы снова и встретились.
Я:
Стал бы он слушать мои: «Мне срочно надо домой, чтобы переодеться» или «Вы видели, что сделал этот придурок?». Никогда. Я плотно сжимаю губы.
Мистер Шея: И куда это ты так торопишься?
Я:
Проще вообще ничего не говорить. Закрыть варежку, держать язык за зубами, вот так-то. Все то дерьмо, что вы слышите по телику насчет необходимости общаться и выражать свои чувства, — беспардонное вранье. На самом деле никто не хочет вас слушать.
Мистер Шея что-то записывает в записной книжке: «Я с первого взгляда понял, что с тобой будут проблемы. Я преподаю в этой школе двадцать четыре года и по вашим глазам вижу, что там у вас на уме. Больше никаких предупреждений. Ты и так заработала замечание за то, что без разрешения шлялась по коридорам».
Убежище
Перерыв на ланч заканчивается, начинаются занятия в художественном классе. Дивный сон приходит на смену кошмару. Классная комната, с выходящими на юг широкими окнами, расположена в дальнем конце здания. В Сиракьюсе солнце — редкий гость, поэтому комната спроектирована так, чтобы воспользоваться скупыми солнечными лучами по максимуму. И здесь вечно царит творческий беспорядок. Пол усеян пятнами засохшей краски, стены украшены рисунками с изображением страдающих подростков и упитанных щенков, полки заставлены глиняными горшками. Радио настроено на мою любимую станцию.
Мистер Фримен на редкость уродлив. Со своим туловищем как у гигантского кузнечика он точь-в-точь циркач на ходулях. Похожий на кредитку нос вдавлен между щеками. Но когда мы толпой вваливаемся в комнату, мистер Фримен всегда нам улыбается.
Он сидит, склонившись над горшком на гончарном круге, руки в красной глине. «Добро пожаловать в единственный класс, где вы получите урок выживания, — говорит он. — Добро пожаловать на встречу с Искусством».
Я занимаю ближайший к учителю стол. Айви тоже в этом классе. Она садится у двери. Я не отрываю от нее взгляда в надежде, что она поднимет на меня глаза. Так всегда бывает в кино: человек чувствует, что на него смотрят, и ему остается лишь повернуть голову и что-то сказать. Но то ли у Айви слишком сильное защитное поле, то ли у меня слишком слабые телепатические способности. Она категорически отказывается на меня смотреть. Жаль, что я не могу сесть рядом с ней. Она разбирается в искусстве.
Мистер Фримен останавливает гончарный круг и, даже не вымыв рук, хватает кусок мела. «ДУША» — пишет он на доске. Прожилки красной глины на белых буквах похожи на запекшуюся кровь. «Вот где вы сможете найти свою душу, если у вас хватит смелости. И где вы сможете прикоснуться к чему-то такому внутри себя, о чем до настоящего времени не осмеливались даже задумываться. И не стоит просить, чтобы я показал, как правильно рисовать лицо. Лучше попросите помочь вам уловить дыхание жизни».
Я осторожно оглядываюсь. Брови удивленно подняты. Мимический телеграф уже вовсю работает. Этот парень какой-то чудной. Он должен видеть, он должен знать, о чем мы думаем. Он продолжает свою речь. Он говорит, что мы закончим школу, умея читать и писать, так как потратили миллион часов на то, чтобы научиться читать и писать. (Здесь я осмелюсь не согласиться.)
Мистер Фримен: Тогда почему бы не потратить это время на искусство: лепку и рисование углем, пастелью, маслом? Неужели слова и цифры важнее образов? Кто так решил? Неужели алгебра способна растрогать вас до слез? (Кое-кто тянет вверх руку, полагая, будто он ждет ответа.) И может ли притяжательное местоимение во множественном числе выразить ваши чувства? Если вы сейчас не научитесь понимать, что такое искусство, то никогда не научитесь дышать полной грудью!!!
Более того. На тех, кто сомневается в справедливости его слов, он обрушивает целый поток из них. Я на время выключаюсь и возвращаюсь в реальность как раз в тот момент, когда мистер Фримен поднимает огромный глобус, в котором не хватает половины Северного полушария. «Кто-нибудь может сказать, что это такое?» — спрашивает он. «Глобус?» — слышится чей-то нерешительный голос с заднего ряда. Мистер Фримен делает большие глаза. «Может, это дорогущая скульптура, разбитая каким-то бедолагой, которому пришлось заплатить за нее из собственных денег, так как иначе его не допустили бы к выпускным экзаменам?» — выдвигает смелую версию кто-то другой.
Мистер Фримен вздыхает: «Ни капли воображения. Вам сейчас сколько, тринадцать лет? Четырнадцать? И вы уже позволили напрочь выбить из себя всю креативность! Это просто-напросто старый глобус, который я разрешил дочери пинать и катать по моей мастерской, когда из-за дождя ей приходилось сидеть дома. И вот в один прекрасный день Дженни поставила ногу прямо на штат Техас — и Соединенные Штаты ушли под воду. И надо же — гениальная идея! Сей сломанный мяч можно использовать по максимуму, включив игру воображения. Вы можете нарисовать, как из этой дыры вылезают люди, а их собачонка с мокрой мордой грызет, например, Аляску. Словом, безграничные возможности. Это, конечно, перебор, и тем не менее вы должны дерзать». Что-что?
«Вы все достанете из дыры по бумажке. (Он расхаживает по классу, чтобы дать нам возможность вытащить из центра Земли по клочку красной бумаги.) На бумажке вы найдете только одно слово: название предмета. Надеюсь, вам понравится. И потом до конца года будете учиться тому, как превратить данный предмет в произведение искусства. Вы будете лепить его. Рисовать его, клеить из папье-маше, вырезать. И если в этом учебном году преподаватель информатики все еще будет со мной разговаривать, то вы сможете сделать в компьютерном классе дизайн-проект. Но здесь есть одна засада: к концу года вы должны понять, как научить свой предмет выражать определенные чувства, как заставить его говорить с каждым, кто на него посмотрит».
По классу проносится дружный стон. У меня начинает сосать под ложечкой. Неужели он действительно позволит нам это сделать? Может, прикол такой? Он останавливается у моего стола. Я сую руку в недра глобуса и выуживаю свою бумажку. «Дерево». Дерево? Слишком просто. Я научилась рисовать дерево еще во втором классе. Я тянусь за другой бумажкой. Мистер Фримен качает головой. «Ах-ах-ах, — говорит он. — Ты только что выбрала свою судьбу и не можешь ее изменить».
Он достает из-под гончарного круга ведерко с глиной, лепит шарики размером с кулак и бросает каждому из нас. Затем включает погромче радио и со смехом говорит: «Добро пожаловать в мир приключений».
Испанский
Моя учительница испанского собирается попробовать до конца учебного года обойтись на своих уроках без английских слов. Это не только забавно, но и весьма полезно: так нам гораздо проще игнорировать ее. Она общается с нами с помощью утрированных жестов и лицедейства. У нас не урок, а игра в шарады. Она произносит по-испански какую-то фразу и прижимает руку ко лбу. «У вас жар!» — выкрикивает кто-то из класса. Она качает головой и повторяет жест. «Вам дурно!» Нет. Она выходит в коридор, а затем с деловым видом вихрем врывается в класс. Поворачивается к нам, изображает крайнее удивление, а затем снова прикладывает тыльную сторону ладони ко лбу. «Вы заблудились!» «Вы сердитесь!» «Вы ошиблись школой!» «Вы ошиблись страной!» «Вы ошиблись планетой!»
Она делает вторую попытку и с такой силой хлопает себя по лбу, что даже слегка покачивается. На лбу остается красное пятно под цвет ее губной помады. Игра в угадайки продолжается. «Вы не в силах поверить, что в нашем классе столько ребят!» «Вы разучились говорить по-испански!» «У вас мигрень!» «У вас наверняка начнется мигрень, если мы не найдем правильного ответа!»
В отчаянии она пишет на доске предложение на испанском: Me sorprende que estoy tan cansada hoy. Никто не в курсе, что это означает. Мы не знаем испанского — вот почему мы здесь. Наконец самый смекалистый достает испано-английский словарь. Остаток урока мы проводим, пытаясь перевести предложение. Когда звенит звонок, единственное, что у нас получается, это: «Закончить день, чтобы удивить».
Дом. Работа
В первые две недели занятий мне удается избежать ядерной катастрофы. Хизер из Огайо сидит со мной за ланчем и звонит домой обсудить домашнее задание по английскому. Она может говорить часами. Мне остается только прижимать телефон к уху и, раскручивая телефонный провод, время от времени вставлять «угу». Рейчел и все, кого я знала больше девяти лет, продолжают меня игнорировать. В школьных коридорах я то и дело получаю тумаки. В результате я пару раз роняла на пол учебники. Я стараюсь на этом не зацикливаться. Ладно, как-нибудь образуется.
Поначалу мама старательно готовила по утрам обеды, которые оставляла в холодильнике, но я знала, что все хорошее когда-нибудь, да кончается. Я возвращаюсь домой, где меня ждет записка: «Пицца. 555-4892. Не переусердствуй с чаевыми». К записке пришпилена двадцатидолларовая бумажка. В моей семье имеется добрая традиция. Мы общаемся с помощью записок, оставленных на кухонном столе. Я пишу, когда мне надо купить школьные принадлежности или съездить в торговый центр. Они пишут, когда вернутся с работы домой и надо ли к их приходу что-нибудь разморозить. Ну и о чем тогда говорить?
У мамы опять проблемы с персоналом. Моя мама — директор «Эффертса», магазина одежды в деловой части города. Ее босс предложил ей возглавить отдел в торговом центре, но она отказалась. Полагаю, ей просто нравится видеть реакцию людей, когда она говорит, что работает в городе. «А вам не страшно? — спрашивают ее собеседники. — Я ни за какие коврижки не согласился бы там работать». Маме нравится делать то, что вызывает страх у других. Она вполне могла бы стать укротительницей змей.
Но из-за центрального местоположения магазина возникают проблемы с кадрами. Магазинные воришки, бомжи, писающие на парадную дверь, а также периодические вооруженные ограбления — все это отпугивает соискателей. Ну и дела! Еще только вторая неделя сентября, а она уже думает о Рождестве. Ее голова сейчас занята пластиковыми снежинками и Сантами в нарядах из красного фетра. Если в сентябре она не сумеет укомплектовать штат сотрудников, то на праздники окажется в полной заднице.
Я заказываю обед в 15.10 и съедаю его на белом диване. Уж не знаю, у кого из моих предков случился приступ куриной слепоты, когда покупали этот диван. Вся штука в том, что, если хочешь есть на диване, надо перевернуть подушки грязной стороной вверх. У нашего дивана две ипостаси: «Мелинда поглощает пиццу с пепперони и грибами» и «Никто и никогда не ест в гостиной, нет, мэм». Я жую и смотрю телик, но внезапно слышу, как к дому подъезжает папин джип. Бац-бац-бац — перевернутые подушки сияют белоснежными щечками, а я пулей лечу на второй этаж. К тому времени как папа откроет дверь, все будет в лучшем виде, а я исчезну.
Моя комната принадлежит пришельцу. Она словно красочное фото той, кем я была в пятом классе. У меня тогда случился период временного помешательства: я считала, что розы должны быть повсюду, а розовый цвет — это грандиозно. И виной тому Рейчел. Она упросила маму разрешить ей переделать свою спальню, а в результате мы обе получили по новой комнате. Николь отказалась украшать свой прикроватный столик дурацкими оборочками, а Айви слегка переусердствовала, как всегда. Джессика решила свою комнату в стиле Дикого Запада. А я со своей спальней застряла где-то посередине, позаимствовав идеи у каждой из подруг. Единственное, что носило здесь печать моей личности, — это оставшаяся со времен детства коллекция плюшевых кроликов и кровать с балдахином. Несмотря на все издевки Николь, я наотрез отказалась убрать балдахин. Я подумываю о том, чтобы сменить обои в розочках, но тогда придется задействовать маму, а папа начнет измерять стены, и они будут спорить насчет цвета краски. И вообще, я сама еще толком не знаю, какой бы хотела видеть свою комнату.
Домашнее задание не вариант. Кровать посылает сигналы, что не мешало бы немного вздремнуть. Ничего не могу с собой поделать. Мягкие подушки и теплое одеяло — нет, это сильнее меня. Я сдаюсь и ныряю под одеяло.
Я слышу, как папа включает телевизор. Дзинь-дзинь-дзинь — он бросает кубики льда в стакан с толстым дном и наливает туда выпивку. Открывает микроволновку — похоже, собирается разогреть пиццу — и включает таймер. Я делаю радио погромче — сообщить, что я дома. Но я не собираюсь спать по-настоящему. Нет, я останавливаюсь где-то на полпути к полноценному сну. В таком состоянии я могу пребывать часами. Мне даже нет нужды закрывать глаза — надо просто оставаться под надежной защитой одеяла и дышать.
Папа врубает телевизор на полную громкость. Слышатся завывания ведущего программы новостей: «Пять человек погибли во время пожара! Нападение на молодую девушку! Подростков подозревают в вооруженном ограблении бензоколонки!» Я прикусываю засохшую болячку на нижней губе. Папа переключает каналы, снова и снова просматривая все те же сюжеты.
Я смотрю на себя в зеркало на противоположной стене. Уф! Волосы практически скрыты одеялом. Я изучаю очертания лица. Интересно, а можно поместить это лицо на мое дерево, чтобы оно выглядывало из листвы, как у дриад из греческих мифов? Две мутные кляксы глаз под черными галочками бровей, поросячий пятачок вместо носа, а вместо рта — какой-то изжеванный ужас. Нет, на дриаду определенно не тянет. Я кусаю губы и не могу остановиться. Такое чувство, будто мой рот принадлежит кому-то другому, кому-то, кого я даже не знаю.
Я встаю с кровати и снимаю со стены зеркало. И кладу его в шкаф, лицевой стороной к задней стенке.
Наш бесстрашный руководитель
Я прячусь в туалете, жду, когда очистится горизонт. Выглядываю из-за двери. Директор школы, Самый Главный, находит в коридоре другого праздношатающегося ученика.
Самый Главный: Мистер, где ваш пропуск на занятия?
Праздношатающийся: Я как раз за ним иду.
С. Г.: Но вы не имеете права находиться в коридоре без пропуска.
П. Ш.: Я знаю и ужасно расстроен. Поэтому мне надо поторопиться, чтобы успеть получить пропуск.
Директор школы делает длинную паузу. Выражение лица у него точь-в-точь как у Даффи Дака, когда тот наконец понимает, что Багс явно плутует.
С. Г.: Ну, тогда поторопитесь и поскорей получите пропуск.
Праздношатающийся ученик, улыбаясь и размахивая руками, рысью бежит по коридору. Директор школы, проигрывая в уме весь разговор, дабы понять, где тут засада, направляется в другую сторону. Я смеюсь. Все ясно как божий день.
Суетливые занятия
Физкультуру следует запретить. Как унижающую достоинство человека.
В раздевалке мой шкафчик ближайший к двери, значит переодеваться придется в душевой кабинке. У Хизер из Огайо соседний шкафчик. Она носит спортивную форму прямо под обычной одеждой. А после физкультуры снимает шорты, но остается в короткой маечке. И я начинаю волноваться за девчонок из Огайо. Неужели им всем приходится носить нижнее белье?
Единственная девочка, которую я еще здесь знаю, — это Николь. Когда-то мы входили в одну группировку, но особой близости между нами не наблюдалось. В начале учебного года она явно собралась было что-то сказать мне, но прикусила язык и принялась перешнуровывать свои «найки». У Николь вместительный шкафчик в укромном уголке, где пахнет свежестью, потому что она член футбольной команды. И она не стесняется переодеваться на людях. Она даже меняет лифчики, поскольку один спортивный лифчик она носит под нормальной одеждой, а второй надевает на урок физкультуры. Никогда не краснеет, стыдливо не отворачивается — просто переодевается, и все. Наверное, спортсменам это свойственно. Если ты весь из себя такой накачанный, тебе наплевать, что будут говорить о твоих сиськах или о твоей заднице.
Уже конец сентября, и у нас начинаются тренировки по хоккею на траве. Хоккей на траве — грязный вид спорта, которым занимаются только в промозглые облачные дни, когда того и гляди пойдет снег. И кто только это придумал? Но Николь остановить невозможно. Она несется по полю на крейсерской скорости, оставляя за собой шлейф жидкой грязи, омывающей всех, кто встает на ее пути. Николь делает незаметное движение запястьем — и мяч летит в цель. Она улыбается и трусцой возвращается в центральный круг.
Там, где задействованы мяч и свисток, Николь нет равных. Баскетбол, софтбол, лакросс, американский футбол, просто футбол, регби. Что угодно. И глядя на нее, кажется, что все легко и просто. Парни специально приходят посмотреть на Николь, чтобы научиться играть лучше. Она просто прелесть, но ей даже не хочется завидовать. Этим летом она сломала зуб в каком-то спортивном лагере. И только стала еще привлекательнее.
Учителя физкультуры питают к Николь особую слабость. Она демонстрирует Потенциал. Они смотрят на нее и видят будущие чемпионаты штата. Ставки растут. Однажды она успела забить тридцать пять голов, прежде чем моя команда пригрозила, что покинет поле. Тогда физрук сделал ее судьей. Моя команда проиграла, а четырем девочкам, получившим травмы, пришлось отправиться в медпункт. Такого понятия, как «нарушение правил», для нее не существует. Из спортшколы она вынесла девиз: «Настоящего игрока может остановить только смерть или увечье».
И все бы ничего, если бы не ее поведение. И вонючий шкафчик, и Хизер, порхающую вокруг меня, точно белая моль, и необходимость холодным утром, по уши в грязи, созерцать Николь, Принцессу Воинов, а также выслушивать похвалы тренеров в ее адрес — все это я могла бы пережить и двигаться дальше. Но Николь такая дружелюбная. Она даже разговаривает с Хизер из Огайо. Она сообщила Хизер, где можно приобрести загубник, чтобы не поранить губы о брекеты, если в нее случайно угодят мячом. Хизер теперь хочет купить спортивный лифчик. Николь вовсе не сука. В противном случае мне было бы гораздо легче ненавидеть ее.
Друзья
Рейчел со мной в туалете. А теперь отредактируем это. Рашель со мной в туалете. Она изменила имя. Рашель возвращается к своим европейским корням, тусуясь с учениками, приехавшими к нам по обмену. За пять недель, прошедших с начала занятий, она научилась ругаться по-французски. Она носит черные чулки со стрелками и не бреет подмышки. А когда она небрежно машет рукой, на ум невольно приходят молодые шимпанзе.
Поверить не могу, что когда-то она была моей лучшей подругой. В туалете я пытаюсь надеть обратно контактную линзу на правый глаз. Рашель тем временем размазывает тушь под глазами, чтобы иметь измученный и томный вид. Я начинаю подумывать о том, чтобы убраться подобру-поздорову из туалета, прежде чем Рашель снова обожжет меня злобным взглядом, но Лахудра, моя учительница английского, сегодня патрулирует коридор, а я забыла прийти на ее урок.
Я: Привет.
Рашель: Ммм…
Ну и что теперь? Я собираюсь оставаться абсолютно хладнокровной, будто ничего и не произошло. Думай о льде. Думай о снеге.
Я: Ну, как дела?
Я пытаюсь приладить контактную линзу и тычу пальцем прямо в глаз. Очень хладнокровно.
Рашель: Э-э-э…
Ей в глаз попадает тушь, и она размазывает ее по всему лицу.
Мне не хочется быть хладнокровной. Мне хочется схватить Рашель за шею и трясти и орать, чтобы она перестала смотреть на меня как на грязь под ногами. Она даже не потрудилась узнать правду — тогда что она за подруга? Контактная линза попадает под веко и складывается пополам. Правый глаз начинает слезиться.
Я: Ох!
Рашель (фыркает, отходит от зеркала, вертит головой, чтобы полюбоваться черным безобразием на скулах, чем-то напоминающим гусиные какашки): Pas mal[1].
Она вставляет в рот сигарету-леденец. Рашель отчаянно хочется курить, но у нее астма. Это что-то Новенькое, о чем еще не слышали в нашем девятом классе. Сигареты-леденцы. Ученики, приехавшие по обмену, их любят. Что ж, ей остается только начать пить черный кофе и читать книжки без картинок.
Ученица по обмену спускает за собой воду и выходит из кабинки. Она похожа на супермодель по имени Грета или Ингрид. Неужели Америка — единственная страна с низкорослыми подростками? Грета-Ингрид говорит что-то на иностранном языке, и Рашель смеется. Типа, она все понимает.
Я:
Рашель пускает мне в лицо колечко сигаретно-леденцового дыма. Вроде как вычеркивает меня из своей жизни. Меня бросили, словно слишком горячий тост, на холодный кухонный пол. Рашель и Грета-Ингрид выплывают из туалета. Хоть бы кусок туалетной бумаги прилип к башмаку кого-нибудь из них! Так нет. Спрашивается, и где ж она, справедливость?!
Мне нужна новая подруга. Мне нужна новая подруга, на время. Не настоящая подруга, не настолько близкая, чтобы обмениваться шмотками или оставаться у нее ночевать, болтать и хихикать до одурения. Такая одноразовая якобы подруга. Подруга, как аксессуар. Чтобы я не чувствовала себя и не выглядела такой дурой.
Моя запись в дневнике за сегодняшний день: «Ученики, приезжающие по обмену, губят нашу страну».
Хизеринг
По дороге домой на автобусе, который обычно подвозит Хизер, она пытается подбить меня вступить в какой-нибудь клуб. У нее есть План. Она хочет, чтобы мы вступили в пять клубов, по одному на каждый учебный день. Вся хитрость в том, чтобы выбрать клуб с Правильными людьми. О Латинском клубе не может быть и речи, так же как и о Боулинг-клубе. На самом деле Хизер нравится боулинг — он был важной частью жизни ее прежней школы, — но она видела наши дорожки для боулинга и может с уверенностью сказать, что ни один Правильный человек туда ни ногой.
Когда мы высаживаемся у дома Хизер, ее мамаша встречает нас прямо в дверях. Она спрашивает, как прошел день, как давно я живу в этом городе, а еще задает наводящие вопросы о моих родителях, чтобы уяснить для себя, гожусь ли я в подруги ее дочери. Я не против. По-моему, это даже мило, что она так печется о Хизер.
Мы не можем пойти в комнату Хизер, потому что там еще трудятся декораторы. Вооружившись миской оранжевого попкорна и диетической содовой, мы удаляемся в подвал. Декораторы закончили его первым. Никогда не скажешь, что это подвал. Ковровое покрытие тут лучше, чем у нас в гостиной. В углу сверкает громадный телевизор, здесь есть биллиардный стол и тренажеры. И даже не пахнет подвалом.
Хизер вскакивает на беговую дорожку и снова начинает планировать. Она еще не до конца разобралась в социальной жизни школы, но считает, что для начала вполне подойдут Интернациональный клуб и Элитный хор. Может, мы сумеем пройти пробы на роль в мюзикле. Я включаю телевизор и прикладываюсь к ее попкорну.
Хизер: Ну так что будем делать? В какой клуб хочешь вступить? Может, нам стоит стать наставниками в младших классах? (Она увеличивает скорость беговой дорожки.) А как насчет твоих прошлогодних друзей? Разве ты не знакома с Николь? Ведь она занимается этим своим спортом, да? А я вот никогда не была спортивной. Плохая координация. Так чем, по-твоему, нам стоит заняться?
Я: Ничем. Клубы — тоска зеленая. Попкорна хочешь?
Она включает тренажер на максимум и бежит со спринтерской скоростью. Тренажер так громко завывает, что я практически не слышу телевизора. Хизер наставляет на меня указующий перст. Нерешительность — самая распространенная ошибка девятиклассников, говорит она. Я не должна позволять себя запугивать. Я должна принимать активное участие в школьной жизни. Так поступают все популярные люди. Она выключает беговую дорожку и вытирает лоб висящим рядом махровым полотенцем. Немного остыв, она соскакивает с тренажера. «Сто калорий! — ликует она. — Хочешь попробовать?»
Я вздрагиваю и протягиваю ей миску с попкорном. Но она тянет руку куда-то мимо меня и берет с кофейного столика фломастер со школьным фирменным пурпурным пушистым шариком на конце. «Мы должны строить планы, — торжественно произносит она, рисуя четыре квадратика, по одному на каждую четверть, затем в каждом квадратике пишет слово «ЦЕЛИ». — Мы ничего не добьемся, если не сумеем определить наши цели. Так все всегда говорят, и это сущая правда. — Она открывает содовую. — Мел, а ты какие ставишь перед собой цели?»
Когда-то я была такой же, как Хизер. Неужели я так сильно изменилась за два месяца? Она веселая, живая, подтянутая. У нее чудная мама и потрясающий телевизор. Но она похожа на собачку, которая так и норовит запрыгнуть вам на колени. Она вечно таскается за мной по школьным коридорам и трещит со скоростью миллион слов в минуту.
Моя цель — пойти домой и немного вздремнуть.
Нора
Вчера Лахудра выдернула меня с самостоятельных занятий и заставила делать «несданную» домашнюю работу в своем кабинете. Она озабоченно квохтала и даже намекнула на необходимость встречи с моими родителями. Что не есть хорошо. Никто не потрудился сообщить мне, что сегодня самостоятельные занятия состоятся в библиотеке. Когда мне наконец удается это выяснить, занятия уже подходят к концу. Я пропала. Пытаюсь объяснить все библиотекарше, но заикаюсь и давлюсь словами.
Библиотекарша: Успокойся, успокойся. Ничего страшного. Не расстраивайся. Ты ведь Мелинда Сордино, так? Не волнуйся. Я отмечу, что ты присутствовала. Позволь объяснить тебе, что надо делать. Если ты думаешь, что можешь опоздать, просто попроси учителя выписать тебе разрешение на опоздание. Понимаешь? И не стоит плакать.
Она поднимает стопку зеленых бумажек — мой пропуск на-волю-из-этой-тюрьмы. Я улыбаюсь и пытаюсь выдавить «спасибо», но ничего не могу сказать. Библиотекарша уверена, будто меня переполняют эмоции из-за того, что она не стала на меня наезжать. Что близко к действительности. Подремать мне уже не удастся, поэтому я набираю кипу книг, чтобы доставить ей удовольствие. Возможно, я даже прочту одну.
Но блестящая идея родилась у меня не там и не тогда. Она озаряет меня, когда мистер Шея выслеживает меня в школьной столовой с целью получить домашнюю работу на тему «Двадцать способов выживания ирокезов в лесах». Я делаю вид, что не вижу его. Я продираюсь сквозь очередь у раздаточного прилавка, огибаю самозабвенно лижущуюся в дверях парочку и припускаю по коридору. Мистер Шея останавливается, чтобы пресечь нарушение правил приличия. Я направляюсь в то крыло, где учатся старшеклассники.
Я на чужой территории, Куда Не Ступала Нога Первогодка. Нет времени обращать внимание на устремленные на меня взгляды. Мистер Шея дышит мне в спину. Я заворачиваю за угол, открываю дверь и делаю шаг в темноту. Я держу дверную ручку, но мистер Шея до нее даже не дотрагивается. Я слышу, как его шаги постепенно стихают в конце коридора. Я шарю по стене рядом с дверью и нащупываю выключатель. Я не ввалилась в пустой класс; это старая подсобка уборщика, в которой воняет сырыми тряпками.
На задней стене встроенные полки, забитые пыльными учебниками и бутылками с моющим средством. Из-за штабеля веников и швабр выглядывают засаленное кресло и старомодный стол. Над раковиной, которая усеяна запутавшимися в паутине дохлыми тараканами, склонилось треснувшее зеркало. Краны настолько ржавые, что их невозможно повернуть. Похоже, уборщики уже давным-давно здесь не прохлаждаются. У них новая подсобка и кладовка рядом с грузовым отсеком. Его обходят стороной все наши девочки, чтобы на них лишний раз не пялились и не свистели им вслед. Эта подсобка заброшена — у нее нет ни названия, ни специального предназначения. Идеальное место для меня.
Я выкрадываю пачку разрешений на опоздание из стола Лахудры. Я чувствую себя лучше, гораздо лучше.
Изгнание дьяволами
Сбежать с алгебры меня вынуждает не столько стремление присутствовать на собрании для подъема духа перед соревнованиями, сколько желание навести порядок в моей подсобке. Я принесла из дому несколько губок. Если уж сачковать, то не по уши в грязи. А еще я хочу пронести контрабандой одеяло и ароматические смеси.
Мой план состоит в том, чтобы вместе со всей толпой пойти в сторону спортзала, а затем нырнуть в туалет и пересидеть там, пока горизонт не очистится. Прошмыгнуть мимо учителей — не вопрос, но я забыла учесть наличие Хизер. Именно в тот момент, когда Туалет, моя Спасительная гавань, появляется в поле зрения, Хизер выкрикивает мое имя, подбегает ко мне и хватает за руку. Она прямо-таки лопается от Гордости за «Мерриуэзер», вся из себя раскрасневшаяся, возбужденная и счастливая. И она почему-то считает, будто я радуюсь не меньше ее. Мы идем стройными рядами на промывку мозгов, и она буквально не закрывает рта.
Хизер: Это так волнительно — собрание для подъема духа!!! Я сделала парочку лишних помпонов. Вот, возьми. Мы будем выглядеть просто классно, когда по трибунам пойдет волна. Спорим, у новичков больше всего энтузиазма, правда? Ты только представь себе, что должны чувствовать игроки футбольной команды, видя, как вся школа поддерживает их? Это такая жесть. Как думаешь, они сегодня победят? Обязательно победят, я знаю, что победят. Конечно, сезон был не из легких, но мы их расшевелим, ведь правда, Мел?
У меня так и чешется язык, чтобы съязвить, но этим ее точно не проймешь. От меня не убудет, если я схожу на собрание. И теперь есть кто-то, с кем я могу сесть рядом, а это уже очередная ступенька вверх по лестнице социальной адаптации. И что уж такого страшного может быть в этом собрании?
Мне хочется остаться у дверей, но Хизер волочет меня к трибунам, в секцию для новичков. «Я знаю этих парней, — говорит она. — Мы вместе работаем над газетой».
Газета? У нас есть газета?
Она представляет меня компании бледных прыщавых юнцов. Я с трудом узнаю парочку из них; остальные, должно быть, учились в других средних классах. Я приподнимаю уголки рта и при этом не кусаю губы. Уже небольшой прогресс. Хизер сияет от удовольствия и протягивает мне помпон.
Я расслабляюсь, самую малость. Девочка за моей спиной постукивает меня по плечу длинными черными ногтями. Она слышала, как Хизер меня представляла. «Сордино? — спрашивает она. — Ты Мелинда Сордино?»
Я поворачиваюсь к ней. Она выдувает черный пузырь жвачки и втягивает его обратно. Я киваю. Хизер машет рукой какому-то знакомому десятикласснику на другом конце зала. Девица пихает меня чуть сильнее. «А это не ты, случайно, вызвала копов на вечеринке у Кайла Роджерса в конце лета?»
Нашу секцию на трибунах моментально сковывает льдом. В мою сторону резко поворачиваются все присутствующие; такое чувство, будто сотни папарацци одновременно щелкают камерой. У меня холодеют руки. Я трясу головой. Еще одна девушка подает голос: «На той вечеринке арестовали моего брата. Его потом уволили. Поверить не могу, что ты это сделала. Идиотка».
Вы ничего не понимаете, говорит голос у меня в голове. Вот только плохо, что она не может это услышать. У меня перехватывает горло, точно гортань сжимают две руки с черными ногтями. Я так старалась забыть каждую секунду той проклятой вечеринки, и вот нате вам — я окружена толпой враждебно настроенных людей, которые ненавидят меня за то, что я просто обязана была сделать. Я не могу рассказать им, что́ на самом деле произошло. Более того, я сама боюсь посмотреть правде в глаза. У меня в животе рождается звериный рык.
Хизер тянется погладить мой помпон, но резко отдергивает руку. На минуту мне кажется, что она хочет защитить меня. Но нет, она и не думает. Ведь это нарушит ее План. Я закрываю глаза. Дыши, дыши, дыши. Ничего не говори. Дыши.
В спортзал с воплем вкатывается группа поддержки. Толпа топает ногами и дружно ревет. Я зажимаю уши руками и ору, чтобы дать выход этим звериным звукам и воспоминаниям о той ночи. Никто не слышит. Все слишком воодушевлены.
Оркестр начинает нестройно играть какую-то мелодию, и девчонки из группы поддержки подпрыгивают. Талисман Синих Дьяволов делает сальто назад и врезается прямо в директора, что вызывает настоящую овацию. Самый Главный улыбается и шутливо отмахивается от нас. С начала учебного года прошло всего шесть недель. У него еще сохранилось чувство юмора.
Наконец наши собственные Дьяволы вваливаются в спортзал. Мальчишки, которых в младших классах оставляли после уроков за драки, теперь за то же самое получают награды. Они называют это футболом. Тренер представляет членов команды. Я не могу отличить одного от другого. Бедолага-тренер держит микрофон слишком близко ко рту, и нам слышно, как он сглатывает слюну и тяжело дышит.
Девочка за моей спиной упирается мне в спину коленками. Они не менее острые, чем ее ногти. Я отодвигаюсь на край сиденья и не отрываясь смотрю на игроков. Девица, у которой арестовали брата, наклоняется вперед. Хизер увлеченно размахивает помпонами, а девица тем временем дергает меня за волосы. Я забираюсь чуть ли не на спину сидящего передо мной парня. Он оборачивается и бросает на меня косой взгляд.
В конце концов тренер отдает директору обслюнявленный микрофон, и Самый Главный представляет нас нашим же девчонкам из группы поддержки. Они синхронно разбегаются в стороны, и толпа впадает в неистовство. Жаль, что футболисты играют хуже, чем выступают наши чирлидеры.
Чирлидеры
У нас их двенадцать: Дженни, Джен, Дженна, Эшли, Обри, Эмбер, Колин, Кейтлин, Марси, Доннер, Блитзен и Рейвен. Рейвен — капитан. Самая блондинистая из всех блондинок.
Родители не привили мне религиозности. Для нас Святая Троица — это Visa, Mastercard и American Express. Полагаю, школьные чирлидеры сбивают меня с толку именно потому, что я не ходила в воскресную школу. Это может быть только чудом. Другого объяснения попросту нет. Ведь как иначе получается, что в ночь на воскресенье они спят со всей футбольной командой, а уже в понедельник утром перевоплощаются в весталок? Словно они одновременно существуют в двух Вселенных. Во Вселенной номер один они роскошные, белозубые, длинноногие, супермодные девушки, которым на шестнадцатилетие дарят спортивные машины. Учителя улыбаются им и ставят отличные оценки. Они знают имена всех, кто работает в школе. Они — Гордость Спартанцев. Ой! Я хотела сказать — Синих Дьяволов.
Во Вселенной номер два они устраивают вечеринки настолько отвязные, что там не скучно даже студентам колледжа. Они млеют от вони «О-де-Джок». Во время весенних каникул они арендуют пляжные домики в Канкуне, а перед выпускным вечером получают групповую скидку на аборт.
Но они такие очаровашки. И они вдохновляют наших мальчиков, подталкивая их к насилию и, как мы надеемся, к победе. Они наши ролевые модели — Девочки, Которые Получают Все. Спорим, ни одна из них ни разу не запнулась, не лопухнулась, не почувствовала, что ее мозги превращаются в желе. У них у всех красивые губы — тщательно обведенные красным карандашом и покрытые блеском.
Когда духоподъемное собрание наконец заканчивается, меня случайно сбивают с ног и я пропахиваю спиной сразу три ряда. Если я когда-нибудь создам собственную группировку, мы будем называться Анти-Чирлидерами. Мы не станем сидеть на трибуне. Мы будем бродить под ними и ненавязчиво нарушать порядок.
Антоним слова «вдохновение» — это… «выдохновение»?
Целую неделю после собрания для подъема духа я писала акварелью деревья, в которые ударила молния. Я пыталась изобразить деревья мертвыми, но не совсем. Мистер Фримен никак не комментирует мое творчество. Он просто поднимает брови. Одна моя картина настолько темная, что на ней практически невозможно разглядеть дерево.
Мы все топчемся на месте. Айви в качестве задания вытянула бумажку «Клоуны». Она говорит мистеру Фримену, что ненавидит клоунов; в детстве ее до смерти напугал клоун, и ей даже пришлось пройти курс психотерапии. Мистер Фримен отвечает, что страх — отличный стимул для творчества. Другая девочка хнычет, что «Мозг» для нее слишком многогранная тема. Она хочет «Котят» или «Радугу».
Мистер Фримен вздымает руки к небесам: «Довольно! А теперь обратите внимание на книжные полки». Мы покорно поворачиваемся и таращимся. Книжки. Это художественный класс. Зачем нам книжки? «Если вы в тупике, то вам стоит потратить немного времени на изучение работ великих мастеров. — Он вытаскивает пачку книг. — Кало, Моне, О’Киф, Поллок, Пикассо, Дали. Они не ныли по поводу объектов, они доходили до сути каждого из них. Конечно, школьный совет не заставлял их рисовать со связанными за спиной руками, у них были покровители, которые прекрасно понимали, что за такие насущные вещи, как бумага и краски, необходимо платить…»
Из нашей груди вырывается протяжный стон. Опять он садится на своего любимого конька — школьный совет! Школьный совет в очередной раз урезал бюджет на расходные материалы, велев ему обходиться тем, что осталось с прошлогодних занятий. Никаких тебе новых красок, никакой дополнительной бумаги. Теперь он будет разглагольствовать до конца урока, сорок три минуты. Комната теплая, солнечная, с резким запахом красок. Трое учеников спят как убитые, судя по подергиванию век, зычному храпу и тому подобному. Но я бодрствую. Я достаю блокнот и карандаш и начинаю бесцельно рисовать дерево, подобное тому, что нарисовала во втором классе. Бесполезно. Я комкаю листок, скатываю из него шарик и беру следующий. Неужели это так сложно — нарисовать дерево на листке бумаги? Две вертикальные линии — это ствол. Возможно, несколько толстых веток, затем побольше тонких веточек и множество листьев, чтобы скрыть недостатки. Я провожу горизонтальную линию, чтобы обозначить землю, и сажаю маргаритку рядом с деревом. Вряд ли мистер Фримен сочтет мой рисунок слишком эмоциональным. И я с ним соглашусь. А ведь мистер Фримен начинал как очень крутой учитель. Неужели он не собирается помочь нам с этим дурацким заданием, чтобы мы не тыкались носом, точно слепые котята?
Лицедейство
В День Колумба у нас выходной. Я иду в гости к Хизер. Мне хотелось хорошенько выспаться, но Хизер «очень, очень, очень» просила, чтобы я пришла к ней. В любом случае по телику ничего интересного. Мамаша Хизер встречает меня с хорошо разыгранным радушием. Прежде чем мы уходим наверх, она дает нам с собой по кружке горячего шоколада и пытается уговорить Хизер пригласить с ночевкой компанию побольше. «Может быть, Мелли приведет с собой своих друзей». Я решаю не сообщать ей о том, что она сильно рискует. Рейчел непременно перережет мне горло на ее новом ковре. Как хорошая девочка, я скалю зубы. Мамаша Хизер гладит меня по щечке. Мне гораздо легче улыбаться, когда именно этого от меня и ждут.
Комната Хизер уже готова, и ее можно показывать. Она не похожа на спальню пятиклассницы. Или девятиклассницы. Она похожа на рекламу пылесосов, вся такая сверкающая свежей краской, с полосами от пылесоса на ковре. На сиреневых стенах несколько претенциозных эстампов. В книжном шкафу стеклянные дверцы. У Хизер есть телевизор и телефон; все, что необходимо для домашних заданий, аккуратно разложено на письменном столе. Дверь гардероба слегка приоткрыта. Я распахиваю ее ногой. Одежда Хизер, терпеливо ждущая своего часа на плечиках, тщательно рассортирована: юбки висят вместе, брюки — на отдельных вешалках, джемпера в пластиковых пакетах аккуратно сложены на полках. Комната буквально кричит: «Хизер!» И почему у меня не получается так делать?! Не то чтобы я хотела, чтобы моя комната кричала: «Хизер!» Слишком много чести. Но вот тихий шепот: «Мелинда» — был бы весьма кстати. Я сижу на полу и перебираю компакт-диски. Хизер красит ногти над промокательной бумагой на столе и трещит без остановки. Она решительно настроена пробоваться на роль в мюзикле. Но в клан Музыкантов пробиться практически невозможно. У Хизер нет ни таланта, ни нужных связей. Я говорю, чтобы выкинула это из головы и не тратила время даром. Она считает, что нам обеим стоит попытать счастья. Похоже, надышалась лаком для волос. Мне остается только кивать или качать головой и повторять: «Я понимаю, о чем ты», когда не понимаю, и «Это так неправильно», когда все очень даже правильно.
Играть в мюзикле мне раз плюнуть. Я отличная актриса. С полным набором улыбок в запасе. Для персонала школы у меня припасен взгляд из-под челки и проникновенная улыбка, на вопрос учителя я отвечаю легким прищуром и едва заметным покачиванием головы. Когда на меня показывают пальцем или шушукаются за спиной, я машу воображаемым друзьям в конце коридора и спешу им навстречу. Если я брошу школу, то вполне смогу стать мимом.
Хизер спрашивает, почему я считаю, будто нам не дадут роли в мюзикле. Я прихлебываю горячий шоколад. Он обжигает нёбо.
Я: Мы пустое место.
Хизер: Как ты можешь так говорить? Почему у всех такое отношение? Я удивляюсь. Если мы хотим участвовать в мюзикле, они должны нам это разрешить. Мы можем просто стоять на сцене или типа того, если их не устраивает наше пение. Так нечестно. Ненавижу среднюю школу.
Она сбрасывает книги на пол и опрокидывает зеленый лак для ногтей на золотисто-бежевый ковер. «Почему здесь так сложно заводить друзей? Может, дело в местной воде? В своей бывшей школе я могла получить роль в мюзикле, и выпускать газету, и руководить школьной автомойкой. А тут никто даже не знает о моем существовании. Я бьюсь как рыба об лед, но я для всех пустое место, и никому нет до меня дела. И от тебя тоже никакой помощи. От тебя исходит один негатив, ты ничем не интересуешься, а просто бродишь бледной тенью, типа, тебе плевать, что говорят люди».
Она плюхается на кровать и разражается рыданиями. Громкие всхлипы перемежаются горестными подвываниями, когда она с досады мутузит своего плюшевого медведя. Я не знаю, что делать. Пытаюсь промокнуть лак, но только размазываю его по ковру. Пятно похоже на зеленую водоросль. Хизер вытирает нос клетчатым шарфом медвежонка. Я тихонечко проскальзываю в ванную и возвращаюсь с новой коробкой бумажных салфеток и бутылочкой жидкости для снятия лака.
Хизер: Мелли, прости, ради бога. Как я могла тебе такое наговорить?! Это все месячные, не обращай внимания. Ты была такой милой со мной. Ты единственный человек, кому я могу доверять. — Она громко сморкается и вытирает глаза рукавом. — Вот я смотрю на тебя. Ты совсем как моя мама. Она говорит: «Чем зря слезы лить, лучше разберись со своей жизнью». Я знаю, что мы будем делать. Во-первых, надо придумать, как попасть в правильную группировку. Мы подомнем их под себя. К концу года Музыканты будут умолять нас сыграть в мюзикле.
В жизни не встречала более нереального плана, но я киваю головой, а потом наливаю жидкость для снятия лака на ковер. Пятно становится какого-то ярко-зеленого рвотного цвета с белым ореолом. Когда Хизер видит, что я натворила, она снова начинает рыдать и сквозь всхлипывания твердит, что я не виновата. Мой желудок меня просто убивает. Ее комната не способна вместить столько эмоций. Я ухожу не попрощавшись.
Театр за обедом
Родители издают угрожающие звуки, превращая обед в некий перформанс, где папа косит под Арнольда Шварценеггера, а мама — вылитая Гленн Клоуз в роли психопатки. Я — Жертва.
Мама (со злобной улыбкой): Вот уж не думала, что ты, Мелинда, можешь водить нас за нос! Конечно, такой большой девочке, ученице старших классов, вовсе не обязательно показывать родителям домашнее задание, вовсе не обязательно сообщать родителям о плохих отметках, да?
Папа (стучит кулаком по столу так, что вилки и ножи подпрыгивают): Завязывай с этим дерьмом. Она знает, о чем речь. Сегодня пришли результаты промежуточных тестов. Послушай меня, юная леди. Я больше повторять не буду. Или ты подтянешь успеваемость, или мы будем считать, что ты полное ничтожество. Ты меня слышишь? Подтяни успеваемость! (Он набрасывается на печеный картофель.)
Мама (недовольная, что ее отодвинули на задний план): Я это улажу, Мелинда. (Она улыбается, публика содрогается.) Мы ведь не требуем многого. Мы только хотим, чтобы ты показала все, на что способна. А мы знаем, что ты способна на большее. Дорогая, ты ведь так хорошо справлялась с тестами. И смотри на меня, когда я с тобой говорю!
Жертва смешивает творог и яблочный соус. Папа фыркает, как бык. Мама хватает нож.
Мама: Я сказала, смотри на меня!
Жертва смешивает горох, творог и яблочный соус. Папа перестает есть.
Мама: Сейчас же посмотри на меня.
Это Голос Смерти, Голос, который говорит о том, что она не шутит. В детстве при звуках этого Голоса я писала в штаны. Но теперь меня так легко не проймешь. Я смотрю маме прямо в глаза, споласкиваю тарелку и удаляюсь в свою комнату. Лишившись Жертвы, мама и папа орут друг на друга. Я включаю музыку, чтобы заглушить шум.
Голубые розы
После вчерашнего разноса я пытаюсь уделить внимание биологии. Мы проходим клетки, состоящие из всяких там мельчайших частиц, которые можно рассмотреть только под микроскопом. Мы пользуемся настоящими микроскопами, а не пластиковой распродажной дрянью из «Кей-марта». Что уже неплохо.
Наша учительница — мисс Кин. Мне даже немного жаль ее. Она могла бы стать известным ученым, или доктором, или типа того. Вместо этого она застряла в школе. Передняя часть ее кабинета заставлена деревянными ящиками, она залезает на них, когда обращается к классу. Если бы в свое время она ела поменьше пончиков, то сейчас была бы похожа на игрушечную бабушку-старушку. Но нет, у нее студенистая фигура, обычно затянутая в оранжевый полиэстер. Она сторонится баскетболистов. С высоты их роста она кажется баскетбольным мячом.
У меня есть напарник по лабораторным работам, Дэвид Петракис. Входит в клан Кибергениев. Когда он снимет брекеты, то, возможно, станет очень даже ничего. Он такой умный, что заставляет учителей нервничать. Вы, наверное, думаете, что такого парнишку постоянно бьют, но плохие ребята его почему-то не трогают. Надо бы разузнать его секрет. В основном Дэвид не обращает на меня внимания, если не считать того случая, когда я чуть было не сломала микроскоп стоимостью 300 долларов, повернув ручку в обратную сторону. В тот день мисс Кин вырядилась в пурпурное платье с ярко-голубыми розами. Уму непостижимо. Нет, учителям определенно следует запретить так резко меняться без сигнала раннего оповещения. Учеников это просто выбило из колеи. Платье мисс Кин еще долго потом было темой для обсуждений. С тех пор она его больше не надевала.
Ученик, поделенный на смущение, равняется алгебре
Я проскальзываю за свой стол за десять минут до окончания урока алгебры. Мистер Стетман придирчиво изучает мое разрешение на опоздание. Я достаю чистый листок бумаги, чтобы списать с доски задачки. На алгебре я сижу в заднем ряду, откуда мне прекрасно видна вся комната, а также школьная парковка. Я примеряю на себя роль системы аварийной сигнализации класса. Планирую тренировки поведения в условиях чрезвычайной ситуации. Как будет проходить эвакуация в случае взрыва в химической лаборатории? А что, если в центральной части штата Нью-Йорк произойдет землетрясение? Или торнадо?
Совершенно невозможно сосредоточиться на алгебре. И не то чтобы я не рубила в математике. В прошлом году я прошла тесты в числе лучших — именно благодаря этому я раскрутила папу на новый велосипед. Математика — это совсем просто, потому что здесь нет места для сомнений. Ответ или верный, или неверный. Дайте мне листок с математическими задачками, и я решу правильно 98 процентов из них.
А вот алгебра не укладывается у меня в голове. Я знала, почему мне надо было запомнить таблицу умножения. Понимание простых и десятичных дробей, и процентного отношения, и даже геометрии — все это имеет практическое значение. Инструменты, которые я могу использовать. Все было настолько разумно, что я никогда особо не задумывалась. Просто делала дело. Входила в список отличников.
Но алгебра? Не проходит и дня, чтобы кто-нибудь не поинтересовался у мистера Стетмана, зачем нам учить алгебру. Сразу видно, что такие вопросы для него как нож острый. Мистер Стетман любит алгебру. Он поэт алгебры, если мыслить категориями целых чисел. Он говорит об алгебре так, как некоторые парни говорят о своих машинах. Спросите его, почему именно алгебра, и он расскажет вам тысячу и одну историю о том, почему именно алгебра. Причем все до единой абсолютно бессмысленные.
Мистер Стетман спрашивает, может ли кто-нибудь объяснить роль какого-то там хреночлена в теореме об отрицательной сучности. У Хизер есть ответ. Ответ неверный. Стетман делает вторую попытку. Я? Я с грустной улыбкой качаю головой. Не сейчас. Может, лет через двадцать. Он вызывает меня к доске.
Мистер Стетман: Кто хочет помочь Мелинде найти решение этой задачи. Рейчел? Отлично.
У меня в голове происходит взрыв такой силы, будто это грохочут выезжающие из депо пожарные машины. Конец света. Рейчел/Рашель, одетая в вызывающий костюм в голландско-скандинавском стиле, плетется к доске. Рашель выглядит весьма привлекательно и одновременно утонченно. Ее глаза, как красный лазер, прожигают мой мозг. На мне обычные отстойные шмотки: вонючая серая водолазка и джинсы. И я только сейчас понимаю, что забыла помыть голову.
Рот Рашель приходит в движение, ее рука скользит по доске, выводя забавные кривые и цифры. Я втягиваю нижнюю губу, прикусив ее верхними зубами. Если очень постараться, можно заглотить себя целиком. Мистер Стетман что-то бубнит, и Рашель хлопает глазами. Она пихает меня локтем. Кажется, нам надо сесть на место. Под хихиканье класса мы идем назад. Похоже, я плохо старалась себя заглотить.
Мой мозг отказывается заниматься алгеброй. Есть гораздо более приятные вещи для размышления. Мистер Стетман вроде бы хороший парень.
Хеллоуин
Мои родители заявляют, что я уже слишком большая ходить по домам и требовать угощения. Очень кстати. Теперь я избавлена от необходимости признаваться, что меня никто не пригласил принять участие в этих забавах. Но дабы сохранить лицо, я топаю в свою комнату и хлопаю дверью. Я выглядываю из окна. По дорожке идет компания малышей. Пират, динозавр, две феи и невеста. Почему на Хеллоуин никогда не встретишь ребенка в наряде жениха? Их родители болтают на обочине. Ночь — опасное время суток, присутствие родителей обязательно: огромные призраки в хаки и пуховых куртках плывут по воздуху за спиной у ребятишек.
Звонок в дверь. Родители спорят, кому идти открывать. Потом мама чертыхается и открывает дверь с пронзительным: «Ух ты, кто там у нас здесь?!» Похоже, она дала малышам только по одной крошечной шоколадке — их «спасибо» звучит как-то вяло. Ребятишки срезают путь через двор к соседнему дому, родители идут за ними по улице.
В прошлом году наш клан вырядился ведьмами. Сперва мы отправились домой к Айви, потому что у ее старшей сестры имелся театральный грим. Мы выбрали наряды и напялили дешевые черные парики. Лучше всех выглядели мы с Рейчел. На деньги, заработанные бебиситтингом, мы взяли напрокат черные шелковые накидки с красной отделкой. Мы были на седьмом небе от счастья. Вечер оказался неожиданно теплым, расслабляющим. Нам удалось обойтись без теплого белья, и небо было почти ясное. Затем ветер нагнал облака, время от времени наплывавшие на полную луну, которая словно специально висела над головой, чтобы мы могли почувствовать себя сильными и всемогущими. Мы бежали сквозь ночь, клан великолепных ведьм. На секунду мне даже показалось, что мы можем накладывать заклятия, превращая людей в лягушек или кроликов, наказывать зло и вознаграждать добро. Под конец у нас была целая куча сладостей. Когда родители Айви легли спать, мы зажгли свечу в темном доме. В полночь поставили ее перед старинным зеркалом, чтобы загадать свое будущее. В этом году Рашель собирается на вечеринку, которую устраивает семья, принимающая одну из иностранных учениц. Я слышала, как Рашель говорила об этом на уроке алгебры. Я знаю, что не получу приглашения. С моей-то репутацией мне вряд ли удастся получить приглашение даже на собственные похороны. Хизер сопровождает соседских малышей, чтобы дать возможность их матерям остаться дома.
Я успела подготовиться. Я не собираюсь хандрить в своей комнате и слушать, как ссорятся родители. Я взяла в библиотеке книжку «Дракула». Автор Брэм Стокер. Крутое имя. Я устраиваюсь в своем гнезде с пакетом жевательных конфет и монстром-кровопийцей.
Имя имя имя
В приступе постхеллоуиновского безумия школьный совет решительно выступил против названия «Дьяволы». Теперь мы «Тигры Мерриуэзера». Дружный рев.
Экологический клуб планирует устроить ралли в знак протеста против «исчезновения редких видов». Все в школе только об этом и говорят. Особенно на уроках. У мистера Шеи стероидное бешенство, он вопит что-то насчет Мотивации, и Идентичности, и священного Школьного духа. Таким темпами мы даже до промышленной революции вряд ли доберемся.
На уроке испанского я в очередной раз вляпалась. В переводе с испанского «Линда» означает «красивая». Клевая шутка. Миссис Учительница Испанского называет мое имя. Кто-то из остряков-самоучек хрипит: «Нет, Мелинда не есть линда». До конца урока все называют меня Ме-Не-Линда. Вот из-за таких невинных шуток и становятся террористами. Интересно, может, еще не поздно перевестись в класс немецкого?
Мне только что пришла в голову отличная теория, которая все объясняет. На той вечеринке меня похитили пришельцы. Они создали поддельную Землю и поддельную среднюю школу, чтобы изучить меня и мои реакции. Этим прекрасно объясняется меню в школьной столовой. Но только не все остальное. У пришельцев извращенное чувство юмора.
Марты
Хизер нашла подходящую группировку — Марты. Ее приняли с испытательным сроком. Уж не знаю, как ей удалось. Подозреваю, просто подмазала кого-то. Это часть ее стратегии отвоевания места под солнцем в нашей школе. Похоже, мне придется таскаться вместе с ней. Но Марты!
Входить в их клан — удовольствие не из дешевых; прикид должен быть единообразным, сдержанным и по сезону. Осенью они предпочитают носить джемпера фруктовых цветов, типа абрикосового или спелого яблока. Зимой это пестрые свитера, полосатые шерстяные брюки и рождественские украшения в волосах. Хизер еще не сообщили, что купить к весеннему сезону. Скорее всего, понадобятся юбки с гусями и белые блузки с вышитыми по вороту уточками.
Я советую Хизер чуть-чуть изменить стиль в сторону ретро, а именно 1950-х, ну, вы понимаете, этакая невинность и яблочный пирог. Она не уверена, что лидеры клана — Мег-и-Эмили-и-Шивон — понимают иронию. Уж больно они любят жить по правилам.
Марты всегда готовы прийти на помощь. Название их клана произошло от имени какого-то библейского персонажа (самый первый лидер клана Март стала миссионером в Лос-Анджелесе). Но теперь они следуют за Другой Мартой, Святой Мартой Клеевого Пистолета, дамой, что пишет книжки о том, как нарядно украсить дом. Очень по-коннектикутски, очень по-снобистски. Марты энергично берутся за разные проекты и делают добрые дела. Идеальная работа для Хизер. Она говорит, они управляют доставкой консервированных продуктов, опекают детишек из городских школ, устраивают благотворительные пешие марафоны, танцевальные марафоны, а также марафоны на креслах-качалках для сбора денег, уж не знаю на что. Они также стараются Сделать Приятное учителям. Вот прикол.
Первое задание Хизер по линии Март — украсить учительскую комнату отдыха для собрания в честь Дня благодарения. Она припирает меня к стенке после урока испанского и умоляет помочь. Ей кажется, будто Марты специально дали ей по определению невыполнимое задание, чтобы потом вышибить из клана. Меня всегда занимало, как выглядит учительская комната отдыха. О ней ходит столько слухов. Интересно, а там есть койка для учителей, которые хотят немного покемарить? А экономные коробки бумажных салфеток на случай нервных срывов? Удобные кожаные кресла и обслуживающий персонал? А как насчет секретных досье на каждого ученика?
Оказывается, это всего-навсего зеленая комнатушка с грязными окнами и застарелым запахом табака, хотя курить на территории школы уже много лет как строго-настрого запрещено. Обшарпанный стол в окружении складных металлических стульев. На стене доска объявлений, которые не обновляли с тех самых пор, как американцы высадились на Луну. И я ищу, но не нахожу секретных досье. Наверное, они хранят их в кабинете директора. Я должна сделать центральную композицию из парафинированных кленовых листьев, желудей, ленточек и целой мили тонкой проволоки. Хизер собирается накрыть стол и повесить баннер. Она щебечет о своих классах, а я тем временем порчу первый лист, а второй орошаю кровью. Я спрашиваю, не можем ли мы поменяться, пока я себя не изувечила. Хизер осторожно помогает мне выпутаться из проволоки. Она держит охапку листьев в одной руке, другой обматывает проволокой черешок — раз-два, — маскирует проволоку и с помощью клеевого пистолета сажает на место желуди. Просто жуть! Я спешу закончить с сервировкой стола.
Хизер: Ну, что думаешь?
Я: Ты гениальный декоратор.
Хизер (выкатывает глаза): Нет, глупенькая. Что ты думаешь насчет этого! Меня! Тебе верится, что меня приняли? Мег такая лапочка, она каждый вечер звонит мне, просто чтобы поболтать. (Она обходит стол и поправляет вилки, которые я только что разложила.) Ты, наверное, сочтешь это нелепым, но в прошлом месяце я даже попросила родителей отправить меня в пансион. Но теперь у меня есть друзья, и я научилась открывать школьный шкафчик и… (Она останавливается и морщится от напряжения.) Все просто отлично!
Мне не приходится вымучивать ответ, потому что в комнату бодрым шагом входят Мег-и-Эмили-и-Шивон с подносами мини-пончиков и яблочных ломтиков в шоколаде. Мэг выразительно смотрит на меня.
Я: Хизер, спасибо, что помогла с домашней работой. Ты такая отзывчивая.
Я пулей вылетаю за дверь, но оставляю щелку, чтобы иметь возможность наблюдать за развитием событий.
Хизер замирает в напряженном ожидании результатов инспекции трудов наших рук. Мег берет композицию и придирчиво изучает ее.
Мег: Хорошая работа.
Хизер заливается краской смущения.
Эмили: А что это за девочка?
Хизер: Подруга. Первый человек, который помог мне почувствовать себя здесь как дома.
Шивон: От нее прямо в дрожь бросает. И что у нее с губами? Похоже, она чем-то болеет или типа того.
Эмили смотрит на часы (ремешок подобран в тон обруча в волосах). Осталось пять минут. Хизер надо уйти до появления учителей. У нее испытательный срок, а это значит, что она не имеет права почивать на лаврах и выслушивать похвалы.
Я прячусь в туалете, чтобы переждать автобус Хизер. Соль от моих слез приятно жжет губы. Я тру лицо над раковиной до тех пор, пока от него ничего не остается — ни глаз, ни носа, ни рта. Гладкое ничто.
Ночной кошмар
Я вижу в коридоре ОНО. ОНО тоже ходит в «Мерриуэзер». ОНО идет рядом с чирлидером Обри. ОНО — мой ночной кошмар, от которого я не могу пробудиться. ОНО видит меня. ОНО улыбается и подмигивает. Хорошо, что у меня зашит рот, а не то меня вырвало бы.
Мой табель успеваемости
Вторая четверть
Иди на ___________(заполнить пробел)!
Экологический клуб выигрывает второй раунд. Мы больше не Тигры, потому что это название демонстрирует «шокирующее неуважение» к одному из исчезающих видов.
Я знаю, что я в шоке.
Экологический клуб выпустил отличные плакаты. Члены клуба выложили заголовки спортивных страниц газет: ТИГРЫ ПОРВАНЫ В КЛОЧЬЯ! МАССОВАЯ РЕЗНЯ ТИГРОВ! ТИГРЫ УБИТЫ! — рядом с цветными фотографиями освежеванных бенгальских тигров. Очень эффектно. В Экологическом клубе классные пиарщики. Футбольной команде следовало бы выразить протест, но горькая правда состоит в том, что они продули все игры сезона. Они просто счастливы, что их больше не будут называть Тиграми. Игроки из других команд зовут их Кисками. Не слишком-то мужественно. Более половины школы подписало петицию, и любители природы получили письма поддержки от нескольких независимых группировок и трех голливудских актеров.
Нас сгоняют на собрание, задуманное как «демократический форум» и посвященное выбору нового талисмана школы. Так кто ж мы такие? Мы не можем быть Пиратами, потому что они были апологетами насилия и дискриминации в отношении женщин. Ученика, предложившего название «Сапожники» в честь старой фабрики по производству мокасин, осмеяли так, что ему пришлось покинуть зал. Слово «Воители» оскорбляет чувства Коренных американцев. По-моему, идеальный вариант — «Властолюбивые европеизированные патриархи», но я его даже не выдвигаю. Перед зимними каникулами ученический совет проводит голосование. На наш выбор представлено следующее:
1. Пчелы — полезны для сельского хозяйства, но больно кусаются.
2. Айсберги — в честь праздника зимы.
3. Покорители вершин — гарантированно напугают оппонентов.
4. Вомбаты — никто не знает, относятся ли они к вымирающим видам.
Пространство подсобки
Родители велели мне оставаться в школе на дополнительные занятия с учителями. Я соглашаюсь оставаться после уроков. Я ошиваюсь в своей отмытой до блеска подсобке. Она преображается прямо на глазах.
Первая вещь на выброс — это зеркало. Но зеркало прикручено к стенке, поэтому я закрываю его плакатом с Майей Анджелоу, который дала мне библиотекарша. Она сказала, что мисс Анджелоу — одна из величайших писателей Америки. Плакат оказался без надобности, потому что школьный совет зарубил одну из ее книг. Должно быть, она реально отличный писатель, если школьный совет ее так боится. Майя Анджелоу наблюдает за мной, пока я подметаю и мою пол, отскребаю полки, загоняю в угол пауков. Каждый день понемножку я навожу чистоту. Это как строительство форта. Мне кажется, Майе понравилось бы, если бы я здесь читала, поэтому я приношу из дому несколько книг. Но в основном я смотрю фильмы ужасов, которые крутят у меня под веками.
Мне становится все труднее говорить. Горло вечно саднит, губы воспалены. Когда я просыпаюсь по утрам, у меня так крепко стиснуты зубы, что болит голова. Иногда, наедине с Хизер, мне удается слегка расслабить губы. Но всякий раз, пытаясь заговорить с родителями или учителем, я начинаю бессвязно бормотать или цепенею. Что со мной не так? Похоже, я страдаю чем-то вроде спастического ларингита.
Я понимаю, что у меня слегка сносит крышу. Мне хочется уехать отсюда, трансформироваться и перенестись в другую галактику. Хочется во всем признаться, рассказать о той ошибке, о чувстве злости и вины. У меня внутри живет зверь, я слышу, как он скребется о ребра, пытаясь выбраться наружу. Даже если я похороню воспоминания, они никуда не денутся и будут вечно пачкать меня. Моя каморка — подарок судьбы, укромное место, помогающее держать подобные мысли глубоко в голове, где их никто не услышит.
А теперь все вместе
Моя учительница испанского нарушает правило «Никакого английского» с целью сообщить нам, что если мы не перестанем валять дурака и прикидываться, будто не понимаем задания, то останемся после уроков. Затем она повторяет все то же самое по-испански, причем, похоже, вставляет в свою речь парочку лишних фраз. И почему она так поздно спохватилась. Если бы в первый же день занятий она научила нас ругаться по-испански, мы до конца года ели бы у нее с руки.
Остаться после уроков — перспектива не слишком заманчивая. Я делаю домашнее задание: выбираю пять глаголов и спрягаю их.
Перевести: traducir. Я перевожу с испанского на ненормативный.
Провалить: fracasar. Да, я почти проваливаю.
Спрятать: esconder. Исчезнуть: escapar.
Забыть: olvidar.
День карьеры
На всякий случай, если мы вдруг забыли, что «мыздесьчтобыприобрестихорошуюосновудляпоследующегопоступлениявколледжиполучениявдальнейшемхорошейработыблагодарячемумыбудемжитьдолгоисчастливоидажепопадемвДисней-уорлд», нам устраивают День карьеры.
Как и все мероприятия типа «Здравствуй, школа!», он начинается с теста, проверки моих желаний и устремлений. Как я предпочитаю проводить время: а) в большой компании? б) в узком кругу близких друзей? в) с семьей? г) в одиночестве?
Кем я себя считаю: а) исполнителем? б) созидателем? в) организатором? г) мечтателем?
Если бы меня привязали к рельсам, а отправляющийся в 15.15 поезд на Рочестер должен был вот-вот перерезать меня пополам, что бы я сделала: а) позвала бы на помощь? б) попросила бы своих маленьких друзей мышек перегрызть веревки? в) подумала бы о том, что мои любимые джинсы остались лежать в сушке и теперь будут безнадежно измяты? г) закрыла бы глаза и притворилась, будто ничего не происходит?
Еще двести вопросов — и мне сообщают мои результаты. Я должна подумать о карьере: а) в лесном хозяйстве, б) в пожарной службе, в) в сфере коммуникаций, г) в похоронном бюро. Результаты Хизер гораздо однозначнее. Она должна стать медсестрой. Что заставляет ее прыгать до потолка от радости.
Хизер: Лучше не бывает! Я точно знаю, что буду делать. Этим летом я устроюсь волонтером в больницу. Почему бы тебе ко мне не присоединиться? Я начну усердно заниматься биологией, поступлю в Сиракьюсский университет и стану дипломированной медсестрой. Какой сказочный план!
Откуда такая уверенность? Я не знаю, что буду делать следующие пять минут, а она уже все спланировала на десять лет вперед. Я даже не уверена, удастся ли мне остаться в живых к концу девятого класса. Ну а если я вдруг выживу, вот тогда-то и подумаю о карьере.
Первая поправка
Мистер Шея врывается в класс совсем как разъяренный бык, который гонится за тридцатью тремя красными флажками. Мы осторожно рассаживаемся по местам. Я не сомневаюсь, что он сейчас взорвется. Что он и делает, но неожиданно для нас в несколько назидательном стиле.
«ИММИГРАЦИЯ» — пишет он на доске. Я абсолютно уверена, что орфографических ошибок он не сделал.
Мистер Шея: Моя семья живет в этой стране вот уже более двухсот лет. Мы построили ее своими руками, воевали на всех войнах — от первой до последней, платили налоги и голосовали.
Над головой каждого ученика в классе возникает мультяшный пузырь. («А ЭТО БУДЕТ НА ЭКЗАМЕНЕ?»)
Мистер Шея: Тогда скажите мне, почему мой сын не может получить работу?
Несколько рук неуверенно тянутся вверх. Мистер Шея ноль внимания. Ведь вопрос чисто риторический, который мистер Шея задает, чтобы самому же и ответить. Я слегка расслабляюсь. Примерно так же обычно ведет себя мой папа, когда жалуется на босса. Самое лучшее, что можно сделать в подобных ситуациях, — стараться не заснуть и сочувственно моргать.
Его сын хотел стать пожарным, но его не приняли на работу. Мистер Шея уверен, что здесь имеет место некая дискриминация наоборот. Он говорит, что нам следует закрыть границы с тем, чтобы стопроцентные американцы могли получить ту работу, которую они заслуживают. Если верить тесту по профориентации, из меня получился бы хороший пожарный. Интересно, а я могла бы отобрать работу у сына мистера Шеи?
Затем я переключаюсь и начинаю рассеянно рисовать свое дерево, сосну. В художественном классе я пыталась вырезать его на линолеуме. Но проблема с линолеумом в том, что невозможно исправить ошибки. Каждая моя ошибки навечно запечатлеется на картине. Поэтому все приходится продумывать наперед.
Мистер Шея снова пишет на доске: «ОБСУЖДЕНИЕ: Америке следовало закрыть границы в 1900 году». И задевает кое-кого за живое. Причем не одного, а несколько человек. Я вижу, как ребята загибают пальцы, пытаясь прикинуть, когда родились их деды или прадеды, когда они приехали в Америку и попали бы они под Отсечение Шеей. А когда они понимают, что могли бы навечно застрять в стране, где их все ненавидят, или в дыре, где нет школ, или там, где нет будущего, то сразу тянут вверх руки. Они просят разрешения не согласиться с ученым мнением мистера Шеи.
Я не знаю, откуда приехала моя семья. Наверное, оттуда, где царит вечный холод, где по вторникам едят бобы, а по понедельникам развешивают на веревке стираное белье. Я не знаю, как давно мы живем в Америке. Мы были приписаны к этому школьному округу уже тогда, когда я пошла в первый класс, а это хоть что-нибудь да значит. Я приступаю к яблоне.
По комнате летают туда-сюда доводы за и против. Несколько учительских подпевал быстро смекают, за какую команду играет мистер Шея, и с ходу кидаются на «иностранцев» с намерением их уделать. Всем, чьи семьи иммигрировали в прошлом веке, есть что рассказать о том, как тяжело трудились их родственники, какой вклад они внесли в становление этой страны, сколько налогов они уплатили. Член Стрелкового клуба вякает что-то насчет того, что мы все здесь иностранцы и должны вернуть страну Коренным американцам, но ей быстро затыкают рот контраргументами. Мистер Шея наслаждается шумом до тех пор, пока один ученик не идет в лобовую атаку.
Храбрый ученик: Может быть, ваш сын не получил работу, потому что недостаточно хорош. Или потому что ленив. Или потому что другой парень оказался лучше, и неважно, какого цвета его кожа. Я думаю, что именно белые, которые живут здесь уже двести лет, тянут страну назад. Они не умеют работать, потому что им все слишком легко досталось.
Проиммиграционные силы разражаются бурными аплодисментами и гиканьем.
Мистер Шея: Следите за языком, мистер. Вы говорите о моем сыне. Все, я больше не желаю вас слушать. Дискуссия закрыта. Достаньте ваши учебники.
Мистер Шея возвращает контроль над ситуацией. Шоу закончено. Я уже в 315-й раз пытаюсь нарисовать отходящую от ствола ветку. Но рисунок получается каким-то плоским, бездарным и вообще поганым. Я настолько увлечена, что поначалу не вижу, как Дэвид Петракис, мой напарник по лабораторным работам, поднимается с места. Класс замирает. Я кладу карандаш.
Мистер Шея: Мистер Петракис, займите свое место.
Дэвид Петракис никогда не влипает в неприятности. Он образцовый ученик, который не позволяет себе прогуливать и помогает учителям находить вирусы в компьютерных файлах табелей успеваемости. Я начинаю грызть ноготь на мизинце. И о чем он только думает? Неужели он свихнулся, сломался, не выдержав бремени славы самого умного парня в школе?
Дэвид: Если в классе идет обсуждение, то каждый ученик имеет право высказать свою точку зрения.
Мистер Шея: Здесь я решаю, кому и когда говорить.
Дэвид: Вы сами открыли дискуссию. И вы не можете закрыть ее только потому, что она приняла нежелательное для вас направление.
Мистер Шея: А теперь все посмотрите на меня. Займите свое место, мистер Петракис.
Дэвид: Конституция не признает разделения граждан на классы по принципу времени их проживания в стране. Я такой же гражданин, как и ваш сын, и у меня одинаковые права с ним или с вами. Как гражданин и как ученик, я протестую против идейной направленности данного урока, поскольку считаю ее нетолерантной, расистской и ксенофобской.
Мистер Шея: Опусти свою задницу на стул, Петракис, и следи за языком! Я пытался провести дискуссию, а вы развели здесь демагогию. Сядь, или пойдешь к директору.
Дэвид пристально смотрит на мистера Шею, переводит глаза на американский флаг, собирает книжки и выходит из класса. Не сказав ни слова, он говорит миллион важных вещей. Я беру себе на заметку, что мне стоит присмотреться к Дэвиду Петракису. Никогда еще я не слышала такого оглушительного молчания.
Принесение благодарности
Отцы-пилигримы приносили благодарность в День благодарения, потому что Коренные американцы спасли их тоскливые задницы от голодной смерти. Я приношу благодарность в День благодарения, потому что мама в конце концов отправляется на работу, а папа заказывает пиццу.
Каждый раз накануне Дня индейки моя мама, которая и так в вечной запарке, неизменно превращается в натянутого как струна, одержимого ритейлера. И все из-за Черной пятницы, наступающей сразу после Дня благодарения и знаменующей собой начало сезона рождественских покупок. Если в Черную пятницу она не продаст миллиард рубашек и двенадцать миллионов ремней, наступит конец света. Она сидит исключительно на сигаретах и черном кофе, матерится, как звезда рэпа, и непрерывно что-то считает в уме, как электронная машина. Задачи, которые она ставит перед своим магазином, совершенно нереалистичны, и она это знает. Но ничего не может с собой поделать. Она похожа на человека, застрявшего в изгороди из колючей проволоки под напряжением: человек извивается, дергается, но выбраться не может. Каждый год, когда мама находится на грани нервного срыва, она готовит обед ко Дню благодарения. Мы умоляем ее этого не делать. Мы взываем к ее благоразумию, подбрасываем анонимные записки. Она и слушать ничего не желает.
Накануне Дня благодарения я ложусь в кровать в десять вечера. Она колотит по клавиатуре своего лэптопа за обеденным столом. Когда на следующее утро я спускаюсь вниз, она все еще там. Похоже, она вообще не спала.
Она смотрит на меня и видит, что я в халате и тапочках-кроликах. «Вот черт! — восклицает она. — Индейка».
Я чищу картошку, а она тем временем устраивает мороженой индейке горячую ванну. Окна запотевают, отгораживая нас от окружающего мира. Мне хочется предложить ей приготовить на обед что-нибудь другое, возможно спагетти или сэндвичи, но я знаю, что она неправильно поймет меня. Она вонзает в брюхо индейки нож для колки льда, чтобы достать мешочек с потрохами. Я потрясена. В прошлом году она приготовила птицу с мешочком внутри.
Приготовление обеда на День благодарения явно что-то для нее означает. Типа, святая обязанность, выполнение которой делает ее женой и матерью. Члены нашей семьи друг с другом особо не разговаривают, и у нас нет ничего общего, но если мама готовит правильный обед на День благодарения, это означает, что мы еще на один год останемся семьей. Примитивная логика. Такие вещи работают только в рекламе.
Я заканчиваю с картошкой. Она отсылает меня смотреть парад по телику. Папа неуверенно спускается вниз. «Ну как она?» — спрашивает он меня, прежде чем зайти на кухню. «День благодарения», — объясняю я. Папа надевает куртку. «Пончики?» — спрашивает он. Я киваю.
Звонит телефон. Мама отвечает. Это из магазина. Чрезвычайное положение номер один. Я иду на кухню за содовой. Она наливает мне апельсиновый сок, который я не могу пить, потому что он разъедает болячки на губах. Индейка плавает в раковине, айсберг из десятифунтовой индейки. Индейкаберг. Я чувствую себя «Титаником».
Мама кладет трубку, а затем гонит меня принять душ и убрать комнату. Я отмокаю в ванне. Набираю полную грудь воздуха и качаюсь на поверхности воды, потом выдыхаю весь воздух и погружаюсь на дно. Я держу голову под водой, чтобы слушать, как бьется сердце. Снова звонит телефон. Чрезвычайное положение номер два.
К тому времени как мне удается одеться, парад уже заканчивается и папа смотрит футбол. Щетина на подбородке припорошена сахарной пудрой. Не люблю, когда он торчит дома по праздникам. Мне нравится, когда папа чисто выбрит и при костюме. Он машет мне рукой, чтобы я не отсвечивала перед экраном.
Мама висит на телефоне. Чрезвычайное положение номер три. Змеящийся провод опутывает ее худенькое тело, словно веревка, которой она привязана к столбу. Из огромной кастрюли с кипящей водой барабанными палочками торчат две ноги. Мама кипятит замороженную индейку. «Она слишком большая. Не влезает в микроволновку, — объясняет мама. — Скоро оттает». Мама зажимает пальцем свободное ухо, чтобы сосредоточиться на том, что говорит ей по телефону собеседник. Я достаю из пакета простой пончик и возвращаюсь в свою комнату.
Всего три прочитанных журнала — и родители уже ссорятся. Пока еще не орут. Страсти кипят на медленном огне, временами выплескиваясь через край. Мне бы еще один пончик, но я не хочу идти за ним через зону боевых действий. Тут снова звонит телефон, и они расходятся по углам. Вот он мой шанс.
Когда я вхожу на кухню, у мамы к уху прижата телефонная трубка, но мама не слушает, что ей говорят. Она протирает запотевшее окно и пристально смотрит на задний двор. Я присоединяюсь к ней у раковины. Папа размашисто шагает по двору, рукой в рукавице-прихватке он держит за ногу дымящуюся индейку. «Он сказал, что на оттаивание уйдет куча времени», — бормочет мама. В трубке кто-то верещит тонким голосом. «Нет, не ты, Тед», — говорит мама в телефон. Папа кладет индейку на колоду и поднимает топор. Вжик. Топор застревает в плоти замороженной индейки. Папа начинает работать топором как пилой. Вжик. На землю падает кусок замороженной индейки. Папа поднимает его и машет им в сторону окна. Мама поворачивается к папе спиной и сообщает Теду, что она уже едет.
Как только мама отчаливает в свой магазин, папа берет обед на себя. Это вопрос принципа. Если бы он начал к ней цепляться по поводу ее подготовки ко Дню благодарения, ему пришлось бы доказывать, что он может справиться с этим лучше. Он приносит назад истерзанную грязную птицу и моет ее в раковине горячей водой и жидкостью для мытья посуды. Споласкивает топор.
Папа: Прямо как в старое доброе время. Правда, Мелли? Парень отправляется в лес и приносит домой обед. Это не так уж трудно. Стряпня требует только организованности и умения читать. А теперь подай мне хлеб. Я собираюсь приготовить настоящую начинку, как когда-то делала моя мама. Твоя помощь не требуется. Почему бы тебе пока не заняться домашним заданием? Может, сделаешь какую-нибудь дополнительную работу, чтобы немного подтянуть успеваемость. Я тебе крикну, когда обед будет готов.
Я обдумываю его предложение, но сегодня выходной, поэтому я устраиваюсь на диване в гостиной и смотрю старое кино. Я дважды унюхиваю запах дыма, вздрагиваю при звуке бьющегося стекла и слушаю, как папа общается с дамой по индюшачьей горячей линии. Дама говорит, что в любом случае суп из индейки — лучшее блюдо на День благодарения. Час спустя с деланым энтузиазмом отца, впустую потратившего уйму времени, папа зовет меня на кухню. На разделочной доске гора костей. На плите кипит кастрюля с клейстером. Серые, зеленые и желтые кусочки булькают в рыгающей белой массе.
Папа: По идее, это должен был быть суп.
Я:
Папа: Он показался мне слегка водянистым, поэтому я добавил загустителя. А еще немного кукурузы и гороха.
Я:
Папа (достает из заднего кармана бумажник): Закажи по телефону пиццу. А я пока избавлюсь от этого.
Я заказываю пиццу с двойным сыром, двойными грибами. Папа закапывает суп на заднем дворе рядом с нашим умершим биглем Ариэлем.
Дужка
Я хочу воздвигнуть памятник нашей индейке. Еще ни одну птицу не подвергали таким мучениям, чтобы приготовить из нее такой поганый обед. Я откапываю из помойки кости и приношу их в художественный класс. Мистер Фримен явно впечатлен. Он говорит, чтобы я работала над птицей, но не забывала о дереве.
Мистер Фримен: Мелинда, ты в огне, я вижу это по твоим глазам. Ты уловила самую суть, а именно субъективное воздействие коммерциализации праздника. Это чудесно, чудесно! Будь птицей. Ты птица. Принеси себя в жертву утраченным семейным ценностям и консервированному батату.
Что?
Для начала я решаю склеить всю кучу костей наподобие дров для костра (улавливаете мою мысль? Дерево — дрова), но мистер Фримен вздыхает. Я могу гораздо лучше, считает он. Я раскладываю кости на листе черной бумаги и пытаюсь нарисовать вокруг них индейку. Но даже без мистера Фримена понимаю, что это полный отстой. Тем временем мистер Фримен уже всецело отдался написанию собственной картины и напрочь забыл о нашем существовании.
Он работает над громадным полотном. Поначалу оно казалось невыразительным — стоящее у серой дороги ветхое здание в дождливый день. Мистер Фримен убил неделю на то, чтобы изобразить грязные монеты на тротуаре, при этом ему пришлось изрядно попотеть. Он нарисовал лица членов школьного совета, выглядывающих из окон здания, затем надел на окна решетки и превратил здание в тюрьму. Его полотно даже лучше, чем телик, так как ты не знаешь, что будет дальше.
Я комкаю бумагу и раскладываю кости на столе. Мелинда Сордино — Антрополог. Выкопала останки после отвратительного жертвоприношения. Звенит звонок, и я смотрю на мистера Фримена преданными щенячьими глазами. Он говорит, что позвонит моей учительнице испанского и что-нибудь придумает в мое оправдание. Я могу остаться еще на один урок. Услышав это, Айви тоже просит разрешения остаться. Она пытается побороть свой страх перед клоунами. Она создает какую-то странную скульптуру — маску позади лица клоуна. Мистер Фримен оставляет и Айви тоже. Она выразительно поднимает в мою сторону брови и ухмыляется. Но когда до меня доходит, что сейчас самый удобный момент сказать ей что-нибудь приятное, она уже с головой погружается в работу.
Я приклеиваю кости к куску дерева, выкладывая скелет, как выставочный экспонат. Отыскиваю в закромах со всяким хламом ножи и вилки и приклеиваю их так, словно они атакуют кости.
Делаю шаг назад. Нет, чего-то не хватает. Снова роюсь в закромах и нахожу наполовину оплавленную пальму из набора «Лего». Годится. Мистер Фримен держится за все, что любой нормальный человек давным-давно выкинул бы на помойку: игрушки из «Макдоналдса», потерянные игральные карты, чеки из продовольственного магазина, ключи, куклы, солонку, игрушечные поезда… Откуда он знает, что этот хлам может быть искусством?
Я отрываю голову у куклы Барби и присобачиваю ее внутрь индейки. Похоже, все правильно. Айви проходит мимо и смотрит. Она выгибает левую бровь и кивает. Я машу рукой, и мистер Фримен подходит ко мне, чтобы проверить. Он буквально в обмороке от восторга.
Мистер Фримен: Отлично, отлично! И что это тебе говорит?
Черт. Не знала, что будет допрос. Я прочищаю горло. Но оно такое сухое, что слова не выходят наружу. Я делаю вторую попытку, слегка прокашлявшись.
Мистер Фримен: Горло болит? Не волнуйся, сейчас это повальное бедствие. Хочешь, я скажу тебе, что вижу? (Я облегченно киваю.) Я вижу девочку, оказавшуюся среди объедков после неудачного праздника, ее плоть обдирают день за днем, и тело постепенно иссыхает. Нож и вилка определенно говорят об уязвимости среднего класса. Пальма — хороший штрих. Возможно, разбитые мечты? Фальшивый медовый месяц, необитаемый остров? О, если ты положишь это на кусок тыквенного пирога, получится десертный остров.
Я не могу удержаться от смеха. Я потихоньку начинаю врубаться. Под пристальными взглядами Айви и мистера Фримена я вытаскиваю голову Барби и венчаю ею выложенный из костей остов. Теперь для пальмы нет места, и я убираю ее. Передвигаю нож и вилку так, чтобы они были похожи на ноги. Заклеиваю рот Барби липкой лентой.
Я: А у вас есть прутики? Маленькие веточки? Я могу использовать их вместо рук.
Айви открывает рот, явно собираясь что-то сказать, и снова закрывает его. Мистер Фримен изучает мою незатейливую композицию. Он молчит. А вдруг он недоволен, что я убрала пальму? Айви делает вторую попытку. «Выглядит устрашающе, — говорит она. — И как-то очень странно. Но тут не такой страх, что от клоунов, хм, как бы поточнее выразиться? Типа, не хочется слишком долго на это смотреть. Хорошая работа, Мел».
Нет, вовсе не такой реакции я ожидала, но она, похоже, все-таки положительная. Айви могла просто-напросто задрать нос или полностью игнорировать меня, но не стала этого делать. Мистер Фримен постукивает пальцем по подбородку. И выглядит он вроде как слишком серьезно для учителя рисования. Он меня нервирует.
Мистер Фримен: Здесь есть скрытый смысл. Боль.
Звенит звонок. Я выхожу из класса прежде, чем он успевает сказать что-то еще.
Очистить и удалить сердцевину
На биологии мы изучаем фрукты. У мисс Кин ушла целая неделя на то, чтобы ознакомить нас с тончайшими аспектами тычинок и пестиков, стручков и цветов. Земля замерзла, по ночам идет слабый снежок, но мисс Кин решительно настроена сохранить в своем классе Весну.
Задний Ряд спит до тех пор, пока мисс Кин не говорит, что яблони для размножения нуждаются в пчелах. «Размножение» — триггерное слово для Заднего Ряда. Они сразу смекают, что оно имеет отношение к сексу. Лекция о пестиках и тычинках превращается в большое Ха-ха. Мисс Кин начала преподавать в школе чуть ли не в Средние века. И даже целый ряд перегретых гипоталамусов (или гипоталамий?) не способен отвлечь ее от темы урока. Она спокойно переходит к прикладной части лабораторной работы.
Яблоки. Каждый из нас получает «ред-роум», или «кортланд», или «макинтош», а также пластмассовый нож. Нас инструктируют разрезать яблоко на части. Задний Ряд затевает сражение на мечах. Мисс Кин молча пишет их фамилии на доске, а рядом — текущую оценку. И за каждую минуту битвы она снимает один балл. И только когда их B с минусом съезжает на С с минусом, они наконец понимают, что происходит. И дружно воют.
Задний Ряд: Это несправедливо! Вы не можете так с нами поступить! Вы даже не дали нам шанса.
Она снимает еще один балл. Они пилят свои яблоки, бормочут, бормочут себе под нос, блин, блин, старая корова, тупая училка.
Дэвид Петракис, мой напарник по лабораторным работам, разрезает свое яблоко на восемь равных клинообразных сегментов. Он не произносит ни слова. У него сейчас как раз середина Недели Подготовки К Медфаку. Дэвид никак не может решить, куда ему поступать: на медфак или на юрфак. Девятый класс для него просто мелкое неудобство. Реклама крема от прыщей перед художественным фильмом о Жизни.
В воздухе стоит аромат яблок. Как-то в детстве родители привели меня в яблоневый сад. Папа помог мне забраться на яблоню. Я словно попала в сказку: все кругом такое аппетитное, и красное, и в листиках, и ветка даже не шелохнется. В воздухе роились пчелы, настолько объевшиеся яблоками, что им было недосуг меня кусать. Солнце нагрело голову, и ветер толкнул маму в папины объятия, и все родители и дети, собиравшие яблоки, улыбнулись и продолжали улыбаться целую минуту.
Вот как пахнет кабинет биологии.
Я кусаю свое яблоко. Белые зубы кусают сочное красное яблоко.
Дэвид возмущенно фыркает.
Дэвид: Ты не должна этого делать! Она тебя убьет! Ты должна была его разрезать! Ты что, даже не слушаешь? Ты потеряешь баллы!
Ясное дело, Дэвид пропустил сидение на яблоне, как элемент счастливого детства.
Я разрезаю оставшуюся часть яблока на пять толстых кусочков. У моего яблока двенадцать семечек. Одно семечко раскололось и теперь тянет вверх белую руку. Яблоня, растущая из семечка, растущего в яблоке. Я показываю проросшее семечко мисс Кин. Она ставит мне дополнительный балл. Дэвид делает большие глаза. Биология — это так круто.
Первая поправка, стих второй
В воздухе витает мятежный дух. До зимних каникул осталась одна неделя. Ученики буквально стоят на ушах, но учителя слишком измотаны, чтобы реагировать. До меня доходят слухи о яичном коктейле в учительской. Этот революционный настрой в результате вырывается на волю на уроке обществознания. Дэвид Петракис продолжает бороться за свободу слова.
Я прихожу на урок вовремя. Боюсь, что с мистером Шеей номер с украденными разрешениями на опоздание не пройдет. Дэвид садится в первом ряду и кладет на стол магнитофон. И как только мистер Шея открывает рот, чтобы заговорить, Дэвид одновременно жмет на кнопки «Пуск» и «Запись», совсем как пианист, делающий вступительный аккорд.
Мистер Шея держит класс в узде. Мы галопом приближаемся к Войне за независимость США. Он пишет на доске: «Нет — налогам без представительства». Очень крутой слоган. Жаль, что в то время не выпускали стикеров на бампер. Переселенцы хотели иметь своего представителя в британском парламенте. Но никто из власть имущих не желал прислушиваться к их требованиям. В записи эта лекция будет звучать классно. Мистер Шея хорошо подготовился: конспект и все такое. Его голос гладкий, как только что заасфальтированное шоссе. Никаких ухабов. Хотя запись не сможет передать сердитого блеска в глазах мистера Шеи. Он говорит и злобно зыркает на Дэвида. Если бы учитель смотрел на меня с такой ненавистью целых сорок восемь минут, я непременно превратилась бы в растаявшее желе. Дэвид отвечает ему таким же взглядом.
Школьный офис — лучшее место для собирания сплетен. Я подслушала обрывки разговора насчет адвоката Петракиса, когда стояла под дверью в ожидании очередной лекции от моего психолога насчет того, что мне не следует растрачивать свой потенциал. Откуда ей знать, какой у меня потенциал? Потенциал для чего? Когда она заводит свою шарманку, я обычно считаю точки на потолочной плитке в ее кабинете.
Сегодня мой психолог что-то запаздывает, поэтому я незаметно сижу на красном пластиковом стуле и слушаю, как секретарша пулеметными очередями выкладывает добровольцу из родительского комитета новости о Петракисе. Родители Дэвида наняли известного, въедливого, дорогущего адвоката. Он угрожает вчинить иск школьному округу и мистеру Шее по нескольким статьям: начиная от некомпетентности и кончая нарушением гражданских прав. Дэвиду разрешили взять в класс магнитофон, чтобы запротоколировать «дальнейшие возможные нарушения». Секретаршу, похоже, не слишком расстраивает мысль о том, что мистера Шею могут уволить. Спорим, она его очень хорошо знает.
Должно быть, Дэвид рассказал адвокату об испепеляющих взглядах, потому что уже на следующий день в классе устанавливают видеокамеру. Дэвид Петракис — мой герой.
Вомбаты рулят!
Я позволила Хизер уговорить себя пойти с ней на Зимнее собрание. Она ненавидит сидеть в одиночестве почти так же, как и я. Марты не дали ей высочайшего разрешения сесть рядом с ними. Хизер расстроена, но старается не показывать виду. Она одета идеально, строго в их стиле: на ней зеленый джемпер с огромным лицом Санты, красные леггинсы и отороченные мехом сапоги. Слишком, слишком идеально. Я решительно отказываюсь одеваться по сезону.
Хизер заранее отдает мне подарок на Рождество — сережки колокольчиками, которые звенят всякий раз, как я поворачиваю голову. Значит, придется ей тоже что-нибудь подарить. Может быть, я проявлю благоразумие и куплю ей ожерелье дружбы. Она как раз подходящий тип для такого ожерелья. Колокольчики — удачный выбор. Я трясу головой на протяжении всей речи Самого Главного, чтобы заглушить его голос. Оркестр играет что-то незнакомое. Хизер говорит, что школьный совет не разрешил им исполнить ни рождественские гимны, ни песни, которые поются на Хануку или Кванзу. Вместо мультикультуры мы получаем отсутствие культуры вообще.
Кульминацией собрания становится объявление нашего нового названия и талисмана. Самый Главный зачитывает результаты голосования: Пчелы — 3. Айсберги — 17. Покорители вершин — 1. Вомбаты — 32. Остальные 1547 бюллетеней были поданы за другие названия или заполнены неразборчиво.
«Вомбаты „Мерриуэзер“». Звучит неплохо. Мы Вомбаты, вероломные, веселые Вомбаты! Визгливые, вертлявые, ворчливые Вомбаты. По дороге к моему автобусу мы проходим мимо чирлидерши Рейвен и чирлидерши Эмбер. Они хмурятся, усиленно пытаясь подобрать рифму к слову «вомбат». Демократия — отличный общественный институт.
Зимние каникулы
Школа закончилась, и до Рождества всего два дня. Мама оставляет мне записку, где пишет, что я могу установить елку, если хочу. Я вытаскиваю из подвала елку и пристраиваю ее на подъездной дорожке, чтобы удобнее было смести пыль и паутину. Электрические гирлянды мы никогда не снимаем. Все, что мне надо сделать, — повесить игрушки. Но какое Рождество без карапузов! Малышня заряжает Рождество весельем. Интересно, а нельзя ли взять хотя бы одного напрокат на время праздников? Когда я была еще совсем крошечной, мы обычно покупали живую елку и засиживались допоздна, мы пили горячий шоколад и выбирали правильное место для особых игрушек. Похоже, мои родители покончили с волшебством, когда я поняла, что никакого Санты не существует. Возможно, не следовало говорить им, что я знаю, откуда на самом деле подарки. Это разбило им сердце.
Спорим, если бы я у них не родилась, они бы уже давным-давно развелись. Я стала для них крупным разочарованием. Я не хорошенькая, не умная, не спортивная. Я точь-в-точь как они — заурядный трутень в одежде из секретов и лжи. Неужели нам придется лицедействовать до тех пор, пока я не окончу школу?! Стыд и срам, что мы не можем просто признаться в своей неспособности жить семьей, не можем продать дом, поделить деньги и уже самостоятельно разобраться со своей судьбой.
Счастливого Рождества.
Я звоню Хизер, но она ушла за покупками. Интересно, а что бы сделала Хизер, если бы оказалась в доме, где не пахнет Рождеством? Надо представить, что я — Хизер. Я напяливаю на себя ворох дурацкой зимней одежды, надеваю на голову шарф и ныряю в сугроб. Задний двор выглядит роскошно. Деревья и кусты обернуты льдом, чудесным образом отражающим солнечный свет. Мне остается только слепить снежного ангела.
Я топаю к нетронутому участку снега и падаю навзничь. Шарф сползает мне на рот, и я машу крыльями. Запах мокрой шерсти напоминает мне о первом классе, о том, как я шла в школу холодным утром, а в варежках позвякивала мелочь на молоко. Мы тогда жили в другом доме, он был намного меньше. Мама работала продавщицей в ювелирном магазине, и, когда я возвращалась из школы, она уже ждала меня дома. У папы тогда был нормальный босс, и папа бредил покупкой лодки. Я верила в Санта-Клауса.
Ветер шевелит ветки над головой. Сердце звенит, как пожарный колокол. Шарф слишком плотно закрывает рот. Я стягиваю его, чтобы нормально дышать. Влага на коже замерзает. Мне хочется загадать желание, но я не знаю, что себе пожелать. И мне за пазуху набился снег.
Я отламываю ветки со священных кустов, добавляю пару сосновых веточек и несу в дом. Перевязываю ветки красной шерстяной ниткой, чтобы поставить на каминную полку и обеденный стол. Получается не так красиво, как у той дамы по телику, зато в комнате пахнет гораздо лучше. Мне все еще хочется взять напрокат малыша, на один-два дня.
На Рождество наша семья спит до полудня. Я дарю маме черный джемпер, а папе — компакт-диск с хитами шестидесятых. Они вручают мне охапку подарочных сертификатов, телик для моей комнаты, коньки и альбом для рисования с угольными карандашами. По их словам, они заметили, что я рисую.
И я чуть было не выкладываю им все здесь и сейчас. У меня на глаза наворачиваются слезы. Они заметили, что я пытаюсь рисовать. Они заметили. Я стараюсь проглотить застрявший в горле снежок. Это явно будет очень и очень нелегко. Уверена, они подозревают, что я была на той вечеринке. Возможно, они даже слышали, что я вызвала копов. Но мне хочется выложить им все как на духу прямо сейчас, пока мы сидим возле нашей пластиковой елки, а по телику показывают «Рудольф, красноносый северный олень».
Я вытираю глаза. Они ждут, неуверенно улыбаясь. Снежок в горле становится больше. Когда я прокралась домой в ту ночь, родителей не было. И их машин тоже. По идее, я собиралась заночевать у Рейчел, и они меня не ждали, это точно. Я стояла под душем до тех пор, пока не закончилась горячая вода, затем забралась в постель и не сомкнула глаз. Мама подъехала около двух ночи, папа — под утро. Каждый сам по себе. Интересно, чем они занимались? Кажется, я знала. И как тогда мне говорить с ними о той ночи? И с чего начать?
Рудольф отправляется в путь на плавучей льдине. «Я свободен», — объявляет он. Папа смотрит на часы. Мама засовывает оберточную бумагу в мешок для мусора. Они покидают комнату. Я все еще сижу на полу с бумагой и карандашами в руках. Я даже не говорю «спасибо».
Тяжкий труд
Два дня я наслаждаюсь свободой, но потом родители решают, что «мне не следует все каникулы слоняться без дела по дому». Я должна ходить с ними на работу. Я еще не достигла возраста, когда можно работать официально, но им наплевать. Весь уик-энд я провожу в мамином магазине, разбирая покупки, которые вернули сварливые люди. Интересно, кто-нибудь в Сиракьюсе получил на Рождество именно то, что хотел? Что-то не похоже. Поскольку я еще несовершеннолетняя, мама запихивает меня на склад в подвальном помещении. По идее, я должна заново складывать рубашки и закреплять одиннадцатью булавками. Остальные служащие смотрят на меня как на вражеского лазутчика, типа, мама специально услала меня в подвал, чтобы шпионить за ними. Я складываю парочку рубашек, затем бросаю это дело и достаю книжку. Они расслабляются. Я одна из них. Мне тоже не хочется здесь находиться.
Мама явно в курсе, что я сачковала, но в машине на обратном пути ничего мне не говорит. Мы покидаем магазин уже в темноте, потому что у мамы слишком много работы. Продажи оказались провальными. Она даже близко не подошла к той цели, которую перед собой ставила. Надвигается сокращение штатов. Мы останавливаемся на красный свет. Мама закрывает глаза. Ее кожа какого-то тусклого серого цвета, как у тысячу раз стираного-перестираного ветхого белья. Мне становится стыдно, что я не сложила для нее больше рубашек.
На следующий день меня посылают к папе. Он продает какую-то там страховку, точно не знаю, какую и зачем. Папа раскладывает для меня карточный столик в своем кабинете. В мои обязанности входит вкладывать календарики в конверты, заклеивать конверты и пришпандоривать марки. Папа сидит за письменным столом и треплется с приятелями.
Он работает, положив ноги на стол. Он ржет вместе с друзьями по телефону. Он просит заказать ему ланч. Я считаю, он заслуживает того, чтобы складывать в подвале рубашки и помогать маме. А я заслуживаю того, чтобы посмотреть кабельное, или немного вздремнуть, или даже пойти в гости к Хизер. Ко времени обеденного перерыва у меня в животе уже бурлит от злости. Папина секретарша приносит ланч и говорит мне что-то приятное, но я ей не отвечаю. Я испепеляю взглядом папин затылок. Злая, злая, злая. Мне предстоит заклеить еще миллион конвертов. Я провожу языком по клейкому клапану конверта. Острый край режет мне язык. Я чувствую во рту вкус крови. В памяти на секунду всплывает ОНО. И вся злость со свистом выходит из меня, словно из лопнувшего воздушного шарика. Папа реально выходит из себя, когда видит, сколько конвертов я испачкала кровью. И говорит, что мне нужна помощь профессионала.
В результате я даже рада возможности вернуться в школу.
Фол
Теперь, когда земля покрыта двухфутовым слоем снега, учителя физкультуры проводят с нами занятия в помещении. Температура в спортзале не превышает сорока градусов, «потому что немного холодного воздуха еще никому не повредило». Им легко говорить, они-то ходят в спортивных штанах.
Первый вид спорта для занятий в помещении — это баскетбол. Мисс Коннорс учит нас технике штрафных бросков. Я подхожу к линии, два отскока, и я закидываю мяч в сетку. Мисс Коннорс просит меня повторить еще раз. И еще раз. Она продолжает подавать мне мячи, а я продолжаю бросать их в корзину — вжик, вжик, вжик. После сорока двух бросков мои руки начинают дрожать и я промахиваюсь. К этому времени вокруг меня собирается весь класс и внимательно наблюдает. Николь уже с трудом сдерживается. «Тебе надо присоединиться к команде!» — кричит она.
Мисс Коннорс: Давай встретимся здесь перед занятиями. С Такой Рукой Ты Далеко Пойдешь.
Я:
Очень грустная и подавленная, мисс Коннорс встречает меня три часа спустя. Она держит двумя пальцами листок с моими оценками: D, C, B—, D, C—, C, A. Никакой баскетбольной команды для меня, потому что А — это за ИЗО, таким образом, мой средний балл позорно опустился до 1,7. Мисс Коннорс вряд ли получила бы стипендию по лакроссу, будь она слишком застенчивой или неуверенной в себе. Она учит меня бегать с ускорением, затем снова ставит на линию для бросков в корзину.
Мисс Коннорс: Попробуй дальний бросок теперь бросок с отскоком от щита ты случайно не думала о репетиторе хороший бросок эти D убивают тебя попробуй спланировать так чтобы немного поработать возможно я смогу договориться об оценке по обществознанию но твоя англичанка просто невыносима она ненавидит спорт ты умеешь делать крюк?
Я просто делаю, что велят. Будь я расположена к разговору, то объяснила бы ей, что ни за какие коврижки не согласилась бы играть в ее баскетбольной команде. Вся эта беготня? Пот? Тычки от генетических мутантов? Нет, я так не думаю. Ну, вот если бы в баскетболе был специальный игрок только на штрафные броски, тогда я, может, и подумала бы над ее предложением. Другая команда играет не по правилам, вы должны ответить им тем же. Бум! Но это так не работает, ни в баскетболе, ни в жизни.
Мисс Коннорс явно чего-то ждет от меня. Мне нравится ощущение достижения блестящих результатов — пусть даже это просто штрафные броски. Ладно, дам ей еще пару минут помечтать. В зал постепенно стягиваются члены мужской школьной команды. Их лучший результат ноль и пять. Вомбаты, вперед!
Жердяй, в миру Брендан Келлер, тот самый, что опозорил меня, заклеймив пюре с подливкой в первый день учебного года, встает под корзину. Другие парни начинают отрабатывать броски с разбега и делают пас на него. Брендан тянет вверх тощие осьминожьи щупальца и небрежно кладет мяч в кольцо. Пока команда наших мальчиков единственная на площадке, они непобедимы.
Их тренер рявкает что-то, чего я не понимаю, и команда выстраивается за Жердяем отрабатывать штрафные броски. Он ведет мяч. Отскок, два, три. Бросает. Мимо. Отскок, два, три. Мимо. Мимо. Мимо. Не может забросить мяч с линии, чтобы спасти свою тощую шею.
Мисс Коннорс беседует с тренером мальчиков, а я тем временем наблюдаю за тем, как остальные игроки набирают жалкие тридцать процентов. Затем она подносит свисток к губам и машет рукой, чтобы я подошла. Мальчики освобождают дорогу, и я занимаю свое место у линии. «Покажи им», — командует мисс Коннорс. Я — дрессированный тюлень, отскок, отскок, вверх, вжик; снова, и снова, и снова, и вот парни бросают стучать мячом и смотрят на меня во все глаза. У мисс Коннорс и Тренера баскетболистов очень серьезный разговор, брови нахмурены, руки в боки, мышцы рельефно выступают. Мальчики таращатся на меня — гостью с Планеты штрафных ударов. Кто эта девочка?
Мисс Коннорс тычет Тренеру кулаком в плечо. Тренер тычет мисс Коннорс кулаком в плечо. Они предлагают мне сделку. Если я научу Жердяя делать штрафные броски, то автоматом получу А по физкультуре. Я пожимаю плечами, и они ухмыляются. Я не могу сказать «нет». Я вообще ничего не могу сказать. Я просто не приду.
За границами рисунка
Наша изостудия процветает, совсем как музей, где полно всяких там о’кифов, ван гогов и картин того француза, который рисовал цветы точками. На сегодняшний день мистер Фримен — Модный Учитель. Поговаривают, что его собираются выбрать Учителем года.
Его кабинет — это Крутой центр. У мистера Фримена всегда включено радио. И нам разрешено есть за работой. Он выгнал парочку бездельников, принявших свободу за возможность не соблюдать правила, поэтому оставшиеся теперь не рискуют выступать. Уж больно тут весело, чтобы все бросить. Во время занятий комната буквально набита живописцами, скульпторами и графиками, а некоторые ребята засиживаются здесь до отхода последних автобусов.
Работа мистера Фримена над картиной продвигается весьма успешно. Какой-то газетчик пронюхал про нее и написал статью. В статье мистер Фримен представлен как непризнанный гений, посвятивший себя делу образования. Статья была иллюстрирована цветной фотографией незаконченной картины. Поговаривали, что кое-кто из членов школьного совета узнал там себя. Спорим, они вчинят ему иск.
Мне бы хотелось, чтобы мистер Фримен вставил дерево в свой шедевр. Я пока не могу понять, как сделать свое более реалистичным. Я уже испортила шесть кусков линолеума. Дерево отчетливо предстает перед моим мысленным взором: высокий дуб с покрытым шрамами мощным стволом и тянущейся к солнцу густой листвой. Перед нашим домом как раз растет такой. Я чувствую дуновение ветра, слышу песню пересмешника, возвращающегося в свое гнездо. Но на линолеуме дерево получается у меня каким-то мертвым, похожим на зубочистку или на детский рисунок. Мне никак не удается вдохнуть в него жизнь. Мне хочется все бросить. Перестать мучиться. Но я не знаю, чем еще можно заняться, поэтому продолжаю потихоньку ковыряться.
Вчера сюда ворвался Самый Главный. Вынюхивал, что это мы тут делаем. Его усы так и ходили вверх-вниз, а глаза, точно два радара, обшаривали комнату в поисках нарушений. Но не успел он переступить порог комнаты, как невидимая рука выключила радио, а пакетики с картофельными чипсами моментально испарились, оставив после себя только слабый аромат соли, примешивающийся к запахам киновари и сырой глины.
Самый Главный внимательно осмотрел комнату на предмет нежелательного веселья. Но обнаружил только низко склоненные головы, остро отточенные карандаши и опущенные в краску кисточки. Мистер Фримен потрогал темные корни на голове у дамы из школьного совета и поинтересовался, нуждается ли Самый Главный в помощи. Самый Главный размашистым шагом вышел из класса и направился в сторону курительного рая Отбросов общества.
Когда я вырасту, то, возможно, стану художником.
Помогите, кто может
Хизер оставила у меня в шкафчике записку, умоляя прийти к ней после школы. У нее неприятности. Она не соответствует стандартам Март. Всхлипывая, она выкладывает мне всю историю в своей комнате. Я слушаю и общипываю катышки на джемпере.
В преддверии Дня святого Валентина Марты решили устроить мастер-класс шитья подушечек для маленьких детей, которые лежат в больнице. Мег-и-Эмили сшивали подушечки с трех сторон, а остальные набивали, прострачивали их, потом приклеивали сердца и плюшевых мишек. Хизер отвечала за сердца. Она очень волновалась, так как кое-кто из Март не одобрил ее наряда. Они накричали на нее, обвинив в том, что она приклеивает кривые сердца. А затем еще слетела крышечка от бутылочки с клеем, и Хизер напрочь испортила подушечку.
На этой драматической ноте она швыряет куклу через всю комнату. Я убираю от греха подальше лак для ногтей.
Мег низвела Хизер до набивальщицы подушек. Когда производство подушек было налажено, началось собрание. Тема: Развозка консервированных продуктов. Старшие Марты ответственны за доставку еды нуждающимся (в сопровождении фотокорреспондента) и встречу с начальством с целью координации возникающих потребностей в координации.
Я отключаюсь. Она говорит о том, кто отвечает за старост класса, кто — за рекламу, ну, за все такое прочее. Я продолжаю витать в облаках до тех пор, пока Хизер внезапно не произносит: «Мел, я знала, что ты будешь не против».
Я: Что?
Хизер: Я знала, что ты не откажешься помочь. Думаю, Эмили сделала это из вредности. Она меня не любит. Я собиралась попросить тебя помочь, а потом заявить, что это я сама, но тогда придется врать и вообще до конца года корпеть над плакатами. Поэтому я сказала, что у меня есть подруга — готовая работать на благо общества талантливая художница, и спросила, не может ли она помочь с плакатами.
Я: Кто?
Хизер (уже смеется, но я на всякий пожарный держу в руках лак для ногтей): Ты, глупышка. Ты рисуешь лучше меня, и у тебя куча времени. Пожалуйста, обещай, что сделаешь это для меня! Может, когда они увидят, какая ты талантливая, то предложат тебе вступить в их клуб. Пожалуйста, пожалуйста — взбитые сливки, молотые орехи и вишенка на торте, — пожалуйста! Если я лоханусь, они точно внесут меня в черный список, и тогда я уже никогда не смогу стать членом приличного клуба.
Как я могла сказать «нет»?
Мертвые лягушки
На уроке биологии мы продвинулись на следующую ступень: от фруктов до лягушек. Лягушки были запланированы на апрель, но лягушачья компания доставила наших жертв 14 января. Проспиртованные лягушки имеют тенденцию исчезать из лабораторного шкафа, поэтому сегодня мисс Кин вооружает нас ножами и просит, чтобы мы постарались не сблевать.
Дэвид Петракис, мой напарник по лабораторным работам, в состоянии крайнего возбуждения: наконец-то анатомия. У нас есть список для заучивания. Скакательная кость соединена с прыгательной, жевательная — с мухохватательной. Дэвид на полном серьезе собирается надеть для проведения «операции» маску из тех, что обычно носят доктора. По его мнению, это будет хорошей практикой.
Комната уже не пахнет яблоками. Она пахнет лягушачьими соками — чем-то средним между запахами дома престарелых и картофельного салата. Задний Ряд весь внимание. Резать мертвых лягушек — это круто.
Наша лягушка лежит на спине. Неужели ждет, когда придет принц и смачным поцелуем опринцессит ее? Я стою над ней с ножом в руках. Голос мисс Кин замирает до комариного писка. Горло сжимается. Трудно дышать. Чтобы не упасть, я опираюсь о стол. Дэвид пришпиливает лягушачьи ручки к препараторскому столу. Он раздвигает лягушачьи ножки и пришпиливает лягушачьи ступни. Я должна вскрыть ей живот. Она молчит. Она уже мертвая. У меня в кишках рождается крик — я чувствую боль, запах грязи, листья в волосах.
Я не помню, как отрубилась. Дэвид говорит, что когда я падала, то стукнулась головой о край стола. Медсестра вызвала маму, потому что мне нужно наложить швы. Докторша ярким лучом света проверяет глазное дно. Интересно, она может прочитать спрятанные там мысли? А если да, что она будет делать? Позовет копов? Отправит меня в психушку? Оно мне надо? Я просто хочу спать. Ведь я надеялась, что если не буду говорить об этом, если постараюсь заглушить воспоминания, то все само собой рассосется. Не рассосалось. Мне нужна операция на мозг, чтобы вырезать это из головы. Может, мне стоит подождать, когда Дэвид Петракис станет врачом, и попросить его о таком одолжении.
Образцовый гражданин
Хизер устроилась моделью в универмаге в торговом центре. По ее словам, они с мамой покупали носки через неделю после того, как ей сняли брекеты, и одна дама поинтересовалась, работала ли она когда-нибудь моделью. У меня имеется сильное подозрение, что тут не обошлось без ее папаши, который какая-то шишка в управляющей компании торгового центра.
Модельным ангажементом Хизер расквиталась с Мартами по полной. Они все как одна хотят стать Новой Лучшей Подругой Хизер. Но она просит меня пойти с ней на фотосессию в купальнике. Думаю, боится облажаться на глазах у публики. Нас подвозит мама Хизер. Она спрашивает, не хочу ли я стать моделью. Хизер говорит, что я слишком стеснительная. Я ловлю взгляд мамаши Хизер в зеркале заднего вида и прикрываю рот ладонью. В маленьком прямоугольном зеркале струпья на губах выглядят чудовищно.
Конечно, я хочу быть моделью. Хочу накрасить веки золотыми тенями. Я видела это на обложке журнала, смотрелось потрясающе. Модель была похожа на сексапильную инопланетянку: на таких обычно сворачивают шею, но даже пальцем не смеют дотронуться.
Я слишком люблю чизбургеры, чтобы быть моделью. Хизер вообще перестала есть и теперь жалуется на застой жидкости в организме. Но с учетом того, какими темпами ее диета сжигает серое вещество, ей скорее следует волноваться о застое в мозгах. Во время последнего медосмотра у нее был первый с половиной размер, а ей ну просто необходимо похудеть до первого.
Фотосессия проходит в здании, где так холодно, что впору хранить лед. Хизер напоминает нашу индейку на День благодарения, вырядившуюся в синее бикини. Мурашки на коже у Хизер даже больше, чем ее сиськи. У меня зуб на зуб не попадает от холода, и это притом, что на мне лыжная куртка и шерстяной свитер. Фотограф врубает музыку и начинает строить собравшихся девиц. Хизер страшно увлечена происходящим. Она откидывает голову, призывно смотрит в камеру и сверкает зубами. Фотограф только и делает, что твердит: «Сексапильно, сексапильно, чудненько. Посмотри сюда. Сексапильно, думай о мальчиках, думай о пляже». Я содрогаюсь. Во время групповой съемки Хизер чихает, и ее мамаша несется к ней с носовыми платками. А вдруг это заразно? Горло меня доканает. Мне хочется вздремнуть.
Вместо золотых теней я покупаю лак для ногтей «Черная смерть». Очень мрачный, с волнистыми красными прожилками. Мои ногти обкусаны до мяса, и лак будет смотреться естественно. Надо бы подобрать футболку в тон. Что-нибудь чахоточно-серое.
Смерть от алгебры
Мистер Стетман не желает сдаваться. Он решительно настроен доказать, что алгебра — нечто такое, чем мы будем пользоваться до самой смерти. Если он преуспеет в этом деле, ему, как мне кажется, должны дать звание Учителя столетия и наградить двухнедельной поездкой на Гавайи с оплатой всех расходов. Каждый день он приходит в класс с новым подтверждением Прикладного Значения Алгебры. Он так сильно переживает за алгебру и своих учеников, что хочет их примирить, и это очень мило с его стороны. Он похож на дедушку, который стремится соединить двух молодых людей, из которых, по его мнению, получится идеальная пара. Только вот у молодых людей нет ничего общего, и они ненавидят друг друга.
Сегодняшний пример Прикладного Значения Алгебры касается покупки гуппи в зоомагазине и подсчета того, сколько гуппи вы сможете получить, если захотите заняться разведением аквариумных рыбок. Но как только гуппи превращаются в иксы и игреки, у меня запотевают контактные линзы. Урок заканчивается дебатами между зоозащитниками, заявляющими, что держать рыбок в аквариуме аморально, и предприимчивыми капиталистами, утверждающими, что есть куча более надежных способов делать деньги, чем вкладывать их в рыбок, которые поедают свою молодь. Я смотрю, как за окном падает снег.
Работа со словом
Лахудра терзает нас сочинениями. Неужели учителя английского проводят каникулы в мечтах о подобных вещах?
Первое сочинение в этой четверти «Почему Америка является великой?» стало засадой на пятьсот слов. Лахудра дала нам на него три недели. Только Тиффани Уилсон вовремя сдала сочинение. Однако задание оказалось не совсем уж провальным, поскольку Лахудру, как руководительницу театрального кружка, настолько впечатлило выступление некоторых ребят при обосновании того, почему они нуждаются в отсрочке, что ей удалось завербовать парочку новых членов.
У нее извращенное чувство юмора и чокнутый стилист. Следующее сочинение из области беллетристики: «Самое лучшее оправдание по поводу невыполненного домашнего задания», на пятьсот слов. У нас была только одна ночь. Все сдали работу вовремя.
И сейчас Лахудра старается ловить момент. «Как бы я изменил среднюю школу?», «Снизить минимальный порог права управлять автомобилем до 14 лет», «Идеальная работа». Темы забавные, но она штампует их одну за другой. Сперва она ломает нас через колено, заваливая работой, на которую мы реально не можем жаловаться, потому что все темы — это, типа, то, о чем мы постоянно говорим. А в последнее время она начала втихаря протаскивать на уроки грамматику (общая дрожь). Однажды мы работали над временами глаголов: «Я брожу по Сети, я побродил по Сети, я бродил по Сети». Затем пошли качественные прилагательные. Как лучше сказать: «Я получил по голове старой лакроссной клюшкой Николь» или «Я получил по голове старой, кривой, мерзопакостно-желтой, окровавленной лакроссной клюшкой Николь»? Она даже попыталась объяснить нам, чем отличается действительный залог от страдательного: «Я слопал печенье „Орео“» — «Печенье „Орео“ было слопано мной».
Работать со словами очень трудно. Надеюсь, что Лахудру пошлют на конференцию или типа того. Я даже готова скинуться на оплату учителя на замену.
Назвать монстра
Уже две недели я работаю над плакатами для Хизер. Я пытаюсь рисовать их в художественном классе, но там слишком много глаз. В моей подсобке спокойно, и маркеры так приятно пахнут. Я могу оставаться тут целую вечность. ПРИНЕСИ БАНКУ, СПАСИ ЖИЗНЬ. Хизер велела мне бить прямо в цель. Это единственный способ получить то, что хочешь. Я рисую плакаты с баскетболистами, бросающими банки в кольцо. Баскетболисты в очень хорошей форме.
Хизер демонстрирует уже другую моду. Кажется, одежду для тенниса. Она просит меня повесить плакаты вместо нее. Я, в принципе, не возражаю. Это даже неплохо, что ребята увидят, как я делаю доброе дело. Может, улучшит мою репутацию. Я вешаю плакат возле слесарной мастерской, и ко мне подбирается ОНО. Вены разрезает металлической стружкой. ОНО что-то мне шепчет.
«Свежее мясо». Вот что ОНО мне шепчет.
ОНО снова нашло меня. Я думала, что смогу игнорировать ЕГО. В старших классах четыреста других новичков, из них двести — женского пола. Плюс все остальные классы. Но ОНО шепчет именно мне.
Я чувствую его запах сквозь шум мастерской, и я роняю плакат и липкую ленту, и я вот-вот сблюю, и я чувствую его запах, и я бегу, и он помнит, и он знает. Он шепчет мне на ухо.
Я вру Хизер насчет липкой ленты и говорю, что положила ее обратно в коробку для инструментов.
Разборки, раунд 3
Школьный психолог звонит маме в магазин прощупать почву насчет моего табеля. Не забыть бы послать ей благодарственную записку. К тому времени как мы садимся обедать, Битва уже достигает своего апогея. Оценки, бла-бла-бла-бла, Отношение, бла-бла-бла-бла, Помощь по дому, бла-бла-бла-бла, Уже больше не ребенок, бла-бла-бла-бла. Я смотрю на Извержение Вулканов. Вулкан Папа, долго спавший, сейчас набрал силу и очень опасен. Вулкан Санта-Мама выбрасывает лаву и плюется языками пламени. Предупредить жителей деревни, чтобы бежали к морю. Я мысленно спрягаю неправильные испанские глаголы.
Снежная буря, не такая сильная, бушует за окном. Дама-метеоролог говорит, что буря вызвана озерным эффектом: ветер из Канады поглощает воды озера Онтарио, прогоняет через морозильную камеру и обрушивает на Сиракьюс. Я чувствую, как ветер пытается пробиться сквозь наши раскаленные окна. Я хочу, чтобы наш дом оказался погребенным под снегом.
Они продолжают задавать вопросы типа: «Что с тобой не так?» и «Ты, наверное, считаешь себя самой умной?». Что я могу ответить? Да мне и не надо. Они не хотят меня слушать. Они мордуют меня до второго пришествия. После школы я должна сразу идти домой, если только мама не договорится для меня о встрече с учителем. Я не могу пойти к Хизер. Они собираются отключить телефон. (Сомневаюсь, что им удастся довести дело до конца.)
Я выполняю домашнее задание и показываю им, какая я хорошая маленькая девочка. Когда меня отправляют в кровать, я пишу прощальную записку и оставляю на письменном столе. Мама находит меня спящей в шкафу спальни. Она дает мне подушку и закрывает дверь. Больше никаких бла-бла-бла-бла.
Я разгибаю скрепку и провожу ею по внутренней поверхности левого запястья. Убого. Если попытка самоубийства — это крик о помощи, тогда что это? Всхлип, писк? Я рисую кровавые трещинки, как на стекле, гравирую линию за линией, пока не перестает болеть. Выглядит так, будто я вступила в единоборство с розовым кустом.
За завтраком мама видит мое запястье.
Мама: Мелинда, у меня сейчас нет на это времени.
Я:
Она говорит, что самоубийство — это для трусов. Противная, уродливая сторона моей мамы. Она купила книгу об этом. Жестокая любовь. Кислый сахар. Колючий бархат. Молчаливый разговор. Она оставляет книжку на крышке унитаза для моего просвещения. До нее вдруг дошло, что я не так уж много говорю. И это ее здорово достает.
Хватит
Ланч с Хизер начинается в холодной обстановке. После зимних каникул она сидит за краешком стола Март, а я — по другую сторону от нее. Как только я вхожу в столовую, то сразу понимаю: что-то не так. У всех Март соответствующий прикид: темно-синие вельветовые юбки, полосатый верх и прозрачные пластиковые сумочки. Наверное, они всем хором ходили за покупками. Хизер не соответствует. Они ее не пригласили.
Она слишком крутая, чтобы волноваться по пустякам. Я волнуюсь за нее. Я откусываю чересчур большой кусок сэндвича с джемом и арахисовым маслом и пытаюсь не подавиться. Они ждут, пока она не набьет рот творогом. Шивон ставит на стол банку консервированной свеклы.
Шивон: Что это?
Хизер (глотая): Банка консервированной свеклы.
Шивон: Кто бы сомневался. Но мы нашли целый мешок консервированной свеклы в шкафу с образцами. Должно быть, твоя работа.
Хизер: Соседка дала. Это свекла. Люди ее едят. В чем проблема?
Остальные Марты, точно по сигналу, вздыхают. Не приходится сомневаться, что свекла — это Недостаточно Хорошо. Настоящие Марты собирают только то, что любят есть сами, типа клюквенного соуса, спасшегося из зубов дельфина тунца, молодого горошка. Я вижу, как Хизер под столом вонзает ногти в ладонь. Арахисовое масло прилипает мне к нёбу, как еще один зуб.
Шивон: Это еще не все. Твои показатели ужасны.
Хизер: Какие такие показатели?
Шивон: Твоя норма консервов. Ты сачкуешь. Ты не вносишь своего вклада.
Хизер: Мы занимаемся этим всего неделю. Уверена, я наверстаю.
Эмили: Дело не только в количестве банок. Твои плакаты — просто курам на смех, мой младший брат и то справился бы лучше. Ничего удивительного, что никто не хочет нам помогать. Ты превратила весь наш проект в дурацкую шутку.
Эмили толкает свой поднос в сторону Хизер. Хизер беззвучно встает и убирает поднос. Предательница. Она не собирается отстаивать мои плакаты. Арахисовое масло затвердевает во рту.
Шивон пихает Эмили в бок и смотрит на дверь.
Шивон: Это он. Энди Эванс только что вошел. Думаю, он ищет тебя, Эм.
Я поворачиваюсь. Они говорят про ОНО. Энди. Энди Эванс. Короткое, как обрубок, имя. Энди Эванс, который вальяжной походкой входит в столовую с пакетом из «Тако Белл». Он предлагает дежурному по столовой бурито. Эмили и Шивон хихикают. Возвращается Хизер, снова надевшая на лицо улыбку, и спрашивает, действительно ли Энди такой плохой, как все говорят. Щеки Эмили становятся цвета консервированной свеклы.
Шивон: Это всего лишь слухи.
Эмили: Факт, что он роскошный. Факт, что он богатый. Факт, что он чуть-чуть опасный и что он звонил мне вчера вечером.
Шивон: Слух, что он спит со всеми подряд.
Арахисовое масло намертво склеивает мне челюсти.
Эмили: Я в это не верю. Слухи распространяют из ревности. Привет, Энди. Твоего ланча на всех хватит?
Такое чувство, будто Князь Тьмы распахнул свой плащ над столом. Свет меркнет. Я дрожу. Энди останавливается у меня за спиной пофлиртовать с Эмили. Я ложусь грудью на стол, чтобы быть от него как можно дальше. Стол распиливает меня пополам. Губы Эмили шевелятся, на ее зубах играют флуоресцентные огни. Остальные девицы толпятся вокруг Эмили, чтобы вобрать в себя Лучи Ее Привлекательности.
Должно быть, Энди тоже разговаривает, я чувствую позвоночником глубокие вибрации, точно от бухающего громкоговорителя. Слов я не слышу. Он накручивает на палец мой конский хвостик. Эмили сужает глаза. Я бормочу что-то идиотское и бегу в туалет. Выворачиваю ланч в унитаз, затем умываю лицо под ледяной струей, идущей из крана горячей воды. Хизер за мной не приходит.
Темное искусство
Небо цементной плитой нависает над головой. Где тут восток? Уж не помню, когда в последний раз видела. Водолазки выползают из нижних ящиков. Водолазы снова ныряют в ворох зимней одежды. Некоторых ребят мы не увидим до весны.
У мистера Фримена неприятности. Крупные. Он перестал вести документацию, когда школьный совет урезал бюджет на художественные принадлежности. Они с ним поквитались. Учителя сдали отчет об оценках за вторую четверть, и мистер Фримен выдал на гора 210 «отлично». Кто-то на него донес. Скорее всего, секретарша из канцелярии.
Интересно, вызовут ли мистера Фримена в кабинет Самого Главного и увековечат ли это в его личном деле?
Он перестал работать над картиной — полотном, которое, по нашему мнению, должно стать потрясающим, фантастическим произведением искусства и которое можно было бы продать на аукционе за миллион долларов. В художественном классе холодно, лицо мистера Фримена серо-багровое. Если бы он не был в таком подавленном состоянии, я бы непременно спросила, как называется такой цвет. Мистер Фримен просто сидит на своем табурете, пустая оболочка печального сверчка.
Никто с ним не разговаривает. Мы дуем на пальцы, чтобы согреться, и лепим, или рисуем, или пишем маслом, или делаем наброски, или, в моем случае, вырезаем. Я начала новый кусок линолеума. Мое последнее дерево выглядело так, словно погибло от какого-то грибкового заболевания, — нет, отнюдь не такого эффекта я добивалась. От холода линолеум становится тверже обычного. Я вонзаю резак в неподатливый материал и проталкиваю вперед, пытаясь продвигаться по контуру ствола дерева.
Но вместо этого я продвигаюсь по контуру своего большого пальца и режу его. Я чертыхаюсь и сую палец в рот. На меня все смотрят, и я вынимаю палец. Мистер Фримен спешит ко мне с коробочкой «Клинекса». Порез неглубокий, и когда он спрашивает меня, не надо ли мне в медпункт, я мотаю головой. Он моет резец в раковине и кладет в отбеливатель. Типа, правила профилактики ВИЧ-инфекции. Когда резец продезинфицирован и высушен, мистер Фримен несет его обратно к моему столу, но останавливается перед своим полотном. Оно еще не закончено. Лица узников устрашающие — от них невозможно оторвать глаз. Не хотела бы я, чтобы подобная картина висела у меня над диваном. Такое чувство, будто ночью она может ожить.
Мистер Фримен делает шаг назад, словно видит нечто новое в своей картине. Он режет холст моим резцом, акт разрушения сопровождается протяжным звуком рвущейся ткани, и весь класс замирает.
Мой табель успеваемости
Третья четверть
Смерть Вомбата
Вомбат мертв. Никаких собраний, никаких голосований. Сегодня утром Самый Главный сделал заявление. Он сказал, что шершни лучше отражают дух «Мерриуэзер», чем чужеземные сумчатые, а кроме того, костюм талисмана Вомбата пробьет брешь в бюджете комитета по организации выпускного бала.
Старшеклассники единодушно поддерживают такое решение. Перенос выпускного из бального зала «Холидей-инн» в спортзал нанес бы сокрушительный удар по их гордости. Это определенно низвело бы их до уровня первоклашек.
Наши чирлидеры работают над раздражающими мотивчиками, которые заканчиваются продолжительным жужжанием. Мне кажется, они совершают колоссальную ошибку. Я живо представляю себе, как команды соперников делают из папье-маше огромные мухобойки и гигантские баллоны с инсектицидом, чтобы унизить нас в перерывах матчей.
У меня аллергия на шершней. Всего один укус — и моя кожа покрывается крапивницей, а горло отекает.
Холодная вода и автобусы
Я пропустила автобус, так как, когда прозвенел будильник, не поверила, что на улице может быть так темно. Мне срочно нужны часы, способные включать лампочку в 300 ватт и тем самым будить меня. Или это, или петух.
Когда я понимаю, что уже очень поздно, то решаю не спешить. Зачем зря беспокоиться? Мама спускается вниз, а я читаю комиксы и поглощаю овсяные хлопья.
Мама: Ты опять пропустила автобус.
Я киваю.
Мама: И ты рассчитываешь, что я опять тебя подвезу.
Я снова киваю.
Мама: Тебе понадобятся сапоги. Путь неблизкий, а ночью опять намело. Я и так опаздываю.
Неожиданно, но не критично. Почему бы не прогуляться? Она ведь не заставляет меня тащиться под снегом десять миль в гору туда и обратно или типа того. Улицы тихие и красивые. Снег припорашивает вчерашнюю слякоть и накрывает крыши домов, словно сахарная пудра пряничный город.
К тому времени как я добираюсь до «Файеттс», городской булочной, мне снова хочется есть. В «Файеттс» пекут отличные пончики с джемом, а у меня в кармане деньги на ланч. Пожалуй, куплю два пончика и назову это вторым завтраком.
Я направляюсь к булочной через парковку, и тут из двери выходит ОНО. Энди Эванс. В одной руке у него сочащийся малиновым джемом пончик, в другой — стаканчик с кофе. Я замираю посреди затянутой льдом лужи. Если я буду стоять не шевелясь, возможно, он меня не заметит. Именно так спасаются кролики: застывают в присутствии хищника.
Он ставит стаканчик на крышу машины и роется в кармане в поисках ключей. Все очень-очень по-взрослому: кофе/ключи от машины /пропущенные уроки. Он роняет ключи и чертыхается. Он не заметит. Меня здесь нет. Он не может видеть, как я стою здесь в своей фиолетовой зефирной куртке.
Но с этим парнем удача мне, естественно, изменяет. Итак, он поворачивается и видит меня. И скалится совсем по-волчьи — типа, бабушка, почему у тебя такие большие зубы?
Он делает шаг навстречу и протягивает пончик. «Хочешь кусить?» — спрашивает он.
Кролик Банни пускается наутек, оставляя на снегу цепочку следов. Бежать бежать бежать. И почему я не бросилась бежать без оглядки тогда, когда еще была разговорчивым, цельным человеком?
Я несусь на всех парусах и снова чувствую себя быстрой, как ветер, одиннадцатилетней девочкой. Я прожигаю тропинку на тротуаре, оставляя с обеих сторон трехфутовые проталины. Я останавливаюсь, и у меня в голове внезапно рождается совершенно новая мысль:
Зачем идти в школу?
Побег
Первый час отлынивания от школы проходит великолепно. Никто не указывает мне, что делать, что читать, что говорить. Это как оказаться в видеоклипе Эм-ти-ви — и никаких дурацких костюмов, ты просто расхаживаешь, покачивая бедрами, с видом «делаю-что-хочу».
Я бреду по Мейн-стрит. Салон красоты, магазин «Севен-илевен», банк, ларек с открытками. На вращающемся табло над зданием банка показана температура воздуха: 22 градуса. Я прочесываю другую сторону улицы. Электротовары, скобяные изделия, парковка, бакалея. От вдыхания морозного воздуха у меня заледенели внутренности. Даже волоски в ноздрях слегка потрескивают. Я притормаживаю и теперь иду нога за ногу. Более того, начинаю подумывать о том, чтобы взобраться на гору и отправиться в школу. Там хотя бы топят.
Спорим, школьникам в Аризоне прогуливать школу гораздо приятнее, чем тем беднягам, что попали в засаду в штате Нью-Йорк. Никакой тебе слякоти. Никаких желтых пятен от собачьей мочи на снегу.
Меня спасает автобус. Кашляя и урча, он выплевывает двух старух у бакалейной лавки. Я залезаю в автобус. Конечная остановка — торговый центр.
Никогда бы не подумала, что торговый центр может быть закрыт. Он всегда был, есть и будет, как молоко в холодильнике или Бог на Небесах. Но когда я вылезаю из автобуса, торговый центр только-только открывается. Работники магазинов жонглируют ключами и большими стаканчиками с кофе, и вот ворота клетки взлетают вверх. Лампочки начинают моргать, фонтаны — подпрыгивать, музыка за гигантскими папоротниками — играть, и торговый центр открывается.
Убеленные сединами бабушки и дедушки, идущие спортивной походкой и поскрипывающие при ходьбе, скрип-скрип, шагают в таком темпе, что им даже некогда глядеть на витрины. Я охочусь за весенней коллекцией одежды — все, что было в прошлом году впору, теперь не годится. Как я могу заниматься шопингом с мамой, если мне не хочется с ней разговаривать? Хотя ей это, может, даже в кайф — никаких пререканий. Но тогда мне придется носить то, что выберет она. «Дилемма» — словарное слово на три очка.
Я устраиваюсь возле центрального эскалатора, где сразу после Хеллоуина организуют Уголок Санты. В воздухе пахнет жареным картофелем и жидкостью для мытья полов. Лучи солнца, проникающие сквозь стеклянную крышу, жарят буквально по-летнему, и я снимаю слой за слоем: куртку, шапку, варежки, свитер. За полминуты я похудела на семь фунтов и сейчас чувствую, что вполне могу парить в воздухе параллельно эскалатору. Над моей головой щебечут крошечные коричневые птички. Никто не знает, откуда они здесь взялись, но они живут в торговом центре и сладко поют. Я лежу на скамье и смотрю на снующих в потоках теплого воздуха птиц до тех пор, пока солнце не начинает слепить так сильно, что того и гляди прожжет дыру в глазных яблоках.
Наверное, мне следовало кому-нибудь сказать, просто кому-нибудь сказать. Чтобы справиться с этим. Выпустить наружу вместе со словами.
Я хочу снова оказаться в пятом классе. Но это большой-большой секрет, почти такой же большой, как тот, другой. В пятом классе все казалось очень простым: я уже была достаточно взрослой, чтобы меня пускали гулять без мамы, но недостаточно взрослой, чтобы уходить далеко от дома. Идеальная длина поводка.
Мимо прогулочным шагом идет охранник. Он внимательно изучает восковую женщину в витрине «Сирс», затем так же неспешно идет обратно. Он даже не берет себе за труд выдавить улыбку или спросить: «Ты что, заблудилась?» Я ведь не в пятом классе. Он делает мимо меня третий заход, пальцы на рации. А вдруг он выдаст меня полиции? Пожалуй, пора искать автобусную остановку.
Остаток дня я провожу в ожидании, когда часы покажут 14.48, так что все почти как в школе. Похоже, я получила хороший урок и поэтому ставлю будильник на более раннее время. Я просыпаюсь вовремя четыре дня подряд, сажусь на автобус четыре дня подряд, еду домой после школы. Мне хочется кричать. Думаю, мне надо периодически брать выходной.
Взламывая код
Лахудра покупает себе новые серьги. Висюльки чуть ли не до плеч, а еще колокольчики типа тех, что Хизер подарила мне на Рождество. Выходит, свои я больше носить не смогу. Неплохо было бы издать специальный закон.
На уроках английского у нас месячник Натаниэля Готорна. Бедняга Натаниэль. Если бы он знал о том, что они с ним сотворили! Мы читаем «Алую букву», буквально по одному предложению, раздирая его на части и обгладывая кости.
Это все СИМВОЛИЗМ, говорит Лахудра. Каждое слово, выбранное Натаниэлем, каждая запятая, каждый абзац наполнены смыслом. Если мы хотим получить приличную оценку на ее уроке, то должны вычислить, что именно хотел сказать писатель. И почему он не мог просто сказать то, что имел в виду? Ему что, прикололи бы к груди алые буквы? «Т» — за тупость, «О» — за откровенность.
Но хватит ныть. Отчасти это даже забавно. Словно код, который ты взламываешь в его голове, чтобы найти ключ к его секретам. Типа всей этой штуки с виной. Вы, конечно, знаете, что священник чувствует себя виноватым, Эстер чувствует себя виноватой, но Натаниэль хочет дать понять нам, насколько это важная вещь. Если бы он продолжал повторять: «Она чувствовала себя виноватой, она чувствовала себя виноватой, она чувствовала себя виноватой», то книжка была бы тоской зеленой и никто не стал бы ее покупать. Поэтому Натаниэль насажал в текст СИМВОЛОВ типа погоды, и света, и тьмы, чтобы показать нам, что чувствует бедная Эстер. Интересно, пыталась ли Эстер сказать «нет». Она вроде тихая. Мы бы поладили. Я могу представить, как мы с ней живем в лесу, у нее на груди буква «А», у меня — быть может, «Н», что значит немая, наивная, напуганная. «Н» — значит неумная. Неприкасаемая.
Итак, на первом уроке взламывать код было даже занятно, но потом все это начинает уже доставать. Лахудра долбает и долбает нас им до бесконечности.
Лахудра: Возьмем описание дома. Осколки стекла, вмурованные в стены. Что они означают?
В классе гробовая тишина. Муха, случайно оставшаяся здесь с осени, жужжит и бьется в холодное окно. В коридоре хлопает дверца шкафчика. Лахудра сама отвечает на свой вопрос.
«Только представьте, на что это может быть похоже — стена с вмурованным в нее стеклом? Оно будет… отражать свет? Мерцать? Сиять в солнечный день, например? Ну, давайте же, народ, я не должна делать это за вас. Стекло в стене. Сейчас его кладут сверху на тюремные стены. Готорн показывает нам, что дом — это тюрьма или, возможно, опасное место. Заставляющее страдать. Что ж, я попросила вас найти примеры использования цвета. Кто может привести страницы с описанием цвета?»
Муха умирает с прощальным жужжанием.
Рейчел/Рашель, моя бывшая лучшая подруга: А кому какое дело, что означает цвет? Откуда вы можете знать, что он хотел сказать? Или он написал еще одну книжку под названием «Символизм в моих книгах»? А если нет, значит все это ваши домыслы. Неужели кто-то и вправду считает, будто Готорн просто сел и вставил в повествование всякие там скрытые смыслы? Это просто роман.
Лахудра: Это Готорн, один из величайших американских писателей! Он ничего не делал случайно. Он был гением!
Рейчел/Рашель: А мне казалось, что, по идее, мы должны иметь свое мнение. По-моему, Готорна, типа, трудно читать, хотя та часть, где Эстер попадает в беду, а тот парень, который пастор, практически выходит сухим из воды, ну, это еще куда ни шло. Хотя про символизм вы, похоже, все выдумали. Я не верю.
Лахудра: А учителю математики ты тоже скажешь, что три умножить на четыре, по-твоему, не обязательно должно быть двенадцать? Так вот, символизм Готорна в чем-то сродни умножению. И когда вы поймете, все станет ясно как день.
Звенит звонок. Лахудра блокирует дверь, чтобы дать домашнее задание. Сочинение на пятьсот слов на тему символизма: как найти скрытый смысл у Готорна. В коридоре весь класс орет на Рейчел / Рашель.
Вот что бывает с теми, кто слишком много говорит.
Не в настроении
Мистер Фримен в очередной раз нашел способ обвести начальство вокруг пальца. На стене классной комнаты масляной краской он написал имена всех своих учеников и отвел специальную графу для недель, оставшихся до конца учебного года. Каждую неделю он оценивает наши достижения соответствующей пометкой на стене. Он называет это разумным компромиссом.
Рядом с моим именем мистер Фримен рисует знак вопроса. Мое дерево замерзло. Дошколенок и тот справился бы лучше. Я потеряла счет испорченным клише. Мистер Фримен зарезервировал для меня весь оставшийся линолеум. Тоже неплохо. Мне до смерти хочется сменить тему, нарисовать что-нибудь попроще: например, сделать план города или скопировать «Мону Лизу», но мистер Фримен непреклонен. Он предлагает мне попробовать другой способ, и я беру фиолетовую краску для рисования пальцем. Краска холодит руки, но не идет на пользу моему дереву. Деревьям.
Я отрываю на полке книжку с пейзажами, где можно найти изображение буквально каждого растущего на земле вонючего дерева: платана, липы, осины, ивы, пихты, тюльпанного дерева, каштана, вяза, ели, сосны. А также их коры, цветов, ветвей, иголок, орехов. Я чувствую себя заправским лесником, но не могу сделать то, что должна сделать. В последний раз я слышала от мистера Фримена доброе слово, когда соорудила ту дурацкую штуковину из костей индейки.
У мистера Фримена свои проблемы. Он в основном сидит на табурете, вперившись в новое полотно. На полотне только один цвет — синий, но такой темный, что кажется черным. Полотно не пропускает и не впускает света, нет света — нет теней. Айви спрашивает мистера Фримена, что это значит. Он выходит из транса и смотрит на нее так, будто только сейчас осознает, что в комнате полно учеников.
Мистер Фримен: Это Венеция ночью, душа финансиста и отвергнутая любовь. Когда я жил в Бостоне, то плесень, которую я вырастил на апельсине, была именно такого цвета. Это кровь имбецилов. Смятение. Бессрочный контракт. Сердцевина замка, вкус железа. Отчаяние. Город с погасшими фонарями. Легкое курильщика. Волосы маленькой девочки, растущей без надежды в душе. Сердце председателя школьного совета…
Он входит в раж и уже готов выдать длинную тираду, но тут звенит звонок. Учителя шепчутся между собой, что у него нервное расстройство. Но, по-моему, он самый нормальный человек из всех, кого я знаю.
Страшный суд за ланчем
Во время ланча не бывает и не может быть ничего хорошего. Школьная столовая — это гигантский киносъемочный павильон, где ежедневно снимают сцены ритуальных унижений подростков. И здесь воняет.
Я, как всегда, рядом с Хизер, но мы на отшибе, в уголке внутреннего двора, не с Мартами. Хизер сидит спиной к обеденному залу. Отсюда ей даже видно, как порывы ветра разносят случайно попавший во двор снег. Ветер просачивается сквозь стекло и залезает мне под рубашку.
Я рассеянно слушаю, в то время как Хизер демонстративным покашливанием пытается привлечь мое внимание к тому, что она собирается сказать. Меня отвлекает чавканье четырехсот двигающихся и жующих ртов. Пульсации посудомоечных машин на заднем фоне, вой объявлений, которые никто не слушает, — все это словно осиное гнездо, пристанище Шершня. А я маленький муравей, скрючившийся у входа, где зимний ветер пробирается за пазуху. Я старательно душу зеленые бобы у себя на тарелке картофельным пюре.
Хизер грызет свою хикаму, булочку из цельного зерна и, приступая к мини-морковке, посылает меня куда подальше.
Хизер: Реально неловкая ситуация. Я имею в виду, никогда не знаешь, как лучше сказать такую вещь. И не имеет значения, что… Нет, я не хочу это говорить. Я имею в виду, что мы, типа, сошлись в начале года, когда я была новенькой и никого не знала, и это было реально мило с твоей стороны, но я думаю, самое время нам обеим признать, что мы… просто… очень… разные.
Она внимательно изучает свой обезжиренный йогурт. Я пытаюсь придумать что-нибудь сволочное, злое и жестокое. И не могу.
Я: Так ты хочешь сказать, что мы больше не друзья?
Хизер (улыбается, но глаза холодные): Мы ведь никогда не были близкими подругами, разве нет? Я имею в виду, такого не случалось, чтобы я хоть раз оставалась у тебя ночевать или типа того. У нас разные интересы. У меня есть моя работа моделью, и мне нравится шопинг.
Я: Мне тоже нравится шопинг.
Хизер: Тебе вообще ничего не нравится. Ты самая депрессивная личность, которую я когда-либо встречала, и прости за откровенность, но с тобой не слишком-то весело, и мне кажется, тебе нужна помощь профессионала.
До этого самого момента я никогда всерьез не рассматривала Хизер в качестве единственного близкого друга на всем белом свете. Но сейчас мне отчаянно хочется быть ее закадычной подружкой, ее приятельницей, хихикать с ней, сплетничать с ней. Я хочу, чтобы она накрасила мне ногти на ногах.
Я: Я была единственным человеком, кто заговорил с тобой в первый учебный день, а теперь ты от меня избавляешься, потому что я немного депрессивная? А разве не для того и существуют друзья, чтобы помогать друг другу в трудную минуту?
Хизер: Я так и знала, что ты все неправильно поймешь. Ты иногда такая странная.
Я щурюсь на украшенную сердцами стену. Влюбленные могут потратить пять долларов на красное или розовое сердце с их инициалами, которое в День святого Валентина будет прикреплено к стене. Они выглядят крайне неуместно, эти красные кляксы на синем. Качки́ — прошу прощения, наши спортсмены — сидят перед стеной с сердцами и обсуждают новые романы. Бедная Хизер. «Холмарк» не выпускает открыток на тему разрыва с друзьями.
Я знаю, о чем она думает. У нее есть выбор: можно продолжать тусоваться со мной и заработать репутацию шизанутой, которая в один прекрасный день способна заявиться в школу с пушкой, или можно стать Мартой — одной из тех девочек, которые получают хорошие оценки, делают добрые дела и отлично катаются на лыжах. А что бы выбрала я?
Хизер: Когда ты преодолеешь этот этап и перестанешь считать, что жизнь — это полный отстой, не сомневаюсь, многие ребята захотят с тобой подружиться. Но ты не можешь просто так прогуливать уроки и вообще не показываться в школе. И что дальше? Будешь водиться с нарками?
Я: Это так-то ты пытаешься быть милой со мной?
Хизер: У тебя уже есть определенная репутация.
Я: И какая же?
Хизер: Послушай, мы больше не можем сидеть рядом за ланчем. Прости. Ой, и не стоит есть картофельные чипсы. От них у тебя краснеет лицо.
Она аккуратно заворачивает объедки в вощеную бумагу и отправляет в мусорное ведро. Затем идет к столу, за которым сидят Марты. Потеснившись, ее друзья освобождают ей место. Они заглатывают ее целиком, и на меня она даже не оглядывается. Ни разу.
Проспрягайте это
Я прогуливаю урок; ты прогуливаешь урок; он, она, оно прогуливает урок. Мы прогуливаем урок, они прогуливают урок. Мы все прогуливаем урок. Я не могу сказать это по-испански, потому что сегодня не пошла на урок испанского. Gracias a dios. Hasta luego[2].
Вырезая сердца
Когда мы выходим из автобуса в День святого Валентина, девочка с белокурыми, почти белыми волосами начинает рыдать. «Анжела, я люблю тебя!» — написано краской из баллончика на сугробе вдоль парковки. Я не знаю, отчего плачет Анжела: то ли от счастья, то ли оттого, что сердечные желания не опишешь словами на снегу. Ее ненаглядный ждет с красной розой в руке. Они целуются на глазах у остальных. С Днем святого Валентина! Все это застает меня врасплох. В начальной школе День святого Валентина превращался в настоящий геморрой, потому что надо было дарить открытки буквально каждому в своем классе, даже парнишке, что заставил тебя вступить в собачьи какашки. Потом мамаша из родительского комитета вносила облитые розовой глазурью кексики, и мы обменивались маленькими сладкими сердцами с надписями: «Горячая крошка!» и «Будь моей!».
В средних классах праздник был загнан в подполье. Никаких вечеринок. Никаких обувных коробок с вырезанными красными сердцами для валентинок из ближайшей аптеки. Сказать кому-то, что он тебе нравится, можно было только с помощью наслоения из друзей типа: «Джанет велела мне передать тебе, что Стивен сказал мне, что Даги говорил, будто Кэром беседовала с Эйприл, и та намекнула, что у Сариного брата Марка есть друг по имени Тони, которому ты вроде бы нравишься. И что ты собираешься делать?»
В средних классах легче было почистить зубы колючей проволокой вместо зубной нити, чем признаться, что тебе кто-то нравится.
В общем потоке я иду к своему шкафчику. Мы все как один в пуховых куртках и безрукавках, а потому сталкиваемся и катимся, точно электрические автомобильчики на ярмарочном аттракционе. На некоторых шкафчиках я вижу приклеенные скотчем конверты, но особо не задумываюсь на данную тему, пока не обнаруживаю конверта на дверце собственного шкафчика. На конверте написано «Мелинда». Должно быть, розыгрыш. Кто-то приклеил к дверце конверт, чтобы выставить меня идиоткой. Я осторожно оглядываюсь через левое плечо, затем через правое, ожидая увидеть сборище мерзкой ребятни, тыкающей в меня пальцем. Но вижу только затылки.
А что, если все это взаправду? А что, если это от мальчика? Сердце замирает, ёкает и начинает громко стучать. Нет, не Энди. Его стиль определенно не назовешь романтичным. Возможно, Дэвид Петракис, мой напарник по лабораторным работам. Он исподтишка наблюдает за мной, когда думает, что я не вижу: наверное, боится, как бы я опять не сломала лабораторное оборудование или не упала в обморок. Иногда он дарит мне озабоченную улыбку. Так улыбаются собаке, которая может укусить. Все, что мне надо сделать, — открыть конверт. Это выше моих сил. Я прохожу мимо шкафчика и отправляюсь на урок биологии.
В честь Дня святого Валентина мисс Кин решает повторить материал о птичках и пчелках. Естественно, ничего такого, что можно применить на практике, никакой информации насчет того, почему вас сводят с ума гормоны, или почему у вас чуть что вспыхивает лицо, или как узнать, действительно ли кто-то прикрепил валентинку к вашему шкафчику. Нет, она реально рассказывает нам о пчелках и птичках. Записочки, свидетельства любви и измены, передаются из рук в руки, словно лабораторные столы — полосы скоростного движения на шоссе Купидона. Мисс Кин рисует яйцо с крошечным цыпленком внутри.
Дэвид Петракис изо всех сил борется со сном. Интересно, а я ему нравлюсь? Я его определенно нервирую. Он боится, что я могу испортить ему оценку. Но, может, он начинает потихоньку на меня западать? А оно мне надо? Я грызу ноготь большого пальца. Нет. Мне просто необходимо хоть кому-нибудь нравиться. Получить записку с сердечком. Я слишком сильно оттягиваю край ногтя, из-под него течет кровь. Я сжимаю палец, собирая кровь в круглую каплю, которая скатывается на ладонь. Дэвид протягивает мне бумажный платок. Я прижимаю его к ранке. Белые бумажные волокна расползаются и становятся красными. Мне не больно. Ничуточки. Больно только от ухмылок и взглядов, которые мелькают в комнате, точно крошечные воробушки.
Я открываю тетрадь и пишу Дэвиду записку: «Спасибо!» И пододвигаю к нему тетрадь. Он тяжело сглатывает, его адамово яблоко опускается и поднимается. Он пишет ответ: «Всегда пожалуйста». И что теперь? Я еще сильнее прижимаю к пальцу платок, чтобы сосредоточиться. На доске птенец мисс Кин вылупляется из яйца. Я изображаю мисс Кин в виде дрозда. Дэвид улыбается. Он пририсовывает у нее под ногами ветку и возвращает мне тетрадь. Я пытаюсь соединить ветку с деревом. Получается замечательно — гораздо лучше, чем все мои жалкие потуги в художественном классе. Звенит звонок, и, когда Дэвид собирает книжки, его рука касается моей. Я точно ошпаренная срываюсь с места. Я боюсь на него посмотреть. А что, если он думает, будто я уже прочла его открытку, но ничего не сказала, потому что ненавижу его всеми фибрами души? Но я ничего не могу сказать, потому что открытка может быть или розыгрышем, или подарком от другого молчаливого наблюдателя, затерявшегося в тени шкафчиков и дверей.
Мой шкафчик. Открытка все еще здесь, белый прямоугольник надежды с моим именем. Я отрываю конверт и вскрываю его. Что-то падает к моим ногам. На открытке два слащавых плюшевых медвежонка угощаются медом из одного горшочка. Я читаю открытку. «Спасибо за понимание. Ты душка!» И подпись красными чернилами: «Удачи!!! Хизер».
Я наклоняюсь посмотреть, что там выпало из конверта. Ожерелье дружбы, которое в приступе безумия я подарила Хизер в канун Рождества. Тупость тупость тупость. Как я могла быть настолько тупой?! Я чувствую, как внутри меня что-то трещит, это ребра сжимают легкие так, что становится трудно дышать. Спотыкаясь, я бреду по коридору, затем — по другому, пока не нахожу мою, и только мою дверь, не проскальзываю внутрь и не запираю ее, даже не утруждая себя тем, чтобы включить свет, а просто падая, падая с высокой горы на сиденье коричневого кресла, на котором я могу вонзить зубы в мягкую белую кожу запястья и плакать, точно ребенок, кем, в сущности, и являюсь. Я раскачиваюсь и бьюсь головой о стену из шлакобетонных блоков. Полузабытый праздник обнажил каждый застрявший во мне нож, каждую рану. Ни Рейчел, ни Хизер, ни даже глупому компьютерному гению — никому не могла бы понравиться сидящая внутри меня девочка — мое второе «я».
Пресвятая Дева приемной
Больницу Пресвятой Девы Милосердия я обнаруживаю совершенно случайно. Заснув в автобусе, я проезжаю торговый центр и решаю попытать счастья в больнице. Возможно, там я смогу узнать что-нибудь полезное из области медподготовки для Дэвида.
Мне здесь нравится, хотя интерес мой явно нездоровый. Практически на каждом этаже есть приемные. Чтобы не привлекать к себе внимания, я не сижу на одном месте и постоянно поглядываю на часы с таким видом, будто я тут по делу. Я боюсь, что меня поймают, но у людей вокруг и без того хлопот полон рот. Больница — идеальное место стать невидимкой, а еда в здешнем кафетерии лучше, чем в школьной столовке.
Самая ужасная приемная в отделении для больных с сердечными приступами. Она забита измученными женщинами, которые нервно крутят на пальце обручальные кольца и не сводят глаз с двери, ожидая появления знакомого доктора. Одна дама просто плачет навзрыд, и ей плевать, что у нее течет из носа на глазах у людей или что ее всхлипывания слышны даже у лифта. И рыдать она перестает только потому, что больше нет сил плакать. От всего этого бросает в дрожь. Я хватаю пару номеров журнала «Пипл» и поспешно ретируюсь.
Родильное отделение — опасная зона, потому что люди здесь счастливы. Они спрашивают меня, к кому я пришла, когда должен родиться ребеночек и кто роженица — мама или сестра? Если бы я хотела, чтобы мне задавали вопросы, то отправилась бы в школу. Я говорю, что мне надо позвонить папе, и улетучиваюсь.
В кафетерии очень круто. Он огромный. Здесь полно людей с пейджерами и университетским апломбом, в форменной одежде врачей и медсестер. Мне всегда казалось, что представители медицинской профессии должны быть фанатами здорового образа жизни, но эти ребята накидываются на вредную еду так, словно приехали с голодного острова. Горы начо, чизбургеров размером с тарелку, вишневый пирог, картофельные чипсы и прочее. Сотрудница кафетерия по имени Лола одиноко стоит у подноса с рыбой на пару и луком. Мне становится ее жаль, и я покупаю порцию рыбы. А еще я покупаю тарелку картофельного пюре с подливкой и йогурт. Я сажусь неподалеку от компании очень серьезных, хмурых седовласых мужчин, которые произносят такие длинные слова, что даже странно, как им хватает дыхания. Все очень официально. Приятно находиться рядом с людьми, которые говорят так, будто хорошо понимают, что делают.
После ланча я поднимаюсь на пятый этаж, в хирургическое отделение для взрослых, где посетители сидят, вперившись в телевизор. Я устраиваюсь так, чтобы видеть пост медсестры и парочку палат. Похоже, болеть здесь даже приятно. Врачи и медсестры ходят с деловым видом, но постоянно улыбаются.
Служащий прачечной толкает перед собой огромную корзину с зелеными больничными ночными рубашками (теми самыми, которые распахиваются на заднице, если вовремя не придержать полы) в сторону кладовой. Я иду за ним. Если кто-нибудь спросит, я ищу питьевой фонтанчик. Никто не спрашивает. Я беру ночную рубашку. Я хочу надеть ее на себя, а потом, забравшись под белое пикейное одеяло, лечь на белые простыни, которыми застелены высокие кровати, и уснуть. Дома я теперь сплю все хуже и хуже. Интересно, через сколько времени сестры догадаются, что я самозванка? И разрешат ли мне здесь отдохнуть пару дней?
По коридору несется каталка, ее толкает какой-то высокий накачанный парень. Рядом идет женщина, медсестра. Я понятия не имею, что не так с пациентом, но глаза у него закрыты, а повязка на шее пропитана кровью.
Я кладу ночную рубашку на место. Со мной все в порядке. Люди здесь действительно больны, это видно даже невооруженным глазом. Я направляюсь к лифту. Автобус скоро должен подъехать.
Битва титанов
Нас вызывают к Самому Главному. Кто-то обнаружил, что я отсутствовала на занятиях. И что я не разговариваю. Начальство решает, что я скорее психически неуравновешенная личность, нежели преступница, и поэтому приглашает школьного психолога.
У мамы дергается уголок рта, так как у нее на языке вертятся слова, которые она не хочет произносить в присутствии посторонних. Папа непрерывно проверяет пейджер в надежде, что кто-нибудь позвонит.
Я пью маленькими глотками воду из бумажного стаканчика. Если бы стакан был хрустальным, я бы открыла рот и откусила кусочек. Хрум, хрум, ам!
Они хотят, чтобы я говорила.
«Почему ты молчишь?» «Ради всего святого, открой наконец рот!» «Мелинда, это ребячество». «Скажи что-нибудь». «Ты только делаешь себе еще хуже тем, что отказываешься нам помогать». «Я не знаю, почему она с нами так поступает».
Самый Главный громко откашливается и вмешивается в разговор.
Самый Главный: Без сомнения, мы собрались здесь, чтобы помочь. Давайте начнем с оценок. Мелисса, мы вовсе не этого от тебя ожидали.
Папа: Мелинда.
Самый Главный: Мелинда. В прошлом году ты была твердой хорошисткой, никаких проблем с поведением, практически никаких прогулов. А вот отчеты, которые я сейчас получаю… Ну что мы можем сказать?
Мама: В том-то и дело, что она ничего не хочет сказать! Из нее и слова не вытянешь. Она немая.
Школьный психолог: По-моему, в данный момент нам стоит рассмотреть развитие семейных отношений.
Мама: Она постоянно выделывается, чтобы привлечь наше внимание.
Я (мысленно): «А ты стала бы слушать? А ты мне поверила бы? Маловероятно».
Папа: Ну, тут что-то явно не так. Что вы с ней сделали? В прошлом году у меня была милая любящая доченька, но, оказавшись здесь, она замкнулась, стала прогуливать школу, спустила свои отметки в унитаз. Вы знаете, я играю в гольф с президентом школьного совета.
Мама: Нам без разницы, с кем ты там знаком, Джек. Мы должны заставить Мелинду говорить.
Школьный психолог (наклоняется вперед, смотрит на маму с папой): А у вас двоих, случайно, нет проблем в семейной жизни?
Мама использует недопустимую для приличной дамы лексику. Папа предлагает школьному психологу посетить жаркий, жуткий подземный мир. Школьный психолог успокаивается. Возможно, она понимает, почему я держу рот на замке. Самый Главный снова садится в кресло и начинает машинально рисовать шершня.
Тик-тик-тик. Из-за всего этого я пропускаю самостоятельные занятия. Свой тихий час. Сколько дней осталось до окончания школы? Я сбиваюсь со счета. Надо найти календарь.
Мама и папа извиняются. И исполняют песенку из шоу: «Как же нам быть? Как же нам быть? Нас только двое, и как же нам с ней, такой мрачной, унылой, жить? Ой-ей-ей, как же нам быть?»
В моем мысленном мире они вскакивают на директорский стол и исполняют добрый, старый степ. На них направлен свет прожектора. Вступает хор, и школьный психолог танцует с украшенной блестками тросточкой. Я хихикаю.
Стоп. Возвращаюсь в их мир.
Мама: И ты находишь это смешным? Мелинда, мы здесь говорим о твоем будущем, о твоей жизни!
Папа: Не знаю, где ты научилась валять дурака, но уж точно не дома. Возможно, это все здешнее плохое влияние.
Ш. П.: На самом деле у Мелинды тут чудесные друзья. Я видела, как она помогала девочкам, которые активно занимаются волонтерской деятельностью. Мег Харкатт, Эмили Бриггс, Шивон Фэлон…
Самый Главный (перестает рисовать): Очень милые девочки. И все из очень хороших семей. (Впервые за все это время он смотрит на меня и склоняет голову набок.) Они ведь твои подруги?
Почему они предпочитают тупить? И где они этого набрались? У меня нет друзей. У меня ничего нет. Я ничего не говорю. Я ничтожество. Интересно, сколько времени занимает поездка на автобусе до Аризоны?
ВОЗШМ
Временное отстранение от занятий в школе «Мерриуэзер». Такое вот для меня Наказание. Это прописано в моем договоре. Правду говорят люди, что не следует ничего подписывать, предварительно внимательно не прочитав. А еще лучше заплатить юристу, чтобы тот все внимательно прочитал.
Наш школьный психолог придумала договор после нашего междусобойчика в кабинете директора. В договоре перечислен миллион вещей, которые я в принципе не должна делать, и расписано, какие меня ждут наказания в случае, если я все же эти вещи сделаю. Наказания за незначительные нарушения типа опоздания на урок или неучастия в работе класса просто нелепы: они хотят, чтобы я написала сочинение. Поэтому я еще раз прогуливаю школу — и бинго! Я зарабатываю ВОЗШМ.
Это классная комната с белыми стенами, неудобными стульями и гудящими, как разбуженный улей, лампочками. Приговоренные к ВОЗМШ обречены сидеть, уставившись на голые стены. По идее, такая тоска зеленая должна или заставить нас смириться, или довести до сумасшедшего дома.
Сегодня наш сторожевой пес — мистер Шея. Он скалит зубы и рычит на меня. Думаю, он наказан за ту бодягу с проявлением нетерпимости, которую развел в классе. Со мной еще двое заключенных. У одного на бритом черепе вытатуирован крест. Он словно высеченный на склоне горы гранитный идол в ожидании резца, чтобы освободиться из каменного плена. Второй парнишка с виду совершенно нормальный. Правда, одет он как-то странно, но здесь это не тяжкое преступление, а незначительное правонарушение. Когда мистер Шея встает, чтобы приветствовать опоздавшего гостя, с виду нормальный парнишка сообщает мне, что он поджигатель.
Наш вновь прибывший компаньон — Энди Эванс. Мой завтрак превращается в соляную кислоту. Энди ухмыляется мистеру Шее и садится рядом со мной.
Мистер Шея: Энди, ну что, опять прогуливал?
Энди Чудовище: Нет, сэр. Один из ваших коллег полагает, что у меня проблема с субординацией. Вы можете в это поверить?
Мистер Шея: Больше никаких разговоров.
Я снова кролик Банни, пытающийся спрятаться в чистом поле. Я сижу так, словно у меня сырое яйцо во рту. Одно неосторожное движение, одно слово — яйцо разобьется и взорвет мир.
У меня явно не в порядке с головой.
Когда мистер Шея отворачивается, Энди дует мне в ухо.
Мне хочется его убить.
Пикассо
Я ничего не могу делать, даже в художественном классе. Мистер Фримен, тоже большой любитель поглазеть в окно, думает, что знает, в чем причина. «У тебя парализовано воображение, — объявляет он. — Тебе необходимо отправиться в путешествие». У всех в классе сразу ушки на макушке, кто-то даже приглушает радио. Путешествие? Неужели он планирует вылазку на природу? «Ты должна посетить ум Великого Мастера», — продолжает мистер Фримен.
От протяжного вздоха класса трепещут листы бумаги. Снова орет радио.
Мистер Фримен отодвигает в сторону мое злосчастное клише и осторожно кладет мне на стол огромную книгу. «Пикассо, — шепчет он, точь-в-точь как священник. — Пикассо. Он видел правду. Он писал правду, лепил ее, отрывал ее от земли двумя гневными руками». Мистер Фримен делает паузу. «Но я немного отвлекся от темы». Я киваю. «Посмотри работы Пикассо, — приказывает он. — Я не могу работать за тебя. Ты должна идти в одиночестве, чтобы найти свою душу».
Бла-бла-бла. Ага. Смотреть на картины уж точно приятнее, чем на снежные заносы. Я открываю книгу.
У Пикассо наверняка был задвиг насчет голых женщин. Почему было не рисовать их одетыми? И кто будет, сидя без рубашки, перебирать струны мандолины? И почему тогда для ровного счета не рисовать голых парней? Спорим, голые женщины — это искусство, голые парни — ни-ни. Возможно, потому, что большинство художников мужчины.
Первые главы мне не нравятся. Кроме всех этих голых теток, он писал еще голубые картины, словно у него закончилась красная или зеленая краска. Он рисовал цирковых артистов и танцовщиков, которые выглядели так, будто стояли в тумане. Ему следовало заставить их хотя бы покашлять.
Но уже следующая глава бьет наповал. И уносит из классной комнаты. Она ставит меня в тупик, а мой мозг подпрыгивает от восторга и буквально вопит: «Я поняла! Я поняла!» Кубизм. Способность проникнуть вглубь и охватить то, что не лежит на поверхности. Сдвинуть оба глаза и нос набок. Нарезать кубиками, точно стебли сельдерея, и тела, и столы, и гитары, а потом трансформировать их, чтобы реально начинать видеть так, как ты их видишь. Потрясающе. И каким тогда ему казался наш мир?
Мне хотелось бы, чтобы он пошел в старшие классы средней школы «Мерриуэзер». Не сомневаюсь, мы могли бы поладить. Я просматриваю всю книжку, но не вижу ни одной картины с деревом. Может, у Пикассо тоже плохо получались деревья. Почему я зациклилась на такой убогой идее? Я рисую дерево в стиле кубизма с сотнями тощих прямоугольников вместо ветвей. Они похожи на железные шкафчики, коробки, осколки стекла, губы, с коричневыми треугольными листочками. Я кидаю набросок на стол мистера Фримена. «Ну вот, ты уже начинаешь продвигаться», — говорит он и поднимает вверх большой палец.
Рядом с водителем
Я хорошая девочка. Целую неделю я хожу буквально на все занятия. Приятно снова быть в курсе того, о чем говорят учителя. Мои родители получают экстренное информационное сообщение от школьного психолога. И не знают, как реагировать: то ли радоваться, поскольку я исправляюсь, то ли сердиться, поскольку приходится радоваться уже одному тому, что их ребенок каждый день ходит в школу.
Школьный психолог убеждает их, что меня следует наградить — типа, бросить мне косточку. Они останавливаются на новой одежде. Старая становится мне мала.
Но идти за покупками с мамой? Лучше пристрелите меня и тем самым избавьте от страданий. Что угодно, только не шопинг с мамой. Она ненавидит ходить со мной за покупками. В торговом центре она размашисто шагает впереди, подбородок вздернут, веки трепещут, потому что я отказываюсь примерять практичные, «стильные» вещи, которые ей нравятся. Мама — скала, я — океан. Мне приходится надувать губы и закатывать глаза, пока она наконец не рассыпается на тысячи мелких фракций прибрежного песка. На это уходит много энергии. Не уверена, что она у меня есть.
Маме явно не улыбается тащить меня на веревке в торговый центр, чтобы слушать мое нытье. Родители объявляют, что я заслужила новую одежду, но добавляют, что подобрать ее я должна в «Эффертсе», где у мамы скидка. После школы мне надо будет сесть на автобус и встретиться с ней прямо в магазине. Отчасти я даже рада. Войти, купить, выйти — это почти как содрать пластырь.
Похоже, хорошая идея, если только не стоять на автобусной остановке перед школой в бушующую над округом метель. Из-за ветра кажется, что на улице мороз градусов двадцать, а у меня нет ни шапки, ни варежек. Я поворачиваюсь спиной к ветру, но тогда у меня начинает мерзнуть задница. Снег залепляет глаза и набивается в уши. Поэтому я не слышу, как рядом останавливается машина. Когда раздается гудок, я едва не подпрыгиваю от неожиданности. Это мистер Фримен. «Тебя подвезти?»
Я в шоке от машины мистера Фримена. Синяя «вольво», надежная шведская тачка. А я-то думала, что у него старый «фольксваген» по типу автобуса. Внутри чисто. Мне почему-то казалось, что его машина должна быть забита художественными принадлежностями, плакатами и гниющими фруктами. Я залезаю внутрь, в салоне тихо играет классическая музыка. Чудеса, да и только.
По его словам, чтобы высадить меня в городе, ему придется сделать совсем маленький крюк. Он был бы рад познакомиться с моей мамой. От страха у меня расширяются глаза. «А может, и нет», — добавляет он. Я стряхиваю с головы тающий снег и подставляю руки под вентилятор отопителя. Он включает вентилятор на полную мощность.
Пока оттаиваю, я считаю дорожные столбы на обочине дороги и отыскиваю глазами попавших под машину животных. В пригороде полно сбитых оленей. Иногда бедные люди берут оленину себе, чтобы запасти на зиму, но в основном туши продолжают гнить до тех пор, пока кожа не начинает свисать лентами с костей. Мы направляемся на запад, в сторону большого города.
«Тебе удался этот кубистский набросок», — говорит мистер Фримен. Я не знаю, что отвечать. Мы проезжаем мимо мертвой собаки. Ошейника на ней нет. «Судя по этой работе, ты заметно выросла. Ты даже не знаешь, как быстро всему учишься».
Я: Я вообще ничего не знаю. Мои деревья — отстой.
Мистер Фримен включает поворотник, смотрит в зеркало заднего вида, встает в левый ряд и обгоняет фургон с пивом. «Не суди себя слишком строго. Искусство на то и искусство, чтобы делать ошибки и уметь учиться на них». Он снова возвращается в правый ряд.
Я смотрю в боковое зеркало, провожая глазами фургон, исчезающий в снежной круговерти. В глубине души мне кажется, что мистер Фримен едет чуть-чуть слишком быстро с учетом дорожных условий, но машина тяжелая, и ее не заносит. Снег, налипший на носки, стекает в кроссовки.
Я: Ладно, но вы сами говорили, чтобы мы вкладывали в свое искусство эмоции. Я не понимаю, что это значит. Я не понимаю, что должна чувствовать.
Мои пальцы взлетают и прикрывают рот. Что я делаю?
Мистер Фримен: Искусство без эмоций — как шоколадный торт без сахара. Застревает в горле. (Он проводит пальцем по шее.) Когда в следующий раз будешь работать над своими деревьями, старайся не думать о деревьях. Думай о любви, или о ненависти, или о радости, или о ярости — обо всем, что заставляет тебя хоть немного чувствовать, от чего потеют ладони и поджимаются пальцы на ногах. Сосредоточься на этом чувстве. Когда люди не могут выразить себя, они начинают медленно умирать. Ты не поверишь, сколько взрослых людей уже давно ходячие мертвецы: они идут по жизни без малейшего представления, кто они есть такие, и просто ждут, когда сердечный приступ, или рак, или грузовик закончат начатое дело. Ничего не может быть печальнее.
Он сворачивает с автомагистрали и останавливается на красный свет у съезда. Что-то крошечное, и пушистое, и мертвое лежит под канализационной трубой. Я грызу заусеницу на большом пальце. В центре квартала мигает вывеска «Эффертс». «Туда, — показываю я. — Можете высадить меня напротив». Секунду мы сидим просто так; другая сторона улицы укрыта снегом, из динамиков разносится соло на виолончели. «Хм, спасибо». — «Не за что, — отвечает он. — Если захочешь поговорить, ты знаешь, где меня найти». Я отстегиваю ремень безопасности и открываю дверь.
«Мелинда, — останавливает меня мистер Фримен. Снег проникает в салон и тает на приборной доске. — Ты хороший ребенок. Думаю, у тебя есть что сказать. Я хотел бы послушать».
Я закрываю дверь.
Зеркальная комната
Я останавливаюсь возле кабинета директора магазина, и секретарша сообщает, что мама разговаривает по телефону. Прекрасно. Без нее будет гораздо проще найти себе пару джинсов. Я направляюсь в отдел для «Юных леди». Еще одна причина, почему они прогорают. Кому понравится, чтобы их звали юными леди?
Мне нужен десятый размер, как ни ужасно это признавать. Все мои вещи восьмого размера или меньше. Я смотрю на свои, похожие на каноэ, ноги и отвратительные мокрые лодыжки. Разве в этом возрасте девочки не должны перестать расти?
Когда я была в шестом классе, мама накупила мне всяких книжек о пубертатном периоде и взрослении, чтобы я оценила, какие «прекрасные», и «естественные», и «чудесные» преобразования будут со мной происходить. Дерьмо. Вот что это такое. Она всю дорогу жалуется на седеющие волосы, и на отвисшую задницу, и на морщинистую кожу, а я почему-то должна быть благодарна за прыщи на лице, волосы в самых неприличных местах и ноги, которые каждую ночь вырастают на дюйм. Полное дерьмо.
Мне без разницы, что примерять, ведь я все равно это возненавижу. «Эффертс» занял свою нишу на рынке, специализируясь на совершенно отстойных вещах. На одежде, которую бабули дарят тебе на день рождения. Настоящее кладбище моды. Просто подбери джинсы, которые будут впору, твержу я себе. Всего одна пара — вот моя цель. Я оглядываюсь по сторонам. Мамы поблизости нет. Я несу три пары наименее устрашающих джинсов в примерочную. Кажется, я здесь единственный покупатель, который хоть что-то примеряет. Первые джинсы мне малы — их невозможно натянуть на задницу. Со второй парой я даже не заморачиваюсь — джинсы еще меньше. Третьи джинсы огромные. Именно то, что нужно.
Я подскакиваю к трехстворчатому зеркалу. Если надеть сверху футболку самого большого размера, то невозможно будет догадаться, что это джинсы «Эффертс». Мамы по-прежнему нет. Я устанавливаю зеркало так, чтобы видеть отражения отражений, мили и мили меня и моих новых джинсов. Я заправляю волосы за уши. Не мешало бы помыть голову. Мое лицо грязное. Я прислоняюсь к зеркалу. Глаза, и еще раз глаза, и еще раз глаза смотрят оттуда на меня. Может, я где-то там, внутри? Тысячи глаз моргают. Никакой косметики. Темные круги. Я сдвигаю боковые створки, заворачиваюсь в зеркало и оставляю снаружи зал магазина.
Мое лицо становится рисунком Пикассо, мое тело разрезается на рассеченные кубики. Однажды я видела фильм о женщине, у которой было обожжено восемьдесят процентов тела, в результате чего врачам пришлось убрать всю мертвую кожу. Женщину забинтовали, накачали наркотиками и стали ждать, когда нарастет кожа. Фактически ее просто обшили новой кожей.
Я прижимаю свой ободранный рот к зеркалу. И к нему прижимается тысяча покрытых струпьями кровоточащих губ. Интересно, а каково это — находиться в новой коже? Обладала ли та женщина повышенной чувствительностью, как младенец, или из-за отсутствия нервных окончаний потеряла чувствительность, то есть просто ходила себе в кожаном мешке? Я делаю выдох, и мой рот исчезает в тумане. Мне кажется, будто у меня сожжена кожа. Спотыкаясь, я перехожу от одного тернового куста к другому: это мама и папа, которые ненавидят друг друга; Рейчел, которая ненавидит меня; школа, которая отрыгивает меня, словно комок шерсти. И Хизер.
Мне просто надо суметь продержаться, пока не нарастет новая кожа. Мистер Фримен считает, что я должна найти в душе чувства. Да уж, и как их тут не найти?! Они съедают меня живьем, будто инвазия мыслей, стыда и ошибок. Я крепко зажмуриваю глаза. Джинсы подходящего размера — для начала уже неплохо. Нужно держаться подальше от подсобки и не пропускать занятий. Я снова сделаюсь нормальной. А все остальное забуду.
Прорастание
На биологии мы закончили с растениями. Мисс Кин недвусмысленно намекает, что тест будет посвящен семенам. Я учу.
Как семена попадают в землю? Это реально круто. Одни растения плюются семенами, чтобы их потом разносило ветром. Другие производят настолько аппетитные семена, что их склевывают птицы, а потом выкакивают на проезжающие машины. Растения, похоже, производят больше семян, чем необходимо, так как знают, что жизнь не совершенна и не все семена способны пробиться. Если вдуматься, то, типа, очень даже неглупо. Люди тоже так делают: заводят двенадцать — пятнадцать детей, потому что понимают: кто-нибудь умрет, кто-нибудь окажется с гнильцой, а вот пара-тройка станет трудолюбивыми, честными фермерами. Которые знают, как сажать семена.
Что необходимо семенам для прорастания? От самих семян ничего не зависит. Посадишь семя слишком глубоко — и оно в положенное время не прогреется. Посадишь чересчур близко к поверхности — его склюет ворона. Много дождей — и семя заплесневеет. Мало дождей — и оно не взойдет. Даже если ему все же удается взойти, оно может быть задушено сорняками, отрыто собакой, раздавлено футбольным мячом, отравлено автомобильным выхлопом.
Странно, что хоть что-то выживает.
Как растут растения? Быстро. Большинство растений растут быстро и умирают молодыми. У людей есть в запасе семьдесят лет, а у бобового растения — четыре месяца, от силы пять. Как только малюпусенький росточек проклевывается из земли, он сразу выбрасывает листья, чтобы поглощать больше света. Затем он спит, ест и принимает солнечные ванны до тех пор, пока не проявляет готовность зацвести, — растение-подросток. Тяжелое время для розы, или циннии, или ноготка, поскольку люди с ножницами тут как тут, чтобы срезать самое красивое. Но растения очень крутые. Если сорвать один розовый бутон, растение выдаст другой. Он нужен для цветения: производить новые семена.
Справиться с этим тестом — для меня раз плюнуть.
Изгнание болонской колбасы
Моя стратегия посещения школьной столовой меняется, поскольку теперь у меня нет друзей в изведанной вселенной. Для начала я не встаю в очередь, дабы избежать неприятного момента появления в обеденном зале, момента, когда все головы поднимаются и тебя начинают оценивать по принципу: друг, враг или неудачник.
Поэтому я беру завтрак с собой. Пришлось написать маме записку с просьбой купить мешочки для ланча, колбасу и маленькие контейнеры с яблочным соусом. Записка приводит маму в восторг. Она возвращается из магазина с полным набором высококалорийной еды, которую я могу взять с собой. Может, мне стоит начать разговаривать с Ними? Может, хотя бы немножко? А вдруг я скажу что-нибудь не то?
Колбасная девочка — это я.
Я пытаюсь читать, обедая в одиночестве, но шум пролезает между глазами и страницей книги, и через него ничего не видно. Я наблюдаю. Притворяюсь, будто я ученый, который снаружи следит за происходящим внутри. Если верить мисс Кин, она именно так день за днем изучала крыс, заблудившихся в лабиринте.
Марты вовсе не выглядят потерянными. Они сидят, соблюдая боевой порядок; на моем прежнем месте новая девочка — десятиклассница, переехавшая к нам из Орегона. На ней одежда с опасным для жизни процентом полиэстера. Ей срочно нужно с этим что-то делать. Они грызут морковку и оливки, намазывают паштет на крекеры из пшеничной муки грубого помола и угощают друг друга крохотными кусочками козьего сыра. Мег-и-Эмили-и-Хизер пьют клюквенно-абрикосовый сок. Жаль, что нельзя купить акции компании по производству сока: теперь я знаю основной тренд потребления.
Они, случайно, не обо мне говорят? Уж больно много они смеются. Я хрумкаю сэндвичем, и он внезапно сблевывает горчицу мне на футболку. Возможно, они планируют следующий Проект. Они могли бы отправлять по почте снежки несчастным техасским детям, которые лишены снежной погоды. Они могли бы вязать одеяла из козьей шерсти для стриженых овец. Я представляю, как через семь лет будет выглядеть Хизер — с двумя чадами и семьюдесятью лишними фунтами. Это немного помогает.
Рейчел/Рашель садится в противоположном конце моего стола, с ней Хана — ученица, приехавшая по обмену из Египта. Рейчел/Рашель теперь экспериментирует с исламом. Она носит на голове шарф, а еще красно-коричневые прозрачные гаремные шальвары. Глаза жирно подведены черным карандашом. Мне кажется, что она смотрит на меня, но, должно быть, я ошибаюсь. На Хане джинсы и футболка «Гэп». Они уплетают хумус с питой и хихикают по-французски.
В общей массе счастливых подростков видны вкрапления неудачников вроде меня — чернослив в школьной овсянке. Но остальные лузеры находят в себе гражданское мужество сидеть рядом с себе подобными. Я единственная, кто ест в одиночестве под сверкающей неоновой вывеской с надписью: «Законченная неудачница, немного не в себе. Близко не подходить. Не кормить».
Я отправляюсь в туалет надеть футболку задом наперед, чтобы скрыть пятно под волосами.
Снежный день — как всегда, в школу
Прошлой ночью выпало восемь дюймов снега. В любой другой части страны это означало бы отмену занятий. Но только не в Сиракьюсе. У нас никогда не объявляют «снежный день». Если в Южной Каролине выпадает хоть дюйм снега, все учреждения закрываются и это показывают в шестичасовых новостях. У нас же только каждые два часа расчищают снег и надевают цепи на колеса автобусов.
Лахудра говорит нам, что в далекие семидесятые как-то раз на целую неделю отменили занятия из-за энергетического кризиса. Стоял жуткий мороз, и обогревать школу оказалось слишком накладно. Взгляд у Лахудры мечтательный. «Мечтательный» — словарное слово на одно очко. Она громко сморкается и кладет в рот очередную вонючую зеленую пастилку от кашля. Ветер взрывает сугроб под окном.
Наши учителя остро нуждаются в «снежном дне». Вид у них непривычно бледный. Мужчины бреются кое-как, женщины не снимают сапог. Они страдают от некоей разновидности учительского гриппа. У них у всех капает из носа, першит в горле и слезятся глаза. Они достаточно долго ходят в таком состоянии в школу, чтобы перезаразить всю учительскую, и отправляются болеть домой, только когда находится замена.
Лахудра: А теперь откройте книжки. Кто мне скажет, что у Готорна символизирует снег?
По классу проносится тяжелый вздох.
Готорн хотел, чтобы снег символизировал холод, вот что я думаю. Холод и тишину. Нет ничего более умиротворяющего, чем снег. Небо со свистом выбрасывает снег, сотня привидений-плакальщиц сопровождает метель. Но укрыв землю, снег сразу замирает, почти как мое сердце.
Дура набитая
Я прокрадываюсь в свою каморку. Мне невыносима сама мысль о том, чтобы ехать домой в автобусе среди потных тел и оскаленных зубов, высасывающих из меня кислород. Я говорю привет Майе на плакате и своему кубистскому дереву. Моя скульптура из индюшачьих костей в очередной раз грохнулась. Я устраиваю ее на полке рядом с зеркалом. Она снова заваливается на бок. Я оставляю ее лежать, как лежит, и сворачиваюсь в кресле. В подсобке тепло, и я не прочь вздремнуть. Дома у меня проблемы со сном. Я просыпаюсь из-за соскользнувшего на пол одеяла или оттого, что я почему-то оказываюсь у кухонной двери и пытаюсь выйти. В моем маленьком убежище мне намного спокойнее. Я задремываю.
Я просыпаюсь от пронзительных девичьих воплей:
— Будь агрессивным! БУДЬ-БУДЬ агрессивным! Б-У-Д-Ь А-Г-Р-Е-С-С-И-В-Н-Ы-М!
С минуту мне кажется, будто я попала в дурдом, но затем слышу рев толпы. Это баскетбольный матч, последняя игра сезона. Я смотрю на часы — 20.45. Я спала целую вечность. Я хватаю рюкзак и лечу по коридору.
Шум в спортзале притягивает меня. Всю последнюю минуту игры я стою у двери. Зрители нараспев отсчитывают последние секунды, словно в канун Нового года, затем при звуке финального свистка срываются с мест, как разбуженные шершни. Мы выиграли, победили Коатсвиллских кугуаров со счетом 51:50. Группа поддержки рыдает. Тренеры обнимаются. Я поддаюсь общему ажиотажу и хлопаю в ладоши, точно маленькая.
Большая ошибка — считать, будто я принадлежу к их числу. Мне следовало пулей лететь домой. Но я этого не делаю. Я околачиваюсь поблизости. Мне хочется быть частью происходящего.
Дэвид Петракис проталкивается к выходу в окружении друзей. Он ловит мой взгляд и вылезает из своего кокона.
Дэвид: Мелинда! А где ты сидела? Ты видела последний бросок? Невероятно!! Невеблинроятно.
Он ведет по полу невидимый мяч, выпад влево, выпад вправо, затем останавливается для броска. Должно быть, Дэвид на время завязал с борьбой за соблюдения прав человека. Он все продолжает и продолжает дриблинг, но вот наконец отпущенный мяч катится прочь. Послушать его, так можно подумать, что они только что выиграли чемпионат НБА. Затем он приглашает меня к себе домой отпраздновать пиццей это событие.
Дэвид: Ну давай же, Мел. Ты непременно должна с нами поехать! Папа разрешил мне пригласить всех, кого захочу. А затем, если нужно, мы отвезем тебя домой. Будет весело. Ты ведь еще не разучилась веселиться, а?
Нет. Я не хожу на вечеринки. Нет, спасибо. Я монотонно бубню извинения: домашнее задание, строгие родители, игра на трубе, запись на ночной прием у дантиста, время кормления бородавочников. Что касается вечеринок, то тут мне особо похвастаться нечем.
Дэвиду неохота ломать голову над причинами моего упорного сопротивления. Если бы он был девчонкой, то, возможно, стал бы упрашивать или канючить. Парни такого не делают. Да/нет. Оставайся/иди. Делай, как тебе удобнее. Увидимся в понедельник.
Думаю, когда у вас в голове сидит несколько личностей, это явный признак психического расстройства. Именно так я себя чувствовала по пути домой. Две Мелинды чуть ли не всю дорогу боролись между собой. Мелинда номер один в бешенстве, что не смогла пойти на вечеринку.
Мелинда номер один: «Живи полной жизнью. Это ведь просто пицца. Он не собирался делать никаких заходов. Его родители должны были быть дома! Ты слишком зацикленная. Ты никогда не позволишь нам хоть немного развлечься, разве нет? Рано или поздно ты превратишься в одну из этих странных старых дам, которые держат сотню кошек и каждый раз вызывают копов, когда по их заднему двору пробегают дети. Терпеть тебя не могу».
Мелинда номер два ждет, когда Мелинда номер один прекратит истерику. Они обе внимательно оглядывают край тротуара на предмет спрятавшегося в кустах страшного бугимена или того хуже.
Мелинда номер два: «Мир — опасное место. Ты не знаешь, что может случиться. А что, если он просто так сказал, будто его родители тоже там будут? Он вполне мог соврать. Ведь очень трудно понять, врет человек или нет. Представляй себе худшее. И на всякий пожарный всегда имей план действий. А теперь поспеши, чтобы скорее добраться домой. Мне здесь не нравится. Слишком темно».
Если я выпихну обеих из своей головы, кто тогда останется?
Ночь воспоминаний
Мне не заснуть после игры. Опять. Я трачу пару часов, настраивая радио на странные скачущие звуки ночного эфира. Слушаю невнятное бормотание из Квебека, репортаж с фермы в Миннесоте, музыку кантри из Нэшвилла. Вылезаю через окно на крышу крыльца и заворачиваюсь во все свои одеяла.
На небе спит толстое белое семечко.
Слякоть подмерзла. Люди говорят, что зима никогда не кончится, но это все потому, что они зациклены на термометре. Севернее, в горах, начинает сочиться кленовый сок. Отважные гуси пробивают тонкий лед, еще сковывающий озеро. Глубоко под землей ворочаются во сне бледные семена. Уже чувствуют беспокойство. Уже мечтают о зелени.
В тот август луна казалась ближе.
Рейчел затащила нас на вечеринку группы поддержки, устроенную по случаю окончания лета, вечеринку и с пивом, и со старшеклассниками, и с музыкой. Рейчел путем шантажа заставила своего брата Джимми отвезти нас. Мы все ночевали у нее дома. Мама Рейчел думала, что Джимми везет нас кататься на роликах.
Это была ферма в нескольких милях от нашего жилого массива. Бочонки с пивом стояли в амбаре, там же были установлены динамики. Девицы тусовались по краям освещенного пространства. В синих джинсах, тонюсенькие-претонюсенькие, с большими ртами, большими серьгами, белоснежными улыбками — они все как одна походили на моделей. Я чувствовала себя маленькой девочкой.
Рейчел сумела сразу вписаться, кто бы сомневался. Благодаря Джимми она знала там кучу людей. Я попробовала пиво. Это оказалось хуже, чем микстура от кашля. Я выпила его залпом. Еще и еще пива, но потом я испугалась, что меня сейчас стошнит. Я отделилась от толпы и пошла в сторону леса. Лунный свет играл на листьях деревьев. Я смотрела на огни, похожие на натянутые между соснами гирлянды из звезд. Кто-то, спрятавшийся в темноте, хихикал; мальчики-девочки тихонько перешептывались. Я их не видела.
Вдруг сзади чьи-то шаги. Старшеклассник. И вот он уже начал со мной говорить, откровенно заигрывая. Крутой парень, словно сошедший с журнальной обложки. Волосы явно лучше моих, загорелое мускулистое тело и ровные белые зубы. Флиртует со мной! Куда подевалась Рейчел? Она должна это видеть!
Греческий бог: Откуда ты такая взялась? Ты слишком красивая, чтобы прятаться в темноте. Пойдем потанцуем.
Он взял меня за руку и притянул к себе. Я вдохнула запах одеколона, пива и чего-то еще, чего я не разобрала. Я едва доставала ему до плеча, но идеально вписалась в его тело. У меня немного кружилась голова, я прижалась щекой к его груди. Он обнял меня за спину одной рукой, а вторую положил мне на ягодицы. Некоторая вольность, конечно, но после выпитого пива я едва ворочала языком и не знала, как сказать ему, чтобы осадил назад. Музыка была такой упоительной. Именно чего-то такого я и ждала от старших классов. Куда подевалась Рейчел? Она должна это видеть! Он взял меня за подбородок и наклонился ко мне. И поцеловал. Поцеловал настоящим мужским поцелуем — крепким и сладким. Почва сразу ушла из-под ног, от этого поцелуя. И на минуту я даже представила, что теперь у меня есть бойфренд, значит я перейду в девятый класс, уже имея в наличии полноценного бойфренда, который старше, сильнее меня и готов обо мне позаботиться. Он снова впился в мой рот. Его зубы вдавились в мои губы. Стало трудно дышать.
Луна скрылась за облаками. Тени напоминали фотонегатив.
«Ты хочешь?» — спросил он.
Что он такое сказал? Я не отвечала. Я не знала. Я не могла говорить.
Мы были на земле. Как так получилось? «Нет». Нет, мне все это не нравилось. Я лежала на земле, а он был сверху. Мои губы беспомощно лепечут, что мне надо идти, что меня ждет подруга, что родители волнуются. Но я прекрасно себя слышу — я бессвязно бормочу, словно в приступе белой горячки. Он закрывает мне рот своими мокрыми губами, и я уже ничего не могу сказать. Я пытаюсь отвернуться. Он такой тяжелый. Меня придавило валуном. Я пытаюсь вдохнуть, пытаюсь закричать, но он зажимает мне рот рукой. В голове колоколом отдается мой собственный голос: «НЕТ Я НЕ ХОЧУ!» Но я не могу выплюнуть эти слова ему в лицо. Я силюсь вспомнить, как мы оказались на земле и куда ушла луна, и — оп! — футболка задрана, шорты спущены, и земля пахнет сыростью, и темнота, и НЕТ! — я на самом деле не здесь, я определенно снова у Рейчел, укладываю волосы и приклеиваю накладные ногти, и от него несет пивом и мерзостью, и он делает мне больно делает мне больно делает мне больно и встает с земли,
и застегивает джинсы,
и улыбается.
Следующее, что я вижу, — это телефон. Я стояла посреди пьяной толпы и набирала 911, потому что нуждалась в помощи. Вот когда пригодились профилактические беседы во втором классе с Дружелюбным Полицейским. Трубку берет женщина: «Полиция. Скажите, что случилось», и я вижу свое лицо в окне над кухонной раковиной, и слова застревают у меня в горле. Что это за девочка? Я ее никогда раньше не видела. Слезы текут по моему лицу, по моим разбитым губам, капая на телефонную трубку. «Все нормально, — говорит милая женщина на другом конце провода. — Мы знаем, где вы находитесь. Полицейские уже выехали. Вы ранены? Вам угрожают?» Кто-то выхватил у меня трубку и стал слушать. Вопль: «Копы едут!» Синие и вишневые огни вспыхивают за окном над раковиной. Лицо Рейчел — такое сердитое — рядом с моим. Кто-то дал мне пощечину. Я выползла наружу, продравшись сквозь лес ног. Во дворе луна улыбнулась мне на прощание и исчезла.
Я вернулась в наш пустой дом. Не сказав ни слова.
Сейчас не август. Луна спит, а я сижу на крыше крыльца, как замерзшая горгулья, и у меня в голове вертится вопрос: а что, если солнце решит послать наш мир ко всем чертям, чтобы выспаться всласть?
Кровь на снегу. Я прокусила себе губу. Надо наложить швы. Мама снова придет поздно. Ненавижу зиму. Я всю жизнь прожила в Сиракьюсе, и я ненавижу зиму. Она слишком рано начинается и слишком поздно заканчивается. Ее никто не любит. И почему тут еще кто-то живет?
Мой табель успеваемости
Четвертая четверть
Дезинсекторы
Родительский комитет начинает собирать подписи против того, чтобы Шершень был нашим школьным талисманом. Их доконала речовка. Они слышали ее на последнем баскетбольном матче.
МЫ ШЕРШНИ, ОЗАБОЧЕННЫЕ РОГАТЫЕ ШЕРШНИ! ВЕЗДЕ, ГДЕ МЫ БЫВА-ЕМ, МАССУ ВОПРОСОВ ВСЕГДА ВЫЗЫВА-ЕМ. СПРОСИТЕ, КТО МЫ, — И МЫ ОТВЕЧАЕМ: МЫ ШЕРШНИ, ОЗАБОЧЕННЫЕ РОГАТЫЕ ШЕРШНИ! (и так до бесконечности)Родительский комитет нашей школы слегка прибалдел от вихляющих телодвижений, которыми сопровождалась речовка. Прибалдели и родительские комитеты по всему городу, когда кричалку Рогатых Шершней показали по телевизору. Спортивный телекомментатор счел эту песенку весьма пикантной и поэтому показал отрывок, названный им «Пихающиеся Шершни», где чирлидеры трясут своими жалами, а толпа пихается и трется озабоченными шершневыми попками.
Ученический совет пошел в контрнаступление. Встречную петицию составило Почетное общество. В петиции описывалась психологическая травма, полученная нами в связи с продолжительным отсутствием самоидентификации. А еще там говорилось о том, как важны последовательность и стабильность. Написано здорово: «Мы, учащиеся средней школы „Мерриуэзер“, гордимся нашей принадлежностью к Шершням. Мы цепкие, колючие, умные. Мы улей, сообщество учеников. Не лишайте нас права Шершенства. Мы есть Шершни».
До начала футбольного сезона вопрос этот стоит не слишком остро. Наша баскетбольная команда вечно проигрывает.
Дождливое время года
Весна уже в пути. Зимние крысы — покрытые коричневой ржавчиной консервные банки за 700 долларов, на которых с ноября по апрель ездят все разумные люди, — прячутся обратно в гаражи. Снег окончательно тает, и на парковке для старшеклассников сияют блестящие хорошенькие малютки.
Есть и другие признаки весны. Центральные лужайки отхаркивают лопаты и варежки, проглоченные январскими сугробами. Мама убрала зимнюю одежду на чердак. Папа что-то там бормочет насчет зимних рам, но не снимает их. Из окна автобуса я вижу фермера, который обходит свое поле в надежде, что грязь скажет ему, когда начинать сев.
Именно первого апреля, в День дурака, большинство старшеклассников получают письма из колледжей о том, приняли их или нет. Ура или увы. Самый нездоровый период времени. Напряжение зашкаливает. Ученики прямо из бутылочки пьют розовую микстуру от колик в животе. Дэвид Петракис, мой напарник по лабораторным работам, составляет программу с базой данных выпускников, чтобы проследить, кто куда поступил. На основании анализа таких факторов, как выбранные старшеклассниками продвинутые классы и факультативные занятия, средние результаты тестов и средний балл, он хочет определить, что необходимо сделать для поступления в Гарвард.
Я практически не пропускаю уроков. Хорошая девочка, Мелли. Поворачивайся, Мелли. Садись, Мелли. Правда, по головке меня никто не гладит. Я сдала тест по алгебре, я сдала тест по английскому, я сдала тест по биологии. Что ж, аллилуйя! Все это ужасно глупо. Может, ребята именно потому и вступают в разные клубы, чтобы было о чем подумать на уроках.
Энди Чудовище стал членом Интернационального клуба. Вот уж никогда бы не подумала, что он живо интересуется греческой кухней или французскими музеями! Он покинул стол Март и теперь увивается вокруг Рейчел/Рашель, Греты-Ингрид и остальных иностранок. Рейчел/Рашель хлопает своими фиолетовыми ресницами, словно он супермен какой. А ведь она всегда казалась такой разумной!
Пасха как-то незаметно приходит и уходит. Думаю, она застала маму врасплох. Мама не очень-то жалует Пасху, потому что она всегда выпадает на разные дни и вообще во время Пасхи покупатели не слишком активны. Когда я была маленькой, мама обычно по всему дому прятала для меня крашеные яйца. Последнее яйцо лежало в большой корзине с шоколадными зайцами и желтыми зефирными цыплятами. Когда еще были живы бабушка с дедушкой, они обычно брали меня с собой в церковь, и мне приходилось надевать тесные платья с кружевами, от которых чесалось все тело.
В этом году в честь Пасхи мы ели бараньи отбивные. На ланч я сварила яйца вкрутую и черным фломастером разрисовала их рожицами. Папа всю дорогу жаловался, что у него куча работы во дворе. Из мамы слова было не вытянуть. Я оказалась еще менее разговорчивой. Там, в раю, бабушка с дедушкой хмурились. Я, типа, даже пожалела, что мы не пошли в церковь. Некоторые пасхальные песни очень красивые.
Весенние каникулы
Сегодня последний день весенних каникул. Наш дом потихоньку проседает, и я чувствую себя Алисой в Стране чудес. Опасаясь, что моя голова скоро пробьет крышу, я ухожу из дома и отправляюсь в торговый центр. У меня в кармане десять баксов. На что их потратить? На картофель фри? Взять картофеля фри на десять долларов — предел мечтаний. Если бы «Алиса в Стране чудес» была написана в наше время, спорим, Алиса получила бы не малюсенькое пирожное, а огромную порцию картофеля фри с надписью: «Съешь меня». Но с другой стороны, лето на носу, что означает шорты, и футболки, и, возможно, даже купальник. Я прохожу мимо фритюрниц.
Сейчас, когда весна уже почти кончается, в витринах осенние коллекции одежды. Ладно, будем ждать — через год мода будет как раз по сезону. В некоторых магазинах у входных дверей торчат приглашенные для перформанса артисты. Какой-то парень запускает дурацкий самолетик, который делает мертвую петлю; женщина с пластмассовым лицом завязывает и развязывает шаль. Нет, теперь это юбка. Теперь топик с лямкой на шее. Теперь шарф. Люди стараются на нее не смотреть, поскольку не знают, то ли аплодировать, то ли бросить ей пару монет. Мне ее жалко. Интересно, какие отметки у нее были в средней школе? Я бы с удовольствием дала ей денег, но вот только неудобно просить сдачи с десятки.
Я спускаюсь по эскалатору к центральному фонтану, где сегодня в качестве развлечения разрисовывают лица. Очередь длинная и шумная — шестилетние дети с родителями. Мимо меня проходит маленькая девочка — она тигр. Она плачет, требуя мороженого, и размазывает слезы по лицу. Ее тигровый окрас расплывается, и мамаша орет на нее.
«Ну и зоопарк».
Я поворачиваюсь. Айви сидит на бортике фонтана, пристроив на коленях огромный альбом для рисования. Она кивает в сторону очереди из плакс и разрисовщиков, яростно малюющих полоски, пятнышки и усы.
«Мне их даже жаль, — говорю я. — А что ты рисуешь?»
Айви пододвигается, чтобы я могла сесть рядом, и протягивает мне альбом. Она рисует лица детей. Половина лица грустная, половина — притворно веселая, так как покрыта толстым слоем клоунского грима. Никаких там тебе тигров или леопардов.
«Когда я была здесь в последний раз, они раскрашивали лица под клоунов. А сегодня вот такой облом», — объясняет Айви.
«И все же смотрится здорово, — говорю я. — Только, типа, немного зловеще. Не то чтобы жутко, но как-то неожиданно». Я отдаю ей альбом.
Айви тычет карандашом в завязанные узлом волосы. «Очень хорошо. Именно этого я и добиваюсь. Твоя штуковина из костей индюшки тоже была жуткой. Но жуткой в хорошем смысле слова, жутко хорошей. Прошло столько месяцев, а я все еще думаю о ней».
Ну и что мне на это сказать? Я закусываю губу, затем разжимаю зубы. Я вытаскиваю из кармана упаковку леденцов «Лайф сэйверс». «Угощайся». Она берет один, я беру три, и секунду мы просто молча сосем. «Как продвигается дерево?» — спрашивает она.
Я издаю стон. «Ужасно. Зря я подписалась на искусство. Наверное, просто не представляла себя в столярной мастерской».
«Ты себя недооцениваешь, — говорит Айви. Она открывает альбом на чистой странице. — Не понимаю, почему ты уперлась в клише на линолеуме. На твоем месте я бы расслабилась и рисовала. Вот — попробуй изобразить дерево».
Мы сидим и передаем друг другу карандаш. Я рисую ствол, Айви добавляет ветку, я удлиняю ветку, но она получается слишком вытянутой и тощей. Я начинаю ее стирать, Айви меня останавливает. «Все замечательно, не хватает только листьев. Нарисуй слой листьев, сделай их разного размера. Будет смотреться отлично. Это отличное начало».
Она права.
Генетика
Последняя тема по биологии в этом году — генетика. Слушать мисс Кин невозможно. Ее голос похож на холодный мотор, который не хочет набирать обороты. Лекция начинается с какого-то священника по имени Грег, который изучал овощи, и кончается дискуссией о голубых глазах. Похоже, я что-то пропустила. И почему мы перешли от овощей к цвету глаз? Перепишу записи Дэвида.
Я листаю учебник. Вот любопытная глава о кислотных дождях. И ничего о сексе. По программе мы будем проходить это только в одиннадцатом классе.
Дэвид рисует в тетради какую-то схему. У меня ломается карандаш, и я прохожу вперед, чтобы оточить его. Думаю, мне не вредно прогуляться. Мотор мисс Кин продолжает чихать. Мы получаем половину генов от матери и половину — от отца. А я-то считала, что получила от них свои джинсы «Эффертс». Ха-ха, биологическая шутка.
Мама говорит, что я пошла в папину родню. Они по большей части копы и страховые агенты, которые играют на футбольном тотализаторе и курят отвратительные сигары. Папа утверждает, что я пошла в мамину родню. Они фермеры, у которых растут только камни да ядовитый плющ. Они не любят болтать, не ходят к дантисту и не читают книг.
В детстве я часто представляла себя принцессой, которую взяли в приемную семью, так как ее королевство захватили плохие парни. И надеялась, что в один прекрасный день мои настоящие родители, мистер Король и миссис Королева, пришлют свой королевский лимузин и заберут меня отсюда. И мое семилетнее сердце едва не разорвалось, когда папа впервые заказал лимузин до аэропорта. Я решила, будто лимузин действительно прислали, чтобы меня забрать, и не захотела ехать. После этого папа всегда брал такси.
Я выглядываю из окна. Никаких лимузинов. Никаких карет или экипажей. Сейчас, когда я действительно хочу уехать, нет никого, кто бы мог меня подвезти.
Я рисую плакучую иву, склонившуюся над водой. Я не стану показывать свой набросок мистеру Фримену. Это для моей каморки. Я начала обклеивать стены своими рисунками. Еще несколько таких же занудных уроков — и я буду готова вернуться туда на весь школьный день. Листья получаются хорошо, очень естественно. Весь фокус в том, чтобы сделать их разного размера и наслоить друг на друга. Айви была права.
Мисс Кин пишет на доске: «Доминантный/рецессивный». Я заглядываю в тетрадь Дэвида. Он рисует генеалогическое древо. Дэвид получил гены, отвечающие за волосы, от папы, а отвечающие за цвет глаз — от мамы. Я рисую генеалогическое древо. Генеалогический обрубок. Нас не так уж и много. Я с трудом могу вспомнить имена родственников. Дядя Джим, дядя Томас, тетя Мэри, тетя Кэти; есть еще одна тетя, очень рецессивная. В результате этой самой рецессивности она и оказалась в Перу. Думаю, у меня ее глаза. Я унаследовала ген «И знать ничего не желаю» от папы, а ген «Я подумаю об этом завтра» — от мамы.
Мисс Кин говорит, что у нас на носу контрольная. Лучше бы я была повнимательнее на уроке. Лучше бы меня удочерили. Лучше бы Дэвид не вздыхал так тяжело каждый раз, когда я прошу его дать переписать конспект!
СЛЕДУЮЩИЕ ДЕСЯТЬ ЛЖИВЫХ ИСТИН, КОТОРЫЕ ВАМ ВНУШАЮТ В СТАРШИХ КЛАССАХ
1. Алгебра пригодится вам во взрослой жизни.
2. Ездить в школу на своей машине — привилегия, которой вас могут лишить.
3. Во время ланча ученики должны находиться на территории школы.
4. Новые учебники поступят со дня на день.
5. Колледжи интересуют не только результаты отборочного теста.
6. Мы соблюдаем дресс-код.
7. Мы скоро найдем способ выключить отопление.
8. Водители школьных автобусов — высококвалифицированные профессионалы.
9. В летней школе нет ничего плохого.
10. Мы готовы вас выслушать, если вам есть что сказать.
Тайная жизнь шпиона
Рейчел/Рашель сошла с ума. Она свихнулась. Она ходила в кино с Энди Чудовищем и со своими подружками по обмену, а теперь везде таскается за ним и пыхтит, словно домашняя собачонка. А ее подружка Грета-Ингрид обвивается вокруг его шеи, точно белый шарф. Спорим, что, когда он сплевывает, Рейчел/Рашель собирает слюну в стаканчик и хранит.
Перед уроком мистера Стетмана Рейчел/Рашель и еще какие-то дурочки сплетничают о свидании в кино. Меня вот-вот стошнит. У Рейчел/Рашель — только одно: «Эндито» и «Эндисе». Все ясно как день. Я зажимаю уши, чтобы не слышать ее дурацкого астматического смеха, и принимаюсь за домашнее задание, которое надо было сделать еще вчера.
Делать домашнее задание на уроке обычно легко, потому что голос мистера Стетмана создает мягкий звуковой барьер из белого шума. Сегодня я ни на что не способна, так как не могу отделаться от доводов за и против, которые крутятся у меня в голове. С какой стати волноваться за Рейчел/Рашель? (Он обидит ее.) Она сделала для меня хоть что-нибудь хорошее за этот год? (В средних классах она была моей лучшей подругой, а это тебе не кот начхал.) Нет, она стерва и предательница. (Она не видела, что случилось.) Пусть себе сохнет по Чудовищу; надеюсь, он разобьет ей сердце. (А вдруг он разобьет что-то еще?)
После окончания урока я вклиниваюсь в толпу у дверей, чтобы мистер Стетман не успел задержать меня из-за того задания. Рейчел/Рашель проталкивается мимо меня туда, где ее уже ждут Грета-Ингрид и какой-то коротышка из Бельгии. Я иду следом, но так, чтобы нас разделяло не меньше двух человек, как в детективах по телику. Они направляются в то крыло, где классы иностранных языков. Ничего удивительного. Иностранные ученики постоянно там ошиваются, типа, им хоть пару раз в день надо надышаться воздухом, пропитанным родной речью, а не то они все помрут от удушья в чисто американской среде. Энди Чудовище хищной птицей устремляется вниз, складывает крылья и уже на лестнице пристраивается между девочками. Он пытается поцеловать Грету-Ингрид в щечку, но она отворачивается. Он целует в щечку Рейчел/Рашель, и она хихикает. Он не целует в щечку коротышку из Бельгии. У кафедры иностранных языков бельгиец и шведка машут рукой и говорят «чао». Ходят слухи, что у них там есть даже кофемашина.
Рейчел/Рашель и Энди в дружеском порыве идут вместе по коридору. Я забиваюсь в угол, поворачиваюсь лицом к стене и делаю вид, будто учу алгебру. Полагаю, этого вполне достаточно, чтобы меня не опознали. Они садятся на пол, Рейчел/Рашель — в позе «лотоса». Энди выхватывает у Рейчел/Рашель тетрадь. Она хнычет, точно младенец, и грудью ложится ему на колени, чтобы забрать тетрадь. Он перекидывает тетрадь из одной руки в другую так, чтобы она не могла дотянуться. Затем он что-то ей говорит. Я не слышу, что именно. В коридоре шумно, как на стадионе во время футбольного матча. Его губы источают яд, и она улыбается, а потом целует его влажным поцелуем. Это не поцелуй девочки-скаута. Он отдает ей тетрадь. Его губы шевелятся. Мои уши наполняются лавой. Она ни в коей мере не претенциозная цыпочка Рашель. Я вижу сейчас третьеклассницу Рейчел — ту, что любила картофельные чипсы со вкусом барбекю, и ту, что как-то вплела мне в волосы розовую нитку для вышивания, с которой я ходила несколько месяцев, пока мама не заставила меня срезать ее. Я упираюсь лбом в шершавую штукатурку.
Разреженная атмосфера
Лучшее место для того, чтобы все хорошенько обмозговать, — моя каморка, мой тронный зал, мой отчий дом. Мне нужен душ. Может, стоит сказать Грете-Ингрид. (Мой шведский недостаточно хорош.) Я могла бы поговорить с Рейчел. (Угу, именно так.) Я могла бы сказать, будто слышала нехорошие вещи про Энди. (Что сделает его еще привлекательнее.) Вероятно, я могла бы признаться ей в том, что случилось. (Можно подумать, она станет слушать. А вдруг она передаст Энди? И чего тогда от него можно ожидать?)
В каморке особо не разгуляешься. Два шага вперед, поворот, два шага назад. Я стукаюсь голенью о кресло. Идиотская комната. Что за дурацкая идея сидеть в кладовке типа этой! Я плюхаюсь в кресло. Оно обдает меня застарелыми запахами обитателей подсобки: потных ног, вяленого мяса, залежавшихся в стиральной машине рубашек. Скульптура из индюшачьих костей начинает попахивать гнильцой. И даже ароматические смеси в трех баночках из-под детского питания не перебивают вони. Может, где-то в стене, рядом с вентиляцией, разлагается дохлая крыса?
Майя Анджелоу наблюдает за мной, задумчиво приложив два пальца к щеке. Очень интеллектуальная поза. Майя хочет, чтобы я сказала Рейчел.
Я снимаю фуфайку. Футболка липнет к телу. Отопление по-прежнему шпарит вовсю, несмотря на то что на улице так тепло, что хоть окна открывай. Вот чего мне точно не хватает, так это окна. Сколько бы я ни жаловалась на зиму, мне гораздо лучше дышится холодным воздухом, который, точно серебряный шарик ртути, проскальзывает в легкие и выскальзывает обратно. Апрель выдался сырым: то слякоть испаряется, то дождик моросит. Не месяц, а теплая заплесневевшая мочалка.
От сырости края моих рисунков закручиваются. Похоже, во всей этой истории с деревом намечается прогресс. Так же как Пикассо, я прошла несколько периодов. Тупой период, когда я толком не понимала, в чем реально состояло задание. Дурной период, когда даже под страхом смерти я не смогла бы нарисовать дерево. Мертвый период, когда все мои деревья выглядели так, будто пострадали от лесного пожара или вредителей. У меня получается уже лучше. Но я пока не знаю, как назвать данный период. От всех этих рисунков подсобка кажется меньше. Может, мне стоит подмазать сторожа и попросить отвезти их ко мне домой, чтобы спальня стала больше похожа на мою подсобку, больше похожа на дом.
Майя похлопывает меня по плечу. Я не слушаю. Знаю, знаю, я не хочу это слышать. Я должна решить проблему с Рейчел, должна что-то для нее сделать. Так говорит мне Майя, ни слова не произнося. Я тяну время. Рейчел меня возненавидит. (Она уже меня ненавидит.) Она не станет слушать. (Придется постараться.) Я стенаю и вырываю из тетради листок. Я пишу ей записку, пишу левой рукой, чтобы она не поняла, кто автор.
«Энди Эванс использует тебя. Он не тот, за кого себя выдает. Я слышала, он напал на девятиклассницу. Будь очень-очень осторожна. Друг. P. S. Передай это также Грете-Ингрид».
Не хочу, чтобы на моей совести оказалась и наша шведская супермодель.
Не покладая рук
Мистер Фримен — болван. Вместо того чтобы оставить меня одну — «найти свою музу» (клянусь, цитата подлинная), он усаживает меня на табурет рядом с собой и начинает критиковать. Что не так с моим деревом? Он захлебывается словами, описывая, какой это жуткий отстой. Оно застывшее, неестественное и вообще не впечатляет. Своим видом оно оскорбляет остальные деревья как класс.
Я соглашаюсь. Мое дерево беспомощное. Не искусство, а предлог не ходить на уроки кройки и шитья. Я чувствую себя неуместно на уроках мистера Фримена, так же неуместно, как в обществе Март или в своей розовой детской спальне. Здесь имеют право находиться только настоящие художники вроде Айви. Я несу свой линолеум в мусорный бак и швыряю его туда с такой силой, что на меня все оглядываются. Айви бросает на меня хмурый взгляд сквозь свою проволочную скульптуру. Я сажусь на место и кладу голову на стол. Мистер Фримен извлекает линолеум из мусора. А еще он приносит коробку с салфетками «Клинекс». Как он узнал, что я плачу?
Мистер Фримен: У тебя получается уже лучше, но еще недостаточно хорошо. Это похоже на дерево, но слишком уж оно обыкновенное, заурядное, будничное, скучное. Вдохни в него жизнь. Заставь его согнуться, ведь деревья гибкие и поэтому не ломаются. Исполосуй его шрамами, перекрути ветку — совершенных деревьев не существует. Ничто не совершенно. Вся прелесть в изъянах. Стань деревом.
У него сладкий, пломбирный голос, совсем как у детсадовского воспитателя. Если он считает, будто я могу это сделать, что ж, попробую еще раз. Мои пальцы постукивают по резаку. Мистер Фримен гладит меня по плечу, затем отворачивается, чтобы устроить веселую жизнь кому-то еще. Убедившись, что он не смотрит, я пытаюсь оживить плоский квадратик линолеума.
Может, я смогу срезать весь верхний слой и назвать это «Пустой квадрат». Если это сделает какая-нибудь известная личность, работа будет иметь грандиозный успех и стоить целое состояние. Если это сделаю я, получится очередная лажа. «Стань деревом». Ничего себе совет. Мистер Фримен слишком часто зависал с чудаковатыми представителями нью-эйдж. Во втором классе я играла дерево в школьном спектакле, так как не сумела изобразить овцу. Я стояла, раскинув руки, точно ветви, и склонив покачивавшуюся на ветру голову. Потом у меня болели руки. Сомневаюсь, чтобы деревьям когда-нибудь советовали «стать придурочной девятиклассницей».
«Правило кляпа»
Адвокат Дэвида Петракиса встретился с мистером Шеей и с кем-то вроде учительского адвоката. Угадайте, кто победил. Спорим, Дэвид при желании может до конца года прогуливать занятия и получать только отличные оценки. Чего он никогда не сделает. Но не приходится сомневаться, что всякий раз, как Дэвид поднимет руку, мистер Шея позволит ему говорить столько, сколько тот пожелает. Дэвид, тихий Дэвид, фонтанирует длинными, развернутыми, хаотичными рассуждениями об общественных науках. Остальные ученики чувствуют благодарность. Мы преклоняемся перед Всемогущим Дэвидом, Который Спасает Наши Задницы От Мистера Шеи.
К несчастью, мистер Шея по-прежнему проводит тесты, и большинство из нас их проваливает. Мистер Шея делает заявление: все отстающие могут заработать дополнительные баллы, сделав доклад на тему «Культурное влияние на рубеже веков». (Он перескочил через промышленную революцию, чтобы наш класс мог наконец перевалить через 1900 год.) Он не хочет нас видеть в летней школе.
Я тоже не хочу видеть его в летней школе. Я пишу о суфражистках. До появления на авансцене суфражисток с женщинами обращались как с собаками:
• женщины не могли голосовать;
• женщины не имели имущественных прав;
• женщин зачастую не допускали в школы.
Они были куклами, без собственных мыслей, без собственного мнения, без собственного голоса. Затем вперед вышли суфражистки со своими вызывающими, смелыми идеями. Их арестовывали и бросали в тюрьму, но так и не смогли заткнуть им рот. Они не сдавались и продолжали борьбу до тех пор, пока не получили положенные им права.
Я написала лучший в своей жизни доклад. Все, что я списываю из книжки, я закавычиваю и снабжаю сносками (или ножками?). Я использую книги, журнальные статьи и видеозаписи. Я даже подумываю о том, чтобы разыскать какую-нибудь старую суфражистку в доме для престарелых, но они уже, наверное, все умерли.
Более того, я вовремя сдаю доклад. Мистер Шея хмурится. Смотрит на меня сверху вниз и говорит: «Чтобы получить дополнительные баллы за доклад, ты должна представить его в устной форме. Завтра. В начале урока».
Я:
Ни мира, ни справедливости
Я ни за что на свете не смогу прочесть доклад о суфражистках перед всем классом. Мы так не договаривались. Мистер Шея в последнюю секунду поменял правила игры или потому, что хочет меня засыпать, или потому, что меня ненавидит, или по какой-то другой причине. Но я написала реально хороший доклад и не могу позволить тупоголовому учителю обвести меня вокруг пальца. Я прошу совета у Дэвида Петракиса. Мы разрабатываем План.
Я прихожу в класс очень рано, когда мистер Шея еще в учительской. Все, что нужно, я пишу на доске и закрываю слова постером с символикой протеста суфражисток. Коробка из копировальной мастерской стоит на полу. Входит мистер Шея. Рычит, что я могу начинать. Я встаю — по-суфражистски высокая и спокойная. Это неправда. Кишки крутит так, точно я попала в торнадо. Пальцы ног внутри кроссовок скрючиваются и цепляются за пол, чтобы меня не унесло ветром.
Мистер Шея кивает мне. Я беру свой доклад, словно собираюсь прочесть его вслух. Я стою, а листочки дрожат, будто от ворвавшегося сквозь закрытую дверь ветра. Я поворачиваюсь и срываю с доски свой постер.
СУФРАЖИСТКИ БОРОЛИСЬ ЗА ПРАВО ГОВОРИТЬ. НА НИХ НАПАДАЛИ, ИХ АРЕСТОВЫВАЛИ, БРОСАЛИ В ТЮРЬМУ, ТАК КАК ОНИ ОСМЕЛИВАЛИСЬ ДЕЛАТЬ ТО, ЧТО ХОТЕЛИ. ТАК ЖЕ КАК И ОНИ, Я ЖЕЛАЮ ОТСТАИВАТЬ СВОИ УБЕЖДЕНИЯ. НЕЛЬЗЯ ПРИНУЖДАТЬ ЧЕЛОВЕКА ПРОИЗНОСИТЬ РЕЧИ. Я ПРЕДПОЧИТАЮ ХРАНИТЬ МОЛЧАНИЕ.
Класс читает в гробовой тишине, кое-кто шевелит губами. Мистер Шея поворачивается, чтобы узнать, на что это все уставились. Я киваю Дэвиду. Он выходит вперед, становится рядом, и я отдаю ему свою коробку.
Дэвид: Мелинда получила задание представить классу свой доклад. Она сделала копии, чтобы каждый мог ознакомиться.
Он раздает копии доклада. В канцелярском магазине я заплатила за все про все 6,72 доллара. Я собиралась сделать титульный лист и раскрасить его, но, поскольку в последнее время у меня напряженно с карманными деньгами, я просто помещаю название сверху на первой странице.
Мой план состоит в том, чтобы постоять перед классом отведенные мне на презентацию пять минут. Суфражисткам тоже приходилось планировать и хронометрировать свои акции протеста. У мистера Шеи другие планы. Он ставит мне D и ведет к начальству. Я совсем забыла, что суфражисток тоже бросали в тюрьму. Да уж. Я отправляюсь в тур по кабинетам школьного психолога, Самого Главного и снова зарабатываю ВОЗШМ. У меня в очередной раз Проблемы с дисциплиной.
Мне нужен адвокат. В этой четверти я появлялась в школе каждый день, просиживала задницу в каждом классе, выполняла домашнее задание, не жульничала на тестах. И тем не менее опять получаю ВОЗШМ. Они не могут наказывать меня за нежелание говорить. Это несправедливо. Что они обо мне знают? И где уж им понять, что творится у меня в голове? Разряды молнии, детский плач. Застигнутая лавиной, распятая страхами, придавленная грузом сомнений и вины. Боли.
Стены в комнате для ВОЗШМ по-прежнему белые. Энди Чудовища здесь нет. Спасибо Тебе, Господи, за эту малую милость. Мальчик с лимонными волосами, в данный момент, похоже, вступивший в контакт с пришельцами, мирно дремлет; две девочки-гота в черных бархатных платьях и живописно продранных колготках обмениваются улыбками Моны Лизы. Они прогуляли школу, чтобы постоять в очереди на убойный концерт. ВОЗШМ не самая большая цена за десятый ряд, места 21 и 22.
Я медленно закипаю. Адвокаты по телику всегда советуют своим клиентам молчать. Копы обязательно говорят такую вещь: «Все, что вы скажете, может быть использовано против вас». Самооговор. Я нашла это в словаре. Словарное слово на три очка. Тогда почему взрослые устраивают такой кипиш по поводу того, что я не говорю? Может, я не хочу оговаривать себя. Может, мне не нравится звук моего голоса. Может, мне нечего сказать.
Мальчик с лимонными волосами падает со стула и просыпается. Девочки-готы ржут. Мистер Шея втихаря ковыряет в носу. Мне нужен адвокат.
Совет от шутника
На уроке обществознания Дэвид Петракис передает мне записку. Напечатанную. Он считает ужасным, что мои родители не засняли уроки мистера Шеи на видео и не поддержали меня, как сделали предки Дэвида. Так приятно знать, что тебя хоть кто-то жалеет. Более того, родители вообще не в курсе произошедшего. Хотя все тайное скоро станет явным: уже на ближайшей встрече со школьным психологом.
Я думаю, что Дэвиду надо быть судьей. Его последнее карьерное устремление — стать гением в области квантовой физики. Я не знаю, что это значит, но, по словам Дэвида, его отец в ярости. Его отец прав. Дэвид создан для права: убийственное спокойствие, мозги с турбонаддувом и умение видеть слабости.
Он останавливается возле моего шкафчика. Я говорю ему, что мистер Шея поставил мне D за доклад о суфражистках.
Дэвид: У него есть на то основания.
Я: Это был замечательный доклад! Ты его читал. Я составила библиографию и ничего не содрала из энциклопедии. Лучший доклад в моей жизни. Я не виновата, что мистер Шея не понимает искусства перформанса.
Дэвид замолкает, чтобы предложить мне жвачку. Отвлекающий маневр вроде тех, что любят присяжные.
Дэвид: Но ты не поняла главного. Задача суфражисток в том и состояла, чтобы говорить громко, высказаться в защиту своих прав. Ты не можешь высказаться в защиту права молчать. Так ты позволишь плохим парням победить. Если бы суфражистки поступали, как ты, женщины до сих пор не имели бы права голоса.
Я выдуваю пузырь прямо ему в лицо. Он складывает обертку от жвачки в крошечные треугольники.
Дэвид: Не пойми меня неправильно. По-моему, то, что ты сделала, было очень круто и устроить тебе ВОЗШМ жутко несправедливо. Но не надейся, будто хоть что-то изменится, пока ты не выскажешься в свою защиту.
Я: Ты всем своим друзьям читаешь такие нотации?
Дэвид: Только тем, кто мне нравится.
С минуту мы оба обдумываем ситуацию. Звенит звонок. Я продолжаю рыться в шкафчике в поисках книжки, которой там точно нет. Дэвид в сотый раз смотрит на часы. Мы слышим, как Самый Главный орет: «Народ, а ну пошевеливайтесь!»
Дэвид: Может, я тебе позвоню.
Я: Может, я тебе не отвечу. (Жуй-жуй-жуй. Выдуй пузырь и схлопни его.) А может, отвечу.
Он что, приглашает меня на свидание? Я так не думаю. А вот он вроде бы да. Похоже, я отвечу, если он позвонит. Но если он прикоснется ко мне, я взорвусь, так что о свидании не может быть и речи. Никаких прикосновений.
Чудовище ищет добычу
Я остаюсь после уроков поработать над эскизами. Мистер Фримен поначалу помогает. Он вручает мне рулон коричневой бумаги, белый мелок и показывает, как нарисовать дерево тремя размашистыми линиями. Ему без разницы, сколько ошибок я делаю, просто раз, два, три — в темпе вальса, говорит он. Снова и снова. Я извожу не меньше мили бумаги, но ему по барабану. Вот, возможно, в чем корень его проблем, а именно бюджетных разногласий со школьным советом.
Бог отрывисто сообщает по интеркому, что мистер Фримен опаздывает на собрание преподавательского состава. Мистер Фримен в ответ говорит слова, которые нечасто услышишь от учителей. Он дает мне новый мелок и велит нарисовать корни. Нельзя вырастить хорошее дерево без корней.
Художественный класс — одно из тех мест, где я чувствую себя в безопасности. Я напеваю себе под нос и не беспокоюсь, что выгляжу глупо. Корни. Фу! Но я стараюсь. Раз, два, три. Я не думаю о завтрашнем дне или о следующей минуте. Раз, два, три.
Кто-то выключает свет. Я вскидываю голову. ОНО здесь. Энди Чудовище. Кроличье сердце выскакивает из моей груди и скачет по бумаге, оставляя на корнях моего дерева кровавые следы. ОНО снова включает свет.
Я чувствую его запах. Надо бы выяснить, где ОНО берет этот одеколон. Мне кажется, он называется «Страх». Все это начинает походить на один из тех повторяющихся ночных кошмаров, когда ты падаешь, падаешь, но никогда не касаешься пола. У меня такое чувство, будто я врезаюсь в землю на скорости сто миль в час.
ОНО: Ты не видела Рашель? Рашель Бруин?
Я сижу совершенно неподвижно. Может, мне удастся затеряться среди металлических столов и растрескавшихся глиняных горшков? Он идет ко мне ленивым, размашистым шагом. Запах душит меня. Я содрогаюсь.
ОНО: Она должна была со мной встретиться, но я нигде не могу ее найти.
Я:
ОНО садится на мой стол, ЕГО нога размазывает мой рисунок мелом, превращая корни в топкий туман.
ОНО: Алло? Есть кто дома? Ты что, оглохла?
ОНО заглядывает мне в лицо. Я так сильно стискиваю зубы, что они крошатся в пыль.
Я — олень, застывший в свете фар тягача. Неужели он собирается снова сделать мне больно? Он не может, только не в школе. Разве нет? Почему я не способна закричать, сказать хоть что-нибудь, сделать хоть что-то? Почему мне так страшно?
«Энди? Я ждала тебя снаружи». В класс влетает Рейчел, на ней претенциозная юбка из цыганского платка и бусы из зеркал размером с глазное яблоко. Она надувает губы, и Энди спрыгивает со стола, разрывая мою бумагу и кроша мел. Айви входит в класс и нечаянно врезается в Рейчел. Айви медлит — она не может не понять, что здесь происходит нечто странное, — затем снимает с полки свою скульптуру и садится за соседний стол. Рейчел смотрит на меня, но молчит. Должно быть, она получила мою записку — я отправила ее больше недели назад. Я встаю. Рейчел небрежно машет нам рукой и бросает: «Чао». Энди обнимает Рейчел за талию, притягивает ее к себе, и они выплывают из комнаты.
Айви обращается ко мне, но я только потом слышу, что она говорит. «Ну и козел. — Айви отщипывает кусочек глины. — Поверить не могу, что она с ним гуляет. А ты? Я просто ее не узнаю. Он еще тот фрукт. — Она швыряет ком глины на стол. — Можешь мне поверить, этот подонок — самый настоящий источник неприятностей, причем неприятностей с большой буквы».
Я бы с удовольствием осталась поболтать, вот только ноги не дают. Я иду домой пешком, вместо того чтобы сесть на автобус. Я отпираю входную дверь и отправляюсь прямиком в свою комнату, иду по ковру — и сразу в стенной шкаф, не снимая рюкзака. Я закрываю дверь шкафа и зарываюсь лицом в одежду, висящую на вешалке слева, одежду, из которой я давным-давно выросла. Я затыкаю рот старой тканью и кричу, кричу до тех пор, пока у меня внутри не кончаются звуки.
Тоска по дому
Самое время устроить себе день психического здоровья. Я хочу поваляться в пижаме, поесть мороженого прямо из картонки, покрасить ногти на ногах, посмотреть Отстой-ТВ. День психического здоровья нужно планировать заранее. Я узнала это из маминого разговора с ее подружкой Ким. Мама всегда начинает вести себя как больная уже за сорок восемь часов до назначенной даты. Они с Ким проводят день психического здоровья вместе. Покупают туфли и ходят в кино. Продвинутые взрослые шалости. И куда катится этот мир?
Я отказываюсь от обеда и десерта, а потом так сильно кашляю во время новостей, что папа советует мне принять лекарство от кашля. Утром я размазываю тушь под глазами, чтобы выглядеть так, будто не спала всю ночь. Мама измеряет мне температуру — выясняется, что у меня жар. Сама удивляюсь. Ее рука прохладная, холодный остров у меня на лбу.
Слова вываливаются изо рта прежде, чем я могу им помешать.
Я: Я себя неважно чувствую.
Мама гладит меня по спине.
Мама: Ты, должно быть, заболела. Ты разговариваешь.
Даже она понимает, как паскудно это звучит. Она откашливается и делает вторую попытку.
Мама: Прости. Так приятно слышать твой голос. Ложись обратно в постель. Перед уходом я принесу тебе наверх поднос. Хочешь имбирного эля?
Я киваю.
Опра, Сэлли Джесси, Джерри и я
У меня температура 102,2. Похоже на частоту радиостанции. Мама звонит напомнить, что нужно пить побольше жидкости. Я отвечаю спасибо, хотя у меня болит горло и больно говорить. Очень мило с ее стороны позвонить мне. Она обещает принести попсикл. Я вешаю трубку и устраиваюсь с пультом в своем диванном гнездышке. Щелк. Щелк. Щелк.
Если бы моя жизнь была телешоу, как бы это смотрелось со стороны? Если бы это был специальный выпуск, посвященный окончанию школы, я бы выступила перед аудиторией своих ровесников на тему «Как не потерять девственность». Или «Почему старшеклассников следует изолировать от общества». Или «Мои летние каникулы: пьяная вечеринка, ложь и изнасилование».
Была ли я изнасилована?
Опра: Давайте это рассмотрим. Ты сказала «нет». Он закрыл тебе рот рукой. Тебе было тринадцать. Не имеет значения, что ты была пьяна. Солнышко, тебя изнасиловали. Как ужасно, ужасно жить с таким грузом на душе. А ты никогда не думала о том, чтобы хоть кому-то сказать? Ты не можешь вечно держать это в себе. У кого-нибудь есть бумажный платок?
Сэлли Джесси: Я хочу, чтобы этот мальчик нес ответственность. Его следует осудить за нападение. Ты ведь знаешь, что это действительно нападение, не так ли? Тут нет твоей вины. Я хочу, чтобы ты меня послушала, послушала меня, послушала меня. Тут нет твоей вины. Этот мальчик — животное.
Джерри: А было ли это любовью? Нет. Было ли это страстью? Нет. Было ли это нежностью, сладостным мгновением, тем Первым Разом, о котором пишут в журналах? Нет, нет и еще раз нет! Говори, Мясильда, ах, Мелинда, я тебя не слышу!
Моя голова меня убивает, мое горло меня убивает, мой живот вздувается от токсичных отходов. Я просто хочу спать. Кома — именно то, что надо. Или амнезия. Что угодно, лишь бы избавиться от всех этих мыслей, шепотков в моей голове. Неужели он изнасиловал заодно и мою голову?
Я принимаю две таблетки тайленола и съедаю миску пудинга. Затем я смотрю «Соседей мистера Роджерса» и засыпаю. Мне не помешает поездка к Воображаемым соседям. Возможно, я смогу остаться у Тигренка Даниэля в его доме на дереве.
Реальная весна
Наконец-то на дворе май и кончились дожди. Что тоже очень хорошо, ведь мэр города Сиракьюса уже собирался было позвать на помощь парня по имени Ной. Появляется солнце, масляно-желтое и такое теплое, что тюльпаны соглашаются выглянуть из-под корочки грязи. Чудо.
У нас во дворе бардак. У всех наших соседей шикарные сады, как с обложки журнала, с цветами в тон ставней и дорогущими белыми камнями вокруг свежих могильных холмиков из мульчи. У нас только зеленые кусты, которые вот-вот закроют собой фасадные окна, да горы опавших листьев.
Мама уже ушла. В субботу в «Эффертсе» самая бойкая торговля за всю неделю. Папа храпит наверху. Я надеваю старые джинсы и откапываю за гаражом грабли. Я начинаю с листьев, удушающих кусты. Спорим, папа не убирал их годами. Сверху они вполне сухие и безобидные, но под верхним слоем — мокрые и склизкие. Белая плесень змеится с одного листа на другой. Листья слипаются, как страницы истлевшей книжки. Я уже сгребла гору листьев на переднем дворе, но их не становится меньше, словно земля отрыгивает эту липкую массу, стоит только мне отвернуться. Приходится сражаться с кустами. Они цепляются за грабли и держат их — им не нравится, что я убираю всю эту гниль.
На все про все уходит час. Наконец грабли скребут металлическими ногтями по коричневой мокрой грязи. Я встаю на колени, чтобы извлечь последние листья. Мисс Кин могла бы мной гордиться. Я наблюдаю. Застигнутые лучами солнца червяки, извиваясь, ползут в укрытие. Бледно-зеленые ростки чего-то живого пытаются пробиться сквозь листья. Прямо на моих глазах они выпрямляются навстречу солнцу. Я буквально вижу, как они растут.
Дверь гаража открывается, и папа выезжает на джипе. При виде меня папа останавливается на дорожке. Выключает двигатель и вылезает. Я поднимаюсь с колен и стряхиваю грязь с джинсов. Мои ладони покрыты волдырями, а руки уже болят от работы с граблями. Не могу сказать, сердится папа или нет. Может, ему нравится, чтобы двор перед домом утопал в дерьме.
Папа: Это же куча работы.
Я:
Папа: Куплю в магазине мешки для листьев.
Я:
Мы оба стоим, скрестив руки, и смотрим, как неокрепшие побеги пытаются вырасти в тени кустов, пожирающих дом. Солнце прячется за облаком, и я зябко ежусь. Надо было надеть толстовку. Ветер шелестит сухими листьями, цепляющимися за ветки дуба со стороны улицы. Я могу думать только о том, что оставшиеся листья опадут и мне придется продолжить работать граблями.
Папа: Смотрится гораздо лучше. Я хочу сказать, когда все чисто.
Новый порыв ветра. Листья дрожат.
Папа: Думаю, мне стоит подстричь кусты. Но тогда, естественно, будут видны ставни, а они нуждаются в покраске. Но если я покрашу эти ставни, мне придется покрасить и все остальные ставни, а отделка — тоже большая работа. А еще входная дверь.
Я:
Дерево: Тсс шур-шур читачита ш-ш-ш…
Папа поворачивается и прислушивается к звукам, идущим от дерева. Я не знаю, что делать.
Папа: И это дерево больное. Видишь, на ветках слева совсем нет почек. Не мешало бы кого-нибудь позвать взглянуть на него. Не хватает только, чтобы во время грозы оно рухнуло прямо к тебе в комнату.
Спасибо тебе, папа. Как будто у меня и без того мало проблем со сном. Проблема номер 64: ветки летающего дерева. Не надо было мне грести листья. Посмотрите, к чему это привело. Не надо было затевать ничего нового. Надо было оставаться дома. Смотреть мультики с большой миской «Чириоуз». Надо было оставаться в своей комнате. Оставаться со своими мыслями.
Папа: Похоже, стоит съездить в хозяйственный магазин. Хочешь со мной?
Хозяйственный магазин. Семь акров небритых мужчин и женщин с горящими глазами в поисках идеальной отвертки, гербицидов и грилей, работающих на вулканическом газе. Шум. Свет. Дети, бегающие по проходам с резаками, и топорами, и пилами. Люди, ругающиеся из-за цвета краски для ванной. Нет уж, спасибо.
Я мотаю головой. Поднимаю грабли и начинаю подравнивать гору опавших листьев. Волдырь лопается и оставляет на ручке граблей след как от слезы. Папа кивает и, бряцая ключами, идет к джипу. Пересмешник садится на нижнюю ветку дуба и принимается меня бранить. Я выгребаю листья из горла.
Я: Может, купишь немного семян? Семян цветов?
Ошибка при подаче
Наша учительница физкультуры, мисс Коннорс, учит нас играть в теннис. Теннис — единственный вид спорта, время на который, можно сказать, потрачено не совсем впустую. Баскетбол тоже можно было бы считать неплохой игрой, если бы в твои обязанности входили исключительно штрафные броски, но бо́льшую часть времени ты на площадке с еще девятью игроками, которые толкаются, и пихаются, и вообще слишком много бегают. Теннис более цивилизованный вид спорта. Играют всего два человека, если только это не игра пара на пару, в чем я никогда не участвую. Правила простые: нужно лишь каждые несколько минут переводить дух, заодно можно и позагорать.
На самом деле я научилась играть пару лет назад, когда у родителей было временное членство в фитнес-клубе. Мама записала меня на теннис, и я играла с папой, но только до тех пор, пока они не решили, что ежемесячная абонентская плата им не по карману. Поскольку я более-менее умею держать ракетку в руке, мисс Коннорс ставит меня с Николь — Богиней Качков, чтобы показать остальным, как надо играть.
Я подаю первой, хороший удар, не слишком сильный. Николь отвечает великолепным ударом слева. Какое-то время мы просто гоняем мяч через сетку. Затем мисс Коннорс свистит в свисток и объясняет дебильную систему счета в теннисе, где цифры не имеют смысла и нулевой счет вообще не принимается во внимание.
Николь подает следующей. И получает очко. Отличная подача со скоростью девяносто миль в час: прежде чем я успеваю среагировать, мяч целует корт перед линией. Мисс Коннорс говорит Николь, что та потрясающая, и Николь улыбается.
Я не улыбаюсь.
Ко второй подаче Николь я уже вполне готова и отбиваю мяч, который попадает ей чуть ниже шеи. Мисс Коннорс говорит что-то приятное мне, и Николь поправляет струны ракетки. Моя подача.
Я несколько раз подбрасываю мяч, Николь приподнимается на цыпочки. Она больше не валяет дурака. Задето ее женское самолюбие. Она не позволит победить себя убогой тихоне со странностями, которая когда-то была ее подругой. Мисс Коннорс говорит, чтобы я подавала.
Я с размаху бью по мячу, посылая его прямиком Николь в зубы, скалящиеся из-за ее сделанного на заказ фиолетового загубника. Она увертывается.
Мисс Коннорс: Ошибка при подаче!
Класс хихикает.
Зашаг. Не та нога выдвинута вперед, палец за меткой. Я делаю вторую попытку. Еще одно свидетельство цивилизованности тенниса.
Я стучу желтым мячом — раз, два, три. И кидаю его высоко вверх, словно выпускаю на волю птицу или бросаю яблоко, затем выгибаю руку, разворачиваю плечо, уменьшаю мощность удара и степень злости, но не забываю целиться. Моя ракетка живет своей собственной жизнью, сгусток энергии. Она обрушивается на мяч, тот пулей летит над сеткой. Николь не успевает даже глазом моргнуть, как мяч взрывается на корте, оставляя воронку. Он падает у нее за спиной и ударяется об ограждение с такой силой, что то обиженно дребезжит. Никто не смеется.
Ошибки при подаче нет. Я получаю очко. Тем временем Николь выигрывает, но с небольшим отрывом. Все остальные ноют и жалуются на волдыри. У меня на руках костные мозоли после уборки двора. Я достаточно крепкая, чтобы играть, и достаточно сильная, чтобы выигрывать. Может, удастся уговорить папу немного потренироваться со мной. Если я сумею хоть кого-то хоть в чем-то победить, это будет единственным славным событием реально провального года.
Ежегодники
Прибыли ежегодники. Похоже, все понимают важность этого ритуала, кроме меня. Ты охотишься на любого человека, который кажется тебе смутно знакомым, и заставляешь писать его в твоем ежегоднике, что вы двое закадычные друзья, и вы никогда не забудете друг друга, и вообще у вас в памяти навечно останется _____ класс (заполните пробел), и он желает тебе отличного лета. С любовью.
Я вижу, как некоторые ребята просят теток из школьной столовой подписать их ежегодники. Интересно, что они пишут? «Желаю, чтобы твои куриные котлеты были всегда хорошо прожарены». Или, может, «Пусть твое желе всегда дрожит».
Чирлидеры получили нечто вроде специального разрешения стайками бродить по коридору с ручками наперевес в поисках автографов учителей и учеников. Когда они проплывают мимо меня, я чувствую, как от них тянет соревновательным душком. Они считают подписи.
Появление ежегодников бросает свет на еще одну школьную тайну: почему все популярные девочки мирятся с отвратительными привычками Тодда Райдера. Он свинья. Сальный, скользкий, с вонючим ртом и к тому же немытый, он станет достойным пополнением братства колледжа штата. Но популярные школьники весь год лижут ему задницу. Почему?
Тодд Райдер фотографирует для ежегодника.
Полистай страницы — и сразу увидишь, кто у него в фаворитах. Будь поласковей с Тоддом, и он сделает такие фотки, что модельные агентства тебе телефон оборвут. Но только попробуй обидеть его — и сразу будешь похож на эмигранта из трейлерного парка после не самого удачного дня.
Если бы я руководила средней школой, то в первый же день запретила бы подобные вещи. Я так и не разобралась в Могуществе Тодда. Он как-то щелкнул меня, когда я, в своем куцем зимнем пальто, убегала от камеры, втянув голову в плечи.
Я не собираюсь покупать ежегодник.
Больше не Лахудра
Лахудра постриглась почти налысо. На голове у нее словно торчащий рожками выстриженный мех. И все волосы, длиной не более полудюйма, черные — никакого ненатурального рыжего. А еще у нее новые очки, бифокалы в фиолетовой оправе, которые висят на украшенной бусинками цепочке.
Я не знаю, чем это вызвано. Может, она влюбилась? Получила развод? Выехала из родительского подвала? Все почему-то забывают, что у учителей тоже имеются родители, но они есть.
Кое-кто из ребят считает, будто она сделала это, чтобы сбивать нас с толку во время работы над итоговым сочинением. Я не уверена. У нас две темы на выбор. «Символизм в комиксах» или «Как рассказ изменил мою жизнь». Я думаю, происходит что-то другое. Я думаю, она нашла хорошего психотерапевта или, может, опубликовала роман, который писала со времен Сотворения мира. Интересно, а она будет преподавать в летней школе?
Маленькая надпись на стене
Айви сидит за моим столом в художественном классе, из узла ее волос торчат четыре цветных маркера без колпачков. Я встаю, она поворачивает голову, и — есть! — у меня на блузке радуга. Айви извиняется сто миллионов раз. Если бы на ее месте был кто-то другой, я решила бы, что это сделано нарочно. Но последние несколько недель у нас с Айви установились вроде как дружеские отношения. Не думаю, что она хотела сделать гадость.
Мистер Фримен разрешает мне выйти в туалет, где я пытаюсь отмыть пятна. Наверное, я похожа на собаку, гоняющуюся за собственным хвостом: я извиваюсь и изгибаюсь, пытаясь разглядеть в зеркале свою спину. Дверь распахивается настежь. Это Айви. Она открывает рот, но я машу на нее рукой: «Не надо больше ничего говорить. Я знаю, что ты сожалеешь. Это был несчастный случай».
Она показывает на фломастеры, которые по-прежнему торчат из ее волос: «Я надела колпачки. Мистер Фримен заставил. А затем послал сюда проверить, как у тебя дела».
«Он что, волнуется за меня?»
«Он хочет удостовериться, что ты не выкинешь номер с исчезновением. Ты славишься своим умением испаряться».
«Но не посреди урока».
«Все когда-нибудь случается в первый раз. Иди в кабинку и дай мне свою блузку. Ты не можешь застирать ее на себе».
Думаю, Самому Главному не мешало бы устроить себе офис прямо в туалете. Может, тогда он нанял бы уборщика, чтобы содержать туалет в чистоте, или вооруженную охрану, чтобы люди не засоряли унитазы, не курили бы или не чирикали бы на стенах.
«Кто такая Александра?» — спрашиваю я.
«Не знаю никакой Александры, — слышится голос Айви сквозь шум текущей в раковину воды. — Вроде бы в десятом классе есть какая-то Александра. А что?»
«Если верить тому, что здесь сказано, она насолила куче народу. Кто-то написал громадными буквами, что она шлюха, а все остальные добавили мелкие подробности. Она спала с этим парнем, она спала с тем парнем, она одновременно спала и с этим, и с тем. Для десятиклассницы она, безусловно, здорово преуспела».
Айви не отвечает. Я заглядываю в щелку между дверью и стенкой. Айви открывает контейнер с мылом и макает туда мою блузку. Затем начинает тереть пятна. Я дрожу. Я стою в лифчике, причем не в самом чистом лифчике, и здесь холодно. Айви подносит блузку к свету, хмурится и начинает снова тереть. Мне хочется сделать глубокий вдох, но уж больно здесь воняет.
«А ты помнишь, что говорила об Энди Эвансе? Будто он источник неприятностей?»
«Да».
«А с чего ты взяла?»
Она смывает мыло с блузки.
«У него такая репутация. У него на уме только одно, и, если верить слухам, он своего не упустит, чего бы это ни стоило».
Она отжимает блузку. Звук капающей воды эхом отдается от кафельной плитки.
«Рейчел с ним гуляет», — говорю я.
«Знаю. Очередная глупость из числа тех, что она делает в этом году. Что она о нем говорит?»
«Мы толком не разговариваем», — отвечаю я.
«Она еще та сучка, ты ведь это хочешь сказать. Она считает, будто слишком хороша для нас».
Айви нажимает серебряную кнопку на фене для рук и поднимает вверх блузку. Я снова читаю граффити на стене: «Я люблю Дерека». «Мистер Шея — кровосос». «Ненавижу это место». «Сиракьюс зажигает». «Сиракьюс отстой». Списки сексуальных перцев, списки козлов, списки горнолыжных курортов в Колорадо, о которых мечтает каждый. Номера телефонов, зацарапанные ключами. На стене туалетной кабинки записаны целые диалоги. Это словно чат интернет-сообщества, металлическая газета.
Я прошу Айви дать мне один из ее фломастеров. Что она и делает. «Думаю, тебе придется положить блузку в отбеливатель, — говорит Айви и протягивает мне заодно и блузку. Я надеваю ее через голову. Она все еще сырая. — А зачем тебе маркер?»
Я зажимаю колпачок в зубах. Начинаю на стене новую тему: Парни, от которых лучше держаться подальше. Первым в списке стоит Чудовище собственной персоной: Энди Эванс.
Я торжественно распахиваю дверь. «Та-дам!» Я демонстрирую свое творчество.
Айви ухмыляется.
Подготовка к выпускному балу
Апогей сезона спаривания уже совсем близко — Выпускной бал. Не мешало бы отменить занятия в школе на этой неделе. Единственное, что мы изучаем, — это кто с каким идет (с кем, поправила бы Лахудра), кто купил платье на Манхэттене, какая компания по прокату лимузинов не настучит на вас, что вы пили, где самые дорогие смокинги и так далее и тому подобное. Сплетни настолько электризуют воздух, что вполне могут обеспечить школу энергией до конца четверти. Учителя писают крутым кипятком. Ученики не сдают домашнюю работу, поскольку пропадают в солярии.
Энди Чудовище пригласил Рейчел пойти с ним на бал. Уму непостижимо, как мамаша Рейчел могла ее отпустить, хотя, возможно, она согласилась, потому что они идут вместе с братом Рейчел и его девушкой. Рейчел — в числе немногих девятиклассников, приглашенных на выпускной бал; ее социальный статус сразу взлетает до небес. Может, она не получила моей записки, а может, решила не обращать внимания. Может, она показала ее Энди и они здорово повеселились. Может, в отличие от меня, она не попадет в беду, может, он послушается ее. Может, мне лучше перестать думать об этом, пока у меня окончательно не съехала крыша.
Хизер приползла на брюхе за помощью. Моя мама не верит своим глазам: самая что ни на есть настоящая подруга из плоти и крови ждет на переднем крыльце ее нелюдимую дочь! Я выцарапываю Хизер из маминых когтей, и мы удаляемся ко мне в комнату. Мои плюшевые кролики, поводя носами, вылезают из своих нор: розовый, фиолетовый, а еще клетчатый кролик, который подарила бабушка. Они взволнованы не меньше мамы. Компания! Я словно вижу свою комнату сквозь зеленоватые контактные линзы Хизер. Она ничего не говорит, но я знаю, по ее мнению, комната выглядит по-дурацки — настоящая детская, со всеми этими игрушечными кроликами, которых тут, наверное, не меньше сотни. Мама стучится в дверь. У нее для нас печенье. Мне хочется спросить, случайно, не заболела ли она. Я вручаю Хизер пакет с печеньем. Та берет печенюшку и обгрызает по краям. Я запихиваю в рот сразу пять, просто назло ей. Я ложусь на кровать, загоняя кроликов к стене. Хизер деликатно сбрасывает со стула ворох грязной одежды и пристраивает на него свою тощую задницу. Я жду.
Хизер начинает слезливую историю о том, как она ненавидит быть прихвостнем у Март. Добровольное рабство и то лучше. Они просто ею пользуются, бессовестно помыкая. Она из отличницы сделалась хорошисткой, поскольку кучу времени тратит на ожидание приказаний от Старших Март. Ее отец подумывает о том, чтобы согласиться на работу в Далласе, и она не прочь снова переехать, ей ничуть не жалко, ведь, насколько ей известно, ребята на Юге не такие задаваки, как тут.
Я беру еще печенье. Не могу оправиться от шока, что у меня в комнате гость. Мне хочется выгнать Хизер взашей: ведь когда комната снова опустеет, будет невыносимо больно. Хизер говорит, что я оказалась очень проницательной: «…такой проницательной, Мел, что послала к черту эту дурацкую группировку. Весь этот год был просто ужасным. Я проклинала их каждый божий день, но у меня не хватило духу послать их, как это сделала ты».
Она полностью игнорирует тот факт, что я никогда не была принята в их круг и что именно она послала меня к черту, не дав мне возможности остаться даже в тени великолепия Март. Мне кажется, что в комнату вот-вот ворвется парень в бледно-лиловом костюме, с микрофоном в руках и заорет: «Еще один миг альтернативной реальности Пубертатного периода!»
Я по-прежнему теряюсь в догадках, что означает ее появление здесь. Она слизывает крошку от печенья и переходит к делу. Она и другие Младшие Марты должны украсить для выпускного вечера бальный зал «Холидей инн». Мег-и-Эмили-и-Шивон, естественно, не могут помочь; им надо сделать маникюр и отбелить зубы. Горстку привилегированных Младших Март вывел из строя мононуклеоз, в результате чего Хизер осталась одна-одинешенька.
Я: Тебе что, надо украсить все это? К субботнему вечеру?
Хизер: На самом деле мы не сможем приступить к работе до трех часов пополудни из-за какой-то там дурацкой встречи дилеров «Крайслера». Но я знаю, что мы справимся. Я поспрашиваю и других ребят тоже. Ты, случайно, не знаешь кого-нибудь, кто мог бы помочь?
Если честно, то нет, но я тяну резину, напустив на себя задумчивый вид. Хизер принимает мое молчание за знак согласия, типа, я буду счастлива ей помочь. Она соскакивает со стула.
Хизер: Я знала, что ты поможешь. Ты классная. Вот что я тебе скажу. Я твоя должница. Я у тебя в неоплатном долгу. А что, если на следующей неделе я приду и помогу тебе переделать интерьер комнаты?
Я:
Хизер: Разве ты сама не говорила мне, что ненавидишь свою комнату? Ну, теперь я понимаю почему. Уже одно то, что надо просыпаться здесь каждое утро, может вогнать в депрессию. Мы расчистим эту помойку. (Она пинает пушистого кролика, спящего в моем халате на полу.) И избавься от этих занавесок. Может, сходим вместе за покупками. Твоя мама даст тебе свою «Американ экспресс»? (Она сдвигает занавески в одну сторону.) И хорошо бы не забыть помыть окна. Цвет морской волны и шалфея — именно то, что нужно, вечная классика и одновременно женственно.
Я: Нет.
Хизер: Ты хочешь чего-нибудь побогаче, типа баклажанного или темно-синего?
Я: Нет, я еще не выбрала цвет. Но я не это хотела сказать, я хочу сказать «нет», я не стану тебе помогать.
Она снова падает на стул. «Ты просто обязана мне помочь».
Я: Нет, не обязана.
Хизер: Но почему-у-у-у?!
Я кусаю губу. А хочет ли она узнать правду? Услышать, что она эгоцентричная и холодная? Что я надеюсь, что Старшие Марты наорут на нее? Что я ненавижу цвет морской волны, и вообще, это не ее собачье дело, грязные у меня окна или нет? Я чувствую спиной крошечные носики-пуговицы. Кролики говорят, надо быть доброй. Врать.
Я: У меня свои планы. Должен прийти специалист по деревьям, поработать над дубом перед домом. Мне надо покопаться в саду, и, кроме того, я знаю, что хочу здесь сделать, и баклажанный цвет мне не нравится.
Здесь наполовину правда, наполовину импровизация. Хизер хмурится. Я открываю грязное окно и впускаю в комнату свежий воздух. Ветер раздувает мне волосы. Я заявляю Хизер, что ей пора уходить. Мне надо заняться уборкой. Она с хрустом раздавливает зубами печенье и не говорит «до свидания» моей маме. Какое свинство!
Сто один способ правильного общения
Я делаю успехи. Я зажигаю. Я не знаю, в чем тут дело: то ли в том, что я дала отпор Хизер, то ли в том, что я сажаю бархатцы, то ли в выражении маминого лица, когда я прошу у нее разрешения переделать свою комнату. Пришло время побороться со своими демонами. После холодной зимы яркое солнце творит чудеса с моими мозгами, заставляя чувствовать себя сильной, даже если это не так.
Я должна поговорить с Рейчел. Я не могу сделать это на алгебре, а после английского ее уже поджидает Чудовище. Но время самостоятельных занятий у нас совпадает. Есть! Я нахожу ее в библиотеке, она щурится на книжку с мелким шрифтом. Она не носит очки из тщеславия. Я приказываю своему сердцу не сметь дезертировать в коридор и сажусь рядом с Рейчел. Взрыва ядерной бомбы не происходит. Неплохо для начала.
Она награждает меня ничего не выражающим взглядом. Я примеряю на лицо улыбку среднего размера. «Привет», — говорю я. «Хмм», — отвечает она. Никакой кривой ухмылки, никаких грубых жестов. Пока все идет хорошо. Я смотрю на книгу, отрывок из которой она выписывает (слово в слово). Книжка о Франции.
Я: Домашнее задание?
Рейчел: Типа того. (Она постукивает карандашом по столу.) Этим летом я собираюсь с Интернациональным клубом во Францию. Мы должны сделать доклад, чтобы доказать серьезность своих намерений.
Я: Здорово. Я хочу сказать, ты ведь всегда бредила путешествиями, даже когда мы еще были детьми. Помнишь, как в четвертом классе мы прочли «Хейди» и попытались расплавить сыр в твоем камине?
Мы смеемся чуть громче, чем надо. На самом деле не так уж это и смешно, но мы обе нервничаем. Библиотекарша грозит нам пальцем. Плохие ученики, очень-очень плохие ученики. Никаких смешков. Я гляжу на записи Рейчел. Фигня какая-то: несколько фактов о Париже украшены неумелым наброском Эйфелевой башни, сердечками и инициалами: Р. Б.+ Э. Э. Бе-е-е!
Я: Значит, ты действительно идешь с ним? С Энди. Я слышала о выпускном бале.
Рейчел загадочно улыбается. Она потягивается, словно от одного только упоминания его имени у нее оживают мускулы и приятно ноет в животе. «Он классный, — говорит она. — Он такой отпадный, и замечательный, и обаятельный». Она останавливается. Она разговаривает с прокаженной из лепрозория.
Я: А что ты будешь делать, когда он уедет в колледж?
Ага, я задела ее за живое. Тучи затягивают солнце. «Даже думать не хочу, это так больно. Он сказал, что собирается попросить родителей разрешить перевестись обратно сюда. Он может учиться в университете Ла Салль или в Сиракьюсском. Я буду его ждать».
Так я и поверила!
Я: Сколько вы уже встречаетесь: две недели? Три?
На библиотеку надвигается холодный фронт. Рейчел выпрямляется и захлопывает тетрадь.
Рейчел: А тебе, собственно, чего надо?
Но не успеваю я открыть рот, как на нас набрасывается библиотекарша. Мы можем успокоиться и сидеть тихо, а можем продолжить разговор в кабинете директора. Нам решать. Я вынимаю тетрадь и пишу:
Так приятно снова с тобой разговаривать. Жаль, что в этом году мы не остались друзьями. Я пододвигаю тетрадь Рейчел. Она слегка оттаивает и пишет мне в ответ:
Ага, я знаю. Ладно, и кто тебе нравится?
Да так, особенно никто. Мой напарник по лабораторным работам вроде симпатичный, но он мне скорее как друг, а не как мой парень или вообще.
Рейчел понимающе кивает. Она встречается со старшеклассником. Она выше этих детских отношений типа «только друзья». Она снова чувствует себя хозяйкой положения. Пора начинать подлизываться.
Ты все еще злишься на меня? — пишу я.
Она быстро чирикает зигзаг молнии.
Нет, думаю, нет. Это было давным-давно. Она перестает писать и рисует спираль. Я стою на краю пропасти и гадаю, стоит ли мне в это ввязываться. Вечеринка была немного дикой, — продолжает она. — Но вызывать копов — верх глупости. Мы могли просто уехать. Она снова придвигает ко мне тетрадь.
Я рисую спираль напротив спирали Рейчел. Может, не стоит продолжать, может, остановиться посреди скоростного шоссе? Она снова со мной разговаривает. Ведь все, что мне надо сделать, — это прикрыть грязные пятна и пойти с ней в обнимку навстречу закату. Она поднимает руки, чтобы поправить резинку для волос. На внутренней стороне предплечья красными чернилами написано: «Р. Б. + Э. Э.». Вдохни, раз, два, три. Выдохни, раз, два, три. Я заставляю кисть расслабиться.
Я вызвала копов не для того, чтобы прервать вечеринку, — пишу я. — Я вызвала… — Я кладу карандаш. Затем снова его беру: —…их потому, что один парень изнасиловал меня. Под деревьями. Я не знала, как быть. Она следит за тем, как я высекаю слова. Наклоняется ко мне поближе. Я продолжаю писать: Я была глупой, и пьяной, и не понимала, что происходит, а потом он сделал мне больно, — нацарапала я. — Изнасиловал меня. Когда приехала полиция, все кричали, а я была слишком напугана, поэтому ушла задворками и отправилась домой.
Я снова толкаю к ней тетрадь. Она смотрит на написанные слова. Перетаскивает свой стул на мою половину стола.
Боже мой, мне так жаль, — пишет она. — Почему ты мне не сказала?
Я никому не могла сказать.
А твоя мама знает?
Я качаю головой. Какая-то пружина в душе лопается и выпускает на волю слезы. Черт. Я шмыгаю носом и вытираю глаза рукавом.
А ты не забеременела? А у него не было нехорошей болезни? Боже мой! Ты в порядке?????????
Нет. Я так не думаю. Да, я в порядке. Ну, типа того.
Рейчел пишет крупным размашистым почерком: КТО ЭТО СДЕЛАЛ???
Я переворачиваю страницу.
Энди Эванс.
«Врунья! — Она, шатаясь, встает со стула и хватает со стола книжки. — Я тебе не верю. Ты просто завидуешь. Ты гадкая маленькая извращенка, и тебе завидно, что я такая популярная и что я иду на выпускной, и поэтому ты все врешь. И это ты послала мне записку, ведь так? Ты просто больная. — Она разворачивается, чтобы бросить вызов библиотекарше: — Я иду в медпункт. Похоже, меня сейчас стошнит».
Тематический чат
Я стою в вестибюле и смотрю на автобусы. Домой ехать не хочется. Здесь оставаться тоже. Начало разговора с Рейчел меня весьма обнадежило, что было моей ошибкой. Это как если бы ты уже стоял на пороге в предвкушении идеального рождественского ужина, а у тебя перед носом захлопнули дверь, оставив одного на холоде.
«Мелинда», — слышу я свое имя. Здорово. У меня уже слуховые галлюцинации. Придется попросить школьного психолога найти мне психотерапевта или въедливого психиатра. Я ничего не говорю — и чувствую себя ужасно. Я говорю — и чувствую себя еще хуже. У меня проблема с нахождением золотой середины.
Кто-то осторожно дотрагивается до моей руки. «Мелинда?» Это Айви. «Можешь поехать последним автобусом? Я хочу тебе кое-что показать». Я иду за ней. Она приводит меня в туалет, тот самый, где она застирывала мою блузку, на которой, кстати, даже после отбеливания до сих пор следы от ее маркеров. Айви тычет пальцем в стенку кабинки: «Посмотри».
ПАРНИ, ОТ КОТОРЫХ ЛУЧШЕ ДЕРЖАТЬСЯ ПОДАЛЬШЕ.
Энди Эванс.
Он урод.
Он подонок.
Держитесь подальше!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Его надо изолировать.
Он думает, ему все можно.
Вызовите копов.
А как называется лекарство, которое дают извращенцам, чтобы у них больше никогда не встало?
Дипро-что-то-там.
Ему надо давать его каждое утро с апельсиновым соком. Я ходила с ним в кино — так он попытался запустить мне руку в штаны уже во время НАЧАЛЬНЫХ ТИТРОВ!
Еще и еще. Разные ручки, разные почерки, диалоги между авторами, стрелочки к предыдущим параграфам. Это даже лучше, чем вывесить рекламный щит.
У меня такое чувство, будто я могу летать.
Формирование кроны
На следующее утро, в субботу, я просыпаюсь от тарахтения бензопилы, и этот шум, проникающий прямо в уши, вдребезги разбивает мои мечты поспать подольше. Я выглядываю в окно. Арбористы — три парня, которых папа нанял спилить засохшие ветви дуба, — стоят у подножия дерева, один из них заводит бензопилу, словно это спортивная машина, двое других устраивают дереву предварительный осмотр. Я спускаюсь вниз позавтракать.
О том, чтобы посмотреть мультики, не может быть и речи. Я наливаю себе чашку чая, а затем присоединяюсь к папе и соседским ребятишкам, которые смотрят шоу с подъездной дорожки. Один из парней ловко залезает на дерево под бледно-зеленую крону, затем подтягивает привязанную к толстой веревке бензопилу (выключенную). Он, как скульптор, начинает отсекать куски сухого дерева. «Др-р-р-р-р-р». Бензопила вгрызается в дерево, ветви обрушиваются на землю. В воздухе кружатся опилки. Из зияющих ран на стволе медленно капает сок. Арборист убивает дерево. Оставит только пенек. Дерево умирает. Тут уж ничего не поделаешь. Мы молча следим за тем, как дерево, кусок за куском, падает на сырую землю.
Убийца с бензопилой с широкой ухмылкой спускается вниз. Ему наплевать. Какой-то малыш спрашивает у папы, зачем этот дядя рубит дерево.
Папа: Он его не рубит. А наоборот, спасает. Нижние ветки давным-давно засохли из-за болезни. Такое происходит со всеми растениями. Но, вырезая поврежденные участки, ты даешь дереву возможность снова расти. Сам увидишь, к концу лета дерево будет самым сильным в нашем районе.
Ненавижу, когда папа строит из себя всезнайку. Он страховой агент. А вовсе не лесничий, который разбирается в деревьях. Арборист раскочегаривает мульчер рядом с грузовиком. С меня довольно. Я хватаю велосипед и срываюсь с места.
Первая остановка — бензозаправка, накачать шины. Я и не помню, когда в последний раз ездила на велосипеде. Теплое, ленивое, тягучее субботнее утро. Парковка перед продуктовым магазином забита. На площадке за начальной школой играют в софтбол, но я не останавливаюсь, чтобы посмотреть. Я еду в гору, мимо дома Рейчел, мимо средней школы. Спускаться с горки уже гораздо легче и быстрее. Я даже набираюсь смелости оторвать руки от руля. Поскольку я еду на приличной скорости, переднее колесо держит дорогу. Я сворачиваю налево, потом — снова налево и качусь по склону холма куда глаза глядят.
Где-то в глубине души я это планировала, дрожащая стрелка моего внутреннего компаса смотрит в прошлое. Я не узнаю местности, пока не замечаю тот самый амбар. Притормаживаю и стараюсь выровнять велосипед на посыпанной гравием обочине. Над головой ветер рвет телефонные провода. Белка пытается удержать равновесие.
Пустая подъездная дорожка. Почтовый ящик с надписью: «Роджерс». Баскетбольное кольцо на стене амбара. Кольца я не помню, но в темноте его было не видно. Я веду велосипед по дальнему краю участка — туда, где деревья проглатывают солнце. Прислоняю велосипед к покосившемуся забору. И опускаюсь на холодную землю.
Сердце стучит так, будто я все еще еду в гору. Руки трясутся. Это самое обычное место, его невозможно разглядеть ни из дома, ни из амбара, оно совсем близко от дороги: я даже слышу шум проезжающих мимо машин. Земля усеяна скорлупками желудей. Сюда вполне можно привести на пикник детсадовскую группу.
Я подумываю о том, чтобы лечь. Нет, так не годится. Я скрючиваюсь возле ствола дерева, мои пальцы гладят кору в поисках шрифта Брайля, сигнала, ключа к тому, как вернуться к жизни после долгой зимней спячки. Я выжила. И я здесь. Сбитая с толку, на грани нервного срыва, но здесь. Итак, как мне найти свой путь? И есть ли бензопила или топор для души, чтобы одним махом покончить с воспоминаниями и страхами. Я зарываю пальцы в землю и сжимаю их. Где-то глубоко внутри крошечная незапятнанная часть моего «я» ждет, чтобы отогреться и пробиться на поверхность. Есть такая тихая девочка Мелинда, которую я не видела уже много месяцев. Вот именно об этом семечке я и буду заботиться.
Рекогносцировка
Домой я возвращаюсь как раз к ланчу. Делаю два сэндвича с салатом и яйцом и выпиваю огромный стакан молока. Съедаю яблоко и ставлю посуду в посудомойку. Еще только час дня. Наверное, было бы неплохо убрать кухню и пропылесосить, но окна открыты, и малиновки поют на лужайке перед домом, где меня ждет груда мешков с мульчой, на которых написано мое имя.
Приехавшая к обеду мама потрясена. Лужайка перед домом вычищена, края подровнены, трава скошена, кусты замульчированы. А я даже не запыхалась. Мама помогает мне достать из подвала пластиковую садовую мебель, я оттираю ее чистящим средством. Папа приносит пиццу, и мы едим на веранде. Мама с папой пьют ледяной чай, причем никто не язвит и не огрызается. Я убираю посуду и выбрасываю коробку из-под пиццы в мусорное ведро.
Я ложусь на диван посмотреть телик, но глаза сами собой закрываются, и я отрубаюсь. Просыпаюсь я далеко за полночь, кто-то укрыл меня шерстяным одеялом. В доме темно и тихо. Прохладный ветерок колышет занавески.
Сна ни в одном глазу. Я чувствую какой-то внутренний зуд. Мама сказала бы, что я дерганая. Не могу усидеть на месте. Мне надо что-то делать. Велосипед по-прежнему прислонен к подстриженному дереву перед домом. Я сажусь и кручу педалями. Вверх, вниз, по диагонали — я работаю натруженными ногами и еду по спящим улицам нашего пригорода. Кое-где в окне спальни какого-то полуночника светится экран телевизора. Несколько машин припаркованы у продуктового магазина. Я представляю, как люди там сейчас моют полы и перекладывают буханки хлеба. Я проезжаю мимо домов своих бывших подружек: Хизер, Николь. Завернуть за угол, переключиться на пониженную передачу, поднажать на педали — и в гору, к дому Рейчел. Свет горит, родители ждут возвращения сказочной принцессы с выпускного бала. Я могла бы постучаться в дверь и предложить им сыграть в карты или типа того. Не-а.
Я лечу как на крыльях. Я не устала. Не думаю, что вообще когда-нибудь снова смогу уснуть.
После бала
К утру понедельника выпускной бал становится легендой! Драма! Слезы! Страсть! И почему никто до сих пор не догадался сделать из этого телешоу? Общий ущерб составил: одно вздутие живота, три разрыва прочных отношений, одну потерянную бриллиантовую сережку, четыре отвязные вечеринки в отеле и пять татуировок в едином стиле, якобы украшающих задницы выпускников — членов правления одного клуба. Школьные психологи радуются отсутствию инцидентов с летальным исходом.
Хизер сегодня в школе нет. Все только и говорят о том, как убого она оформила зал. Спорим, она скажется больной и носу не покажет до конца года. Хизер, пожалуй, стоит сбежать из дому и немедленно вступить в корпус морской пехоты. Наверняка морпехи окажут ей более радушный прием, чем свора разгневанных Март.
Рейчел в зените славы. Она отшила Энди в разгар бала. Я пытаюсь создать целостную картину из обрывков неподтвержденных слухов. Говорят, они ссорились во время медленного танца. Говорят, он ее облапил и обслюнявил. Во время танца он терся об нее, и она отодвинулась. Песня закончилась, и она его обругала. Говорят, она чуть было не залепила ему пощечину, но вовремя удержалась. Он прикинулся невинной овечкой, а она потопала к своим друзьям по обмену. В результате она всю ночь протанцевала с парнишкой из Португалии. Говорят, Энди теперь вне себя от злости. На вечере он напился до поросячьего визга, упал мордой в салат и отрубился. Рейчел сожгла все его подарки, а пепел высыпала на пол перед его шкафчиком. Его друзья подняли его на смех.
Если не считать сплетен, то ходить в школу абсолютно незачем. Ну, впереди, конечно, еще выпускные экзамены, но они вряд ли повлияют на мои оценки. У нас есть — что? Еще две недели занятий? Иногда мне кажется, будто средняя школа — это бесконечное испытание на прочность: если у вас хватит характера, чтобы выжить, тогда вам разрешат стать взрослым. Надеюсь, оно того стоит.
Добыча
Я жду, когда часы покажут конец ежедневной пытки алгеброй, как вдруг — БАМС! — словно что-то ударяет в голову: я больше не хочу торчать в своем убежище. Я оглядываюсь, в душе ожидая увидеть давящегося от смеха парня с заднего ряда, пульнувшего в меня стирательной резинкой. А вот и нет — задний ряд усиленно борется со сном. Мне определенно стукнула в голову одна мысль. Я, пожалуй, больше не хочу прятаться. Легкий ветерок из открытого окна треплет волосы и щекочет плечи. Сегодня первый по-настоящему теплый день, когда можно позволить себе блузку без рукава. Чувствуется дыхание лета.
После урока я следую хвостом за Рейчел. Энди ее поджидает. Она на него даже не смотрит. Парнишка из Португалии сейчас для нее numero uno. ХА! И еще раз ХА-ХА! И поделом тебе, мразь. Ребята смотрят на Энди, но никто с ним не заговаривает. Он идет за Гретой-Ингрид и Рейчел по коридору. Я на несколько шагов позади. Грета-Ингрид резко разворачивается и говорит Энди, что именно ему надо с собой сделать. Впечатляет. За этот год ей удалось здорово усовершенствовать свои языковые навыки. Я готова исполнить победный танец.
После уроков я направляюсь в свою подсобку. Я собираюсь забрать домой постер с Майей Анджелоу, а еще взять на память несколько рисунков деревьев и скульптуру из индюшачьих костей. Остальное барахло пусть остается, раз уж оно все равно не подписано. Кто знает, может, в будущем году еще какому-нибудь ребенку понадобится безопасное убежище.
Поскольку мне так и не удалось избавиться от вони, я оставляю дверь чуть приоткрытой, чтобы не задохнуться. Очень трудно снять со стены рисунки, не порвав их. День обещает быть жарким, а здесь никакой циркуляции воздуха. Я открываю дверь пошире. Кому может прийти в голову заглянуть сюда в такое время? К концу года учителя стали срываться с места после звонка даже быстрее, чем ученики. В школе остаются разве что спортсмены, которые уже успели разбрестись по тренировочным площадкам.
Ума не приложу, что делать с одеялом. Слишком оно поганое, чтобы тащить его домой. Эх, надо было сперва сходить взять из шкафчика рюкзак! Я совсем забыла о книжках, которые у меня здесь. Я складываю одеяло, кладу его на пол, выключаю свет и уже стою в дверях, собираясь идти за рюкзаком. Кто-то врезается мне в грудь и заталкивает обратно в подсобку. Вспыхивает свет, дверь захлопывается.
Я в ловушке наедине с Энди Эвансом.
Он смотрит на меня в упор и ничего не говорит. Он не такой высокий, как мне запомнилось, но по-прежнему мерзкий. От тусклого света лампочки на потолке у него под глазами тени. Он словно высечен из каменных глыб, а пахнет от него так, что еще немножко — и я описаюсь от страха. Он хрустит костяшками пальцев. У него огромные руки.
Энди Чудовище: У тебя слишком длинный язык. Ты в курсе? Рейчел бортанула меня на выпускном. Порола какую-то чушь, типа, я тебя изнасиловал. Ты ведь знаешь, что это вранье. Я никогда никого не насиловал. Мне без надобности. Ты хотела этого не меньше моего. Но твои чувства были задеты, и ты начала распространять враки, и теперь все девочки в школе смотрят на меня так, будто я извращенец какой. Ты неделями гнала эту пургу. Эй, уродина, да ты никак ревнуешь? Не можешь подклеить парня?
Слова — как вбитые в пол гвозди, тяжелые, острые. Я пытаюсь его обогнуть. Он преграждает мне дорогу. «Ну нет. Ты никуда не пойдешь. Ты мне реально нагадила». Он протягивает руку и запирает дверь. Клик.
Я:
Энди Чудовище: Ты просто чокнутая сучка, знаешь об этом? Придурочная. Поверить не могу, что тебя хоть кто-то стал слушать.
Он хватает меня за запястья. Я пытаюсь вырваться, но он держит так крепко, что мне кажется, будто еще немного — и у меня треснут кости. Он притискивает меня к запертой двери. Майя Анджелоу смотрит на меня. Она говорит, чтобы я подняла шум. Я открываю рот и делаю глубокий вдох.
Чудовище: Ты не будешь кричать. Раньше ты не кричала. Тебе это нравилось. Ты просто ревнуешь, что я пригласил не тебя, а твою подружку. Похоже, я знаю, чего тебе хочется.
Его рот слюнявит мне лицо. Я верчу головой. Губы у него мокрые, зубы ударяются о мою скулу. Я снова пытаюсь выдернуть руки, и он наваливается на меня всем телом. У меня нет ног. Сердце замирает. Его зубы на моей шее. Я могу только тихо поскуливать, на большее не хватает сил. Он возится, пытаясь удержать меня за запястья одной рукой. Ему нужна свободная рука. Я помню, я помню. Железные руки. Руки как раскаленные ножи.
Нет!
У меня из груди вырывается звук: «НЕ-Е-Е-Т!»
Я следую этому звуку, отделяясь от стены, сбивая Энди Эванса с ног, натыкаясь на разбитую раковину. Он чертыхается и поворачивается, его кулак поднимается, поднимается. В голове что-то взрывается, во рту кровь. Он бьет меня. Я кричу, кричу. Почему не рушатся стены? Я кричу так громко, что вся школа должна рассыпаться в прах. Я шарю рукой в поисках хоть чего-то тяжелого, хватаю банку с ароматическими смесями, швыряю в него — банка падает на пол. Мои книги. Он снова чертыхается. Дверь заперта дверь заперта. Он хватает меня, оттаскивает от двери, одной рукой зажимает мне рот, другой держит за горло. Наклоняет меня над раковиной. Мои кулаки ему по барабану, лапки кролика беспомощно молотят воздух. Его тело придавливает меня.
Мои руки шевелятся где-то над головой, пытаясь нащупать ветку, сук — что-нибудь, за что можно зацепиться. Деревянный брусок — подставка для скульптуры из индюшачьих костей. Я разбиваю ее о плакат с Майей. Я слышу хруст. ОНО не слышит. ОНО дышит, как дракон. ЕГО рука оставляет в покое мое горло и набрасывается на тело. Я снова колочу деревяшкой о плакат, о зеркало, что под ним. Снова и снова.
Осколки стекла скатываются по стене и падают в раковину. ОНО отодвигается от меня, ОНО озадачено. Я протягиваю руку и сжимаю пальцами треугольный осколок. Приставляю к шее Энди Эванса. Он цепенеет. Я надавливаю достаточно сильно, чтобы выступила капелька крови. Он показывает, что сдается. Мои пальцы дрожат. Я хочу воткнуть стекло ему в горло, я хочу слышать, как он кричит. Я перевожу взгляд. Я вижу щетину на его подбородке, белую слизь в уголке губ. У него паралич рта. Он не может говорить. Очень хорошо.
Я: Я сказала «нет».
Он кивает. Кто-то барабанит в дверь. Я отпираю замок, дверь распахивается. Там Николь, а также вся лакроссная команда — потные, злые, с высоко поднятыми клюшками. Кто-то срывается с места и бежит за подмогой.
Последний штрих
Мистер Фримен отказывается вовремя передавать сведения об оценках. Это следует делать за четыре дня до окончания учебного года, но он не видит смысла. Поэтому я остаюсь после уроков в самый, самый последний день для самой последней попытки правильно изобразить дерево.
Мистер Фримен собирается украсить фреской стену с нашими оценками. Строчку с моей фамилией он пока не трогает, но все остальное он ликвидирует с помощью малярного валика и быстросохнущей белой краски. Он смешивает краски на палитре, мурлыча себе под нос. Он хочет написать восход солнца.
В открытое окно врываются возбужденные голоса ребят в предвкушении летних каникул. Занятия в школе подходят к концу. По коридору эхом разносятся звуки хлопающих дверей шкафчиков и вопли типа: «Я буду скучать по тебе — есть мой номер?» Я включаю радио.
Мое дерево определенно дышит, еще очень слабо и неглубоко, словно оно росток, только сегодня утром проклюнувшийся из почвы. Оно не отличается особой симметрией. Кора грубая. Я пытаюсь изобразить ее так, будто на ней вырезаны старые инициалы. Одна из нижних веток болеет. Если такое дерево действительно существует, то неплохо было бы убрать эту ветку, пока она не погубила остальные. Узловатые корни выпирают из-под земли, а крона, пышная и здоровая, тянется к солнцу. Удачнее всего получаются молодые побеги.
Через открытое окно в класс проникает аромат сирени, а вместе с ним несколько ленивых пчел. Я вырезаю линолеум, а мистер Фримен смешивает красный и оранжевый, чтобы получить нужный оттенок заката. С парковки доносится протяжный визг шин, прощальный привет от еще одного здравомыслящего ученика. У меня на носу занятия в летней школе, так что особо спешить уже некуда. Но я хочу закончить мое дерево.
В класс забредает парочка выпускниц. Мистер Фримен обнимает их, но очень осторожно: то ли потому, что он весь в краске, то ли потому, что обнимать учениц не положено и чревато серьезными последствиями. Я спускаю челку на лоб и наблюдаю сквозь вуаль из волос. Они болтают о Нью-Йорке, куда девочки отправляются в колледж. Мистер Фримен записывает какие-то номера телефонов и названия ресторанов. Он говорит, что у него полно друзей на Манхэттене и что как-нибудь в воскресенье они должны сходить вместе на бранч. Девушки — женщины — прыгают от радости и пронзительно верещат: «Поверить не могу, что это не сон!» Одна из них Эмбер из группы поддержки. Ну надо же!
Прежде чем уйти, выпускницы бросают взгляд в мою сторону. Та, что не из группы поддержки, кивает и говорит: «Молодец! Надеюсь, что ты в порядке». Теперь, когда до конца учебного года остаются считаные часы, я вдруг делаюсь популярной. Благодаря трепачам из лакроссной команды, вся школа еще до захода солнца была в курсе того, что произошло. Мама отвезла меня в больницу наложить швы на пораненную руку. А когда мы вернулись домой, на автоответчике меня ждало сообщение от Рейчел. Она просила позвонить.
Моему дереву чего-то не хватает. Я прохожу к доске, беру кусок коричневой бумаги и мел. Мистер Фримен рассказывает о художественных галереях, а я пробую рисовать птиц — маленькие цветные закорючки на бумаге. Работать с забинтованной рукой неудобно, но я стараюсь. Я рисую их не задумываясь — взмах, взмах, перо, крыло. Вода капает на бумагу, и птицы светятся мягким светом, расправляя крылья, как символ надежды.
ЭТО случилось. Это невозможно забыть и нельзя изменить. От этого не убежишь, не улетишь, не спрячешься, не отгородишься. Энди Эванс изнасиловал меня в августе, когда я была слишком пьяной и слишком неопытной, чтобы понять происходящее. Тут не было моей вины. Он причинил мне боль. Тут не было моей вины. И я не позволю этому меня убить. Я могу расти.
Я смотрю на свой безыскусный набросок. Ни прибавить, ни убавить. Я вижу это, несмотря на речной поток, хлынувший из глаз. Рисунок не идеальный, и поэтому он именно то, что надо.
Звенит последний звонок. Мистер Фримен подходит к моему столу.
Мистер Фримен: Время вышло, Мелинда. Ты готова?
Я протягиваю ему рисунок. Он берет его и внимательно изучает. Я снова хлюпаю носом и вытираю глаза рукой. Кровоподтеки цветут пышным цветом, но скоро они побледнеют.
Мистер Фримен: Никаких слез в моей студии. Слезы портят художественные принадлежности. Ну, соль там, сама знаешь, соляной раствор. Едкий, как кислота. (Он садится на табурет рядом со мной и возвращает мне мой рисунок.) Ставлю тебе A с плюсом. Ты хорошо поработала. (Он протягивает мне коробку с салфетками.) Тебе пришлось через многое пройти, да?
Слезы растворяют последнюю глыбу льда у меня в горле. Я чувствую, как замерзшая тишина тает внутри, стекая ледяными осколками, исчезающими в лужице света на грязном полу. Слова рвутся наружу.
Я: Позвольте мне вам все рассказать.
Вот какая вещь получается…
В конце 1996-го, проснувшись от ночного кошмара, я принялась мысленно рисовать образ, который найдет свое воплощение в Мелинде Сордино из «Говори». Я никогда не думала, что роман увидит свет, но это случилось. Его прочли больше миллиона человек. Вот уж не ожидала!
И последние двенадцать лет, чуть ли не два-три раза в неделю, читатели спрашивают меня, когда я напишу продолжение «Говори».
Нет, это не совсем точно.
Два-три раза в день, чуть ли не каждый день за последние двенадцать лет читатели спрашивали меня, когда я собираюсь взяться за продолжение «Говори». Многие из них подсказали мне интересные идеи для сюжета. Так, я могла бы написать о суде, на котором Энди Эванса обвинили в изнасиловании Мелинды и приговорили к тюремному заключению. Могла бы написать о том, как на сеансах психотерапии Мелинда обвинила родителей в эмоциональной глухоте. Я могла бы подвергнуть ее новому испытанию: она начала бы курить травку, или получила бы амнезию после автокатастрофы, или попала бы в лапы секты извращенцев, или, или, или…
Больше всего мне понравилось предложение, поступившее от девятиклассника из Южной Калифорнии, который сказал, что я должна написать о том, как ей удалось доучиться в средней школе и при этом никого не убить. И продолжение я должна назвать «Заговорила».
На самом деле не такая плохая идея.
Но вот какая вещь получается: большинство сиквелов оказываются абсолютно провальными. Взять хотя бы (если осмелитесь) «Парк Юрского периода-2», «Челюсти: Месть» или «Рембо 15». Слишком уж часто сиквелы — это неумелая попытка срубить денег по-легкому на том, что сработало первый раз, но уже без той тщательной проработки деталей, которая и определила неповторимость первой книги или фильма.
Сиквелы хороши только тогда, когда автор планировал продолжение с самого начала и оставил висеть в воздухе несколько сюжетных линий с тем, чтобы подхватить их и вплести в ткань нового повествования. Да, я знаю, что в конце своего романа о Мелинде не расставила всех точек над «i». Я редко это делаю в своих книгах. Мне нравится, когда последние страницы таят в себе некую недоговоренность, потому что в реальной жизни все именно так и происходит.
И все же скажу вам еще одну вещь: я серьезно подумываю о том, чтобы написать продолжение. Эта мысль зреет у меня уже много-много лет. Мне нравилось писать о Мелинде, и было бы чудесно снова оказаться в ее обществе. Мелинда мелькнула в книге «Катализатор», но здесь мы смотрели на нее глазами другой героини, Кейт Мэлоун. А она не могла сказать, что происходило в душе у Мелинды.
Иногда мне кажется, что Мелинда прячется в другом чулане, на этот раз в том, что у меня в голове. Она ждет, когда я найду верную дорогу к ее двери. А вопросов очень много, самый настоящий водоворот. Насколько серьезны ее отношения с Дэвидом Петракисом? Сможет ли она хоть когда-нибудь обзавестись подругой, которой будет доверять? Будет ли искусство единственной отдушиной для нее, или она начнет играть в баскетбол в составе школьной команды? Разведутся ли ее родители? И станет ли она в результате счастливее, или, наоборот, это ее доконает? Что она собирается делать после окончания школы?
И вот теперь самая последняя вещь: я не могу приступить к продолжению, пока на меня не снизойдет озарение и Мелинда снова не постучится ко мне посреди ночи. Так что, возможно, этого никогда не случится. А может, случится уже на будущий год. Но, скорее всего, рассчитывать стоит на нечто среднее.
Я заявлю о себе, когда Мелинда будет готова.
Примечания
1
Ложный шаг (фр.). — Здесь и далее прим. перев.
(обратно)2
Слава Тебе, Господи. До скорого (исп.).
(обратно)
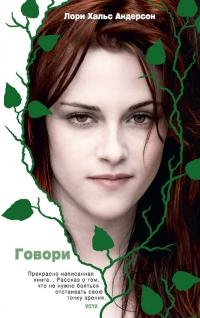
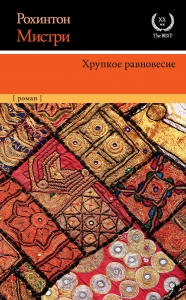


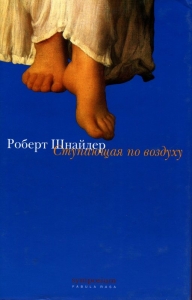

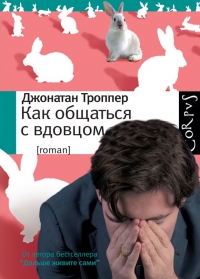




Комментарии к книге «Говори», Лори Холс Андерсон
Всего 0 комментариев