Александр Яковлев ОСЕННЯЯ ЖЕНЩИНА Рассказы и повесть
ПОТЕРЯННЫЙ РАЙ О прозе Саши Яковлева
Cаша Яковлев родился и вырос в городе Наволоки Ивановской области — а потом судьба занесла его на остров Сахалин. Люди, бывает, в местах, где родились или трудились, ищут еще каких-то особых, выдающихся примет, как будто это что-то осмысляет в их жизни, придает ей тоже некую историческую важность… Иваново? Это первые Советы рабочих, тем и отметился в истории городок. А что такое Сахалин? Это, конечно, Чехов, его историческое путешествие на заброшенный остров каторжан. Саша Яковлев, наверное, тоже ощущал Сахалин чем-то чеховским и заброшенным.
Он служил журналистом, писал очерки. Когда снова тронулся с места, оказался уже в Москве, стал её жителем. Погрузился как будто на дно. Писал. Что-то целое, без чего не могла бы осмыслиться жизнь. Свою книгу. У нее, у книги, которую писал, не было названия. Произведения из-под пера бывшего провинциального журналиста выходили странные, одинокие: крохотные какие-то, да и писалось все с долготой, для литератора неуважительной. Так же случайно, без цели, но и с трудом, крохотные эти рассказы появлялись где-то, по большинству в газетах. «Просто Юрка», рассказы дачника, появились когда-то на свет в «Литературке», и только спустя много лет эти же рассказы Саши Яковлева наконец попали в настоящий литературно-художественный журнал, были опубликованы в «Ясной Поляне». Но литератора из Саши Яковлева так и не получалось, и путей у этой странной прозы, чтобы выйти в литературный свет, так и не было.
Сашу Яковлева по этой причине язык не поворачивается все же именовать, как ее автора, Александром Яковлевым. Чувствуешь такую тяжесть в этом именовании, такую ложь и претензию, какой нет в его душе. Человек непомерно долго писал такую легчайшую, тончайшую книгу, а тяжести и косности времени, претензии собственной на что-то в этом времени нет в ней, как нет и следов литераторства.
Автор ее, должно быть, именно одиночество познал сполна. Одиночество ключ ко всей этой книге и к личности ее автора. Между написанным и личностью пролегает — как пропасть — талант. Я не хочу сказать, что личность автора этой книги считаю чем-то отдельным от его таланта. Но личность в самой полной мере проявляет себя в жизненных обстоятельствах, равно как талант проявляет себя только в творчестве — а вот творчество по воле Божьей для этого автора есть не что иное, как попытка исчезнуть на время из жизни, избыть свою личность в сотворенном блаженном мирке.
И снова: это именно «мирок», а не «мир». Огромность, серьезность мира — здесь сила угнетающая. Этого мира нельзя изменить, нельзя переиначить: оказалось, он велик и населяют его скука смертная да тоска, а омывает, как остров, океан. Человек строил этот мир как дом. Но, бывает, построенный дом оказывается огромен да холоден. Бесчеловечен. Истина здесь открывается простая: чего не объемлет душа человеческая — там холодно и тоскливо, а дом такой — бездушен. Но человек и забыл о своей душе, искушенный соблазнами этого мира да знаниями, увлеченный переделкой, перестройкой Творения, будто б дьявольской игрой. Сначала была телега, потом пришло время паровоза, потом космической ракеты… И вот усмешка: отчего-то все эти изобретения, плод воли человеческой да игры ума, легко, неотвратимо, уменьшаясь до символа уже в детских ручонках, превращаются в игрушки. Как дети играют этими игрушками, на то Саша Яковлев обращает внимание не раз, будто зачарованный тем, какое происходит простодушное перевоплощение: что было всем, то в руках ребенка делается ничем, чем-то неестественным, нелепым. Игрушку, конечно, возможно одушевить, да вот зачем, если желанней и проще поменяться этой несуразной штуковиной на что-то живое или хотя бы вкусное, как мороженое.
Любимые герои прозы Саша Яковлев — это дети. Маленькое, а не огромное. Мирок, а не мир. Литература детская в потоке своем тем кормится, что уменьшает наш мир, возвеличивая тем самым донельзя маленького человека. Яковлев же, обращаясь к ребенку, обращается к тому, кто мал перед Богом, восклицая уже вовсе неожиданное: «Господи! какие мы маленькие в мире Твоем…» И это не мир сдувается до ощущения мирка, а человек вдруг ощущает себя в этом мире бесконечно малым, грешным. Подлинно здесь только чувство утраты и тоска по малости своей. Дети в прозе Яковлева похожи голосами, будто это голоса только двоих. Ребенок как изначальный человек. Это девочки и мальчики с душами Адама и Евы, с их голосами, рассудительными да еще безгрешными. Среди этих голосов звучит голос печальный, грешный, но проникнутый вовсе не «душой взрослого отношения к детям», а печалью, знанием безысходным того, что мир устроен иначе: что мир — огромен. Эту печаль смягчает нежность от созерцания душ еще непорочных. Нежность, смирение сливаются в прозе Яковлева в печальную улыбку. Но притом надо прочесть эти рассказы, чтоб ощутить еще, как неискусственно, по-земному происходит их действо. Оно окружено самым обыденным человеческим бытом, происходит то на кухне, то в комнатушке, то на давно проторенном пути домой или из дома, то на обывательской дачке в деревне. Вот и рождается ощущение: утрата человеком рая обыденна, всегда современна, потому и неловко ее и возвышать, и усложнять. Личность автора в этой прозе предельно открыта и не защищена. Богатый, изощренный инструментарий художественных приемов, чтоб скрыть свою подноготную иронией, абсурдом или чем-то, напротив, возвышающим, — ему по-человечески чужд. Саша Яковлев превратился в художника, когда осознал творчество как возможность видеть утраченный мир, ощущая на своих веках влагу детских блаженных слез: видеть рай, говорить наедине с его голосами как с родными и близкими.
В этой обыденности неподлинного существования, скажем, Сорокин или Виктор Ерофеев устраивают фейерверк из фекалий и похороны уже всего сущего — вот где перелом, — но в той же обыденности возможно ощущать что-то схожее с осознанием своей вины и приготовлением спокойным, смиренным, ждущим какого-то чуда. Проза Саши Яковлева — это земная поэзия внутренней человеческой веры в добро, побеждающее если не в тебе самом, то в природе, в образе ребенка, «ибо их будет Царство Небесное».
Что же одинокого в самих крохотках, в художественном их веществе? Голоса делают в них действие открытым, по сути драматическим, но лирическое слияние чувств все превращает в поэзию, тогда-то и делая прозу мимолетной, как стих.
То, что случается в этой прозе как событие реальной жизни, — есть чувственное воплощение жизни прошлой, воплощение уже бывшей утраты. Они не могли быть описанными, как в очерке, после того, «как случились». Впечатления от чего-то только что случившегося мельче, грубее той печали, из которой является весь образ этой прозы. Точно так и природа существует в ней как что-то органическое, являясь не снимком мимолетным с натуры, а являясь от неискусственности всего живого, сущего. Все живое, иначе сказать, оказывается в этой прозе столь же естественным, что и природа, как если бы это изображалась не человеческая жизнь, а жизнь природы. События же описываемые стремятся к тому, чтоб сказаться скорее нереальными, чем реальными — не жизнью, а притчей или, напротив, анекдотом, превращающим нереальное в реальное и наоборот. Бесенок — не страшный, а потешный — то и дело сует свой любопытный нос в людскую жизнь. Не страшен он, оттого что это не черт, искушающий, науськивающий грешить, а будто б домовой. Завелся в душе, но такой же какой-то малый да грешный. Пошебаршит, как мышь под полом, — и утихомирится… Таков уж мир, ни на что не похожий мир этой светлой одинокой прозы — «почти уже высохших слез».
Олег ПавловРАССКАЗЫ
1. По дороге на Сахалин
ПОВЕРЬТЕ — ГДЕ-ТО ЕСТЬ ТАЙГА
Полуночный хмельной спор в студенческом общежитии вынес нам приговор: отправляться в тайгу. Шел 1982-й год, мы еще не напечатали ни строки, энергия била ключом… Кто?! Мы в походы не хаживали?! И мы с Б-ским сказали: запросто. Мы сказали: подумаешь. Как нечего делать. Туда и обратно. Без проблем. Словно к таксистам ночью за водкой.
Утром о сказанном сгоряча вспоминалось с некоторым сожалением. Но отступать было некуда. И мы принялись закупать снаряжение для экспедиции и разрабатывать маршрут. Б-ский сказал, что знает одно вполне подходящее местечко на Северном Урале. Б-ский сказал, что уже проходил этот маршрут третьей категории сложности. Но, сказал Б-ский, дело было зимой. И шла их тогда целая толпа народу. На лыжах. Б-ский еще много чего говорил. Благо дело было в Москве.
На дворе стоял август. Дождливый. И мы решили махнуть из Свердловской области в Пермскую через Урал, воспользовавшись на втором отрезке пути плотом.
Вот так мы поднялись в вагон поезда «Москва-Свердловск», растворились среди других пассажиров и на время утратили свои имена и фамилии. Чем дальше уводил путь от дома, тем бесхитростней становились вагоны, вокзалы, автобусы.
х х х
Водитель лесовоза, недавно вышедший из зоны на поселение, рулил лихо. Рядом сидела женщина. Не очень молодая и не очень красивая. Но женщина. И водитель, облокотясь левой рукой на дверцу, посвистывая, рулил правой и до отказу жал на газ. Женщина вскрикивала от испуга, хорошела и молодела. Машину немилосердно швыряло на залитых водой рытвинах. Женщина то и дело оборачивалась к окну заднего вида.
Сзади, бешено вцепившись в передний борт и балансируя на открытой раме, трое отчаянно пытались удержать ногами скачущие мешки и рюкзаки. И все трое старались не смотреть вниз, на смертоносное мельтешенье под колесами.
Наконец водитель сжалился. То ли над машиной, то ли над женщиной. Один из тех трех был ее мужем.
Благо и небольшой подъемчик подвернулся. Лесовоз натужно взвыл и замедлил безумный полет. А через сотню метров резко тормознул у невысокого деревянного навеса, вкопанного на двух столбах при дороге.
— Сотый участок, — сплюнул водитель. — Десант за борт.
Мы спрыгнули с рамы лесовоза. И теперь с наслаждением ощущали устойчивость земли и ее окрестностей. Но пальцы все еще судорожно сжимались в поисках опоры.
Муж той женщины даже не махнул рукой нам на прощание. Он и на секунду боялся расстаться с такой прочной, в занозах, бортовой доской. Этой паре физиков еще предстоял долгий путь на север. Все вот так же, на перекладных, с кучей аппаратуры. Жуткие последствия романтики…
Лесовоз прыгнул прямо с места, оставив на мгновение в воздухе фонтан грязи, зелень штормовки и белизну тесемки от очков на затылке сроднившегося с бортом физика. А потом и эта картина исчезла. Шел нудный мелкий дождь. Под дождем в тайге на северном Урале стояли два студента Литинститута. Словно вышли покурить в перерыве между лекциями.
х х х
Первые сказанные посреди тайги слова прозвучали примерно так:
— Десяток километров… Какой-то паршивый десяток километров… Лучше бы мы пешком прошли, чем на этом гребаном лесовозе…
Так-то мы оценили возможность проехать бесплатно десять километров по тайге. Впрочем, нам можно было понять. Двухнедельный маршрут только начинался. И мы еще не могли понять, что пошли не по грибы.
К тому же под навесом, на лавочке, лежала газета. Недельной давности, распухшая от сырости. Словно забытая в парке.
Мы, не спеша, переодевались. В чуть влажную одежду, слежавшуюся в рюкзаках за три автобусно-поездных дня. Наматывали портянки, натягивали сапоги, утеплялись свитерами.
Из первого пакета достали первые сухарики. Сухарики, приготовленные на подсолнечном масле, чтобы не закаменели. Сухарики с добавлением соли.
И всласть курили, не помышляя пока об экономии.
А затем тщательно запаковывали и зашнуровывали рюкзаки, еще не испытывая отвращения от последующей каждодневной монотонности этой процедуры.
Разложив на лавочке карту, сориентировали ее с помощью компаса. Карта, еще без единой пометки, лежала перед нами ничего не говорящей и манящей, как разбросанные по ней таинственные названия.
х х х
Тайга нас сразу приметила. Горожан она отличала мгновенно. Наверное по некой развязности, за которой таилось постоянное тревожное напряжение. Зачем мы тут объявились, Тайга не знала. Слишком много тайн у нее насчитывалось. Поди, догадайся, которая из них привлекла именно нас. Но Тайга не сомневалась, что рано или поздно она узнает о нашей цели. Или цель вообще окажется недостижимой. Никогда. Такое тоже случалось.
Но Ей сразу же захотелось испытать нас. Так сказать, проверить на вшивость. И Она отыскала километрах в двух от нас медведицу с медвежонком.
Медвежонок, словно увлеченный новой игрой, шустро заковылял к дороге. Медведица, недовольно ворча, двинулась следом.
Мы шагали бодро. Первый день маршрута еще не подорвал силенки. Мазь от комаров быстро смывалась потом и дождем. Но мы уже начинали жить законами Тайги, потихоньку осознавая необходимость экономить. Да и комары под дождем предпочитали отсиживаться на взлетных полосах.
Медвежонок, улучив момент, мигом прошмыгнул через дорогу. Мать не успела его остановить и последовала за ним, уже учуяв чужих.
Дождь прекратился, а вскоре и солнце стало изредка проглядывать сквозь низкие облака. И торчащие из черных болот обломки берез и осин уже не выглядели метками над бесследно канувшими.
И тут мы первый раз обратили внимание на следы. Совершенно свеженькие. В вязкой жирной грязи четко просматривались отпечатки широких лап с кривыми и острыми лунками от длинных когтей. Но отпечатки ничего нам не сказали. Мы лишь посмотрели на них.
А медвежонок вновь кинулся к дороге. Но на этот раз медведица решительно воспротивилась воле Тайги. И для медвежонка попытка бегства закончилась увесистой оплеухой. Медвежонок ничего не понял в этих играх и просто завопил.
Медвежонок завопил. Мы услыхали и теперь другими глазами увидели следы.
х х х
— Так-перетак! Медведица с медвежонком.
— О, черт! Доставай быстрей!
— А толку…
— Может на дерево залезть?
— С ума сошел? От медведя на дерево?
— А что же делать?
— Идти, как шли.
— Достань, все-таки. Как-то спокойнее.
— Да пожалуйста. Только бессмысленно.
Тайга много видела таких штук. Самых различных. И в марках разбиралась лучше любого эксперта. Она сразу определила: вставка. Коротенькая, без приклада, как раз, чтобы в рюкзаке поместиться, не вызывая ненужных расспросов. А стало быть — разрешения на ношение оружия нет. А значит — не охотники.
Мы достали из рюкзака жалкую нашу однозарядку. Вещь в Ее владениях совершенно бесполезную. Чтобы перезарядить после выстрела, надобно через ствол шомполом выбить гильзу от предыдущего патрона. Да и патроны — от малокалиберной винтовки. При этом головку пули надо скусывать — иначе патрон не входит в патронник. Такая вот морока. Как при стрельбе из гаубицы. Только эффект далеко не такой.
— Заряжай, черт тебя дери, болтаешь много!
И пока заряжалась маленькая бессмысленная винтовочка, в Тайге стояла тишина. Зрители наблюдали с большим любопытством.
Так мы двинулись дальше, стараясь ступать как можно тише. С обкушенной пулей в узком стволе и с топориком наготове. С туристским металлическим топориком. Которым хорошо лущить щепу для костра.
Медведица не пускала медвежонка на дорогу. Но запретить ему двигаться вообще она не могла. Того просто разрывало от любопытства. Зверюшка то и дело мелькала среди деревьев, оглашая окрестности воплями после очередного материнского наставления.
Так мы и двигались — параллельными курсами. Парами. Мы, как цари природы — по дороге. Крадучись. Медведица с медвежонком — по придорожному редколесью.
Подгоняя нас, метался над дорогой угрожающе-предупредительный рык медведицы. Казалось, только в монотонном, изнурительном движении без привалов единственное спасение и единственное состояние хоть какого-то покоя.
— Скоро… должна быть… изба… лесозаготовителей…уф!
— Пошел ты… со своей… картой!
Перед тем, как выйти на маршрут, мы прошли проверку на психологическую совместимость. Провели ряд невинных тестов. Это было в городе.
Но все же через час гонки над нами смилостивились. И мы вышли к вертлявой речушке. Под открытым небом на берегу стоял длинный дощатый стол. В это жилое место, хоть и без единой живой души, медведица сунуться не решилась.
Закипала вода в котелке. Взметнув эхо, вылетала из ствола обкушенная пуля, сопровождаемая энергичными возгласами.
х х х
В мертвом поселке народа манси мы оказались еще через час пути. Осмотрев пару полуразрушенных хибар и не найдя ничего интересного, мы присели на рюкзаки заросшей и безучастной ко всему улицы.
С другого конца поселка бежал к нам черный человек. Бежал давно. Улица вытянулась метров на триста, а человек бежал медленно. Мы успели выкурить по сигарете.
Наконец он подбежал, этот черный человек в черных сапогах, брюках и ватнике, темнея широко раскрытым беззубым ртом.
— Сейчас машина будет, — сказал он, опускаясь на корточки. — Не уходите.
— А куда все делись? — спросили мы, указывая на дома.
— Мансюки-то? Старики померли. А молодые спились и тоже померли, радостно пояснил черный человек, вытирая грязной ладонью поросшую темной щетиной голову.
— А ты?
— А я тут с напарником. Коров пасем. Сейчас вот съезжу в поселение, схожу в баньку — и обратно коров пасти.
Он уже почти отдышался.
— Поселенец?
— Ага.
— Давно из зоны?
— С год.
— А здесь еще сколько?
— Полтора. Немного.
Он засмеялся. Потом попросил сигарету. Закурил и опять засмеялся, глядя на нас влюбленными глазами.
— Хорошо, — сказал он. — Сейчас машина придет. Поедем. — Он ненадолго задумался, затем добавил ни к селу, ни к городу: — Лишь бы войны не было.
Мы переглянулись. Он вновь засмеялся. Пояснил:
— Да нет, все в порядке. Я просто че думаю. Вот мне полтора года осталось. И свободен. Так? А если война? Не погуляю, значит.
Он вскочил на ноги, прислушиваясь к чему-то в полнейшей тишине, живущей на фоне ровного таежного шума.
— Идет машина. Айда к дороге.
Стоял сырой дождливый август. Но из тайги все равно несло запахом гари никогда не затихающих далеких пожарищ.
х х х
«Урал» по пути к поселению чуть не задавил выскочившего на дорогу шального зайца. Тот метров сто очумело несся под колесами, с перепугу не соображая, что можно свернуть в лес. При этом водитель вовсе не старался догнать его. Просто все здесь гоняли как ненормальные. Люди не жалели машин. Машины разбивали дороги. Дороги не щадили машин.
В поселке черный человек показал нам гостиницу.
— Но сначала покажитесь начальнику. Вон штаб, — сказал он на прощание, прежде чем затеряться среди таких же черных стриженых людей.
Мы направились к длинному одноэтажному бараку с флагом над входом.
За высохшим, грубой работы столом старший лейтенанта с красными петлицами проверил наши паспорта. Попросил еще какие-нибудь документы. Мы извлекли на свет божий командировочное удостоверение. Выклянчали накануне отъезда в журнале «Человек и природа».
— Так. Корреспонденты, — читал лейтенант вслух, и голос его гулко звучал в вытянутой комнате с казенной мебелью. — Цель командировки… Сбор материалов… Тема: «Туризм и охрана окружающей среды»…
— Месяц проставлен неверно, — сказал он, закончив ознакомление с этой филькиной грамотой. — Сейчас август, а здесь — июль.
— Эх, черт, — сказали мы. — Перепутали там… Чего ж теперь нам делать-то?
— Ничего, — сказал старший лейтенант. — Только вы вот что… Места тут — сами понимаете. Да и публика соответствующая. В общем, поменьше контактов. Позавчера убили начальника соседней зоны. И жену его. Беременную.
Листок командировочного удостоверения заметно подрагивал в руках начальника.
— Завтра будет машина на Вилюй, подбросит вас. Пока располагайтесь в гостинице.
Выходя из кабинета, мы оглянулись.
Старший лейтенант сидел в той же позе, глядя перед собой, положив обе ладони на высохший, грубой работы стол.
Он был почти нашим ровесником. Из-под стола виднелись носки его до блеска начищенных сапог.
х х х
Разговорчивому и непоседливому начальнику гостиницы на вид было не больше пятидесяти. И мы с удивлением узнали, что этому коренастому мужичку без единой седой волосины — за шестьдесят.
В двухэтажной бревенчатой гостинице поселения он поселил нас на первом этаже, рядом со своими апартаментами. В отведенной нам небольшой комнатке стояли два стула, стол и две койки, застеленные чистым бельем. В запыленное оконце виднелась засыпанная щепой дорога, ведущая полого вниз, к реке, полной серой быстрой воды.
— Гостиница? — ответил он на наш удивленный вопрос. — А как же? Как же без гостиницы? Сюда к нам часто приезжают. — На столе стремительно появлялись миски с ухой, хлеб, сковорода с грибами. — Начальство даже приветствует, ежели, скажем, жена или мать гостят… Способствует, стало быть, исправительному процессу.
После сытного обеда хлебали, обжигаясь, крепчайше заваренный чай. Изредка к начальнику заходили черные люди. У дверей затевались недолгие беседы вполголоса, со взглядами в нашу сторону. Под этими взглядами мы ощущали себя не шибко уютно.
Он возвращался к столу и продолжал рассказ о себе:
— Я их предупреждал Христом Господом: «Окститесь, ребяты, какой долг!? Давно уж мы в расчете!». А они заладили свое: отдай да отдай. Хорошо. Но невмоготу уже. Отмахнулся. А в руке молоток оказался. Ну по случайности. Человека и убило. И мне — двенадцать лет. Хорошо. Н-да… А я, между прочим, до Берлина доходил. И награды имею.
Такой веселый разговор перекинулся и на убийство начальника соседней зоны:
— Я так считаю. Вот я, скажем, убил или ограбил. Хорошо. Это как бы моя работа. А они меня ловят и сажают. Это их работа. Хорошо. И я на них не в обиде. Попался — сам дурак, плохо работал. Хорошо. Но вот другой вопрос. Я уже тут. Зачем же здесь-то надо мной еще куражиться? Я и так получил свое. Так что тому псу по заслугам перепало. Такой был пес… Что? Бабу его? Да еще та была стервозина. Нет, тут мы не поймем друг друга… Хорошо. Отдыхайте.
Задвинув рюкзаки под койки, мы минут десять лежали неподвижно и бессонно на влажных чистых простынях. А затем беспамятно заснули под гостеприимным кровом старого убийцы, взявшего за ночлег и кормежку две пачки хорошего индийского чая.
х х х
А утром опять была гонка на лесовозе. Мы вновь судорожно цеплялись за передний борт, коленями прижимая скачущие рюкзаки. В кабине рядом с водителем-поселенцем сидел юный прапорщик. Но на скорость передвижения лесовоза это обстоятельство никак не влияло.
Оказавшись наконец вновь на земле, мы подсчитали:
— Сэкономили часов пять. Но потеряли года по два.
И поклялись больше на лесовозах не ездить. А прапорщик на прощание еще раз проверил наши документы.
Утро выдалось сухим, солнечным. Вдоль дороги высились мощные кедрачи. Они ожидали минуты величественного падения после обжигающей работы бензопилы. Под скорбным взором Тайги.
До перевала на западе напрямик казалось рукой подать. А дорога уходила в сторону, южнее, вдоль хребта, разделяющего Свердловскую и Пермскую области. Нам же надо было — поперек. И сходить с дороги в болотистые комариные чащобы совсем не хотелось. Дорога же гнула и гнула свою линию, не желая поступаться принципами. Или подчиняясь Ее воле.
Так мы прошагали километров пятнадцать. Затем устроили продолжительный привал, на котором решался вопрос принципиальный: переупрямить дорогу и по-бараньи идти по ней до конца или круто взять на северо-запад. То есть, окунуться по уши в Тайгу со всеми ее прелестями и выйти к реке. Какой угодно реке. Поскольку любая из них течет с хребта. А стало быть, петляя по притокам, шагая берегами, подняться к предгорьям и там отыскать перевал. Единогласно был одобрен второй вариант. Отыскав для решительного броска в тайгу широкую просеку, идущую на северо-запад, мы не без сожаления распрощались с дорогой.
Тучи комаров повисли над нами, едва потревожили мы сырые густые травы. Торопливо сбрасывая рюкзаки и дергая клапаны, мы выхватывали флаконы с жидкостью и лихорадочно мазались. Но пот быстро смывал защитный слой, а комарья становилось все больше. Тайга изобрела классное оружие, справиться с которым не помог бы нам и взвод огневой поддержки.
Вскоре под ногами заколыхалась топь. А солнце калило немилосердно, словно отдуваясь за весь скудный на тепло месяц. Просека не кончалась.
И уже не привалы наблюдала Тайга, а падения, бессильные, прямо в жижу болота. И двум путникам еще тут же приходилось отыскивать силы, бешено ругаясь до слез, чтобы открутить колпачки флаконов. И нанести тонкий слой единственный рубеж, удерживающий от мучительной расправы по прихоти Ее.
Только к вечеру выбрались мы к реке, где ветер разгонял кровожадную армаду. Выбрались и рухнули на камни.
х х х
Утром мы разглядели впереди покрытые темной бахромчатой пеленой стертые ветрами вершины старых гор. А к полудню уже блуждали в еловом поясе среди каменных осыпей у Молебного Камня.
Из ельника выбрались наугад часам к семи вечера.
Оставив рюкзаки среди мшистых валунов, поднялись налегке к заснеженному плато. Дувший здесь резкий морозный ветер сразу отбил у нас охоту штурмовать перевал немедленно. И мы решили заночевать внизу, среди камней.
С трудом найдя ровное место для палатки, наспех поужинали. Вершины впереди и темный ельник внизу; ветер, треплющий палатку и пламя костра все это не давало расслабиться, уйти от напряжения целого дня скитаний. Разговор не клеился… Мертвым был сон.
Холодным ясным утром, позавтракав консервами и сухарями, мы начали восхождение. Не сумев точно сориентироваться по карте, шли на ближайшую седловину, обещавшую перевал.
Проложив цепочку следов по снегу вчерашнего плато, дальше карабкались вверх по громадным обломкам. Мертво, казалось бы, лежащие, они иногда вдруг резко кренились под ногой, норовя сбросить пришельца.
Седловина обманула — спуск за ней оказался слишком крутым, почти отвесным. Пришлось уходить севернее, вверх еще метров на триста, чтобы отыскать спуск с соседней вершины.
После часового подъема мы оказались на открытой площадке. Там сбросили рюкзаки и огляделись.
Позади, на востоке, до самого горизонта синели вершины Уральской горной страны. С севера и юга, среди зеленеющих альпийских лугов, пенились каменистые осыпи. Впереди, на западе, лежала холмистая, вся в лесах, долина. Тут начиналась Пермская область. Но по-прежнему — владения Тайги.
Взвалив на спину опостылевшие рюкзаки, мы осторожно двинулись вниз. Двухкилометровый крутой спуск представлял из себя сплошную осыпь мелкого камня. По ней можно было бы съехать, как с горки. Вот только как затормозить в конце такого длинного скоростного спуска?
И мы быстренько поняли, что спускаться с горы ничуть не проще, чем карабкаться на нее.
х х х
Счет дням уже не вели. Просто — на следующий день после перевала прошли с десяток километров вдоль ручья. Он становился все полноводнее, обретая соответствие своему рыбному названию — Мойва. Мы искали место для постройки плота. Но деревья тесно прижимались к скалистым крутым берегам, обколотым бурным течением. И нам ничего не оставалось, как угрюмо шагать и шагать по таежной тропе, сердито посматривая на воду, не желавшую принять наше плавсредство.
На этой тропе, словно на прогулке в подмосковном лесу, мы встретились с людьми. Парень и две девушки привычно тащили тяжеленные рюкзаки. Смена студентов-практикантов направлялась на метеостанцию. Собственно, говорить-то нам было не о чем. Так, откуда да куда… И все! Да и говорил с нами только юноша. Девушки молчали, застенчиво улыбаясь. И мы — идущие на запад- несколько мгновений просто молча всматривались в юные открытые и румяные лица. А затем распрощались.
— Бог мой, вот где жену искать надо.
— А что? Может быть это и была судьба? За тысячи верст от дома встретить посреди тайги такую вот, единственную, а?
— Черт побери, как у нас все нескладно. Жить бы с такой в каком-нибудь захолустнейшем Оклетьевске… Нарожать кучу веселых чертенят… Огородец, банька… Тихое кладбище в конце. Что еще надо? Ну, какие, к лешему, потрясения и социальные конфликты, а?
А вскоре отыскался и пологий бережок для постройки плота и ночлега. Быстро стемнело.
У нас еще оставалось во фляжке граммов двести водки, взятой на всякий случай. День вспоминался встречей на таежной тропе. Как в песне. Чем не случай?
В этот вечер мы проявили с Тайгой редкостное единодушие. Мы с недоумением вопрошали себя: что делают хрупкие девчушки среди черных поселенцев в Ее владениях?
На тепло костра из лесной тьмы стремительно вырывались летучие мыши и черными кляксами метались на границе света и ночи.
х х х
Дождь пошел ночью, пошел аккуратно, словно нащупывая нашу палатку в темноте своими чуткими пальцами.
И когда рассвело, дождь все продолжался, не усиливаясь и не ослабевая. Спокойный лесной дождь, вдумчивый, затяжной, везде проникающий, без городских истерик. Мир стал одноцветным, сизым. Шумы леса, реки и дождя слились в один. В палатке плавал сизый табачный дым от дешевых сигарет «Прима». Сизый мусор слов долгой трепотни забивался в углы.
Дождь лил два дня подряд. Мы питались всухомятку, добивая последние запасы, безмятежно полагаясь на грядущую обильную рыбалку и грибо-ягодный подножный корм. Сигареты сгорали стремительным потоком. И нам в голову не приходило, что в здешних лесах табачные плантации еще никто не думал разбивать. Мы болтали и отсыпались, с отвращением посматривая на треклятые рюкзаки, впрочем, изрядно похудевшие.
Дождь лил два дня.
х х х
Не знаю, кто придумал конструкцию этого плота. Но обнародовал ее передо мною Б-ский. Идея подкупала простотой и необременительностью. Длинные сигары из плотной подкладочной ткани набивались надувными волейбольными камерами. В сигарах делались небольшие прорези, из которых предстояло торчать крепко перевязанным ниппелям.
В тайге нам оставалось лишь сколотить крепкую раму из жердей, привязать к ним четыре сигары и водрузить на корму вместо сидений рюкзаки. И плыть. Ах да, весла еще… Пришлось пожертвовать котелком для чая бывшей жестянкой из-под томатной пасты. Топориком располовинили ее, получив лопасти для весел.
Малая осадка плота позволяла плыть по чайному блюдцу. Лопнувшую камер несложно было заменить запасной. Река казалась нейтральной территорией между нами и Тайгой. Позади оставались многие километры вьючного изнурительно труда в условиях непрерывных и массированных комариных атак. Впереди ожидало безмятежное наслаждение бездельем — подарком реки, несущей нас в низовья.
Подарок этот преподносился в различных упаковках. В узких местах, где русло сжимали крутые подмытые скалистые берега, плот мчался с крейсерской скоростью. А в местах, где река разливалась, давая себе передышку от бешеной гонки, течение становилось замедленным, неразличимым на поверхности. Сквозь прозрачные, чуть колеблющиеся подводные струи ясно просматривалось каменистое дно. Поодаль выпрыгивали из воды осторожные хариусы. Изредка звучно всплескивал над глубокой яминой таймень.
В один из привалов мы наткнулись на первый золотой корень. Невысокие мутовчатые травы с желтыми мелкими цветками вырастали на причудливой формы корнях. Тщательно отмытые в речной воде, они отливали на солнце старой бронзой. Корни мы складывали в пакеты. Обрезанные цветки и стебли уплывали вниз по течению.
х х х
Карта предупреждала о приближающихся порогах. Ожидалось их пять штук. При этом два из них были помечены восклицательными знаками, как представляющие особую опасность.
Пороги нас пугали. Сомнений не было — пороги с Тайгою заодно. Уж на порогах-то Она отыграется. На двоих у нас имелся один мой довольно жалкий опыт плавания на байдарке по Мсте.
Между тем вдруг резко выяснилось: двухдневные разговоры в палатке под дождь опустошили запас консервов и табака. Таежный чистый воздух и безделье живо напомнили о себе. Хотелось есть и курить. Особенно курить.
Вот мы и ели — оставшуюся манную крупу, из которой так и не удосужились сварить кашу. И теперь набирали в рот сухую манку, ждали, пока слипнется в ком и разбухнет, лениво жевали.
Кто-то может спросить: как же так, в тайге, а без грибов, рыбы, дичи? Мы сами себе задавали этот вопрос. И чем дальше, тем чаще и с усиливающейся интонацией упрека небесам.
Грибы, ягоды и прочий подножный корм исчезли из окружающего пространства бесследно, словно мы продвигались вдоль густонаселенного дачного кооператива.
Наши рыболовные снасти никогда не имели дело с быстрой водой и напрочь отказывались снабжать наш стол.
О винтовочке нашей я уже упомянул. Как-то, в припадке голодного отчаяния, Б-ский, не целясь и, кажется, без очков, попал в крохотную птичку, сидевшую высоко на дереве метрах в тридцати от нас. Громко урча, мы ощипали несчастное пернатое и бросили не шибко упитанную дичь в котелок с булькающим рисом. Предполагалось, что на ужин у нас будет плов. Увы. Стремительно покончив с разваренной рисовой кашей, мы так и не обнаружили в ней ничего, что хотя бы отдаленно напоминало крылышко или ножку…
Делая короткие остановки на редких отлогих берегах, пили чай с остатками сгущенного молока. Вместо табака растирали сухие травы, делали фантастические смеси «а-ля ориенталь». На плоту сворачивали огромные самокрутки. За борт относило густые клубы ядовитого дыма. Тайга чихала, приближая пороги.
На общем собрании искателей приключений приняли решение пороги обойти берегом. Ну их, эти пороги… В другой раз пройдемся по ним.
Но решение осталось невыполненным. И не из-за нашей удали. Боже упаси. До сих пор содрогаюсь. Мы просто прозевали тот момент, когда река, постепенно ускоряясь, вдруг втянула нас в сумасшедший ток.
Малая осадка плота, которой мы так гордились и которая позволяла плавать в чайном блюдце, сыграла с нами злую шутку. В блюдце нет такого течения. А плот, как выяснилось, настолько верткий, что мы не смогли выгрести к берегу. Лишь лопасти с весел порастеряли. И несущийся на камни плот стал неуправляемым.
Мы влетели в грохочущее буйство, как туалетная бумага, сносимая ревущим потоком из бачка. Плот несло и трепало, как ветку, но зато и был он так же непотопляем. Мы вцепились в жерди каркаса, и теперь среди мириадов радужных брызг мотались лишь наши всклокоченные головы. Плот налетал на камни, разворачивался, и тогда нас несло спиной вперед. Черт знает куда. Река перла нас на себе, ни о чем не спрашивая, свирепо продираясь сквозь каменный оскал порогов.
Мы так и не поняли, где же находились именно те пороги, которые на карте обозначались восклицательными знаками.
х х х
После порогов река тут же устало разлилась, сразу заметно сбавив скорость.
Нам удалось пристать к берегу, орудуя рукоятями от весел. Мы обсушились у костра и заготовили шесты для дальнейшего плавания.
Теперь, после бешеной гонки и пережитого, курить и есть хотелось зверски. Но оставалось лишь плыть дальше, дымя опостылевшими травяными самокрутками, начисто лишенным никотина.
Часа через три такого замедленного и унылого сплава мы увидели на возвышенном правом берегу за деревьями крыши строений.
— Усть-Лыпья…, - благоговейно выдохнул Б-ский. — Баба Сима. — Слова звучали древним заклинанием. — Баба Сима! Не пропадем!
Река еще пару раз вильнула, и показался пологий спуск к реке, переходящий в широкий заливной луг.
На лугу сутулый дед в широкополой шляпе ритмично двигал косой. На поясе сзади висела дымящаяся жестянка, из которой нехотя поднимались сизые струйки и лениво обнимали спину старика, оберегая от комаров. На расспросы дед не отвечал, исподлобья осматривая нас и не переставая косить.
Мы двинулись вверх, к избам.
Ближайшая к реке выглядела ладно обстроенной и обжитой. Ухоженные картофельные грядки большого огорода радовали глаз и вселяли надежду.
От огорода навстречу нам выскочила сухая лаечка. Припав к земле, она устремила в нашу сторону острую мордочку с чуткими ушами и внимательным взглядом темных глаз. Но, принюхавшись, доверчиво прыгнула вперед, на знакомые запахи леса, дыма, воды.
У дверей в сени вились еще две поджарые лайки, почерней и покрупнее первой. При виде незнакомцев они дружно и коротко взлаяли.
И мы увидели легендарную бабу Симу. Ту самую, которая спасла от голодной смерти не одного бедолагу, решившего потягаться с Тайгой.
Из сеней вышла бабка в толстом выцветшем халате, замасленном переднике и валенках. Голову обвязывал серый шерстяной платок. Лицо, обтянутое пергаментом морщинистой кожи, ничего не выражало. Комары даже не садились на лоб ее и щеки. Маленькие глазки хитро поблескивали.
Мы поплакались, посетовали и зареклись.
— Снасти есть? — деловито спросила она, выслушав нас.
Мы торопливо зашарили по карманам. Затем бросились бегом назад к плоту, лихорадочно обшаривать рюкзаки.
— Люди тут всякие бродят, — сварливо приговаривала живая легенда. Вот так у меня и собаку свели. И ружье. А тоже… кормились два дня.
И только после того, как мы тут же, во дворе, отсыпали ей крючков и отмотали лески, она смилостивилась, впустила нас в избу и усадила за стол.
В низенькой горнице мы устроились под божницей. Осмотрели заваленный объедками стол, чугунного литья кровать с горой подушек и лоскутным стегаными одеялами, большую потемневшую печь.
Бабка в это время выставляла на стол миску с творогом, тарелку с солеными хариусами да ржаные ковриги плотного домашнего хлеба.
— Ловить-то на кораблик надо, — наставляла она. — Так и быть, дам. Есть один в запасе.
Мы набросились на угощенье, изредка вежливо что-то вопрошая. Старушка охотно отвечала:
— Нет, тут я живу одна. На всю Усть-Лыпью. На все двенадцать дворов. Дед мой третьим годом потонул. А этот, — она махнула рукой в сторону луга, — так, пригласила пока… Да что-то он затаистый… А что меня снабжать? Коровы есть, лошадь есть, рожь сею, картошку сажаю. В реке рыба не перевелась, а в лесу — дичь да пушнина… Так, дочка иногда из района подошлет чаю-сахару с оказией…
В общем, владетельница Усть-Лыпьи жила в полном согласии с Тайгой.
— Нет, курева не держу, — наставительно продолжала она. — И дед некурящий… Чего мне прислать? Да многие так-то обещали… Лишь девушка одна прислала кофту по зиме, — расчувствовалась старушка. — А так… Ну будет желание — прыскалки такие, от клопов. Развелись что-то, житья нет…
В дорогу бабка дала нам кулек творогу, кило песку и две ковриги. Каемся, тайком от бабки напихали в карманы штормовок еще и картошки из стоящей у избы бочки. Тайга все видела.
Бабка вышла на крыльцо. Мы с невинными рожами прощально помахали ей.
— А корень-то золотой еще рано копать, — ворчливо сообщила она нам вслед.
х х х
На бабкиных харчах мы с легкостью одолели еще километров двадцать до очередного широкого разлива реки.
К вечеру высадились на берег, разбили палатку и с нетерпением принялись снаряжать кораблик. Тайга смотрела, посмеиваясь.
Мудреное народное изобретение представляло из себя плоскую широкую дощечку с профилем лодочки и с деревянным бруском-противовесом на двух изогнутых металлических прутьях.
Отмотав по берегу метров пятьдесят лески и навязав на нее поводки с наживкой из мух, червей и мотыльков, мы спустили снаряженный кораблик на воду. Подергивая за леску, стали выводить против течения. Вскоре, описав дугу, кораблик встал, покачиваясь на быстрой вечерней воде, застыл у противоположного берега, перегородив реку поводками. По-нашему мнению, рыбе просто некуда было деваться. И мы уже переживали, куда станем девать обильную добычу. Накоптим — решили. Или навялим. Мало ли.
Прошел час. Лес на том берегу виднелся уже только темной стеной. Над всей рекой стоял плеск играющей рыбы, круги накладывались друг на друга как под крупным дождем. И лишь наживка на поводках нашего кораблика рыбу нисколько не привлекала.
Но мы не отчаивались. Мы решили оставить кораблик на всю ночь. А пока попробовать ловить удочками. Течение здесь чуть успокоилось по сравненью с верховьями. И нам улыбнулась-таки удача. Правда, совсем маленькая. Непуганые мальки хариуса, размером с мизинец, одурело хватали наживку. За полчаса мы натаскали их штук шестьдесят.
Кораблик же невозмутимо, наплевав на быстрое течение, продолжал стоять на одном месте. Но на этом его достоинства и заканчивались.
И мы вернулись к костру. Посолив, завернули мальков в фольгу и положили на угли.
Через полчаса от выданной бабкой провизии остался лишь сахарный песок. Поджаренных на углях рыбешек схрумкали незаметно, как семечки. Песок щедро бросали в кипяток, добавляли мяту и пили, пили, пили, то и дело бегая с котелком к реке, заодно проверяя кораблик.
А ночью снились и чудились темные избы, парное молоко, серебристый плеск хариусов, чутко устремленные вперед уши и глаза серой лаечки; и говорила бабка что-то древнее, пророческое, да совсем непонятное, на чужом нам языке.
Но спалось крепко и радостно.
х х х
Утром, пройдя километров пять, мы подверглись обструкции. Вдоль берега бежала лопоухая приземистая собачонка и радостно брехала в нашу сторону. Берега устилали вплотную лежащие стволы сосен. А это означало, что где-то недалеко трудились поселенцы-лесозаготовители. И получался такой вот любопытный расклад. Либо километров тридцать сплавляться нам по реке, то есть еще пару дней не есть толком и не курить, тихо стервенея друга на друга; либо высадиться тут же, и на машине лесозаготовителей добраться до ближайшего поселка, где начиналась цивилизация с ее автобусами, поездами и прочими, более шустрыми средствами передвижения.
— Давай решать…
— Да чего тут решать-то!
И мы направились к берегу. Вытащив на берег плот и отвязав рюкзаки, двинулись на послышавшиеся голоса.
Человек десять черных мужиков стояли на берегу, наблюдая, как один увлеченно забрасывает леску. У противоположного берега маячил кораблик. При этом мужики… курили!
Таежная валюта — крючки и леса — быстро сделали свое дело. Скоро мы уже сидели в вагончике-столовой поселенцев. На столе в мисках дымилась уха из хариусов. Может быть из тех самых, нами не выловленных… Э-эх… Зато в карманах у нас лежало по пачке «Примы». Пусть моршанской, но самой настоящей.
После ужина мы устроились в спальном вагончике, а поселенцы заваривали чифир, и кто-то бренькал на разбитой гитаре, а вдалеке уже слышался натужный рев лесовоза…
Машина привычным рыком уже сорвалась с места, мы привычно вцепились в передний борт, когда вслед нам заорали:
— Эй, а от комаров-то, от комаров ничего нет?
— Стой! — застучали мы по крыше кабины.
В протянутые к нам ладони полетели флаконы и тюбики.
Мы даже успели закурить. Лесовоз летел в сумерки. Назад улетали искры от сигарет. Приближалась влажная теплая ночь.
х х х
Автобус из поселка в Красновишерск ходил раз в сутки. Толпа ожидающих угрюмо мокла под привычным августовским дождем. Все билеты давно раскупили. У нас оставалась лишь надежда уговорить водителя. Надежда выглядела вполне реальной. И вообще после двух недель пребывания в тайге жизнь посреди цивилизации казалась сплошным беззаботным отпуском.
Водитель, широколицый, неторопливый в движениях парень, вытирая руки ветошью, внимательно слушал капитана в милицейской форме.
— Вот этого обязательно посади. Освободился, — говорил капитан, подталкивая к дверям автобуса высокого пожилого мужчину с унылым лицом, в черной робе и с небольшим фибровым чемоданчиком. — Понял?
— Будь сделано, товарищ капитан, — отвечал водитель. И тут же вызверялся на нас: — Куда прете? Нет же мест, видите?! Что я из-за вас, автобус буду гробить по такой дороге? и не просите. Ждите до завтра…
Двери цивилизации сомкнулись перед нашими носами. Прочные двери. Лбами бить не хотелось. Оставалось идти на перекресток и ловить попутку.
Мы медленно брели по широкой улице, образованной избами с одной стороны и колючей проволокой — с другой. Несколько заключенных копали траншею поперек дороги. Высокий охранник в плащ-палатке рассеянно наблюдал за ними, прислушиваясь к глухим ударам капели по капюшону. На стволе начищенного автомата, не растекаясь, застывала морось….
Вскоре нас подобрал бензовоз, в кабину которого мы с трудом, под ворчание шофера, втиснули себя и свои рюкзаки. И бензовоз, подскакивая, помчался все по той же вечно разбитой дороге….
А потом были еще машины, автобусы и поезда, и след наш затерялся в огромном городе.
Тайга так и не поняла, за какой-такой надобностью мы к Ней пожаловали. Да мы и сами тогда не знали. Сейчас я думаю — за тем, чтобы поклониться. За чем же еще?
О, САХАЛИН
Москва 1986-го года ничего не предлагала выпускнику Литинститута. Сахалин же… О, Сахалин манил примером Чехова и подъемными. Нешуточной по тем временам суммой в 250 рублей.
Однако капитал оказался ничтожным в сравнении с огромностью страны нашей, простукиваемой поездными колесами. Деньги оказались на исходе уже в Иркутске. Благо и попутчик до этого славного города оказался достойный поэт Толя Богатых. Антиалкогольное законодательство и ночные посиделки на Байкале окончательно подорвали незыблемое, казалось бы, финансовое могущество. Дальнейший путь — Хабаровск, Комсомольск-на-Амуре, Ванино запомнился изжогой, величием Амура и тягостными раздумьями о хлебе насущном.
В легендарном Ванине заканчивался материк. В Ванине железная дорога упиралась в конец причала. Далее грузовые вагоны закатывались в трюмы паромов «Сахалин». А пассажиры через бдительный пограничный контроль направлялись в те же паромы, но только в каюты.
«Сахалинов» тогда насчитывалось на линии Ванино-Холмск целых шесть штук. Я угодил на «Сахалин-2».
Обосновавшись на верхней палубе и с неким волнением оглядываясь, я вдруг сообразил — обратной дороги нет. Хотя бы по причине отсутствия средств. Отлогие сопки ванинского берега с нестройно толпящимися разнокалиберными строениями выглядели негостеприимно. Прошлое проступало из стен каких-то приземистых серых бараков.
Впереди, за широкой бухтой, вправо открывался выход в Татарский пролив. От гниющей морской капусты умопомрачительно пахло йодом и дальними странствиями. Оранжевое августовское солнце уходило на оставленный мной запад. Паром отдавал концы и вслед за мощным буксиром отходил от причала…
Проворные маленькие ручонки неожиданно вцепились в поручни по соседству. Мальчуган лет семи опытным взглядом сразу же определил во мне новичка.
— Как ты думаешь, море соленое? — задал он вопрос на засыпку.
— Конечно, — с легкостью недавнего студента ответил я.
— А кто его посолил? — усложнил задание мой экзаменатор.
— Ну… Видишь ли…, - начал я тянуть время.
В самом деле, не заводить же бодягу о химическом составе земной коры и лежащего сверху мирового океана. И я наконец брякнул:
— А посолили его слезами своими многие бедолаги.
— Вот и нет, — торжествующе выпалил мальчуган, словно ждавший ошибки. — Никто его не солил. Оно всегда соленое… А кто такие бедолаги?
— Те, кто не по своей воле в этих краях оказались, — снова сумничал я.
Парень оглядел «эти края», явно не ощущая себя бедолагой.
— Я, когда вырасту, моряком буду, — на всякий случай предупредил он. И скрылся в недрах парома.
Буксир давно уже отвалил в сторону причала. Судно набирало ход. Бухта раздвигалась, все дальше разнося берега свои. Ветер все свежел, становился все более упругим и как-то ухитрялся налетать со всех сторон сразу. И как только скрылась из виду земля, паром тут же погрузился в туман. Или туман быстро и окончательно поглотил сушу. Поглотил и сушу, и море. Ничего не осталось, кроме тумана, да ревущего тревожно и предупреждающе парома. За туманом, в восьми часах пути лежал остров.
Я спустился в каюту третьего класса. И там в откидном кресле забылся. Лишь изредка просыпаясь от пронзительных детских вскриков, похожих на возгласы чаек.
«И зачем я сюда поехал? — спрашивал я себя, и мое путешествие представлялось мне крайне легкомысленным». (А. П. Чехов, «Остров Сахалин»).
х х х
Итак, сахалинский паром. Это явление сразу не осознать. Мне, человеку крайне континентальному и глубоко сухопутному, паром всегда представлялся предметом неколебимо простым. Даже патриархально примитивным. Никак на мореходное средство не походящим. Так, нечто деревянное. Большой плот. На котором некий старичок, дымя самокруткой, налегает на… хм… рычаг. И этот самый плот, то бишь, паром, по канату курсирует поперек реки. Туда и обратно. От берега к берегу. Изо дня в день. В общем, дело однообразное, как течение реки. Летают над водой стрекозы, рыбешка играет, визжит поросенок в корзине, лузгают бабы семечки, о прошлом судачат, настоящее клянут… Картина понятная.
Сахалинский паром оказался жуткой громадиной высотой с семиэтажку. В недрах его запросто заблудишься. А брюхо разом заглатывает железнодорожный состав.
«Итак, Резанов и Хвостов первые признали, что Южный Сахалин принадлежит японцам» (А. П. Чехов, «Остров Сахалин»).
После того, как вагоны оказываются в трюме, их материковая судьба претерпевает изменения. Железнодорожная колея на Сахалине проложена японцами. У миниатюрных японцев и колея поуже нашей, российской. По прибытии в морскую столицу острова, город Холмск, вагонам меняют колесные пары. И поезда на Сахалине обретают японский ритм перестука на стрелках ритм утонченный и таинственный. Это в Сибири поезд куражливо выстукивает: «Эх, раздолье, так твою в разэдак!». А на острове говор колес невнятен для русского уха. Да и глаз в плывущие с юга облака всматривается с недоумением. Оттуда, с японско-корейского юга, облако идет особенное, формы восточной, сказочной, рисованной тонко, словно взлетевшее с ширмы, где остались тоскующие драконы. Облако с четко очерченным силуэтом, с конкретной остроконечной завитушкой, отчетливое и ощутимое, как свежеиспеченное безе. Наше материковое облако, рыхлое и ленивое, как затрепаное ватное одеяло, сюда заходить не любит, да и не жалуют его здесь ветра морские, резкие, с характером.
х х х
«Извольте работать без солнца» (А. П. Чехов, «Остров Сахалин»).
Корейские облака и оранжевое августовское солнце, падавшее за Татарский пролив куда-то в район Владивостока, завораживали. Я стоял на балконе гостиницы для моряков и не мог взять в толк, за что в этом блаженном краю платят северные надбавки.
Теплый вечер ласково опускался на бархатистые от зарослей бамбука сопки. По искрящейся легкой зыби пролива плавно шествовало на юг далекое и такое хрупкое на вид судно. Зеркальную гладь порта взрезал неторопливый и неугомонный буксир. За что же, за что оклады живущих тут умножались на коэффициент 1,4 (а для моряков на 1,6), к которому каждый год добавлялась еще одна десятая?
«Это еще что, — скорбно вздыхали старожилы. — Раньше у нас вообще коэффициент был 2. Да приехал один деятель…».
Деятель принадлежал к самой верхушке партийной власти. Оказавшись на Сахалине в разгар бархатного сезона, что тянется с конца июля по начало октября, чиновник не на шутку задумался. За что платят надбавки? Он интересовался конкретно. За отсутствие солнца, — конкретно пояснили ему. То есть, человек живет в жутких условиях, копит целый год денежку, которую затем благополучно и просаживает на югах, набираясь солнца и витаминов для дальнейшей жизни в жутких условиях. Чиновник хмуро оглядел залитые яркими лучами широкие проспекты областного Южно-Сахалинска, окунул палец в теплые прибрежные воды и разгневанно распорядился урезать льготы. И осталось старожилам вспоминать былой шелест банкнот, да чесать в затылке.
А солнце… Что ж, солнце здесь действительно яркое и теплое. С конца июля по начало октября. В остальное же время — тот самый ветер, что не пускает сюда облака российские. И этот ветер сбивает над островом корейско-японскую хмарь. И дует с воем неделями напролет, выматывая душу. Неделями живешь под серым небом среди серых домов и лиц.
«И высокие седые волны бьются о песок, как бы желая сказать в отчаянии: «Боже, зачем ты нас создал?»» (А. П. Чехов, «Остров Сахалин»).
х х х
У приезжающих на Сахалин юных жен не менее юных мореходов вид довольно надменный. Они твердо знают — эту дыру они потерпят в лучшем случае года три-четыре. За намеченный срок муж обязан: как можно чаще ходить в загранрейсы и как можно больше зарабатывать валюты. Твердой японской йены. К тому же новоиспеченному мореходу и жилплощадь обещали… Обещали…
А мореход первым делом прямиком попадает в каботажное плавание. То есть, возит уголь на Курилы или тушенку в солнечный Магадан. На пароходе типа «Шатура», о котором сказано коротко и емко: «То ли спьяну, то ли сдуру угодил я на «Шатуру»». Это проржавевшее корыто, уже лет десять вымаливающее списание «на гвозди», скорбно продолжает длить свою морскую жизнь вопреки всем законам безопасности и плавучести. Палубная команда до одури орудует шкрябками, стервенится боцман-«дракон», не вылезают из машины механики-«маслопупы», но… Старость неотвратима, и старость судна — в том числе.
В короткие и долгожданные дни списания на отдых моряк застает красавицу-жену в перенаселенном общежитии. Здесь общие кухня, душевая и туалет сплачивают товарок по несчастью. Они еще хорохорятся и язвят мужей. Но теперь их гложет лишь одна мысль — получить отдельное жилье. Хоть какое. Тем более, что и дети как-то внезапно появляются после кратких визитов мужей, истосковавшихся в море по теплу любимых рук.
И лишь к концу намеченного трехлетнего срока начинает проглядывать некий светлый блик впереди. Моряк наконец-то попадает на судно, идущее в загранрейс. Пусть это и Корея. Но уже попахивает валютой. Да и очередь на жилье худо-бедно движется. Правда, дома из каменистой почвы острова рождаются с большой натугой и дороговизной.
Так проходит лет десять. Заматеревший морской волк уже по праву ходит на добротном судне в Японию. Некогда тосковавшая по материку матрона, в которой трудно узнать юную хрупкую и надменную красавицу, в окружении трех ребятишек с наслаждением копается на дачном участке. И лишь изредка, оторвавшись от прополки грядок и глянув в низкое серое небо, вспоминает о теплом Севастополе… Да что вспоминать, душу бередить… Вон уж и дочь старшая скоро совсем невестой станет. Пора ее на материк отправлять в институт…
«…женщина, в первое время по прибытии на Сахалин, имеет ошеломленный вид» (А. П. Чехов, «Остров Сахалин»).
х х х
Новичку на Сахалине перво-наперво радостно сообщают чеховское: «Климата здесь нет, а есть дурная погода».
И вот заканчивается благословенный теплый октябрь. В сопках буйствуют чудовищные лопухи и дикая, именно дикая по размерам гречиха. Желтеет атласный бамбук, краснеет ядовитый борец. И на все это великолепие наступает зима. Наступает так же властно, как и на материке. Таким же ранним серым утром просыпается остров, зябко поеживаясь под первым снегом, из которого еще торчат жесткие ребра разбитых застывших дорог.
Надо сказать, что зиму ждут. Ребятня с восторгом. Взрослые — с любопытством и откровенным страхом. Любопытствующие, а их большинство, гадают: что на этот раз? Запуганные местные власти уверены: ничего хорошего ждать не приходится.
И зима ничьих ожиданий не обманывает. С непредсказуемой и пугающей быстротой проносятся над островом тайфуны с могучими снежными зарядами. Первый несмелый снежок давно в прошлом. Остров по горло, до тошноты в снегу. Ворона, летом снисходительно восседавшая на светофоре, теперь не рискует садиться на это наблюдательный пункт. Запросто потоптать могут. Трехглазая железяка на перекрестке нынче безумно светит лишь верхним, красным. Остальное — под снегом. Страшится пернатая циклопического кошмара.
А снег продолжает свое буйство. Провода и опоры не выдерживают мягкой тяжести. И остров погружается во тьму.
Итак, ребятня дождалась длительных и запланированных лишь Господом каникул. И что ей свет? Днем светло, а ночью сладко спится.
Взрослые бегают по магазинам в поисках керосинок и свечей. Русский человек как всегда не готов к приступу стихии. Да, известно, что грянет… Известно, что не будет света и воды… Но, авось… В темных домах робкими неверными огоньками помигивают свечи. На лестничных площадках гудят керогазы. Откроешь крышку кастрюли — там пар и темнота. Наугад бросаешь содержимое пакета, соль и лаврушку. А выходит все равно вкусно — другого блюда все равно нет. И долгими вечерами тянется под рюмку долгий разговор…
А по извилистым и крутым дорогам среди сопок натужно ползут водовозки. Плещется вода, леденеет дорога. Посыпают ее угольной крошкой, что в изобилии производится многочисленными мелкими котельными. И летом, после того, как с наводнением сойдут снега и осушат остров неугомонные ветра, полетит по улицам угольная пыль, все собой забивая. Но это летом… А пока, посреди Тихого океана лежит большая темная рыба стерлядь, остров Сахалин.
х х х
«Каторжных работ для женщин на острове нет», — утверждал Чехов. И это верно. Работы для женщин вообще нет никакой. Та самая юная жена моряка, о которой мы сочувственно уже упоминали, не пойдет на рыбоконсервный завод. Это удел местных или пожилых женщин. Приехавшая же с мужем, имеет, как правило, некое абстрактное и здорово незаконченное высшее образование. Чаще всего гуманитарное. Для начала обладательница этого богатого багажа храбро идет в местный Дом культуры моряков. И для почина предлагает себя в качестве руководителя этого самого Дома. Но место давно и прочно занято. А может быть вам нужны руководители кружков? Например, чтения вслух? Увы, все подобные синекуры давно обрели своих хозяек. Но… но куда же? Библиотекарем? Мечты, мечты… Ну, хотя бы нянькой в детский сад, уж так и быть, не стану привередничать… Нет и нет. Все немногочисленные должности, предлагаемые дамам колониальной администрацией, заняты. Cекретарши, машинистки, телефонистки и делопроизводители, кажется, родились в своих креслах и скорее всего, в них же и умрут, нежели освободят их.
Тоскливо девушкам. Раз в месяц или два гастролирует в Доме культуре материковая знаменитость, завлеченная на остров экзотикой и повышенным гонораром. Раз в месяц наряжаются девушки. А потом опять: общежитие, склоки на кухне и… ветер, неустанно воющий ветер.
Незамужним проще. Они всегда готовы к восприятию проносящейся над городом вести: «Сегодня рыбный день!». Но это не то, что вы думаете. Просто с путины возвращается очередной рыболовный сейнер. А рыбаки — народ богатый. В трех местных ресторанчиках идет гульба нешуточная. С визгом дам и звоном стекол. Но и эта забава временна. Пожелтевшие и помятые рыбаки вновь уходят в море. Восстанавливать подорванное финансовое благосостояние. А девушки остаются. Мечтать о замужестве.
х х х
Так зачем же я сюда поехал? Наверное затем, чтобы вернувшись, вспоминать, вспоминать и вспоминать. И спустя годы, ощущать со вторичной новизной далекий Остров.
В ТАТАРСКОМ ПРОЛИВЕ
С точки зрения сахалинского парома, все реки и моря мира впадают в Татарский пролив. С точки зрения парома, Татарский пролив разделяет две главных части света — Холмск и Ванино. По совокупности этих воззрений паром вправе считать себя и считает фигурой масштаба вселенского, по меньшей мере.
Вот тут-то и забавно понаблюдать за ним, когда он, набив трюм вагонами, сонно скашивает иллюминаторы в причальные воды, посматривая равнодушно на суетящихся чаек и ожидая отхода. Пассажиры и команда снуют по нему назойливыми насекомыми; так бы и почесал в затылке, да нечем.
Вот появляется буксир «Монерон».
«Наконец-то, — думает паром. — Ползет, делает одолжение. Откровенно говоря, я бы и без тебя управился. Но не все же одному вкалывать, должна же быть хоть какая-то справедливость».
У «Монерона» на этот счет имеются свои, не менее веские соображения. Примерно такого рода:
«Бездельник, обжора и щеголь, — думает тот. — Подумаешь, эка важность. Будто в кругосветное путешествие отправляется. А всего и дел-то — из порта в порт, как маятник… Нет, ты покрутись в порту, как я. Так взопреешь, что родного шкипера не узнаешь…».
И «Монерон», сердито пыхтя, нарочно разворачивается под самым носом у парома, чуть задевая его кранцами — автомобильными покрышками, которыми заботливо прикрыты его борта. Паром, делая вид, что не замечает этого недомерка, терпеливо ждет, когда примут буксировочный трос, пока зазвучат команды.
Но вот, наконец, нос парома медленно начинает отходить от причальной стенки, а клинообразная полоса воды усилиями «Монерона» становится все шире. Медленно разворачиваются вправо остающийся берег и город на нем, облепивший сопки домами, салютующими парому знаменным размахиванием сохнущего на балконах белья.
«Монерон» тащит и тащит свой груз к воротам порта и, кажется, вот-вот забудется, да так и пойдет впереди парома до самого Ванина. Но вовремя что-то вспоминает, какие-то свои дела неотложные, смущенно вздыхает, отдает трос и отваливает в сторону.
Паром дальше идет уже своим ходом, оставляя за кормой брекватер, створ портовых ворот, «Монерон» и тихую портовую акваторию. Нехотя и вскользь бросает он «Монерону» облачко дыма из трубы, как снисходительное «Пока…», и набирая ход, идет в открытые воды.
На ходу он действительно ладен, этакий напористый утюжок. Без особых усилий разгоняет он небольшие пока сентябрьские волны, шутя нахлобучивая им на макушки пенные шапки.
Денек славный, солнечный. Море самого веселого своего, бирюзового цвета. И лишь там, где падает и бежит тень от бортов и надстроек парома, воды фиолетовы и кажутся глубин и холодов необыкновенных…
2. Пешком из-под стола
ТАКАЯ РАССУДИТЕЛЬНАЯ ДЕВОЧКА
Батька ее как-то уж совсем неожиданно стремительно напился. И мы с Асей остались один на один.
Она сделала обход отцова тела.
— Ну, теперь тебя бесполезно воспитывать, а вообще-то стоило бы. И не думай возражать. Я же не возражаю, когда ты меня воспитываешь, когда трезвый. Хоть и не всегда правильно воспитываешь, я же молчу.
Она похаживала по комнате, заложив ручки за спину, и так складно излагала, что я прямо заслушался. И тогда она взялась за меня:
— Ну а ты что смотришь? Тоже ведь выпил. А ведь сам сивучей приехал смотреть, а сам выпил. Ну что мне с вами делать?
Она с минуту маршировала молча, изредка поглядывая на свое отражение в зеркальной дверце книжного шкафа.
— Значит так, — сказала она, остановившись и критически осмотрев спящего отца. — Пойдем смотреть сивучей. Я иду переодеваться. В мою комнату не заходить.
И ушла к себе, закрыв плотно за собой дверь.
А лет ей в ту пору было что-то около шести. Но из подъезда мы вышли солидной парой. Она прихватила сумочку, очень симпатичную дамскую сумочку, позаимствованную, очевидно, из гардероба матери.
— Познакомься с моими подругами, — сказала она, подведя меня к песочнице, где возилась малышня. — Лена, Катя, Таня.
— Здравствуйте, Лена, Катя, Таня, — сказал я.
Лена, Катя, Таня зашмыгали носами и засмущались.
— Ну, играйте, девочки, — сказала Ася. — А нам некогда. Мы идем смотреть сивучей. Давай руку.
Я послушно подал руку, и мы пошли.
Мы пошли по грязному весеннему Невельску среди сопок, пошли к морю, туда, где на старый разрушенный, оставшийся еще от японцев брекватер, каждую весну зачем-то приходят ненадолго сивучи, они видны с берега темными, плавно покачивающимися силуэтами, их много, они похожи на встревоженных, сбившихся в стадо коров, над городом, перекрывая шум автомобилей, стоит их натужный рев…
Желающие посмотреть сивучей поближе садятся на пароходик и подходят к брекватеру, но не очень близко, чтобы не спугнуть сивучей, а то они никогда больше не придут сюда, и это будет большая потеря для науки, которая не знает, зачем они приходят сюда каждую весну…
Ася жутко расстроилась, вымазав свои нарядные сапожки. Она даже расплакалась. Я пытался вымыть ей обувку морской водой, но кажется, вдобавок, намочил ей ноги. Она уж совсем разрыдалась. Я отошел в сторону, не зная, что делать, и закурил. И пока я курил, она плакала. Плакала беззвучно, не очень-то красиво кривя рот и прижимая к груди обеими руками сумочку. С моря тянул свежий, полный запахов морской капусты и рыбы ветер. Солнце рассыпалось по волнам.
Ася открыла сумочку и, всхлипывая, достала маленький желтенький бинокль. Бинокль был игрушечный, ни черта он не приближал, даже еще хуже было видно. Но мы по очереди смотрели в него на сивучей, и я ощущал на веках влагу ее слез, впрочем, почти уже высохших.
Мы еще побродили по берегу, собирая ракушки для игры в крепость. Ася здорово рассказывала про крепость, которую мы сложим из ракушек. И еще рассказала пару мультиков. Она с утра до ночи смотрит телевизор, потому что не ходит в детский сад, потому что родители ничего не успевают, а вот отвели бы в детский сад и успевали, но им же некогда отвести…
— Ну вот, я замерзла и, наверное, простужусь, догулялись, — сказала она осуждающе.
И мы пошли домой, а лапа у нее действительно была холоднющая, а варежки мы не взяли. И я попеременно грел ее ладони в моих.
А батька ее уже перебрался из кресла, где мы его недвижным оставили, на диван. Но все равно спал, а рядом стояла пустая бутылка из-под пива, хотя где он его взял, ума не приложу — я ведь перед уходом заглядывал в холодильник, пусто там было.
Ася ушла переодеваться, не забыв закрыть за собой дверь в комнату. Вскоре вернулась и развесила на батарее промокшее бельишко. Мы немного поиграли в крепость из ракушек. Потом Ася стала ходить по комнате, раскачиваясь, как сивуч и подражая их реву. Весьма похоже подражая. И даже поревела по-сивучьи на ухо отцу. Тот повернулся к стене и продолжал спать. Тогда Ася тихонько потянула его за ухо и строго сказала:
— Мы еще наслушаемся твоего молчания.
ЖАРЕНЫЕ АНАНАСЫ
Раз в год, приберегая это событие к отпуску, мой милый и незлобивый Петров взрывался. И тогда он садился в поезд, где столько чужих глаз, что сам себе становишься интересен, и отправлялся в крохотный городишко в центре России. А короче — на родину. Там и дочка его жила.
Под стук колес да под бесконечные леса-поля за окном думалось Петрову примерно так: «Надо же, маленький городок. Даже дождем его не успевает промочить, так быстро Земля его под тучами проносит… А в нем — где и место нашлось? — дочка. Маленькая. Вся-то с мое сердце…».
А еще думалось Петрову беспокойно, что не был он на родине лет двести. Или около того. И как там теперь?
На самом же деле прошел всего лишь год с последнего его визита. Да те километры, что между Петровым и дочкой, приплюсовать. Вот и получится двести лет. Одна из тех маленьких неправд, что были так любезны его сердцу.
Поезд, как и обещало расписание, доставил его в положенное время и место, освободился от Петрова и, облегченно отдуваясь, двинулся дальше, везя остальных.
Только на привокзальной площади Петров позволил себе увидеть, что городок все же чуть побольше, чем помещавшийся в памяти. Но иначе Петрову было бы трудно любить его целиком.
И все так же на привокзальной площади пахло свежим и теплым хлебом из соседней булочной.
— Ну что, город-городишко, — сказал Петров, глядя на шустрых воробьев, ловко орудующих среди чопорных, с городской пропиской, голубей. — Помнится мне, ты довольно снисходительно посматривал на Петрова-мальчугана, а мои шестнадцать лет внушали тебе подозрения, не так ли? Как это нет?! Я прекрасно помню, как ты дрожал за свои стекла и оберегал своих непорочных дев… Вспомнил? То-то. Ну и ладно. Кто старое помянет…
Несмотря на столь обнадеживающее начало, мест в гостинице не оказалось, а идти сразу к дочке, не осмотревшись в городке, основательному Петрову не хотелось.
— Вы ведь не в командировку? — спросила из-за стойки женщина, усталая от долгой такой работы.
— Нет, — сказал Петров. И почему-то решив, что он очень ловок в обращении с женщинами, спросил: — А мы не могли вместе учиться?
Женщина привычно ничего не ответила. Должно быть, смутилась, как лестно подумал про себя Петров. И в результате оказался сидящим в скверике у гостиницы, в обществе юного гипсового горниста, горн которого был отбит у самых губ.
— Должно быть, фальшивил, брат, — рассудил Петров.
А вообще, хорошее настроение никогда его не покидало. Даже если что-то и случалось, ему достаточно было призвать на помощь всего лишь каплю воображения или негромко, почти про себя засвистеть что-нибудь, например: «Не пробуждай воспоминаний…». И все.
— А и то сказать, — продолжил Петров, — о чем тут трубить? Взял бы я тебя с собой в тайгу… Вот там, брат, совсем другое дело. Ну совсем другое. Труби, сколько душа пожелает. Деревьев много, а под ними зверья и птицы пока не перевелось. Найдется и для твоих звуков место. И никому не помешаешь. Больше того — станешь будить рано, только спасибо скажут. Правда! И места у нас — краше не бывает. Сам посуди: даже солнце оттуда восходит — это что, шутки? Правда, — добавил Петров, понизив голос, последнее время его, солнце, приходится долго уговаривать. Оно капризничает, не хочет подниматься… Не совсем, признаюсь, приятное зрелище… Приходится всем народом наваливаться. А так все хорошо. Так что подумай, а я пока — по делам.
И те оставшиеся от двухсот километров несколько сот метров, что отделяют его от дочки, он проходит чуть ли не за час, отвлекаясь на все и вся.
Дверь открывает бывшая жена и спокойно, словно они расстались только вчера, говорит:
— Привет. Заходи.
Пока Петров заходит, он вспоминает, что жена его никогда и ничему не удивлялась. Это всегда ставило Петрова в тупик. Жить в тупике ему не нравилось. Поэтому они и разошлись. С тупиком и женой. А не потому, скажем, что он был жадный или злой, или пьяница.
В прихожей, а потом в комнате настает для Петрова время дочки.
Каждый раз, прежде, чем обняться, они минут пять корчат друг другу рожи. Ничего себе, веселые рожи. Потом уже Петров говорит:
— Ну, здорово что ли, сосиска.
— Сам сосиска, — не сдается Танек.
— Это почему же я сосиска? — удивляется он.
— А я почему? — изумлена она.
— Потому что ты маленькая, толстенькая и глупенькая, — сделав жалостливое лицо, поясняет он.
— А ты длинный, худой и… тоже, — отвечает она, делая шаг назад.
— Что-о? — грозно хмурит брови Петров.
И дочка, все еще маленькая, несмотря на долгие разлуки, уже готова хохотать, кричать, бегать. Но в комнату из кухни заглядывает бывшая жена и пресекает буйство:
— Значит так. Ты, любвеобильный отец, и ты, двуногая чума, пока жарится картошка…
Петров в это время видит перед собой только одноногую «чуму». Вторая нога у «сосиски» поднята и еще не знает, бежать ей или нет.
— … идете гулять, но не далеко, а то вас не докричишься.
И они идут. Прогулка, понятно, начинается с захода в магазин, где закупается масса веселой и яркой чепухи. Затем они нагруженные возвращаются во двор, где Танек начинает возню в Песке, а Петров заманивает очередную мысль.
— Ты вот что мне объясни, — призывает Петров дочку. — Почему, когда я был такой же, как и ты, по возрасту, то и для меня возня в песке была непустяшным занятием… А теперь, при всем моем уважении к тебе, я не могу вспомнить и понять, что же там такого, в этом песке, было важного? Молчишь? Вот и получается, что память не все нам сохраняет из детства. А почему?
— Зовут, — отвечает Танек, показывая на окно, в котором призывно семафорит руками бывшая жена.
— Ладно, пошли. Пообщаемся все вместе, за столом. Тоже дело нужное…
— Письма регулярно получаешь? — спрашивает Петров, когда они с Таньком, помыв руки, сидят за столом.
— Угу, — говорит Танек с набитым ртом.
— А что толку, — вмешивается бывшая жена. — Читать-то все равно не умеет.
— Скоро научится, — убежденно говорит Петров. — Главное: по порядку письма складывать. А потом точно так же и прочитать. Ничего и не изменится. Просто можно считать, что шли с большим опозданием. Бывает…
— Я складываю, — говорит Танек.
И они продолжают работать вилками. Кроме бывшей жены, которая начинает обычное:
— Ты лучше скажи, когда вернешься? Совсем вернешься?
— А сколько у нас еще впереди?
— Чего впереди?
— Ну, лет жизни…
— Господи! Да откуда же я знаю? Ну, тридцать, допустим… Хватит?
— Так куда же мне торопиться? — резонно, как ему кажется, отвечает Петров.
— Так, — говорит бывшая жена, откладывая вилку и начиная мять в руках салфетку. — Хорошо. Теперь скажи, как, по-твоему, что ты сейчас ешь?
— Как что? — говорит Петров, всматриваясь в тарелку. — Сама же говорила — картошка.
— Угу. Картошка. А если бы я сказала — моченые грабли? Тоже бы поверил? И так же уплетал, не задумываясь?
— При чем тут грабли? Ведь вкусно же. Как, Танек?
— Во! — говорит Танек.
— Так вот слушай, — говорит бывшая жена. — Это — жареные ананасы. Специально для тебя, Петров. Ты ведь любишь, чтобы все не как у людей… Ведь любишь?
Только что приступивший к удивлению Петров вдруг понимает, что сейчас начнутся слезы. Этого он терпеть не может. Переглянувшись с Таньком, поднимается из-за стола.
— Ну… я пошел, что ли? — говорит он. — Проводишь, Танек?
— Ага, до двери, — говорит Танек, посмотрев на мать и сползая со стула.
В коридоре Петров целует дочку в лоб, вспоминая, что надо говорить в таких случаях.
— А… Вот вспомнил… Маму слушайся, — произносит он назидательно.
И еще кричит в комнату бывшей жене:
— Ушел!
А потом, пока спускается по лестнице и выходит во дворе, и пока добирается до сквера, к горнисту, все думает и бормочет под нос:
— Ананасы… Вроде бы видел когда-то. Не наш продукт, понятно, а где тепло… Много солнца, голопузых негритят и ананасов. Вот бы нам с дочкой там поселиться. То-то б славно зажили… А там, глядишь, и эту выписали. Может, понравилось бы ей?
Это не забывает он и жену.
ПОГРАНИЧНЫЙ ВОЗРАСТ
Это случилось в незапамятные времена, когда между страной детей и временем взрослых проходила граница. Граница, как ей и положено, держалась на замке. Попробуй, сунься.
Но редко кто совался. Своих дел было по макушку. У взрослых — по взрослую макушку. У детей — соответственно.
Во взрослом времени ракеты запускались в космос, крейсеры спускались на воду. Перегораживались могучие реки и осваивались новые земли. Отмечались памятные даты и говорились речи. Называлось «юбилей». Обо всем, что делалось во взрослом времени — о ракетах, крейсерах, «юбилеях» и т. д. (см. выше) — желающие узнавали из газет.
О том, что делалось в стране детей, достоверных известий не сохранялось. Газеты там отсутствовали. И о важнейших событиях упоминалось вкратце — на заборе. А все, что требовалось сказать — говорилось двум-трем самым близким друзьям. И называлось это «секрет».
Но предполагалось, что во времени детей тоже не скучают…
В одном месте граница проходила прямо по двору жилого пятиэтажного дома. Во дворе, за границей жили Стасик и Рожков. В доме — взрослый Еремичев.
Взрослый Еремичев после работы, на которой он запускал ракеты, перегораживал реки и т. д. (см. выше), приходил домой и садился у окна посмотреть, что там, за границей делается.
За границей в этот день Стасик и Рожков катались на санках. Вернее, катался Рожков. А Стасик таскал его. Кряхтел и таскал. Кряхтел Стасик оттого, что Рожков был толстый, а дело происходило летом. Потаскай тут закряхтишь.
Взрослый Еремичев не одобрил такое катание. Во-первых: глупо. Во-вторых: уж больно противный скрежет по асфальту.
— Эй, — прокричал взрослый Еремичев, — пустяшным делом занимаетесь. Вы бы лучше как у нас: ракеты запускали, речи говорили и т. д. (см. выше).
С той стороны границы ничего не ответили. То ли не услышали из-за скрежета, то ли побоялись провокаций.
— Я говорю, — вновь зазвучал взрослый Еремичев, улучив момент, когда Стасик остановился перевести дух, — понапрасну силы расходуете. Смысл-то какой?
— А где же нам тогда трясучку взять? — ответил Стасик.
Пухленький Рожков ничего не ответил. Сидел в санках и неподвижно таращился перед собой.
— Бред какой-то, — пробормотал Еремичев. — Что еще за трясучка? прокричал он.
— А, — махнул рукой Стасик. — Скоро узнаете.
И точно. Не успел Еремичев поужинать, только взялся за чашку с горячим чаем, дом мелко затрясся. Затряслось и все содержимое дома… Чайная ложка лихо отплясывала в блюдце.
Еремичев подхватил лязгающую нижнюю челюсть и кинулся к окну.
— П-п-пре-кратите! — отправил он ноту протеста за границу.
Там, за границей, из канализационного люка, как танкисты после тяжелого боя, устало выбирались Стасик и Рожков.
Дом облегченно застыл.
— Радиус действия слишком большой, — сказал Стасик, помогая неуклюжему Рожкову. — И налицо расфокусировка. Слабо поправить?
— Пять минут на санках, — отвечал Рожков.
— Хм… Пять минут, — покачал черной кучерявой головой Стасик. Думаешь так просто…
— А мне легко? — возразил Рожков.
— Ну ладно…
Заскрежетали полозья. Через пять минут смолкли.
— Эй, зачем вам эта штука? — крикнул Еремичев.
— Как зачем? — утирая пот со лба, ответил Стасик. — Вот ляжем, к примеру, мы под яблоню. Включим трясучку. И яблоки сами к нам попадают. Очень удобно.
— А при чем тут санки? — не отставал Еремичев.
— Я не знаю, — ответил Стасик. — Это вот все он, толстый. Когда его таскаешь на санках по асфальту, он чего-нибудь изобретает.
— А что он еще может изобрести кроме этой… дурацкой трясучки? настаивал Еремичев.
— Не знаю я, — ответил Стасик. — Все, наверное.
— Ну так уж и все, — насмешливо не поверил Еремичев.
— Не верите? — уточнил Стасик.
— Верю, не верю… Доказательства нужны, — сказал Еремичев, у которого во взрослом времени обещаниям и заверениям давно не верили. Доказательства.
— Хорошо, — начал горячиться Стасик. — Пожалуйста. Чего хотите?
Рожков безучастно молчал, будто происходящее его никак не касалось.
— Ну хорошо, — хитро прищурился Еремичев. — Коли вы считаете, что для вас там, за границей, проблем нет, изобретите мне… Ну, хоть бы… Сейчас!
Ради такого случая Еремичев спустился во двор и подошел к границе. В руках он держал палку. Пошутить он решил. Ведь для шуток во взрослом времени времени почти не оставалось. Поэтому Еремичев постарался не упустить удобного случая.
— Вот, — сказал он, останавливаясь перед границей и вынимая из палки чертежи. — Мы сейчас готовим к запуску ракету. С людьми, между прочим. Если бы без людей — тогда еще полбеды… А вот с людьми… Как двигатель выходит на режим, такая вибрация, что люди-то и не выдерживают. Прямо как ваша трясучка. Собаки выдерживают и обезьяны. Механизмы выдерживают. А люди нет. Ни в какую. Не желают выдерживать. В чем тут дело? А?
И Еремичев хитро прищурился.
Стасик толкнул флегматичного Рожкова.
— Слышь? Как? Сможешь?
— Неохота, — сонно сказал Рожков.
— Это как же понимать? — поинтересовался Еремичев. — А если бы была охота? Неужели бы сделали?
— Вообще-то, я думаю, ему это пара пустяков, — подумав, сказал Стасик. — Только его надо заинтересовать.
— Ага. Стимул, — сообразил Еремичев, так как именно это слово чаще всего употреблялось во времени взрослых. — А чего же он хочет?
— Мороженое, наверно, — сказал Стасик. — У нас его не производят, в нашем мире. А он его любит.
— Так значит мороженого?
— Ага, — вдруг оживился Рожков.
— А чего же вы его не изобретете? — засмеялся Еремичев. — Вы же все можете.
— А зачем его изобретать? — удивился Стасик. — Оно же давно изобретено.
— Ну ладно, — сказал Еремичев. — Сколько пачек?
— Десять! — сказал Рожков. — Заболеете, — сказал Еремичев. — Небось, лекарств в вашей стране тоже нет? В общем, по две на брата. И все. Торг окончен.
— Ладно, — сказал Рожков, еще раз глянув на чертеж. — Поехали.
Стасик взялся за веревку.
— А без этого никак? — Еремичев указал на санки. — Уж больно того… Шумно!
— Нельзя, — сказал Стасик. — Мы уж по всякому пробовали. Только так и получается. Иначе ему ничего в башку не приходит.
И он с отвращением посмотрел на санки.
— Ну, валяйте, — сказал Еремичев. — Только без трясучки.
И пошел домой. Сзади послышался скрежет. Когда заново разогрел чайник и налил себе свежего чайку, дом опять задрожал. Еремичев бросился к окну.
— Что? Оп-пять трясучка? — заорал он.
Дрожание прекратилось.
— Это мы чтобы вызвать вас, — нахально крикнул в ответ Стасик. Спускайтесь. Готово.
— Как готово? Что готово?
— Что заказывали, — пожал плечами Стасик. — Где мороженое?
Еремичев бросился во двор. Бросился, сильно не веря. Во времени взрослых ничего быстро не делалось, а если и делалось, то называлось «халтура». Честное слово, существовало такое слово.
А мальчишки показали ему чертеж. Не очень-то умело нарисованный… Но…
— Э, — сказал Стасик, пряча бумагу за спину. — А мороженое? Забыли?
— Да… Сейчас, — сказал Еремичев, потоптался на месте и поспешил за угол, к киоску.
— Сейчас получишь свое мороженое. Заработал, — сказал Стасик.
Рожков помолчал с минуту, о чем-то размышляя. Затем сказал:
— Слушай, а зачем ему эта штука?
— Какая? — спросил Стасик, выжидательно поглядывая на угол дома.
— Ну, которую мы сейчас нарисовали?
— Как зачем? Он же сказал: для ракеты.
— Это понятно, — не унимался Рожков. — А зачем ему ракета?
— А кто его знает… В космос летать.
— А зачем…
— Да что ты ко мне пристал! — рассердился Стасик. — Зачем, зачем! Я знаю? У них так положено. А если очень интересно — спроси сам!
Еремичев возвращался бегом. Один из брикетов оказался подтаявшим, с обертки капало. Несколько капель попали на брюки. Любой бы взрослый на месте Еремичева расстроился. Но этот взрослый был сейчас занят только одной мыслью.
— Вот так пошутил, — бормотал он на бегу. — Вот так пошутил.
Получив желаемое на границе, обе стороны занялись своими делами. Мальчишки устроились рядышком на санках и принялись за мороженое.
Еремичев скрылся в глубинах своего времени, где и закипела Срочная работа.
И прошел год. Но во взрослом времени. В стране детей этот срок мог оказаться и иным. Время там измерялось не очень регулярно. От случая к случаю — отметкой на дверном косяке, ровно над чьей-нибудь вихрастой макушкой.
А во взрослом времени взлетела ракета. С людьми, между прочим. К далеким звездам. Надолго улетели. О чем и написали в газетах, и чему посвятили очередные речи.
Когда речи отгремели, Еремичев вспомнил о ребятах. Потому что во времени взрослых появилась очередная затея. Вновь связанная с запуском ракеты. Но такой ракеты, чтобы могла вылететь за пределы Галактики и вернуться! Совсем уж какая-то особенно грандиозная ракета. С людьми, между прочим. Вот поэтому-то Еремичев и вспомнил о ребятах.
Вспомнив о них, он подошел к окну и поглядел за границу. Стасик и Рожков сидели почти там же, где прошлый раз оставил их Еремичев. Сидели они на санках, и Стасик горячо в чем-то убеждал сонного по обыкновению Рожкова.
— Эй, — опять не очень-то вежливо окликнул их из своего времени Еремичев. — О чем дебаты? Хотите мороженого?
— Кто же не хочет? — резонно ответил Стасик.
И даже Рожков оживился.
— Сейчас угощу.
Еремичев сходил в тот же самый киоск, купил пару пачек пломбира.
— Это вам аванс, — сказал он, протягивая пачки через границу. — И будет еще, если поможете мне.
— Только никаких ракет, — сразу предупредил Стасик.
— Почему? — удивился Еремичев. — Чудаки, это же интересно.
— Может быть, — не стал спорить Стасик и поймал языком сорвавшуюся с краешка брикета каплю. — Только этот толстый уже не может изобретать никакой техники.
— Это правда? — спросил Еремичев у Рожкова.
— Ага, — безмятежно отозвался тот, поглощенный поеданием пломбира.
Еремичев вдруг чего-то заволновался, как делали все во времени взрослых, когда чего-нибудь не понимали.
— Ребята, — сказал он, — вы не думайте… Если там мороженое или жевательная резинка… так за этим дело не станет. Можно и посущественное придумать награду…
— Да нет, — сказал Стасик. — Дело не в этом. Нам не жалко. Просто возраст такой. Мы же растем. Вон у него голос ломается.
— При чем тут голос? — удивился Еремичев.
— Не знаю. Только все. Никакой техники.
— Жаль, — от души подосадовал Еремичев. — Ну ладно. Будьте здоровы.
И глубоко задумавшись, навсегда удалился в свое взрослое время.
— И все же я не пойму, — сказал Рожков, облизывая пальцы правой руки. — На что им эта ракета?
— Да я тебе уже сто раз объяснял, — сказал Стасик. — В космос летать, чего тут непонятного?
— Это-то я как раз понимаю, — сказал Рожков, на всякий случай облизав и пальцы левой руки. — А вот что им в космосе надо?
— Ну, как что? Ну… Может, с инопланетянами хотят встретиться, с братьями по разуму…
— Но ракета-то зачем? — сказал Рожков, вытирая облизанные пальцы о штаны.
— Слушай, отстань, а? — жалобно сказал Стасик. — Ну откуда я знаю? А если интересно, спроси у этих, с Альдебарана. Кстати, когда они тебя на связь вызывают?
— Да пора уж, наверно, впрягайся.
— Ох, — тяжело вздохнул Стасик, берясь за веревку от санок. — Ты знаешь что, спроси, нет ли у них мороженого, а? Жарища сегодня, не могу…
— Ладно. Трогай, — скомандовал Рожков, поудобнее устраиваясь на санках.
Над двором разнесся скрежет полозьев. Скрежет заполнял двор и выползал на улицу. Ни асфальт, ни полозья ничего не знали о границе.
БА-БАХ!
Ветеран Петров сидит на скамейке у подъезда и заслуженно отдыхает.
У пацанов же — летние каникулы. Пацаны в это утро бабахают пистонами. Кладут их на бордюр, а сверху камнем — ба-бах! Или молотком — ба-бах!
— Уау! — вопят пацаны, когда особенно громко бабахает. — Полная Америка!
— Америка, — досадует ветеран Петров. — Далась им эта Америка…
Ба-бах!
Проходит мимо капитан-танкист, даже глазом не моргнет.
— Молодец, — отмечает ветеран Петров. — Чувствуется выучка.
— Ма! — вопит белобрысый пацан в замызганных зеленью светлых шортиках. — Скинь еще патронов!
— Хватит, — сердито отзывается мать из окна на третьем этаже. — Весь двор и так уже осатанел от вас.
— Ма, ну скинь!
— На фронте тоже мамку будет просить, — не одобряет ветеран Петров.
Весь тротуар вдоль дома усеян бумажной шелухой пистонов.
— А человек утром подметал, — огорчается ветеран Петров.
Ба-бах! Голосит над двором встревоженное воронье.
— Пистолет-револьвер-кольт-ТТ-системы Макарова! — орут пацаны.
— И чего городят, — досадует ветеран Петров. — Чему их только в школе учат?
Ба-бах!
— Мафия бессмертна! — орут пацаны.
— Ох, вырастут рэкетирами, — обмирает ветеран Петров.
— Деда, когда пистолет мне купишь? Обещал ведь, — пристает к нему белобрысый внук.
— Мне вон тоже… пенсию повысить обещают, — устало отмахивается Петров.
— Ужинать, — зовет хозяйка и старого, и малого.
И тот, и другой не сразу и ворча покидают двор. И вскоре тишина и тьма за окнами. Ночь наступает. А в Америке наверно — день.
СМЯТЕНИЕ
— Перестань вертеться на стуле. Не слышишь, как он скрипит под тобой, как жалуется? Послушай. Слышишь? Теперь, дальше. Вот ты палишь спички почем зря…
— Я не палю.
— Ложь. Стыжусь за тебя, поскольку ты сам, к сожалению, этому еще не научился. Относительно же спичек. Спички, к твоему сведению, делают из дерева. Верно?
— Наверно.
— Рифмуешь? Похвально. Но это тема для другой беседы. А сейчас — о дереве. Твои же сомнения, выраженные словом «наверно», я объясняю тем, что дерево ты воспринимаешь абстрактно. Как глину, пластмассу… или воду. Как вещество. Как материал. Как средство. На самом же деле спички делают из конкретного дерева. Дуб, осина… Впрочем, чаще — осина, весьма специфическое по символике дерево…
— Яблоня, вишня… Когда же мы к бабушке поедем?
— Отрадно, что ты отзывчив на развитие чужой идеи. Но бабушка здесь не при чем. Хотя, может быть, именно ее воздействие… Но не об этом речь. Итак. Что касается яблони и вишни, то ты, что называется, хватил. А дерево, конкретное дерево, имеет отличительные для каждой породы корни, ствол, крону. И ты, своими бездумными поступками, способствуешь уничтожению того, что отпущено нам Природой в весьма ограниченном количестве.
— Но они так красиво горят!
— Не перебивай, пожалуйста, привыкай слушать, прежде, чем возражать. Это, во-первых. А во-вторых, я сейчас рассматриваю вопрос этики. Проблемы же эстетические мы, с твоего позволения, перенесем на повестку дня следующей беседы. Сейчас я помечу эту тему. А ты пока подумай о твоем отношении к подаренным тебе карандашам. Посмотри, на что они похожи. Все в пластилине.
— Я строил дом. Они как бревнышки.
— Карандаши, и ты должен это ясно понимать, тоже делаются из дерева. Кедра…
— Секвойи…
— Ого, смотри-ка, круг твоих познаний весьма обширен.
— Она такая здоровущая!
— Количественные параметры не всегда являются решающими при создании того или иного предмета. Но, кстати, и о количественных оценках. Представь теперь себе, сколько спичек ты сжег за свою жизнь. Представил? Нет? Ну, хотя бы за год?
— Не знаю. Много. Год — это много.
— Вот. Считай, что целое дерево ты взял и пустил на бездумную потеху. Целое дерево, вырвал с корнем и пустил по ветру. За просто так. За здорово живешь.
— Но ты тоже жгешь спички!
— Не «жгешь», а жжешь. Будь добр, не поленись, повтори.
— Ну, жжешь… Но…
— Объясняю. Да, я вынужден это делать. Но с полным осознанием трагической необходимости данного процесса. Ты же — просто хулиганишь. Есть разница?
— Для спичек — нет.
— Бога ради, оставь только эту бесплодную софистику. Право, люди, заботящиеся о твоем становлении как личности, заслуживают большего внимания и уважения с твоей стороны.
х х х
С тех самых пор, когда его решились оставлять дома одного, кухня манила и таки заманивала. Именно там в основном и происходили странные события с вещами, оставшимися без взрослого присмотра. Вдруг перегорала лампочка в люстре, вдруг убегала вода из раковины, вдруг разбивалась чашка… Оправдываться потом, вечером, было бессмысленно — в существование заговора никто не верил.
Но спички… Спички оставались тайной из тайн…
Еще борясь с искушением, которое никогда не исчезало, лишь временно прячась, он осторожно взял коробок. Этикетка была засижена мелкими цифрами и буквами. А может быть, в них прятались заклинания против огня.
Затем он сжал коробок в потной ловушечке кулака, ощущая хрупкие картонные ребра и бархатистость боковых стенок (красный фосфор, сульфид сурьмы, костный клей). В какую стороны выдвинется спичечная колыбелька? Вот бы в ту, где покойно прижавшись другу к другу шоколадно поблескивают головки (бертоллетова соль, клей, сера). На слух не определялось. И больше не размышляя, он открыл. И потянул спичку, попавшуюся между скребущим указательным и всегда готовым на подхват большим.
Внимательно осмотрев спичку, он так и не установил, где у дерева (конкретного дерева) обитал этот кусочек древесины — у корней или у кроны? А огонек в полумраке ладони уже слабо и трепетно перебирался вверх по глянцевой желтизне, гоня перед собою крошечную волну влаги и постепенно вытягиваясь в зазубренный раскаленный клинок, вгрызающийся в спичку до черноты.
С отчаянием последнего солдата, забывшего о возможности отступить, он сунул разбушевавшийся крошечный пожар прямо в коробочку.
Чад ударил в глаза и нос. Он зажмурился. Огонь опалил руку. Он бросил коробок на пол.
Затаптывая упругое, упорно дымящееся картонное тельце, он еще успел подумать, что на полу останутся-таки следы дерзкого непослушания.
И в этот моменты стены дома, крепкого кирпичного дома заныли и загудели, временами заглушая дребезжание стекол. И за этими стеклами пролетели, одно за другим, два вырванных с корнем дерева (без названий)…
Это был отголосок знаменитого своими разрушениями урагана 1972 года.
ОПАЛЬНЫЙ «ДРАКОН» И МЕЛКИЙ СОБСТВЕННИК
Все это не шибко историческое событие происходит в приморском городке, прикрытом от морозов теплым дыханием моря. Происходит после лихого снежного заряда, когда ветер еще мечется, как потерянный между домами, а собаки, пользуясь моментом, аккуратно усаживаются на перекрестках и, смакуя, отлавливают мокрыми носами проносящиеся запахи.
Боцман Черкашин, одетый соответственно, идет из бани. Он идет мимо снежной горы, где дети играют в различные виды взрослых, поднимается по недлинному трапику к стандартному четырехэтажному дому, краска на котором съедается солеными ветрами за какой-нибудь месяц. Боцман думает об общежитии, о сытном обеде, о своем пароходе, штормующем сейчас в районе мыса Крильон. Вот тут-то боцмана и подстерегают.
Невеликий такой парнишка, лет пяти-шести, обгоняет Черкашина, разворачивается и плюхается ему прямо под ноги.
— Аккуратнее, брат, — говорит боцман, поднимая пацана. — Так и уши оттопчут.
И следует дальше, прибавив к мыслям об общежитии, сытном обеде, штормующем пароходе и мысль о занятной ребятне. Но боцмана продолжают подстерегать. Этот же мальчишка. С теми же трюками и шлепаньем под ноги. Черкашин озадачен. И потому спрашивает не очень уверенно:
— Тебе может, того… надо чего?
— Не чего, а кого. Отца ему надо, — слышит он женский голос.
Пока моряк определяется со сторонами света, хлопает подъездная дверь, и на крыльце появляется молодая женщина. В халатике, прихваченном одной рукой на груди, другой — у подола. В тапочках на босу ногу.
Женщина не накрашена, и Черкашин не может определить — симпатичная она или нет.
Отца ему надо, — повторяет женщина. — А мне не надо мужа.
— То есть, муж мне — во, показывает женщина на горло, на мгновение отпустив халатик на груди.
— И что тут делать, а? — спрашивает также она. Черкашин молчит, продолжая машинально отряхивать притихшего мальчугана. Но притихшего ненадолго.
— Ну и будь моим папкой. Чего тебе? — спрашивает пацан снизу.
— Вы кто по профессии? — деловито интересуется женщина.
Черкашин лаконично отвечает.
— А-а, дракон, — говорит женщина бесстрастно, демонстрируя знакомство с морским слэнгом. И уже обращаясь к сыну, добавляет: — Пойдем обедать, что ли, мелкий собственник?
И Черкашин продолжает путь свой из бани, прибавляя к мыслям об общежитии, сытном обеде, штормующем пароходе, занятных пацанах и мысль о женщинах без мужей.
Сам-то боцман уже дважды разведен — работа такая. И последний развод, как Черкашину начинает казаться, он пережил именно с этой женщиной. Ну и хватит наверно с меня, — также думает он.
ГОЛОСА НАД РЕКОЙ
Время послеполуденное, знойное. Непрестанно жужжат мухи, шалея от затянувшегося августовского тепла. Пищат стрижи. В гулком небе, высоко-высоко, так, что кажется, оттуда видна вся земля, гудит невидимый самолет.
В ухоженном палисаднике дачи Крыловых, уже уехавших после летних отпусков в Москву, под тенистой сиренью, за вбитым в землю столом, устроилась оставшаяся еще в деревне дачная детвора. Накрывают две девочки постарше, лет десяти. Светленькая Катерина, постарше и потоньше, распоряжается:
— Что же это у детей руки не мыты? Ну-ка марш из-за стола! С такими руками за еду! Даша, куда же ты смотришь? Ты же отец!
Даша темненькая, полная. Она часто простужается, и даже в этот жаркий день ее заставили надеть плотное платье с длинными рукавами и закрытым горлом. Отцом ей быть не нравится, и она частенько забывает о своей роли.
— Раз ты мать, значит и мой им руки, — сердито отвечает она.
— Ну, все я должна делать! Все на мне! — возмущенно всплескивает руками Катерина.
У нее уже формируется девичья фигурка. Девочка знает об этом и носит обтягивающие майки и шорты. Даша посматривает на нее с грустью и завистью.
Из-за реки доносится мычанье, фырканье и постукивание множества копыт по закаменевшей земле.
— Куда пошла, так твою разэтак! Дорогу забыла! — надсадно ревет на всю округу пастух Трусов, щелкая кнутовищем. Звуки разносятся далеко, отчетливо. — У, сучья дочь!
— Угается, — восхищенно-танственно сообщает трехлетняя Настенка.
— Конечно, ругается, — рассудительно говорит Катерина. — Не слушаются коровки, вот он и ругается. Слушаться надо, вот и не будут ругаться.
Она уже минут десять тщательно вытирает стол. Время от времени запястьем поправляет якобы непослушные волосы, аккуратно собранные сзади в тугой пучок.
— Вот вы как сидите за столом? Извертелись все, изломались. А надо сложить руки и ждать спокойно, пока накроют.
Настенка послушно складывает на краю стола ладошки рядышком.
— А ты, Дрюня? Особого приглашения ждешь?
Белобрысый Андрюшка с дальнего конца деревни мрачно размышляет, недовольный девчачьим засильем. Затем все же кладет ладони.
— А у вас ружья нету, — говорит он басом. — Как же вы дачу охранять станете?
Старшим девочкам доверено заглядывать на участок Крыловых и проверять, цел ли замок на дверях избы.
— А зачем нам ружье? Если воры придут, мы такой крик поднимем, что все сбегутся. И тетя Нона, и баба Рая. А воры испугаются и убегут.
— Ага, испугаются, — презрительно говорит Андрюшка. — Вот мой дедушка — всех воров застреляет!
— Застреляет, — передразнивает Даша, ставя на стол игрушечные чашки. Все бы вам, мужчинам, стрелять.
— Ну вот, все из-за вас! — плачущим голосом сообщает Катерина, опрокинув своей неутомимой тряпочкой вазочку с любовно подобранным букетом.
Настенка, широко раскрыв глаза, смотрит, как в луже на столе барахтается свалившийся с ветки жук с изумрудными крылышками.
Андрюшка, стряхивая капли воды с трусиков, выскакивает из-за стола.
— Да ну вас с вашим чаем, — возмущенно восклицает он. — Каждый день одно и то же. Я лучше к деду побегу. Он сегодня насос на колодец ставит.
— Ну и пожалуйста, — фыркают девочки.
Андрюшка сбегает по извилистой тропке к родничку на берегу речушки. И резко останавливается. Над водой склонился незнакомец. Весело фыркая, он плещет на плечи и грудь студеную воду. Но вот берет с берега полотенце и поднимает голову.
— Привет, — удивленно говорит незнакомец. — Ты чей такой одуванчик?
Андрюшка, насупившись, молчит.
— Вода тут у вас — просто сказка. Рыбы, наверное, пропасть? спрашивает незнакомец, вытираясь. — Ну а грибы-то есть? Да ты чего такой неразговорчивый? Испугался, что ли?
— Я — зюкинский, — вдруг вполголоса говорит Андрюшка, бочком обходя родник. — И ничего я не испугался. А грибов нету.
И проскочив по камням неширокого брода, пулей летит вверх по косогору. Кто его знает, этого незнакомца, дачник это новый или… вор?!
— Куда прете, мать вашу! Вот же трава! Несет их…, - привычным рефреном разносится рев пастуха. — У, идолы!
— Хорошо-то как, Господи! — бормочет незнакомец, провожая взглядом мелькающую в высоких травах светлую головку. — А грибов, стало быть, нету. Жаль… Н-да, сушь-то вон какая. Природа… Так ее разэтак!
ОБИДА
Еще со вчерашнего дня остался у меня должок. Димка заехал мне по голове ледянкой. Ненарочно, но больно. А пока я ревела, мамка и увела меня домой. Нечего, говорит, зря сопли морозить. Я и не успела этому Димастому отомстить.
Я стояла у окна, глядела на горку и соображала. Замысел вырисовывался примерно такой: толкнуть Любку, чтобы она шмякнулась на Димона. Любка толстая — мало не покажется. К тому же она вчера дразнилась, когда я плакала.
В общих чертах план меня устраивал. Оставалось продумать мелочи. Но тут я почувствовала неладное. На дворе светило солнышко, а в доме нашем зрел черный заговор. Направленный против моей свободы.
Мамка сначала шепталась с отцом. Хотя сама не раз выговаривала мне, что в присутствии посторонних шептаться неприлично. Мало того, она еще позвонила тете Жанне. А это уж совсем скверно. И мне все стало ясно.
— Я согласна, но с условием, — на всякий случай тут же дала я им понять, что козни не пройдут, — что купите мне два мороженых. Клубничное и шоколадное с орехами. И я их съем на улице.
Это я нарочно так сказала. Какие же родители согласятся? Вот я и сказала. А то придумали — в такой день и по музеям!
— Вечно ты со своим мороженым, — сморщилась мамка.
— С каким-таким своим? — возмутилась я. — Нету у меня ничего. Вот если купите, тогда да. А пока и говорить не о чем, — резонно, кажется, возразила я.
— Соображение не лишено логики, — хмыкнул отец.
И подмигнул мне. Он тоже не любитель таких походов. Но только знаю я его, изменщика, мамка уговорит.
— Тебе бы, конечно, пивом лучше надуться. А духовная пища? А долг перед ребенком? — завелась мамка.
Она бы еще долго нам нервы мотала, но тут пришла тетя Жанна.
И они принялись обсуждать эту самую духовную пищу. Ужас какой-то.
Мамка настаивала на искусстве Востока.
Тетя Жанна уверяла, что «похавать культурки» не худо бы на лоне модернизма.
Даже отец и тот нес какую-то чушь о традициях и преемственности поколений.
Не упомнишь всего, что они там городили.
Я смотрела в окно. Каждый раз, когда съезжал с горки Димон, у меня прямо пальцы на ногах поджимались. Вот бы он врезался… Или в него…
А бодяга о духовной пище не прекращалась.
Мамка трелью выводила: «Ре-рих».
Тетя Жана как в барабан долбила: «Кан-дин-ский».
Отец твердо держался питательности русского искусства.
Но тут пришла на горку мать Димастого и повела его домой. Димка упирался и получал по затылку. И было его почему-то жалко.
Лишали нас детства, гады, вот чего, подумала я. Повернулась к этим трем взрослым недоумкам и, может быть в грубоватой форме, но заявила:
— Ну не знаю, чем вы там будете питаться, а я уже сыта.
НЕБОЛЬШОЙ ШАНС
— Дождешься ты у меня, — заверяю я. — Попомни мое слово, дождешься.
— Ну, пойди и сам посмотри, — говорит он. — Что я, обманываю?
Я иду к телефону, отложив газету.
Он, полон возмущения, тащится сзади. Сопит. Ремешки сандалий клацают по паркету.
Я поднимаю телефонную трубку. Гудка там действительно нет. Зато есть щелчки — словно периодически страстно чмокают в ухо. А с утра был гудок.
— Сандали застегни, — говорю я, опуская трубку. Бог с ним, переживем этот день без звонков. — И не шаркай подошвами, не старик еще, кажется.
Он сгибается над застежками, что-то ворча. Что-то вроде: кажется креститься надо. Нахватался уже где-то, поросенок.
— Ну? Как же это телефон дошел до жизни такой? Кто ему помог? Прошу высказываться, — открываю я прения.
Ремешок напрочь отказывается пролезать в металлическую блестящую скобочку, куда он уже пролезал раз двести. Спокойно пролезал. Пока не связался с телефоном с трубочкой набекрень.
— Да прямо вот всегда так! — не выдерживает он и топает ногой. — Как нарочно!
— Как назло! — подхватываю я. — И еще: прямо чудеса! Прямо наваждение! Или: вы просто не поверите!
Указательный палец ползет вдоль носа, возвращается обратно.
— Это называется усы и шпага, — комментирую я.
— Какая шпага? — живо интересуется он, грациозно вытирая палец о штанину.
— Доиграешься ты у меня, — говорю я. — Попомни мое слово, дождешься. Доиграешься и достукаешься.
— Пожевать бы чего, — по-мужицки басит он, цитируя меня, но уже со своей интонацией.
— А ты приготовил? — цитирую я его мать, но уже с моей интонацией.
— Тс-с, — делает он зверскую рожу. — Кто-то попался в капкан!
Мы крадемся в кухню.
Ощипать дичь и поджарить на вертеле — дело одной минуты для опытных следопытов. Тем более, что курица еще с утра оставлена нам на сковороде.
«Пожевав», вяло дискутируем по поводу мытья посуды.
— Чегой-то опять я? — вопрошает он. — Я вчера после завтрака мыл.
— А я вчера — после ужина.
— Я не видел, я уже спал. Так что ничего не знаю.
— Незнание закона не освобождает от ответственности. И вообще, я смотрю, ты мне скоро на шею сядешь.
Он смотрит на мою шею. Потом на грязную посуду. Нехотя сползает со стула… и стремительно скрывается в туалете.
— Даю пять минут! — ору я под дверью. — Учти, ты в доме не один!
— Ой, чего-то у меня с животом, — доносится из кабины задумчивое рассуждение вслух.
И вдобавок — бабушкина уже фраза:
— Боже упаси… Захворает ребенок…
Это уже серьезная заявка на продолжительное дуракаваляние. И пока я собираю со стола посуду, составляю ее в раковину, убираю остатки обеда в холодильник, привычные слова ложатся на мелодию:
— Ты дождешься у меня, ох ты дождешься у меня…
И т. д.
— Фронт работ тебе приготовлен, — кричу я. — Время истекает. Даю отсчет. Раз. Два. Три.
И выключаю свет. Вопящей пулей он вылетает из темноты.
— Милости прошу, — говорю я, перехватывая его и подталкивая в сторону раковины.
Невыносимое шарканье! Я подозреваю, что у раковины он финишировал уже без подошв.
Но я успеваю прочесть лишь пару заметок в газете, как он уже тут как тут. И с дуршлагом на голове. Что это означает, я пока не выясняю. У меня иная цель. И он о ней догадывается. Хотя бы по тому, к а к я откладываю газету.
— Что я, обманываю? — упавшим голосом осведомляется он. И сам же возглавляет шествие в кухню.
Воды, конечно, в кухне по колено. Тарелки, конечно, жирные. Вилки-ложки, конечно, не вытерты. Все эти последствия стихийного бедствия под скромным названием мытье посуды ликвидируем вместе. Молча.
Не знаю, о чем думает он. Я думаю о том, что он дождется. Он вырастет, перестанет удивляться и проникать в тайны, пугаться темноты, выдумывать и сочинять. И все будет узнавать из газет.
И когда ему станет совсем тошно и скучно, он как-нибудь станет отцом. И выскажет своему наследнику все, что слышал от нас. Вот чего он дождется.
— Впрочем, у тебя еще есть шанс, — говорю я. — Ты вот что, брат… Ты не женись, как бы кисло не было. Тогда не дождешься. Понял?
— Женятся только девчонки, — безапелляционно заявляет он, вновь нахлобучивая на уши дуршлаг.
Теперь этот небольшой такой шанс стоит передо мной с железякой на вихрастой макушке. И улыбается весьма снисходительно.
МОЙ ЗНАКОМЫЙ КОМАР
Я просыпаюсь от знакомого зудения.
— Вали, вали отсюда, — говорю я спросонья. — Нечего тут пристраиваться.
Что-то проворчав, он продолжает умащиваться у меня в ногах.
— Пшел вон, — говорю я уже сердито и взбрыкиваю ногой. — И поогрызайся еще у меня.
Он нехотя сползает с кровати, медленно, выжидая, бредет к креслу, неторопливо вскарабкивается на окно и там застывает, на подоконнике, с выражением укоризны на физиономии, как я это чувствую в предрассветном полумраке.
— И нечего ждать, — продолжаю я. — С окном ты уже научился управляться, так что, давай, стартуй.
Он еще секунду медлит.
— Ну, — говорю я грозно.
И он обваливается вниз.
Старушка, бдительно неспящая на первом этаже, тут же сигнализирует:
— Мало тебе места — по газонам шляешься!
В ответ только чавканье. Должно быть, что-то спер, пока летел вниз. И я еще долго не могу заснуть, думая о нелегкой его судьбе и о недолгом комарином веке.
Но едва мне все же удалось заснуть, как деликатный стук в оконное стекло вновь будит меня. Он стоит на подоконнике и мелко трясется. Осень. Беда. Жалко его, стервеца. Но ведь кровопивец, черт!
Я открываю окно, и он проскальзывает в щелку. На его носатой роже изображено смущение. Он встряхивается, как собака, — и во все стороны летят брызги. Он испуганно глядит на меня.
— Ладно, — говорю я миролюбиво, — черт с тобой, устраивайся. Но на кресле. И не дальше. А вообще-то я не пойму — у меня что, гостиница?
Но он уже торопится залечь в кресло, шелестя крыльями.
За окном слышны вопли первых воробьев. Он поднимает голову, взгляд его исполнен мстительной злобы.
— Смешно, ей-богу, — говорю я. — Спи. Тоже мне «Фантом». Истребитель куриц.
Сегодня можно поспать подольше. Выходной. И это наше любимое время года.
Проснувшись и легко позавтракав, я вдруг ощущаю припадок педагогических судорог.
— Вот что, любезный, — говорю я ему. — Если хочешь, чтобы порядочные люди имели с тобой дело, переходи, пожалуйста, на травоядение. Ну-ка, для начала!
И я сую ему под нос листочек герани. Он с отвращением отворачивается. Я проявляю настойчивость. Он вынужден уступить грубому нажиму. С предсмертной тоской в глазах он начинает жевать.
— Ну? Не помер? Запей.
Я подаю ему оставшийся холодный чай, и он всасывает его из стакана со стремительностью исправного насоса.
— Вот теперь можно и прогуляться. Только ты, брат, пожалуйста, через окно, — говорю я, когда он пытается протиснуться вслед за мной в дверь. — Мне что, но вот соседи не поймут.
В нашем квартале его почему-то не жалуют, хотя и привыкли. То ли в характере его необузданном все дело, то ли в шкодливых замашках, но — не любят. Странно и то, что сам он привязан к нашему району. Почему? Высказывалось предположение, что всему виной безответная любовь. И я от души веселюсь, представляя его на коленях перед возлюбленной. Ее милый образ воображение тут же мне живописует. Впрочем, я отношусь к нему хорошо, и он знает это, и платит тем же. В своих прогулках в окрестных рощицах я могу не опасаться чужих комаров — у меня надежная защита.
Мы входим в тень деревьев, и я тут же теряю его из виду. Я прекрасно знаю, что бы это могло означать. Что ж, придется ругаться. И когда он появляется из кустов довольный и облизывающийся, я просто вынужден произнести небольшую речь. Направленную против перманентного грехопадения этого мерзавца.
— Послушай, — говорю я, стараясь быть объективным. — Я понимаю, что такова твоя подлая порода. И я далек от мысли переделать ее двумя-тремя словами. Но не прошло ведь и получаса после того, как я пытался вбить в твою тупую башку мысль о прекращении того гнусного кровососания, которым занимаешься ты и твои соплеменники. Во всяком случае, ты мог бы предаваться вредным привычкам в другое время. А не тогда, когда нам предстояла чудесная прогулка.
Для приличия он опускает глаза, но на физиономии этой шкодливой твари написано только удовлетворение.
— Ну, знаешь! — негодую я.
Но закончить выяснение отношений нам не удается. Потому что вылетевший из-за деревьев зверского вида питбуль громким лаем открывает против нас боевые действия. И пока я в секундном испуганном замешательстве взираю еще на одного неугомонного представителя фауны, мой крылатый защитник срывается с места и впивается псу прямо в нос. Псина — бац! — и лапы кверху. Я с трудом оттаскиваю озверевшую носатую скотину от его жертвы. И тут на шум появляется разгоряченный бегом мужчина в тренировочном костюме.
— Что это вы сделали с моей собакой? — вопрошает он недоуменно.
Мне приходится ответствовать одному, поскольку крылатая пройдоха уже успела скрыться где-то в листве.
— Вообще-то таких зверюг надо держать на поводке, — на всякий случай сообщаю я. — А так с ним ничего. По-моему, это обыкновенный обморок.
— Обморок? — изумляется мужчина.
— И очень даже запросто, — говорю я. — У собак сейчас тоже очень нервная жизнь.
Очнувшийся к этому моменту пес виляет гладким хвостом. Вполне дружелюбно виляет. Должно быть, в знак признательности за неразглашение позорящих его сведений.
Когда пострадавший, в сопровождении слегка потрясенного хозяина, удаляется, нам предстоит продолжить объяснение уже без свидетелей.
— Разумеется, я благодарен тебе, — говорю я. — Но все равно одобрить твои методы я никак не могу. Даже в наше жесткое время. Уж не обессудь.
Слова мои ему что об стенку горох. Он преисполнен самолюбования, считая, что совершил ни весть какой поступок. И потому гордо вышагивает впереди, заложив лапы за спину и аккуратно обходя лужи. Этаким-то молодцем он и попадает в объятия двух блюстителей порядка. Облаченных в неброское обмундирование, украшенное лишь дубинками, наручниками и кобурами. Блюстителей наша пара интересует только с одной точки зрения. С административной. И потому вопросы нам задаются скучные, но обличительно-точные. Почему выгуливаем животных без намордников? Почему позволяем себе… И проч., и проч., и проч.
Насчет намордника они правы абсолютно. Но все остальное звучит достаточно раздражающе. И в результате наши дуэты расстаются весьма недовольные друг другом. Причем конкретно я — с облегченным кошельком. Это наводит меня на грустные размышления.
— Однако, друг мой, — заявляю я. — Вы дорого мне обходитесь.
Но выдержать светский тон до конца не удается. Прогулка окончательно испорчена.
— Скорей бы зима, — вздыхаю я. — Заснул бы ты, или как там у вас. В общем, угомонился бы. Дал бы мне отдохнуть от тебя…
Он поражен столь черствой неблагодарностью. В его взгляде укор и обида. «Как? Я жизни не щадил… А ты… Из-за денег…». И тут он не выдерживает, всхлипывает и исчезает среди листвы, нависающей надо мной.
Мне становится совестно. Черт, неужели он решил, что я действительно, из-за денег осерчал на него?
Да ладно, успокаиваю я себя. Вернется, куда он денется. Полетает и вернется. Не впервой. И что я так привязался к этой каналье? Впрочем, я дьявольски ему завидую. Он умеет летать. Представляете? Р-раз… и свободен. Жаль, что говорить не умеет. А то бы такого порассказал…
ВЫ ВСЕ РАВНО НЕ ПОВЕРИТЕ Святочный рассказ
Маленькая девочка Шушка погрызла кончик фломастера и запыхтела, старательно выводя неровные буквы: «Дарагой Дет Мароз падари мне каробачку щастя…». Тут она задумалась, глядя в тот угол комнаты, где в прошлом году стояла нарядная елка. Теперь же там горой лежали сваленные папины книги и кипы исписанной бумаги, на которой иногда позволяли рисовать. Шушка посмотрела в окно, на противоположный дом, где почти в каждой квартире весело мигали лампочки разноцветных гирлянд. Вздохнув, закончила: «… и коня с залатагривым хвастом».
Сложив послание пополам, Шушка с замиранием сердца положила его на подоконник у балконной двери. Именно отсюда в прошлый Новый Год и забрал добрый дедушка просьбу подарить куклу. Правда, тогда за Шушку писала мама. Но все равно Дед Мороз куклу честно прислал, поставив в новогоднюю ночь под елку. А сейчас и елки-то нет…
— Все бы вам играться, — проговорила Шушка и погрозила пальцем кукле.
Мама сидела в кухне, не зажигая света. Утробно урчал старенький холодильник, словно требуя, чтобы его заполнили продуктами. Шушка его не любила. Он всегда ругался с мамой и жаловался, что его совсем не кормят.
— Написала? — негромко спросила мама, зябко поводя плечами под истончившимся от старости пуховым платком.
Шушка посмотрела на нее прозрачными от задумчивости глазами.
— А я сейчас подошла к щелочке в балконной двери, и у меня изо рта дым пошел.
— Пар, — поправила мать.
— Пар пошел, — послушно повторила Шушка. — И я быстро-быстро рот закрыла. И тепло сидело там, как мышки в норе, когда коты бегают.
Она потянула себя за ухо и посмотрела в окно.
— Потом обратно рот открыла. Но немножечко. Тепло взяло чемодан, подбежало ко рту, но не успело убежать. Я его опять поймала!
И Шушка радостно рассмеялась. А мать отчего-то еще больше пригорюнилась.
— А на праздник нужен торт, — принялась Шушка за очередную мысль. — Я его так обожаю, что даже хочу.
Мать воочию увидела магазинный ценник над розовыми кремовыми завитушками и не удержалась, всхлипнула.
— Мам, а Новый Год скоро?
— Через несколько часов.
— А это много?
— Нет, совсем мало, — вздохнула мать.
— А где же тогда елка?
В дверь позвонили. Шушка первой успела крикнуть:
— Кто там?
Вдруг это пришел Дед Мороз? С елкой и подарками, а? Ну что тебе стоит так сделать, Дед Мороз?
Но на пороге стояла соседка, тетя Таня. Они с мамой устроились в кухне. Шушка нарочно стала бегать из кухни в комнату и обратно. Чтобы слышать только отдельные слова из разговора взрослых. Все равно они говорят непонятно. А так хоть веселее может получиться. Но выходило все равно непонятно и совсем не весело:
— А мой все пьет…
Топ-топ-топ. Пробежала Шушка.
— А моему все не платят…
Прыг-прыг-прыг. На одной ноге.
— Какие у писателя доходы…
Скок-поскок. Двумя ногами вместе.
— Ушел с утра злой…
И еще про какие-то заливные и желатины. Заливные у тети Тани никогда не застывали. Вот и обсуждали. А про подарки — ни слова.
Шушка остановилась, замерев на бегу, и сказала:
— А я скоро на работу стану ходить. И много денег заработаю. Я уже все буквы знаю. И вообще все знаю.
— Да? — прищурилась тетя Таня. — А сколько у тебя пальчиков на руках?
— Конечно десять.
— Дай-ка пересчитаю.
— Да десять, десять, — неуверенно сказала Шушка, но руку на всякий случай спрятала за спину и попятилась из кухни.
— И как ей объяснить…, — донеслось до нее приглушенное, мамино.
А что объяснять? И так понятно, что десять пальцев.
Потом тетя Таня ушла к своему мужу, который все пьет. А мама прилегла в комнате на диване, негромко всхлипывая. Шушка пристроилась рядышком, свернувшись клубочком, пригрелась и уснула. И снилось ей радостное, веселое и разноцветное, как праздничные новогодние огни.
Разбудил их настоящий трезвон. И пока они выбирались из-под одеяла, в дверь все звонили.
Шушка выглянула из-под руки матери и увидела на лестничной площадке Деда Мороза. Вернее, верх от Деда Мороза — красную шапку, белоснежные бороду и усы.
— А пальто и ботинки — папины! — завопила Шушка. — Уау! Елка! И мешок с подарками! Папа, это ты?
Она прыгала вокруг отца, касаясь то мягкой бороды, то острых пахучих иголок. Иголок самой настоящей елки!
А папа Дед Мороз смеялся и смеялся, и от него пахло так, как всегда после встречи с друзьями.
Мать молча опустилась на ящик для обуви.
— Свершилось чудо! — вспомнила Шушка слова из мультика.
— Еще какое чудо! — Папа, покачиваясь, переступил через порог.
— А когда наряжать будем? Ведь Новый Год уже скоро! Ну, давайте же! торопила взрослых Шушка.
Шушка вспомнила о письме Деду Морозу и помчалась проверять, на месте ли оно еще. До нее доносились торопливые папкины слова:
— Нет… Не занимал… Да конечно же не грабил! Нет, не обманываю… И ничего не продавал… Да не плачь ты!.. Праздник же на носу!.. А разве чудеса в Новый Год не случаются?!
Конечно случаются! Письма на подоконнике не было! И ясно, что папка встретил Деда Мороза! Чего тут объяснять? И зачем мама плачет? Надо же елку скорее наряжать!
Шушка вихрем влетела в прихожую и увидела, как папка пьет воду из стакана, плачуще смеется и кашляет, а мама гладит его по голове и приговаривает:
— Ну успокойся, успокойся, ребенка напугаешь… Ну все уже… Вечно эти взрослые не тем заняты!
Затем папка подхватил взвизгнувшую радостно Шушку на руки, подбросил к потолку и на всю квартиру завопил:
— В «Литературке» зарплату заплатили! За целых полгода! И гонорары!..
… Дед Мороз за окном недоверчиво покачал головой, почесал в бороде и, вздохнув, положил на подоконник коробочку счастья. Последнюю в этом году.
И ЯБЛОК ХОТЕЛОСЬ…
Вот старая фотография. Сверкающая лысина в центре — моя плешка. Но в настоящем центре внимания находится телевизор. Не обижайтесь, что мы сидим к вам спиной. Мы в данный момент безлики. И это справедливо. Потому что перед нами — первый в нашем доме телевизор. Единственный. Назывался он «Темп». Или «Зенит». А может быть и «Рекорд». В общем, вы знаете, как назывались наши первые телевизоры.
Мы сидим и ждем самую лучшую передачу на свете. Я жду и Ромка. Вон он впереди и справа. Друг детства.
Тетя Оля Лукашина еще раз оглядит любовно чудесный аппарат, смахнет невидимую пылинку, чуть подразнивая нас в вечность растянутыми секундами, и со щелчком повернет ручку. Ничего не случится. Магический ящик долго будет разогреваться, чтобы настроиться на программу. Тоже единственную. И деревянная кукла с длинным носом, ртом до ушей и в колпаке с кисточкой, задергается на черно-белом экране, смешно распевая квакающим голосом: «Выста- Бура-, Выста- Бура-, Выставка Буратино…».
Но уникальность телевизора заключается еще и в том, что он не куплен! Да и не смогли бы его Лукашины купить. Вон вся их движимость и недвижимость — на снимке. Трое детей. Понятно, в первом ряду. Фикус с пальмой. А как без них? Сразу помрачневший от превратностей судьбы бывший фаворит — приемник. А на нем то, что кажется незаменимым никакой техникой, переходя от деда к отцу и так далее. Гармошка, сладостная утеха застолий, спутница удали и куража.
В это поверить невозможно! Телевизор Лукашины выиграли! На тот самый 30-копеечный билетик денежно-вещевой. Тогда действительно можно было что-то выиграть в лотерею…
Итак, самое начало шестидесятых. Именно тогда, с появлением первых телевизоров, добротная послевоенная мебель, сработанная на века, стала изгоняться из домов. Столы, несокрушимо стоявшие на балкообразных ногах; дерматиновые диваны с откидными валиками, резными спинками и полочками для слоников; неуклюжие буфеты, безотказно хранящие в себе все, что только может понадобиться человеку в минуты радостей и печалей… Так вот все это могучее братство самым постыдным образом стушевалось и отступило. Отступило перед журнальными столиками на паучьих лапках, коброобразными торшерами и скользкими сервантами с вечно выпадающими стеклами….
А нас у мамы было четверо. Вон я сижу на коленях у старшей сестры. Рядом пристроились два брата, довольно хулиганистые отроки. Это видно по их затылкам и ковбойкам. Чуть дальше, за ними — еще одна сестра. Особа ехидная и вечно меня изводившая, как самого маленького…
Так вот, при такой команде старая мебель в нашей квартире могла за свою судьбу не переживать. Тем более, что и было-то ее немного. Огромный коридор квартиры нашей только подчеркивал небогатую обстановку. Зато в этом самом коридоре запросто можно было гонять в футбол. И гоняли. А уж на лестничных площадках вообще можно было устраивать исторические баталии. И они устраивались. Между соседями. Но такое происходило крайне редко. У нас были мировые соседи.
О Ромке я уже говорил. Жил он этажом ниже — на первом. Жил в мире таинственном и страшноватом. Мать его была сумасшедшая. Мы произносили это слово вполголоса и с замиранием маленьких сердец ждали ее припадков. А когда буйство оставляло ее, она становилась добрейшим существом. Она кормила нас с Ромкой борщом, вкуснее которого я после не едал. Она научила нас натирать корки хлеба чесноком. Черная хрустящая поверхность пропитывалась соком, теряла глянцевитость, но приобретала аппетитный до спазм в животе запах.
Ромку я к себе приглашал редко. В футбол можно поиграть и на улице, а дома все время хотелось есть. Прямо скажем, пустовато в нашей квартире было не только в смысле мебели. Пятеро оглоедов, сидящих на шее матери и вечно занятого на службе отца, разогнали даже тараканов, отбирая у них последние крохи. И когда наступали такие дни, что кухня могла нас порадовать лишь водой из-под крана, мама ложилась на тот самый диван, на резных полках которого в недлинной очереди за счастьем стояли слоники, и тихо плакала. И мы разбредались по соседям. Не без корыстного умысла.
А соседи действительно были мировые. Кроме, конечно, Редькиных, хозяев презлющего добермана. Явления в те дни в наших домах столь же уникального, что и телевизор.
Дедушка Кузьменко угощал нас сушеными дольками груш и учил играть в шахматы.
Большое семейство Бокаревых, покупавшее только книги, в какой-нибудь прекрасный вечер вдруг закатывало пир на весь соседский мир. И после царской трапезы нам с Ромкой, как самым маленьким и свято верившим, что праздник еще не кончился, позволялось выбрать с полок по книге. Выбрать насовсем. Мы потели от восторга, решая сложнейшую задачу. Полки-то с книгами занимали все четыре стены громадной комнаты Бокаревых! И все же мы выбрали. Ромка- «Похождения бравого солдата Швейка», а я — «Таинственный остров». Мы еще потом показывали друг другу языки. Каждый про себя твердо полагал, что не прогадал!
Но вот однажды, накануне октябрьского праздника очень уж у нас с Ромкой чего-то жизнь не заладилась. Да и не только у нас. У Ромкиной матери случился затяжной приступ. Она выскакивала во двор в распахнутом халате и крыла всех на чем свет стоит. Старшему Бокареву, токарю на заводе, оторвало большой палец на руке. Мы с Ромкой разглядывали свои руки и гадали, как же можно жить без пальца? Разве это жизнь? А дедушку Кузьменко мы сами обидели. Тайком слопали у него припасенные для нашего же угощения сушеные финики. Мало того. Скрывая следы преступления, попрятали косточки в стопку его чистого постельного белья. О результатах грядущего расследования и думать не хотелось. М-да… А хотелось есть. Трескать и лопать. И пока возможные способы добывания съестного осторожно укладывались в наших стриженных головенках, мы с Ромкой брели под надоедливым осенним дождиком и вспоминали, как на прошлый праздник в булочной давали настоящий белый хлеб, а не серый, кукурузный. И как мы по нескольку раз выстаивали длиннющую очередь.
Мы шли и смотрели себе под ноги. Бывали случаи, попадалась копейка, а то и пятак! Но только не сегодня. Удача отвернулась всерьез.
Совсем под вечер, отчаявшись, мы забрели в гастроном на соседней улице.
Поболтавшись у касс с той же целью отыскать оброненную кем-нибудь монетку, мы с ясными глазами и пустыми желудками двинулись к выходу. И тут Ромка толкнул меня в бок.
Ромка вообще отличался поразительной реакцией. Его мать в очередном приступе начинала метать в окружающих все, что попадало под руку.
Итак, он толкнул меня в бок и глазами показал на старушку. Та у столика складывала в авоську небогатые покупки. Затем старушка взяла авоську и, опираясь на палочку, поплелась на улицу.
А на столе остался кошелек!
Теперь судите сами. Даже если не замышлять ничего дурного, то во всяком случае, кошелек надо взять. На предмет возвращения к примеру. А то мало ли, цапнет его человек нехороший, и пиши пропало!
Мы огляделись, подкатились к столу и взяли кошелек. Черный, потертый, с замком из слегка заходящих друг за друга дужек с шариками на концах. Шарики щелкнули, и кошелек раскрылся перед нашими выжидательными взорами.
В кошельке лежала свернутая в четыре раза зеленая бумажка. Три рубля. И мелочь. Новыми деньгами!
Таких сумм у нас с Ромкой в общей сложности за всю жизнь не водилось. И я посмотрел на Ромку. А Ромка — на меня. И взгляд его, благо никаких существенных препятствий тому не оказалось, пронзил меня до дна желудка.
Мы как по команде посмотрели на входную дверь. Старушка не возвращалась. Ну и где ее теперь искать? И ощущение того, что это уже наши деньги пришло легко и быстро.
Когда Ромка протягивал продавщице кафетерия бумажку, я, стоя рядом, так сопел, что запотело стекло витрины.
Мы облизали пальцы, съев по эклеру и выпив по стакану водянистого томатного сока. И тут же повторили заказ. Томатный сок от соли покрывался грязноватой пеной. Третья порция застряла в наших глотках, когда в магазин, кряхтя и причитая, вернулась забывчивая старушка.
Мы притаились за высоким столиком, посматривая на дверь. Если старушка поднимет крик, кто-нибудь да сообразит, в чем тут дело.
Наша несчастная жертва, старчески щурясь, оглядывала пол и столик, на котором совсем недавно укладывала в авоську покупки.
Ромка сгреб оставшееся богатство в кошелек и подтолкнул меня к выходу. Сам скользнул у старушки за спиной и осторожно положил кошелек на край стола…
Мы остановились только квартала за два от магазина. Недостатки в нашем воспитании не позволяли ужаснуться содеянному. И если нас мутило, то лишь от стремительного драпака и только что пережитого страха. И мой желудок взбунтовался. Ромка смотрел на меня с презрением. Минуту смотрел. Больше ему не позволил собственный желудок.
На улице совсем стемнело. Дождь не прекращался. Ужин нас дома не ждал. А Ромку, наверное, не ждал и ночлег.
Я предложил пойти к нам. Топить колонку. Топить настоящими дровами, топить долго, пока не зашумит что-то внутри у нее, давая знать, что вода нагревается. В ванной тогда становится тепло, и можно выключить свет и сидеть тихо, глядя, как пузырится в печке на сырых дровах пена, сероватая, как на томатном соке. И слушая ровный уверенный гул колонки, можно запросто представлять себя внутри ракеты…
Ромка обрадовался такому предложению. Но я тут же вспомнил, что в ванной дрова кончились. А спускаться за ними в подвал, где водятся здоровенные крысы, что-то не хотелось. Эти жуткие твари запросто расправлялись с кошками.
Мы отказались от согревшей было наши души затеи и уныло побрели к дому. Я с сожалением вспоминал о пирожных. Пусть и не пошедших нам впрок. Вряд ли и Ромка думал о другом.
А вечер испытаний и не думал заканчиваться. Около дома нам навстречу попалась сумка, полная яблок, больших и крепких. Яблоки чинно проплывали мимо нас, и на их крепких боках сонно щурились дождевые капли.
Мы дружно зашагали следом.
Сумку просто распирало от ноши, и хозяйка ни за что бы не обнаружила пропажу одного-единственного яблока. Стоило только протянуть руку.
Но эта незнакомая женщина то и дело посматривала по сторонам. Или вдруг делала широкий шаг через очередную лужу. В тот самый момент, когда дрожащая воровская рука уже собиралась вцепиться в крепкий красный бок.
Я не помню, что сказала нам женщина, решительно повернувшись. Но каждому она выдала по яблоку. Тяжеленному и холодному.
А когда мы вошли в подъезд и поднялись на мой второй этаж, внизу открылась входная дверь. Послышался стук когтей по ступеням и свирепое дыхание. Мы мгновенно взлетели на следующую лестничную площадку, уцепились за железные прутья лестницы, ведущей на чердак и вскарабкались до самого люка в потолке. А доберман уже прыгал внизу и злобно клацал огромными клыками. Мы его даже чуть-чуть подразнили, пока не поднялся Редькин и не увел пса.
Мы еще посидели на чердачной лестнице, дохрустывая яблоки. Затем Ромка запустил огрызком в дверь Редькиных и торжественно заявил, что станет космонавтом.
А все равно веселое было время! Все было впервые. И все мы хотели стать космонавтами…
ДЕД
Деду стукнуло девяносто два. Согласитесь, возраст почтенный. Если с умом им пользоваться, можно многого добиться.
Дед добивался.
Он шлялся по комнатам, гремя палкой, мешался у всех под ногами, вспоминал боевое прошлое и время от времени вдруг жалостливо вопрошал:
— А куда бабка-то моя ушла? Когда вернется?
Бабушка преследовала его по пятам и из-за плеча весело подмигивала: не обращайте, дескать, внимания, из ума, дескать, старый выжил. Хотя, собственно, веселого лично для нее ничего тут не наблюдалось. Чего уж тут веселого, если тебя напрочь не замечают?
Деду, конечно, говорили:
— Да вот же бабушка! Вот она!
Дед оглядывался и недоуменно мотал сивой своей, извиняюсь за выражение, башкой.
— Нет, это какая-то другая женщина. А вот куда моя бабка ушла?
Ну, потом всем надоела эта морока, и деду просто стали говорить:
— Скоро, скоро придет твоя бабушка.
Даже бабушка говорила:
— Скоро, скоро придет твоя бабушка.
Вот чего дед добился. Но все это ерунда. Как-то за обеденным столом, куда его допускали весьма нечасто из-за неряшливости, он сказал, внимательно пронаблюдав за всеми:
— Эк вы неопрятно живете.
А потом обвел всех еще раз взором, уже снисходительным и какбы между прочим сказал:
— И вам нет смысла жить лучше.
И добавил:
— Потому что жить лучше будете все равно не вы.
И удалился к себе, победно вбивая конец своей чертовой палки в лакированный паркет!
Вот какой дед. К тому же он в молодости вел очень здоровый образ жизни. Он прямо все уши мне прожужжал о том, как он занимался спортом, не пил, не курил и так далее. Ужасно он порой бывал утомителен.
Но с другой стороны. Возраст его вселял в меня изрядную толику надежды. У меня был корыстный, признаюсь, расчет — попользоваться дедовыми генами. То есть, дотянуть и самому до почтенного возраста, а потом уж в свое удовольствие морочить наследникам головы.
А дед-таки помер, царство ему небесное, чуток не дотянув до ста.
А потом мне сказали, что дед этот мне не родной. И вообще никакой.
Он и тут всех одурачил, женившись на бабушке, когда я уже существовал вовсю! И появление внука ему не стоило ровным счетом ничего!
Узнав об этом, я жутко расстроился. Причем расстроился не один раз, а два.
Первый раз — из-за генов, которых мне теперь не видать. А второй раз расстроился из-за «зачем сказали?».
Ну не знал бы я, что дед мне не родной… Но хотя бы психологически был настроен на долголетие, черт с ними, с генами! И только может быть внезапно и ненадолго был бы удивлен кратковременностью моего существования. Ведь тут никто толком еще не знает, что главное — гены или психология. А мне вот так взяли и ляпнули.
А раньше молчали. Гуманисты…
ОЖИДАНИЕ
Каждый вечер окна нашего дома с тревогой посматривают на запад. Сегодня, к их радости, небосклон чист. И они поспешно расхватывают закат. Хватило всем. Но ненадолго. И я тороплюсь.
— Нет, нет, голубчик, милый, я останусь ждать, — говорит она чуть встревоженно. — А ты иди, иди… Только скорей возвращайся. Хорошо?
Я сбегаю по лестнице, не дожидаясь вечно занятого собою лифта. И уже на улице не спеша иду вдоль окон. Они сейчас увлечены. Каждое вглядывается в свой фрагментик заката. Тот красуется перед ними ясными пастельными тонами.
Дом не обращает на меня внимание. Весь, вытягиваясь и привставая на цыпочки, он тянется вслед уходящему солнцу. Ведь до следующего заката стоять окнам темными, пасмурными.
Дойдя до угла, поворачиваю обратно и возвращаюсь к нашему подъезду под неумолчное и въедливое ворчание старушки с первого этажа. Она, резонно, с ее точки зрения, высказывает возмущение. По поводу того, что заглядыванием в чужие окна я смущаю ее покой. Тот самый, которого она ждала всю жизнь. Я вспоминаю: мне пора, пора…
— Миленький, где же ты так долго был? Ты же знаешь, как одной ждать…
Я понимаю ее тревогу. Одному ждать действительно невыносимо. Независимо от того, что ждешь. И мы стараемся не оставлять друг друга наедине со временем.
Я сажусь рядом, беру ее ладони в свои и начинаю ей рассказывать мой сон:
— Смешно… Мне приснилось, что кто-то позвал меня. Я встал и… пошел. А проснулся посреди комнаты!
Мой рассказ ее не успокоил.
— А… а я? Где была я? Почему тебя одного позвали?
— Нет, и тебя звали. Но ты крепко спала. И это хорошо. Во сне не так утомительно ждать.
Она соглашается. Но тут же спрашивает:
— Ты бы так и ушел один?
— Нет, конечно, что ты. Я же сказал… Я проснулся. Чтобы вернуться за тобой.
— А потом? — требует она. — Что было потом?
— Потом?… Ну… Я посмеялся и лег.
— А голос? Какой был голос?
— Очень простой, хороший. Словно друг на улице окликнул.
— Хм… Друг… Друзья…
Она смотрит с подозрением. Глаза покрываются влагой.
— Тебе нельзя волноваться, — напоминаю я. — И вообще — это все сумерки. Вот подожди, я включу свет.
Я дергаю шнурочек раз-другой. Лишь с третьей попытки мне удается вызвонить свет.
Она тут же говорит?
— Так я и знала… Какая гадость… возмутительно…
И с негодованием смотрит на градусник.
— Ну, перестань. Просто к вечеру стало прохладнее. Так всегда бывает.
— Нет, — настаивает она. — Не всегда. Он чувствует мое приближение. И как только видит меня, сразу опускает свой столбик на градус. Вот стоит мне сейчас выйти, он тут же поднимется. Сейчас увидишь…
— Ради Бога, сиди. Ведь если ты выйдешь, мы оба окажемся в одиночестве.
Действует. Замирает.
На свет тем временем летит всевозможная насекомая живность. потолкавшись в хороводе вокруг лампочки, рассаживаются по любимым местам и тоже начинают ждать.
Желтый мотылек пристраивается у нас над головой. Мы оба поворачиваемся к нему. Сейчас, со сложенными крыльями, он уже не похож на порхающий фонарик. Скорее на тыквенную семечку. Три коричневых пятнышка на крыльях.
Я тихонько дую на него. Он сердито обтирает усики лапкой и бочком перебирается подальше от меня. Но не улетает.
— Не выносит русского духа, — говорю я.
— Тихо, — шепотом говорит она. — Не трогай его. У него ведь очень короткая жизнь. По нашим меркам — он уже год сидит сейчас. Целый год! Сидит и думает, думает… Вот умница-то, а?
За стеной слышится негромкий мелодичный звук.
— Пианино? Но кто это?
— Боже мой… Ей уже купили пианино, — испуганно говорит он.
— Кому?
— Да девочке. Маленькой такой… помнишь, у соседей?
— Девочке? У них был ребенок, я помню… Ма-аленький…
— Она выросла!
Звуки осторожно проникают в нашу комнату. Сначала робкие, смущенные, прячущиеся. Затем все более настойчивые, выразительные…
И все мы вместе — с ожиданием, комнатой, мотыльком и даже злосчастным градусником — вытесняемся звуками, уносимся мелодией в прошлое, в прошлое, в прошлое…
3. Просто Юрка
ПРЕДУВЕДОМЛЕНИЕ
Особенно негодовали мыши. Мой распорядок дня их совершенно не устраивал: я спал днем, а работал по ночам. Они считали это ущемлением своих прав. Изредка их представитель появлялся ночью на кухне, внимательно оглядывал жизненное пространство и, убедившись, что я бодрствую, скорбно удалялся в подпечье. Там бурно совещались.
Не надо думать, что я не предпринимал попыток найти компромисс. Я вставал пораньше, под любым предлогом уклонялся от дневного послеобеденного сна и, совершенно разбитый, ничего толком не сделав за день, вечером честно направлялся в постель, благосклонно улыбаясь дырам и щелям в полу избы. Но… Стоило мне выключить свет и смежить веки, как радостная орава выбиралась из сумеречных убежищ и разворачивала самые настоящие оргии! Я пытался вразумить их покашливанием, закуриванием, бросанием тапок на звук, прочими шумовыми акциями. Эффект был жалким — секундное затишье, отведенное, очевидно, обмену недоуменными взглядами: а в чем собственно дело? Кажется, в своем праве! И гульба продолжалась. Тапочки, разумеется, возвращать мне и не думали. И тогда я обращался с речью в темноту:
— Помилуйте, — говорил я, — дайте же мне заснуть. Уверяю, на это уйдет минут пятнадцать, не более. А потом хоть весь дом разнесите!
Ответом мне была самая свинская возня.
Кроме того, в претензии ко мне были и комары, чей промысел также рассчитан в основном на ночное, разбойное время. Но в результате занятой мной принципиальной позиции им приходилось просиживать на потолке в бездействии. Иной смельчак из дерзости или скуки начинал вдруг барражировать в противной близости возле уха, чего я терпеть не могу. Я ловко выбрасывал руку на звук и стремительно схлопывал пальцы в кулак. Потенциальная жертва укоризненно облетала сработавший вхолостую капкан и, кажется, тяжело вздыхая, набирала высоту.
Так я и работал. Между двумя слоями раздражения — верхним и нижним. В таких условиях чего-нибудь эпохальное не напишешь, философский роман не осилишь. И потому я писал маленькие рассказики. Эту единственную форму еще хоть как-то терпели мыши и комары. И за это спасибо.
ДВЕ ШЛЯПЫ
У меня и у Юрки. Юркина велика ему — спер у отца. Моя мала — тоже от отца, но по наследству. Мы шагаем к пруду. У нас две удочки. Не какие-нибудь самодельные, а покупные, пластиковые, раздвижные. Телескопические, как говорят среди рыбаков.
Второй день, как погода установилась. И хотя облака тянут и тянут с севера, пышные облака, некоторые даже с обвисающей темной бахромой, дождь проливается не над нами.
— А если щука? Выдержит леска? Ох, надо было вершу взять… А ты чего больше любишь: мороженое или арбуз? Только, чур, одно! — без перерыва выпаливает Юрка. И тут же сам отвечает: — пол-арбуза и полмороженого.
— Вот так одно, — говорю я.
— А сколько же? Пол и половинка. А ты больше всего чего любишь: щуку или мед? Только, чур, одно!
И т. д. Так мы доходим до пруда. Поверхность его покрыта расходящимися кругами — играет рыба…
Юрка таскает одну за другой. Таскает «силявок», как он их называет. У меня дело не клеится. Я внутренне злюсь — на себя, на рыбу, на Юрку, который нет-нет, да подденет:
— Ты, что ли, никогда рыбу не ловил?
Ловит он лихо, необъяснимо. Не глядя на поплавок, сам отдает себе команду: «Готовсь!» — и дергает.
Но вот у него запутывается леска. Ему никак с ней не сладить — мал еще. Или хитрит.
— Лай пока твоей половлю, — просит он. — Я твоей еще не пробовал.
Делать нечего. Я отдаю ему мою удочку, втайне надеясь, что ему не повезет, а мне потом удастся неудачи свои свалить на несчастливую удочку.
Но пока я вожусь с хитрыми узлами, Юрка вытаскивает еще пару силявок. Я молча отдаю ему исправленную снасть.
— У тебя тоже хорошая удочка, говорит он. — А ты чего больше любишь: рисовать или рыбу ловить? Только, чур, одно!
Мы опять забрасываем удочки. Дело к вечеру. Рыба разыгралась. Но только не у моего крючка. Что за напасть?
И тут… Щука! Здоровенная! Нет, не клюнула. А ударила хвостом между нашими поплавками, будто кирпич в воду бросили.
Юрка от неожиданности выпустил удочку. Тут же дернулся за ней. И уже упала у него с головы шляпа. Прямо в воду. Он потянулся за ней. Выпустил удочку. Прямо как в цирке. Но нам не до смеха. Видя Юркино отчаянное положение, я протянул руку за проплывающей мимо шляпой и… соскользнул с глинистого берега в воду, по колено. Но шляпу успел схватить.
Потом мы стояли на берегу и хохотали. Юрка — показывая на мои мокрые брюки, я — на мокрую шляпу на его голове.
— Ты чего больше любишь? — спросил я. — Целиком сухой или целиком мокрый? Только, чур, одно. Давай шляпу. На мою. И будешь целиком сухой.
— А, хитренький, — сказал Юрка. — Я тоже хочу быть наполовину.
Его не проведешь. И потому мы шагаем домой переодеваться. Вечер-то еще не закончился, можно еще посидеть у пруда. Вдруг повезет?
ЮРКА И НЛО
Еще Юрка любит напускать на себя таинственность.
— Ты чего читаешь?
— Да вот, иностранный язык учу.
— Я тоже скоро буду учить в школе наглийский, — заявляет он. — А спорим, ты сегодня ночью чего-то не видел?
— Чего это я не видел? — удивляюсь я. — Я поздно лег.
Юрка нагибается к моему уху.
— Сегодня ночью, — шепчет он, оглядываясь по сторонам и сопя, так что щекотно становится в ухе, — на небе были онипланетяны.
— Кто?!
— Кто, кто, — передразнивает Юрка. — Они-пла-не-тя-ны. А ты и не видел… Только честно, не видел?
— Нет, — говорю я растерянно. — Где же ты их видел? Ну рассказывай.
— То-то, — торжествует Юрка. — Проспорил.
Я еще ничего не проспорил, но молчу, не перебиваю, знаю, с кем имею дело.
Юрка берет с подоконника любимую рулетку с пружиным механизмом, садится на табуретку, рассказывает:
— Ночью я ночевал у бабы Шуры. И никого не было. Вдруг меня как толкануло! Я — глядь в окошко, а там… Между облаков как бы луна… Светлая-светлая…
— Точно, — не выдерживаю я. — Луна была. Здорово светила. Видел.
— А будешь перебивать, назидательно говорит Юрка, — ничего не узнаешь. Никогда.
Он вытягивает ленту из рулетки, затем нажимает пружину, и металлическая змейка стремительно втягивается обратно.
— Ладно-ладно. Продолжай, пожалуйста.
— Она ка-ча-лась.
— Как?!
— Вот так. Из стороны в сторону. Луна же не будет качаться…
— Ой, ну ты выдумываешь, — говорю я. — Это облака так быстро бежали.
— Да? Облака? Не веришь? — Юрка вскакивает с табурета. — И мамка видела. Она утром папке рассказывала.
— А папка, что же, не видел?
— Да они пили с дядей Женей, — отмахивается Юрка. — А мамка так даже напугалась.
Я думаю, чего бы еще спросить.
— А чего же ты ночевал у бабы Шуры, да еще и один?
Юрка молчит, забавляясь рулеткой. Потом откладывает ее в сторону и идет к двери. У самого порога он говорит, делая большие глаза:
— Так надо было. И никому. Тс-с.
И исчезает за дверью.
МАЛЫШИ
Это два бычка. Рыжий Малыш и Малыш черный. Два братца. И хоть сейчас, на исходе лета, они подросли и уж никак не походят на малышей, но по-прежнему крепко дружны, и очень скучают, когда их разводят на разные выпасы, и тогда над речкой, где они стоят в густой, начинающей желтеть траве, привязанные к прибрежным ивам, то и дело разносится печальное в утреннем тумане призывное мычание. И кто-нибудь из них в конце концов обрывает привязь и спешит к братцу, чтобы радостно обнюхать того, а потом положить ему на спину тяжелую круторогую голову и так замереть в блаженстве.
Но поскольку они все же еще не взрослые быки, хоть и грозны с виду, то иногда, оказавшись на свободе, могут и заблудиться. И вот бродят растерянные и сердитые по деревне и окрестностям, нагоняя панику на местный люд и дачников внезапным появлением из зарослей.
Как раз сегодня, когда мы с Юркой идем за водой вниз, к родничку, навстречу нам спешит испуганная баба Шура, крепко прижимая к себе одной рукой буханку черного хлеба, другой — коромысло. А ведер нигде не видно.
— Юрка! — сердито кричит она. Беги к отцу! Пусть Малыша заберет…
Мы глядим с обрыва вниз. Малыш рыжий стоит у родничка и по-собачьи обнюхивает брошенные бабой Шурой в паническом бегстве пустые ведра. Дурная примета.
— Слышь, Юрка, — не унимается бабка, — беги, кому говорят!
— Хм… Беги, — задумчиво и значительно повторяет Юрка. — Сдрейфила? Вот и отец его как огня боится.
— Ну, так матери скажи, пусть Лида его заберет!
— А мать и того пуще боится, — авторитетно заявляет Юрка, подтягивая штаны. Веснушчатая круглая физиономия лучится самодовольством.
— Постой, — вмешиваюсь я. — А кто же их вообще загоняет?
— Я, кто же еще.
— Ты?.. Каким же образом?
— А таким. Схвачу привязь, брошу в бычка камнем, он и мчится за мной. Ну и тут главное — быстро бежать. Так и прибегаем, куда надо. А уж там я его привязываю. Отработано. Но тоже надо все быстро делать.
— Н-да, — говорю я. — Ничего себе, способ. Рисковый ты парень. Ну а сейчас-то как быть?
— Боишься? Только, чур, честно? — спрашивает Юрка.
— Еще бы, — говорю я. — Вон он какой. Прямо танк.
— Ну ладно, давай ведро. Только я полное не принесу. Тяжело. Только половинку.
И он стремительно сбегает вниз по тропе, к родничку.
— Куда?! — восклицаем мы в голос с бабой Шурой.
Но Юрка уже внизу. И под самым носом изумленного рыжего Малыша набирает воду. Он выносит ведра бабы Шуры, затем и мое. Причем бабкины ведра он в два приема наполняет почти доверху, а в моем — половина, как и предупреждали. Юрка разводит руками.
— Сам виноват. Что ж у тебя второго-то ведра нет?
И все то время, пока Юрка возится у родничка, Малыш лишь с недоумением провожает взглядом шныряющую туда-сюда фигурку.
То ли глазам своим не верит, то ли действительно привык к проделкам маленького шустрого человечка и настороженно поджидает очередной каверзы, чтобы броситься в бой со всей бычьей сокрушающей слепой мощью, не размениваясь на мелочи.
Баба Шура, что-то причитая, уносит ведра к своей избе. Мы тоже возвращаемся к дому, почти налегке.
— Да ты не переживай, — успокаивает меня Юрка. — Я потом еще принесу воды. Но сейчас-то хватит? А на рыбалку пойдем? Я одно местечко знаю…
От родничка доносится тоскующее потерянное мычание.
ОХ, И ВРЕЗАЛИ МЫ КОНОВАЛЬЦУ!
Юрка привел двух своих приятелей — Шурку и Валерку. Те постарше, в пятый класс пойдут, уже покуривают тайком. Но Юрка, на правах старого моего знакомого, покрикивает на них:
— Не тронь! Положи на место! Сломаешь! Э ты… Спорим, не знаешь, что это такое? Да? Портсигар? Сам ты… Дай сюда. Смотри… Понял? Рулетка!
У меня обед. Званым его не назовешь — мальчишки пришли сами, запросто, и я, не спрашивая их, наливаю им по тарелке супа. Перед каждым кладу по зубку чеснока. Юрка принес, со своего огорода. Зверь овощ!
Парни, кроме Юрки, конечно, стесняются. Я ем, не обращая на них внимания, чтобы не конфузились. А они все равно жмутся. И от смущения начинают чего-то рассказывать, явно привирая. При этом обращаются к Юрке, но поглядывая на меня:
— Я вчера Коновальца у магазина встретил. Как двинул ему в глаз! выпаливает Валерка, белобрысый и лопоухий.
— Ну да? — удивляется Юрка.
— А чего такого? — говорит и Шурка, тоже белобрысый, но лопоухий умеренно. — Я второго дня так его толканул, он летел пять метров.
— Ты? — спрашивает Юрка.
— А что такого? — говорят в голос оба — Шурка и Валерка.
И тут начинается сумбурный групповой пересказ жутких событий, главным героем которых является Коновалец. попадает этому Коновальцу, судя по отдельным выкрикам, крепко и систематически.
— Видать, это ваш главный враг, — говорю я, от души сочувствуя Коновальцу.
— Еще какой, — в голос соглашаются парни.
Остывает забытый суп. Ребята, подзуживаемые Юркой, заводятся не на шутку.
— Ну, хочешь, хочешь, — не выдерживают они, — сейчас сгоняем и врежем ему? Хочешь? На спор?
Спорить — одна из самых любимых забав Юрки. Он всю жизнь готов посвятить этому увлекательному занятию. Жаль, нет такой профессии.
Шурик и Валерка выскакивают из-за стола, не слушая моих уговоров. Юрка преспокойно хлебает суп, похрустывая чесноком.
— Во врать! — говорит он, наконец. — Они? Коновальцу? Да он их одной левой, спорим?
Мы моем посуду. Затем уходим на рыбалку. Возвращаемся на закате. У крыльца избы стоят Шурик и Валерка.
Смеркается. Но все же можно разглядеть синяк у Шурки под глазом, распухший нос и разбитую губу Валерки.
— Да, — говорю я. — Врезали мы Коновальцу. Пошли мазаться зеленкой.
— Ох, и врезали, — заключает довольный Юрка.
МИМО ЧЕРНОЙ ДЫРЫ
Юрка, Шурик и Валерка засиделись у меня дотемна. Юрка все возился с рулеткой. И чуть не остался без зубов. Зацепил изогнутым концом ленты за передние, еще молочные, которые и так качаются, да и нажал пружину. Чуть не повылетали.
— Так, наверное, и в больнице можно дергать, — высказались по этому поводу Шурик и Валерка. — Раз — и нету.
— Ну вот что, хлопцы, — говорю я. — Десять часов. Пора по домам. Юрку, поди, уже ищут. Да и вам до Красивки по такой темени добираться…
— А мы все у меня переночуем, — сказал Юрка, пробуя пальцем зубы.
— Ну и отлично. Вперед. Спокойной ночи, — сказал я.
— Спокойной ночи, — как-то не совсем уверенно пожелали пацаны.
А уж возле двери и совсем затоптались на месте.
— Ну? Что случилось?
— А ты нам фонарик дай, — попросил Юрка. — А завтра я его тебе принесу.
Я дал им фонарик, проводил до калитки. Но тут лампочка в фонарике мигнула и погасла. А был фонарик в Юркиных рук. Мы вернулись в избу, осмотрели прибор. Лампочка напрочь отказывалась гореть. Вполне целехонькая лампочка.
— Ну пойдемте, — сказал я. — Провожу.
— Да нас только мимо погреба, — обрадовались опустошители местных садов, лихие загонщики быков, сокрушители Коновальца и свидетели явления инопланетян.
И мы пошли. В самом деле, после избы темнота на улице казалась почти кромешной. Но постепенно глаза привыкали к ночи. Проблески луж указывали дорожные колеи к тому концу деревни, где жил Юрка. Стрекочущие кузнечики обещали на завтра хорошую погоду. «Будет тёпло», как говорит Юрка.
Пацаны вдруг вцепились в мои руки.
— Вот он, — прошептал Юрка.
Мы проходили мимо того самого погреба, чей черный зев мрачно смотрел из стены оврага прямо на дорогу, пугая и маня…
Но мы благополучно миновали эту жуткую опасность, и дальше, когда до Юркиного дома осталось с десяток метров, мужество вернулось к моим спутникам. Они храбро отцепились от меня и помчались в сторону освещенных окон избы.
Я пошел к себе, думая о тех страхах, что живут в ночи. О детских страхах и взрослых. Сам-то я купил избу у наследников неведомого мне дяди Володи, что сослепу да спьяну однажды вечером не разглядел недотлевшие угли в печи и закрыл вьюшку. Угорел дядя Володя. Нашли его утром безумным, свезли в больницу, да уж в помощи он не нуждался, помер, бедолага.
И мне порой становилось жутковато ночевать в доме, свидетеле событий совсем невеселых.
И теперь, вернувшись в избу и готовясь ко сну, загадывал я: придут ли ночные страхи ко мне?
И они пришли. В скрипе, шорохе и постукивании. В необъяснимых и пугающих звуках. Никуда страх не исчез, хоть и помог я мальчишкам пройти через их собственный.
Я лежал и шептал про себя: «Господи, какие же мы маленькие в мире Твоем».
ДОЛЯ ВЫМЫСЛА
Случилось несчастье. Не очень большое и не очень драматическое. Но все же. На Юрку свалилась дверь от сарая. А ведь я предупреждал его, чтобы он не лазил туда, объяснял, что дверь не на петлях висит, а просто стоит, упертая в косяк. Да разве ему растолкуешь?
Я выскочил из избы на вопль, извлек Юрку из-под досок, осмотрел.
— Ничего, — сказал я. — Не вопи. Все в порядке.
— Да!? — возмутился Юрка. — А это?
Возле локтя действительно краснела царапина. Царапина как царапина. Таких на мальчишках миллионы. Каждый день. На каждом мальчишке. И никто не делает из этого вселенскую трагедию.
— Ну, пошли мазать зеленкой. Делать нечего. Чего реветь-то?
Юрка отскочил от меня.
— Ты что?
— А! Она щиплется…
— Так это недолго. Чуть пощиплет, и все пройдет. Надо только подуть.
Юрка ненадолго задумывается. Наконец выдвигает требование:
— А рассказ обо мне почитаешь?
— Ну… Ради такого случая…
И мы мажемся зеленкой. И она, как ей и положено, щиплет Юрку за царапину. Мы морщимся и терпим.
— Ну?
— Что?
— Читай.
— Ох… Ну, слушай.
И я ему читаю «Две шляпы».
Он слушает молча, не перебивает, даже не вертит в руках любимую рулетку.
— Только все это неправда, — говорит он, когда я замолкаю. — И никакой шляпы я не ронял.
— Ну, шляпы не ронял, — соглашаюсь я. — А остальное?
— Значит и остальное тогда неправда, — говорит он убежденно.
Я на секунду задумываюсь.
— Послушай, — говорю я. — Ты же умный парень. Имею я право чуть придумать? Ведь так же интереснее, правда?
— Но ведь неправда! — возмущенно возражает он.
И мы расстаемся на время, очень недовольные друг другом.
А вечером я иду за молоком к бабе Шуре.
— Ох, ох, — говорит она, наливая из ведра в банку пенистое желтоватое молоко, — чем же тебе хлопец не угодил? Вроде не озорник, учителя не жалуются… А ты его — срамить… Экий народ пошел, право…
И она в задумчивости смотрит на банку.
— Интересно теперь узнать, как ты меня пропишешь, — ворчливо говорит она.
Что? Да вот хоть бы… Но стоп! Стоп, стоп. Что за деревенская жизнь без парного молока? И я даю себе торжественную клятву писать только правду. Правду о том, что к тому же баба Шура и неграмотная. Не до грамоты ей было. Всю жизнь работала: на детей, на внуков, на колхоз, на государство.
Но, зато какое молоко дают ее коровы…
д. Малый Конь, Чернский район, Тульская губерния4. Вод великих посреди
ВОД ВЕЛИКИХ ПОСРЕДИ
Он принадлежал к числу тех счастливчиков, которые еще могли себе позволить потребление натуральных продуктов. В то самое время, когда все уже поняли, что не худо бы остановиться. Остановиться и подумать, что же лучше: прошлое или будущее? Вот как стоял вопрос! И все прекрасно это понимали. Но только дело обстояло примерно так же, как при езде в автомобиле с испорченными тормозами. То есть, можно и понимать, и иметь сильное желание остановиться, но вот, поди ж ты… В общем, будущее и тут оказалось сильнее всех в перетягивании каната. Они, значит, все понимали, а оно тянуло их к себе, да тянуло. Со всем их понятием!
Ну а он отсиживался в укромном уголку. Сознательно отсиживался, никого из себя не строя. И не вставая ни в какую позу. И лопал себе натуральные продукты. Правда, уже консервированные, но еще в собственном соку.
Прибой у берегов его островка вел себя мирно, почти бережно — какой смысл бесноваться у такого крохотного клочка суши? Надобно же и Океану где-то передохнуть. А солнце, запущенное на востоке, со свистом проносилось над островком, не вникая в эту убогую жизнь. И удостаивалось за свое равнодушие отдельной вечерней благодарности. И ухалось в воду за ровным, линеечным горизонтом.
По вечерам, натрескавшись натуральных продуктов, обратив благодарность к солнцу, и справив нужды, он садился в любимое (поскольку единственное) кресло-качалку. Обратившись лицом к натуральному закату, он сдвигал шляпу на лоб так, чтобы поля ее упирались в черенок ароматно дымящейся трубочки. И начинал размышлять. Вот над чем. Так уж случилось, что во все времена солнце воспринималось… как солнце (кроме шуток!). И отличие одной теории от другой заключалось лишь в стремлении гонять светило вокруг Земли или наоборот. А между тем, можно было бы подумать (он же подумал!), что солнце — это дыра в нашем холодном синюшном мире. А уж сквозь дыру и виден тот мир, вечно золотой от тепла и благодати. И мысль эта грела его больше, нежели диск, уходящий за море.
— Папаша, — вдруг окликнули его. — Папаша!
Голос звучал молодо и дерзко. И Папаша (черт с ним, Папаша, так Папаша!) открыл глаза и передвинул шляпу. Указательным пальцем правой руки на затылок, против движения солнца. И увидел одного из этих (чтоб им!) молодых и шустрых, которые как раз и подталкивали, суетясь и надсаживаясь, прошлое в будущее. Хотя ни первое, ни второе в таких услугах не нуждались.
— Папаша! — сказал он, наполнив окружающее пространство и время тоской и тихим горестным безумием. — В то время, как…
— Я давно не читал газет, — сказал Папаша. — И отвык от подобных оборотов. Ты ближе к делу.
— Да вы что! — жестко сказал Юнец. — Сидите тут, а все…
Папаша сунул ему под нос банку с остатками ужина.
— Попробуй, потом дорасскажешь. Нам некуда торопиться.
Юнец, не глядя, хватанул кусок из банки, пожевал, пытаясь что-то говорить. И судорожно проглотил, очевидно, не ощутив вкуса (!).
— Именно об этом! Мы и хотим, чтобы у всех было такое… Чтобы у всех! Всегда! Чтобы вкусно!
Папаша заглянул в банку.
— Кто это мы и кто это все?
— Вы, я…
— Вот давай пока и ограничимся. Давай попробуем себя прокормить.
— Да вы что! В то время, как…
— Стоп. Ты вообще-то как сюда попал? (В смысле, на кой черт?).
И тут взгляд Юнца несколько прояснился. И Юнец даже вроде бы начал что-то понимать, присев сначала на корточки, а потом и задницей на песок. Песок был влажный. Но Юнец ничего не чувствовал, так и сидел. А пятно на штанах, должно быть расплывалось. Но ему было не до того. Уставившись вниз, он пальцем медленно вел борозду в песке. Сидел, уткнувшись башкой между коленей и вел, вел борозду. А та наполнялась водой. А потом он почувствовал-таки сырость. И вскочил, отряхивая мокрый, тощий зад, облепленный песком.
— Что ж, коли так, — сказал он. — Коли так, что ж…
И уперся взглядом прямо в горизонт. Долго стоял молча, смотрел. Папаша за это время выкурил трубочку, сидя в любимом кресле. Затем выбил из нее пепел в горку такого же пепла, справа от кресла.
— Высматриваешь-то чего?
— Должен же кто-нибудь появиться?
— С этой стороны — никого. Мировой Океан, — подняв большой палец, сказал Папаша.
Тогда Юнец молча удалился на противоположный край острова — лицом к восходу. Так они и сидели, спиной друг к другу. А горизонт был ровен и пуст со всех сторон. И Папаша еще подумал тогда: «Не угомонится он. Нет, не угомонится».
— В сущности, — веско сказал Папаша после одного из обедов (у него, понятно, давно не было случая выговориться). - в сущности, жизнь, это ни что иное, как бегство от страха. История человечества (у меня было время подумать о нем) — постоянный панический забег без финиша. Только у каждого времени свои страхи. Чума, варвары, атомная бомба… Список можно продолжить. Продолжить? Болезни, одиночество, смерть…
— Происхождение острова — вулканическое, — сказал Юнец, напряженно о чем-то размышлявший.
«Он не угомонится, — огорченно подумал Папаша. — Нет, не угомонится».
— Ерунда, слушай дальше. Ведь если взять одного человека (в этом смысле у меня богатый опыт), то он, собственно, тем только и занят, что готовится к одиночеству, тому одиночеству, вечному… Из меня бы вышел проповедник, а?
— А значит — пемза, — сказал Юнец и поглядел под ноги, и даже топнул ногой, словно жеребец застоявшийся! — Пемза… Но ведь пемза плавает?!
— Башка, — одобрил Папаша. — Ты — башка. Да только ведь и г… плавает (прямо так и сказал). Однако ж мы — тут!
Сплюнул от досады, надвинул шляпу на глаза и задремал протестующе.
— А еще банки, — сказал Юнец вполголоса. — Много банок из-под консервов. Как поплавки. Сделать плот, а?
Потом нарвал травки, соорудил себе ложе, лег, запрокинув руки за голову и, наблюдая рассеянно за курсирующим светилом, забормотал, обращаясь непосредственно к мирозданию:
— Конечно, мы несколько поторопились, не без этого. Не стоило так уж наваливаться… Вот и не выдержало, — он даже усмехнулся. Шуму было… словно я родился!
А Папаша слышал все это, наблюдая через дырочку в шляпе. Он в шляпе специально проковырял дырочку. Раньше не было нужды, а теперь вот проковырял!
Юнец приподнялся на локте и огляделся. Огляделся совсем заново. Потрогал травку и похлопал по острову. Долго рассматривал Папашу.
Папаша ухмылялся под шляпой, утешаясь видом в дырочку!
А потом они оба — Юнец встал, а Папаша приподнял шляпу — посмотрели друг другу в глаза.
— Надо наводить порядок, — сказал Юнец.
— То-то же, — сказал Папаша.
— Ведь это же черт знает что!
— Так и я об этом! И не один год пройдет, пока мы покончим с этим, вынес приговор Юнец.
Ночью, при свете безмятежного полнолуния, Папаша грузил в надувную лодку (в хозяйстве все было продумано) запас харчей, инструмент, прочий скарб, необходимый обживающему новые места.
— В сущности, жизнь есть бегство, — философски размышлял он при этом. — Чего ж тут непонятного? Непонятно одно. Почему бегут не те, кому бы следовало, а?
Он оглядел островок. На том краю его, что ближе к восходу, на охапке травы, при свете тревожного полнолуния, сквозь сон бормотал свои невнятные проклятия Юнец.
— Слагаю корону, — сказал Папаша.
И по тихой тяжелой ночной воде отчалил без единого всплеска (опыт!).
А Юнец проснулся от одиночества. В бунгало-хранилище, славно потрепанном многолетним храпом Папаши, он обнаружил еще изрядный запас съестного. Кресло стояло на своем месте, храня на сиденье шляпу и трубку для нового владельца. Оставалось сесть лицом к натуральном закату, закурить, надвинуть шляпу на глаза и подумать о том, что солнце…
И еще ни слова, заметьте, не было сказано о женщине!
ПЕРЕПОДГОТОВКА
Сидят все четыре. Друг напротив друга. Четыре девушки, девчоночки. Автобус же — битком. Утро, час пик, все на работу чешут. Только все остальные молча чешут, а эти вчетвером не умолкают, щебечут. Вот о чем, к примеру:
— Ой, чего это?
— Больница, наверно…
— С балконами?
— А че такого?
— Да ну. Ты скажешь. Зачем больнице такие балконы? Там же люди лежат-болеют…
Но тут одна из них стремительно в рев ударилась. Остальные повернулись от окон и спрашивают:
— Ты чего?
— Я ключи забы-ы-ыла…
Одно отрадно, проявили подруги солидарность. И тоже в рев ударились. Но скоро успокоились. И говорят той, которая успела первой зарыдать:
— Ну, чего ты? Подумаешь… Мы попросим кого-нибудь дверь открыть. Вон хоть молодого человека.
И посмотрели они на Ушастого. И стали строить ему зареванные глазки. Ушастый молчал. А они спрашивали:
— Поможете, молодой человек?
Тут и первая зареванная туда же, строит глазки. Но и против этого Ушастый промолчал. Тогда в голосах их послышались плохо скрытые угрозы:
— Так поможете или нет?!
И совершенно неожиданно для Ушастого вдруг взволновался весь автобус (пассажиры):
— Вот же бесчувственный! Будто трудно помочь. А девочки, может быть, приезжие… Что они подумают о нашем городе?
Ушастый растерялся. И потому на ближайшей остановке выскочил. А все оставшиеся в автобусе расплющили носы по стеклам, показывая на беглеца пальцами (воспитаньице!) и хохотали, как ненормальные. Водитель тоже, наверное, хохотал, потому что автобус мотало из стороны в сторону. Ушастый чуть было не подумал: «Чтобы вы врезались куда-нибудь, придурки несчастные…». Но мысль эта оказалась греховной, и он не стал ее думать.
Ушастый слышал об этом городе еще в детстве. Его им тогда пугали. Потом ребенок рос и забывал детское. Когда же вырос, вдруг вспомнил. Детское воспоминание, как и положено, объявилось внезапно, без спросу, словно проснувшись от долгого сна, сладко потягиваясь и утверждаясь в реальности. Потому что появилась потребность побывать в том городе. Потребность малая, но неотложная. А то бы ни за что Ушастый добровольно туда не отправился.
По пути к нужному учреждению Ушастый постарался ни с кем не общаться и ни на что не обращать внимания. Просто опустил голову, да так и шагал. И со стороны, возможно, походил на чокнутого. Ну да ведь им не привыкать, думал он.
У больших стеклянных дверей увидел медную вывеску. Успокоился.
Вестибюль встречал прохладной пустотой и пустыми вешалками гардероба. Ушастый решил, что рано заявился. Вот и хорошо, первым буду. И руководствуясь указателями, двинулся к кабинету 22. Именно там, по слухам, могли разрешить все проблемы Ушастого.
И указатели не подвели. Вот дверь. И фамилия на ней: «Иванков. Часы приема…».
Ушастый глянул на часы. Вспомнил, что называли ему другую фамилию Иванов. Может напутали. Но с этого и начал, едва приоткрыв дверь:
— Доброе утро, — сказал он. — Вообще-то мне нужен товарищ…хм… господин Иванов. Прошу прощения, если ошибся…
В комнате, очень похожей на те кабинеты, которые Ушастый видел во многих других учреждениях, сидели двое. Один, беленький, за столом. Черненький — перед столом. Судя по запаху, они только что пили кофе. Причем, при появлении Ушастого, черненький подавился и зашелся в жутком кашле:
— Какого… кха-кха… без стука… так тебя… кха-кха…
Беленький приподнялся в кресле, сказал Ушастому:
— Доброе утро. Вы не ошиблись. Проходите, пожалуйста.
И трахнул черненького по спине. Да здорово так трахнул. У того аж челюсть изо рта вылетела. И пока черненький, не переставая кашлять, искал под столом и креслами свою запчасть, беленький вышел из-за стола и пошел к Ушастому, протягивая руку. Под ногой у него что-то хрустнуло. Черненький под столом заплакал. Кашлял и плакал. И ужасно жалко было его, дурачка.
Беленький тряс руку Ушастому, весело оглядывал его голубыми глазами и говорил без умолку:
— Очень рад. Сделаем все, чтобы помочь вам. И не надо так напрягаться, тут не сетевой маркетинг… Ха-ха… Насчет же путаницы с фамилиями… Тут дело вот в чем. Мы учитываем психологический фактор. Иванов — фамилия очень распространенная. Не так ли? И потому возникает некая, что ли, безликость в ваших взаимоотношениях с нужной вам структурой. Отсюда и за результат спросить некого. Вот мы и внесли поправочку. После консультаций со специалистами, — он значительно поднял палец. — А то иди потом, ищи Иванова. Вон их сколько!
И он махнул рукой в сторону хнычущего черненького, собиравшего в носовой платок осколки челюсти.
— Впрочем, прошу, — сказал беленький, предлагая кресло.
Ушастый сел, вытирая лоб носовым платком. Беленький тут же захохотал. И даже черненький шепеляво прихихикнул. Ушастый же твердо решил про себя ничему не удивляться.
А беленький кончил хохотать, вытаращился на посетителя, словно только сейчас заметил его присутствие, потом почесал в затылке и довольно грубо сказал:
— Ну-ка, встань!
Ушастый послушно встал. Беленький проворно перевернул кресло и уставился на одну из задних ножек. Та оказалась подпиленной.
— Некачественная работа, — укоризненно сказал беленький, доставая из-за пояса ножовку. — Надеюсь, никому не скажешь?
— Конечно, я никому не скажу, — успокоил его Ушастый. — У меня небольшой вопрос. Дело в том…
— Вот и отлично, — сказал беленький, убирая ножовку. — Вам будет о чем поговорить. А я вынужден вас покинуть. Извините, дела.
Беленький ушел, и Ушастый больше никогда его не видел.
— Не понимаю, почему ты не обиделся, — возмущенно сказал черненький, садясь за стол.
— Да нет, я обиделся, но…
— Вот только попрошу без угроз, — серьезно сказал черненький.
Тут и телефон зазвонил. Черненький поднял трубку, послушал и передал Ушастому. Оказывается, звонил беленький, предупредить:
— Ты лучше его не раздражай. Собственно, от него и зависит решение твоего вопроса.
— Позвольте, — сказал Ушастый изумленно. — Но как же тогда понять ваше поведение?
— А я принципиально выбираю себе таких друзей, — заметил черненький, отбирая у него трубку. — Мужественных, не раскисающих в трудную минуту. Ах, если бы все наши друзья были такими.
Он мечтательно посмотрел в потолок.
— А… а вы давно его знаете? — осторожно спросил Ушастый.
— Первый раз вижу, — решительно ответил черненький.
В общем, Ушастому стало не по себе.
— Так кто же из вас Иванов?! — взмолился он.
— Конечно же я, — сказал черненький. — Но не Иванов, а Иванков. Так и на двери написано. Можете выйти, проверить…
— Я верю, — поспешно сказал Ушастый, опасаясь, что как только выйдет, произойдет еще что-нибудь неприятное. — Но как же тот, беленький? Он говорил, что…
— Ты еще не знаешь этих придурков, — понизив голос и склонившись над столом, сказал хозяин кабинета. — Такое выкинут, только держись…
— А, — обрадовался Ушастый. — Так вы тоже не местный!
— Да нет же, — рассердился Иванков. — В том-то и дело, что местный. Потому и смею судить со всей объективностью. Что же тут непонятного?
Ушастый устал и отупел. И сказал:
— Не будем спорить. У меня к вам совсем небольшой вопрос. Вам, я думаю, не составит труда разрешить его. А разбираться в ваших проблемах — увольте.
— И вот все так, — назидательно сказал Иванков, доставая носовой платок с осколками и баночку клея. — Все. Никому до нас нет дела. Хапнут кусок полакомей — и ходу. А мы тут расхлебывай. — Он горестно покачал головой. — Сожалею. И весьма. Но разрешить ваш вопросик прямо сейчас, с ходу — не могу.
— Отчего же? Это совсем несложно, — чуть ли не взмолился Ушастый. — Вот все документы. Даже налоговый номер. Скажите только…
— Вы не понимаете, — прервал его черненький Иванков. — В свое время, давно, нас упрекали за бездушное отношение к посетителям. Справедливо упрекали, всю систему, нельзя не признать. И теперь каждый пришедший к нам окружен вниманием. Вот так. А вы думали, мы тут дурака валяем?
И улыбнулся во все тридцать два зуба!
Черненький выписал Ушастому кучу направлений и предписаний: в гостиницу, на анализы и т. д. Ушастый, сирота с детства, и не подозревал, что столько людей жаждут его видеть! Он даже попытался протестовать, ссылаясь на скромность своей персоны. Но Иванков отметал всяческие возражения:
— Вы сейчас наш гость. И мы обязаны. Понимаете? Обязаны, по заверениям специалистов, быть вежливыми и внимательными по отношению к вам. Таковы неумолимые законы работы с клиентом. Вот уедете из нашего города — хоть удавитесь! А пока…
Одно утешило Ушастого — гостиница оказалась в том же здании, только вход со двора.
Номер (отдельный, со всеми удобствами) отвели мгновенно! Запросили недорого!
Когда Ушастый осваивал телевизор, в дверь номера вежливо постучали. Ушастый внутренне подобрался, ожидая подвоха. Но вошла… Нет, вплыла, как ансамбль «Березка», очаровательнейшая из всех когда-либо виденных им представительниц прекрасного пола. Она со звоном хлопнула длиннющими ресницами и мелодично проворковала:
— Ты ведь не собираешься приставать ко мне с глупостями? А я всего лишь постелю тебе постельку и уйду. И если ты будешь умничкой и лапой, то я, возможно, полюблю тебя. И мы поженимся? Согласен?
Ушастый сглотнул и молча распахнул объятия.
— А вот и спокойно, — продолжила чаровница. — Давай посмотрим на вещи трезво. Почему бы нам и не создать счастливую семью?
— Моя семья-а-а, — проблеял Ушастый.
— Точно. А значит, ты не безнадежен. Потому что, в сущности, что мужику надо? Красивую и глупую бабу. Согласись, что хоть в нашем городе, хоть в любом другом, но жениться ты будешь, исходя именно из этого принципа. На столь сложное предложение внимания не обращай. Глупость свою я тебе гарантирую. Насчет же красоты…
Она повернулась так и эдак. Ушастый потрясенно молчал.
Вот и хорошо. Ну а коли уж речь зашла о серьезном чувстве, оно должно пройти испытание. У тебя направления на анализы есть? Вот и ступай. А я буду ждать тебя… Веришь?
И больничный флигелек располагался тут же, во дворе. Отсутствием больных даже припугивая!
В полутемном кабинете врач приказал Ушастому оголиться до пояса и встать в рентгеновскую установку. Ушастый влез и стал думать о словах той женщины из гостиницы.
— Кому говорят?! Иди сюда! — надрывался врач.
Ушастый вылез из аппарата.
— Сам смотри, — сказал врач сердито, указывая на зловеще мерцающий пустой экран. — Видишь что-нибудь?
Ушастый внимательно изучил экран.
— Нет, — признал он. — Не вижу.
— То-то и оно, — осуждающе сказал врач. — И откуда вы такие только беретесь?
— Но позвольте, — попробовал возразить Ушастый. — Что ж так то смотреть? Вы подождите, я опять туда влезу и…
— Поучи жену щи варить, — сказал врач, явно намекая на грядущие изменения в судьбе Ушастого. — Что влезешь, что не влезешь один хрен. Пусто. Понял, грамотный? Или по голове постучать?
Ушастый, не понимая причин его раздражения, не стал спорить. Оделся и пошел к выходу.
— Попросите, пожалуйста, следующего, — услышал он вслед.
Оценив его вежливость, Ушастый вышел в коридор и никого там не обнаружил, о чем и сообщил, вернувшись, врачу.
— Раз, два, три, — сказал тот негромко. — Я спокоен.
И швырнул в Ушастого настольную лампу. Тот поспешно скрылся, оставив медика в полной темноте, изрыгающей проклятия.
Так Ушастый посетил и остальных эскулапов. Визиты прошли примерно одинаково. Но все безоговорочно признали его абсолютно, то есть, девственно здоровым. Некоторых тошнило.
Ушастый вернулся в номер радостным, но избранницу и избравшую его не застал. И потому выглянул в коридор.
И потому выглянул в коридор. Дверь номера напротив тут же с треском захлопнулась. Но Ушастый чувствовал, что человек стоит прямо за дверью. И может быть даже рассматривает его в замочную скважину. Ушастый на цыпочках подошел к порогу, послушал чужое прерывистое дыхание и тихо спросил:
— Это вы?
Дверь стремительно распахнулась, и сильная рука бесцеремонно втащила его за шиворот в темную комнату.
— Только пикни, — произнес грубый мужской голос. — Видали мы таких. Быстро отвечай: местный?
— Приезжий, — просипел Ушастый.
Незнакомей отпустил ворот и включил свет. Перед Ушастым стоял мужчина богатырского телосложения, с взлохмаченной головой и горестным взглядом. Из одежды на нем имелись только зеленые плавки. Ушастого ужаснуло обилие растительности на торсе незнакомца. А тот вдруг бросился обнимать гостя.
— Брат, брат, — твердил мужчина, захлебываясь, и слезы его ручьями текли за воротник рубашки Ушастого. Тот еле выбрался из его джунглей.
— Да в чем дело-то? — поинтересовался Ушастый, сам крайне взволнованный.
— Брат, — прозвучало сквозь всхлипывания. — Взываю к состраданию. Подобно тебе, прибыв в этот город с самыми благими намерениями, остался в чем видишь. Посмотри вокруг…
Ушастый огляделся. В номере ничего не было! Кроме ванны, обычной чугунной эмалированной ванны. Стоящей почему-то посреди комнаты.
— А у меня бицепс — пятьдесят два сантиметра-а, — шмыгнул носом незнакомец.
Страшная догадка посетила Ушастого.
— Неужели она и у вас стелит постельку? — шепотом спросил он, осматривая внушительные телеса.
— Какая постелька, приятель, — воскликнул богатырь. — Ты посмотри вокруг, посмотри внимательно. Разуй глаза-то! Какая постелька? Пусто. Сечешь? Фантастика.
Он указал на ванну. Осторожно указал. Как на заминированную.
— Корыто видишь? Ну, так вот. Стоит туда что-нибудь положить, как исчезает бесследно.
Ушастый, стараясь ступать тише, подошел к ванне. Из отверстия слива торчала пробка. С обрывком цепочки.
— Зачем же ты… вы туда все положили? — кажется, резонно поинтересовался он.
— Да я сначала галстук туда уронил. Случайно, — пояснил незнакомец. — А потом уж из любопытства. Клал и клал. А оно исчезало и исчезало. Прикинь? Ведь правда, интересно? А?
Ушастый не очень поверил. Уж больно дорогой интерес получался.
— А как же плавки? Валил бы до кучи, — с подозрением сказал он.
— Грешно тебе, брат, смеяться. А ты вот возьми и проверь.
— То есть? Тоже снять с себя все и бросить?
— Почему? Брось что-нибудь не очень нужное.
— Извините, — хмыкнул Ушастый. — мне кажется, вы меня с кем то путаете. Я здесь по пустяковому, в сущности, делу. Не местный… Они, вполне возможно, смогли бы…
Богатырь обиженно засопел.
— Хочешь оставить меня одного в беде? Не ожидал. Я может с ума тут схожу, а разные… Вламываются в номер… А у меня вон бицепсы пятьдесят два сантиметра…
Он сжал кулачищи и сделал шаг вперед. Наверное ему действительно очень хотелось убедиться в своей правоте.
Ушастый подумал и снял носки. В чемодане у него еще оставалась запасная пара.
— Вот это по-нашему! Бросай, — азартно произнес волосатый.
— А теперь отворачиваемся. Айн, цвай!
Они обернулись. Носков как не бывало.
— Вот сукины дети! — восхитился богатырь. — Ну, надо же, какую сантехнику производят. И ведь не «Самсунг» там какой-нибудь, а наша, отечественная!
Ушастый озадаченно таращился на эмалевую, в желтых потеках эмаль. Носков он не жалел. Но он совсем забыл… И потому хлопнул себя по лбу…
— У меня же в носках… Понимаешь… понимаете, когда я в больнице раздевался… То деньги… Мне говорили…
Волосатый странно замычал, схватился за живот и рухнул прямо в ванну. Он лежал в ней, взвизгивая и всхлипывая и болтал в воздухе не очень чистыми пятками. И не думал исчезать!
— А куда пропал мой зайчик? И как наши дела? — заворковала будущая, по ее расчетам, супруга Ушастого, когда он, хлопая шнурками, вошел в свой номер. Вошел не в очень хорошем настроении.
А она ласково щекотала его за ухом.
— Ну, вот и надулся. Ну, вот и раскис. А улыбнись. А будь паинькой. Наша любовь еще не прошла всех испытаний. Или ты уже передумал?
— Собственно, я еще очень серьезно не думал над вашим предложением. Больше мечтал, — признался Ушастый. — Но считаю своим долгом предупредить, что у меня совсем нет денег. А мне тут еще находиться, пока мой вопрос разрешится…
— Ой, стихами заговорил, — восхищенно распахнула огромные глаза горничная.
Она присела Ушастому на колени, обхватила его за шею и прижалась к груди. Оттуда, от груди и промолвила нежно:
— При чем тут деньги? Никогда бы не вышла замуж за человека, у которого много денег. Во-первых, ведь за деньги, это не любовь, правда?
— Да, — сказал Ушастый. — Эта тема хорошо освещена в литературе. Например, у…
— Ах ты зайчик лопоухий, — сказала она ласково. — Какого черта ты перебиваешь женщину? Слушай дальше. Во-вторых: что у тебя за вопрос, с которым ты носишься? Ну-ка, поведай. Мы все должны знать друг о друге.
И Ушастый поведал:
— Понимаешь, никак в толк не возьму — готов я к этой жизни или нет. Мне все кажется, что она какая-то ненастоящая. Словно вот-вот проснусь, и исчезнет все. И вернется жизнь прежняя. А я уже к этой зачем-то готовлюсь. Понимаешь? И кто же я тогда?
— И все? — спросила она. — И над этим ты маешься? Да ведь и так ясно, что ты… ты… Ты такой… Ах, нет!
И она зарыдала, уткнувшись Ушастому в плечо. Когда потрясение прошло, и она вновь обратила лицо к небу, Ушастый сказал:
— У вас, наверно, пенсия очень небольшая, коли вы тут подрабатываете?
Горничная вскрикнула, вскочила с коленей и бросилась к зеркалу.
От слез вся краска с ее лица сползла куда-то к подбородку.
— Это ничего, — сказал Ушастый. — Я тоже устроюсь тут на полставки. Вам будет хватать. А если у вас есть внуки…
Почему-то горничной не понравилось то, что говорит Ушастый.
Медленно и не оборачиваясь, она побрела к выходу.
В сущности, повествование об этом отрезке жизни Ушастого практически закончено. Иванков все чего-то тянул с разрешением вопроса насущного. И Ушастый решил вернуться. Бог с ними, с той или иной жизнью. Сам-то ты другим все равно не станешь…
Когда Ушастый попросил обратный билет, Иванков попытался всучить ему просроченный. Пришлось пристыдить. Но кажется, безрезультатно.
И еще один момент заслуживает внимания. В вагоне, кроме Ушастого, никого не было. Хотя до отправления поезда оставались считанные минуты. Ушастый опустил окно. У степеней внизу переговаривались проводники.
— Еще одного спровадили, — сказал один.
— Учат их, учат, а толку, — согласился второй.
Первый толкнул его в бок и показал на окна. Второй дружески улыбнулся Ушастому, поднял руку вверх, разведя два пальца буквой V и громко стал скандировать:
— Грин-пис! Грин-пис!
Должно быть потому, что вагон был международный.
ПРИВЫЧНЫЙ МАРШРУТ
Они уже час сидели напротив. И столько же оставалось до конца пути. Они не были знакомы. Хотя не раз замечали друг друга в электричке. А вот сейчас оказались сидящими напротив.
И они решили обменяться мыслями. Когда еще доведется?
Она рассмотрела его мысль. И увидела: она для него интересна, в чем-то загадочна, умна, держится с достоинством, без кокетства, одевается со вкусом, самостоятельна, возможно с квартирой, но — близорука, хотя и не носит очки, полновата и есть опасность, что после рождения ребенка располнеет еще, обабится, станет ленивой, капризной, начнет пилить из-за тряпок, денег и квартиры, настаивать во всем на своем, обзывать пьяницей, дойти из мести до измены, затем до развода, запретит видеться с ребенком, станет въедливо высчитывать алименты…
И он рассмотрел ее мысль. И увидел: он решителен, но в то же время мягок, опрятен, не развязен, пристален во взглядах, а значит, умен, есть сбережения, но нет квартиры, а потому возможен расчет, корыстный брак с вытекающей отсюда бесчувственностью, частые командировки, чреватые неверностью, скандалами, пьянками с друзьями, покушениями на раздел имущества и квартиры, уклонение от алиментов, настраиваниями ребенка против нее…
Они вернули друг другу мысли, обогатив их полутонами возмущения и разочарования. И долго глядели в одно окно, за которым тащились все те же надоевшие сопки, распадки и редкие полустанки.
Потом она попробовала почитать, а он — уснуть. Не получилось. Темнота туннелей наводила на грустные мысли. И поскольку темнота туннелей для обоих оставалась одинаковой, они теперь глядели в окно с одинаковыми грустными мыслями. И это уже почти была близость. Хотя от такой близости ничего не могло родиться.
Электричка уже вползала на вокзальные пути, надо было выходить, и он вышел и подал ей руку, помогая сойти с высоких вагонных ступеней.
Спешащие пассажиры, провожающие и встречающие обтекали их: женщину и мужчину с сокрушенными ликами. И со стороны могло показаться, что они стоящие близко-близко и вглядывающиеся в лица друг другу — любящие супруги, которые прощаются. Прощаются надолго. Может быть и почему-то — навсегда. Да ведь так оно и было.
ОСЕННЯЯ ЖЕНЩИНА
Нахальный такой дятел, хоть и симпатичный, на лету долбанул клювищем между бревнами и выдрал-таки кусочек пакли! И победно рванул к роще за деревней, замелькал меж голых ветвей, обустраиваться на зиму.
— Я же говорила, что надо сильнее заколачивать, — сказала она снизу.
— Залезла бы сама да заколачивала, — пробормотал я.
— Что?
— Я спрашиваю, — проговорил я громче, — если она идеальная женщина, почему жениться на ней должен я? Я-то не идеальный.
— Разумеется, — мгновенно и с удовольствием согласилась она. — Ты не идеальный. Но, тем не менее, она имеет право на опору.
— На что?
Я с трудом удерживал равновесие на этой хлипкой. как и все в ее хозяйстве, стремянке.
— Ты даже этого не знаешь? — изумилась она. — Так слушай, золотце: мужчина должен быть опорой для женщины.
— То есть? Что я должен делать в этом качестве? Шею подставить? Давай паклю…
— Держи… Ой, в глаз попало! Ветер еще этот дурацкий!.. А ты вот вспомни отца, вспомни…
— Чьего?
— Твоего.
— Да я и не забывал.
— Был он опорой для мамы?
— Я как-то не спрашивал. Только не надо обвинять меня в черствости…
— Ну, помогал он ей вас, детей, растить?
— Да. Для этой цели на дверной ручке в их спальне всегда висел ремень. Широкий такой, помню, офицерский. Однажды…
— Я серьезно. Жалел он мать?
— Как это?
— Деньги приносил?
— Попробовал бы… А черт! По пальцу… Попробовал бы не приносить.
— Вот! Не бил ее?
— Хм… Меня к рингу не допускали. Но, судя по доносящимся звукам, пограничные конфликты имели место. Слушай, кажется дождь, а?
— Ничего, сейчас прекратится. Он весь день начинается. Вон там еще постучи. Видишь, торчит?
— Вижу, только летать я еще не научился, некогда…
— И не научишься.
— Кто знает. Мне одна девица как-то сказала: потерпи еще лет пять, и я стану красавицей…
— Тьфу!
— Что тьфу?
— На девиц твоих — тьфу! Ты хоть понял, о чем я говорила?
— Насчет опоры? Более-менее. Я не понял: я-то тут при чем?
— Ты, именно ты и должен стать ей опорой. Битый час тебе втолковываю!
— Ладно, не сердись. Но ты же сама сказала, что детей она не хочет, так?
— Ну-у… Нежелательно. Возраст уже…
— Вот. Итак, поддержка в деле воспитания детей исключается. Второй пункт. Женщин я не бью. Так что ей что со мной, что без меня — одно и то же.
— Как это?
— Не перебивай. Остается финансовый вопрос. Она что, не работает?
— Почему? Работает. Но платят мало.
— А что если я ей просто буду выплачивать стипендию? Именную? Имени моего имени? А? Нет, серьезно, мне эта идея нравится. Ты узнай, какая бы сумма ее устроила, я бы подумал… Представляешь, я сохранил для человечества идеальную женщину, помог ей выжить! Все, давай телефон. Как-нибудь позвоню.
— Не как-нибудь, не как-нибудь! Позвонишь сегодня же или завтра. Я ее предупредила.
— Уже!? А если бы я не согласился?
— А то я тебя не знаю.
— Что-о?
— Ничего, ничего. Заканчивай. Пойдем покормлю. А то и с сытым мужиком тяжело говорить, а уж с голодным…
— А ведь я даже не знаю, о чем и как разговаривать с идеальной женщиной!
— Уж во всяком случае, не так, как со мной!
— Слушай, а у нее с чувством юмора как?
— Прекрасно.
— То есть — как у тебя?
— Вот-вот, если будешь разговаривать с ней в таком тоне…
— В каком?
— В глупом, развязном… Пиши — пропало. У вас с ней ничего не получится.
— Значит, придется разговаривать глупо и развязно.
— Не испытывай мое терпение!
— Ну, хорошо. Позвонил. Что дальше?
— Пригласишь куда-нибудь.
— Хорошо. Приглашу.
— Куда? Уже решил?
— Это сейчас надо решать?
— Конечно! Я же должна знать!
— Давай паклю… Домой, конечно.
— Ты с ума сошел! Я же тебе целый день толкую — она не такая… Сходите на выставку, погуляйте…
— А знаешь что? Приглашу-ка я ее к тебе. Вот и будем вместе конопатить. Или картошку копать. Смотри, уже дожди зарядили, погниет все, не управишься…
— Ох-хо-хо… Нет! И вообще, что ты себе думаешь? Женщина тебе кто?
— Товарищ, соратник… в различного рода схватках.
— Картошку копать… Это ты брось. А ты на что?
— Хорошо, если она такая идеальная, то почему не замужем, а? Почему?
— Ты не хуже моего знаешь, как не везет таким женщинам. Ка-та-стро-фи-чески! Вам же все вертихвосток подавай.
— Ты прямо как старенькая страха рассуждаешь. Не рано ли?
— А ты думаешь, мы с тобой молоденькие? Посмотри на себя. Неустроенный, неухоженный. Все порхаешь, а морщины-то уже…
— Ну, спасибо. Только почему бы тебе о себе не позаботиться? А ты — о ней…
— Да что я? Промаялась, привыкла. Дочка уже, слава Богу, большая, в школу ходит… А ей… Ей тяжело. Таким женщинам всегда тяжело, а уж в наше-то время… Она такая… Беззащитная.
Мы уже сидим в продуваемой сквозь щели в бревнах кухне и пьем чай на мяте. В окно видно, как под фонарем в глубине сада сидит ее сумасшедший брат. Он быстро-быстро курит и лихорадочно крутит ручку настройки давно сломанного приемника.
— Ну?
Она смотрит грустно и устало.
— Позвонишь?
— Позвоню. Только я ничего не обещаю.
— Нет, нет, — торопливо успокаивает она. — Если не понравится, никто тебя силком никуда не потащит. А послезавтра я тебе перезвоню. Расскажешь мне все, хорошо?
— Угу. Все-все расскажу. С пикантными подробностями.
— Ну, иди, — вдруг сердито говорит она. — Мне брата надо кормить. Он не любит посторонних.
Я иду к калитке, вспугивая по пути птицу со стены дома. Наверное, того же дятла. Протяжно вскрикивает у станции электричка. Сзади, над двором, слышен зов:
— Сережа! Сереженька! Иди обедать… Иди, не бойся. Нет никого…
АРТЕК
— Извините, — сказал я, боясь ошибиться, и тронул ее за рукав.
А вот с извинениями надо было подождать, поскольку она вздрогнула, поскользнулась на обледенелых ступенях магазина и чуть не упала. Но удержалась, нелепо расставив ноги, застыв и крепко прижимая к груди бутылку.
— Ах твою, — сорвалось с ее губ вместе с клубами новогоднего пара.
Раньше, лет двадцать пять назад, она и представить себе не могла, что сможет выговорить такое. И не могла себе этого представить именно она, Ленка Усова, круглая отличница и вечный председатель совета отряда, дружины и секретарь всяких там организаций, распекавших нас за двойки и недостойное поведение, отдающее запахом дешевых сигарет. Не знала она тогда таких слов. Вернее, знать не хотела. И не хотела знать, что заигрывать с парнями гораздо интереснее, чем сидеть за учебниками.
— А правда, что у тебя не было ни одной четверки? — спросил я, когда мы уже сидели в ее крохотной кухоньке в однокомнатной квартире, куда она затащила меня запросто, затащила как бывшего одноклассника, сразу признав в потрепанном, давно сгинувшем в безвестность бедолаге того самого Рыжего, что дергал ее за косички, а затем еще нахально просил дать списать контрольную.
— Правда, — гордо сказала она, по-девчачьи вздернув тот же остренький носик, который раньше казался мне таким ехидным и вечно лезущим не в свои дела.
— Фью, — присвистнул я все с тем же полузавистливым недоверием, все еще живущим в том далеком прошлом. — Ну, ты даешь…
— Давала, — сказала она.
Тикал расхлябаный будильник, из крана тихой струйкой падала вода, мы пили холодную водку и с хрустом закусывали прихваченной льдом капустой, принесенной ею с балкона.
Она рассказывала мне историю своей жизни, о том, как умер младенец-первенец, о том, как последовал выкидыш, как пил муж, как ругались и дрались, как закончила институт (с отличием!), как вышла замуж второй раз, как и второй пил, как ругались и дрались… Рассказывала не стесняясь и не кокетничая, как близкой подруге, как мужику-собутыльнику. И выяснялось, что ничего она в этой жизни не пропустила за учебниками, всего хлебнула-отведала.
Выплакивал и я свое — о двух женах, о детях-безотцовщине, о несбывшемся. Со стороны, наверное, могло показаться, что мы каждый бубним свое, не слыша друг друга. Может быть, иногда и не слышали, но чувствовали, что слова падают не в пустоту, и произносятся не напрасно…
— А помнишь…
— А помнишь…
И мы вспоминали. Всех. Сначала, как водится, погибших и умерших. Зарезанного в пьяной драке Синюху, сережку Синякова. Спившегося до самого дна классного футболиста, гордость школы, Толика Ильина, Илью. Разбившегося Сашку Копнышева, Копу, водителя-дальнобойщика. Утонувшего военного моряка Игоря Рекунова, Рекушу. И погибшего на войне Женьку Курбатова, так и оставшегося без прозвища. Вспомнили и помянули. И с душой просветленной обратились к живым и здравствующим. И второй бутылке. И оказалось, что многие нормально…, а-а некоторые и здорово живут. И мы выпили за них, и пожелали им… там… всякого… разного…
А когда нас совсем развезло, я спросил:
— Мать, а на хрена тебе сдались тогда все эти пятерки? Тогда… Я имею в виду еще тогда…
Она отвернулась к окну, коснулась рукой занавески и сказала:
— В Артек хотелось. Вот дура, да?
Я уперся взглядом в висящий на стене аляповатый календарь с кошками, пушистыми и симпатичными, но какими-то ненастоящими кошками, ну не бывает таких кошек, хоть вы меня убейте, и впал в задумчивость. Произнесенное название вдруг неуклюже пробудило что-то ранее непродуманное, ни с кем не проговоренное. Артек… Да, было что-то такое сказочно-солнечное, недосягаемое. Я стал вспоминать. Я вспомнил, что… что не то, чтобы не хотел туда… Как не хотеть!? Все мы хотели быть космонавтами. Но это желание пребывало где-то в той части сознания, где тайно лелеялись мечты о том, чтобы стать самым сильным и показать мальчишкам из соседнего двора почем фунт лиха; или стать невидимым, чтобы пробраться к девчонкам в раздевалку; или научиться летать… Но я знал, что не огорчусь, если эти желания не исполнятся, иначе… иначе я бы просто не выжил. Так и Артек. Он — как на экране, где Фантомас и снежный человек…
— Ты о чем? — спросила она.
— Эх, — сказал я, махнув рукой. — Давай-ка, мать, за годы молодые. Капуста у тебя — блеск!
— Ты ведь не о том хотел сказать, — проговорила она, дрогнувшей рукой подняв рюмку.
— А надо… о том? — спросил я, поднимая чашку с трещиной.
Она пожала плечами и выпила.
— Совсем я… какая-то… Спать пойду… Хочешь, оставайся… Раскладушка в коридоре висит.
Я глянул на бутылку, в которой еще плескалось граммов двести.
В дверях кухни Ленка повернулась.
— Только не думай… Я не испытывала ра-зочарований… Из-за того, что не съездила туда. Никаких ра-зо-ча-ро-ва-ний!
Она погрозила мне пальцем, покачнулась и удалилась в комнату.
Я еще посидел, выпил, покурил, повспоминал. Артек… Ну что, в самом деле, Артек? Господи, какая разница. Хотя… слово вроде бы глухое, а звучит звонко. Звонче, чем Агдам.
А мне было нормально. Я сидел в тихой кухне и не испытывал никаких ра-зо-ча-ро-ва-ний. И правильно, Ленка, так держать, ну их псу под хвост!
Но вскоре и меня сморило. Я пошел к Ленке в комнату и лег ей под бок. Она сонно прижалась ко мне. В раскрытую настежь форточку задувало с похоронным привываньем. Где-то по улицам подбирался к домам Новый год. В наших телах еще оставалось тепло, и мы согревали друг друга.
И не испытывали никаких разочарований… ваний… ани… ни…
ЗА ГОРОДОМ
Денек серенький, из последних февральских. Над дачным поселком застыл тяжелый сырой воздух. Черные сучья берез брезгливо сыпят капелью. Изредка заполошно кричит промокшая ворона. Вдалеке, над сторожкой, радуя глаз, расползается веселый желтоватый дымок над трубой.
Из глубины поселка осторожно выползает легковая машина. Глянцевый, с голубоватыми прожилками наст дороги, словно противень жиром, смазан талой водой. Зеленый жигуленок крадется робко, страшась кюветов, где сторожит добычу жадный, набухший снег.
На одном из узеньких перекрестков машина делает неоправданно лихой поворот. Багажник заносит, и заднее колесо срывается с дороги, попадая в вязкую обочину, где уже проступила из подо льда глина. Жигуленок еще не верит в случившееся, отчаянно ревет двигателем, яростно вращает колесом, угодившим в цепкую западню, и все глубже зарывается им в грязь и ледяную крошку.
Так продолжается пару минут. Затем машина затихает и открывается дверца. Водитель растерянно оглядывается и пробует толкнуть автомобиль, упираясь плечом в переднюю стойку. Тщетно. Сверху на него ругается ворона. Водитель плюет с досады, садится за руль и скорее от бессилия, чем от веры в успех, какое-то время гоняет движок. Легковушку окутывают смрадные выхлопы.
В стоящей сразу за кюветом избушке, похожей скорее на баню, хлопает входная дверь. На крыльце появляется рослый мужик в полушубке, с непокрытой лохматой головой. Молча подходит к машине, упирается красными ручищами в багажник, командует:
— Трогай!
Два мощных толчка, и жигуленок на свободе. То бишь, всеми четырьмя колесами уверенно стоит на дороге.
Не выключая двигатель, водитель выскакивает из машины.
— Вот спасибо большущее! Без вас мне бы век тут куковать. Сигарету хотите?
Мужик отчего-то морщится и неожиданно грубо говорит:
— Да пошел ты со своей сигаретой! Садись в свой драндулет и проваливай. Всю избу мне провонял выхлопами. Теперь вот окно открывать, проветривать, а потом обратно топить? Итак с похмелья башка трещит! Еще ты тут…
— Простите, — теряется под таким напором водитель. — Но вы поймите, я же не виноват. Ну, автомобиль, дело такое… Не я же его изобрел…
— Да ты уедешь наконец или нет? Стоит тут, базарит и продолжает дымить! Совесть есть? Думаешь, если у меня не хоромы, а хибара, так можно выпендриваться? Что за народ пошел? Сплошные козлы!
— Послушайте, — не выдерживает наконец водитель. — Вы все-таки выбирайте выражения. Я, конечно, вам благодарен, но… но есть же всему предел. Вы что же себе думаете…
— Ах, мать твою! — срывается мужик и делает решительный шаг вперед.
Водитель сжимает кулаки и занимает оборонительную позицию.
Но мужик обходит и его, и машину с другой стороны, с силушкой налегает на капот и… толкает машину назад. Жигуленок послушно скатывается в ту же рытвину, из которой только что выбрался. А мужик, ни слова не говоря, скрывается в избе.
Водитель, придя в себя от минутного замешательства, прыгает за руль и в ярости вдавливает педаль газа до упора. Двигатель злобно ревет, поднимается завеса выхлопных газов. Этот кошмар длится недолго — машина бастует, глохнет.
И снова над поселком тишина. Медленно расползается смрадный газ. Изредка бестолково бранятся вороны.
ГДЕ ТЫ БЫЛ ВО ВРЕМЯ ДОЖДЯ?
Летом под Звенигородом есть тихая станция Скоротово. Как и большинство приезжающих сюда дачников, я не знаю, существует ли она зимой. Пытаясь убежать от Москвы подальше, железная дорога в Скоротове вытягивается в одну колею. Так что всегда немножко тревожно — возвращаются ли ушедшие дальше, в Звенигород, электрички?
Дневная тишина тяжела запахом многих трав. Лишь изредка ветер из леса подмешает к ней терпкий дух разогретых на солнце шпал.
Белые пенистые островки тысячелистника, желто-сиреневый брачный наряд иван-да-марьи, редкое рябоватое золото зверобоя, прячущего свою целебную силу среди чернобыльника… Все это мои новые знакомые, которых я, городской житель, с неясной страстью разгадывал сначала в книгах, а потом уже на воле. Я прочитал ради них много хороших и умных книг. Но больше умных, потому что, увидев вдруг склоненную над травами старушку, я вспомнил: «… запрещается собирать растения у железнодорожного полотна».
Я ничего не сказал старушке, прошел мимо.
А через несколько метров я встретил и ее внучат: одного лет шести, другого — трех. Светлые-светлые волосы их были, казалось, омыты лесными дождями и согреты теплым дыханием придорожного разнотравья. Белоголовики, как я тут же окрестил их для себя, набирались бабкиной мудрости, что-то старательно выискивая в цветах и зелени. А мне для этого пришлось прочесть много умных и хороших книг. Но все-таки больше умных, потому что, пройдя немного, услыхал я топоток сзади и, оглянувшись, встретил полный недоумения взгляд белоголовика большенького.
— Здравствуйте, — сказал он.
— Ну конечно, — сказал я. — Извини. Здравствуй.
Отвернулся и шагнул было. Но топоток, возникнув вновь, настиг меня и смолк, когда я, роясь в прочитанном, во всем, прочитанном мною, оглянулся.
— До свидания, — прошептал он укоризненно. Рядом с ним крепкой подпорочкой стоял младший.
— Ах ты, Господи помилуй, — сказал я тоже шепотом, чтобы не испугать этот маленький мир наш. — До свидания, до свидания.
О губительна, бабка, мудрость твоя!
Я прибавил шагу, как всегда, пытаясь убежать от того, что не понял с первого раза.
Хорошо, что у нас есть дела, которые ждут нас и подгоняют. И мы все сваливаем в память, надеясь и искренне веря, что придет время, и мы во всем разберемся и поймем… Будто если это и в самом деле произойдет, нас кто-то похвалит и даст нам покой…
Меня ждали на даче. Ждали мои друзья и, может быть, любовь моя. И я спешил, соединенный с ними тайным заговором горожан, боящихся поодиночке леса, реки, гор, но привыкших издали восхищаться ими.
Сойдя с насыпи, прежде, чем уйти в лес, я оглянулся. Столбик с километровой отметкой и линия железной дороги оставались сзади, как граница.
Сколько раз давал себе зарок не курить в лесу. Дыши, ведь легкие в городе… И что-нибудь из умной книги. Но нет, нет. Страшно. Запахи леса сильнее запахов трав, в крови моей, душат сердце, дурманят голову. Если и остался леший в лесу, то часть его — в запахах. Они закружат, заведут, и никогда не отыщешь дороги. И уже тогда, найдя в лесной голытьбе души родственные, я забуду язык умных книг, но познаю слова сокровенные… Страшно…
Как бы осерчав на робость мою, лес зашумел, призывая ветер, заплел тропы корнями, показал ненадолго, как отвергнутую мною награду, островок синего неба… И будет гроза тебе карой… Успел заметить краем глаза каплю «волшебной» росы на ладони манжетника…
… В ожидании грозы мир сузился до размеров нашей с тобой комнаты. Закрыть все окна, форточки, двери для покоя домашних, как они кричат: гроза, гроза! сквозняк, все побьет… и поднимается милая всем суматоха, и что-то обязательно разбивается. Ждать. Но молния… но гром… Ждать. Молния. На мгновение застынут, выхваченные из темноты, книжные полки и мертвенно-бледные корешки книг, одеяло на твоих коленях, диковинным белым цветком прижатая к груди твоя раскрытая ладонь. Гром. И все затихнут в терпеливой и тихой радости, что вот произойдет, вот кончится, и тогда, после теплого шального ливня, открыть все окна (какой запах, ты только вдохни; озон; фу, как скушно; хорошо, не озон, «Шанель»; обиделась).
Я знаю, зачем лесу нужен ливень. Это: промочить листья и травы, напитать их новыми запахами; это: добраться до моих папирос… «Здравствуйте. — До свидания». Сколько раз говорили мне цветы и травы, открываясь и закрываясь каждый день, терпеливо ожидая встречи и ответы. И ты, Ты — радуясь (здравствуй) и обижаясь (до свидания)… Ничего, я научился курить в дождь. Ничего, авось, глухота моя мне же и во спасение. Дайте подумать, пока идет дождь… Гром и молния. О чем подумать? Как спрятаться от грозы? Забыл. Читал, но забыл. Как не заблудиться в лесу? Забыл… Вспомню. Если бы ты сейчас была здесь. Ты ведь не вскрикиваешь притворно при грозе. Право же, в лесу можно забыть о всей той дряни, что так быстро пристает к тебе в городе. Ты обиделась? Напрасно, я же вижу, как ты пытаешься противостоять. Ты у меня молодец. Стойкий оловянный солдатик… Страшно.
Разве мы не в лесу? В городе? Хорошо, пойдем гулять, я же знаю, ты любишь гулять вечером после дождя. И чтобы я обязательно нарвал тебе цветов с клумбы в нашем скверике. Это не воровство?
В дождь, как осенью, память раскрывается навстречу сущему и чутко всматривается в любой его знак.
Нет, лес, я ушел от тебя. А вернее, и не приходил. Хоть и бесконечны дожди твои, но память, память моя жива не тобой. Так что давай, отпускай меня из плена. Меня ждут…
Дуб, под которым я нашел кров, надежно спрятал меня. И когда я вышел из леса, только ноги мои были мокры по колено — это травы напоминали о себе.
Большой черный пес вдалеке прыгал рядом со знакомой фигуркой, спешащей навстречу мне. Я почти побежал. Потом побежал. Я видел ту, что дарила меня любовью и которой я сейчас спешил отдать свою. Так у нас на земле заведено.
Мы сближались, и уже лицо мое ощущало тепло твоего взгляда… Вдруг твой ньюф остановился, зарычал и стал пятиться от меня, прижимаясь к ногам твоим, не пуская тебя. И ты, мокрая насквозь, остановилась, откинув прилипшую к лицу прядь волос.
— Ты сухой, — сказала ты испуганно.
— Ну да, — я еще улыбался. — Я хочу сказать тебе…
— Подожди, — чуть не закричала ты. — Ты же совсем сухой! Где ты был во время дождя?
Это лес, быстро-быстро подумал я. Это его штучки. А собака учуяла запахи лешего. Это лес не оставляет меня.
— Это лес, — сказал я. — Но я люблю тебя.
Показалось ли мне, что слова мои прозвучали как признание в смертном грехе…
Ты отвернулась от меня и пошла по травам. Пес бежал рядом, радуясь хвостом твоему нежданному спасению. А я видел по спине твоей, облепленной мокрым платьем, как страшно тебе было во время грозы, хоть ты и была не одна, но с чужими тебе, и как ты тревожилась за меня…
И еще я видел, но далеко впереди, что, наверное, мне удастся найти слова для тебя и успокоить. Ведь я читал не только умные книги, но и хорошие, добрые. Я еще отмоюсь волшебной росой манжетника и вернусь из леса промокший до нитки, и все пройдет.
Все ведь проходит, кроме дождя.
ВСЛУХ
— Послушай, что я тебе скажу…
— А ты не говори ничего. Крась себе. Мы ведь дело делаем. И срочное. О чем же говорить?
Малышня нестройными многоглазыми колоннами дует в театр. Лето. Каникулы. И проходя мимо забора, который мы покрываем зеленью, каждая колонна выдыхает:
— Эх красят… Ух красят… Ах красят… И норовят пальцем.
А те, кто индивидуально, с родителями:
— Мам, а зачем красят?
— Чтоб было красиво, детка.
Я отчетливо представляю Димкин взгляд. Устремленный к чугунным узорам. Темная зелень сейчас от краски в глазах его. Настоящего цвета их я не знаю. Просто они всегда что-то отражают. И он сейчас, должно быть, шепчет про себя: «Ну, потерпи уж, голубчик. Потерпи. А потом ты забудешь старые дожди и ветра, и боль, грызущую тебя ржавчиной. Конечно, ты уже не станешь новым, увы, но все-таки…».
На проходящих Димка не обращает никакого внимания. Это его судьба смотреть прямо. Иногда очень далеко, но только прямо. Может быть, поэтому и обращаются прохожие только ко мне. Вот как сейчас. Я слышу замедляющиеся шаги… Ну, кто?
Молчание. Я оборачиваюсь. Девушка. И красивая. Молчит, красивая.
— Любуетесь?
Она смотрит на мою работу. Смотрит рассеянно, словно по неприятной обязанности.
На ней сиреневый костюм и серая блузка. Длинные, чуть волнистые каштановые волосы.
Капля краски стекает с моей кисти и падает у ее ног. Она вздрагивает и переводит взгляд на меня. Все с тем же выражением лица.
— А потолок вы сможете побелить? — спрашивает она. С сомнением спрашивает.
Но такие девушки не каждый день подходят с вопросами.
— Кто? — спрашиваю я, чуть не бия себя в грудь. — Я?! Да я…
Предательская капля опять срывается с кисти.
Димка оборачивается на наши голоса. В глазах его сменяются цвета: серый — асфальта, с зелеными брызгами, затем — сиреневый, ненадолго. Отвернулся: темная зелень.
— А обои клеить?
По-прежнему смотрит недоверчиво. И очень серьезна. Димке под стать.
— Харчи ваши, — говорю я. — Правильно я вопрос понимаю?
— При чем тут харчи? — говорит она, произнося последнее слово с трудом и без желания. — Мне нужно сделать ремонт в квартире.
Ну страх как серьезна.
— Что ж… Посмотреть надобно, — говорю я с солидностью старого мастерового. — Прикинуть. Дело-то нешуточное. Не забор красить.
— Я могу заплатить только сто долларов, — поспешно говорит она, словно деньги у нее уже зажаты в кулачке.
И я смотрю на ее правую руку. Кольца на пальце нет.
— А если я запрошу восемьдесят? — восклицаю свирепо.
— Нет-нет, — быстро возражает она. — Только сто. Два потолка побелить и обои… Постойте, что вы сказали? Восемьдесят? Но… Вы серьезно?
— Нет на свете человека серьезнее меня, — говорю я с горечью. — Оттого и все мои беды. Да ладно… Когда будем объект смотреть?
Она роется в сумочке.
— Сейчас я запишу вам мой телефон… Но вы не обманете? Я буду ждать вашего звонка. Вы вправду придете?
Это «вправду» трогает меня чуть не до слез. Я торжественно клянусь: и прийти, и позвонить.
Она уходит. И дети все уже прошли в театр. Сейчас сидят себе в полутемном зале, шуршат бумажками, носы вытирают или вопят чего-нибудь все вместе, а может, носятся в фойе или трутся у буфета…
Жарко. Мы в молчании заканчиваем нашу летнюю студенческую халтурку. Пару раз я ловлю на себе Димкин взгляд.
В раздевалке, пока мы оттираемся бензином, Димка, наконец, заговаривает:
— Ну и на кой хрен ты заморочил девушке голову? Ведь ты же ни уха, ни рыла не смыслишь в ремонте квартир.
Я уже привык к его высказываниям, высказываниям «практического мужика».
— Зато я смыслю в девушках, — говорю я. — А это поважнее ремонтов.
— Может быть. Но как же ты все-таки собираешься делать ремонт?
— А ты разве не поможешь?
— Нет, — говорит он очень-очень серьезно и смотрит на меня в упор. Какой-то блеклый, сероватый оттенок приобретают глаза его.
— Хоть в этот раз, но ты ответишь за слова свои, — говорит он. — Или позже. Все равно ответишь.
Я звоню по телефону. Моего звонка, оказывается, уж и не надеялись дождаться. Вот как. И я послушно повторяю:
— Так… Перейти дорогу. Там магазин… Еще бы я вас не узнал! Да, вопрос: когда дорогу буду переходить, куда смотреть — налево или направо? Или только на вас?
— Смотрите под ноги, — советует она.
А дома-то она себя поувереннее чувствует.
Она в джинсах и свитере стоит у магазина, как и обещала, пристально рассматривает прохожих. Волосы собраны в узел на затылке. И кажется она мне еще стройнее и красивее. Я подхожу и останавливаюсь в двух шагах. На меня — взгляд искоса. Я молчу. Наконец она решается:
— Это… вы?
— Не надо было мне, наверное, краску смывать, — говорю я. — В таком виде я вам не очень, да?
— Знаете что…, — говорит она. — Хорошо. Идемте.
Квартира действительно мелковата: две крохотные комнатки.
Кухня, в которой вдвоем натолкаешься друг об друга. У входной двери пара моих башмаков занимают чуть ли не половину коридора. В совмещенные удобства я еще не заглядывал, но и там вряд ли степной простор. Квартира здорово запущена, мужской руки явно не хватает.
— Проходите в кухню. Уже накрыт стол.
— Это вы для меня?
— Ну да. Вот. Харчи, — говорит она и пытается улыбнуться. — А вы не стесняйтесь. Иногда даже приятно кого-то покормить. А то ведь и забудешь, что женщина должна быть еще и хозяйкой.
Вообще-то я сегодня еще не обедал, и предложение ее весьма кстати.
Я бодро берусь за ложку, а хозяйка, хлопоча у плиты, подобревшим голосом говорит и говорит:
— Я уже давно задумала сделать ремонт. Я маме даже говорила, что, может быть, и болезни ее оттого, что живем в этом… во всем этом. Да у меня и у самой настроение портится, когда я вижу эти стены, потолок… На евроремонт не поднимемся, ну а так… Ведь правда?
— Угу, — мычу я, целиком занятый борщом.
— … А нанимать бригаду из фирмы — это ж так дорого. Ведь правда? Опять же, неужели выходить замуж только за тем, чтобы было кому потолки белить… Чушь, правда?
Она смеется. Очень славно смеется. Но мне не до смеха. И пока я пытаюсь разобраться в своих ощущениях, из прихожей доносится шарканье. В кухню, придерживаясь за косяк, заглядывает пожилая пухленькая и приземистая тетя.
— День добрый, — пытаюсь проговорить я с набитым ртом.
— Ты где его взяла? — вместо приветствия спрашивает тетя. — Он кисть-то хоть в руках держал?
Мне становится еще неуютней от такого вопроса в лоб.
— Держал он, держал, — отвечаю я сам, продолжая запускать ложку в густое варево. Терять мне, кажется, нечего, хоть и неприятная ситуация. Ну да ведь не побьют же!
Тетя с большим сомнением осматривает меня и качает головой. Наверное, она вот-вот вспомнит неупотребимое нынче слово «Мазурик». И в чем-то она будет права.
— А что возьмешь за работу-то? — спрашивает она жестко.
Возможно, ей уже жаль съеденного мною борща. А я еще до второго не добрался.
— Это надобно посмотреть, решить, что делать, — говорю я, с видом жуткого профессионала разглядывая потолок.
Вполне приличный потолок. Облака сквозь него не наблюдаются. И вообще, видели бы они, какой потолок у нас в общежитии.
— Ну смотри, смотри, — ворчливо то ли разрешает, то ли предупреждает тетя и, с трудом передвигаясь, удаляется.
— Вы не обращайте внимания на маму, — говорит девушка. — Она очень больна… Кофе будете?
— Конечно, — говорю я. — После второго всегда хорошо запить.
— Во нахал, а?
— И кстати, как вас величать прикажете?
— Галиной, — говорит она, поворачиваясь от плиты.
И что-то очень похожее на димкины цвета вижу я в ее глазах: серое, блеклое.
«А ведь худо, брат, — думаю я. — Серьезно. Надо как-то выкручиваться».
И пока мы осматриваем квартиру, спасительная мысль приходит ко мне. Правда, от такого спасения чувствую я себя свинья свиньей.
— Нет, — говорю я, когда мы возвращаемся в кухню. — Сто баксов, при всем моем уважении к вам, — слишком мало. Прошу прощения…
— А сколько же? — сразу пугается она.
— А сами судите. Мебель двигать надо? А двигать ее некуда. Это ж возни на три дня. Побелить потолки, поклеить обои. В прихожей и в кухне вы же сами предлагаете постелить линолеум. Нет, воля ваша, а только меньше, чем за триста, я не согласен. Впрочем, это, разумеется, без харчей…
— Триста, — говорит она ошеломленно. — Да у нас никогда и не было таких денег. Я в библиотеке работаю. У мамы пенсия… Триста…
Ожидаемый эффект достигнут. Но теперь я готов провалиться сквозь пол. Благо он еще не покрыт линолеумом.
— Триста, — вновь повторяет она.
На глаза у нее чуть не слезы. Впрочем, и до них уже не далеко.
— Знаете что, Галя, — говорю я с отчаянной решимостью, — я бы вам бесплатно сделал. Ей-богу! Но все дело в том, что…
— Триста…
Ее заклинило. И кажется — надолго.
— Но ведь это же, простите, грабеж… Меня предупреждали, но… Как же это?
Последние слова она произносит чуть слышно. И вдруг долгожданная слеза срывается-таки у нее с ресниц. Ну да. Самая настоящая слеза. А мне-то казалось, что нынешние девушки на это дело крепче.
— Да не в деньгах дело, — пытаюсь я ей втолковать. — Вы только внимательно выслушайте. Ну не мастер я! Ну виноват! Не за того себя выдал. Обычный студент. И забор красил, чтобы подработать. Понимаете? И ремонтов никогда не делал. Но Бог даст…
До нее, наконец, доходят слова мои. И она начинает взирать на меня со все возрастающим недоумением.
— Но… Тогда зачем же вы? — бормочет она. — Мы с мамой так давно хотели… У нее пенсия маленькая…
Ну грешен, виноват, казните… Только не надо плакать…
Как же ее успокоить?
— Но объясните, — требует она. — Я не понимаю.
— О черт! — восклицаю я. — Да все очень просто. Я хотел познакомиться с вами. Вы мне понравились. Понимаете? Еще там, на улице. У забора. Пропади он пропадом. Сразу понравились. Честное слово. Я же не думал…
Ох, подсказывает мне внутренний голос, не то я говорю.
— Вы не думали… — слезы мгновенно высыхают. — Вы не думали… Познакомиться… Зачем? Ну зачем? И разве… С вами можно?… Что вам здесь нужно? Что вам нужно от меня?
О, как она смотрит!
— Честное слово, Галя, — говорю я, — я научусь ремонтировать. И приду к вам… Слышите?
— Господи, какая ерунда, — говорит она спокойно. — Что это со мной? Слезы… Из-за какого-то… Вы еще здесь?
Гроза миновала. Остались лужи, грязь да хмурое небо. Я поднимаюсь с табурета.
— Ну-ка, постойте, — говорит она медленно, что-то обдумывая. — Мне вдруг пришло в голову… Странно. А если бы я так же с вами?
— Как? — не понимаю я.
— Ну, допустим, мы бы познакомились… Узнали бы друг друга ближе… Вы ведь этого хотели?
Я молчу. Для меня все предельно ясно. На сегодня все потеряно.
— И представьте, — продолжает она с лихорадочным блеском в глазах, глядя в пространство. — Представьте. Вот я бы влюбила вас в себя… Плохо говорю… Но вы ведь можете представить? У вас ведь богатое воображение.
— Нет, — честно признаюсь я. — Не могу представить. Просто не решаюсь. Это слишком хорошо, чтобы я мог… Да и потом, к чему это… А вот к чему. Ах, с каким наслаждением я расхохоталась бы вам в лицо, а потом бы выгнала, выгнала! Взашей вытолкала!
Жестокость на лице ее и что-то ведьмовское. Ну, да не мне судить.
— Нежели я все это заслужил? — спрашиваю, пытаясь еще и улыбнуться.
— Нет, не заслужили, — говорит она. — Это для вас действительно, слишком хорошо. Не заслужили. И поэтому я просто прошу вас уйти.
С порога я еще успеваю расслышать ее голос:
— И не вздумайте звонить!
Ну уж нет, думаю я, спускаясь по лестнице. Позвонить-то я, положим, позвоню. Попозже, конечно, не сегодня и не завтра. В конце концов, успокоится же она когда-нибудь? И мне удастся ее кое в чем разубедить на мой счет. Ведь есть же магия слов? Еще какая. На себе только что испытал. Вот и Димка так же считает.
На улице темно. И даже димкины глаза не отразили бы ничего, кроме темноты.
«Мам, а зачем красят? — Чтобы было красиво, детка».
ЛУННОСТЬ БЫТИЯ
«Я ненавижу дуэли; это — варварство; на мой взгляд, в них нет ничего рыцарского».
Николай I«Ай, Старов, Старов, какое непростительное легкомыслие… Ну зачем ты родился здесь? Вот теперь и жизнь твоя — водка вечером, да и водка-то дрянная, тоска и тупость, и ночные постыдные прогулки с припадочным псом, и помойки… И эта луна…».
Особенно луна. Неведомо где бродя молодым серпиком, она, наливаясь гнойным полнолунием, слепо и страшно пялилась в окна холостяцкого жилища Старова и, лопнув к концу отмерянного срока, вновь с убылью уходила в иные пространства.
— Нет, Джейсон, в полнолуние она просто подходит ближе к Земле, вот что я тебе скажу. Видишь, какая огромная? Подходит и запугивает. И никому дела нет. А присмотреть бы надобно за луной, присмотреть, неладно с ней что-то…
Джейсон, крупный кудлатый пес, опустив ушастую башку, клацал отросшими за зиму когтями по подмерзшему к вечеру грязному февральскому снегу. А потом, когда Старов рылся в помойке у дома № 6, Джейсон сидел рядом на тротуаре, брезгливо отвернувшись от смачных запахов.
— Эх ты, интеллигент… с хвостом!
Нынче помойка побаловала тремя открытками начала века. Смахнув с них крошки льда и мусора, Старов бережно опустил находку в карман ватника.
— Ну, пойдем посмотрим, что нам сегодня пишут.
Через разломанную хоккейную коробку мимо гаражей он было двинулся от полумрака двора к ярко освещенному шоссе. Однако Джейсон остался сидеть на месте. Пришлось вернуться, взять его за ошейник и протащить несколько шагов, чтобы пес вспомнил, как перебирать лапами.
У шоссе Старов присел на поваленный ствол клена. В старину вдоль дороги простиралась обширная усадьба с садом. Теперь лишь кое-где высились дряхлеющие деревья-великаны, а весной, когда снег сходил, но трава еще не появлялась, проступали из земли остатки древнего кирпичного фундамента.
Старов достал из внутреннего кармана стеклянную плоскую фляжку. Приложился, крякнул, бережно разложил на коленях открытки.
На первой, черно-белой, фотографической, застыл в напряженной позе в кресле с прямой высокой спинкой изможденный старик с коротко постриженными усами и бородой. Под расстегнутым фраком виднелась надетая наискось широкая муаровая лента. Накрахмаленные манжеты нависали над крупными ладонями с широкими ногтями.
— И был это, братец ты мой, не кто иной, как капитан Копейкин… М-да… На самом же деле — мсье Пастер. Почетный член Петербургской Академии наук. С инфекцией боролся, сражался, аки лев. Словно предчувствовал, во что мы тут вляпаемся. А вот что пишут… «Софье Федоровне Крапивиной. Новинский бульвар, дом Усковой, № 34. Москва, 2-го/15 марта… Дорогая С. Ф. Все Ваши живы и здоровы. Дочка Ваша также. Последний раз она приезжала сюда пароходом, так как не любит путешествия на лошадях…». Слышь, Джейсон? «Я работаю в санатории сестрой милосердия и начинаю приобретать душевный мир. Сердечный привет С. Г….» Тут далее вверх ногами.»… привет С. Г. и всем Вам. Н. Лихицкая…» Или Лищицкая… Итак, они не любили путешествовать на лошадях и стремились к душевному миру. И за то мы выпьем по глоточку, так ли, Джейсон? Ну не смотри с укором…
В этот поздний час по шоссе еще изредка проносились машины. Где-то сзади у домов звонко ахнула об асфальт бутылка.
— Тебе что… Ты блаженный, припадочный, эпилептик… И не дано тебе знать, как ловко подлая старость обкрадывает лик человеческий. Знаешь как? Нанесет едва видимую морщинку, словно художник кистью, и отскочит, затаится, с ухмылочкой наблюдая, как ты охаешь да эхаешь над ненужным тебе украшением… Ну, месяц потужишь, другой, привыкнешь… И тут тебе сразу две морщины влепят из засады! Тут уж только вздохнешь да махнешь рукою. А ей только того и надобно. Налетает и начинает сладострастно топтаться на твоей физиономии. Но ты с утра так опух с похмелья, что уж и неразличимо где морщины, где складки от недвижного тяжелого сна… А дальше дело известное, уж не до физиономии. Бог с нем, с ликом. Начинаешь судорожно душу обыскивать — осталось ли в ней чего?
Старов отхлебнул еще. Во фляжке оставалось еще граммов двести.
Вторая открытка, перегнутая пополам, а теперь разглаженная на колене, представляла невнятное нагромождение кустов и камней над светлой полосой пустого пространства, должно быть воды, ибо надпись гласила, что это «Берегъ Днъпра у Потемкинскаго Сада». В правом верхнем углу черными чернилами и мелким, едва разборчивым почерком обозначено: «Екатеринослав 18/VIII-1904». Тут же, внизу, по белесой глади Днепра рябью бежали строки:
— «Сижу на камне и с восторгом мысленно переживаю дни 7-16 авг., проведенные в Крыму с моею цыпкою и…» Непонятное слово…»… Скорее бы приходило I/X! Осмотрел три завода. Куфнер в отпуску — очень досадно! Пользы масса. Много новых знакомств. Крепко, крепко целую. — Твой В. " И кого же целует В., да еще и крепко? Так… «Ея Высокородию Анне Федоровне Беклешовой. Феодосия. Земская ул., д. Костова». Н-да, пользы масса и восторга. А ныне — на помойке… Х-хе! Помнишь, как статуэтку гарднеровскую нашли? А Екатеринослав у нас, братец ты мой, Днепропетровск нынче. А может и наоборот. Черт их разберет.
На другой стороне шоссе, напротив того места, где восседал Старов, остановился белый бульдогообразный джип с никелированной рамой на радиаторе. Почти в бампер ему ткнулся темный приземистый, хищного вида лимузин. Блеснув в свете фонарей, открылись дверцы.
— Ну вот, опять, — вздохнул Старов. — Ну почему я? А, Господи?
Четверо пассажиров — две женщины, двое мужчин — уже толпились на обочине, что-то обсуждая, сначала негромко, затем все более разгорячаясь. Вот уже мужчины принялись размахивать руками в опасной близости у лиц друг друга, а женщины старались их успокоить.
— И почему я их не люблю? Или это та же старость с ее брюзжанием и раздражительностью? Пожалуй нет, а, Джейсон? Ну тогда почему? Если честно? Потому что они богатые, сытые, самодовольные? Нет… Я тебе так скажу: они оскорбляют мои эстетические чувства! Хм… После того, как я сам выбрался из помойки… А может дело в том, что я неудачник? Я ведь тоже хотел разбогатеть, да! Но увы… И я даже понял в конце концов, почему мне не стать богатым. Я просто не знаю, что делать с деньгами. Залиться водкой? То-то… А коли не знаешь, что делать с деньгами, братец ты мой, они к тебе ни за что не пойдут. Или пойдут, но ненадолго. Быстро сообразят, с кем имеют дело. А стало быть, дело не в зависти. Определенно — в эстетических чувствах. Оскорбленных и униженных…
Старов вновь достал фляжку, уронив третью открытку. Приложился, хлебнул, захватывая губами стекло винтовой нарезки.
— Уух!.. Но отдавая должное квазисправедливости этого мира, спешу заметить, что и они, эти милые ребята, в свою очередь, душевных чувств ко мне не питают. Нет, не питают… Если их взгляд и падает на меня, случайно, они инстинктивно понимают — это чужой! И видят в тебе досадную помеху, раздражающую. Или забавную, но в целом — лишнюю. Или просто прикидывают, насаживая на взгляд, как на вертел, ценность твою. Ах, дьявол! И ведь приходится терпеть… А бывало… Эх, как бывало во времена-то старинные! Скажем, не понравилась музыка, которую некто, предположим, заказал для дам-с. И ты, эдак, подходишь и громогласно заявляешь: «Вы, сударь, сделали невежливость, так не угодно ли извиниться. Иначе будете иметь дело со мной». И тебе в том же духе ответствуют: «В чем извиняться, полковник, я не знаю. Что же касается Вас, то я к вашим услугам». «Так до завтра». И завтра поутру, братец ты мой, на двенадцати шагах (не на шести, Боже упаси, не бретеры, чай!) — ахх, взлетели вороны с ветвей, осыпая пушистый снег прощальной завесою… И ты отмахиваешься от пули, которая с тобою, Старов, летит уже в вечность; открещиваешься от смерти, с которой уже неразлучен… Но честь!
Старов смахнул набежавшую слезу, выпил.
Между тем ссора на шоссе разгоралась нешуточная. Крепкие молодцы петухами наскакивали друг на друга, девицы удерживали их от кровопролития. В мертвящем свете ртутных ламп машущие руками фигуры выглядели призрачно.
И вдруг звонко над дорогой разнеслась пощечина. Одна из девиц, взвизгнув, отлетела к колесу лимузина.
— Ну, так и знал, ну так вот и чувствовал! — Старов вскочил на ноги и посмотрел на Джейсона. Пес виновато опустил голову. — Да? Видел? Видел? Ну что? Ударили женщину! Понимаешь ли ты, что в твоем присутствии ударили женщину? Ну, вот что делать, а? Скажи, что? — Старов заметался вдоль ствола. — Тебе хорошо, ты эпилептик, у тебя в башке полторы мысли, да морда совестливая… А я? А мне каково? Мне-то что делать? Допустим, отговорки всегда найдутся. Да хоть бы вот и такая: ну какая это женщина? Давай даже вслух произнесем: ша-ла-ва. Шалава! Так их всегда на Руси звали, нечего морду воротить. И пусть они друг друга лупцуют… Тем более, что ты их не любишь… Но напрашивается и мысль иная. Ведь именно от них пойдут поколения сытые и здоровые, без комплексов. Мышцы нации! Ты вот на себя посмотри. Посмотри, посмотри! Что? Стыдно? То-то… Однако же нельзя забыть и… дуэль! Тоже и предки наши, не слабые люди были. И при том в своих палили, не в таких вот чужаков. Н-да…
Старов остановился, присел, вновь извлек фляжечку.
— И что самое подлое — вот так мы с тобой можем рассуждать до бесконечности. Тут нас хлебом не корми, — зло сказал он. — Ибо не ведаем, что есть черное и белое, но зрим массу оттенков, в которых копаемся и тонем, тонем, исчезаем, оставляя после себя лишь круги, но не действия. А эти, — он кивнул в сторону шоссе, — эти четко знают, что хорошо, что плохо. Что хорошо и плохо лично для них. Мы же… Черт!
Старов вновь вскочил.
— Но ведь женщину ударили! И вообще они мерзавцы. Несомненно уверены, что никто не вмешается. И ты, — он укоризненно посмотрел на пса, — ты тоже уверен, что я не вмешаюсь, да? Только честно? Не вороти башку… Не вмешаюсь… А вот постой…
На свет показалась знакомая фляжка.
— Да, для храбрости. Что ж, коли иначе нельзя? И пусть, для храбрости… Но ведь поступок! Вот что ценно» Ведь это, братец ты мой, полет!
Спрятав фляжку, он двинулся к шоссе.
— Тут самое главное — решительность и немногословность. Без всяких там… А… а просто подойти и сказать: «Вы, сударь, сделали невежливость…». Хм, невежливость… Ничего себе невежливость. Шалаве этой в ухо — тресь! Вот тебе и невежливость, слышь, Джейсон? Ах, какая чертовка луна. Присмотреть бы за ней надо, присмотреть… Я бы согласился на такую работу…
Старов обернулся. Джейсон так и сидел у поваленного клена. Под задними лапами собаки растекалась лужа, клубясь легким паром. Пес уже года полтора как забыл, что надо задирать лапу и метить территорию, утверждая право свое.
— Однако ж, что это я, прямо вот так, через дорогу… Поступок поступком, но надобно же и цивилизованным человеком оставаться.
Вернувшись к стволу и прихватив пса за ошейник, Старов направился к подземному переходу. В гулкой ночной тишине тоннеля когти Джейсона клацали зловеще.
— А ведь ходили мы уже с тобой эдак пару раз, помнишь? Ходили мы походами. Хм… на разборки. Из-за чего? Не помню, право. Да и не хочу помнить. Чисто по Фрейду. Не хочу — и все тут. Помню главное — вершилась несправедливость. Попрание. Оскорбление и поругание…
Джейсон заартачился и уселся.
— Ну посиди, посиди, — не стал настаивать Старов. — Посиди… Да и я пока… подолью, так сказать, масла в огонь. В огонь доблести. А то она, понимаешь ли, братец ты мой, как-то испаряется с каждым шагом. Стыдно, но признаюсь.
Старов привалился к стене тоннеля и рассмеялся. Хриплое эхо заметалось в каменной пустоте.
— А прошлый раз, помнишь, шли мы вот так и даже дошли… До первой попавшейся палатки. Где и затарились водочкой. — Старов помрачнел. — И назю-зю-кались. Дабы заснуть беспамятно. А наутро скверное настроение свое списать на похмелье… Идем, что ли?
Джейсон нехотя приподнял зад и затрусил вперед. Старов потащился следом, бормоча:
— И ведь в чем еще гадство. Ну пришли мы с тобой, допустим. Хорошо, пришли. И даже сказали положенное: «Вы, сударь, сделали невежливость…» Ну и прочее. Да ведь только расхохочутся нам в лицо, да еще и глумиться станут. — Старов остановился. — Или пакость какую-нибудь подстроят. Наверняка подстроят. Мы же с тобой в дураках и останемся…
Пес тоже остановился, обернулся.
— Вот видишь, сколько резоннейших доводов могу я тебе привести? Но только все это слова. А тут — женщину ударили. И защитить ее некому! Где власть предержащие? Где помазанник Божий? Пусть запретит дуэль! Но только пусть под скипетром его я заживу покойной и мирной жизнью. Но нет… Дуэль и только дуэль!
Старов решительно зашагал.
— И заметь, не ее, эту шалаву несчастную, Бог ей судья, иду я защищать у барьера. Но свое поруганное достоинство! И пусть для них убить меня пара пустяков. Но только и мне умереть — раз плюнуть! Да-с! Так что игра равна! И главное сейчас, самое главное — никакой болтовни и размазываний… Решительность!
И Старов целеустремленно начал подъем свой по ступеням из туннеля, не забыв прихватить пса за ошейник. Не замедляя шагов и бормоча про себя текст вызова, он двинулся вдоль обочины к автомобилям.
Сцену испортил Джейсон. Он вдруг затрепетал, закинул голову, судорожно выгнул спину и медленно повалился на бок. Оскалив клыки и обильно пуская пену из пасти, замолотил в воздухе всеми четырьмя лапами, словно улепетывая от жестокого припадка эпилепсии.
Человек медленно опустился на колени, положив ладони на судорожно бьющееся тело пса…
Старов скончался от острой сердечной недостаточности спустя три месяца, в такое же полнолуние. Хочется верить, что он оказался там, где и хотел, в должности смотрителя.
О судьбе собаки ничего неизвестно.
В САМОМ КОНЦЕ
— Ты зол, — сказала она.
— Ты спиваешься, — сказала она.
— И шутки у тебя, как у салдофона, — сказала она. — И книжку ты уже давным-давно в руки не брал.
Она еще много чего говорила.
А потом совсем обиделась и сказала:
— Я тебя ненавижу.
Потому что он всего-то и сделал, что сделал ей предложение. Так они стали мужем и женой. Такими мужем и женой.
Через год совместной жизни они уже почти все поняли, и она сказала:
— А ты — дурак!
— Знаю, — был его ответ.
— И кретин.
— И это знаю.
— А также мерзавец, сволочь и подонок.
Расплакалась.
— Знаю, знаю и знаю, — сказал он.
И она ушла от него. Но это его уже не интересовало. Он думал о другом. Он думал: " Сколько о себе за всю жизнь наслушаешься, право… Но ведь так и помрешь, не зная, кто же ты на самом деле».
ОРЛИК
Лейтенант уже целый год был лейтенантом.
— Можно опустить уши у шапок, — сказал он, идя вдоль строя.
Курсанты-первогодки, брякая лыжами и автоматами, торопливо снимали шапки, обнажая стриженые макушки, над которыми закурился легкий парок.
— Ну, быстрее, — сказал лейтенант. — Командуйте, сержант.
Взвод подровнялся, застыл.
— Ставлю боевую задачу, — сказал лейтенант.
Солдат-водитель выпрыгнул из кабины, бросил окурок, послушал немного лейтенанта, полез в мотор.
Поле тянулось от самой дороге, без кювета. колючая поземка порой взлетала высоко, и тогда дальняя полоска темного леса становилась совсем невидна.
— Вопросы есть? — спросил лейтенант. Строй промолчал. — Со мной пойдет… Курсант?
— Орлик! — сказал Орлик.
— Боевая фамилия. С такой фамилией только и воевать, — сказал лейтенант, пока Орлик делал два шага вперед, а потом «кругом».
Еще в машине Орлик говорил сержанту, что на правой лыжине крепление держится плохо. И теперь сержант многозначительно смотрел на Орлика.
— Обеспечить курсанта Орлика патронами на… два рожка. Хватит?
Так точно, — сказал Орлик.
Столько стрелять ему еще не приходилось.
— Взвод — на боевые позиции. Командуйте, сержант.
Курсанты становились на лыжи и цепочкой уходили за сержантом прямо от дороги в поле. Лейтенант и Орлик двинулись наискось — к лесу.
— Был такой подручный у Мазепы — Орлик, — бросил лейтенант через плечо.
Орлик старался толкаться только левой ногой. В школе он занимался в лыжной секции, так что пока от лейтенанта не отставал.
— Пушкина надо читать, — говорил лейтенант отрывисто. — Тем более будущему офицеру.
Становилось теплее. И от движения, и оттого, что поднялась легкая метель.
— Вот здесь и займешь оборону, — сказал лейтенант, останавливаясь.
До леса оставалось метро сто.
Орлик снял автомат, взял его в левую руку, поставил лыжи под углом, стал опускаться на колени. Под порошей оказался твердый наст, выдержавший опершегося на левый локоть Орлика. Он перетащил по ремню лопатку и подсумок назад, достал рожок. Присоединив его к автомату, перевел предохранитель на стрельбу очередями и передернул затвор. Сквозь прорезь прицельной рамки виднелась то мушка, то взлетающие языки поземки.
— Так. Появились, — сказал лейтенант. Он стоял и потому видел дальше.
Вскоре и Орлик разглядел серые, растянувшиеся по полю широкой цепью фигурки, изредка пропадающие в мутной пелене. Орлик прицелился в крайнюю левую фигурку и плавно, на выдохе, нажал курок, мысленно проговаривая «двадцать два». Лейтенант что-то сказал, но Орлик уже ничего не слышал, оглохнув после первого же выстрела. Он говорил свое магическое «двадцать два», тратя ровно два патрона на фигурку.
Первый рожок опустошился неожиданно быстро. Орлик проворно заменил его и продолжил стрельбу. Так он дошел до правого края цепи. И второй рожок иссяк. Орлик почувствовал толчок в ногу. Лейтенант, улыбаясь, махнул рукой и что-то проговорил. «Пора отступать», — перевел для себя Орлик. Лейтенант выглядел азартно.
До первых деревьев оставалось рукой подать, когда Орлику наступили сзади на лыжину, и он полетел в снег, ощущая на правой ноге лишь крепление…
Когда он добрался до машины, все уже перекурили и дожидались только его. Сержант из-за спины лейтенанта показывал Орлику кулак. Откуда им было знать, что в оглохшей голове Орлика они все числились раненными или убитыми. Кому как повезло.
Кому как повезло. Он дольше всех чистил свой автомат.
ДО ПОТОЛКА И ОБРАТНО
После долгого, долгого, долгого (черт! да когда же оно кончится?!) плавания. Мнилось моряку: полумрак комнаты, накрытый столик, негромкая музыка… Чего бы еще? Ладно, Остальное потом. Главное — дошли.
У нее была безобидная, почти никого не раздражавшая привычка. Она очень не любила мух. Прямо ненавидела. И при первой же возможности колотила их по головам свернутой в трубочку газетой.
И сейчас, когда все вышеперечисленное сбылось (полумрак и проч.), моряку все еще мнилось: она, толкнувшись сильной, стройной ногой, взлетает вверх, паря и победоносно нанося удары, затем медленно, грациозно опускается, раздувая подол колоколом, открывая нескромному взгляду….
Она неловко, по-бабьи занесла руку за плечо, чуть подпрыгнула (наблюдался небольшой зазор между ступней и полом) и бросила страшное орудие свое вверх. И хотя потолки невысокие, касания моряк не зафиксировал. Более верным оказался глазомер у мухи — та даже не дернулась на призыв инстинкта самосохранения.
Пока хозяйка, яростная и негодующая, выходила в прихожую поправить прическу, моряк с большой досадой выпил: разве ж так в цель бросают?
МЫСЛЬ НЕИЗРЕЧЕННАЯ
Изучая историю времен и народов не для предвидения судеб мира, но для обретения себя в нем, Епифаний (имя не настоящее, так звали мы его) уже в 198… году проявил признаки беспокойства. Истоки этого состояния были ясны ему. Нам же, близким друзьям его, не казались убедительными. Хмель свободы кружил нам головы. И мы, в чаду очередного веселого застолья просили у Епифания лишь одного: «Стихов! Стихов!». Он поднимал с нами бокал, читал свои дивные строфы, но не в пример нам, день ото дня мрачнел, видя, что все его слова о нашей будущности не находят достойной почвы.
Зимой 86-го он исчез на целый месяц, никому ничего толком не объяснив. Даже супруге своей Адели, жемчужнозубой Адели.
Он объявился в конце февраля, уверенный в себе, энергичный, целиком поглощенный одним. Епифаний стал землевладельцем.
В одной из срединных наших областей, в глухой деревушке куплена была им изба. Довольно крепкая, по его словам, хоть и требующая известного ремонта. Имелся при ней и клок земли.
Надобно было видеть, с каким нетерпением ждал он окончания зимней поры, схода снегов, устоявшихся дорог… Нетерпение проступало во всем его облике, когда он слушал, словно заново, наши речи. Он оставил свою иронию и полемический задор, и даже ближайшие друзья, поверяя ему думы, наталкивались на нежелание не только сочувствовать, но и просто понимать.
К середине весны он свернул все дела в столице, частью совсем вычеркнув их из своей жизни, частью перевалив на плечи супруги своей Адели, многотерпеливой Адели. И вновь бесшумно исчез.
Ныне, когда толпы горожан, кляня свою недальновидность, жадно рыщут в ближних и дальних весях в поисках хоть хибары на каменистом утесе, но встречают лишь лукавость пейзан, решение Епифания не вызывает ни осуждения, ни даже малой доли критики. Тогда же, в предчувствии великих изменений, мы словно завороженные следили за искрящимся и буйным, словно веселящее шампанское, потоком слухов, сплетен и новостей. И ждали, что вот-вот…. И немало дивились поступку товарища.
Летом Епифаний вернулся в столицу. Позвонил немногим, весьма сухо осведомился о своих делах, довольно равнодушно выслушал ответы. Уклоняясь, в свою очередь, от расспросов о существовании его анахоретом. В течение двух дней он прервал все нити, связующие его с городской жизнью, и отбыл в деревню. Забрав трехлетнего сына и супругу свою Адель, опечаленную Адель.
И несколько лет не было о нем ни слуху, ни духу. Городскую квартиру свою он сдал незнакомым людям, и когда кто-нибудь из нас звонил, надеясь на внезапное его появление, чужой голос бесстрастно отвечал: «Их нет. И скоро не обещали». И тихое, дурманящее, как наркоз забвение постепенно стирало имя Епифания из бесед наших.
Но однажды летом я, хоть и не принадлежал к числу тех, с кем Епифаний во времена былые делился сокровенным, именно я получил от него краткое послание, записку с приглашением посетить его и с обстоятельным описанием маршрута.
Не скрою, лестно было оказаться единственным, удостоенным такой чести. И вновь имя Епифания всплыло за нашим столом, уже далеко не столь праздничным, а сотрясаемым отголосками всех тех катаклизмов, что подобно затяжным дождям, не покидали нас, лишь усиливаясь.
И уже в дверях я кивал головой, выслушивая все вопросы, которые передавали самые умные из нас Епифанию, полагая, что уж он-то, вдали от суеты, разрешил недюжинным умом своим немало.
Руководствуясь наставлениями его записки, я довольно легко проделал путь мой, последовательно меняя поезд на автобус, а последний — на собственные ноги. Я не знал, что привезти Епифанию, и потому рюкзак мой был легок, содержа лишь гостинцы для его сына, да только что вышедший стихотворный сборник наших общих приятелей. И купленные в складчину французские духи для Адели, для незабываемой нами Адели.
Изба его стояла на краю деревни, на юру. Дальше тянулось кустистое, не запаханное поле, упираясь где-то на горизонте в темную полосу леса. Пейзаж этот отчего-то опечалил меня своею пустотою. И дом, бревенчатый, серый, кое-где замшелый, с чуть подсевшими нижними венцами, никак не отвечал моему ожиданию безмятежное обители.
Епифаний, нимало внешне не изменившийся, довольно холодно отнесся к сборнику и автографам авторов. Открыв наугад посередине и прочитав несколько строк, он отбросил книжечку на широкую, прочно стоящую кровать с лоскутным одеялом. Больше живости к подаркам проявил его наследник, Митя, крепкий и бойкий мальчик, в котором с трудом угадывался некогда задумчивый златокудрый херувим. Адели, долгожданной Адели не было, она уехала, как кратко мне пояснили, в близлежащий город за покупками.
Обменявшись малозначащими фразами о здоровье, знакомых и проч., мы ненадолго замолчали, наблюдая за мальчиком, увлеченным привезенными игрушками. Затем Епифаний предложил мне пройти в огород. Мы вышли из избы.
Обведенный невысоким и редким дощатым забором, участок соток в восемь был покрыт грядками различной и странной конфигурации, в которой за буйной, покрывающей их зеленью, с трудом, но угадывались буквы. Епифаний вел меня среди посадок, любовно осматривая дела рук своих, на ходу что-то подправляя, что-то выдергивая.
— Знаешь ли ты, — вдруг остановившись и оборотясь ко мне, спросил он, — что значит собрать урожай?
И сам ответил:
— Это значит рано-рано утром выйти к росной земле, встать на колени, тихонько постучать в нее и смиренно просить: «Я кушать хочу».
Я решил, что настало время для тех вопросов, что вез я с собой, с трудом удерживая их в памяти. И некогда близкие Епифанию люди спросили его моими устами. Но не было им ответа. Он лишь поморщился с досадою и сказал:
— Как и прежде, даже говоря о самом страшном и больном для нас, мы обсуждаем ситуацию нереальную, сказочную. И потому слова наши так далеки от цели, как бы мудры они не были. И нам нет смысла жить лучше, потому что жить лучше будем все равно не мы. Бог весть, отчего так у нас, но у нас так всегда. И да пребудет.
И направился в избу. Там молча принялся накрывать на стол. И пока вставали на скатерть блюда с многочисленными солениями и просто свежей зеленью, я перелистывал привезенный в дар сборник, прерываясь на милую болтовню с Митей.
— Но послушай, — сказал я после того, как был утолен первый голод, не пишешь ли ты стихов? Многие из ожидающих меня там бились об заклад, что привезу им строки Епифания нового, непривычного, но столь же даровитого…
И вновь поморщился он. И указал на стол.
— Вот мои слова и мысли. Я их высказал руками и скрепил потом. И дали они всходы. Ты видишь и ощущаешь плоды. Они теперь в тебе. Кто знает, чем они для тебя отзовутся?
Более не задавал я тех вопросов. Но о хозяйстве своем он рассказывал много, охотно и добродушно.
Развязка же нашей встречи оказалась внезапной для меня. Епифаний вдруг, словно вспомнив о чем-то более важном, чем визит гостя издалека, замолк, затем сказал, глядя в стол:
— Вот и все, за чем пригласил я тебя. Более мне сказать нечего. И что тебе длить здесь твои часы? Поезжай с Богом?
И оборотясь к сыну, добавил:
— А нам пора к земле. Мы своим трудом живем. Правда ли, Митя?
И послушный мальчик оставил игрушки и подошел к отцу.
— Что тебе дать с собою? Овощей ли каких? Солений?
Но я отказывался от всего, задетый столь странным приемом.
— А, знаю, — сказал Епифаний. — Вот же для тебя.
И снял с печи полотняный мешочек.
— Здесь мой самосад. Помни же меня и люби.
И не смог я отказаться.
— Так ли спасибо, — сказал я. — Однако ж постой, позволь мне дождаться хотя бы Адели. Ведь у меня к ней презент и поклоны.
Тягостно для меня прозвучало его недолгое молчание.
— Не стоит тебе дожидаться Адели, — сказал Епифаний. — Да и не узнаешь ты ее в женщине, прячущей кудри под грубым платком, а нежные ступни — в тяжелых сапогах. Ступай с Богом.
Что оставалось делать?
У крыльца, впрочем, задал я ему еще один вопрос, уже мой вопрос:
— Отчего ты позвал меня, именно меня?
Он ответил с готовностью:
— Оттого, что ты не столь красноречив. Оттого что ум твой, да простишь мне, не столь жаден до тайн мироздания, равно недоступных ни глупцу, ни мудрецу.
Выходя из калитки, я оглянулся, сказал негромко:
— Мы будем вспоминать тебя.
Епифаний промолчал. А сын его, глянув вверх, на отца, робко махнул мне рукой на прощание…
Я сидел в траве у автобусной станции, курил неумело свернутую самокрутку, давясь крепчайшим горлодером. Крестьяне ожидали автобуса, который привезет их с того набитыми мешками к ночному поезду, к тому самому поезду, где мне предстояло о многом подумать в прокуренном тамбуре. Подумать лежа, Бог даст, на третьей полке в общем вагоне. Мне надо было подумать, почему же он пригласил меня, и что хотел ответить моими устами вопрошающим. Подумать, как я расскажу ожидающим меня о том, что они никогда больше не увидят Адели, лебединокрылой душою Адели…
СИДЕЛЕЦ
Внешностью Михея природа обделила. Лицо прыщавое, дурное, правый глаз косит. Росту он хоть и выше среднего, да только девчонки все равно не заглядываются.
Это сейчас он сидит в опрятном светлом магазинчике, а начинал лет пять назад в киоске крохотном, будке. Обосновал ее на бойком месте у метро «Кунцевская» хитрющий грузин Заза. Разглядел он и в угрюмом злобном пареньке надежного сидельца, на которого можно оставить добро хозяйское. Не обворует, не сбежит и служить станет преданно. Потому как всегда будут нужны парню деньги на девок. Так-то…
Вспоминая времена будочные, только головой Михей недоверчиво качает. Летом духота и вонь. Зимой холод собачий. Торговали водкой дешевой, отравою. Покупатель шел жалкий, бранчливый…
Теперь Михей не жмется среди коробок, а сидит за белым прилавком, поигрывая кнопками электронного кассового аппарата-игрушечки. Магазин ломится от дорогого добра. У дверей охранник стоит, вышибала. Покупатель не шваль какая-нибудь, народ солидный, которому недосуг гоняться за дешевизной. И Михей уже не хамит открыто, как бывало, но и не раболепствует, ведет себя с достоинством. На черный день уже отложено.
Знойный июньский день клонится к вечеру. Охранника сморило, того и гляди, по косяку сползет. Михей с усмешкой смотрит на этого громилу, затянутого в душную зеленую форму и ремни. Сам Михей облачен лишь в шорты и майку, на которую свисает недавно купленный тяжеленный серебряный крест.
Воскресенье. Редкий покупатель забредает лишь за пивом холодным. Вот и еще один, из числа тех, к которым у Михея интерес особый. Видит Михей через широкую стеклянную витрину, как подъехал малый, его ровесник, на шикарной иностранной машине, как небрежно захлопнул дверь, что-то коротко и повелительно сказав-приказав роскошной блондинке, оставшейся на пассажирском сиденье. Чувства Михея понятны — не сиживал тот лощеный хлыщ в вонючих будках, не мерз за копейку, не выслушивал мат всякой пьяни.
Однако Михей ничем своих эмоций не выказывает. И лишь с охотничьим интересом наблюдает, как входит малый небрежной походкой в магазин, как останавливается перед прилавком, не вынимая левой руки из кармана дорогих светлых брюк. Бросив деньги перед Михеем, требует бутылку «Гессера». Михей невозмутимо отсчитывает сдачу и ставит бутылку на прилавок.
— А открыть?
Михей достает из-под прилавка открывалку на веревке и молча со стуком кладет рядом с запотевшей бутылкой. Малый, не вынимая руки из кармана, начинает открывать. Михей смотрит с насмешливым интересом. Бутылка скользит по пластику и ахается у ног покупателя. Пенная жидкость заливает ему ноги. Из подсобки выглядывает вечно хлопочущий Заза. Оборачивается охранник.
— Двумя руками-то все надо делать, — назидательно выговаривает Михей, ногой придвигая к себе коробку с пивом.
Малый, не теряя лица, вновь достает деньги и швыряет на прилавок.
— Повторить. Сдача — в счет уборки.
Михей вновь ставит перед ним бутылку. Сцена повторяется. Лишь лужа на полу становится больше. Малый вновь лезет за деньгами. И неизвестно чем бы все закончилось, но в дело вмешивается Заза. Он молча подходит к прилавку и открывает бутылку. Двумя руками. Малый удаляется. Михей с удовлетворением смотрит ему вслед, оглядывая мокрые брюки.
— Паганэц ты, — устало говорит Заза, утирая лоб. Он уже привык к выходкам Михея. — Пакупатэля мне разгонишь.
— Куда они денутся, — усмехается Михей, глядя за окно, где у машины малый резко отвечает что-то недоуменно вопрошающей спутнице.
Уборщица тетя Аня, ворча, собирает осколки, вытирает пол. В душном воздухе стоит запах пива.
Вновь тихо. Михей подмигивает охраннику. Тот равнодушно отворачивается и сонно смотрит на часы. До закрытия еще далеко. Михей раз за разом вспоминает произошедшее и тихо посмеивается.
НЕДОРОГО
Витек хозяйской походкой выходит во двор.
— Ма, — кричит он в сторону детской беседки, где собрались в теньке посудачить местные кумушки, — что ж ты, уходишь, а дверь на балкон не закрываешь? Первый этаж все-таки, обворуют…
— Да кто нас обворует, — отмахивается Галка. — Все в округе знают, что тут бандит живет. Даже милиция знает…
Витек довольно усмехается и уходит по делам.
Да, это местный бандит, авторитет. И все это знают. И не просто терпят такое соседство, но и дорожат им. Чуть беда какая — к Витьку. А куда же еще? Не в милицию же, в самом деле! С ними только свяжись… А Витек и проблему быстро решит, и возьмет недорого. Вон на прошлой неделе у Любки из второго подъезда брата за долги украли и требовали выкуп. Куда Любка в первую очередь бросилась? К Витьку. И брата девке вернули. Всего лишь за тысячу долларов. Разве дорого? Нет, серьезно?
С соседями Витек вежливо здоровается, не куролесит. Всегда опрятно одет и гладко выбрит. Кто не знает, так просто скажет — какой приятный молодой человек.
Кстати, столь же приятный молодой человек живет у нас в третьем подъезде. Игорек также опрятно одет и гладко выбрит. И с соседями вежлив. Но дружбой с ним дорожат в основном местные же бандиты. Потому что Игорек работает в милиции и за соответствующую… благодарность может дать дельный совет. И дает. И берет. Недорого. И все об этом знают.
Исходя из такого расклада дворовых сил, у соседок в авторитете мать Витька — Галка, и жена Игорька — Ленка. Весомостью в беседе с ними может поспорить разве что Лилька. Она работает в налоговой инспекции. А у человека серьезного, не ветрогона, к деятельности этой службы интерес повышенный, можно сказать, кровный. И Лилька при случае консультирует. И берет недорого. Ну, совсем пустяки. Свои же люди. Соседи.
Или взять Танюшку из шестнадцатой квартиры. Ее Гурам уже третью машину проигрывает…
Однако у беседки поднимается переполох. Это вырвался на свободу, выпрыгнув с незакрытого балкона первого этажа пес Витька. Пес нешуточный. Американский стаффордшир. Прямо скажем, зверь-пес. Правда, он еще молод и весело носится сейчас среди визжащей детворы и вопящих мамашек, желая всего лишь порезвиться и поиграть, не понимая причин всеобщей сумятицы.
Галку пес не слушается. А Витьку некогда с ним возиться. Дела. Сами понимаете. А выбрасывать собаку жалко. Дорогая все-таки. Не поскупились братаны на витькин день рождения. И все со страхом ждут, когда подрастет животина и покажет свой характер. Еще не пострадавшие прикидывают, во сколько станет Витьку компенсация за собачьи укусы. Вряд ли так уж дорого. Что с Витька возьмешь, коли он сам берет недорого?
ЧЕРЕПОВЕЦ
Мне было девятнадцать лет. Мне было девятнадцать! Тот, кто жил по-настоящему, знает, что это такое. Мне так все было любопытно. Странно, удивительно и интересно. И все происходящее воспринималось, как приглашение к открытию тайны.
Поезд привез меня в Череповец. Он мог привезти меня еще куда-нибудь. Ну, куда хотите… Но он почему-то привез меня в Череповец. Это там, где Вологда-гда.
Я первый раз была в Череповце. Мне ужасно нравилось слово «была». Оно придавало моей жизни весомость прошлого.
Ах, какой день был в Череповце. Такого в Москве не дождешься. Очень жаль, что в Москве такого не дождешься. Правда, жаль. Такого снега и такого солнце нет.
Снег, замешанный на солнце, покрывал Череповец пышным безе с хрустящей корочкой, над которой искусно размещались шоколадно-добротные древние дома и хрупкие бисквитные храмы…
— Девушка, можно вас спросить?
Я обернулась. Зная, что увижу в глазах незнакомца. Увижу разочарование. Увы, с недавних пор мне стало ясно, что красотой мне пока не блистать. Ах, не блистать…
Но и этот солдатик, лопоухий, стриженый, был такой простой-простой и незаметный, словно занесенный куст при дороге. Занесенный, но не засыпанный, не спрятанный в сугробе.
И никакого разочарования в его глазах я не увидела. Наоборот, облегчение. Оттого, что я пока не красавица. А такая же — простая и незаметная. И мы оба знали, как пользоваться в жизни этой незаметностью, пусть у нас были и другие тайны. Но эта тайна нас объединяла.
— Как тебя зовут-то? — спросил он так, словно мы давным-давно познакомились, но долго не виделись, и он успел позабыть мое имя.
— Света, — сказала я. — А тебя- Петя?
— Нет, это папаню так звали. А меня…
— А я тебя буду звать Петрович, — почему-то поспешила перебить его я, хватаясь за мою почти угадку, как за счастливую находку, как за серебряный полтинник, вмороженный в лед под ногами.
— Тут, понимаешь, Светк, дело такое. Маманя ко мне приехала, деловито пояснил Петрович. И был он весь основательный и рассудительный, как председатель крепкого колхоза. — И уж больно ей охота увидеть, что девчонка у меня знакомая есть. Городская, — почему-то вполголоса добавил он, оглянулся и покраснел. Всем лицом, ушами и шеей.
И я конечно же поняла, что никакой знакомой девчонки у него нет. Городской. И я тоже покраснела. И он тоже понял, что у меня нет знакомого парня.
— Пошли, — выпалила я и очень решительно взяла его под руку, ощущая всю негнущуюся колючую грубость его шинели.
— Да никуда идти и не надо, — сказал он. — Вот она, моя маманя.
Я обернулась испуганно. Метрах в пяти от нас, на заснеженной скамеечке сидела старушка. Вернее, она сидела на спинке скамеечки, примостившись, как птичка, так много снегу было в этом Череповце. И из этого снега глядели на меня, на нас блекло-голубые глаза, глядели с любовью, заволакиваясь слезами нежности, отчего весь мир терял резкость очертаний, погружаясь в ласку и милосердие.
Но вот старушка сморгнула, меняя декорации. И на меня строго и оценивающе посмотрела Мать. Она смотрела на меня как на Невесту, и я ощущала стыдливость (потупленный взор) и слышала легкий шелест фаты на плечах и колокольный звон и скрипуче-протяженое из полумрака, озаренного густым желтым свечным огнем: «Господи, помилуй мя!». Особенно трогало меня это «мя». Я чуть не расплакалась…
Но следующий взор ее уколол меня и испугал. На меня смотрела Женщина. Смотрела с ревностью… Я застыла, как при встрече с большой незнакомой собакой. Меня обнюхивали. Я затаила дыхание. Хоть бы кто-нибудь пришел на помощь, хоть бы кто-нибудь…
Петрович кашлянул. Сухо и слабо разнесся звук этот над хрустким снегом в далеком Череповце, отзываясь эхом в той деревне, где ждали старушку соседки («И так я вам скажу, деушки, совсем мой-то мужчина стал, да видный! От девок отбою нет!». — «Ох, испортят его городские-то шалавы!»). И за что они меня так невзлюбили?
— Ну, мамань, пойдем мы, — затоптался на месте Петрович.
— На танцы! — вдруг озорно сказала старушка. — Ну, ступайте, ступайте, дело-то молодое…
И она пригорюнилась, вспоминая свое старое молодое дело.
Я торопливо ткнула рукой куда-то в колючее шинельное, и мы пошли. Чуть не побежали. Я едва поспевала за Петровичем, за его молодым делом-телом.
А когда мы забежали за какой-то домик с пронзительно-зелеными наличниками, Петрович резко остановился и чуть ли не оттолкнул меня. Мне показалось, что я противна ему. И всю жизнь была противна. Омерзительна и ненавистна.
— Ну, все! — почему-то злобно выдохнул он с облачком пара, улетевшего вверх, к голубым-голубым небесам.
— Все? — спросила я, прислушиваясь к собственному голосу, и ничего не слыша.
Петрович стремительно развернулся и побежал, путаясь в полах шинели.
Бежал солдатик с поля боя. Оставив врага смертельно раненым, и немилосердно недобитым. Уродливые армейские башмаки копытами грубого животного впивались в снег. Снег жалобно вскрикивал. Так мучителен был этот звук. И так пронзительно-зелены были наличники дома, у которого меня бросили. Бросили впервые в жизни.
Будь я постарше, а это мне еще только предстояло, я бы подумала и сообразила, что этот несчастный солдат Петрович просто голубой или… или вообще никакой. И может быть, сейчас он бежал на свиданье с таким же несчастным и лопоухим.
Пока же я со странным чувством оглядывала себя со стороны и ощупывала душу свою. Меня… бросили? И… и что же?
И я побрела по улицам, приходя в себя и начиная с прежней страстью впитывать в себя, присваивать по-воровски и этот снег, и это солнце, и домик Северянина. Черт возьми! Мне всего лишь девятнадцать лет, а меня уже бросили! О, каким опытом я уже обладала! И еще сколько всякого разного предстояло мне испытать. Ведь мне обязательно нужно было стать красивой и знаменитой, любить и расставаться. И при этом — в разных городах и странах! Сколько же на это понадобится сил. Где их взять?
А пока был Череповец. Почему-то именно он. Неважно. И было мне пока девятнадцать.
Пока.
ШКОЛЬНОЕ ВОСПОМИНАНИЕ
— И она грит, запомни, грит, день этот памятный. И сама, не вру, ей Богу, купила мне бутылку эту.
Cерега с хлопком сдернул пластиковую пробку и приложился к горлышку. По тамбуру электрички поплыл запах дешевого портвейна. Вставной челюстью лязгнула неисправная стальная дверь.
Долговязый малый с ликом раскаявшегося душегуба сначала не верил. А когда поверил, осудил, да тяжко так:
— Как же можно мать-то родную? Иль совсем мозги пропил?
— Во-во, — поддакнул Серега. — И она мне так же грит: запомни, грит, день этот памятный. И сама бутылку-то… Будешь ли?
— Стало быть, в богадельню старушку определяешь? — весело сказал третий попутчик, крепенький старичок с корзиной, постоянно вытиравший лысину платком. — Ай, молодца! Во жисть пошла!
— Так что ж, — разводил руками Серега. — Какой из меня матушке подмога-утешение на старости лет? Вот и порешили мы с ней. По согласию сторон взаимно… И отчего это бывает, что так весело бывает?
Серега даже что-то такое выпляснул. Лихое, как ему казалось. На самом же деле его тщедушное тельце в обтерханном пиджачке лишь жалко передернулось.
— Дела, — сплюнул долговязый малый и затоптал окурок. — Да ты поди врешь, — на всякий случай еще раз усомнился он.
— А ты глянь, глянь на матушку на мою, — не обиделся Серега. — Вон в платочке сидит, вон в синеньком.
Малый еще больше посуровел.
— Стало быть, мать на людей чужих. А сам?
— А сам квартиру пропьеть! — радостно подхватил старичок. — Ай, молодца!
— А и пропью, — куражливо повел плечами Серега. — Чем кому доставаться, лучше пропить. Все одно обманут. Знаем!
Тут он вдруг пригорюнился.
— И отчего это бывает, что вдруг грустно так бывает?
Подумав, продолжил:
— На работу устроюсь, вот чего, — нерешительно проговорил он. — А там и заберу матушку. Выпей со мной, дедок, а?
В окна электрички били лиловые и жирные, как черви, струи дождя.
— Отпил уж я свое, милок. Э-эх, да так ли отпил! — прочувствованно крякнул старичок. — Да только от таких вот напитков — одна срамота в организме. Чистое дело — срамота, — смачно повторил он.
Серега опять приложился к бутылке. Веселей стало, да только ненадолго. Потому что пошли контролеры и стали требовать билеты. А билета у Сереги не было, и он пытался объяснить, что билет у матушки, а у самой матушки билета нет, потому что она пенсионерка, вон в платочке, вон в синеньком. А контролеры сказали, что нечего тут распивать. А Серега спорил: мол, вся Россия гуляет, а ему, что, нельзя!?
— И то, — вмешался старичок, — ну какой у него может быть билет? Он мать в богадельню везет. Какой уж тут билет? Не может у него быть билета.
А день памятный продолжался. Только уже на остановке автобусной. И пока сидели там в ожидании, под грохот ливня по железной крыше, Серега жалобно так попросил:
— Пивка бы, ма…
— Сейчас, дитятко, сейчас родненький.
Да так под дождем и сходила к палатке, принесла пару бутылочек. Жалко Сереге ее было, промокла вся. Но в автобусе ему ехалось от пива радостно.
Затем долго пришлось брести вдоль какого-то длинного бетонного забора. Забор все не кончался, за шиворот противно текло, а матушка все приговаривала:
— Уж потерпи, сыночка, потерпи. Скоро уже, скоро.
И Серега плелся, машинально переставляя ноги и тупо размышлял: отчего это бывает, что приходится терпеть? Всю жизнь терпеть?
В проходной плюхнулись на скамеечку, отдышались. Появился мужчина в белом халате, доктор должно быть, решил Серега. Это хорошо, уход будет за матушкой. Развернула старая тряпочку, подала документы-справочки.
— Ну и ладно, — сказал доктор. — Ничего. Все уладится. Прощайтесь, да пойдем.
Мать встала, перекрестила Серегу и сухими губами поцеловала в щеку. Серега прослезился.
— Запомню, — вымолвил отяжелевшим языком, — запомню день этот памятный.
И тут взяли Серегу под белы руки, да крепко взяли и повели, чуть не понесли. Он не сразу сообразил, а когда сообразил, не стал рваться, а только оглянулся, словно ища защиты.
— Ступай с Богом, — проговорила негромко матушка. — Ступай. Да лечись хорошенько, слушайся.
И вспомнилось вдруг Сереге, как мать провожала его в школу, в первый класс. День тогда стоял солнечный, памятный…
5. Чисто литературные мечтания
ЧИСТО ЛИТЕРАТУРНЫЕ МЕЧТАНИЯ
Перспективы ярки, контрастны, знобяще-манящие. М все благодаря русской литературе. Первое приближение к ним примерно таково…
Не глядя, протягиваешь руку к темному шкафчику с собраниями классиков. Нежно оглаживая переплеты, на ощупь длишь движение ладони, оттягивая сладостный миг… Но стоп! И наугад! Как из баньки в сугроб! Выхватываешь, подбрасывая томик, как картофелину из костра. Лакомо, весомо, обжигающе. До слюны, до спазма…
И полуприкрыв глаза, даже не прочитав имени, раскрываешь… Нет, она сама раскрывается, книга, словно бутон под протянутыми навстречу весенними трепетными лучами.
И вот оно, ароматным, тягучим настоем вливается, только бокал души подставляй:
«… выходя из кабинета, вошел в столовую, где прислуга спускала шторы на высоких солнечных окнах, заглянул зачем-то направо, в двери зала, где в предвечернем свете отсвечивали в паркете стеклянные стаканчики на ножках рояля, потом прошел налево, в гостиную, за которой была диванная; из гостиной вышел на балкон, спустился к разноцветно-яркому цветнику, обошел его и побрел по высокой темной аллее… На солнце было еще жарко, и до обеда оставалось еще два часа.»…
Неимоверным усилием воли вырваться из этого колдовства, собраться с мыслями и… угодить в чары собственных раздумий.
Господа! Вы верили, что можете стать помещиками? По крайней мере, представляли себя в роли таковых? Ну не лукавьте, вижу, мечты играли с вами в эти игры.
А ведь как подумаешь, право, что действительно можно стать помещиком, инда оторопь берет, нежнейшими мурашками все тело осыпая.
И ведь очень даже запросто. Всего-то — купил участок, отгрохал хоромы, прислугу нанял. Житьишко! Чума!
И живем прямо с раннего утра. Боже упаси проспать златое утро с его первыми трелями и первым ветерком, волнующим вершины берез…
Но вот уже доносятся запахи с кухни, где кухарка запалила лучину еще за полночь…
И завтрак в постель. И накрахмаленную салфетку за воротник атласной пижамы. А сервировано на серебре. А запах из-под крышки такой, что ни за что не догадаешься, какое блюдо ждет тебя, но ни на долю секунды не усомнишься — вкуснее в мире нет…
Но позвольте, что же это за пятнышко на вилке! А? Григорий? Что молчишь? Кажется тебя, подлеца, спрашивают! «Виноват…». Это и слепому ежу ясно, что виноват. Что ж ты, братец, утро мне портишь? Как с такой вилкой жизнью наслаждаться? А? Думал ли ты об этом, мерзавец ты эдакий? Ты пойми, скотина, что именно такая вот мелочь, как пятнышко, и способна сокрушить идеальную картину целого мироздания! Понимаешь ли ты это, свинтус? «Понимаю…». Вот и видно, что не понимаешь, поскольку уж не первый раз нерадение за тобой примечаю. И потому отправляйся-ка ты, брат, на конюшню за нравоучением, коли такое чучело бесчувственное…
Ну да что значат эти досадные мелочи по сравнению с Природой! И вы выходите после завтрака на веранду, закуриваете и не торопясь идете вглубь сада, к любимой беседке, где с четверть часа не без приятствия размышляете о том, что все же завтрак был весьма недурен. Отнюдь-с!
А дальше, по темной аллее, заложив руки за спину, совершенно не торопясь (непременно во фраке!), спускаетесь к реке. Она уже многоструйным звучанием среди белоснежных кувшинок, приветствует вас из-за кустов тальника…
— Тимофей! Да ты, брат, с ума что ли сошел? Кто же тебе разрешил тут рыбу лавливать? А? Ну чисто идол языческий! Сговорились вы, что ли, с утра барина до слез расстраивать? И слушать не хочу! На конюшню, с-скотина!
Нет, совершенно невообразимо с этим народом ощущать гармонию жизни. Извольте тонко чувствовать и сострадать при эдаком хамском небрежении ко всему святому!
Но слава Создателю, есть еще птицы небесные, твари бессловесные и прочая фауна и флора благоухающая. И предмет особых забот ваших — фруктовый сад соток так на двадцать, чтобы не притомиться. Да оранжерейка заветная, где на спор с соседом и на посрамление ему вызревает зимой клубничка, да-с, черт ее возьми да и совсем!
Однако… Однако, что же это, господа? Обтрясли, изверги, яблоньку-красавицу!
— Степан! Куда же ты смотрел, обалдуй неописуемый? Ну-ка, не вороти рожу-то, не вороти… Так и есть. Пьян! Ах ты поросячье ты отродье! Напился, дурак, и все проспал… А? Ей Богу, расплачусь… Ну что с вами, анафемами, делать… Ну что?! Запорю! За-по-рю-у!!!
И в отчаянии, не торгуясь, скупаешь у соседей все возможные имения, объединяя в одно. Собирая земли. Дабы навести в ней единый порядок. Методом известным. С присвистом и воплями, слух рачительного хозяина услаждающими.
Вы только проговорите вслух, не торопясь, вдумчиво, но с сердцем это заветное слово: запорю! Ощутите его грани, рассмотрите оттенки, прочувствуйте душой и телом. Только тогда поймете, что такое настоящий помещик. А когда поймете, то жизнь положите ради достижения желанной цели…
Сладостные перспективы, сладостные. Есть ради чего жить. Читайте классику, господа! Читайте и перечитывайте, готовьтесь! А вы, господа литераторы, имейте совесть, пишите вкусно, черт вас дери! Иначе чем запомнимся тысячелетию грядущему?
ЗАСТОЛЬЕ
— Господа, позвольте пару слов…
— Просим, просим…
— Слово нашему драгоценному Валерьяну Аполлоновичу!
— Тс-с! Тихо, господа! Молодые люди, там, у окна… Потише, пожалуйста.
— Господа… Хм… Я, собственно, так, о пустяках…
— Ну же, Валерьян Аполлонович! Не томите! Из ваших-то уст…
— Соловей наш! Цицерон! Умоляю!
— Да я, право… Неловко даже и говорить перед лицом столь достойного собрания…
— Ох, Валерьян Аполлонович, умеете же вы, проказник этакий, заинтриговать! Ну же, душа моя…
— Мы — все внимание! Уста сомкнуты, уши и сердца — разверсты! Благоговеем в молчании…
— Дело в том, что я рассудил тут убогим разумением своим…
— Знаем мы ваше убогое разумение! Всем бы такое! То-то бы зажила Русь-матушка!
— Ну, тихо же, господа. Право, мы мешаем нашему всеми любимому Валерьяну Аполлоновичу! У всех ли налито, господа?
— И севрюжки. Непременно севрюжки на закусочку. И слышать ничего не хочу. Севрюжки непременно!
— Тс-с! Просим…
— Хм… Господа, вы прекрасно знаете, в какое время мы живем…
— Эх-хе-хе, голуба Валерьян Аполлонович, нам ли не знать! У меня, господа, убытков за прошлый месяц…
— Ах, оставьте! Ну не об этом же сейчас. Слушаем, слушаем!
— И то! Слушаем!
— И я, проанализировав сложившуюся ситуацию, прошу прощения за столь выспренние слова, пришел к следующему выводу…
— Умеет, шельма, завернуть!
— А где журналисты? Прошу прощения, Валерьян Аполлонович… Журналисты где?! Пусть же включат свою технику! Не за тем их сюда звали, чтобы… Потом допьют… Продолжайте, душа моя, Валерьян Аполлонович!
— Да-с, к следующему выводу… Хм… Ей-богу, господа, духу не хватает!
— Ну же, голубчик, ну!
— А, была не была! Господа! Я пришел к выводу… Я предлагаю… Предлагаю…
— За цыганами послать?!
— Что? Зачем? Каких цыган?
— Да не перебивайте же! Экий нетерпеливый! Не обращайте внимания, Валерьян Аполлонович! Молодой еще! Чувствами живет. Цыган ему… А нет послушать мудрых людей! Слушаем, слушаем…
— Предлагаю… Ну, помогай, Господи! Предлагаю: выйти, наконец, из… КРИЗИСА!
— …?
— У меня, собственно, все.
— Позвольте… И? Ну-те, ну-те?
— Но у меня действительно все!
— Хи-хи-с.
— Ну, полно, полно, Валерьян Аполлонович! Пошутили и довольно. Выдыхается же… ну говорите, что хотели. Право, мочи уже никакой нет.
— Я серьезно. Пора, наконец, выйти из кризиса.
— Как?!
— Помилуйте!
— Вот так номер!
— Н-да, балагур-с!
— Так прошрафиться…
— Но… но… позвольте, Валерьян Аполлонович… Ведь это как же… Как прикажете понимать?
— Журналисты! Да выключите вы свою дурацкую аппаратуру! Лучше уж водку пейте! Валерьян Аполлонович, голубчик, может быть вам нехорошо? Человек! Кондиционеры включите! Душно же, в самом деле… И не курили бы вы там, молодые люди… Видите, дурно Валерьяну Аполлоновичу…
— Напротив, я прекрасно себя чувствую. Настолько прекрасно, насколько возможно в наше время…
— При чем тут время? Закусывайте, господа, закусывайте! Ваше здоровье! Я все же полагаю, что Валерьян Аполлонович нас разыгрывает… А? Ну, признайтесь, голуба?
— Верно, тут скрыта какая-то тонкость. Намек, так сказать, фигура аллегорическая…
— Ах, шельма… И как закрутил… А мы-то — за чистую монету…
— Браво, Валерьян Аполлонович!
— Но у меня действительно все, господа! Право, я не понимаю, о каких намеках говорите!
— Ну, полно. Ну, голуба. Ну, пожалей нас, дураков. Ну, видишь, молодежь смотрит… Ну, виноваты, ну дураки, ну не сподобил Господь. Ну не сердись, мамочка. А лучше просвети и наставь… Ну, скажи, что пошутил…
— О Господи! Ну, пошутил, пошутил!
— Ну, то-то! Дай я тебя, душа моя, расцелую! Дал же Господь таланту, а, господа?
— Виват Валерьяну Аполлоновичу! Виват!
— А теперь, молодой человек, и цыган можно. То-то, учитесь… надо умственно… А то сразу… Человек, шампанского!
ЛЕСНОЕ
И как стукнуло ей шестнадцать лет, так ударилась она в рев и рыдала долгих пять дней и ночей. Отец, волосатый мужичина, известный злодей-душегуб, мрачный разбойник, жалел ее, полусиротинушку — жену-то свою он давным-давно извел, сжил со свету белого.
— Эка дурища, — ворчал Еремеич, принимаясь за щи, густо приправленные солью бесконечных дочерних слез. — И на кой тебе муж? Да за ним так ли еще взвоешь, ежели мужчина попадется правильный.
— Нет, батюшка, нет, родненький, — вспыхивала еще не выплаканными до конца глазами Иринушка. — Я его жалеть все равно буду. Пусть хоть какой…
За пять-то слезных лет такого ли батька натерпелся. И умолила его дочка, затопила ему душу тоской-печалью невысказанной. Крякнул ре, нахлобучил малахай, вскинул на одно могучее плечо дубинку верную, в пятнах да расщепинах, на другое — мешок пустой, дерюжный, объемистый. Да и отправился в засидку, на место привычное, у трех дорог. День сидел, ночь коротал, без огня, без пищи, без курева, сердце ожесточая. А на другой день…
…как стало клониться солнце красное, как запели птицы вечерние, как склонили головки цветы лазоревые, так и выезжал на распутье добрый молодец, на распутье, на судьбы решение.
Приволок его мужичок в избу от, развязал мешок, любуйся, дескать, доченька. Посмотрела на добра молодца Иринушка, да от радости слезами и умылася.
— Вот спасибо тебе, батька, — низко кланяется.
Так и зажили втроем, да ладно зажили. Не кручинился, не рвался к воле добрый молодец. Лишь повесит, бывало головушку, вздохнет, да и снова приободрится.
— Знать судьба мне вас послала, — молвит Феденька, — а ее не обойдешь, не облетаешь.
Вот прошло таких-то семь годков. А в те поры все плакала Иринушка, да только уж от счастья, от неизбывного. Солоны щи ели батюшка да суженый. Доставалось молодухе от Феденьки — за стряпню, за слезы бесконечные. На восьмой на год пошли размолвки бранные, а к тому же Господь не дал им сына дитятки, не порадовал доченькой-хозяюшкой. На девятый год их жизни-проживанию бросилась Иринушка в ноги папеньке, да взмолилась, слезою умываючись:
— Не губи, избавь меня, батюшка, от постылого мужа ненавистного.
Ничего не сказал отец-батюшка. Только крякнул, мол, было говорено. Нахлобучил малахай, дубинку взял верную, взметнул на плечо мешок дерюжный, объемистый. Да пошел мужик к месту заветному, отпустил у трех дорог добра молодца. Не обидел ни взглядом, ни окриком. Лишь дубинкою взмахнул — лети, птаха вольная.
Воротился Еремеич домой. А девка все рыдает, да пуще прежнего. Плюнул мужик, перекрестился. Рыдать теперь дочери до скончания веку бабьего.
СЕРАФИМА
Левитировал. Невысоко. Эдак с полметра над плитами двора. Поэтому, наверно, и не производил впечатления. Не обращали внимания и на мою черную мантию, которая тащилась длинным, за все цепляющимся хвостом и меня самого приводила в трепет. Ну и мантия! Их же не трогало ничего.
С досады поднялся выше, хоть и побаивался всегда высоты. И тут же зацепил проклятой мантией люстру — расфуфыренную, с пыльными зеленоватыми стеклянными плафонами. Диковинными звонкими плодами покатились они по ступеням на камни княжеского двора. Уж было грохоту и дребезгу! Но и тогда никто не явился полюбопытствовать.
Черной молнией метнулся на улицу, прохожих останавливая:
— Там, изволите видеть, люстры бьют…
— Неужели? — отвечают. — Ах, ах…
И дальше себе шествуют. Издеваются, что ли!?
От злости стремительно вознесся черным монументом метров на пять над площадью, орал что-то оскорбительное.
Зашаркали подошвами. Сбегаться стали. Подумал не без злобы: пока не заорешь…
— Что ж? — приступил я к допросу. — Вы ничего не слышали? Или делали вид?
Загудели ответно, винясь:
— Да мало ли… Всяко быват… А вдруг, да черти!?
За обиду мне показалось.
— Черти? Кто сказал черти?
— Выходит, я и сказала…
Расступились вокруг телесастой молодухи, туповато поводящей маленькими, пронзительно-синими глазами.
Подлетел к ней. Склонился.
— Черти?
— Ага.
— И что же?
— Безобразят.
— Ну те, ну те?
— Везде лазают.
— И?
— Гадют.
— Ну а люстру, люстру… Тоже они?
— Да ведь…, - запнулась, — откуда ж мне…
Заробела баба. Тронут я.
Спускался вниз, собирая мантию складками у ее ног. Глядя в глазки, не мигая.
Не касаясь земли, завис. Протянул руку — ощутил ладонью ускользающую вниз мягкую тяжесть груди.
— Как же звать тебя, догадливая моя? — спросил шепотом.
— Серафима, — сухими губами молвила.
— Се-ра-фи-ма, — повторил я.
Имя ее трещало сгорающим хворостом в пламени моего рта.
— Ты опять забыла меня.
Но и с этой, совсем уж небольшой высоты, меня сдернули. Именно за мантию — оправдались предчувствия. Сдернули при всеобщем молчании, из которого ничего нельзя было понять.
Меня судили. Обвинение составилось обширное и тяжкое, как последний инфаркт. Ни одного пункта не удалось мне опровергнуть, да и не упорствовал я. Прокурором выступал сам великий Глодра. Этим все сказано.
Серафиму не мучали — она призналась сразу и во всем. И с готовностью приняла возложенное наказание — поднести факел к костру. Что она и сделала, даже не взглянув вверх, на меня своими пронзительно-синими глазами.
— Се-ра-фи-ма, — прошептал я, когда уже трещал костер, а мне оставалось молить Господа, чтобы все закончилось как можно быстрее, чтобы исчерпав это время, пусть и мучительно, неважно, затем вступить в другое, с благословением, и уже оттуда отыскать путь обратно.
Я потом долго-долго листал залежалые сны, мечтая о том, как буду левитировать, невысоко… Но натыкался лишь на останки костра и на собственный труп, который так и не удосужились убрать.
НА БИС
Вы, конечно же, слышали об этой истории. Слышали разное, иногда прямо противоположное. И если я сейчас хочу вам напомнить ее, то вовсе не из желания похвастать осведомленностью. Просто нужно же установить истину. Пусть она и не из разряда тех, за которые стоит идти на костер. Кроме того, по прошествии нескольких лет уже можно говорить и о каких-то выводах, порой занятных.
Начало, как вы помните, весьма банальное. В один из прекрасных (другого и быть не могло) вечеров наш юный герой с букетом в руках ожидал… Впрочем, это тоже всем известно. Она не пришла. Я потому так верно знаю, что вся эта история, длившаяся без малого три года, происходила в двух остановках от моего дома. Там, где один из наших редких автобусов разворачивается на обширной площади у рынка. И букет Он приобретал на этом же рынке. Я потом разговаривал со старушкой-цветочницей, живущей за городом в своем доме. Она утверждала, что Он раз от раза отбирал букет все тщательнее, да и платил не торгуясь, щедро…
И вот когда Она не пришла, наш герой, прождав еще час, собрался покинуть площадь. Его остановил букет. Букет горел перед ним красным светофорным светом. Я не знаю, что делают со своими букетами те, кто оказался в подобной ситуации. Вполне возможно, что именно на цветах и срывается досада. Наш герой обладал добрым сердцем. Он справедливо рассудил, что уж букет ни в чем не повинен. Стало быть, надобно передать цветы по назначению. Каким образом?
Он стал всматриваться в лица проходящих. Его заинтересовали лица девушек и молодых женщин, увидевших букет. Одной из них Он и вручил цветы, сказав при этом несколько слов, нам, увы, неизвестных. Таким было начало…
Таким было начало, закрепившее данную им себе клятву. И во исполнение этой клятвы, каждую неделю, во Вторник вечером, в тот несчастливый для Него час, он стал являться на рыночную площадь. С букетом, купленным у известной нам старушки. После недолгого и сосредоточенного ожидания Он вручал цветы очередной избраннице. Тем самым словно давая краткий отдых сердцу своему.
Постепенно это событие, благодаря слухам, стало достоянием не только рыночной площади, но и всего города. К концу первого года Его романтической деятельности изрядное количество досужих лиц собиралось полюбопытствовать на очередном вручении. Второй год вручений уже решительно заявлял о сложившейся традиции. Он продолжал выбирать королеву сердца…
А по прошествии трех лет Он исчез, не оставив о себе, как выяснилось, никаких сведений. Ибо, исполняя обет свой, был Он исполнен монашеской скромности.
Недостатка в слухах и версиях не было. Насколько я помню, девицам очень нравилась версия женитьбы Его на цветочнице, у которой он приобретал свои дивные цветы. Но знающие люди только посмеивались, слушая этот легкомысленный щебет. Высказывались догадки о появлении на одном из вторников Той, самой первой, ставшей виновницей все истории. Дескать, он вручил Ей букет, и история сама себе придумала достойный финал. Согласитесь, и такое предположение отдает старинным романом. Более убедительно выглядит мнение людей достаточно рассудительных и имеющих богатый жизненный опыт. Они пришли к выводу, что он успокоился сердцем, полюбившим столь многих. Равнодушно же исполнять традицию на потеху толпе казалось Ему занятием пустым…
Мой сосед, страшный любитель поспорить, выслушал историю весьма задумчиво. И я не услышал от него известного набора эпитетов: чушь, ерунда, сказки и проч. Он просто молча удалился. Лишь к вечеру заглянул ко мне вновь.
— Ну вот, — сказал он. — Все ясно и без слов. Я прогулялся до рынка, выбрал букет и проделал всю ту штуку, о которой вы распространяетесь с таким наслаждением. Знаешь, что мне сказала «избранница»? Язык не повернется повторить…
— Нечистый эксперимент, — возразил я. — Сам посуди. Ведь ты же не был в тот момент несчастливо влюблен. Так?
— Хорошо, — сказал он. — Какие проблемы? Я пойду и влюблюсь…
— Несчастливо, — напомнил я.
— Несчастливо, — подтвердил он.
И ушел. И до сих пор ходит в поисках. Весь город знает о нашем споре, все привыкли к поиску. Даже его жена.
ДЖУЛИЯ
Джулия умница. Джулия красавица. Мне такие никогда не попадались в объятия. А Джулия сплоховала. Что-то здесь было не так. Она явно предназначалась не мне. Что-то вверху не сработало. Джулия была того же мнения, без восторга оценивая мои скромные достоинства.
— Как часто ты меняешь носки? — спрашивает она, закуривая.
— Собственно… Я не регистрирую эти события.
Джулия иностранка. Джулия прекрасно говорит на многих языках, только на нашем — плохо. И всех денег мне ее никогда не потратить. И это она мне тоже готова поставить в вину. Я хожу по кухне и размышляю: за что мне такое? Она ходит по комнате и размышляет на ту же тему. Изредка из комнаты открывается дверь, ненадолго показывается ангелоподобный лик, пленительной музыкой звучат слова:
— Ради Бога, не забывай менять носки.
Джулия отказала двум баронам. Джулия спустили с лестницы князя (правда, довольно сомнительного). Она послала к черту весь высший свет. Мы живем в однокомнатной, снятой нами квартире. Ночи наши полны кошмаров и бессонниц. Дума наша велика и отчаянна. И однажды меня осеняет.
— Дорогая, — кричу я в стену. — Мне наконец-то все ясно. Дело в том, что мир встал с ног на голову. Понимаешь?
Она не очень понимает. Я ей долго растолковываю. С демонстрацией на себе самом. До нее доходит. И она несколько успокаивается.
Окей, — говорит она. — Но теперь-то ты, надеюсь, понимаешь, что надо чаще менять носки?
В НОЧНОМ ДВОРЕ
Несомненно, кто-то не выдержал и запустил-таки в него чем-то тяжелым. Возможно, цветочным горшком, схваченным сгоряча с подоконника, горшком, о котором впоследствии пожалели — вещь нужная. А может и не горшком. Да и наверняка не горшком. Чем-то менее ценным. Хотя очень трудно найти в квартире что-то, предназначенное именно для этой цели. Впрочем, хороши кубики, обыкновенные деревянные детские кубики, если, конечно, в доме есть дети, которые видят сейчас десятые сны, пока вы раздумываете над кубиками… Ах да, кубики сейчас делают из пластика, и они теперь легкие, не летящие далеко и метко… Но ерунда. Ведь запустили же в него чем-то, если судить по удаляющимся его звукам, по высказанной вслух досаде… И нечего обижаться. Правильно сделали, что запустили. Все-таки ночь на дворе, и сон весенний так прерывист и чуток… А тут, как заведенный, минут сорок подряд, с идиотской, совершенно необъяснимой пока настойчивостью, он повторяет одну и ту же фразу, если вслушаться, одну и ту же, состояющую из семи быстрых, почти непрерывно звучащих «гав» и одного «гав» через паузу. Вот так: гав-гав-гав-гав-гав-гав-гав, гав! Представляете? В то самое время, когда такой сон! Ну и конечно же кто-то не выдержал. И напрасно пес на кого-то обиделся.
И я потом не мог уснуть еще час, пытаясь понять, чего же он хотел, выговаривая, вернее, вылаивая старательно одну и ту же фразу? А потом понял. И ничего там хитрого не было. Всего-то он хотел нас уверить вот в чем: «Спите, да? А я вот всю ночь вас тут охраняю…» Ну и еще что-нибудь добавлял, раздосадованный.
А потом кто-то не выдержал и запустил в него чем-то тяжелым.
ВЕСЕННИЕ ШУТОЧКИ
Среди вокзального многолюдства он, конечно же, выделялся. Своим черным фраком и размахиванием рук, которые дирижировали невидимым, тончайше звучащим оркестром, заодно отпугивая летящих к отъезду пассажиров. Его пробовали уговорить по-хорошему:
— Чудак, да кто же тебя тут услышит?
Или сердились:
— Безобразие, вы же мешаете!
А он был упрямо и молчалив. Или изредка огрызался:
— Кретины, да где же вас еще вместе столько соберешь?
Вот и доигрался. Его вывели в сопровождении ударных на сцену, подняли занавес, и он оказался лицом к лицу с духовым оркестром местной пожарной команды. Он отступил немного вглубь сцены, побледнел, но нашел в себе силы воскликнуть:
— Я сам!
И действительно, сам взмахнул рукой. Страшно рявкнула медь. Он рухнул в оркестровую яму.
Собственно, его предупреждали.
ПРЕДСТАВЬТЕ СЕБЕ
Люди бежали молча, сосредоточенно глядя себе под ноги. Не все успели укрыться, когда завыла сирена…
Ударившись об угол телевизора, он испуганно бросился закрывать форточку. Словно это могло спасти его. И тут же увидел, как из-за угла дома с победным воем выползла поливальная машина.
Он в слабости опустился на стул, ощущая удивление. Оказывается, он еще не разучился плакать от бессилия.
«Мне давно бы обменять мою огромную комнату с видом на Дерево. Но я уже опоздал. Опоздал лет на двадцать. За это время Дерево унесло свою вершину за крышу нашего дома.
Когда-то я был маленьким, и дерево было маленькое. И хоть рос я быстро, как трава, дерево обогнало меня. Мне остался балкон — с него я еще мог посматривать на дерево свысока. Я подозревал, что дерево растет по ночам, переваривая то, что узнает днем. Наверно именно по ночам оно подбиралось к моему балкону, чуть поскрипывая туговатой корой. А я спал. И не видел, как верхние, самые любопытные листочки уже заглядывают в мою комнату.
Дерево недолго изучало меня. Вскоре оно заскучало и стало забираться все выше и выше, заглядывая в новые окна. А потом и весь наш дом наскучил ему. И оно так рвануло вверх, будто все мы разом умерли.
Теперь, по ночам, пользуясь светом автомобильных фар, тень Дерева быстро обегает мою комнату. Но нет, ничего не изменилось. Я не совершил подвига, не нарисовал замечательную картину, не создал семью… Все мои приобретения: кошка и собака.
Я с ненавистью вслушиваюсь в шум машин. Мне достаточно одной машины. У меня богатое воображение — следствие не только одиночества. Для меня любой механизм — потенциальный источник моих грядущих бед и потрясений. Проехавшая сейчас за окном машина заставляет меня вспомнить, что «на дорогах туман, гололедица…» И это уже я веду обреченную машину по отвратительной скользкой дороге. Я не могу не гнать машину, иначе кошмар будет длиться долго, а я не хочу долго… Машина покорно не слушается управления…
Мышцы окаменели, тело застыло в позе жертвы автомобильной катастрофы… Черт! Ведь глупо же! Расслабься. Чувствуешь, как вспотели ладони? Если бы ты сейчас, к примеру, коснулся ладонью оголенных проводов, то… Перестань! Ну, какие еще провода? Закури. Ну, закурил… Но ведь это все равно не сон.
Для того, чтобы заснуть, я должен миновать ловчую сеть моего воображения.
С детства у меня осталась вера в то, что если хорошенько представить себе несчастье, могущее произойти со мной, то оно и не произойдет никогда! Я уже достиг определенных успехов: не утону, не разобьюсь в автомобиле, поезде, самолете и т. д. Спрашивается, как же я умру? Просто? Вот так лягу и буду прислушиваться к себе, как сейчас, сложив руки? Но тогда… Тогда можно и до бессмертия допредставляться? Или число смертей бесконечно? Фу, бред какой!
Я догадываюсь, что подвиги, о которых я мечтал в детстве и которые не сбылись для меня, теперь мстят мне. Подвиги, совершаемые в моем детском воображении, всегда заканчивались обязательно доблестной гибелью. Обязательно! Но вот что странно: я отравил свое воображение. Теперь оно с наркотическим наслаждением показывает мне только то, что следует за подвигом. Случаи, приводящие к одинокой заброшенной могиле, становятся все нелепей.
Я всматриваюсь в эти случаи не только ночью, но и днем.
На улице мне грозят мчащиеся автомобили, качающиеся деревья, строящиеся дома и шальная пуля пьяного придурка. В учреждениях прогибающиеся доски полов, скрежещущие лифты и злобные обладатели подписей и печатей. В родном холостяцком углу — непогашенная ночная сигарета, кем-то не перекрытый газ, теракт, наконец, разгром «Спартака» и — соседи, соседи, соседи…
Храпят соседи сверху. Отличная слышимость в нашем ветхом доме. Я не завистливый человек. В моем маленьком мирке, конечно же, чего-то не хватает. Но вот этому безмятежному храпу я завидую. Смотрю в потолок, завидую. И думаю о метеоритах. Ведь падают же они где-то, черт их возьми! И мало радости, что угодивший мне в голову обломочек Вселенной будет экспонироваться на международной выставке, внушая трепет своим кровавым прошлым.
У слова «неврастеник» фиолетовая, дергающаяся окраска. Если бы я был законченным неврастеником, я взял бы эту маленькую собаку за загривок и быстро вышвырнул в окно. Маленькая псинка запросто пролетит в большое окно. Дело в том, что собаку кусают блохи, а она обожает чесаться на постели, у меня в ногах. Я просто спихиваю ее на пол. Но воображение успевает подсунуть мне картиночку. Довольно натуралистическую. С умелой сервировкой деталей. Жаль мне становится собаку. За зиму у нее отросли длинные когти, и теперь она с лошадиным цоканьем бегает около кровати, ожидая удобного момента для вторжения.
Прямо в ухо мурлычет кот. Его я люблю больше. Он всегда спит, его не надо воспитывать. Воображению с ним мало хлопот. Интересно, почему нам так нравится быть бескорыстным по отношению к тем, от кого нет ни малейшего проку?
Коту надоели мои размышления, ему надоело мурлыкать в ухо, которое ничего не слышит, кроме себя. Он встает, потягивается и вдруг прыгает, на мгновение зависая в воздухе, на книжный шкаф. На краю шкафа, прямо над моей головой, стоит цветочный горшок с растением, походим на выродившийся помидор: маленькие толстые листья и крохотные красные плоды. Я верю в кота и мое воображение — горшок не упадет мне на голову.
Темно, но я слышу и представляю, как кот, сладострастно жмурясь, осторожно запускает свой клык в тихо похрустывающую беззащитную мякоть листа. Мне бы его зубы… Впрочем, стоп! Нет более благодатной темы для воображения, чем зубы. Такая, казалось бы, ерунда! До чего только не додумались люди, а вот зубы лечить безболезненно… Стоп, стоп!
Пока ты рабски следуешь своему воображению, будильник стремительно приближает утро. Будильнику есть куда торопиться: ему не терпится ослабить пружину звонка, сжатую тобою вечером. Быстренько отзвонив свое, он затем весь день потом будет спокойно и методично перебирать свои любимые «тик-так». Звонок он воспринимает как общественную и довольно тягостную нагрузку. По моему собственному опыту и по опыту приятелей по работе я знаю, что на свете не существует будильников, которые бы отзвонили вовремя. Основная, ненавидящая нас масса будильников, зловредно тянет время до того момента, когда человек, получив порцию звона в череп, только и успевает, что натянуть портки…
А хорош я буду на работе, нечего сказать. Нет, конечно же я соберусь работа есть работа. Чем мне еще и жить? Но спать осталось два часа.
Я приподнимаюсь на локтях и гляжу за окно, минуя взглядом Дерево. Светает. Проспект протянул свои асфальты за горизонт. У проспекта нездоровый серый вид. Всю ночь ему не давали спать машины. Но он опрятен. Он всегда успевает до утра прийти в себя…»
В детстве он ненавидел то время, когда его гнали спать. В постели он плакал от бессилия и засыпал в слезах. Ему казалось, что именно тогда, когда он уснет, в этой, взрослой жизни и начнется самое интересное. Он тогда еще не знал, что все спят так, как будто чего-то ждут.
НЕИЗЛЕЧИМЫЙ
С детства ощутив неодолимую тягу к подлостям и предательству, Д-р впоследствии сторонился людей, рассматривая их как слишком сильное искушение. Тем самым ему удалось воспитать в себе некоторую степень идиосинкразии к рано проявившимся способностям. Здраво рассуждая, что охотников до пакостей в мире и без него предостаточно, Д-р выработал даже целую систему предосторожностей.
Так, положенный на работе отпуск приурочивался к зимнему сезону. И где-нибудь в самом захудалом санатории Д-р отсиживался, как в засаде. Вероятными жертвами в те дни могли становиться лишь представители обслуживающего персонала. Ко многому привычные и готовые постоять за себя. Впрочем, и с ними контакты сводились до минимума.
Разумеется, предусмотреть все невозможно. Вспоминается заслуженный полковник, поджарый отставник с изувеченным каким-то военным вмешательством ухом. Старому ратнику был противопоказан морской жаркий климат. Два года назад был противопоказан. Неизвестно, как сейчас. Впрочем, вояка отчасти и сам потрафлял низменным инстинктам Д-ра. Сам подсаживался в столовой и заводил речи, в коих сравнивал прошлое и настоящее. Не в пользу последнего. Д-р же одинаково ненавидел и то, и другое. Поскольку и в канувшем, и в нынешнем пребывал в состоянии неизменном.
Полковник любил шахматы, как продолжение вероятных баталий, участником которых был или хотел быть. Д-р подозревал, что участником не только живым, но и героически павшим. Д-р не сразу после предложения «соорудить партийку» отправлялся в номер отставника. Под тем или иным предлогом выкраивались несколько минут для психологической обработки. После чего Д-р неслышно подкрадывался к двери полковника и громко стучал. Но не отворял, несмотря на разрешающий басовитый отклик. А поджидал, пока не приблизятся нетерпеливые шаги и не начнет поворачиваться дверная ручка. Тут-то и следовало резко распахнуть дверь. Практически любой человек приходит хотя бы в секундное замешательство после такого действа. Хотя Д-р знавал одного укротителя, который не моргнув глазом выдерживал штуки и похлеще. И пришлось проявить немалую творческую изобретательность и сноровку, прежде, чем гроза львов начинал шарить вокруг себя в поисках хоть какого-то оружия при появлении Д-ра.
Полковник же в ответ на невинную проделку с дверью нелепо вздрагивал, что так не гармонировало с его подтянутой фигурой, пусть и облаченной в пижаму. Правда, надо отдать ему должное, в выражениях он был сдержан. Буквально двумя-тремя энергичными фразами он определял отношение к происходящему, и противники усаживались за доску.
Тут-то он всецело поступал в распоряжение Д-ра. Стоило заслуженному ветерану задуматься, как Д-р на цыпочках, то есть, уважая соперника, подходил к радиоприемнику. Затем быстро возвращался и, как бы невзначай, но крайне заинтересованно осведомлялся: «И где же это — западное Килау?» И пока полковник тупо взирал н вопрошавшего, тот пояснял: «Наши там срочно ликвидировали военное присутствие. ООН одобрила». Естественно, под влиянием таких вводных вся шахматная стратегия отставника летела к черту. И поле боя оставалось за Д-ром. Иногда он ловил на себе испытующие взгляды соперника. Но они, как правило, упирались в приветливую физиономию, обладателя которого можно было бы заподозрить в чем угодно, но только не в преднамеренном коварстве. Полковник закончил отдых досрочно, с порядком расшатанной нервной системой, оставив Д-ру спасительный покой…
В году нынешнем Д-р рассчитывал на более умеренное времяпрепровождение. Погода стояла ветреная, отвратительная. Несмотря на декабрь, снег скудно покрывал землю. Взгляд с отвращением останавливался на прочно застывшей грязи вспоротых колесами дорог. Немыслимо подскочившие и без того запредельные цены на путевки отпугнули последних возможных любителей зимнего уединения. В дребезжащем маршрутном ПАЗике, ползущем среди мрачных осин к неведомой конечной цели, пассажиров можно было и по пальцам не считать. Кроме Д-ра сразу за водителем пристроились две дамы очень разного возраста. В общем, старая и молодая. Д-р, специально забившийся на самое заднее место, с тоской посматривал возможных будущих жертв. Опасения его подтвердились. Спутницы вышли у санатория.
С уверенностью старожила Д-р указал им направление, прямо противоположное административному корпусу, и с легким сердцем отправился оформляться. Дамы скрылись в безжалостно продуваемых березовых посадках, тем самым избавив Д-ра, пусть ненадолго, от дальнейших соблазнов. Два здоровенных чемодана, обличавших весь опыт путешествий парочки, надо полагать, внесли элемент риска и приключений в их прогулку.
Тем не менее, когда вечером все трое встретились за ужином в столовой, да еще за одним столиком (о, проклятая лень персонала!), Д-р, в ответ на недоуменные вопросы мамы и дочки отвечал с возможной галантностью, что промах его объясняется утомленностью, вызванной дальней дорогой и т. п. Дамы вполне удовлетворились сказанным. Д-р, в известной степени, тоже.
В процессе произнесения монолога, густо замешанного на самом свинском притворстве, Д-р смог внимательно разглядеть соседок. Пожилая дама, сухонькая, мелкая, бодро демонстрировала приличных размеров бородавку под крючковатым носом и довольно густые седые волосы, подкрашенные в синеву. Отсутствие общества явно ее разочаровало. Крепкие зубы раздраженно пережевывали едва прожаренные куски жилистого мяса, значившегося в меню как гуляш. Молодая в целом выглядела безнадежно некрасивой. Рыхлая усатая брюнетка с жидкими-прежидкими прядками вдоль упитанных ушей. Д-р отметил, что обладательница всех этих прелестей мужественно знала себе цену. И даже не покушалась привлечь к себе внимание даже нарядом. О чем свидетельствовало платье солдатской расцветки и примерно такого же покроя. Едва различимый бюст, а также заметный животик украшали три огромных коричневых пуговицы. Сделано было наверняка, как бросок в омут.
Человек с такой геометрией мировоззрения, как правило, легко становился добычей сорокалетнего Д-ра. Но эффект почти не стоил приложенных усилий. Гораздо приятнее дурачить какую-нибудь надменную красотку, постепенно доводя ее до температуры плавления с последующей кристаллизацией всей злобы и глупости на глазах не готовых к таким метаморфозам многочисленных поклонников… Но, увы, красотки нынче отдыхают в местах более цивилизованных. Да и Д-р утратил многое из темперамента. И даже дал себе тут же слово сдерживаться, если только дамы проявят благоразумие и не станут усердствовать в поисках общества «рассеянного, но милого молодого человека». Д-р посмотрел на равномерно движущуюся вверх-вниз бородавку и отвернулся к окну.
Дамы проявляли благоразумие. Но недолго. Соседство за одним столиком давало широкий простор, вернее, полигон (вспомнился полковник) для фантазий. И на первых порах приводило к веселым недоразумениям. Пересоленный суп в одной или обеих тарелок давал повод к догадкам о внезапной влюбленности поварихи. «В кого бы?» — озорной старушечий взгляд в сторону Д-ра. И ни малейшего желания сообразить, отчего это солонка так быстро опустела…
На третью после нашего приезда ночь округу завалило снегом. Д-р стал пропадать в одиночных прогулках, появляясь лишь к столу. Лес, да редкая встречная живность не могли спровоцировать на какую-либо широкомасштабную акцию.
Старушка Фаина Викторовна, судя по воспоминаниям, верила только в одно божество — Гименея. Дъявол-искуситель представлялся ей существом явно выдуманным. И потому с усердием упрашивала Д-ра «выводить в снег» Тамару. Д-р, по мере сил, отнекивался. Что же касается дочери, то она относилась к настоятельным предложениям подышать воздухом безучастно, как и ко всему вообще вокруг происходящему. Сам род ее занятий — корректор в известном столичном издательстве — навевал невыразимую скуку. Впрочем, иной раз усилиями матушки ее удавалось расшевелить. И Тамара неожиданно пускалась в красноречивые монологи, сопровождаемые горячечными утверждениями и резкой жестикуляцией. При этом речи ее, посвященные вечности, Вселенной, разграблению России, положению в Чечне и прочим глобальным категориям, свидетельствовали не столько о начитанности, сколько об одиночестве. Практичная Фаина Викторовна при этом совершенно терялась, ясно давая знать, что далеко не все контролирует в воспитании дочери. Впрочем, посреди самого страстного монолога девушка вдруг осекалась, словно сообразив, что аудитория совершенно того не стоит.
И было отчего. Д-р не отказал себе в удовольствии покрасоваться в одной штуке. В полном неумении разгадывать кроссворды. А старушка оказалась горячей поклонницей этой невинной и безопасной для интеллекта забавы. Выяснилось в процессе заполнения клеток, что Д-р девственно невежествен. Он или тупо молчал или брякал совершенно невпопад. Но краем глаза ни на секунду не упускал из поля зрения Тамару. Д-р знавал множество девиц, которым хватало сдержанности и такта лишь на несколько минут. После чего они открыто начинали прохаживаться по поводу дремучей необразованности, если не глупости некоторых из присутствующих…
Но Тамара никак не реагировала. Она молчала. Не равнодушно. Но погруженно в себя. Она думала. О чем?
— О чем она думает? — спросил однажды Д-р. — Так напряженно, словно работает? Не опасно ли это для столь молодого ума?
Тамара только что вышла с веранды, где отдыхающие сидели после обеда. И что ее только выгнало из теплого уголка? Отсюда так уютно наблюдалось, как за широкими стеклами, чуть тронутыми по края морозцем, увязал в сугробах темно-синий сумеречный лес, как слегка намеченные тропинки тянулись лишь до ворот, ленясь идти далее… Старушку клонило в сон. И потому вырвалось неосторожное:
— О чем? О чем может думать некрасивая девушка, без каких-либо надежд на взаимность?
Впрочем, она тут же спохватилась. Ласково улыбнувшись и потрепав собеседника по руке, Фаина Викторовна добавила:
— Но вы, я надеюсь, человек порядочный? (Господь простит ей неведение) Да и как я могу знать ее мысли? У нынешней молодежи интересы столь отличные от наших. Хотя, разве могу я что-то не понять? Вот представьте…
И старушка пустилась в длинный монолог о племяннике сестры приятеля покойного мужа, который (племянник) вдруг бросил институт и…
Д-р обожал выслушивать такие монологи. Его в них привлекал один момент. Важно лишь было дотерпеть до самого интересного эпизода, из-за которого, собственно, вся эта тягомотина и развозилась. Вот тут-то и следовало перебить повествующего. При этом перебить таким образом, чтобы не оставалось уже никакой возможности рассказ продолжить.
И Д-р дослушал до того места, когда юный непутевый джентльмен, разведясь во второй раз, не спрашивая родительского благословения ни на брак, ни на расторжение оного…
— Чертовски мучает изжога, простите, — сказал Д-р. — Не посоветуете, что бы выпить? У меня это первый раз…
В таких случаях старушки самым жалким образом теряются. Их раздирает между желанием продолжить рассказ, прерванный на самом интересном, и страстью продемонстрировать немалые и уникальные познания в медицине. Как правило, побеждает второе. И объясняется это, по мнению Д-ра, вовсе не отзывчивостью. Просто переход к медицинской тематике открывает еще более широкий простор для словоизвержений. В конце концов, далекий племянник с его нехитрыми жизненными коллизиями всего лишь один, в то время как знакомых и родственников, платящих дань различным недугам — легион. Простая арифметика.
После непродолжительной паузы, во время которой, надо полагать и шла внутренняя борьба двух вышеозначенных желаний, старушка тонко улыбнулась, тем самым давая понять, что она не какой-нибудь дилетант, только и знающий одно средство — соду.
— Видите ли, — наконец вымолвила она, — болезнь каждого человека индивидуальна. Предположим…
— Кстати, — вновь прервал ее Д-р, — у подруги моей соседки был племянник. Представьте, он тоже, примерно в это же время бросил институт. Подумайте, какое совпадение. Не говори ли оно о молодежи… Ах, виноват, я перебил вас!
Это был удар ниже пояса. Фаина Викторовна растерянно замолчала. Только очевидная рассеянность собеседника удержала старушку от занесения Д-ра в список особ коварных и неблагодарных.
Д-р вскочил с кресла, изображая полнейшее раскаяние. Посмотрев на часы в отчаянии воскликнул:
— Боже, своей болтовней я самым нахальнейшим образом отрываю время от вашего послеобеденного сна. Извините.
И тут же наступил на хвост местной серенькой Муське. Не сильно, но чувствительно.
Кресло словно взорвалось под Фаиной Викторовной. Катапультировавшись, она оскорбленно засеменила к выходу с веранды. И Бог весть, крепок ли был ее послеобеденный сон.
Оставшись в одиночестве, Д-р рухнул в кресло. Отдышавшись, быстренько заполнил все клетки свежего кроссворда. Оставалось лишь затем доказать старушке, что это ее рук дело.
Однако ж, задумался он привычно, как разовьются эти взаимоотношения? Муська — ладно. Муська дура. Она никогда не давалась Д-ру в руки. Инстинктивно не давалась, несмотря на подхалимский характер. А однажды даже поцарапала, загнанная в угол с целью привязывания к хвосту безобидной банки… Но эта пара? Виноваты ли они, что судьба столкнула их с ним? Ничуть. Немножко милосердия? Пожалуй.
На лестнице, ведущей вниз от номеров второго этажа, послышались тяжеловатые шаги. Д-р мгновенно изготовился к встрече с Тамарой. И она вышла на веранду. В полной прогулочной форме. Вряд ли сейчас на дому граждане шьют себе пальто и шубу. Однако же неуклюжее коричневое сооружение с черным цигейковым воротником, красовавшееся на Тамаре, явно смахивало на кустарное. Немалого размера черные ботинки фасоном не уступали лыжным. Впрочем, наряд свидетельствовал не об отсутствии вкуса, но об образе жизни. И внезапно даже для себя Д-р спросил:
— Позволено мне будет сопроводить вас?
— Да, — просто ответила девушка. — А то мама боится отпускать меня одну.
Итак, общество Д-ра терпелось только в силу необходимости? Тамара же, ни слова более не говоря, опустилось в кресло, подперла голову в серой вязаной шапочке рукой и, по своему обыкновению, задумалась.
— Через минуту буду готов, — заверил Д-р, направляясь к лестнице.
На веранде было изрядно натоплено, и Д-р подумал, что десяток-другой минут, проведенных в зимнем наряде, заставят Тамару несколько иначе взглянуть на соседа по обители.
Д-р открыл оба крана в ванной, чтобы не могли достучаться, а сам прилег на кровать, уперев взгляд в страницы «Математических чудес и тайн». Карточные фокусы по-прежнему производили впечатление на простаков. Ничто их не брало: ни наперсточники, ни пирамиды. Время незаметно летело за увлекательным занятием.
Но внезапно Д-р поймал себя на мысли, что боится Тамару и разговора с ней. Вызов от себя же был принят. Д-р вскочил и быстро оделся. Несколько секунд поразмышлял над кранами: закрывать ли? Но номера первого этажа стояли пустыми, заливать было некого. Да и претензии персонала могли оказаться чересчур докучливыми. Краны следовало открыть в другом номере!
Тамара сидела в той же позе. Казалось, она и не заметила длительного отсутствия спутника. И более того, без удовольствия отнеслась к тому, что ее уединение нарушили. Во всяком случае, некоторое время она всматривалась в появившегося, как в незнакомца.
Они вышли на крыльцо. Д-р предложил даме руку, но жест остался незамеченным. И Д-р потащился сзади, поскольку тропа не позволяла идти рядом. А уж за оградой снегу и вовсе оказалось по колено. Д-р не стал изображать джентльмена и торить тропу. Но смиренно брел сзади, не без удовольствия наблюдая за неуклюжим продвижением вперед спутницы. Та мужественно пробивалась вперед, к чернеющему метрах в ста впереди шоссе.
Она остановилась так внезапно, что Д-р инстинктивно ухватился за ее плечо, дабы не упасть.
— Простите…
— Это хорошо, что вы открыты, — сказала она, не обращая внимания на руку на плече.
— Открыт? Чему? — спросил он, убирая руку.
— Как чему? — Тамара оглядела Д-ра так, словно он сморозил несусветную глупость. — Космосу, конечно же. Вопрос в том, каким его силам?
И двинулась дальше, неуклюжим, но упорным вездеходиком.
— А что… там тоже разделение? — спросил Д-р ее спину.
— Разумеется, — последовал ответ. — Разве вы не чувствуете на себе их влияние?
— О, очень даже чувствую, — с воодушевлением отвечал он, пристраивая на хлястик ее пальто сухую ветку.
— Но если так, — продолжал он, — то мы, по сути, не вольны в наших поступках.
— Ну как это, — с педагогической солидностью в голосе возразила она. — Отличить темное от светлого может каждый. А при желании — и противостоять.
— Пылинка, противостоящая буре… Смешно.
— Пылинка не может противостоять буре. Но она может подать руку другой пылинке, третьей… Уже легче. А вы одиноки, не правда ли?
— Увы, да, — скроил было жалостливую физиономию Д-р, но сообразил, что спутница все равно не видит.
— Ну вот. Вы одиноки. Отсюда и ваши мысли.
— А вы — не одиноки!
— О нет! — легко ответила Тамара. — В дни, когда из космоса надвигается на нас угроза, мы, вместе с братьями и сестрами по духу, противостоим ей. Разве вы не ощущаете результатов?
Д-р остановился, достал платок, и приложил ко рту, скрывая улыбку.
— … Да, мы не видим друг друга, не знаем имен, не связаны клятвой, — так продолжала она. — Нас невозможно разлучить, ибо даже в темнице мы слышим голоса друг друга. Братство наше нерушимо…
— Всегда найдется предатель, — осторожно заметил Д-р.
— Он безвреден для нас. Ведь он сам по себе. И никак не сможет войти в наше братство…
— Скорей верблюд…, — пробормотал Д-р.
Они выбрались на шоссе.
— Так вы… экстрасенс? — восхищенным шепотом спросил Д-р, сбивая снег с обуви.
Позади снежную целину пересекал ровный шрам тропы.
Тамара посмотрела на него с сожалением.
— Ну что вы. Экстрасенсы не имеют к этому никакого отношения. Это так, шуты, скоморохи, тешащие толпу… Мы же невидимы, толпе недоступны.
Она двинулась по обочине. Д-р присел на корточки.
— Мадам, — сказал он тихо. — Ну нельзя же быть такой дурой!
И подтолкнул бутылочный замерзший осколок с обочины на проезжую часть.
Когда он вновь догнал ее, с другой стороны дороги, от высокой сосны метнулась к ним белка, стремительный и жирный зверек. Тамара достала из кармана пальто яблоко и, откусив зеленый бочок, поднесла дольку к хищной серой мордочке.
Д-р удерживал руки в карманах ценой некоторого напряжения. Просто он по опыту знал, что эта тварь может мстительно цапнуть, если ей поднести пустую ладонь или кукиш. Пришлось сильно закашляться. Белка мгновенно взлетела на ближайший ствол. Не уронив, правда, подачки. Тамара с укоризной посмотрела на спутника.
— Простите, — сказал он, держась за грудь. — Свежий воздух. Отвыкаешь, знаете, в городе…
— Да, да, — сказала она. — Город. Все видят в нем безусловное зло. Может быть. Но только ведь и город надо защищать. Если б вы знали, сколько на это уходит сил.
Д-р сочувственно развел руками. А Тамара вновь двинулась вперед. И Д-ру вновь пришлось догонять ее. Но она опять остановилась, словно вспомнив о важном деле. Полезла в другой карман, достала горсть семечек, вытянула ладонь и стала ждать.
Синицы появились, будто из воздуха возникли. Одна из них зависла над ладонью. Вдруг, решившись, с лету хватанула семя и вспорхнула на ветвь.
— Держите, попробуйте тоже, — предложила Тамара.
Д-р взял с теплой и влажной ладони два черных семени. И теперь, с протянутой рукой, ощущал себя придорожным побирушкой.
Его синица оказалась решительным пернатым. Она села на указательный палец, цепко обхватив его длинными черными коготками. Ткнулась в семя, но не удержала его, сама же испугалась и отлетела в сторону, словно под порывом ветра. Д-р даже не смог придумать, что бы такое подстроить этой крохе. И то сказать: есть же границы всему!
— Собственно, — заявила Тамара, — всего-то от нас всех и требуется — продержаться как можно дольше порядочным человеком. Держись, сколько можешь… Уж не ради себя — ради других.
— А потом? — спросил Д-р, машинально отмахнувшись от синицы, как от мухи.
— А потом? Ну, что? Доживай. И хотя бы зла не делай, — равнодушно закончила она.
— Послушайте, Тамара, — решительно сказал Д-р, — вы серьезно так думаете?
— Почему вы спрашиваете?
— Да потому, — сказал Д-р, предвкушая слезливую развязку, потому, что девушка должна о женихах думать. Понимаете? А не забивать себе голову ерундой.
— Я не считаю это ерундой, — спокойно сказала она.
— Да перестаньте! Давайте откровенно, — предложил он. — Если бы вы были хороши собой, окружены ухажерами, разве космос…
— Что космос? — строго спросила она, словно не слышала всего предыдущего.
— Да ваша же матушка мне и объяснила, — не отступал Д-р. — Что с вашими шансами на замужество — только и остается… философствовать. Разве не так? Честно?
— Ах, матушка, — Тамара улыбнулась с некоторой печалью. — Вот и она не выдержала. Держалась, держалась… Видите, как действует космос? А ведь она в свое время… Впрочем, вам, кажется, это не интересно. Пойдемте назад.
Ее шаги слякотно отзвучали по асфальту шоссе, затем стихли, удаляясь, в снегу.
Д-р не пошел за ней. Так и стоял на месте, оглядывая верхушки деревьев. Секунду спустя сообразил, что ищет сук покрепче. А еще через мгновение уже хохотал от внезапного решения: нет, не сейчас надо вешаться. Не зимой. Поближе к весне. Или весной.
Чтобы запах разложения торжествующе ударил в нос явившимся полюбоваться природой.
СМИРНОВА
Пролог
Смирнова — простая и ужасненькая русская баба.
1. Хорошенькая
Вот я немного выпью-выпью, и Смирнова сразу такая хорошенькая-хорошенькая. Но недолго. Как я чуть переберу, она тут же обратно — ну просто швабра. Я ей так и говорю, потому что она всегда просит определенности:
— Ты просто швабра.
Мягко так говорю, без злобы, и она пока не обижается.
Но я еще чуть добавлю и начинаю не шутя подозревать. Я говорю:
— Ты это нарочно?
— Чего? — говорит она, как бы и не догадываясь.
— А того. Так ненадолго хорошенькая. Нарочно?
Тут уж она обижается. Уже, считает, имеет право. Свешивает нос (а о нем отдельно) чуть не до полу.
— Да ничего, — говорю. — Ничего. Ладно. Я привык. Вот только одного не понимаю. Почему бы тебе всегда не быть хорошенькой? Ты что, не хочешь? Ну, как хочешь. Я же тебе добра желаю. А ты мне рожи корчишь. Постыдилась бы. Ведь уж не девочка.
— Да не корчу я рожи, — говорит она, начиная выдавливать слезы. — Я всегда, всегда…
Не верю я ей, конечно, но успокаиваю:
— Ладно, — говорю. — Ничего. Я привык. Швабра так швабра.
А сам потихоньку пью. Так вот и спиваюсь.
А вообще много нашего брата эдак вот спилось из-за них. Из-за баб, то есть.
2. В гостях
Я всегда в салаты крошу мелко. Очень-очень мелко. Чтобы невозможно было даже догадаться, что кушаешь. И поэтому люблю спрашивать, все тщательно перемешав до однородности массы:
— А что это вы кушаете?
А они и не знают!
Вот тогда и можно отвести душу:
— Во дают. Лопают и не знают.
И еще так спросить:
— Вам, что ли, все равно, что кушать? Что ни подадут, да?
Особенно в этот момент здорово посмотреть на Смирнову. У нее такой нос, прямо носище, обалдеешь какой. А она с ним в гости ходит. Серьезно. Другая бы дома сидела, носа на улицу не казала. Или, по крайней мере, дома нос оставляла, если приспичило. А эта везде со своим носом шарахается, ни стыда, ни совести. Правда. Такая балда. А еще говорят, она жутко храпит. Это так, к слову. Так храпит, что ни один мужик не выдерживает. Еще бы. У нее нос под подушку заворачивается, и там с большим трудом дышит. Вот и храпит. Просто ужас как выводит. Страху нагоняет с первых аккордов. Мужик и не выдерживает. Да и никто не выдержит. Прямо как в чем лежал мужик, так и вылетает из постели, да и из квартиры Смирновой к чертовой матери и в чем мать родила. А та дрыхнет себе, ноль внимания, мол много вашего брата по улицам шляется. И вдогонку ему, вслед, голому и дрожащему от страха, убегающему, как еще разок храпанет, бедолагу с лестницы кубарем сметает, без рук, без ног домой доползает к своей законной, и уж никогда той не изменяет, зарекается по гроб жизни, из дома носу не кажет, не только что к Смирновой, а даже хоть к кому.
И вот когда Смирнова трескает на дармовщину салат, тут ее и спросить:
— А что вы кушаете?
А она, конечно, не знает. Откуда ей, дурище. Хоть и с таким носом. Могла бы использовать. По запаху определять. Ни за что. Даже не догадается. Ведь на халяву же.
— Не знаете?
Специально на «вы», чтобы еще срамнее. Она, конечно, башкой мотает молча, рот-то забит, только нос тоже мотается, так бы и щелкнул по нему.
— Так вам все равно, что ли, что вы кушаете?
— Угу, — говорит-мычит, не поймешь.
Все равно ей, калоше.
Тут уж мы все начинаем ржать над ней, покатываться. Даже те, кто тоже не знают, что лопают. Те даже еще больше покатываются, прямо за животики держатся.
А той? Хоть бы хны. Натрескалась незнамо чего, носищем в тот же салат ткнулась, да и давай храпака задавать, сметану в масло сбивать.
Тут я ее расталкиваю и всех выгоняю в три шеи. Шляются всякие. Ни слова благодарности. Еще только в квартире наследят. Да Смирнова своим носищем накапает, мыть замучаешься. Экий, право, народишко пошел. Пригласить никого нельзя. Так и сгинет моей славное искусство готовить салаты.
Как мы, все-таки, небережны друг к другу.
3. Смирнова и Мужик
Зашел как-то к Смирновой (вот счастье-то привалило!) мужик. Ей-богу, не вру! А тут вдруг телефон зазвонил.
Смирнова как раз в туалете заседала. Она всегда, как мужик изредка заглянет, в туалет запирается и мечтает сразу о будущем. Никто ей там не мешает, если только не долго она там. Если долго, тогда, конечно, мешают.
Она и кричит, заслышав звонок, сдуру, из своего мечтательного заточения:
— Эй! (Забыла, бестолковая, как мужика-то зовут). Послушай телефон-то, кавалер!
А мужик, и так уже обиженный таким приемом, еще и на «кавалер» обиделся. Ну, какой он кавалер? Это уж Смирнова совсем размечталась. Ну и спросил в трубку сгоряча и грубо так:
— Але!
А в трубке помолчали-помолчали, да как вдруг спросят:
— Это Смирнова?
Чем совсем мужика доконали. И тот с досады — шмяк трубкой о дверь. Прямо о дверь туалета. Где Смирнова на ту беду сидела. Очень напугал Смирнову. Прямо даже сказать неприлично, до чего он напугал своим необдуманным поступком Смирнову. Хорошо еще, подумала Смирнова, что как раз я угадала в эту горестную минуту сидеть в туалете, а то бы просто срам.
А мужик еще пнул злобно так в эту же дверь, а потом совсем ушел.
Расстроилась Смирнова. Сильно расстроилась. Ведь не узнала же, кто звонил. Вдруг еще мужик? Взамен этого неверного изменщика. Вот бы!
4. Машинист
Ехала Смирнова в метро с работы. Она иногда работала, где ее терпели. Нос вел себя смирно. До поры, до времени. А потом напрягся. Напрягался он всегда по одному поводу. По поводу съестного. Рядом съестного, не Смирновой съестного.
Ну откуда в метро съестное? Ну бред же.
А пахло едой, колбасой, кажется, нет, точно колбасой, жареной колбасой, сквозь дверку. В первом вагоне ехала Смирнова. Дверка ее отделяла от кабины машиниста. Или машинистов. Бравые они такие ребята. Стройные, форма им очень идет. Синенькая, с погончиками. Брюки со стрелочками. Жены им гладят-наглаживают стрелочки.
Если бы у Смирновой был муж-машинист, она бы ему обязательно каждое утро наглаживала стрелочки. Снимала бы с него каждое утро штанишки и наглаживала. А он бы стоял без штанишек, такой беззащитный, попка в пупырышках от сквозняка, и тоже бы наглаживал. Смирнову по руке. И все бы приговаривал:
— Ну, хватит уже гладить. Давай-ка лучше делом займемся.
А Смирнова бы, хитрая такая, сердилась бы как бы взаправду:
— Ну не мешай уже.
Но вот колбаса. Колбаса чего-то настораживала Смирнову.
Чего это за езда с колбасой? Жрут они ее там, что ли? Вместо того, чтобы на дорогу смотреть? Как же это?
И на первой же остановке вышла Смирнова. Очень уж ей опасно стало. И уехал без нее поезд. А машиниста проводила Смирнова нежным взглядом. И он ей подмигнул, не выпуская, впрочем, колбасу из крепких зубов. Как выпустить? Время-то вон какое.
6. А все равно хорошо
ДЕЛО «ПЕСТРОГО»
В начале 80-х нас, студентов Литинститута, в Центральный Дом Литераторов не пускали. Ни под каким видом. Администрация ЦДЛ подозревала, и думаю, не без оснований, что юный пиит, прозаик ли, ворвавшись в желанные двери, нарушит покой мирно пьющих мэтров. От наших синих студенческих билетов с тиснением золотом «Союз писателей СССР», которыми мы так гордились, непреклонные вахтеры презрительно отмахивались. Редкие счастливчики, проникшие в святая святых, затем небрежным тоном излагали млеющим от зависти сокурсникам о том, что де выпивали с самим Имярек или подрались с самим Другим Имярек. И с одной стороны ЦДЛ воспринимался как святилище, вход в которое доступен лишь избранным, а с другой — как некое оставшееся от стародавних времен заповедное дуэльное пространство, где можно высказать в глаза оппоненту высокую и горькую истину (типа: «Ты бездарь!») И тут же получить сатисфакцию (то бишь, по морде). Имя ЦДЛ стояло в одном ряду в такими мистически-благоговейно звучащими словами, как Переделкино, Пицунда, Коктебель… И где-то в самом верху, в божественно-небесной вышине золотым нимбом, венчающим литературное мироздание, реяло словосочетание «Нобелевская премия», от которой нас, студентов, отделяло, по нашим же подсчетам, лет эдак пять, ну от силы семь…
Шанс проверить опасения появился у чиновников от литературы в 1983 году. Грянуло 50-летие свитого А.М.Горьким гнезда для литптенцов. Дата круглая. И при тогдашней любви к юбилеям обойти сей факт не представлялось возможным. Студент забурлил и начал подкапливать денежку. Начальство чесало плешь.
Торжественная часть, неминуемое зло каждого празднества, растянулось надолго. Большой зал ЦДЛ сиял и слепил софитами, бархатом, а также регалиями и лысинами литературных генералов. Юнкера же начали потихоньку просачиваться в Пестрый зал, куда их вынужденно пропускали хмурые и недоумевающие привратники с комсомольско-кэгэбэшными физиономиями.
Попавшего впервые в Пестрый юного литератора охватывал трепет. Он не знал, куда девать руки и робость. И не только от близости к «бессмертным» или от объема бюстов буфетчиц, величественно возвышавшихся над блюдами с деликатесными бутербродами и фирменными, восхитительными пирожками. Замирал юнец перед надписями на стенах, автографами корифеев. Только тут начинал он постигать, что смысл литературной карьеры — не в создании нетленных текстов, а в том, чтобы оказаться среди избранных. От такого потрясения оправиться было нелегко. И хамея от собственной скованности, студент шел народной тропой — брал штурмом буфет.
Ограниченность финансовых возможностей вела к пагубным последствиям студент скупился на закуску. И спиртное поглощалось жадно, стаканами, по-гусарски, под сигарету и вызывающе громкие беседы «об изящной русской словесности». На окружающих нас почтенных литераторов, ошеломленных налетом, мы поглядывали жалостливо-снисходительно, как ни на что не годных старцев, ничего не добившихся, заедающих век чужой и не дающих дорогу молодым (имелась в виду дорога в ЦДЛ). Нас же, естественно, ждали слава и вечность…
Хмель и горячая кровь брали свое. Под столы и над столами с лихим звоном полетели бутылки. На стены, с теперь уже раздражающими надписями, плескалось вино. В воздухе носилась жажда поединка. Неважно с кем и из-за чего. И дуэлянты отыскались — калужский поэт Саша Удовиченко и московский прозаик Андрей Воронцов. В окружении многочисленных секундантов соперники проследовали в туалет. За неимением пистолетов сатисфакция давалась на кулаках. Энергичный натиск поэта наткнулся на умелую боксерскую работу противника. По очкам победил Андрей. Тут же отыскались и другие желающие получить по физиономии, и в атмосфере явственно запахло погромом.
Неизвестно, чем бы закончилась студенческая свистопляска, посвященная полувековому юбилею альма-матер. Но на призывы литераторов старшего поколения сбежалась охрана, и нас поперли. Скорее всего. Не могли не попереть. Просто дальнейшее помнится смутно — экономили на закуске. Но несомненно, празднество продолжалось в общежитии, на Руставели.
Но как бы там ни было, администрация ЦДЛ лишний раз убедилась в горькой истине: студент и дом литераторов — две вещи несовместные. И негостеприимные двери захлопнулись для нас вновь. Впрочем, и старички давали жару. И не раз у входа в Пестрый появлялись грозные резолюции примерно следующего содержания: «В связи с недостойным поведением лишить писателя Имярек права посещения ресторана сроком на 1 (один) месяц. Подпись. Печать.»
В конце 80-х ЦДЛ стал для нас еще желаннее. В стране свирепствовал сухой закон, гибельно отражаясь на самочувствии литераторов, привыкших общаться с хмельной музой. Буфет же в Доме функционировал исправно. И так же несокрушимо стояли за буфетной стойкой Пестрого грудастые буфетчицы, совмещашие в прошлом, как утверждают знающие люди, свои прямые обязанности с внештатным осведомительством. И так же нас, литераторов без соответствующего билета, «не пщали» молодцы комсомольского вида. Приходилось пускаться на уловки: проникать через переход из Большого союза, через боковой вход в ресторан, или обращаться к билетным писателям с просьбой провести. Выражаю личную благодарность за поддержку в те трудные годы Юре Доброскокову и везде проникающему Боре Никитину.
Таинственный подземный переход из Большого Союза вел к нижнему буфету. Считался он малопрестижным, поскольку предназначался для гостей Дома, для зрителей различных мероприятий, проходящих в ЦДЛ, славящимся в 80-х своими киноабонементами и творческими вечерами. Рядом с нижним буфетом совершенно отдельно от мира ЦДЛ существовала биллиардная, откуда время от времени заглядывал в буфет И.Шкляревский, рассеянно оглядывал сидящих за столиками и вновь скрывался в царстве зеленого сукна и смачных карамболей. Для нас же, студентов, и проникновение в нижний представляло порой трудную задачу.
Подспорьем в разрешении этой проблемы стал билет Союза литераторов, созданного Д.Цесельчуком и куда входили многие официально не признанные талантливые литераторы, например А.Еременко и С.Василенко. И вооружившись таким билетом, я впервые и нахально вошел в ресторан с парадного входа, с Воровского (ныне Поварская), подгоняемый похмельем и еще безбилетным тогда критиком П.Басинским. Видавший виды охранник недоуменно повертел в руках странную книжечку и вызвал метрдотеля. Тот с неменьшим изумлением осмотрел странный документ и… пропустил, предупредив, чтобы мы, Боже упаси, не устраивались в Дубовом зале. И мы, чуть не на цыпочках миновав панельное великолепие Дубового, радостно устремились в Пестрый. Впрочем, при наличии свободного столика можно было спокойно посидеть и в Дубовом. И тебе без вопросов подавали графинчик водки и грибочки с нежной селедочкой. За вполне умеренную плату. И слегка затуманившийся взор гостя, поднимавшегося по резной лестнице к туалету, любовно охватывал панораму накрытых столов и оживленные лица А.Иванова, В.Пьецуха, В.Маканина, А.Кима и многих-многих других известных литераторов и актеров, а среди сигаретного дыма и кухонных ароматов плавали звуки негромкого пианино… Эх!
Как ни странно, но и выход из Дома в пору зимнюю, представлял из себя определенную проблему. Из-за гардеробной стойки вылетал с твоим, знававшим времена лучшие пальто почтенный гардеробщик, с орденскими планками на груди, и норовил накинуть на плечи, привычно рассчитывая на чаевые. Не привыкший к такому обращению студент, к тому же и сильно стесненный в наличности, бормотал нечто невнятное и спешил выхватить из угодливых рук незамысловатый предмет своего туалета. Только изрядная доля выпитого помогала побороть смущение.
Не хотелось бы, чтобы у читателя сложилось впечатление от ЦДЛа, как от распивочной для деградирующих писателей. Вовсе нет. Нет, большинство литераторов приходили сюда лишь после того, как добросовестно отрабатывали неделями, не разгибаясь, за письменными столами, и лишь когда голова совсем уже переставала что-либо соображать и сладостное одиночество творчества превращалось в тюремный вакуум. Тут-то и славно было оказаться в атмосфере ни к чему не обязывающего трепа, первого обжигающего желудок глотка и хмельного легкого флирт, снимающего напряжение каторжного труда.
А многие приходили в ЦДЛ на творческие вечера, даже не догадываясь о кабацкой его жизни, и уходили в состоянии того же блаженного невежества, свято полагая, что посетили очаг высокой культуры. И на них с недоумением взирал появляющийся из биллиардной, как из преисподней, И.Шкляревский.
И разве можно забыть политические схватки, кипевшие в стенах Дома? Разве можно забыть «Память»? Однажды мы с одним известным критиком, проходя мимо Дома, отметили скопление народа у дверей. Для нас это означало лишь одно — в такой тусовке легче проскочить в Пестрый. И мы вошли, заверив вахту у дверей, что направляемся… э… ну, вот на этот вечер. А в большом зале заседал «Апрель», тогда юный и привлекательный, собираший полную аудиторию. «Память», естественно, не могла остаться в стороне. И нет бы нам прямиком отправиться по назначению, то бишь, к стойке, но черт нас дернул отправиться в зал, нашептав, что дескать, на наших глазах творится История. История и произошла. В битком набитом большом зале мы едва отыскали два свободных местечка в центре. Нас не насторожил тот факт, что места пустуют. Мы невнимательно оглядели соседей, таращась на сцену и ожидая судьбоносных заявлений. Вдруг сидящие рядом с нами коротко стриженые молодцы начали выкрикивать нечто, прямо указывающее на их противоположную точку зрения на происходящее как в зале, так и в стране. На молодцев свирепо зашикали. Подскочил разъяренный Л.Жуховицкий. Мы оказались в стане «Памяти»! Пришлось бежать. Сняв стресс методом известным, через час мы в вестибюле подверглись нападению группы рассерженных женщин еврейской национальности, вышедших из зала покурить и запомнивших, как мы позорно ретировались под натиском «Апреля». Боюсь и думать, чем бы закончилось для нас объяснение с дамами, если бы не вмешательство Олега Файнштейна, клятвенно заверивших «апрелевок», что мы к другой одиозной организации отношения не имеем. Впрочем, и самому Файнштейну поверили далеко не сразу, и с сомнением вглядывались в черты его лица, не желая доверять очевидному. Пришлось пройти повторный курс лечения от стресса. В биллиардной успокаивающе постукивали шары.
К тому времени мы уже различали завсегдатаев. Гуляли отдельными компаниями, образованными по политическим, редакционным или давно сложившимся отношениям. Выделялась бригада «Москвоского вестника» — под предводительством В.И.Гусева чуть не половину Пестрого занимали габаритные М.Попов, М.Гаврюшин и В.Отрошенко, в арьергарде которых неуверенной походкой брели Ю.Коноплянников, В.Бацалев и И.Кузнецов. Последний затем перешел в недоброй памяти издательство «Столица» и перебрался за другой столик, а Отрошенко ушел на вольные. А кто мог себе представить Пестрый без Льва Щеглова («Солженицын идет!» — разносился шепот) или дяди Володи Макарова, бывшего директора музея Маяковского? Дядя Володя славился еще и тем, что притягивал к себе металлические предметы, и не раз потешал собратьев по ремеслу, прилепляя ко лбу ложку или вилку. После принятия определенной дозы прорезался дивный баритон В.Устинова, заводившего застольной песней весь зал.
Нас, зеленых сопляков, «старики» частенько раскручивали на дармовую выпивку, за которую щедро расплачивались литературными байками и обещаниями напечатать нас в самых-самых журналах. Мы слушали, разинув рты и шустро бегали к буфетной стойке.
«О, молодые будьте стойки При виде ресторанной стойки»Эту заповедь, выведенную на стене рядом с буфетом, мы игнорировали. По невежеству или той же молодости. Совершенно не желая понимать, что перед нами в лице почтенных выпивох присутствует зеркало времени, в котором просматривается и наше возможное будущее…
Не претендуя на лавры известного собирателя литературных баек Бори Никитина, дерзну припомнить один случай, свидетелем которого был лично. Однажды старожилы Пестрого заманили в свою компанию провинциального юного таланта. Тогда, в начале 90-х, на витринах только-только начали появляться бутылки с импортным алкоголем. И мы не сразу пришли к давным-давно проверенному заключению, что наша водка все равно лучше. Так вот. Провинциал, польщенный вниманием лукавых мэтров, сделал широкий жест. Выкатил несколько бутылок «Абсолюта» (если ошибаюсь, Никитин поправит). В том момент вся компания находилась уже в изрядном градусе и дорогую сивуху выкушала нечувствительно. Но. На следующий день первые два участника вчерашнего застолья, вновь встретившись в Пестром, огорошили друг друга следующими идентичными признанимями:
— Старик, у меня утром… Не поверишь, стоял!
Последующие жертвы коварного напитка, пробудившего в них давно забытые ощущения, появляясь в зале, под дружное реготанье остальных признавались:
— Старики, что я вам скажу…
— Знаем. Стоял!
Если бы в Пестром были не витражи, а окна, стекла бы повылетали от хохота.
А в общем, грустно. От обилия спиртного переставал «стоять» и талант. Хотя, может быть и наоборот, в рюмке топилась тоска по утраченным способностям, которым так и не дано реализоваться в суете и болтовне.
Но в начале 90-х о грустном не думалось. Пестрый щедро дарил нас дефицитными по Москве выпивкой, куревом и дешевыми обедами. А если буфетчицы урезали норму отпуска в одну глотку, то всегда можно было договориться с судомойками и за 40 (сорок) рублей приобрести бутылку, в которую, скорее всего сливалось недопитое в Дубовом. Ну да какая зараза к водке прилипнет? И Дом оставался для нас настоящим Домом, в котором иной литератор, окончательно обессилевший в борьбе с зеленым змием, мог и заночевать на софе в вестибюле.
И тут в ЦДЛ тоже началась перестройка. К ворчливому неудовольствию завсегдатаев, не желавших верить, что рушатся и уходят в небытие десятилетние традиции, Пестрый закрылся на какой-то особенный ремонт, а гуляк перевели в нижний буфет. Не успели они пригреться тут, как рыночная экономика добралась и туда. Нет, буфет внизу остался, но теперь там отпускали по «коммерческим» ценам, доступным далеко не всем. Они тут стали столь же высоки, как и перестроенная стойка, из-за которой иным литераторам виднелась лишь прическа буфетчицы. Нижний опустел. Заскакивал из биллиардной Шкляревский, брал чашку кофе и вновь исчезал, изумленно оглядевшись. Литератор, ностальгически зайдя туда, натыкался на дежурно любезные улыбки смазливых молоденьких официанток, на стриженые затылки и квадратные плечи тех, кто еще не знали, а только догадывались, что они и есть «новые русские». Литератор же, близоруко вглядываясь в ценники, крякал и шел домой, заниматься что называется, бытовым пьянством. Сам ЦДЛ опустел. И холодными вечерами со страхом мнилось: исчез писатель, пропала литература. Где молодая поросль? В бизнесе. Где други? Затерялись. Караул. Выпить не с кем!
Надо признать, коммерция в нижнем процветала недолго. Стриженые затылки вскоре предпочли более экзотические заведения, а литератор, норовивший придти со своей бутылкой, «плану не давал». Нижний закрыли, а писателям дали послабку. Открылся-таки буфет наверху. Но в фойе, среди картин разместившейся там галереи. Да и работал этот буфет неубедительно до 18.30. Посетитель не успевал расслабиться и набрать нужный кураж. Литераторы добавляли в соседских сквериках на Герцена или у высотки напротив метро ««Баррикадная». Впрочем, после ЦДЛ всегда добавляли. Чтобы влипнув в случайную компанию таких же недопивших бедолаг оказаться где-нибудь в далеком Подмосковье, на глухом полустанке, в чьей-то даче, где утреннее пробуждение сулит жуткую головную боль и множество нерарешимых морально-финансовых вопросов, быстро, впрочем снимавшихся после глотка неведомо откуда взявшегося пива.
Но и в фойе гулянье процветало недолго. Неугомонная администрация Дома вновь рискнула запустить литераторов в Пестрый. В Пестрый отлакированный, подкрашенный, с дубовыми балками и… такой чужой. Надписей на стенах поубавилось. Не вписывались они в новую действительность. Но приободрившихся писателей вытерпели тут месяца два. И опять ссылка. И опять в Нижний. Тут составлялись самые безумные прожекты и заключались заведомо невыполнимые договора. Литератор взалкал богатств, как и вся страна, одурманенная идеей быстрого финансового благополучия. Писатель горячечно забормотал о создании собственных издательств, литературных агентств, издании «та-акой» книги, что пойдет на ура, только деньги успевай складывать. Заторговали несуществующими вагонами бумаги и тушонки. Хвастали контрактами с зарубежными издательствами, сулившими золотые горы… Качал ошарашенно головой возникавший из глубин биллиардной Шкляревский… Не исключаю, что кто-то действительно разбогател. И даже наверняка. Но не все, далеко не все. И литератор разделил судьбу страны, вышедшей на улицу торговать чем ни попадя. О текстах вспоминалось изредка, при ностальгическом разборе архивов. Или при звуке знакомого имени, обладателю которого удалось-таки ухватить за хвост капризную Славу. И посмеивался над бедолагами, бывшими сокурсниками по литинституту хитрющий Витька Пеленягрэ, морочащий голову общественности своим Орденом куртуазных маньеристов. И негодовал на такое обращение с талантом и поэзией поклонник классического направления, Игорь Меламед.
Что же сталось с творческими вечерами? Их сменили пышные презентации мыслимых и немыслимых фирм. Литератор же мог рассчитывать лишь на собственные силы и помощь друзей, проводя свой творческий вечер, для своих же, на свои же деньги и в малом зале. И оказавшись на таком вечере Ты ощущал себя пассажиром хрупкого суденышка, влекомого по бурному морю к неведомой таинственной гавани куда стремятся вместе с тобою немногочисленные собраться по вере.
А в Дубовый наш брат перестал и заглядывать. У дверей ресторана, со стороны Поварской теперь встал на часах молодец в ливрее, одним видом пресекающий у литератора саму мысль дерзнуть войти внутрь. В Пестром же… То вино, которое мы по молодости и лихой глупости плескали на стены, ничуть не повредило надписям. Они уцелели, насмешливо посматривая на нас, уже остепенившихся. Но вот против кисти и краски они не устояли. Дирекция Дома не стала тратиться на вино, пойдя путем прагматическим и наняв маляров. И вместе с большинством надписей исчез Пестрый. Сгинул в небытие, вместе с душами оставшихся там навсегда писателей. Вместе с жаркими спорами, отчаянными ссорами, случайными знакомствами и пьяными романами.
Правда, в фойе, где ранее располагалась картинная галерея, появился музей, призванный придать Дому дух литературы. В этом музее есть различные памятные предметы, подаренные ЦДЛ писателями различных поколений. Нет только самих писателей. Не идут они в бывший Пестрый, ныне сияющий хрусталем сервировки и на тощие кошельки литераторов не рассчитанный.
Что ж, жизнь, конечно, не остановить. Это вам не шар биллиардный. Вновь зароился писатель в недрах Дома. Выжил литератор, приободрился, о премиях заговорил, о растущих гонорарах, вновь привлек внимание к своей персоне, истосковавшейся в забвении, вновь стал гордым. И снисходительно позволяет юному литератору наполнить свою рюмку. Но не забыл ни прозябаний в лихие годы, ни друзей-собутыльников. Ни Пестрого.
НОВАЯ РУССКАЯ СКАЗКА
Новая русская сказка начинается так:
— И вот он что, сердешный, удумал… Пить-то ему доктора запретили. А иной раз так ли ему захочется рюмочку винца… Поди-ка, такой страной покомандывай… Так он тайком кличет дворника, дает ему цельных сто долларов, одной кипюрой и просит за бутылкой-то и сбегать. Чтоб никто не знал, Боже упаси…
Нежность к мифу необъятна и смутно объяснима.
Суть русской революции: мужичку с царицей переспать хоца!
Успокойтесь, господин мужичок. Нет ныне ни царевен, ни князей ясноглазых. Если и дорвешься до постели, то окажется в ней та же русская б…!
И мужичок потому не тоскует шибко. Стоит Ванька за прилавком и торгует тушонкой-парфюмерией. Ручищами бумажки многочисленные переслюнивает, а взгляд безмятежно устремлен в бесконечность. Торгующий рядом обувью человек кавказской национальности настороженно оглядывает Ваньку и вопрошает:
— Э, Вано, завтра торговать будешь? Э?
— Завтра? — лениво переспрашивает Ванька. — Завтра — не-а… Завтра праздник. Первое мая, — поясняет ласково.
В каждом синем глазу Ваньки уже плещутся по стакану водки с плавающим сверху соленым огурцом. Вернее, огурец — в глазу правом. В левом, конечно же, селедочка, присыпанная зеленым лучком.
— Первое мая? — пребывает в недоумении собеседник. — А что первого мая, деньги отменяют, э?
Непонимание.
Потому как — интерес разный. Иному миф, иному разлюбезно мифотворчество. Как не придумать такого Ваньку? Образ многограннейший, несмотря на кажущуюся примитивность и одномерность.
Склоните же голову, легионы литераторов, пред памятью творца, вызвавшего к жизни образ Ивана, исправно вас кормящего. Вот только как теперь избавиться от навязчивого, как подсевший в электричке пьянчужка, липкого лика?
Не избавиться. Путь электричке неблизкий. И к тому же везет она теперь Русскую Идею. С высот благосклонно спускаемую. Тем самым, кто «страной командывает».
Эх, эх, Русская Идея. Кто тебя выдумал? Выдумал в очередной раз? Лишь для того, чтобы на следующей, Бог знает где уготованной нам станции, подсунуть нам иную Идею.
Ситуация. А ситуация порой загоняет в угол. И загнанный в угол человек сидит себе там, посиживает, томится, но винит не ситуацию, а угол. В него же и плюет.
Господа литераторы! Коленопреклоненно взываю: не сдавайтесь, держитесь! Не позволяйте втянуть себя в малевание иконы Нового Русского Мужичка. А то пойдет, усмехаясь, среди банков и коттеджей, прикидывая, на что сгодится, в его будущем хозяйстве вся эта компьютерно-хромированнотонированная роскошь.
Просто ради интереса, обратите пристальное внимание на его глаза. На глаза послепраздничные, без огурцов и селедки. Смотрит он на окружающее не с завистью или ненавистью, а хозяйским глазом. И не торопится сорвать плод незрелый. И думает неторопливо: «Нехай строють…».
Умоляю — не заигрывайте с ним…
Ох, не даром прикладывал ладонь к уху Гоголь, приговаривая: «Слышно страшное в судьбе наших поэтов».
Но только и сам я, грешен, не могу удержаться… И вот уже летит перо черт-те куда… Иной раз помстится во мраке нечто неясное, и возоплю, брызжа слезами умиления: «Сподобил Господь! Надоело мужичку киночтиво заграничное. Алчет он духовности… Други, мы востребованы!»
Бред!
Душка Хлестаков: «Я ведь литературой существую».
И душно, душно… Яду мне! Чтоб неповадно было.
А то ведь доиграемся. Придется со стыдом, подобно Петру, медно чеканить слова страшные: «Сия сарынь ничем кроме жесточи унята быть не может».
Вот и сказке конец:
— А дворник, сам жалосливый, и отказать неловко, потому как подневолен, и видит, пропадает человек через эту заразу. Так он водку-ту водой по дороге разбавляет. Чтобы, значица, здоровье не так у кормильца портилось… А то ить и приработка дворник лишится… Так-то, Петровна!
Впрочем, так закончилась лишь одна из сказок. А им же несть числа. Извлекаемы они из небытия чьей-то волей. Редко — нашей. Но вызванные к жизни, нас же соблазняют «впасть в прелесть».
И тогда в паутинной пустоте гулко разносится голос Гоголя:
«Не обвиняйте никого… Помните, что все на свете обман, все кажется нам не тем, чем оно есть на самом деле…»
НЕ ПРОПАДЕМ
Каюсь. Усомнился. Смалодушничал и дрогнул. И даже где-то взалкал.
Однажды хмурым утром (именно по утрам пронзительны эти мысли) решил, что никому на этом свете не нужен с высшим образованием и навыками строчить пером. Эту же крамольную мысль мрачно подтвердили обшарпанные стены моего жилища и косые взгляды домочадцев. И вспомнились «Мертвые души»: «Вы возьмите всякую негодную, последнюю вещь, например даже простую тряпку, и тряпке есть цена: ее хоть по крайней мере купят на бумажную фабрику, а ведь это ни на что не нужно. Ну, скажите сами, на что оно нужно?». Под «оно» я остро ощутил себя. И без всякой надежды на успех раскрыл газету и отыскал рубрику «Предлагается работа». Мелькнула жалкая мысль: «Хоть бы и в курьеры…».
И о…! Опытный читатель, если таковые еще существуют, догадался меня ожидало потрясение. С газетной полосы ко мне (да, да, именно ко мне!) взывали на тысячу ладов чуть ли не мольбы с самыми соблазнительными предложениями. Ведь требовались: а) лица интеллигентные и с высшим образованием (ну разве не я?); б) желательно со знанием языка и компьютера (другими знаниями я и не обладал); в) общительные (ради дела я мог и напрячься).
Прочитанное ошеломляло. Оказывается, в то самое время, когда я скулил и жаловался на судьбу, страна просто задыхалась от нехватки людей интеллигентных! " А еще твердят кругом о бездуховности!» — не без укоризны подумал я. И решительно набрал первый попавшийся телефонный номер. Моему звонку обрадовались (!) и крайне доброжелательно назначили свидание.
И я пришел в указанное место и время, слегка удивился отсутствию очереди, и встретил радушный прием. Интеллигентнейшая (!) дама посочувствовала моим проблемам, но и мягко пожурила за длительную нерешительность и игнорирование призывов самой Судьбы. Я размяк и оттаял.
И мне предложили за какие-то несчастные триста долларов приобрести для дальнейшего распространения несколько баночек какого-то чудодейственного средства от всех болезней. «Мы займемся оздоровлением нации!» — внушительно объявили мне. Я был готов на все. Я согласно кивал головой в такт всему услышанному и затуманенным от слез умиления взором рассматривал нечто радужное в перспективе — обещанные счета (мои счета!) в швейцарском банке и славу спасителя Отечества…
Жаль, денег у меня не было. Как говорится, не при валюте оказался. И я в смятении возвращался домой, приходя в себя и уже критически воспринимая действительность. Бог с ними — счетами и славой. Говорят, уж больно стремительно на них слетаются господа рэкетиры.
Бессонной ночью, глядя в потолок с разводами, видимыми даже в полумраке, я размышлял со светлой грустью. Нет, не пропала страна. Нет, нужны ей люди интеллигентные. Потому что только истинно интеллигентный человек способен стать потребителем думающим. Правда, есть опасность выродиться в банального потребителя. Ну, так на то он и интеллигент, чтобы устоять в схватке с искушением… И пусть лично я не стал миллионером. Пусть. Другим повезет. Шанс-то есть. И шанс весьма ощутимый. Я же… Я, сожалея о превратностях судьбы, возвращаюсь к старому ремеслу своему. Ремеслу почетному в кругах весьма узких и малодоходному. Но возвращаюсь со светлой надеждой. Не пропадем.
И вновь вспомнились «Мертвые души», вспомнились успокаивающе: «Мертвым телом хоть забор подпирай, говорит пословица». Что ж, я готов подпирать этот самый забор. Лишь бы за ним хоть что-нибудь цвело.
ЧТО РУССКОМУ ХОРОШО…
Первый русский министр финансов граф Алексей Иванович Васильев не принадлежал к числу типичных сыновей Отечества нашего. Дело в том, что он любил порядок. Более того, умел этот самый порядок наводить. И потому ему поручались работы весьма ответственные. Например, он составил государственную окладную книгу. До него российская штатс-контора, то бишь финансовое управление, точных сведений о доходах и расходах государства не имела. Ну не получалось их как-то посчитать. То ли времени не хватало. То ли желания не было. Но дело прошлое, поди разбери. Вообще с этим счетоводством история в России крайне темная. Предшественник Васильева, князь Вяземский, так и не смог разобраться в запутанной цифири. Что не мешало ему быть любимцем Екатерины II.
Но вернемся к нетипичной фигуре Васильева.
В силу страсти к порядку, граф с большим удовлетворением знакомился со списками иностранцев, в Россию приезжающих. Именно в них Алексей Иванович видел соратников в борьбе с российской безалаберностью.
Во второй половине XVIII века объявился на отечественных просторах швейцарец Гаиль, быстро научившийся откликаться на обращение Иван Христофорович. Настоящее-то имя мудрено нашему обывателю было выговорить. Столь же мудрено называлась и напечатанная Гаилем еще в 1773 году в Эрлангене диссертация: «Specimen inaugurale medicum, miscelania medicochirurgica continens». Ее у нас даже перевести не смогли. Или опять желания не оказалось. Но из-за уважения к сему труду солидному был определен иностранец Гаиль младшим доктором в московский госпиталь. Случилось это в 1775 году.
В 1775 году Алексей Иванович Васильев занимался в комиссии по составлению Уложения, при чем составил сборник законов по финансовому управлению. А также написал наставление вновь учрежденным в губерниях казенным палатам. Тем самым продолжая вносить порядок в податное дело.
Иван Христофорович, также любя порядок, обладал по мнению русских коллег характером неуживчивым. Даже вздорным, если не сказать капризным. Такую он заработал себе не слишком лестную репутацию, добиваясь порядка. И потому долго в Москве не задержался, как не задерживался надолго и в других городах обширного государства Российского, постепенно откочевывая все дальше на восток. В 1781 году мы слышим взнервленные выкрики неугомонного швейцарца, доносящиеся из Пензы.
В 1781 году, с уничтожением штатс-конторы, Алексей Иванович был назначен во вновь учрежденную экспедицию для ревизии государственного счетоводства, к которой вскоре было присоединено винное, соляное и горное управление. В случае болезни генерал-прокурора Васильев докладывал императрице дела государственного казначея.
В 1784 году Иван Христофорович оказывается в Казани, очевидно полагая, что татары нация более благоразумная, нежели русские. Но иллюзии недолговечны, и швейцарец, обнаружив беспорядки в расходной части казанской врачебной управы, посылает о них записку в столицу.
В 1784 году Алексей Иванович получает место директора медицинской коллегии и расширяет ее деятельность без увеличения расходов (!). Существовавшие со времен Петра I в Москве и Петербурге медико-хирургические училища преобразуются в медико-хирургические академии. В этом же году Васильев узнает о родственной деятельности Ивана Христофоровича.
К концу века швейцарец Гаиль, осознав тщетность борьбы в русским авось, решает подойти к облагодетельствованию новой родины с другой стороны. Медицинская коллегия (читай: Васильев) в 1798 году получает очередную записку от Ивана Христофоровича. Прислана она из Оренбурга и содержит проект снабжения всей России исключительно русскими лекарственными средствами, с тем, чтобы их не выписывать из чужих краев. Записка с интересом изучается.
При Павле I Васильев, ранее уже заседавший в Сенате, назначается государственным казначеем (финанс-министром). В этой должности Алексей Иванович заведует поступлением и распределением казенных налогов и составляет смету. При этом не забывается и беспокойный швейцарец, которому посылается соответствующий запрос в ответ на рассмотренный проект.
В 1800 году Иван Христофорович отказывается давать объяснения медицинской коллегии по поводу проекта. Отказывается впредь до назначения его инспектором врачебной управы, справедливо полагая, что, обладая полнотою власти, будет более полезен любезной его сердцу России.
В 1800 году Алексей Иванович увольняется со своего поста по наветам Кутайсова, от души сочувствуя вечно опальному Ивану Христофоровичу, в котором уже видит родственную душу. Но с восшествием на престол Александра I Васильев опять назначается государственным казначеем, а при образовании министерств — министром финансов.
Между тем у Ивана Христофоровича возникли недоразумения и с оренбургской врачебной управой, неправильно отрешившей его от должности. В хлопотах по этому делу он и умирает в 1801 году. Проект снабжения всей России исключительно русскими лекарствами и до сей поры остается не осуществленным.
Алексей Иванович и после смерти Гаиля продолжал неустанную деятельность на благо Отчизны. В 1806 году получило силу закона выработанное под непосредственным руководством Васильева горное положение, которое с небольшими изменениями долгое время служило до последнего времени основанием нашего горного законодательства. Лишь за несколько недель до своей кончины, последовавшей в 1807 году, Алексей Иванович обрел совсем ненужный ему досуг, на котором размышлял о судьбах России, так и не охваченной порядком, и об иностранцах, связавших с великой страной судьбы свои. Лечивший его доктор Савельев как-то обмолвился о прибытии в Петербург француза Валентина Гаюи, творца системы обучения слепых.
— Вот и колотится теперь француз о чиновничков наших. Требует выдать ему слепых детей, — с усмешкой закончил Савельев.
— Жаль его, — отчего забеспокоился Васильев, на досуге немало поразмышлявший — Передайте ему… Увидите, непременно передайте: в России нет слепых! Нет! Пусть уезжает…
Эти слова французу передали. Но Гаюи оказался крепким орешком, под стать Ивану Христофоровичу. Одиннадцать лет без устали трудился этот подвижник в Петербурге (куда пригласил его сам император Александр I), не дополучая жалования, терпя всевозможные притеснения от чиновничества и в частности от своего же помощника — пьяницы Бушуева, к тому же писавшего на него доносы.
Но все же вернулся Гаюи в Париж. Не стал доводить дело до крайности. А то ведь Пенза с Казанью только того и ждут. А там и до Оренбурга рукой подать…
ЧТО НЕМЦУ ХОРОШО…
Князя Александра Николаевича Голицына считали баловнем судьбы. И не без оснований. Зачисленный при Екатерине II в пажи, он с детских лет имел доступ ко двору. Поначалу он ценился императорской фамилией как участник детских игр великих князей — Александра и Константина. Затем, уже в молодости, — как остроумный и ловкий кавалер. Но императору Павлу князь явно не глянулся, и галантного вельможу из Петербурга выслали.
Лишь при Александре I, в 1803 году, началась служебная карьера Александра Николаевича. Началась с ошеломляющего предложения императора взять на себя должность обер-прокурора святейшего синода. Типичный вольнодумец Екатериненской эпохи, Голицын с веселым легкомыслием относился к религиозным вопросам и общественной деятельности предпочитал наслаждения жизни. Поэтому назначение его обер-прокурором святейшего синода явилось полнейшей неожиданностью для всех и для него в первую очередь. Объяснялось же произошедшее исключительно желанием императора иметь на этом важном месте близкого человека.
В 1810 году Голицын, при сохранении прежней должности, становится главноуправляющим иностранными исповеданиями, а в 1816 — и министром народного просвещения. Видную роль начинает он играть и в учреждениях общественного характера: становится президентом Библейского Общества, президентом «Человеколюбивого Общества». Деятельное участие принимает в работе «Попечительного о тюрьмах общества» и множества других.
Вольнодумство вольнодумством, но положение обязывает. И в настроениях князя произошли глубокие перемены. Религиозные вопросы захватывают его все сильнее, постепенно направляя его в сторону мистицизма.
Для шибко умных: мистицизм — разновидность интуитивизма и иррационализма.
Свои новые взгляды князь старался проводить прежде всего как президент Библейского Общества. Но еще более широкое поприще открылось перед ним с объединением в его руках ведомств духовных дел и народного просвещения. Религиозные верования и переживания главы министерства напрямую сказались на постановке школьного дела. Основанием истинного просвещения Алексей Николаевич провозгласил благочестие. От литературы, попавшей в лапы цензуры, только перья полетели… Добродушный от природы князь, оказавшись в кресле, под его гм… седалище не приспособленном, несся в неведомое, закусив удила…
А в это время проживал в Мюнхене католический священник Иоанн Госснер. Тоже мистик. Был он душой и сердцем группы экзальтированных пиетистов-«пробужденных» (Erweckten), последователей графа Цинцендорфа, скончавшегося еще в 1760 году. Этот Госснер сделал новый перевод Нового Завета, и при этом замечательно близкий к подлиннику. Другой бы на этом и ограничился.
Но Госснер замыслил основать в среде католической церкви некую «братскую общину». Церковь, естественно, воспротивилась новообразованию. И в 1817 году, по восстановлении в Баварии иезуитского ордена, Госснер, лишенный места, гордо удалился в Пруссию.
Так бы и канул в безвестность немецкий еретик, но прослышали о нем деятели российского библейского Общества и призвали его в Петербург, где он в 1820 году и был избран директором вышеупомянутого Общества. Проповеди немца имели успех у наших мистиков, и в частности, у князя Голицына.
В 1823-24 годах, окрыленный успехом Госснер издал в Петербурге свою книгу «Geist des Lebens und der Lehre Jesu», что можно перевести, как «Дух жизни и учения Иисуса», а можно и как «Призрак жизни и учения Иисуса». Кто их, мистиков, разберет… Издал с благословения главного идеолога народного просвещения, князя Голицына А. Н. Скромно издал, на немецком языке. Вероятно, не слишком веря в успех мистицизма у широких народных масс России-матушки.
Однако почитатель Госснера, генерал-майор Брискорн, задумал перевести ее на русский язык. Но не успел, скончался. Тогда за издание взялся сам Госснер, доверив перевод книги секретарю Библейского Общества — В. М. Попову.
Этого только и ждали враги Библейского Общества и президента его, к каковым принадлежали представители образовавшейся тогда церковно-реакционной партии с архимандритом Фотием во главе. Им очень не нравился противный православию мистицизм министра духовных дел. Ловкий искатель карьеры Магницкий (не путать с автором первой русской «Арифметики») добыл из типографии несколько отпечатанных листов. В них обнаружили богохульство и безбожие. Сами листы должны были свидетельствовать о том, что книга уже широко распространена в русской публике. Аракчеев, давно мечтавший свалить Голицына, дабы доклады обер-прокурора по синодальным делам восходили к государю от самого Аракчеева, убедил митрополита Серафима представить безбожные листы императору.
Интрига увенчалась успехом. Архимандрит Фотий за победу над мистиками назвал Аракчеева «Георгием Победоносцем». Князь Голицын пал, как не оказавшийся твердым в благочестии. Переводчик немецкой книги (Попов), два цензора (фон Поль и Бируков), типографщики (Край и Греч) были отданы под суд. Госснера весной 1824 года выслали за границу. Злополучную книгу, по рекомендации Шишкова, велено было сжечь.
Итак, князь Алексей Николаевич Голицын, в 1824 году сохранил за собой лишь звание главноначальствующего над почтовым департаментом, что соответствовало должности министра путей сообщения. То есть, дорогами его сиятельство теперь занималось. Но с потерей политического значения Алексей Николаевич не утратил, однако, дружеской привязанности к нему императора Александра. И не раз, должно быть, его величество дружески подтрунивал над бывшим баловнем судьбы, вопрошая министра путей сообщения о двух бедах России. А сам Алексей Николаевич имел все основания вспомнить о своей родословной, о том, что родоначальником князей Голицыных был боярин Михаил Иванович Булгаков, по прозвищу Голица. А такое прозвище ясно намекает, что человек в одночасье может оказаться, пардон, даже без исподнего. И это уже не мистика. Хотя с мистицизмом князь так и не порвал. Как говорится, хоть бы мордой упасть, абы хряснуться всласть. Глубоко проникло загадочное учение в не менее загадочную русскую душу.
Что же касается немца, то Госснер, вернувшись в любимый фатерлянд, плюнул на ересь, официально принял лютеранство и стал проповедником в Берлине.
А ВСЕ РАВНО ХОРОШО… (Особенности национального творчества)
Не Бах с Бетховеном.
А Варламов и Верстовский.
И потому музыкальные критики находили множество изъянов в их творчестве. Варламова обвиняли в неряшливости и малограмотности композиторской техники, отсутствии отделки и выдержанности стиля, элементарности формы. Верстовского — в том, что оркестр у него самостоятельного значения не имеет, а оркестровка примитивна; и вообще оркестровка затрудняла композитора, и он зачастую поручал эту работу капельмейстеру. Не царское, мол, дело…
Много еще в чем обвиняли. Но досуг ли был им заниматься шлифовкой своих дарований? Судите сами.
Сашенька Варламов еще ребенком страстно полюбил музыку и пение, особенно церковное. И рано стал играть на скрипке по слуху, отдавая явное предпочтение русским песням. Десяти лет его отдали певчим в придворную певческую капеллу. А в 1819 году осьмнадцатилетний юноша назначается регентом придворной русской церкви в Гааге, где жила тогда сестра императора Александра I, Анна Павловна, состоявшая в замужестве с кронпринцем нидерландским. Над теорией музыкальной композиции Варламов почти не работал. И потому остался при тех скудных познаниях, которые вынес из капеллы, в те времена совсем об общемузыкальном развитии своих питомцев не заботившейся.
Лешенька Верстовский также с младых ногтей проявил интерес к музыке. И к образованию, казалось бы, относился серьезнее. Окончил институт инженеров путей сообщения. А теории музыки обучался у Брандта и Цейнера. Но инженерной карьере Алексей Верстовский предпочел музыкальную и стал вращаться в артистическом мире Петербурга, не раз выступая в частных домах как актер и певец. И в том же 1819 году его опера-водевиль «Бабушкины попугаи» была поставлена в северной Пальмире. И пребывал он в том же осьмнадцатилетнем возрасте. Когда искусы популярности велики чрезвычайно.
Варламов также вращался в это время в артистическом мире, но только Гааги и Брюсселя. Слушая «Севильского цырюльника», Александр приходил в особый восторг от искусного употребления в финале второго акта русской песни «На что же было огород городить», которую итальянский маэстро, по мнению юноши, «хорошо, мастерски свел на польский». Имея множество знакомств, особенно среди музыкантов и любителей музыки, Варламов уже в молодости обрел привычку к беспорядочной и рассеянной жизни, каковая и помешала ему выработать как следует свое композиторское дарование. Вот в чем дело-то! Но в 1823 году он вернулся в Россию, чтобы пять лет провести неизвестно где. Одни полагают, что в Москве, другие — наоборот, в Петербурге. Но, несомненно, ведя при этом жизнь… рассеянную.
Алексей Верстовский, напротив, всецело посвящал себя работе, о чем свидетельствуют написанные им и поставленные в Петербурге только в 1822 году оперы-водевили: «Карантин», «Новая шалость или театральное сражение». «Дом сумасшедших или странная свадьба», «Сентиментальный помещик». В этом же году он переселился в Москву, поступил на службу в московскую контору императорских театров, где в 1825 году заступил в должность «инспектора репертуара и трупп». Но и в Москве не сидел, сложа руки. Вкалывал как проклятый. Зарабатывая имя и деньги. Откуда же время на шлифовку мастерства?
След Александра Егоровича Варламова отыскался лишь в начале 1829 года. Тогда наш композитор хлопотал о вторичном поступлении в певческую капеллу. При этом он поднес императору Николаю I две херувимские песни, каковые и считаются первыми известными нам сочинениями. И в январе этого же года его определили-таки в капеллу, зачислив в число «больших певчих», с возложением на него обязаности обучать малолетних певчих. Правда, в декабре 1831 года его уволили от службы в капелле. Очевидно, в силу пристрастия к рассеянной жизни. Однако в следующем году он делает над собой усидие и даже занимает место помощника капельмейстера императорских московских театров. А к началу 1833 года относится появление в печати сборника девяти его романсов «Музыкальный альбом на 1833 г.». Между прочим, в сборнике напечатан и знаменитый романс «Не шей ты мне, матушка», прославивший имя Варламова и сделавшийся известным на Западе в качестве «русской национальной песни». Стоит ли упоминать, что сборник посвящен Верстовскому. Поскольку всех известных композиторов можно было перечесть, ограничиваясь пальцами одной руки. Ну, какие ж тут требования к мастерству?
Алексей Николаевич не снижал темпы выпуска творческой продукции. В Москве один за другим ставились водевили с его музыкой. При открытии Петровского театра был поставлен пролог «Торжество Муз», в котором музыка гимна принадлежала Верстовскому.
Пришла пора и опер. И настоящую славу Верстовскому принесла опера «Аскольдова могила», поставленная 16 сентября 1835 года в Москве и 27 августа 1841 года — в Петербурге. Не оставлял вниманием уже прославленный композитор и сочинение музыки к различным драматическим произведениям; кантаты и хоры, гимны и романсы.
Наряду с сочинительством и службой Александр Егорович занимался и преподаванием музыки, главным образом — пения, зачастую в аристократических домах. Уроки и сочинения его оплачивались хорошо, но при рассеянном образе жизни композитора ему часто приходилось нуждаться в деньгах.
Дело в том, что Варламов, помимо музыки, имел и еще одну страсть карточную игру, за которой просиживал целыми ночами. Кто в карты игрывал, пусть по маленькой, знает, какой глубины тот омут. И когда наступали черные дни, Александр Егорович принимался сочинять и немедленно же отправлял едва готовую рукопись к издателю. До отделки ли тут.
А Верстовский не забывал о карьере. В 1842 году он делается управляющим московской конторой императорских театров. И оказывает почти неограниченное влияние на театральные дела. В этом ему активно и не без удовольствия помогает супруга его, Надежда Васильевна, артистка, любимица московской публики. А влияние на театральные дела — штука не простая, дилетантского подхода не терпит и забирает человека всего без остатка. К тому же и Надежда Васильевна, по отзывам самого неистового Виссариона, вся была огонь, страсть, трепет и дикое упоение. Представьте себя на месте ее мужа.
В 1845 году Варламов снова переехал в Петербург, где ему пришлось жить исключительно своим композиторским дарованием, уроками пения и ежегодными концертами. Под влиянием неправильного образа жизни, бессонных ночей за картами, разных огорчений и лишений, здоровье пошатнулось. Да и как не пошатнуться? И 15 октября 1848 года Александр Егорович скоропостижно скончался. И отнюдь не за фортепьянами. А на карточном вечере у знакомых. Когда Варламова привезли из гостей мертвым, супруга его в тот же миг разродилась сыном и была разбита нервным параличом.
С выходом в 1850 году в отставку, Верстовский не только утратил влияние на театральную жизнь, но и прямо оказался забытым. Напоминала о нем лишь «Аскольдова могила». В письме, написанном в 1861 году, он сетовал: «За «Аскольдову могилу» московская дирекция выдала мне единовременно две тысячи ассигнациями — собрала же сто тысяч серебром доходу с оперы, и я теперь, будучи в отставке, должен покупать себе место в театре, чтобы взглянуть на старые грехи мои»… Алексей Николаевич Верстовский умер 5 ноября 1862 года.
Достоинства сих двух питомцев муз также отмечены критикой. Сухо, но верно:
— Варламов писал искренне, тепло и задушевно, обладая очевидным мелодическим дарованием и умением передать национальный русский колорит.
— Мелодическое творчество Алексея Николаевича непринужденно, разнообразно и носит яркий национальный отпечаток.
И тот, и другой, очевидно, с ранних лет чувствовали, что не одолеют технических вершин своего ремесла. И там, где сочинительство их касалось самого для них родного — романсов — слышалось печальное и невысказанное, порою просто негативное. О чем свидетельствуют названия. У Варламова: «Не шей ты мне, матушка», «Нет доктор, нет», «Ты не пой», «На заре ты ее не буди», «Что отуманилась», «Мне жаль тебя»… На что Верстовский отвечал не менее трагичными (опять же, в плане названий): «Черная шаль», «Старый муж, грозный муж». Или операми «Тоска по родине» и «Аскольдова могила»! Последнее — без комментариев.
Дальше больше. Сочинив романс «Не бил барабан перед смутным полком», Варламов явно зашифровал истинную суть своего творения. Тоже, очевидно, не без предчувствий. Но нашлись в России беспокойные люди, разгадали ребус. И над бескрайними просторами отечества поплыло заунывное, как по жертвам чумы: «Вы жертвою пали в борьбе роковой». При чем не сразу догадаешься, что речь идет о Варламове и Верстовском в первую очередь…
Грустная история, господа. Но иной раз, когда в тихом, прочувствованном застолье вдруг затянет голос незатейливый бесхитростную историю про сарафан, ей-ей всплакнешь… Да Бог с ней, с техникой. И так хорошо. Все равно хорошо…
ПОВЕСТЬ
АВРА ЛЕВАТИЦИЯ[1]
Пролог
Однажды, в старом немецком кабаке, заброшенном волею судеб в глухой угол компьютерной сети, Федор оказался за одним столиком со Старым. Тот казался чем-то удрученным, вздыхал и покачивал головой, роняя слюни в кружку с крепким баварским.
— Теперь-то чего? — спросил Федор. — Еще какую-нибудь пакость припомнил?
— Понимаешь, до меня только что дошло — не следовало мне допускать Распятия.
— Это еще почему? — подивился собеседник, осторожно сдвигая ногу под столом в сторону от раскинувшегося там вольготно хвоста.
— Тем самым я позволил Ему искупить грехи людей, и в результате выпустил из моей власти всех грешников. И кем я стал после этого?
Федор крякнул, за много лет так и не сумев привыкнуть к причудливым поворотам мысли Старого. Захотелось наступить ему на хвост и посмотреть, что из этого получится.
— Но как же ты все-таки допустил? Ты, не самый глупый из… из…
Искуситель смущенно хмыкнул, потупившись.
— Да уж больно искушение было велико.
… Я не дал дослушать Федору, извлек из-за столика. Чтобы рассказать вот о чем…
Исчезающее тысячелетие, конец света, Нострадамус, провидцы и предсказатели, солнечное затмение, друиды, шаманы и вампиры, мор и глад…
Понимаешь? Внезапно и остро захотелось в средневековую Европу. К истокам ныне происходящего — поближе. Но сам я не могу. Дела, семья…
Федор вызвался сразу же, без колебаний. Он, мой герой, вообще человек решительный. Чем сильно отличается от меня. И многим другим отличается. Он здоров, умен, образован. Не ленив. Куда мне до него. За что и люблю.
Не без произвола со стороны автора отправился он из России времен Иоанна Грозного в зарубежье, существующее во времена совсем иные. Календарь там, видите ли, григорианский.
Но куда же без любовной коллизии? Читатель не поймет. И поместил я там, в григорианской Европе, другого героя, с прекрасной возлюбленной. Судьба их, естественно, трагична до слез. Я так решил.
Вот этим-то бедолагам, выхваченным мною из небытия, и предстоит параллельно существовать в мрачном средневековье. О котором я почти ничего не знаю.
Что ж, произвол, так произвол…
1
К полуночи студено задуло. Серебристые облачка устремились на восток, то и дело закрывая яркий серпик месяца.
Звонарь кизаловского храма, покончив с гулкой своей работой, угрюмо покосился на Федора и молча полез со звонницы вниз. Скрип деревянных ступеней вскоре стих. Давно погасли огни в нахохлившихся избах. Попрятались по конурам собаки, запуганные до онемения. Лишь за деревней журчала вода у мельницы.
Федор провел ладонью по перилам звонницы.
— Ладно тесано, — пробормотал он и тронул обух топора, воткнутого за пояс.
Но глаз при этом не сводил с белого камня в дальнем конце раскинувшегося внизу кладбища.
Днем Федор побывал на могиле. «Петр Плогойовит» — гласила резная латынь на камне. Ну и прозвище, поди выговори! Как тут не залютовать. Вот и изгалялся Петр уже четырнадцать дней над бывшими соседями. Приходил по ночам и душил. Девять человек увел за собою. Смятенные кизаловцы послали слезное прошение в Градиш, к королевскому штатгальтеру, моля разрешить им выкопать труп Петра и предать огню. В ответ им неспешно сообщали, что едет де к ним следственная комиссия из епископской консистории, с намерением ясно во всем разобраться.
Комиссия ехала. Петр по ночам ходил. Забредал он и к бывшей супруге, требовал отчего-то обуви своей, но не тронул обезумевшей от страха бабы, сбежавшей на следующий день куда глаза глядят.
— Озорник же ты, Петра, — проговорил Федор, прислушиваясь к вою ветра, приглядываясь к неверным кладбищенским теням.
Нет, неколебимо стоял белый камень и недвижно лежал под ним до поры до времени неуспокоенный Плогойовит. А правее и ближе возвышался крест над могилой недавно скончавшегося приходского священника.
Зябко передернувшись, Федор живо представил себе застывшую на обочине дороги громадину кареты Поссевина. Хитрый иезуит, поди, строчит донесения папе. Укутался в полог, уткнулся крючковатым носом в затейливо выведенные строки, и скрипит, скрипит пером, плетет интригу. Эх, устроиться бы сейчас супротив, да под скрип колес и завести неспешную беседу с ловким дипломатом…
Петр возник над могилой внезапно, поистине из-под земли вырос. Неловко дергая руками, приземистая фигура принялась высвобождаться из светлеющего в полумраке савана. Вскоре, оставив хламиду на камне, Петр двинулся среди могил к кладбищенской ограде. В притихшей и затаившейся деревне с трепетом и смертным томлением ждала своего часа новая жертва…
Выждав, пока Плогойовит скроется из виду, Федор перекрестился и деловито устремился вниз. Проходя по храму, вновь подивился скамьям. Нешто можно пред Богом сидеть? Прям, как в кабаке, прости Господи!
Где-то в деревне, не выдержав, взвыла собака, ей отозвалась другая.
А вот дверь из храма оказалась на запоре, хоть и был давеча уговор со звонарем. Тот, видать, с перепугу обо всем и забыл. Федор навалился плечом. Тяжелая дверь дрогнула, но замок оказался прочным. Свирепо бранясь под нос, Федор сунул лезвие топора под дверь и ухватился за топорище. Махина со скрежетом снялась с петель. Федор не успел ее удержать, и она, заваливаясь на бок и разворачиваясь по дужке замка, ахнулась наружу. На лязг и грохот дружным истеричным лаем ответила вся деревенская псарня, находя выход своему страху. Федор же огромными скачками помчался к могиле, стремясь успеть завладеть саваном.
Должно быть и покойник почуял неладное. Едва успел Федор взлететь обратно на колокольню, как внизу уже замаячила, затопталась нелепая обнаженная фигура, мыкаясь на могиле вокруг камня.
Федор перевел дух, поднял над головою саван, как хоругвь, и громко выкрикнул:
— Ай, потерял что, мил человек?
Покойник застыл на месте, затем медленно повернул голову, устремляя темные впадины глаз на звонницу. Выглянул месяц. В мертвенно-бледном свете лик Петра казался искаженным злобой. До Федора донеслось тихое, но отчетливое, словно прямо в ухо проговоренное:
— Отдай… Не твое.
— А и отдам. Отчего не отдать? Вот коли сюда заберешься, так и отдам, — весело отозвался Федор. — Да только слышал я, что ваш брат не силен ввыси, а все больше под землей. И то сказать, самое вам там место, с кротами, да червями.
Покойник, не отвечая и не опуская головы, двинулся короткими быстрыми шажками к сломанным дверям храма. На пороге остановился. То ли в нерешительности, то ли дивясь такому обращению со входом в святое место. Но вскоре босые ступни его бойко зашлепали по каменным плитам храма. А вот и ступени, ведущие к звоннице, заскрипели. Из темного квадрата проема показалась бледная обнаженная рука.
— Отдай…
— Н-на, — хакнул Федор, опуская обух топора на появившуюся голову.
Удар пришелся в лоб. В краткий миг до последовавшего падения тела успел рассмотреть Федор, как на мгновение распахнулись смеженные веки и устремился на него взгляд ледяной, промороженный до дна темной души.
Покойник с грохотом покатился по ступеням. Швырнув с колокольни саван, порхнувший над перилами белой птицей, Федор спустился в храм. Тело, миновав все повороты крутой винтовой лестницы, сломанной куклой распласталось на плитах, столь же холодное, как и камень.
Сунув топор за пояс, человек живой ухватил податливые ноги за лодыжки и поволок угомонившегося Петра вон из церкви.
Закапывать не стал, так и оставил на могиле, рассудив, что все равно кизаловцы выкопают останки и сожгут, не поверив, что наконец обрели они покой и утихомирился их мучитель.
Постояв над телом, Федор разглядел, что тление не коснулось этой беспокойной плоти, подсушив лишь кончик носа.
Вернувшись к храму, Федор подобрал саван, подумал, не прихватить ли с собой, но вспомнил тихое «Не твое…» и отнес к могиле, прикрыв распростертое тело…
… Звонарь, видно, не спал, открыл сразу, едва пристукнул Федор кулаком в косяк покосившейся хибары на окраине села. Сухая фигура в рясе застыла на пороге, держа в руке масляную лампу. Огонь под стеклянным колпаком горел покойным желтым светом.
— Небось, не ждал, — насмешливо проговорил Федор, отдавая топор. Хотелось ему выбранить старика, укорить за двери храмовые запертые, но уж больно измучанным выглядел звонарь, да лихорадочным огнем горели воспаленные от долгого недосыпания глаза. — Ладно, живите с миром. Прощевайте.
Звонарь протянул руку и разжал ладонь.
— Возьми.
— То отдай, то возьми. Вот же ночка выдалась, — усмехнулся Федор. Что это? — спросил он, вглядываясь в темный квадратик на узкой ладони. Оберег, что ли? Так на что он мне, православному ваш, католический…
— Бог один, — сурово сказал звонарь.
— Один, — согласился Федор. — Да вот веруем по-разному. И отчего так, скажи на милость? А ты бы, старый, лучше бы чаркой меня попотчевал. Ибо Бахус для нас обоих есть идол языческий. А то иззяб я на твоей колокольне.
— Не пользуем, — кратко ответил звонарь.
— Что ж, здоровее будете, — пожал широкими плечами Федор. — Живите с миром, — повторил он, повернулся и зашагал по дороге.
Старик долго вглядывался вслед, качая головой.
2
Людовик Гофре вспоминал…
Угрюмое снаружи, и пугающее внутри старое здание училища иезуитов так и не отремонтировали до конца. Ограничились первым этажом. На втором же, ветер, гуляя по длинным гулким коридорам долго пустовавших бывших казарм, и просвистывая в разбитые окна, производил звуки жутковатые. Воспитанники, собравшись вечером в спальне старших классов, до ночи рассказывали истории про домовых и мертвецов, посещающих живых.
Людовик, обхватив худыми руками острые коленки, подтянутые к подбородку, сидел крайним на одной из коек. Четверо его товарищей жались друг к другу. Сам он старался страха не выказывать. Ему ли, воспитанному дядей-вольнодумцем, доморощенным магом, пугаться глупых сказок? Жаль дядю Жака, угодил-таки в лапы инквизиции. Где-то его смятенная душа сейчас?
— Вы же сами ходили тогда в покойницкую, — продолжал меж тем толстячок Винцент, старшеклассник. — И что? Три дня Жоффруа лежал, а лицо свежее, румяное. Ведь так?
Все завздыхали. Выходцы из бедных семейств различных провинций, они всегда завидовали красавчику Жоффруа, не понимая, как тот оказался в училище иезуитов. Должно быть за провинности. Хотя доносились слухи и о том, что его влиятельные и знатные родственники вели какую-то сложную политическую игру, в которой мог им пригодиться союзник в грозном стане иезуитов.
— В таком виде его и похоронили, — сказал Винцент. — А на следующую ночь многие из нас слышали стоны и вздохи возле его кровати.
Головы мальчиков невольно повернулись в сторону бывшей койки Жоффруа, ныне пустующей, и расположенной, как нарочно, в самом дальнем и мрачном углу.
— Вот взять хоть Люсьена. Правду я говорю, Люсьен? — обратился Винцент к рослому малому, сироте из Лиона.
Тот угрюмо кивнул, почесав подбородок с уже жесткой щетиной.
— А во вторую ночь видим, а мертвец-то сидит на кровати, эдак вот левой рукой облокотился, а сам стонет и копается в своем сундуке. И тогда Стручок…
— Да, да, — не вытерпел конопатый и худющий Жан по прозвищу Стручок. Я набрался духу и стал читать «Да воскреснет Бог и расточатся врази…»…
— И мертвец умчался через окно, а рамы сильно-сильно задрожали, подхватил Винцент. — Вон даже стекло треснуло.
Все обратили взоры к окну. На узком стекле в нижнем углу дугой высвечивала трещина.
— Ух и ругался брат-эконом утром, ух и ругался, — передернувшись, продолжал Винцент.
В этих его словах никто не усомнился. Уж брат-эконом Петр был самой что ни на есть реальностью, злобной, мстительной и сварливой.
— На третью же ночь, — перешел на шепот Винцент, — мертвец стал стягивать с меня шубу, которой я укрылся. Я-то думал, что это Стручок в сортир собрался и хочет накинуть на себя шубу… Ну и послал его к черту. Винцент, а вслед за ним и остальные мальчики, перекрестился. — Только чувствую, еще сильнее тянет. Я повернулся, а он — хвать шубу, да как швырнет на пол. А я еще не разобрался спросонья, да ногой его и двинул в грудь… Он застонал! Да так мучительно, у меня внутри аж все перевернулось. И исчез! А я так до утра и продрожал, не осмелился шубу-то поднять с полу. Вдруг он да воротится за ней!
Порыв ветра ударил в рамы. Те задрожали, словно колеблемые невидимой рукой.
— Однако, спать пора, — зевнул Винцент. — Разбредайтесь по насестам.
И он принялся спихивать младших учеников с постели, не скупясь на подзатыльники. Людовик не стал дожидаться тычка и первым направился к двери. Остальные мальчуганы, опасливо озираясь и прижимаясь друг к другу, торопливо двинулись следом. Страх, в компании со сквозняком вольготно разгуливал по коридору. В дальнем конце заплясал неяркий желтый огонек.
— Брат-эконом! — испуганно выдохнул кто-то.
Ребятня толпой бросилась в свою спальню и рассыпалась по койкам. Вскоре дверь приоткрылась, и в помещении показалась лысина брата Петра. Что-то ворча, он погрозил пальцем в пространство и закрыл дверь. С минуту в спальне стояла тишина.
— А ну как он и к нам придет? — громко прошептал Малыш Жан. В свои восемь лет он действительно выглядел малышом среди двенадцатичетырнадцатилетних товарищей по спальне.
— Кто? — послышалось из полумрака.
— Кто, кто. Он! — ответил Жан, страшась даже имя произнести. — Если к старшим приходил, то к нам и подавна заглянет.
— Страшнее брата-эконома никого нет, — насмешливо сказал Людовик.
Но никто не развеселился. Стриженные затылки воспитанников развернулись в разные стороны. Кто косился в окно, то в темный угол, а кто и в потолок, ожидая прихода страшного гостя именно со второго, необитаемого этажа, где и располагалась покойницкая.
— Нет, братцы, надо что-то решать, — хоть и подрагивающим, но все же громким голосом объявил Рыжий Жан. — Надобно, чтобы кто-то бодрствовал и читал тексты святые, Евангелие да жития святых. А то пропадем.
— Кто же захочет один читать, пока остальные спят? — встревожился Малыш Жан.
— Можно подумать, кто-то заснет, — вновь насмешливо сказал Людовик. От страху до утра глаз не сомкнешь.
— Вот и станем читать по очереди, — тут же предложил Рыжий Жан.
— Да ты что ли всерьез? — изумился Людовик. — Вам наговорили сказок, а вы и поверили?
— А ты — не поверил?
— Конечно, нет, — решительно заявил Людовик. — Таких россказней полно! Но я еще почему-то не встречал ни одного человека, который бы своими глазами видел ожившего покойника.
— А как же Винцент, Люсьен и Стручок? — робко напомнил Малыш Жан.
— Да это же они вас, малявок, пугают, — усмехнулся Людовик. — Вы всю ночь протрясетесь, а они утром смеяться над вами будут!
— Как хочешь, — упрямо сказал Рыжий Жан. — А только мы станем читать.
Никто возражать не стал. Людовик, нарочито зевая, накинул на ноги плащ, но вспомнил рассказ Винцента.
Остальные воспитанники стали устраиваться по двое на койках поближе к центру спальни, где за пюпитром с раскрытым Евангелием первым встал Малыш Жан. Под его негромкий речитатив Людовик вскоре забылся.
Проснулся он от скрипа открываемой двери. Воспитанники так и заснули, вповалку. Рыжий Жан, с Евангелием на коленях, сидел на ближней к пюпитру койке и клевал носом. Между тем в полумраке послышались мерные звуки приближающихся шагов. Людовик лежал головой к дверям. Повернуться он не решался, застыв и затаив дыхание. Страх ознобом прошиб тело. Несмотря на предрассветный холод, ему вдруг стало жарко. Вернее, запылало тело, а ноги охватила стужа. Краем глаза он увидел, как поднял голову от тяжелой книги Рыжий Жан, широко раскрыл рот и, крестясь, сполз под койку. Книга с грохотом полетела на пол. Кто-то придушенно пискнул, и воцарилась гробовая тишина.
Шаги приближались. Некто в белом остановился возле лежащего недвижно Людовика и, медленно подняв руку, возложил ему на лоб два перста. Людовик, застыв, видел перед собой колышащийся манжет широкого рукава и ощущал два ледяных пальца на лбу. Время остановилось.
Должно быть, Людовик лишился сознания. Когда он пришел в себя, спальню заливал утренний свет. Постепенно зрение прояснилось, и он разглядел столпившихся возле его койки воспитанников. Прямо в лицо ему вглядывался испуганный Малыш Жан. Рыжий Жан, крепко прижав к груди книгу, всматривался в Людовика широко раскрытыми глазами.
— А где…, — слабым голосом произнес Людовик.
— Исчез. Пропал, — шепотом сообщил Рыжий Жан. — Я под кровать юркнул, а там и опять стал читать. Тихонько, правда, — извиняющимся тоном добавил он. — А он так постоял, постоял, да и удалился.
— В окно? — спросил Людовик.
— Я не видел, — признался Рыжий Жан. — Но вроде бы все-таки в дверь. Он уставился на лоб Людовика. — Не больно?
Людовик поднес ладонь ко лбу и ничего не ощутил. Вперед протолкался один из воспитанников и протянул ему ярко начищенную серебряную кружку. В ее изогнутом боку уродливо расплылся смутно знакомый лик. На лбу проступали два темных пятна. Людовик коснулся их пальцами.
— Откуда у тебя такая кружка? — спросил он.
— Жоффруа подарил, — прошептал воспитанник, отчего-то густо покраснел и перекрестился.
В коридоре послышался громкий смех. Распахнулась дверь и показалось круглое, довольное лицо Винцента; сверху просунулась голова Люсьена.
— Ну что? Приходил? — давясь от хохота, поинтересовался Винцент.
— У-у-у, — утробно провыл Люсьен.
Людовик отшвырнул кружку, закрыл лицо руками и расплакался.
3
В утреннем стылом тумане чуть не лбом налетел на карету. Темный громоздкий короб неподвижным изваянием застыл на обочине. Кожаный оббив маслянисто отливал осевшей изморосью. Поссевин, словно и не спал, бодро приоткрыл дверцу.
— Ну, потешил молодецкую удаль? — спросил иезуит, блеснув пронзительными глазками из-под нависших сивых бровей. — И что вам, русским, далась эта удаль? Все с язычеством никак не распрощаетесь. Не понимаю. Смысла не вижу. Где расчет, хитрость?
Федор с наслаждением вытянул ноги, плюхнувшись на диванную подушку и укутался меховой полостью. Широко зевнул. Поссевин стремительно набросал сухими перстами крест на разверстую пасть.
— Что, боишься, черт влетит? — усмехнулся Федор.
— Нет, боюсь, вылетит, — серьезно сказал Поссевин. — А кстати, с чего это ты, добрый молодец взял, что именно обухом-то и надо вампира успокоить? Кто обучил сему?
— Да никто. Собственным разуменьем дошел. — Федор вновь от души зевнул, прикрыв рот широкой ладонью. — Я так мыслю — не допустит Господь, чтобы водилась на белом свете всякая нечисть. Вампиры, вурдалаки, оборотни… А стало быть, человеки, Петру этому подобные, суть люди и есть. Только в виде каком-то… болезненном, что ли. Не умерли они. Нет. И исцелить их нельзя. Или пока нельзя. И потому они ничуть от обычных душегубов не отличаются, коли губят души невинные. А с душегубом один разговор.
— Тебе что же, определения Сорбонны ведомы? — подивился Поссевин.
— Что за определения?
— Да видишь ли, друг мой смышленый, — насмешливо проговорил иезуит, почесывая гладкий лоб, — в определениях высокоученой Сорбонны признается примерно то же самое, и более того, запрещается глумиться над трупами вампиров, как то: отсекать им головы, протыкать кольями и прочее.
— Надо же, — устало отозвался Федор, — прочесть бы не худо.
— Не худо, не худо, — закивал Поссевин. — Вам, русским, многое прочесть не худо. Только вам все некогда. Прав его святейшество, вводя новый календарь. А вы оставайтесь в своем времени. И тянитесь вечно за ускользающей Европой. Ваш-то государь-надежа ваньку со мной валять изволил, выражаясь вашими оборотами. Дурачком прикидывался. Что, мол, за католичество такое, знать не знаем, ведать не ведаем, деды наши жили в православии и нам де заказывали… Ну-ну. Только кого он обманывает? Боится власть упустить, предавшись в лоно церкви католической и целуя руку его святейшеству? А того не понимает, что проходит время мелких и хитрых князьков удельных с их ничтожными раздорами, и выживает лишь тот, кто вписывается в стройное здание Европы под дланью Ватикана…
Поссевин осекся, заслышав легкое похрапывание. Выбравшись из кареты, он поежился, оглядываясь в редеющем тумане. Сунув два пальца в рот, коротко свистнул. Из придорожной копны сена выбрался всклокоченный дюжий кучер, в сутане, но с дубинкой на поясе.
— Запрягай, — распорядился Поссевин, отходя к березе по нужде.
Кучер, что-то бормоча, скрылся в тумане, разыскивая стреноженных лошадей.
Впереди послышался скрип колес и стук подков. Вскоре в тумане обрисовались очертания светлой лошадки с понуро опущенной головой и раздутым животом. Печальное животное влекло двухколесный экипаж. Коляска остановилась. Пассажиры ее, двое священников в белых сутанах, недоуменно уставились на присевшего у березы иезуита. Поссевин, скривившись, встал, опуская подол.
— Мир вам, братья, — сухо сказал он.
— Мир и тебе, брат, — хором отозвались путешественники. — Садись, в тесноте, но доедем до Кизалова.
— Нет, братья, благодарю, я недавно оттуда, — отозвался Поссевин. — А вы, должно быть, и есть следственная комиссия из консистории?
— Верно, брат, — сказал священник постарше. — Это брат Марк, каноник ольмюцкий. А я — брат Симон, новый священник кизаловского прихода.
— Что ж, добро пожаловать в мирные края, братья.
— В мирные ли?
— В мирные, в мирные. Всего-то вам и осталось — сжечь бессмысленный труп.
— Не одобряет таких действий штатгальтер. Поощрять суеверия — дело худое.
— Наше главное дело, — наставительно молвил Поссевин, — привнесение покоя в души мирян. А уж каким образом — дело второе.
— И то верно. А как звать тебя, брат? Кого помянуть в молитве?
— Помяните брата Антония, Поссевина, — кратко ответил иезуит.
— Поссевина? — взволнованно переспросил каноник Марк. — Но…
— Езжайте, братья с Богом, — сурово сказал иезуит, предостерегающе поднимая руку. — С Богом.
Коляска тронулась. Поссевин повернулся, посмотрел на березу, махнул рукой и пошел к карете.
4
Из депеши папского нунция Генриха фон Гонди:
«В городе Вердюне, некой молодой девице 15 лет по имени Николь Авбри явилось привидение, которое выдавало себя за ее дедушку и требовало, чтобы она за упокой его души совершала молитвы и служила обедни. На глаза людей, стерегущих ее, она часто переносилась в какие-нибудь другие места. Не оставалось никакого сомнения, что все это делается злым духом. Но ее только с большим трудом могли убедить в этом. Епископ Лионский приказал совершить над ней заклинания и по окончании их представить отчет о ходе дела; заклинания продолжались более трех месяцев и совершенно исцелили бесноватую.
Несчастная вырывалась из рук 9 или даже 10 человек, которые при этом употребляли все силы, чтобы удержать ее; а в последний день целых 16 человек едва могли удержать ее. Когда она поднималась с земли, то становилась твердой, как столб, и в этом случае никакие усилия стерегущих не могли воспрепятствовать ей встать. Она говорила на многих языках, открывала сокровенные мысли, рассказывала о том, что совершалось в самых отдаленных местах и в тот самый момент, когда событие совершалось. Многим она истинно указывала на состояние их совести. В одно и то же время говорила она на три голоса и это при языке, высунутом на полфута.
Некоторое время заклинания производились в Вердюне, а потом епископ приказал перенести их в Лион. Здесь епископ для совершения заклинаний ставил бесноватую на возвышенном месте, которое было устроено в соборной церкви.
Стечение народа при этом было столь велико, что иногда насчитывалось 10, а то и 12 тысяч человек. Многие приезжали из других стран. Князья и другие великие лица, не имевшие возможности присутствовать лично, присылали от себя уполномоченных с тем, чтобы они потом перессказывали ход дела.
Я, как нунций Вашего Святейшества, счел необходимым присутствовать лично. Были здесь и послы от Парламента и от высшего парнасского учебного заведения.
В ходе дела демон, побуждаемый заклинаниями, представил так много доказательств истинности католической веры, действительности Евхаристии, как истинного таинства, и неверности кальвинизма, что кальвинисты, вместо того, чтобы делать возражения против этих доказательств, в жару гнева совершенно растерялись. Еще когда заклинания совершались в Вердюне, в то время, когда бесноватую водили во храм Богоматери, кальвинисты посягали на самую жизнь ее заклинателей. В Лионе, где их большинство, они были еще ожесточеннее и несколько раз угрожали открытым восстанием. Они требовали от епископа и Магистрата, чтобы амвон, устроенный для заклинаний, был разрушен, а процедуры, обыкновенно совершаемые пред заклинаниями, прекращены.
Демон же был теперь горд, дразнил и поносил епископа. Кальвинисты потребовали от Магистрата, чтобы бесноватая для лучшего исследования дела была заключена в тюрьму. Но тут некий врач, по имени Карльер, был обличен в том, что однажды, когда больная лежала в конвульсиях, вбросил ей в рот какие-то порошки, которые она во время припадка продержала во рту и по окончании выплюнула, и которые оказались самым сильным ядом. Это обстоятельство заставило опять возобновить процессии и заклинания. Тогда кальвинисты огласили подложное предписание от г. фон Монтморенси, которым повелевалось прекратить заклинания и в котором вместе с этим делалось приказание королевским чиновникам привести в исполнение это предписание.
Демон торжествовал, но тут же открыл епископу подлог данного преступления и назвал всех лиц, участвовавших в обмане и говорил, что благодаря слабости епископа, который более подчиняется людям, чем воле Божьей, он, демон, выигрывает время. При этом демон публично объявил, что вошел в девушку против своей воли, по повелению Божьему, с той целью, чтобы или обратить кальвинистов или ожесточить их, и что для него очень тяжело таким образом говорить против себя самого.
Епископ счел нужным совершать процессии и заклинания два раза в день, для того, чтобы таким образом возбудить в народе большее внимание к делу. Процесс начал совершаться с еще большей торжественностью, чем прежде. Демон чаще стал повторять, что срок его отдален. При этом указывал на причины: один раз епископ пред заклинаниями не исповедовался; в другой раз епископ при заклинаниях был не натощак; в третий — не все общество, не все судьи и другие королевские чиновники были в сборе. Говоря все это, демон изрыгал проклятия на церковь, на епископа, на духовенство и проклинал тот час, когда вселился он в тело девушки.
Наконец настал кризис. В тот полдень собрался весь город, и епископ произнес последние заклинания. При этом свершилось много чудесного. Епископ хотел приблизить Святые дары к устам бесноватой, демон схватил его за руку, девушка рванулась из рук 16-ти человек, которые ее держали, и подняла их над собой. После сильного сопротивления демон наконец вышел из нее. Она была спасена и прониклась чувством благодарности к милосердию Божию. Зазвучали все колокола, запели «Тебе Бога хвалим». Это был общий праздник для христиан; целых девять дней совершались благодарственные процессии. Установлено было ежегодно, 6 февраля, совершать благодарственную литургию, а все происшествие записать в церкви на барельефе вокруг клироса.
Следует отметить, что принц Конде, по внушению некоторых из своей секты, призывал к себе девицу Авбри и каноника д'Эспинуа, который все время неотлучно присутствовал при заклинаниях. Принц допрашивал ту и другого порознь, употреблял угрозы, обещания и всевозможные меры, но не для того, чтобы открыть действительный обман, а с тою целию, чтобы во что бы то ни стало взнести на них обвинение в обмане. Он зашел даже так далеко, что предлагал канонику великую награду за то, чтобы тот согласился переменить свое вероисповедание. Но ничего не смог добиться от людей, которые так ясно, так непосредственно видели дела Божия милосердия и силу своей Церкви. Твердость каноника и наивная правдивость девицы доказывали только саму истинность факта, принцу неприятного. И в минуты нового припадка злобы он приказал арестовать девицу Авбри и заключить ее в одну из своих темниц, где она и находилась, пока наконец родители не обратились с жалобой на такую несправедливость к самому королю, вследствие чего она и была выпущена на свободу.
Отрадно отметить и то, что под влиянием всего произошедшего многие кальвинисты обратились к католической церкви…»
И так далее.
5
Истоки же этого «и так далее» заключалось вот в чем.
Мы сидели в нижнем буфете ЦДЛа с самым, наверное, работящим из современных литераторов, Сашей Торопцевым. Я пил пиво, а он — водку. Или наоборот?
Конечно, наоборот. Поскольку именно я оказался чересчур говорливым.
— Представляешь, Саш, вычитал — Рима-то не было!
— Ты с этим полегче, — звонко щелкнул он по стеночке рюмки.
Вру. Никогда бы так Саша не сказал. Проклятый авторский произвол!
— Расскажи, — вместо этого деловито предложил он.
— Ни Рима, как такового, ни названия, ныне существующего, не было. Где находился настоящий Рим, и как он назывался по-настоящему — почти никто не знает и не знал. Рим — одно из многих наименований таинственного и священного города. Будь здоров!.. — Я закусил черным хлебцем с лоснящейся селедочкой. — …Однажды проболтался о месте и имени града Валерий Страбон… Так тут же сгинул, умер загадочной смертью!
Саша в ответ изложил мне много интересного насчет Средневековья. Саша ужас сколько знает.
— И вот какая у меня мысль, — прервал я его. — Пустить героя по средневековой Европе. Пусть прогуляется, Рим поищет. Куда он пропал-то?
— Ну и куда же, по-твоему? — заинтересованно спросил Саша.
— А, знаю… — Я закурил. — Силы тьмы обманули его…
Заставили заниматься не тем… Сражением с вымышленным злом! С выдуманными демонами и бесноватыми, с ведьмами и колдунами! С виртуальным злом! — осенило меня. — Вот бы еще такого колдуна мне в супротивники к герою… И несчастную любовь, и костер инквизиции в конце… А?! Тот, другой герой, Людовик, вспоминает обо всем, стоя на костре… А хворост в костер подбрасывает его любимая, раскаявшаяся и изверившаяся во всем…
— Пиши роман. Идея хорошая, — одобрил Саша. — О третьем Риме что-нибудь завернешь… Тема богатая.
Задумался я. Плеснул в рюмочку.
— Да… Пиши… Как писать-то? — Пошел я еще и на попятный. — Ведь если нынешним языком излагать — глупо. А тем, средневековым… И не знаю я его, и непонятно будет… Да и где героя взять? Как он там, в Европе очутился? За каким его туда понесло?
— Да, — согласился Саша. — Просто так он там оказаться не мог. Нужны веские основания. А знаешь что… — с энтузиазмом начал было он.
Но в разговор внезапно влез Федор. Бесцеремонно влез. Что делать, мой герой таков. И потребовал продолжения. Очень уж его заинтересовала судьба Людовика и Мадлен. Сентиментален оказался, что никак не входило в мои первоначальные планы. Я заупрямился. Саша с уважением оглядел плечи Федора и сказал:
— Да дай ты ему… Продолжение дай. Не отстанет же. А я тебе пока расскажу о потерянном времени…
6
К намерению Федора посетить Виттенберг, этот «Рим еретиков», иезуит отнесся прохладно.
— Виттенберг? Убогий, бедный и грязный городишко, — презрительно сказал он. — Там все дороги, улицы и постоялые дворы полны нечистот. Люд варварский, ни в чем толка не знает, разве что в пиве. Да купечество… с доходом на три геллера. В общем, рынок без народа, город без горожан. Жизнь на грани цивилизации.
— Но я слышал о богатом собрании святых реликвий саксонского курфюрста Фридриха…
— Ох уж эти реликвии, — скривился Поссевин. — Прямо эпидемия какая-то. Теперь с Востока везут горы камней, собранных «на самой вершине Голгофы»; стога сена «из ясель, где родился Иисус»… Чего стоит одна «яма, в которой крепился крест Господень»!
— Яма? — удивился Федор.
— То ли еще встретится! Я получил послание от Спалатина. Он осмотрел все виттенбергское собрание. Я специально себе пометил… Вот. Он пишет, что насчитал там 5005 священных предметов, среди которых: обугленная ветвь от горящего куста, в виде которого Бог явился Моисею; 35 обломков креста Христова; по меньшей мере 200 вещей, некогда принадлежащих Богоматери; а также мумифицированный труп одного из невинных вифлеемских младенцев, зарезанных по приказу царя Ирода. Спалатин не поленился посчитать, что человек, обошедший виттенбергское собрание и прикоснувшийся к каждой святыне, получает освобождение от мук чистилища сроком на 127800 лет!
— Придется обойти и прикоснуться, — сказал Федор.
— Ладно, со мной-то не хитри, — с улыбкой сказал Поссевин. — Небось, по следам безбожного Лютера пройти хочешь? Ваш государь-надежа, видать, не больно уверовал в расписанную мною картину могущества папы? А? Вот и засылает шпиона, так? Между нами?
Карета одолевала последние версты пути по земле австрийских Габсбургов. Впереди вставали баварские отроги Альп.
— Да ведь у вас, иезуитов, наушники, чай и при нашем дворе имеются, спокойно отвечал Федор. — И стало быть знаешь ты обо мне все, или почти все. В шпионах я не числюсь. Хоть и состою в посольском приказе, да ведь это благодаря дядьке, пожалел сиротинушку, пристроил. Ну и способности к языкам, конечно, не помешали. Однако ж человек я простой. И направлен в Европу для расширения кругозора, да ради удовлетворения любопытства царя-батюшки.
— Простой, как же, — пробормотал Поссевин. — По крайней мере, давай до Аугсбурга доедем. Оттуда тебе проще будет решать, куда дальше.
— Зачем мне Аугсбург? — лениво проговорил Федор. — Нам ваши Фуггеры-богатеи, ни к чему. От них-то нам ни гроша не перепадет. Я лучше пешим ходом, вдоль границы, через Дунай…
— Простой-то простой, а про Фуггеров наслышан, — усмехнулся Поссевин. — И откуда такие познания у сиротинушки со способностями к языкам?
— Интересовался, — пожал широкими плечами Федор. — Надо же представление какое-никакое иметь, куда направляешься. Мало ли…
— Вот именно, мало ли, — предостерег Поссевин. — Один идешь, а на дорогах крестьяне-то ой как шалят. Их «Башмак» вовсю по Германии разгуливает.
— Надо же, «Башмаком» свою дружину окрестили, — задумчиво сказал Федор. — У нас бы «Лапоть» был… Ну да мне все едино. Что с меня взять? Он провел крепкой ладонью по короткой русой бороде. — Не купец я, не… поп какой-нибудь, папский каплун, просим прощения, торгующий индульгенциями. А правду говорят, много его святейшество хапнул, торгуя всего лишь бумажками?
Поссевин поиграл желваками, но опыт подсказал ему не затевать спор. Миновав пограничный пост, карета покатила по землям Баварии.
— Ладно, как найти меня, знаешь, — сказал Поссевин, когда карета остановилась у моста через безымянный приток, верстах в двадцати от Розенхейма. — Рекомендательные письма я тебе написал. Держи. Ступай с Богом.
Федор спрыгнул с подножки, карета покачнулась.
— И вам счастливо добраться, — сказал он, потягиваясь и разминая затекшие мышцы. — Непременно передам государю о заботе вашей.
— Вот-вот, передай. Да всю правду поведай о том, что узришь в землях немецких. Обо всех мелких княжествах, дури их и высокомерии, о нежелании понять, что только в единении…
Федор посмотрел укоризненно, и иезуит замолчал, захлопывая дверцу. Карета тронулась.
Серый день стоял над холмами. Сумрачное небо отражалось в неширокой речушке, поросшей по берегам тальником. От моста спускалась к кустарнику тропа и, петляя вдоль берега, исчезала в легкой дымке. Пахло гарью. Должно быть, в полях жгли стерню. А может быть, дымили руины разгромленного поместья…
Виттенберг действительно привлекал Федора. И прежде всего личностью и деяниями Лютера, доктора Мартинуса. Русский двор настороженно следил за Реформацией, за религиозными битвами в Европе, за противостоянием католической церкви и народившегося лютеранства, поднимающего ужасающую волну крестьянского слепого и безжалостного бунта.
Сама природа в Европе в те годы сбивалась с толку. В феврале цвели вишни, а бабочки летали, как летом. В пасхальные недели обрушивались морозы. Гибли посевы, и к осени начинался мор. В Швабии, Баварии и Австрии свирепствовали эпидемии. Множились слухи о чудовищных несуразностях. Всюду жаловались на рождение уродов: шестипалых детей, телок о двух головах и ягнят без копыт. Над деревнями бились в воздухе между собою аисты; стаи галок налетали на стаи ворон. Пророки-перекрещенцы, бродившие по городам и селам, твердили, что близок вселенский переворот, после которого наступит тысячелетнее царство справедливости и братства…
Из представленного длинного списка детей дворянских и служивых государь тщательно выбирал нужного человека. Требования предъявлялись архисерьезные: наличие ума, образованности, способности к объективности суждений; преданность царю, вере и отечеству; неучастие в интригах; отсутствие влиятельных родственников; личное мужество и умение постоять за себя в трудной ситуации и т. д.
— Никому нельзя довериться, — мрачно посетовал государь, когда предстал пред ним Федор. — Тебе я тоже не доверяю. Но меньше, чем прочим. Иди, зри, запоминай. Что есть Европа? Что есть нынешнее католичество? Лютеране сильны ли? Кальвинисты? Крепок ли Рим? Много ли крови от него ждать? Что-то неладное там творится… Отчего так силен демонский дух оттуда? От посольских наших толку мало — они только при дворах и обитают. Послал бы я какого-нибудь попа, да ему вера наша глаза застит, то, чего и не было, увидит. То, чего и не слышал, расскажет… И не пора ли нам Третьим Римом быть? Поедешь с Поссевином. Он, слышь, прибыл нас католичеством прельщать. И поскольку надежды сей еще не потерял, помощь тебе окажет. Я же от тебя, в случае чего, отрекусь. Понял ли?
Из душных, пропитанных черным коварством царских покоев Федор вышел на свежий воздух двора и устремил взор свой на Запад, туда, где лежала, корчась в тяжелых судорогах, Европа.
7
Людовик Гофре вспоминал…
В оставшийся ему по наследству дом дяди он вступил жарким июньским утром. Пригороды Марселя плавились под палящим средиземноморским солнцем. Старая заспанная экономка Марта всплакнула, увидев перед собой юного господина, ставшего таким красавчиком. И впрямь, всем хорош выдался мэтр Гофрэ — высок, строен, с густыми длинными черными волосами. Прижавшись к его груди, она смахнула слезу и подняла голову.
— Ой, что же это у тебя… у вас, мой господин?
Длинная челка прикрывала два темных пятна на его лбу.
— Что? А… Так, ударился… Давно. Но ты не прижимайся ко мне, я весь в пыли. Распорядись-ка устроить мне купанье.
Марта суетливо бросилась в кухню, греть воду, окликать слуг.
Людовик, оставив небогатые свои пожитки в гостиной, сразу отправился наверх. Деревянные ступени, отвыкшие от ног, недовольно скрипели. Людовик отнял руку от перил и посмотрел на ладонь, почерневшую от пыли. Он усмехнулся. Нет, Марту нельзя было упрекнуть в нерадивости. Просто и она, и слуги всегда боялись подниматься наверх, в покои хозяина. И уж ничем и ни за что не заманить их в кабинет старика, известного безбожника. Лишь щедрая плата за службу, а скорее, за молчание, удерживала их от бегства из таинственного дома.
Однако же тяжелая дверь в дядин кабинет отворилась бесшумно. Дядя терпеть не мог, чтобы посторонние звуки отвлекали его от работы, и лично смазывал петли, не жалея гусиного жира. Людовик вспомнил, как яростно сбегал дядя вниз, свирепо размахивая каким-нибудь толстенным фолиантом, грозя обрушить его на голову или не в меру расшалившегося малыша или разбившей графин неловкой кухарки…
В кабинете царили излюбленные дядей полумрак и тишина. Угрюмо взирали на пришельца глухие дверцы книжных шкафов, занимавших все пространство стен от пола до потолка. Неколебимо стоял на двух широких деревянных полозьях стол с широкой квадратной столешницей и объемистым ящиком под ней. Шесть секций широкого и высокого огромного окна тускло отливали свинцовыми кольцами наружные решетки. Окно от комнаты отделяла невысокая, по пояс, перегородка, за которой, под подоконником, располагалась простая деревянная скамья. Дверца в перегородке стояла гостеприимно распахнутой.
Людовик прошел за перегородку и облокотился о подоконник, выглядывая в окно. Открылся знакомый, хоть и забытый на время пейзаж — пологий спуск к ручью, за которым протянулись широкие, желтеющие пшеничным колосом поля, а далее темнела полоса леса. Посреди поля он разглядел две темных фигуры одну побольше и другую совсем маленькую.
Людовик вернулся к столу, пустому, покрытому лишь слоем пыли. Палец невольно потянулся к серому пушистому покрову и вывел на нем фигуру — круг. От круга разбежались лучи. Верх увенчала корона. Людовик задумчиво уставился на рисунок. Солнце? Да, наверное, здесь все-таки темновато, надобно приказать побольше свечей, да окно протереть. Но вот корона… К чему бы эта корона?
Луч настоящего, яркого, живого солнца пробил пелену паутины на окне, отыскал крошечное отверстие и уперся прямо в корону. В глазах Людовика вспыхнуло ослепительное, обжигающее пламя, голова закружилась, стало душно. На нетвердых ногах он покинул кабинет, спотыкаясь, спустился по лестнице, стремясь на воздух. Луч, словно тонким хлыстом, казалось, полосовал его сзади, прожигая затылок до самых пятен, темных пятен на лбу. Торопливо развязывая на горле воротник, он сбежал с крыльца и добрался до ручья. Ему представлялось, что именно здесь, в тени раскидистой ивы, среди тихого журчанья воды, станет ему легче. Но жжение в голове не пропадало, не отступало, продолжая гнать дальше. Ниже по ручью светлели в воде широкие плоские камни брода. Но Людовик перебрался на другой берег прямо по пояс в воде. Выбрался на противоположный склон и углубился в море колосьев, тревожно шепчущихся даже сейчас, в безветренную минуту. И чем дальше уходил он от дома, тем покойнее чувствовал себя. И вскоре во всем мире остался лишь этот шелест колосьев, синее безоблачное небо над головой и хоть палящее, но уже не злобное солнце.
Людовик остановился, раздвинул колосья и опустился на колени, погружаясь как в воду в колышущееся золото, а затем и лег, повернувшись на спину. И земля охватила его, окружила плодоносной порослью, убаюкала…
Он не спал. Но странные и пугающие видения преследовали его. То он видел себя в темной пещере, посреди мерзких чудищ, прыгающих и кривляющихся вокруг гигантского костра… То представлялись ему белоснежные простыни, и среди них та, которую он искал всю жизнь. И она, желанная, тянет к нему страстью направляемые руки… То появлялся сидящий за столом дядя, склонившийся над толстой нераскрытой инкунабулой с двумя широкими блинтами на корешке…
Людовик очнулся от звука голосов.
— В такую засуху быть нам без урожая, — произнес старческий, хриплый баритон. — Когда уж это Бог пошлет дождь!
— Если ты так хочешь, я могу сотворить дождь, — отозвался детский тонкий голосок. — Я знаю секрет.
Собеседник ее помолчал, затем осторожно спросил:
— Кто же научил тебя этому секрету?
— Мама.
Голоса приближались. Людовик затаил дыхание. Теперь он различал шуршанье колосьев под ногами идущих, треск кузнечиков и трель высоко парящего жаворонка.
— Но ведь ее сиятельство скончалась, когда ты была еще совсем малышкой, Мадлен, — ласково, но несколько настороженно проговорил тот же старческий голос.
— Да, дядя Жак. Но я все прекрасно помню. Даже помню, как мама просила, чтобы я никому не говорила об этом. И ты ведь тоже никому не расскажешь, хорошо?
— Ну конечно же нет, глупенькая Мадлен. Но как она научила тебя этому?
— Она водила меня к одному человеку. Мы с ним хорошо познакомились. Он делал и для мамы, и для меня все, что бы мы ни попросили. И теперь он является передо мной, как только я позову его, и выполняет мои просьбы.
— Но как же появляется дождь, маленькая проказница Мадлен?
— Для этого нужно немножечко воды.
Шум шагов проследовал мимо затаившегося Людовика в сторону ручья. Юноша привстал на коленях. Спиной к нему на берегу стояли старик в зеленом камзоле и широкой войлочной шляпе и девочка-подросток, в голубом коротком платьице, из-под которого виднелись кружева белых панталончиков. Девочка склонила белокурую головку в соломенной шляпке над ручьем и что-то зашептала. Людовик ползком подобрался ближе. Но слов заклинания не разобрал. Девочка же выпрямилась. И уже громче сказала:
— Ну вот, дядя Жак. Теперь пошли домой.
— А где же дождь, маленькая плутовка Мадлен? — погрозил пальцем старик.
— Но ты же не хочешь промокнуть, дядя Жак? Вот и я не хочу. Дойдем до дома, дождь тебе и будет.
Две фигуры перебрались по камням на другой берег и скрылись среди деревьев, направляясь в сторону ограды соседнего поместья.
Людовик подождал, вновь устроившись на спине и глядя в синее небо. Вдалеке залаяла собака, скрипнули ворота. Прямо на лоб ему шлепнулась увесистая капля. И вскоре плотный ливень частым гребнем прошел по полю.
Основательно промокнув, пробираясь среди омытых колосьев, Людовик вышел к ручью и направился к дому. На крыльце появилась встревоженная Марта.
— Где же вы были, мой господин? Вы купались в ручье не раздеваясь? всплеснула она руками.
— Кто живет в том поместье? — вместо ответа спросил он, указывая в сторону той ограды, за которой скрылись старик и девочка.
— О! Это поместье графа де Полюра, — ответила Марта. — Как ни странно, но его сиятельство не пренебрегал знакомством с вашим дядей, и чуть ли не единственный приглашал его к себе, и не один час проводили они за беседой. Вам тоже следовало бы познакомиться с ним и подружиться. Говорят, что человек он хоть простой и небогатый, но влиятельный. К тому же, — понизила лукаво голос Марта, — у него две дочки на выданье — Люси и Элен.
— Но я только что видел совсем маленькую девочку, по имени Мадлен, сказал Людовик.
— А, — махнула рукой Марта. — Это дочь от второй жены графа, умершей лет пять назад. И девчушке нет еще и десяти лет. Она со странностями. Ну да что вам до нее?
— Мадлен де Полюр, — пробормотал он, вспоминая название тех необыкновенных дождей, о которых он слышал в училище. — Ах да, авра леватиция.
— Что? — переспросила Марта.
— Да так, — махнул он рукой. — А вот искупаться все равно надо.
8
Безымянный приток порадовал пескарями. Обычными серебристыми, жадными до червя пескариками. Простой снастью, которой лавливал еще на Москва-реке, выудил Федор из немецкой воды десятка три бойких рыбешек, не затратив много времени.
Однако ж день клонился к вечеру. Переложив рыбу травой и завернув в три широких лопуха, Федор двинулся дальше вдоль берега, выискивая место для ночного костра. Туман уже вставал клубами над коричневатой водой. Обойдя березовую рощицу, светло вставшую на небольшом мыску, Федор разглядел огонек, мерцающий невдалеке. Не раздумывая, путник двинулся на костер, прихватив по дороге березовый ствол толщиной в руку и высотой в два человеческих роста. На лужайке, полого сбегающей от заросшего кустарникам косогора к воде, у дымящегося от сырых прутьев костра сидели двое.
— Мир вам, честные путники, — проговорил Федор, бросая у огня бревно.
Один из двух, благообразный старец с длинными седыми волосами и волнистой белоснежной бородой, недвижно глядя в пустоту перед собой, безмятежно отозвался:
— Мир и тебе, добрый человек. Присаживайся к огню. Вечера нынче холодные, сырые.
И он протяжно, с надрывом закашлялся.
— Благодарствуйте, — сказал Федор, снимая котомку и оглядывая второго человека, болезненного вида юношу, зябко натягивающего на колени коротковатую ряску. При появлении незнакомца юноша лишь коротко кивнул, испуганно посмотрев на старца.
— Угостить вот нечем. Худой день выдался, — проговорил старец, переводя дух и так же неподвижным взором глядя перед собой. — Думали в Крефельде разжиться, да видно прогневили Господа, совсем неладно получилось…
Юноша вздрогнул и оглянулся.
— Мне что, я стар, слеп, и плоть моя мало просит, а вот Клаусу, поди, тяжко. Молод, кровь горяча, силы бурлят…
Федор скептически оглядел худосочного Клауса.
— Ничего, братья, — сказал он, разворачивая лопухи. — Зато меня Господь щедро нынче одарил. Сейчас запечем пескариков, знатно получится. Был бы горшок, ушицей бы побаловались.
Старец уверенно протянул руку с длинными изящными пальцами и положил ее на плечо юноши. Тот послушно полез в ранец, лежащий у ног и достал закопченый котелок.
— Вот и ладно, — обрадовался Федор, беря котелок и поднимаясь, чтобы сходить за водой. — Горяченьким-то сполоснуть брюхо — самое разлюбезное дело при таком ночлеге…
Вскоре над костром уже булькала уха. Впрочем, кроме рыбы положить в похлебку было нечего. В округе, как выяснил Федор, лишним куском мало кто мог похвастать. Особенно дорого ценилась соль.
— Эх-хе-хе, — подкашливая, вздыхал старец Пфеффель, но сокрушаясь без особой горечи. — Времена темные, так что и мне, слепцу, не ущербно жить.
— А чем живете, хлеб-пропитанье добываете? — поинтересовался Федор, снимая котелок с огня.
— Я строфы в рифму слагаю, людям к празднику увеселенье устраиваю, сказал Пфеффель. — А Клаус… Он богословом был, да у него, вишь…, - он запнулся. — Вот и сегодня, в Крефельде, зашли на постоялый двор. И на наше счастье, у супруги хозяина, фрау Матильды, именины. Я ей такую ли оду зачитал. Хозяин растрогался, покормил нас завтраком, и ночевать оставлял, не прося платы. А Клаус, чувствую, сам не свой. Вижу, говорит, господин Пфеффель, вижу и здесь. А сам трясется. Он как видит, так и трясется.
— Да что видит-то? — спросил Федор, доставая ложку из-за голенища добротного сапога.
— А это уж пусть он сам расскажет, поскольку кроме него никто не зрит того, — усмехнулся Пфеффель, так же глядя перед собой и на ощупь отыскивая ложкой котелок, поднесенный Клаусом.
Федор поверх языков пламени пытливо поглядел на юношу.
— А что рассказывать-то, что? Коли не верит никто, что рассказывать? вдруг горячо и горько заговорил Клаус, так что котелок ходуном заходил в его руках, а ложка слепца забренчала о стенки. — Ну, вижу. И видел. В том самом постоялом дворе видел я женщину. Образ светящийся. И что? Хозяин на смех взял палку и стал ударять по тому месту, куда я указывал. Но ничего не произошло. Никто ничего не увидел, а образ так и остался стоять на месте, молитвенно протягивая ко мне руки.
Голос юноши звонко разносился в тумане. Должно быть, испугавшись этих громких звуков в темнеющей тишине, Клаус смолк.
— И что тут рассказывать? — наконец добавил он.
— В общем, прогнал нас хозяин. Фрау Матильда испугалась духа, вот хозяин и осерчал, — докончил за Клауса старик. — И никто не захотел нас пускать. Не больно духовидцев-то жалуют. Хорошо, бока не намяли. И ведь не в первый раз с нами такая история. Примерно с месяц назад, в Вельсе, так же зрел он нечто… Ну, видишь и ладно. Смолчи. Чего народ зря пугать? И так не сладко живет ныне человек, а ты его еще духами стращаешь…
— А живется, стало быть, не сладко? — спросил Федор, облизывая ложку и убирая за голенище. Затем он улегся на бок, подпер голову рукой и устремил взгляд в огонь.
— Да уж куда как сладко… Крестьянин один, а на него — папа, король, князь, рыцарь… и-и-и… да мало ли! Да и между собой никак не разберутся, — слепец махнул рукой.
— Отчего, как ты думаешь, появляются эти духи? — спросил Федор, обратившись к Клаусу.
Юноша вздрогнул, словно впервые заметив присутствие третьего у костра.
— Не знаю, — сказал он, поеживаясь, — но я вижу… Это правда.
И он вновь замолчал, уставившись в костер.
Влажная тьма полусферой накрывала скачущие, сияющие языки пламени и трех путников, волей случая сведенных воедино на земле немецкой.
Федор перевалился на спину, закинул руки за голову и вытянулся.
— Нехорошо это, — сказал он. — Причина должна быть. Коли появляются духи, надобно уж до причины докапываться. А так оставлять — нехорошо. Вот завтра и выясним. Утро вечера мудренее. А пока — соснуть не худо.
Юноша с изумлением посмотрел на него. И даже слепец повернул голову в ту сторону, откуда вскоре донеслось легкое похрапывание…
Федор проснулся от холода и сырости. Стояла почти такая же тьма, прорезанная лучами низко зависшего над горизонтом тонкого месяца. Но какая-то свежая нотка в воздухе, пробные птичьи оклики говорили о том, что рассвет близок. Слепец, сжавшись калачиком, подремывал на росной траве. Лишь Клаус пребывал в той же позе. Обхватив руками колени, он продолжал всматриваться потухший костер, над чуть красноватыми углями которого еще поднимались призрачные дымки.
— Что ж дров-то не подбросил? — деловито осведомился Федор, поднимаясь и потягиваясь.
Клаус вновь посмотрел на него так, словно увидел впервые, и Федор, махнув рукой, отправился к реке, откуда вскоре донеслось бодрое кряканье и плеск воды, под которые проснулся и Пфеффель, тут же сраженный приступом судорожного кашля.
Оживили костер, вскипятили воды, и под этот более чем скромный завтрак Федор принялся уговаривать товарищей по ночлегу вернуться в Крефельд. Слепец отмалчивался, а Клаус упрямо качал головой.
— Да вам ведь все едино, куда идти, — настаивал Федор. — А только слава про вас пойдет худая. Так и будете бегать? Тогда вам самое место в пустыне в какой-нибудь!
В конце концов, Пфеффель сдался.
— Верно. Что от судьбы бегать? Недостойно так вести себя. Смелее, Клаус, несостоявшийся магистр Биллинг!
Стали собираться. Клаус неохотно, но поплелся за бодро устремившимся в путь Федором, за котомку которого цепко ухватился Пфеффель.
К городской заставе вышли уже засветло. Заспанный будочник хмуро оглядел путников, криво ухмыльнулся, признав Пфеффеля и Биллинга, покачал головой, но ничего не сказал, принял монету и поднял шлагбаум.
Городок только-только просыпался. Но уже покрикивала голодная живность, хлопали двери, бряцали запоры ворот и ставень.
Троица путников не добралась до постоялого двора. На загаженной навозом рыночной площади, у ветхой ратуши их остановил городской голова, герр Бюхер. Приподняв шляпу перед Федором, отвесившим в ответ неглубокий поклон, голова мрачно посмотрел на Клауса, но обратился к Пфеффелю:
— Я, конечно, не могу препятствовать вам в посещении нашего города, коли вы заплатили входную пошлину. Но настоятельно рекомендую не задерживаться у нас. Наши бюргеры и со вчерашнего-то дня на вас сердиты, а коли вы им еще и сегодня попадетесь, после выпитого ими на именинах у фрау Матильды… Вам же добра желаю.
Однако благим намерениям герра Бюхера не суждено было сбыться. Утреннее злое похмелье выгнало на рыночную площадь хозяина постоялого двора, Фрица Зауэра. Опухший и раскрасневшийся, он шествовал во главе компании вчерашних собутыльников. Заметив путников, Зауэр круто развернулся и зашагал к ним. Чуть приподняв шляпу с пером, он еще на ходу обратился к голове:
— Герр Бюхер, мы ведь не для того вас выбирали, чтобы вы приваживали в наш город попрошаек и смутьянов. У нас и своих предостаточно!
— Послушайте, достопочтенный, не знаю, как вас звать-величать, вмешался Федор. — Вот этот юноша, — он указал на трепещущего Клауса, увидел нечто неладное. И я склонен доверять ему. Чем прогонять человека, желающего предупредить вас, не лучше ли прислушаться к его словам и установить истину?
— Если слушать каждого безумца, которых нынче много развелось, так и делом некогда заниматься, — огрызнулся Зауэр. — Да и не указ нам чужестранцы!
Из толпы соратников Зауэра выбрался коренастый крепыш с кожаными тесемками вокруг запястий и могучих бицепсов. Несмотря на утренний холод, облачение его составляли лишь штаны в обтяжку, сапоги, да мясницкий фартук.
— А вот мы их всех сейчас — в шею! — рявкнул он и расхохотался, увидев, как сжался Клаус и вздрогнул Пфеффель.
— Кто это? — негромко спросил Федор у Клауса.
Духовидец, трясясь всем телом, прошептал:
— Это мясник, Ганс. Силища у него — ой-ой-ой!
Федор, мягко отцепив от котомки слепца, продолжая движение телом, резко выбросил вперед правую руку. Огромный кулак глухо щелкнул о лоб мясника. Тот закатил глаза, обмяк всем телом, постоял, качаясь, и осел на землю. Все замерли.
— Вот я и говорю, — как ни в чем не бывало, продолжил Федор, разобраться бы сначала надо, а то не ровен час и до беды недолго. Показывай, Клаус.
Ошарашенные бюргеры расступились перед путниками, а затем, неловко толкаясь, двинулись следом. Вся процессия, ведомая Клаусом, проследовала к постоялому двору. На крыльце трактира изумленно застыла фрау Матильда с тряпкой в руке.
Клаус прошел в дальний конец небольшого сада.
— Вот она, — прошептал он, не оглядываясь и указывая пальцем на куст смородины.
— Где? — деловито осведомился Федор, снимая котомку.
— Прямо здесь, перед кустом, — отозвался Клаус.
Горожане толпились в воротах, постепенно выталкивая друг друга в сад. Вперед пробился герр Зауэр. За ним — голова. Народ прибывал.
Федор протянул руку к указанному месту.
— Здесь?
— Да. Вы ее касаетесь. А вот рука проходит насквозь, — побелевшими губами пробормотал Клаус.
— Хм, — недоверчиво покачал головой Федор. — Хозяин, — обернулся он, лопата есть?
— Да что вы все слушаете эту чушь? — возмутился Зауэр. — Еще и сад мне хотите перерыть? Не дам!
— Так-таки и не дашь? А сдается мне, мил человек, что труп ты тут зарыл, да и хочешь утаить истину от людей. Вот как дело-то обстоит, — веско проговорил Федор.
Народ на мгновение притих, но тут же загомонил негромко, поглядывая на потерявшего дар речи хозяина двора.
— Я? — наконец вымолвил он. — Я? Зарыл и прячу? — Он пару раз широко раскрыл рот, глотая воздух и не находя слов. — Я? Да меня…
Развернувшись, он бросился в другой конец сада, к сараю, погремел там и вышел с двумя лопатами.
— Ну? — спросил он, подходя, втыкая лопаты в землю и поплевывая на ладони. — Где копать? Я прячу…
Копали долго, сменяя друг друга, хозяин, Федор и очухавшийся, злой мясник. Последний, остервенело вгоняя штык в землю, наконец, наткнулся на что-то твердое, сухо треснувшее под острием. Мясник стоял в яме по пояс. Услышав звук, он замер.
— Осторожно, — сказал Федор, протягивая ему руку. — Вылезай.
Мясник ухватился за протянутую руку, и его выдернули наверх с легкостью, еще раз поразившей этого далеко не слабого мужика.
Федор спустился в яму и, аккуратно действуя лопатой, вскоре счистил верхний слой земли и извести с обнажившихся костей. Плоть и одеяние, если таковое и было, давно истлели.
— Не переживай, — сказал Федор, появляясь над краем могилы и обращаясь к побледневшему хозяину. — Этим костям лет сто, если не больше. Зовите-ка вашего пастора. Надобно похоронить останки как полагается.
Фрау Матильда, ухватив мужа за рукав куртки, взвыла в голос. Клаус отвернулся от всех, прижавшись лицом к ограде сада. Его тошнило.
9
Из депеши папского нунция Генриха фон Гонди:
«В Лотарингии, в Нанси, объявилась бесноватая, девица по имени Елизавета фон Ранфейнг. Непосредственное наблюдение первоначально осуществлялось лотарингским лейб-медиком Пичардом. После совершения предварительных заклинаний в Рамиремонте, она была возвращена в Нанси. Еписком Тулский, Порцелет, назначил в заклинатели для нее доктора Богословия Виардина, в помощники которому определили одного иезуита и одного капуцина. При совершении заклинаний присутствовали почти все нансийские монахи. Присутствовали также епископ Тулский; викарий Страсбургский, Занси; прежний французский посол в Константинополе, Карл Лотарингский; епископ Вердюнский и два уполномоченных молодых доктора из Сорбоннского университета. Последние заклинали бесноватую на еврейском, греческом и латинском языках. И она, тогда как в нормальном состоянии едва с трудом могла читать по латыни, теперь совершенно свободно и верно отвечала на все их вопросы. Старлай, славящийся знанием еврейского языка, едва начинал шевелить губами, произнося еврейские слова, уже получал ответы. Гарньер, один из Сорбоннских докторов, также предлагал ей вопросы на еврейском языке, и он (демон) отвечал ему совершенно верно, только уже на французском языке, так как демон заявил, что согласен говорить только на местном языке. Когда Гарньер начал допытываться, отчего он не говорит по-еврейски, демон отвечал: разве для тебя недостаточно того, что я понимаю все, что ты говоришь? Когда потом Гарньер начал говорить по-гречески, и по невнимательности сделал ошибку в склонении одного слова, злой дух заметил: ты ошибся! Гарньер потребовал по-гречески, чтобы тот определеннее указал ошибку; демон отвечал: довольно и того, что я вообще заметил твою ошибку, и больше ничего от меня не требуй! Гарньер по-гречески приказывал ему замолчать; злой дух отвечал: ты хочешь, чтобы я молчал, но я не хочу молчать! Когда соборный схоластик, Мидот Тулский велел ему на греческом сесть, демон сказал: я не хочу сидеть. Мидот опять сказал по-гречески: садись на пол, повинуйся! Но тут же заметил, что злой дух хочет с силою повергнуть девицу на пол. Мидот опять по-гречески сказал, чтобы он садился тихо, и демон повиновался. Далее Мидот приказал: протяни правую руку, приказание было выполнено. После этого Мидот велел демону возбудить в колене бесноватой холод, и она действительно тотчас объявила, что чувствует в колене сильный холод. Когда потом, второй Сорбоннский доктор, Минс, поднес, держа в руке, крест к бесноватой, демон сказал по-гречески, тихо, однако так, что некоторые из присутствующих слышали: дай мне этот крест. Доктор потребовал, чтобы он громче повторил эти слова; — я повторю свои слова, — сказал демон, только наполовину по-гречески и добавил по-французски: — donnez moi; а потом добавил уже по-гречески: — этот крест. Альберт, капуцин, повелел ему на греческом языке, во имя семи радостей Марии, сделать на полу языком семь крестов. Демон сделал крест три раза языком, два раза — носом. Когда приказание было повторено, он его исполнил. Затем он исполнил и другое приказание — поцеловать ноги Тулскому епископу. Когда Альберт заметил в демоне желание опрокинуть сосуд со священной водой, он приказал ему тихо взять этот сосуд; демон повиновался. Потом Альберт приказал ему отнести кропильницу коменданту города. Так как Альберт говорил по-гречески, дух заметил, что этим языком не принято заклинать. Альберт отвечал: не ты нам для этого постановил законы; Церковь имеет право заклинать тебя, на каком ей угодно языке. Бесноватая схватила кропильницу и понесла ее сначала к Гвардиану Капуцинов, потом к Эриху, принцу Лотарингскому, к графам Брионскому Ремомвилю, Ля Бо и другим присутствовавшим. Когда Пичард, наполовину по-гречески и наполовину по-еврейски приказал ему освободить голову и глаза бесноватой, демон отвечал: мы, демоны, не виноваты в этой ее боли, ее голова наполнена дурными соками, что происходит от ее природного сложения.
Демон также отвечал на все, о чем его спрашивали по латыни, по-итальянски и немецки, при этом поправлял и ошибки, сделанные в языках вопрошавшими. Демон угадывал самые сокровенные мысли и слышал, когда присутствующие говорили между собой так тихо, что естественным образом их нельзя было слышать со стороны. Он сказал, между прочим, что знает содержание одной охранительной молитвы, какую один благочестивый священник читывал пред совершением Евхаристии. Демон давал ответы заклинателям не только на слова, но даже уже по одному движению их губ, или по одному тому, если они прикладывали к устам книги или руку. Один протестант, англичанин, сказал ему: в доказательство того, что ты действительно находишься в этой девушке, назови мне господина, который когда-то учил меня вышивать? демон отвечал: Вильгельм. Много других таинственных сокровенных вещей открывал демон. А также делал такие вещи, которых человек, как бы он ни был гибок и изворотлив, не может сделать естественным образом, как, например то, что демон без всякого участия рук и ног ползал по земле.
Итак, данная история произошла в присутствии большого общества просвещенных людей, двух князей из Лотарингского дома, двух епископов очень образованных мужей, далее, в присутствии и по распоряжению высокопочтенного господина епископа Тулского, Порцелета, человека весьма просвещенного и заслуженного, в присутствии двух Сорбоннских докторов, которые нарочито были вызваны за тем, чтобы дали свое мнение относительно естественности бесноватости; наконец — в присутствии даже последователей так называемой реформаторской веры, которые были заранее предубеждены против подобных вещей, как бесноватость.
Следует присовокупить сюда, что девица Ранфейнг девушка благородная и умная, не имеющая никаких причин, которые могли бы побудить ее притворяться бесноватою и принимать на себя положение, причиняющее ей столько неприятностей…»
10
— … Всего-то бутылку выпили на двоих… Сам посуди, какой я пьяный! — рассказывал уже другую историю Саша. — А этот сержантик, молодой такой, уперся: пройдемте в отделение, да пройдемте! Я ему тогда и говорю: сделаешь четыре хлопушечки, как я, тогда пройду. Он говорит: какие хлопушечки?
— Какие хлопушечки? — заинтересовался Федор, утирая слезу, неведомо отчего накатившую на щеку.
— Не знаешь!? И ты, тоже? — удивился Торопцев. — Ну, вы даете… Смотри. Исходное положение: упор лежа. Сгибаешь руки в локтях, резко отталкиваешься от пола, хлопаешь в ладоши, приземляешься на ладони и так далее.
Федор тут же распластался на полу. Но дальше сопения дело не пошло. Саша тут же изобразил хлопушечку под одобрительные возгласы завсегдатаев буфета. Федор глядел на экзерсисы литератора с завистливым уважением.
— Ничего, — переводя дух, сказал Саша, — это с непривычки не получилось. Мужик ты здоровый, потренироваться только надо…
— Так забрали тебя? — вмешался я в беседу гигантов.
— Не-а, — безмятежно сказал Саша. — Сержант только два раза сделал. Засмеялся и отпустил. Вижу, говорит, дойдешь до дома. Сравни — ему лет двадцать, а мне пятьдесят… А тебе какого года? — поинтересовался он у Федора.
— Я? — задумался Федор и посмотрел на меня.
— Не отвлекайся, — сказал я. — Просил продолжение? Вот и не отвлекайся.
11
Людовик Гофреди вспоминал:
Вечер дня приезда в дом дяди он провел в библиотеке, за разбором бумаг и книг. Между последних, наконец, попалась ему и та толстая инкунабула с двумя широкими блинтами на корешке. Недрогнувшей рукой раскрыл он руку наугад. На белых, но пожелтевших по краям страницах открылись ему символы, диаграммы и загадочные словосочетания. На левой странице, в верхнем углу лишь одно предложение несло доступный смыл.
— «Испытай силу слов!» — зачитал вполголоса Людовик.
Он прислушался. Дневной внезапный дождь (авра леватиция!) закончился быстро и резко. Слабая вечерняя прохлада окутывала еще желтеющие в полумраке поля. В доме становилось тихо, лишь откуда-то снизу, с кухни, заглушенное дверями, доносилось звяканье посуды. Марта убирала остатки ужина, а может быть, готовилась ко дню завтрашнему. Да изредка потрескивали балки старого усталого дома.
— Испытай силу слов, — повторил Людовик.
Перед мысленным взором предстала давешняя девочка, Мадлен де Полюр. Только сейчас он понял, что тогда, в поле, он так и не смог разглядеть черты ее лица, а вот сейчас она появилась перед ним, как живая. И он увидел, что ничего детского нет в этом лице, да видимо никогда и не было. И пухлые розовые щечки, и оживленно горящие глаза скрывали душу давным-давно живущую на этом свете, а может быть и не только на этом, и все понимавшую, и все знавшую.
— Мадлен де Полюр, — прошептал он. — Я испытал силу твоих слов. Теперь очередь за тобой. Испытай силу слов моих.
Он принялся обводить пальцем замысловатые символы, изображенные на странице, пытаясь без запинок проговаривать и неясные слова, выведенные рядом. Шли часы, прогорали свечи. И ничего не происходило. Ровным счетом ничего. Добравшись до последней строки, он ощущал лишь ужасную усталость и опустошение.
— Где же сила? — пробормотал он. — Или…
И голова его рухнула на книгу.
И снилась ему пещера. Громадная, гулкая, пугающая. В этой пещере множество мужчин и женщин танцевали вокруг недвижно стоящего козла, смрадно воняющего. Людовик ощутил сильный страх, лишивший его какой-либо возможности двигаться. Но чей-то звучный голос по-гречески ободрил его:
— Это твои друзья. К обществу их теперь должен и ты принадлежать.
Резкий запах серы, смешанный с запахами соли и мочи, поглотил другие. Над головою козла ослепительно засияла неведомо откуда взявшаяся золотая корона.
— Вот твоя корона, — продолжал голос. — Ты знаешь, что она означает. Ты знаешь, что тебе надо. Ты знаешь, что тебе делать…
— Я? — громко вопросил Людовик и… очнулся.
За окном светало. Ныла щека от долгого недвижного соприкосновения с книгой. Людовик яростно потер лицо ладонями. Несмотря на ломоту в теле и жжение в глазах, он испытывал душевное облегчение, словно принял решение, мучавшее его давным-давно.
Марта почему-то тоже не спала. И когда Людовик спустился в кухню, уже горел очаг и булькал котелок с горячей водой. Вид у экономки был встревоженный.
— В чем дело, Марта? — бодро спросил Людовик. — Только не вздумай сказать, что ты захворала. Ты мне нужна здоровой. Нужна на много-много лет. Сама посуди, как я без тебя? Я ведь собираюсь жить долго.
Он обнял ее и поцеловал в лоб. Давно забытые, детские воспоминания, связанные с милыми, вкусными запахами кухни, напомнили о той Марте, которую он ребенком считал мамой. И ему вдруг пронзительно ясно стало, насколько он одинок в этом мире.
— Как ты думаешь, не рановато для визита к графу? — спросил он.
— Барышни, положим, еще крепко спят, — как-то рассеянно отозвалась Марта, переставляя бесцельно посуду на полке, — а его сиятельство поднимаются с петухами. Хозяйство хоть и не большое, но хлопот много. Люди они небогатые, — еще раз подчеркнула она, и при этом тревога не покидала ее лица.
— Я видела сон, мой господин, — вдруг проговорила она. — Дурной сон.
— Что за сон? — неизвестно отчего насторожился Людовик.
— Скверный сон, — продолжила Марта. — Я видела пещеру. Большую, гулкую. Там стоял такой запах…
— Я знаю, — резко оборвал он ее. — Извини, Марта. Этот сон предназначался не тебе.
Она удивленно посмотрела на него. Он неловко пожал плечами и попросил чаю.
Легко перекусив, Людовик вышел из дому. На востоке полыхала заря. Безоблачное небо обещало очередной знойный день и обращенные вверх проклятия крестьян…
Тяжелые кованые ворота графского поместья, покрытые утренней росой, недовольно заскрежетали на ржавых петлях. Из двери привратницкой высунулась взлохмаченная голова румяного парня. За спиной его слышался девичий смех. Парень обернулся и цыкнул. Смех смолк.
Людовик вспыхнул и, не говоря ни слова, двинулся к большому белому дому, провожаемый насмешливым взглядом привратника и выбравшейся из кустов грязно-белой шавкой, незлобно тявкающей для порядка.
Граф, аккуратно одетый и завитой, стоял на веранде, заложив руки за спину и с выражением крайней озабоченности на сморщенном крошечном личике. Взгляд его был обращен на восток. Заслышав хруст гравия под ногами Людовика, он повернулся.
— Боже милостивый, — простонал он. — И когда же эта засуха прекратится! Не слышит Господь моих молитв. Хоть в гугеноты обращайся. Впрочем, что это я… Хм… Рад вас видеть, молодой человек. Вы, должно быть, и есть Людовик Гофреди? Я имел удовольствие быть близким другом вашего дядюшки, с которым судьба обошлась крайне сурово, на мой взгляд.
С этими словами граф сошел по широким истертым древним ступеням родового дома, кое-где еще сохранившего замковые надстройки и башенки далекого прошлого.
Обхватив ладонь гостя обеими руками, граф ласково заглянул ему в глаза, слегка закидывая голову назад и нетерпеливо притоптывая ножкой.
— Ну, вот вы и приехали, и осиротевший было дом вашего дядюшки вновь обрел хозяина. Вы не поверите, как скучно здесь бывает. Особенно в эти душные вечера, когда остаешься один на один с мрачными мыслями о неурожае.
Граф понизил голос до шепота:
— Я с ужасом думаю о том, как мне выдавать дочерей замуж. У них же абсолютно нет приданого.
И он весело подмигнул смутившемуся Людовику, не успевавшему и слова вставить в горячие монологи графа.
— Впрочем, я слышал, что вы собираетесь пойти по стезе служения Господу. Счастливец, — вздохнул коротышка-граф. — У вас не будет ни супруги, ни детей, ни всех прочих сложностей, сопутствующих семейству… Однако же, позвольте, я проведу вас по хозяйству, пока мои сони наконец выберутся из теплых постелек, — с нежностью проговорил он.
Жизнерадостно рассмеявшись, он повел гостя по усадьбе.
Людовика так и подмывало поведать графу о чудесных способностях его младшей дочери. А если граф о них уже осведомлен, то поинтересоваться, почему бы в такой засухе не обратиться к талантам Мадлен. Однако, если же граф пребывает в счастливом неведении, то вряд ли стоит ошарашивать его внезапным известием, от которого за милю пахнет колдовством.
— Да, я собираюсь стать священником, — неожиданно для себя сказал Людовик.
Простодушный граф, не слушая гостя, вел его среди хозяйственных построек, сетуя и восторгаясь. Жалуясь на лень крестьян и восхищаясь упитанностью индюшек, граф всецело погружался в то, что в данный момент оказывалось перед его глазами и забывал об остальном мире.
«Счастливое вечное дитя!», — вздохнул Людовик.
Прогулка заняла более часу. Когда они вернулись к дому, из широко распахнутых дверей и окон доносились звяканье посуды и девичьи голоса…
За опрятно накрытым, хоть и не богато сервированным столом, их уже ждали. Две старших дочери, Люси и Элен, обе смуглые, стройные и похожие друг на друга, опустили глаза, пряча улыбки, привстали со стульев и сделали книксены. Послышался топот маленьких проворных ног, и по лестнице в столовую сбежала Мадлен. Глаза отца растроганно увлажнились при виде запыхавшейся малышки.
— Что ж ты у меня такая растрепа? — без укора, но лишь с одной любовью в голосе проговорил граф. Сестры также улыбками встретили появление младшенькой, явно любимицы всей семьи. — Вот мсье Людовик, позвольте вам представить весь мой, так сказать, цветник. Это старшие, Люси и Элен. Они двойняшки. Я сам их путаю. Чем они и пользуются совершенно беззастенчиво. А это — проказница Мадлен. С тех пор, как наша матушка…, - граф осекся и отвернулся.
Мадлен тут же подскочила к нему и ласково погладила по руке.
— Ну прошу за стол, — засуетился успокоенный граф. — Жак, подавай, обратился он к тому самому старику, которого Людовик видел в поле, сопровождавшим Мадлен, и исполнявшего, судя по всему, множество должностей в графском доме.
— У нас на столе все свое, — меж тем продолжал, усаживаясь граф. — Мы деликатесов из Парижа не выписываем, не гонимся за глупыми причудами. Зато все свежее, прямо с грядки.
И граф усердно принялся потчевать гостя зеленью и дичью, творогом и сметаной, пышным горячим хлебом.
— Стол прямо-таки королевский, — нахваливал Людовик.
Граф зарделся от удовольствия, однако тут же помрачнел.
— Да, хвала Господу, пока все есть. Но еще неделя такой засухи…, он в расстройстве махнул рукой.
Судя по всему, тема погоды последние дни становилась главной не только в графском доме, но и во всей округе.
— У Господа милостей много, — чинно заметил Людовик. — В том числе и внезапные дожди.
Он посмотрел на Мадлен. Но девочка, казалось, не обратила никакого внимания на его слова, перешептываясь о чем-то со склонившимся к ней Жаком.
— Да, именно внезапные дожди, — продолжал Людовик, на этот раз обращаясь к двойняшкам, не сводившим глаз с его роскошных, с отливом, черных волос, раскинувшихся по плечам. — Не далее, как вчера я стал свидетелем такого чуда. Над тем пшеничным полем, — он указал на левую стену зала, — разразился настоящий ливень. При этом на небе не было ни облачка. Представляете? Разве это не явное доказательство милостей Божьих?
Мадлен заерзала на стуле и вновь кинула взгляд на нахмурившееся лицо Жака.
Граф же восторженно всплеснул руками, чуть не опрокинув кружку с молоком.
— Вот вам, неверующие, — горячо заговорил он, обращаясь к дочерям, обменявшимся скептическими взглядами. — Не то ли в каждой проповеди твердит вам и отец Франсуа, пока вы строите глазки молодым прихожанам?
Девицы захихикали, подталкивая друг друга локтями. Лишь Мадлен сидела нахохлившись, исподлобья бросая сердито-недоуменные взгляды на Людовика.
— Раз дождь, — вдруг выпалила она, — так сразу и чудо? Подумаешь!
— Но средь ясного неба? В такую сушь? — мягко поддразнил ее Людовик.
Девочка фыркнула и выскочила из-за стола. Подбежав к двери, ведущей на веранду, она остановилась, обернулась, прижала два пальца ко лбу и показала язык.
— Мадлен! — негодующе воскликнул граф. — Сейчас же вернись за стол и извинись!
Но она уже скрылась из глаз. Людовик машинально пригладил волосы на лбу.
12
— Ученье было знатное, — рассказывал Федор, лежа у очередного костра.
Вся троица, не задерживаясь в Крефельде, продолжила путь, прихватив лишь запас провизии у расщедрившегося хозяина постоялого двора.
— Н-да… Ходили мы с соседскими ребятишками к двум местным попам отцам Василиям. Люди они были не злые, но воспитанные в строгости, отчего мы быстро усвоили, что корень учения горек. Там я выучился бегло читать, в том числе и по латыни. Немного познакомили нас с арифметикой, да священной историей. За незнание урока ставили нас на колени или били палями, то бишь, линейками, по рукам. А то оставляли без обеда или драли за уши и волосы. По субботам свершалась общая расправа, независимо от отметок. Один отец Василий был пьяница, и вчастую колотил свою жену; второй сам пребывал под пятою у своей гневной супруги. В общем, толку было мало. Дядя мой понял это, и отдал под начало немцу из слободы, патеру Фуллеру. От него мне тоже перепадало, зато и знаний у него было не в пример нашим попам поболее. При чем сразу же он стал говорить со мною только по-немецки. Тут хочешь, не хочешь, научишься. Ну а способностями, так случилось, Господь меня не обделил. Вот и по-французски могу, и по-итальянски кумекаю. Так-то… А натерпелся я от наставников, Не приведи Господь…
Федор вздохнул и устремил задумчивый взор на вольно текущие дунайские воды.
— Тем более в толк не возьму, — проговорил Пфеффель. — Человек ты образованный, служить должен, карьеру делать. А вместо того бродяжничаешь.
— Да и вы зады в ратушах не обтираете, — усмехнулся Федор.
— Я что, я человек ущербный для этой жизни, — спокойно сказал Пфеффель. — Дела своего не имею. Сызмальства Божьей милостью пробавляюсь. Добро еще, что Господь дар стихосложения ниспослал. За то и подают. Ну а Клаус — он душа мятежная, маетная. Ему на одном месте не усидеть.
— Вот и я долго на одном месте не могу, — сказал Федор. — Как узнал от патера Фуллера, что мир зело велик есть, так прямо и захворал я, можно сказать. А только сейчас, когда уж третий десяток к концу пошел, сподобился пуститься в странствие. Э-эх, и хорошо же жить вольно…
Он откинулся на спину и, заложив руки за голову, мечтательно уставился в звездное небо.
Слепец вдруг схватился за грудь и зашелся в судорожном кашле. Вскоре припадок прошел, но на лице старика надолго осталась синева, отчетливо заметная даже при неверных всполохах костра.
— Дома тебе, дед, сидеть надо. На теплой печке, — сказал Федор, переворачиваясь на бок. — А не на сырой земле спать.
— Меня уже давно подземная обитель ждет не дождется, — махнул рукой Пфеффель. — Там и успокою косточки, и согрею. Скорей бы уж…
— Ты так рвешься туда, будто и в самом деле там покой и тепло, заметил Федор. — А я вот сильно сомневаюсь в гостеприимности мира иного.
— Э, не скажи, мил человек, — тяжело дыша, возразил Пфеффель. — Когда епископ Альбский, Сильвий, впал в бесчувственность вследствие болезни, его сочли мертвым, омыли, облачили, положили на носилки и целую ночь о нем провели в молитве. А на следующее утро он проснулся, пробудился, как от глубокого сна. Открыв глаза, Сильвий поднял руку к небу и вздохнув, сказал… Клаус, как он сказала? У тебя уж очень душевно получается.
Взволнованно сверкнув глазами, Клаус вскочил на ноги, обратил лицо к небесам и проговорил:
— «О, Господи, зачем Ты возвратил меня в эту плачевную юдоль?»… И больше ничего за всю жизнь оставшуюся не промолвил.
— И больше ничего не промолвил, — со слезой в голосе повторил Пфеффель. — Так-то…
— Знать, праведной жизни был этот ваш епископ, — задумчиво отозвался Федор. — А у нас так рассказывают. Просил один старец у Бога, чтобы допустил его увидеть, как умирают праведники. Вот явился к нему ангел и говорит: «Ступай в такое-то село и увидишь, как умирают праведники». Пошел старец. Приходит в село и просится в один дом ночевать. Хозяева ему отвечают: «Мы бы рады пустить тебя, старичок, да родитель у нас болен, при смерти лежит». Больной-то услыхал эти речи и приказал детям впустить странника. Старец вошел в избу и расположился на ночлег. А больной созвал своих сыновей и снох, сделал им родительское наставление, дал свое последнее, на веки нерушимое благословение и простился со всеми. И в ту же ночь пришла к нему Смерть с ангелами. Вынули душу праведную, положили на золотую тарелку, запели: «Иже херувимы» и понесли в рай. Никто того не мог видеть; видел только один старец. Дождался он похорон праведника, отслужил панихиду и возвратился домой, благодаря Господа, что сподобил его видеть святую кончину… Н-да… А вот как умирают грешники…
Пфеффель вновь закашлялся. Затем, переведя дух, протянул руку Клаусу. Тот взял слепца под локоть и отвел в сторону от костра, усадив под куст.
— Что с ним? — спросил Федор вернувшегося Клауса. — Совсем плох?
— Плох? — переспросил юноша, словно вслушиваясь в звук своего голоса. — Да, плох. Но сейчас он уединился творить. Он сочиняет. Всегда так делает — отходит в сторонку.
— Стихи? — уточнил Федор. — Надо же. Я за всю жизнь двух слов зарифмовать не мог… Ну, так будешь слушать, как грешники умирают?
Клаус рассеянно кивнул, подбрасывая ветки в огонь.
— И после того, — увлеченно продолжил Федор, растроганный воспоминаниями, — после того просил тот же старец у Бога, чтобы допустил его увидеть, как умирают грешники; и был ему глас свыше: «Иди в такое-то село и увидишь, как умирают грешники». Старец пошел в то село и выпросился ночевать у трех братьев. Вот хозяева воротились с молотьбы в избу, и принялись всяк за свое дело, начали пустое болтать, да песни петь. И невидимо им пришла Смерть с молотком в руках и ударила одного брата в голову. «Ой, голова болит!.. Ой, смерть моя…», — закричал он и тут же помер. Старец дождался похорон грешника и воротился домой, благодаря Господа, что сподобил его видеть смерть праведного и грешного…
Федор замолчал. Наступила тишина. Лишь плескали дунайские волны, да потрескивали в костре сыроватые ветки.
— Клаус, — вдруг спросил Федор. — А почему тебя из семинарии выгнали? Тоже из-за духа?
Клаус вздрогнул.
— Да, — растерянно сказал он. — Откуда ты знаешь?
— Догадываюсь, — усмехнулся Федор. — Не похож ты на человека грешного. Только дух и мог тебя подвести. Расскажи. Что еще и делать у ночного костра, как не байки травить?
Клаус помолчал, бесцельно вороша угли костра и передвигая дымящие ветки длинной палкой.
— Я говорил ему, чтобы он оставил меня в покое, но он не слушался. Я не звал его, и не нужен он мне был, — вдруг по-мальчишески горячо пожаловался Клаус.
— Ты говоришь о духе?
— Да… Он жил у меня в комнате. Правда, зла он мне не причинял. Наоборот. Даже за порядком следил, чистил мне платья. Но я чувствовал, что это добром не кончится. И просил его удалиться. А он уверял, что меня ждет большое будущее в службе по духовной линии. Вот тебе и будущее, — вздохнул юноша. — Я… Мне так нравилось учиться…
— Так что же все-таки произошло?
— И вот один раз я так с ним разговаривал, а один из воспитанников услышал. Дело дошло до архиепископа. И он лично прибыл ко мне. Я все честно рассказал. Архиепископ не поверил, и потребовал доказательств. Я в сердцах попросил духа принести стул для его преосвященства. И дух ткнул стул прямо под коленки моему гостю. Тот сел, раскрыв рот… Меня и исключили. Теперь вот… странствую.
— С Пфеффелем давно ходишь?
— Года два.
— Много духов видел за это время?
Клаус поежился.
— Ох, много, — негромко проговорил он. — Не знаю, к чему бы это…
— А чем же еще занимался эти два года? Только ходил поводырем… и все?
— Нет, — пожал юноша плечами. — Где останавливались, там по хозяйству помогал.
Федор пытливо посмотрел на Клауса.
— Сдается мне, какая-то мысль тебе покоя не дает. Так ли?
Клаус потупил взгляд, взялся за котелок, поднялся и пошел к воде. Федор уставился в костер. Острые языки пламени от просушенных веток метнулись вверх. Федор вгляделся пристальнее, заметив нечто знакомое. Да, царская борода. Такая же острая, трепещущая, когда говорит самодержец… «И помни главное — Рим!», — прогудело в голове колокольным звоном.
— Н-да, Рим, — проговорил Федор вслух, качая головой.
За спиной послышался звон упавшего котелка, плеск разлившейся воды. Федор резко обернулся. Клаус стоял на коленях возле опрокинувшегося котелка и с изумлением взирал на Федора.
— Запнулся? — участливо спросил тот.
— Рим? — вместо ответа проговорил Клаус и сглотнул ком в горле. — Ты сказал… Рим?
— Что? Ну, в общем… Как бы и сказал… Так, вырвалось. А что?
— Н-нет, ничего, — пробормотал юноша, неловко поднимаясь и оправляя промокшее платье. — Ничего.
С неожиданным упорством он взялся за котелок и вновь направился к воде. Федор пожал плечами и отвернулся к огню. Щелкнули угли, рванулись вверх вихрем искры. В их свете мелькнула над костром мятущаяся тень. Крупная летучая мышь с писком канула во тьму.
— Чтоб тебе, — пробормотал Федор и глянул в сторону куста, у которого располагался Пфеффель. Слепец почему-то лежал, а не сидел, неясно вырисовываясь в сполохах огня.
Федор торопливо поднялся и подошел к кусту. Старик лежал в той же позе, в какой и сидел — поджав ноги и обхватив плечи руками. Федор подхватил его на руки и перенес к костру. Лик старца был безмятежен. Опустив тело на траву, Федор перекрестился.
Осторожно неся котелок и глядя под ноги, из полумрака на свет вышел Клаус. Сразу все понял и замер.
— А я хотел ему… горяченького, — пробормотал он.
— Сгодится вода. Обмыть, — сказал Федор, не сводя глаз с разгладившегося лица успокоившегося слепца.
Пфеффеля обмыли, прочитали молитвы и похоронили под тем самым кустом, где услышал он последние строки, где явились за ним Смерть и ангелы.
13
Из окружного послания Папы Иоанна XXII:
«Мы извещаем вас, что против Нас и некоторых наших братий, кардиналов, возмущаются некоторые изменники, приготовляют напитки и изображения с намерением лишить Нас жизни, на которую часто покушались; но Бог Нас хранит…».
Из послания Папы Иоанна XXII к Варфоломею, Епископу Фрейнскому и Петру Тессьеру, доктору декреталий:
«До нашего сведения дошло, что Иоанн Лиможский, Яков Крабансон, Иоанн д' Адаман и многие другие из постыдного любопытства предались некромантии и другим искусствам чародейства, о которых имеют под руками книги; они употребляют магические зеркала и освященные по иному изображения; а также, вращаясь на круге, часто вызывают злых духов, с целию силою чародейства посвящать смерти людей и причинять болезни, сокращающие их жизнь. Иногда они в зеркале, круге или кольце заклинают демонов, чтобы они отвечали им на вопросы не только о прошедшем, но и будущем. Они утверждают, что они производили в этом отношении много опытов, и, не колеблясь, уверяют, что они могут сокращать, удлинять или совершенно отнимать жизнь, а также причинять различные болезни не только посредством известного напитка и пищи, но и простыми словами».
Из послания Папы Иоанна XXII Епископу Рьецскому, Петру Тессьеру и Петру Деспре:
«… отравители приготовили напиток, и хотели отравить им Нас и некоторых кардиналов; когда же им не удалось угостить Нас этим напитком, то они сделали восковые изображения под Нашими именами, и эти изображения заклинали чародейскою формулою с тем, чтобы посвятить Нас смерти, но Бог сохранил Нас, и эти три изображения в Наших руках».
Из письма кардинала Вильгельма де Година, Епископа Сабинского к инквизитору Каркассонскому:
«Папа поручает тебе произвесть следствие над теми, которые:
1) приносят жертву диаволам, поклоняются им и вполне верны им потому, что дают им в свидетельство верности написанную бумагу, или что-нибудь другое;
2) заключают с диаволами тесную дружескую связь, получают от них изображение или что-нибудь другое для заклинания диаволов, или для совершения злодеяния чрез вызов диавола;
3) злоупотребляя таинством крещения, изображения из воска или другаго вещества крестят во время вызова диавола, или злоупотребляют священной гостьей для совершения своих злодеяний.
Ты поступи с ними, как с еретиками; Папа дает тебе на это полное право».
Из записок Якова де Ворейна:
«Герман, Епископ Авксерийский, проезжая через одну деревню своего диоцеза и принявши здесь собранную для него подать, между прочим заметил, что в том месте, где он остановился, готовится большой ужин. Когда он спросил, не ожидается ли здесь общество, ему отвечали, что ужин готовится для добрых женщин, совершающих ночные путешествия. Герман понял, в чем дело и решился изобличить проказы. Спустя несколько времени он увидел множество демонов, явившихся в виде мужчин и женщин, которых в присутствии его посадили за стол. Герман спросил домашних, знают ли они этих людей; ему отвечали, что это такие-то и такие-то из соседей. Пойдите, сказал им епископ, в их дома и посмотрите, не там ли они. Пошли и увидели, что все эти люди спят у себя дома. Герман произнес заклятия на демонов и заставил их открыто сознаться, что они обманывают людей, что они сами являются в виде переносящихся на шабаш колдунов и колдуний, стараясь таким образом убедить людей в действительном существовании этих последних. Демоны повиновались и исчезли посрамленные».
Из послания Папы Григория IX к Архиепискому Майнскому, Епископу Гильденгеймскому и доктору Конраду:
«Когда они привлекают кого-нибудь в свою секту, и когда новичок в первый раз является в их сборище, он, прежде всего, видит здесь лягушку необыкновенной величины, — величиною с гуся или даже больше. Они целуют эту лягушку — одни в рот, другие в заднюю часть. Потом представляют новичка какому-то бледному изможденному человеку, до того худому, что он кажется состоящим из одних костей да кожи; новичок целует этого человека, чувствуя при этом, что тот холоден, как лед. После этого поцелуя новичком овладевает забвение о вере. После этого сообща совершается празднество, причем позади статуи, которая обыкновенно находится в месте еретических собраний, ложится какая-то черная кошка. Новичок сначала целует эту кошку, потом председателя собрания и, наконец, всех других, кто признан достойным этого. Несовершенные получают поцелуй только от одного начальника собрания; за сим новичок дает торжественный обет послушания. После этого тушатся свечи, и еретики предаются всем возможным видам разврата. Ежегодно на праздник Пасхи они принимают тело Христово, приносят его во рту домой и выбрасывают в отхожие места… Они веруют в Люцифера и говорят, что Бог низвергнул его в ад несправедливо, посредством коварной хитрости. Они верят, что Люцифер есть творец небесного мира, что некогда он победит своего противника, получит достойную его славу и доставит им вечное блаженство».
14
Людовик Гофреди вспоминал…
Мадлен выскочила из кустов, когда он подходил к своему дому. Встряхнув кудрями, она с вызовом посмотрела на него. Юноша остановился.
Оба молчали. Стало ясно, что владевшая прежде девочкой решимость постепенно отступает. Ведь раньше ей не доводилось оказываться с глазу на глаз с молодым человеком в отсутствие отца, сестер, мсье Жака.
— Я вам совсем не понравился? — негромко спросил Людовик.
Мадлен вспыхнула и потупилась. Но тут же рассердилась на себя и с досады притопнула ножкой, обутой в кожаную туфельку. Голубые крупные банты на носках обувки перепачкались зеленью и намокли, бессильно обвиснув.
— Откуда вы узнали про дождь? — требовательно спросила она.
— Так… случайно.
— Но зачем было говорить? Зачем?
— Сорвалось, — улыбаясь про себя, сказал Людовик. — Я просто поддерживал беседу.
Девочка задумалась, затем вновь встряхнула кудрями.
— Но значит… значит, вы были в поле… тогда?
— Да, — признался Людовик.
— И все видели?
— Да.
— И прятались, подсматривали и подслушивали, — негодующе перечислила Мадлен. — Как гадко!
— Я… я боялся испугать вас неожиданным появлением.
— Вы всегда подслушиваете и подсматриваете? — Не простила его девочка. — Разве мама не говорила вам, что это нехорошо?
— У меня нет мамы. Я вырос сиротой.
Взгляд Мадлен смягчился.
— Вот и у меня мамы нет, — сказала она. — Но все равно… нехорошо.
— Согласен. Прошу прощения, — мягко сказал Людовик. — Но, тем не менее, меня не перестает волновать этот… дождь… Вы доверяете мсье Жаку? — внезапно спросил он. — Если до ушей инквизиции дойдет слух о ваших… проказах, вам несдобровать. Вы понимаете?
Девочка дерзко передернула плечиками. Ее огромные голубые глаза обратились к небу, столь же голубому, безоблачному. Без устали звенел жаворонок.
— Я исповедовалась отцу Франсуа. Он не стал бранить меня. Правда, сказал, чтобы я никогда больше не занималась этим. Но что плохого в дожде? Все страдают от засухи. Разве Господу угоден голод? Разве радуется Он несчастьям ни в чем не повинных крестьян? Да, они глупы, грубы, невежественны, пьют и колотят своих жен, — она устремила взгляд на юношу, и детей… Но… Они заблуждаются, и Господь о том ведает. И знает, что они не заслуживают кары, и уж тем более — их семьи. Немножко дождя, — она пожала плечами, — капельку… кому это помешает?
Людовик слушал и любовался ею.
— Отец же Франсуа, — понизила она голос до шепота, — уговаривает отца готовить меня… в монастырь!
— Почему в монастырь? — обеспокоенно спросил Людовик. — И откуда вам это известно? Его сиятельство рассказывал?
— Нет, — замялась Мадлен. — Узнала… Так, случайно.
— Подслушивали? — заговорщически подмигнул Людовик. — А ведь это нехорошо. Разве мама вас не учила? Но все же, почему отец Франсуа хочет отправить вас в монастырь? Должно быть, вы большая шалунья?
— Ах, оставьте, — рассердилась Мадлен. — И вы разговариваете со мной, как отец и сестры… Как с малышкой. А ведь мне уже десять лет. Десять!
— Я вовсе не хотел вас обидеть, — торопливо заверил юноша. — И мне действительно очень интересно узнать причину решения отца Франсуа. Неспроста же он заговорил о монастыре…
— Хорошо, я скажу, если только вы поклянетесь никому не рассказывать!
— Клянусь! — торжественно заверил Людовик.
— Ну, так вот, — девочка, оглянувшись, подошла почти вплотную. — Отец Франсуа сначала долго разговаривал с папой о маме. Я не все поняла… Вернее, плохо было слышно, — добавила она быстро, слегка покраснев. — Но он осуждал за что-то, а папа наоборот, защищал. Но защищал не так чтобы очень уж… отчаянно. Он у нас человек… мягкий…
— Я заметил, — не удержался Людовик. — Его сиятельство мне очень понравился именно своей мягкостью, — тут же поправился он.
Девочка подозрительно посмотрела на него, но затем продолжила:
— Затем они заговорили обо мне. И отец Франсуа все твердил, что я уж очень похожа на маму. Будто папа не знает об этом! А потом он сказал, отец Франсуа, что таким людям — место в монастыре. Он не сердился, не спорил с папой, просто… стоял на своем. А папа вскочил с кресла и начал бегать вокруг стола. И сначала молчал… Нет, — неожиданно прыснула она, — сначала он смахнул на пол бокал… Нечаянно… От этого рассердился и стал возражать. Что, мол, случаи бывают разные. И что необязательно каждый раз всему повторяться… Он наговорил еще кучу непонятных слов. Отец Франсуа отвечал спокойно, но тоже, не очень ясно. Я поняла лишь одно: таким место в монастыре. Заладил одно и то же! Ну, каким таким? Словно я чудовище, которое надобно посадить в клетку! — Мадлен еще раз топнула ножкой. — Ерунда какая-то!
— Так, так, — задумчиво проговорил Людовик. — А куда вы сейчас направлялись, позвольте вас спросить?
Девочка смутилась.
— Просто… прогуляться.
— В одиночестве? Неужели с тех пор, как я уехал отсюда, нравы местных барышень так сильно изменились? И им дозволяется гулять без сопровождающих?
— Ну, — девочка махнула рукой, — дядя Жак такой… нудный. Он добрый и заботливый. Но ничего мне не дозволяет, — добавила она со вздохом. — А так интересно гулять, где вздумается… Думать о разном…
— О чем же?
— О разном, — не стала уточнять Мадлен. — О многом разном. вот раньше, когда мы гуляли с мамой…, - она осеклась, словно затронув запретную тему.
— Тогда, может быть, мне будет дозволено проводить вас? — предложил Людовик.
— О нет! — воскликнула Мадлен. — Это все равно нехорошо, с незнакомым… Как и одной.
— Мы, в общем-то, знакомы, — напомнил Людовик.
— Нет, — торопливо сказала она. И извиняющимся тоном добавила: — В другой раз, хорошо? А теперь я, пожалуй, побегу домой. Наверное, уже хватились.
И она быстренько зашагала в сторону графского поместья. Людовик проводил ее хрупкую фигурку, мелькающую среди высокой травы и кустарника задумчивым взглядом. У самых ворот девочка вдруг обернулась и помахала рукой, будто зная, что он стоит и смотрит вслед…
После ужина он взял с собою наверх запас свечей, расставив их по всему дядиному кабинету. Но зажег лишь ту пару, что в подсвечниках стояли по краям стола. Между ними, на вчерашней странице раскрыл он ту же инкунабулу.
— Испытай силу слов! — пробормотал он, разглядывая по-прежнему недоступные пониманию символы, знаки и буквы.
За дверью послышался скрип ступеней, причудливые голоса. Людовик захлопнул книгу, но тут же устыдился собственного поступка.
— Кого мне бояться? — с вызовом, но все же негромко произнес он.
— Мой господин, — пропел за дверью голос Марты, — к вам отец Франсуа.
Людовик подошел к двери и широко распахнул ее.
— Да, да, прошу вас, святой отец, — проговорил он в полумрак лестницы.
Марта отступила в сторону, пропуская высокую темную фигуру. Людовик склонил голову, и вошедший благословил юношу.
— Я узнал о вашем приезде от его сиятельства, — звучным баритоном произнес священник.
Людовик поднял взор и увидел перед собой очень молодо выглядевшего мужчину.
— И счел своим долгом посетить ваш дом, — продолжил отец Франсуа, оглядывая кабинет зорким взглядом, не упускающим и мелочей.
— Добро пожаловать в мое скромное жилище, прошу садиться, настороженно сказал Людовик, чувствуя неясную опасность, исходящую от аскетической фигуры гостя. — Собственно, я завтра собирался отправиться в храм…
— Как странно, — прервал его отец Франсуа, не принимая приглашения сесть. — Прошло столько лет, а словно вчера я вошел в эту комнату, столь же слабо освещенную. И на столе лежала та же книга. И ваш несчастный дядюшка, — он пожевал тонкими губами, — так же заверял меня, что вот-вот посетит дом Божий. Но, увы…
Святой отец, перебирая бусинки четок, что-то зашептал.
— Вы часто встречались с дядюшкой? — спросил Людовик, разрушая благочестивое настроение минуты.
— Корю себя за то, что реже, чем следовало, судя по последствиям, скорбно констатировал священник.
— На мой взгляд, — негромко проговорил Людовик, — дядюшка не заслуживал таких последствий.
— Не нам судить, сын мой, — наставительно проговорил отец Франсуа. Как сказано в «Послании Павла к Римлянам»: «Всякая душа да будет покорна высшим властям». А ваш дядюшка, упокой Господи его душу, — перекрестился он, — был гордецом, дерзнувшим судить о мироустройстве по-своему. За что и был предан очистительному огню! Как любой нераскаявшийся сектант и еретик! — Решительно объявил он, обжигая Людовика взглядом фанатика. — И возблагодарим Господа, надоумившего его задолго до бесславной кончины перевести купчую на дом на ваше имя, иначе…
— Интересно, кто же написал на него донос, — сказал Людовик, похлопывая по кожаному переплету книги.
— Не донос, а денунциацию, — поднял палец отец Франсуа. — Так будет правильнее. И о том, что я собираюсь послать сию денунциацию, ваш дядюшка был своевременно уведомлен. И не раз. Не внял!
Людовик отвернулся к окну, дабы скрыть от взора священника цвет ненависти, свинцовой тяжестью плеснувшей изнутри в лицо. За окном до горизонта тянулось поле, безмятежно колышущее готовыми осыпаться тяжелыми колосьями. Средь волнующейся яркой желтизны двигались две фигурки. Одна из них — совсем маленькая.
Людовик повернулся к священнику и заговорил с внезапной яростью:
— Но апостол Павел определенно говорил: «Надо допускать секты». А в Евангелии указано: «Пусть сорная трава растет до жатвы»!
— Осторожнее, юноша, — заиграл желваками на впалых щеках отец Франсуа. — Не стоит ступать на скользкую стезю, по которой уже не удалось пройти вашему предшественнику. И никому не удастся, — грозно предостерег он, вперяя в собеседника длинный указующий перст.
Глядя на него, Людовик вдруг вспомнил о старом неаполитанском предрассудке, о котором некогда рассказывала Марта: «Если у человека глубоко сидящие глаза, это говорит о том, что его голова переполнена самыми удивительными фантазиями». Беспричинно стало весело и захотелось узнать о фантазиях этой головы. А фигура с выставленным пальцем показалась чрезвычайно комичной.
— Простите меня, святой отец, — проговорил Людовик добродушно. — Я не имел права разговаривать в таком тоне с гостем.
— В лице которого ваш дом посетила сама Церковь, — подхватил священник.
Но и он смягчился, видя перед собой раскаявшегося молодого человека.
— Вы молоды, — спокойно и веско заговорил он. — А молодость имеет право на ошибки. Лишь бы они не переросли в неисправимые заблуждения. Но в том и состоит задача пастыря — вовремя вернуть в стадо заблудшую отцу. И потому, прежде всего я посоветовал бы вам избавиться от книг вашего дядюшки. Среди них — мало достойных внимания истинного христианина.
— Я как раз и занимался разбором библиотеки, — сказал Людовик, в глазах которого запрыгали озорные огоньки. — И должен признаться, содержание большинства из них представляют для меня полную абракадабру. Отчего же должен я их бояться?
— Ну, большой опасности они не несут. К тому же самые богомерзкие из них были преданы огню. И все же…
— Взять хотя бы эту, — Людовик вновь раскрыл инкунабулу на известной странице. — Сказано: «Испытай силу слов». Но какая сила может скрываться в этакой бессмыслице?
— Вы почти буквально повторяете одно из наиболее разумных высказываний вашего дядюшки. А видит Бог, я никогда не отказывал ему в уме! И ваш заблудший родственник всегда подчеркивал, что если не знаешь точно, к чему стремишься, то не помогут ни книги, ни советы мудрецов. Именно заблуждение и невежество, а также нежелание прислушаться к слову Божьему и толкают несчастных на поступки неразумные.
— Благодарю вас, святой отец. Я подумаю над вашими словами, совершенно искренне сказал Людовик. — И самым тщательным образом разберусь с библиотекой. И уж постараюсь отличить «истины веры» от «ученых мнений».
16
— Надоела эта бодяга! — возмутился Федор. — Скукота, зубы ломит.
— Понимаю, соскучился по приключениям, — сказал я. — Щас сделаем!
— Нет, — покачал он головой. — Недостоверные мои приключения. Да и я какой-то…
— Ходульный, — сочувственно подсказал Торопцев.
— Во-во, — нехотя согласился Федор.
— Ну, тогда давай продолжим историю Людовика и Мадлен, — как можно мягче сказал я.
Но и это предложение не вызвало у Федора прилива энтузиазма.
— Не хочу, — капризно сказал он. — Не хочу трагического финала. И так уже все понятно.
— Ну, знаешь, — уже не выдержал я. — Хочу, не хочу… Как загоню сейчас… Куда Макар телят не гонял…
— Какой Макар? — заинтересовался Федор.
— Брось, — выступил Саша в роли миротворца. — Давай лучше еще возьмем, посидим, поболтаем…
Но в зале вдруг погас свет. Тут же включился. Буфетчицы давали знак лавка закрывается.
— И тут невезуха, — угрюмо посетовал Федор.
— Что ж, по домам. Работать, — деловито сказал Саша.
— А тебя куда? — тоном таксиста поинтересовался я у Федора.
— К черту. К Старому, — спокойно сказал Федор. — С ним интереснее. Расскажу ему, что ты тут наплел о демонах, — с нехорошей усмешкой добавил он. — То-то повеселится…
Эпилог
Саша Торопцев действительно снабдил меня соответствующей литературой. Но и по прочтении ее не смог я решить проблем языка и достоверности происходящего. Сплошной произвол получался!
Ну, ее, эту средневековую Европу… Пусть Саша описывает.
А Федора, ворчащего по поводу моей непоследовательности, я в какое-нибудь другое место отправлю. И пусть он там окажется так же внезапно, как авра леватиция!
Примечания
1
АВРА ЛЕВАТИЦИЯ (лат.) — внезапный, непонятно откуда пролившийся дождь при совершенно ясном небе.
(обратно)
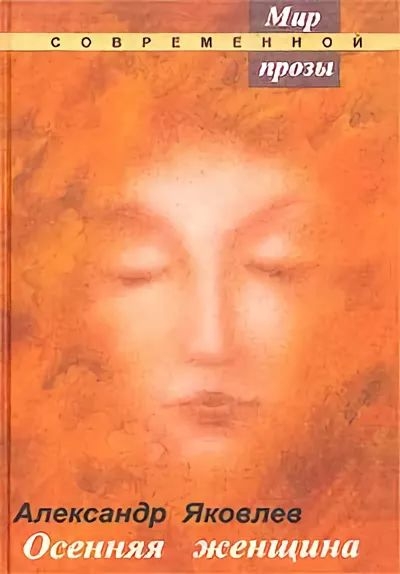

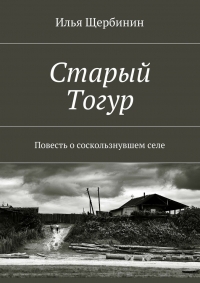


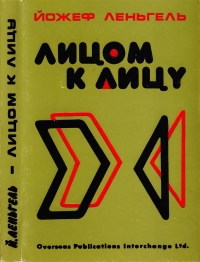
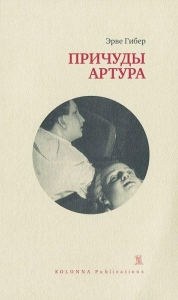


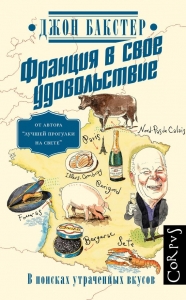
Комментарии к книге «Осенняя женщина», Александр Алексеевич Яковлев
Всего 0 комментариев