Александр Яковлев ГОЛОСА НАД РЕКОЙ
1. ПОДАРКИ… Конец ноября 1983 года…
Старшая дочь вернулась из Москвы, где она пробыла всю осень на курсах усовершенствования.
И вот она дома, в своем сибирском городе, и сегодня вечером все три ее родные семьи соберутся вместе на квартире родителей, и соберутся с одной, очень приятной целью: получить привезенные ею покупки и подарки.
Было решено: всех московских впечатлений и встреч, литературных и театральных новостей, вообще всего такого сейчас не касаться, а если уж начать об этом, так только в самом конце, за чаем, если, конечно, не сорвешься, не заговоришь вдруг, захлебываясь, сразу и обо всем, сбиваясь, перебивая себя, как это обычно и бывало с каждым, кто бы откуда ни возвращался, хотя всегда вот так же планировалось и распределялось: собраться всем вместе еще раз, специально — слушать. Ну а теперь, когда я так долго прожила в Москве — целых три месяца! — столько увидела, узнала удержись!..
Ведь я и «Мастера и Маргариту» посмотрела! Хоть весь спектакль простояла на ногах, но посмотрела! И по Цветаевским местам ездила! И на вечере Юнны Мориц была, а вечер вел Окуджава! И тут же исполняли свои песни Никитины!
Было забавно, что машину друзей, в которой я с ними ехала на этот вечер, заправляли у бензоколонки вслед за Окуджавой, а бензоколонка была прямо у дома, где я в Москве родилась, то есть прямо у монастыря, во 2-м Зачатьевском, который теперь как-то переименовали, но я забыла как. А монастырь…
Он здесь был в старые времена, но с той поры все так и называли это место монастырем.
От него остались маленькие домики под липами, теперь жилые — для обычных людей, и высокая стена, окружающая бывшую его территорию, в центре которой стояла сейчас большая кирпичная школа, в которой после войны жили мои родители, тогда студенты, мамина сестра с мужем и бабушка, преподававшая в этой школе, за что и получила в ней крохотную комнатку в директорской квартире на первом этаже.
В ней все и жили. В ней родилась и я, то есть сюда меня принесли через 7 дней из роддома, и я стала шестой в этой комнатенке. (За нашей стеной в этой же квартире тоже жила учительница — одна в огромной комнате.)
Я жила в деревянном чемодане отца, с которым он вернулся с войны. Чемодан стоял на табуретке, а крышка его была привязана к вбитому в стену гвоздю над ним.
Конечно, пока мы ожидали заправки, я на секунду сбегала к нашим дверям и окнам.
Потом мы ехали по Метростроевской и дальше — все время, как специально! — за Окуджавой, и потом уже оказалось, что Окуджава и мы ехали вообще в одно и то же место — на вечер Юнны Мориц!
А три родные ее семьи, это семья родителей — отец и мать, ее собственная — она, муж и 9-летний сын и семья младшей сестры, живущая с родителями — сестра с мужем и двухнедельная дочка, родившаяся как раз в отсутствии тетки, чего та не знала и была сейчас прямо потрясена. (Слава Богу, закупила все для ребенка!)
Вообще за три эти месяца произошло многое. Мать оставила, наконец, работу, перестала вести и «Свечу» — клуб медсестер, который она организовала и которым руководила 10 лет, родилась племянница — дело в том, что сестра родила преждевременно, потому и была такая новость, ну и самое главное — тяжело болел отец.
И хотя старшая дочь часто звонила из Москвы, о болезни отца ей не сказали (он заболел недели через две после ее отъезда).
Они вообще скрывали друг от друга всякие неприятности, если, конечно, это удавалось и если в сообщении их в данный момент не было какой-то особой нужды — щадили друг друга. О том, что сестра родила, сообщить просто не успели и теперь были рады: пусть хоть одна приятная новость будет, хотя, конечно, не очень-то приятно, что ребенок недоношен, и все же — все уже было позади, — все волнения, ожидания, страхи, да и девочка была славная.
Отец перенес инфаркт миокарда.
18 дней он пролежал дома, месяц — в больнице, а 24 дня провел в кардиосанатории.
Сейчас он еще не работал — нездоров был отец…
У него не только с сердцем было…
Сердце же у него болело давно, и давно надо было бросить курить, к тому же и гипертония была, хотя и не такая, чтобы, например, 250 на 150 и постоянно, как бывает у людей, но была, и были плохие сосуды на ногах пульс на них давно слабо прощупывался, часто в ходьбе приходилось останавливаться, а ноги мерзли всегда.
Впрочем, он считался практически здоровым.
Он был врачом.
Больные его любили, хотя он бывал иной раз грубоват, но они не чувствовали это и любили его, и чувствовали одну лишь свойскость.
А на обходах он хохмил.
А уж это ценилось!!
Это было счетово!
Ну а главное — оперировал он здорово.
Жена все собиралась посмотреть, как он оперирует, и все времени не было (Она тоже была врачом, но работали они в разных больницах). «Смотри, говорил он шутя, — просмотришь!»
— Успею!
Некоторые его больные, чаще всего — старушки, любили дарить ему шерстяные носки, ими самолично связанные, хотя, конечно, они понятия не имели, что у их доктора худые ноги, но чем, собственно, могли отблагодарить старушки своего спасителя — немолодого уже, седого доктора? Конечно, связать носки!
Были, но это уже от женщин помоложе — с капроновой пяткой, с особой, какой-то фигурной вязкой, но что было самым замечательным — была пара носков из собачьей шерсти.
Если быть откровенным, он давно мечтал о носках из собачьей шерсти, но…
просить людей не станешь, а жена и дочери не вязали.
Жена много работала как врач; терапевтическое отделение, которым она заведовала, было лучшим в области, хотя до ее прихода стояло на грани закрытия. Теперь его сравнивали с клиникой.
Она безумно любила свое дело, и все, кто был теперь рядом с ней, прежние работники отделения, тоже безумно любили его и любили искренне, хотя раньше подобных чувств не испытывали.
Чего только она ни придумывала!..
Всякие занятия, конференции, диспуты, вечера…
Все вокруг нее горело, было необычно, ярко, свежо.
И внутри отделения, деревянного двухэтажного барака на краю города рядом с баней и барахолкой, было необычно: кругом висели прекрасные картины, подаренные художниками их города, было много хороших книг на открытых полках, никуда отсюда насовсем не исчезавших, родственники и посетители приходили к больным не в определенные часы, как это было принято в больницах, а в любое, удобное для них время, никому, кстати, этим не мешая.
У каждой койки был как бы свой маленький пульт: кнопка для вызова сестры, кнопка для включения ночного светильника, вилка радионаушников и отводка кислорода.
В комнате отдыха был целый цветник, большой аквариум с красивыми рыбками, уютные кресла с журнальными столиками.
И дом свой она любила, у нее там тоже было хорошо. Правда, муж и дочери помогали, а раньше и мама.
У нее давно уже, лет пятнадцать, была бессонница, и она принимала снотворные.
Часа в два ночи, перед сном, она проглатывала таблетку и брала книгу, а когда действие снотворного начиналось — немного ожидала, чтобы оно усилилось, тем более, что ведь нельзя же было взять вот так и бросить книгу! Но… она увлекалась: нужный момент обычно пропускался… Спохватывалась она, когда снотворное давало такой свой максимум, что тут же, вслед за ним, лекарство прекращало действие, как бы перегорало: сонливость исчезала, голова становилась ясной, и ничего больше не оставалось, как снова читать…
Утром очень хотелось спать, — она выпивала ампулу кофеина, принимала холодный душ и летела на работу. В общем, не до вязанья ей было.
В 12 часов дня она сама проводила с медперсоналом отделения и нетяжелыми больными гигиеническую гимнастику, причем у всех были для этого спортивные костюмы или больничные мужские пижамы.
Она увлеклась и йогой, дочерью великого Патанджали и даже Сиршасану освоила, стойку на голове. Между прочим, многие пишут здесь слово «стойка» с большой буквы. Она считала: правильно делают. Теперь совсем недолгого сна ей хватало — так действовала йога! Во всяком случае она была в этом убеждена.
Увлечение йогой пришло к ней после того, как она прочла о ней у Патанджали — то ли в какой-то газете, то ли в журнале (в то время йога была любимой темой прессы!)
Патанджали, наблюдая за одной золотой рыбкой, пытающейся из одной реки (Ганга)
перебраться в другую (Ямуну), видел, как бурное течение отбрасывало рыбку назад, не давая ей войти в соседнюю реку.
Силы небеспредельны: рыбка расслабилась, отдаваясь воле волн, и — о, чудо! — поток сам принял ее.
Тогда мудрец сказал: «Йога — это искусство учиться плавать с радостью во встречных течениях жизни».
Эти-то слова и потрясли ее. Они стали как бы ее девизом, потому что тут были и РАДОСТЬ ОТ ДЕЙСТВИЯ, и, главное, ВСТРЕЧНЫЕ ТЕЧЕНИЯ ЖИЗНИ! Все совпадало и подходило!
…Сиршасана… Я была влюблена в нее!
Сиршасана, как и Сарвангасана и Пшимотасана — самые важные из асан, а всех их 84, но Сиршасана из них самая важная. Вообще-то всех их было не 84, а 8 миллионов 400 тысяч, асан этих, поз, которые может принять тело человека, но даже и среди них Сиршасана самая важная — царь-поза! настолько благотворно влияет она на человека! Сиршасана делается так.
У стены на пол стелится вчетверо сложенное одеяло, перед которым ты встаешь на колени, сплетя пальцы рук тыльной стороной вниз. Опершись об пол локтями, опускаешь голову затылком в сплетенные пальцы и, прижимая колени к груди, начинаешь выпрямлять тело, поднимая его и ноги до тех пор, пока они не примут вертикального положения и пока носки не коснутся стены. Затем ты отводишь их от стены и остаешься свободным.
Дышишь все это время только через нос — глубоко и спокойно, хотя сначала это трудно, но как бы трудно ни было, делаешь только так.
О, как мне было трудно не только сначала и не только дышать! Как, сопротивляясь, скрипели и трещали мои позвонки! Как порою мне было совсем плохо, но… я знала:
йога — тяжелый труд: 99 процентов — тренировок и лишь один — всего один! — вдохновения!.. (Правда, здесь у меня был секрет, но о нем — чуть позже!)
Каждая асана требовала своего совершенства. Оно достигалось, когда всякое усилие прекращалось и ты оставался абсолютно недвижимым в любой из поз.
(Кстати, некоторые произносят не Сиршасана, а Ширшасана, но мне «ширш» не нравится.)
В инструкции перечислялись болезни и состояния, которые излечивались при овладении Сиршасаной. Так, говорилось там, кроме улучшения питания мозга и всей нервной системы с повышением ее тонуса, увеличивался рост тела и очищалась кровь, излечивались геморрой, диабет, болезни легких, селезенки, яичников, матки… Повышалась потенция, исчезало бесплодие, улучшалась память…
Вот так.
Муж смеялся над этим перечнем, а я не обращала на его смех внимания.
Я была влюблена в Сиршасану, в ее красоту и строгость, в немыслимый свой, нечеловеческий труд по овладению ею, казалось, абсолютно невозможный для меня.
Но я добилась! Я стояла на голове неподвижно и без всяких усилий, — моя Сиршасана была вдохновением, 1000-ю процентами его (вот мой секрет!), поэтому проценты труда уже не имели здесь особого значения.
Я так насобачилась, что «взлетала» на голову без всякой стены — просто вставала сразу, и все. Сразу выходила в свечу, в вертикаль. Я дышала глубоко и свободно только через нос, и мне не было трудно.
Я делала Сиршасану не только запросто, но красиво. Я чувствовала это, и так говорили все. Я была как струна. И весь мир был прекрасен, хоть я и стояла вверх ногами.
Я добилась совершенства не через несколько месяцев, как требовала инструкция, а через 2 недели, что, возможно, было поспешно, то есть действительно было поспешно, но я поняла это поздно…
И я продолжала вставать на голову, как только уставала и чувствовала, что надо подтонизироваться…
Но вдруг у меня возникли полупараличи рук и ног, страшные головокружения и много еще чего.
Я перенесла две серьезные операции на позвоночнике, три года была неподвижна и страдала от таких сильных, таких необычных, жгучих болей в руках, описать которые, хоть как-то объяснить их словами, не берусь…
Боли не поддавались никакому лечению. Назывались они каузальгией.
Заведующий нейрохирургической кафедрой в Новокузнецке, в прошлом фронтовой хирург, принял ее в свою клинику для повторной, после Москвы, операции, ставшей спасительной, и разрешил мужу ухаживать за ней. Потом профессор как-то сказал ему: «Такого в мирное время я не видал…»
Потому что каузальгия была, как правило, военной травмой и — тягчайшей, возникающей при огнестрельных ранениях крупных нервов с неполным разрывом их стволов.
У нее же был поражен не просто ствол одного из них — САМ спинной мозг «центральный нерв», как говорили в народе. И тоже — с неполным разрывом…
Кстати, когда она кричала от диких болей в руках после первой операции, в Москве, сестры говорили: «Милая ты наша! Хорошо, что кричишь! Значит, нервы тебе не перерезали!»
Она навсегда, с 44 лет, осталась больной, инвалидом 1-й группы, потеряв почти все: здоровье, любимое дело…
Но все же, после операции в Новокузнецке, она снова вышла на работу, но не в свое отделение, а на другую базу — консультантом. Кроме терапевтических больных, она теперь консультировала еще и больных со своим заболеванием, тщательно изучив его, тем более, что сама была жертвой незнания, в частности, и своего. Сейчас она могла помочь многим, подобным себе, многих проконсультировать у своего новокузнецкого нейрохирурга, а при необходимости — и госпитализировать у него.
Правда, «подобных себе» буквально она не встречала, она была здесь, так сказать, уникальной, но само заболевание было широко распространено остеохондроз.
Она продолжала проводить больным и сеансы гипноза, которые проводила давно, когда была еще здоровой и заведовала отделением, считая, что только лекарствами не помочь, что было, конечно, невероятной банальностью, но… она исповедовала именно ее…
На работу она шла заплетающимися ногами, с невероятным трудом, с посторонней помощью, чаще — старшей дочери, но все же шла, вначале ни за что не соглашаясь, чтобы муж возил ее на их машине — надеялась, что именно так, не бросая ходьбы, постепенно снова научится ей. Вскоре, правда, она поняла: надежды нет.
В больнице, где она теперь работала, она организовала особый клуб медсестер — «Свеча».
СВЕЧА.
Нет, я не стану писать о «Свече», это невозможно в нескольких словах, на нескольких страницах: «Свеча» — целая эпоха. Она требует своей книги отдельной. Может, потом я и напишу ее. Когда-нибудь. Соберусь… Я давно собираюсь…
…Не соберусь, не напишу… Не будет времени…
Поэтому все же сейчас — несколько слов, вернее, одно письмо. Одного моего друга.
О «Свече».
…«Да, я очень хорошо понимаю: если быть прагматиком и стоять на вполне материалистических позициях, то концов не сведешь. Ну, перешли медсестры на 2–3 часа в необычное для них состояние, таких высот, таких истин коснулись, а потом «окошко» закрылось — занятие закончилось, — и все осталось на своих местах.
Правда, в рамках даже «материализма и прагматизма» не так все просто. Наверное, «следовой эффект» все-таки есть — хоть он и не такой мощный, как хотелось бы. И от каждого «затронутого» расходятся круги. И свет от «Свечи» благодаря публикациям распространяется далеко. Люди видят, что такое возможно, и кто знает, сколько подобий породит «Свеча», может, уже породила. Вы о них скорее всего не узнаете, так как эхо возникает по причудливым, странным, не линейным законам. Но возникнет, в это надо верить.
Есть, однако, и совершенно иное измерение смысла Вашей духовной работы. И не только Вашей — всякой духовной, моей в том числе. Я ведь тоже мучаюсь подобными сомнениями — а зачем, в сущности?
Ну, послушают меня раз в месяц 30–40 человек, «развлекутся» — разве это оправдывает те эмоциональные и просто даже физические затраты, которые требуют мои вечера поэзии?
Нет, не оправдывает — если опять-таки быть «материалистом». Но за последние годы я далеко ушел от школьных (базаровских) представлений.
Что говорить — тема трудная для вербализации. Поэтому обращусь за помощью к Рильке:
«Кто нам сказал, что все исчезает?
Птица, которую ты ранил — не остается ли полет? И, может быть, стебли объятий переживают нас, свою почву».
Это не метафора — озарение, отблеск сокровенного знания. «Стебли объятий переживают нас» — этим ли не дано определения смысла того, чем мы заняты, когда витийствуем — иной раз кажется: в пустыне. Но нет, не в пустыне все-таки! Однако даже если бы в пустыне, все равно смысл есть. «О, были б помыслы чисты, а остальное все приложится…» — еще одно озарение другого автора. Чувствуете, это о том же? Приложится что — успех? Нет, конечно. СМЫСЛ.
Ибо есть некая субстанция — ноосфера ли по Вернадскому, или «тонкий мир»
восточной философии, в которой важны именно помыслы, активность духа, а не атрибуты какой бы то ни было респектабельности… «И окунаться в неизвестность, и прятать в ней свои шаги…» — да, много еще чего можно «накидать» в том же роде. Забавно, что в этом хрестоматийном стихотворении поставлена, в сущности, задача совершенно мистическая: «привлечь к себе любовь пространства» — не людей, не общества, тем более — не вышестоящие организации (сравните: «О работе стихов до Политбюро чтоб делал доклады Сталин»). Критики благополучно не замечают, ЧТО сказал Пастернак — и слава Богу…
А «рукописи не горят» — как понимать эту фразу? И она о том же, и это опять-таки не метафора — ЗНАНИЕ.
Знание о мире, в котором неуничтожимы полет, помыслы, шаги в неизвестность…»
…СВЕЧА…
Так совпало, что примерно в то время, когда зажглась «Свеча», она начала писать.
Так что жила она и больной очень интенсивно и даже приспособилась мыть полы на швабре в огромной их квартире, и делала это несмотря на дикий протест — истерики прямо! — всей семьи, пока все не убедились, что мыть полы она будет, и что это не упрямство…
Она всегда жалела, что вот ведь — не будет ВТОРОЙ жизни. Но не в смысле повторения своей же и не так, как, например, говорил в «Калине красной» Егор Прокудин: одну для одного, другую — для другого, третью (даже третья!..)… — нет, она хотела иметь ДВЕ СВОИ ЖЕ ОБЫЧНЫЕ ЖИЗНИ, только именно В ОДНО ВРЕМЯ, ВМЕСТЕ, — ДВЕ СРАЗУ, — чтобы не взвешивать, не рассчитывать каждую секунду, не биться, загнанной, о все эти субботы и пятницы, не втискиваться в узкие их берега…
Ей хотелось расширения Времени, чтобы непременно ИСПОЛНИТЬ задуманное и завещанное — СВОЕ.
Но поскольку такого не отпускалось, она сама жила двумя этими жизнями и потому всегда была… ну как бы это сказать?«…Я шагаю по канату, что натянут туго-туго между смертью и обычной нашей жизнью дорогой…» — было у нее одно такое стихотворение, собственное. Вот, значит, как-то так — НА канате… НА струне… КАК струна… между — между… Действительно, как объяснить; что такое ДВЕ ЖИЗНИ СРАЗУ, КОЛИ ОНИ НЕ ДАНЫ ТЕБЕ БОГОМ, А ТЫ ВСЕ ЖЕ ЖИВЕШЬ ИМИ, ВТИСКИВАЕШЬ, ВМЕЩАЕШЬ ИХ В СВОЮ ОДНУ?
А у него была просто — одна жизнь.
Он давно все для себя делал сам, и у него все очень хорошо получалось: стирал, гладил, штопал. Но… это вовсе не потому, что жена и дочери ничего для него не делали, нет. Все делали, но он как-то потихоньку отвел их от всего своего…
Почему? Трудно было сказать…
Он и для дома много делал и все умел. Он, например, очень хорошо готовил, особенно хорошо у него получалось жаркое, хотя он никаких специй, как жена и дочери, туда не клал, и еще он каким-то особым способом обжаривал кур и делал бесподобное блюдо из куриных потрохов.
А, может, ему все же нужна была другая жена? Ведь не каждый может жить рядом с человеком, у которого две жизни сразу и который вот так шагает по канату! Но кто же мог это знать? Никто. Впрочем, как же? Он сам!
А САМ ОН ТАК НЕ СЧИТАЛ.
…Да, так вот — носки…
Тут вышло такое, что даже им, доктором, оказалось непредсказуемо: ноги мерзли и в носках из собачьей шерсти.
Вначале он решил, что из-за новых этих пушистых носков ногам в сапогах просто тесно. И он решил растянуть сапоги, сделать их свободней или даже заказать новые, и идти на примерку именно в этих носках, но ничего делать не стал, так как оказалось, что ноги мерзли даже в теплых просторных унтах, надетых на эти носки.
Но все равно он очень любил их.
…Да, надо было давно бросить курить. А тут вышло, что он действительно бросил и целых два месяца не курил, и уже знал — бросил навсегда, — до того он много раз бросал, но начинал снова, а тут точно бросил, а все равно — инфаркт…
Был он нетипичным, особенно начало, да и другие болезни наслаивались, путали, так что поставить сразу точный диагноз было трудно, но подозрение на инфаркт было сразу, хотя больной это игнорировал.
Вначале никаких болей в сердце не было, а была какая-то слабость, одышка-не одышка, но странное какое-то дыхание временами. Один раз после приема валидола дыхание сделалось легким, и тогда все сомнения исчезли, и тут же сделали кардиограмму. О ней, конечно, разговор шел все эти дни, но больной слышать о ней не хотел и запретил вызывать кардиобригаду… И вот — ишемия (недостаточность кровообращения)… Инфаркт это мелкоочаговый или рефлекторная какая-то ишемия — сказать было трудно.
Нужна была ЭКГ-динамика, анализы всякие, то есть лучше всего было лечь в стационар, вернее, НУЖНО БЫЛО, но в стационар он не хотел и не лег, а уговаривать было бесполезно.
Из 18 дней, которые он пролежал дома, были у него такие явления.
Боли в сердце, но какие-то чудные: болело в глубине левого подреберья, — то ли действительно сердце так болело, с такой отдачей, то ли не сердце, а болел желудок, что у него бывало, то вдруг тошнило и странно как-то ныла спина… Его снова уговаривали лечь в стационар, и он снова отказался. Кардиограммы, правда, стали почти нормальными. И тут, именно сейчас приступ печеночной колики. Жена боялась, что это абдоминальная (брюшная) форма грудной жабы, но кардиограмма оказалась вообще нормальной, приступ же быстро снялся инъекцией но-шпы, а на утро появилась небольшая желтушность склер, то есть, действительно, это была печеночная колика, а не сердце. К счастью, она на этот раз больше не повторилась.
Через 18 дней ему вообще стало лучше — все болезненные явления почти прошли, кардиограммы оставались нормальными. Ему разрешили ходить, постепенно осваивать лестницу.
И вдруг — мерцание!* Тахиформа! Свыше 200 ударов в минуту! Ни с того, ни с сего!
Сколько раз жена слышала этот сердечный бред** и знала, что делать и делала, и снимала мерцание, а тут растерялась страшно. Короче — теперь уже госпитализировали без всяких разговоров, и — на носилках. Несли соседи.
Вначале все набежали в прихожую, и как жена ни пыталась создать нормальную психологическую обстановку — нервно было ужасно… Открытые двери… Шепот…
Мерцание после госпитализации сразу же прекратилось — внезапно, как и началось — само по себе, без всякого лечения, но на 2-й день после него на кардиограмме был виден настоящий инфаркт.
В первую ночь жена оставалась с ним в больнице. Тревожно было и непривычно, что в больнице лежит не она, а он, и что не он сидит возле нее ночь (ночь!.. — сколько ночей, Господи…), а она…
Впрочем, спал он спокойно и крепко, сердечный ритм оставался правильным — жена все время тихонько проверяла по пульсу, а один раз, не утерпев, приложила к сердцу фонендоскоп — послушать. Все было в порядке: сердце работало в ритме вальса. Эти удивительные слова она как-то прочла в одном рассказе Лилианы Розановой и записала в особый свой алфавитный блокнот на букву «С», — по первой букве фразы.
У самой Лилианы, дочери известного писателя моего детства, автора «Приключения Травки», было больное сердце, из-за чего она умерла совсем молодой, оставив всего одну книгу, но с такими горько-радостными стихами и рассказами, с такими пронзительными, что и одной такой вполне хватило бы и для долгой жизни.
Название рассказа Лилианы «Процент голубого неба» тоже было вписано в заветный блокнот — на букву «П». Вместо слова «процент» стоял его знак — %.
Несмотря на то, что все сейчас было хорошо, жена металась душой, да и так металась: спать не могла, лежать не могла, то и дело подходила к койке мужа, смотрела к а к спит, слушала к а к дышит…
Любую кровать он называл «койкой». И еще говорил: «заправить»… «Заправил койку», «надо заправить койку»… Так вот осталось — с войны, с армии…
Тоны его сердца всегда были приглушены и не часты, — очевидно, у него была врожденная брадикардия: 50–60 ударов в минуту. Но когда во время бессонницы, уже не зная, что делать, куда деваться, я ложилась иногда на его руку, никогда этим его не пробуждая, всегда в надежде: «сейчас усну», всегда несбыточной, сердце, через руку, звучало громко и гулко, и, казалось, часто. Она слушала, механически считая удары, но вскоре отодвигалась — не любила долго слушать. Почему — она не объясняла и себе, не любила, и все. Но как-то ее внук, тогда шестилетний, объяснил.
Однажды, лежа на диване, он случайно обнаружил ладошкой свои сердцебиения. Он спросил: «Сердце, да?» Она сказала: «Да». «А оно всегда так будет?» Она не успела ответить: внук быстро убрал руку с сердца, вскочил с дивана и, убегая, крикнул: «Ладно, бабушка, ладно…»
Он все понял — дети гениальны, — но осознать всего не мог и, интуитивно боясь осознания, не желая его, убежал: вдруг бабушка захочет все разъяснить?
Вот и я не любила… Бьется, и хорошо, и слава Богу («Ладно, бабушка, ладно…»)…
Выходит, если искать чуда, если действительно его искать, то это звуки сердца.
В ритме вальса… 3/4…
ЕГО СЕРДЦА.
Господи, о чем только не думалось, не вспоминалось сейчас…
Один раз после ремонта они поехали в универмаг — купить материал на шторы в прихожую: задергивать вешалку.
Было многолюдно, душно, и ей стало нехорошо, но материал на шторы они успели выбрать. Он попросил у продавщицы стул, усадил жену и пошел в кассу.
Я оказалась почти за прилавком и хорошо видела разворачиваемые ткани и руки с чеками.
Подошел муж и тоже протянул чек.
Продавщица взяла их рулон, но тут чья-то поспешная рука протянула свой чек.
Девушка отложила взятый рулон, взяла два других — алый и белый — и стала быстро отмеривать. А… кто-то брал уже такие отрезы… Ну да, брал…
Алый был не просто алый, но с особой глубиной, с темным каким-то отливом.
Продавщица завернула алый в белый, потом все это в серую бумагу, отдала в руки и снова взяла их рулон.
«Какое бы вышло нарядное, праздничное платье, а белый — на простыни, простыни почти все износились, да и люди берут, понимают»… — и она стала делать мужу знаки: дескать, возьми и нам! Он вначале не понял, тогда она громко шепнула:
«Возьми и нам такое». Он услышал, махнул рукой: «Да замолчи ты!». Разозлился.
«Ну и зря», — сказала она.
Он взял сверток, и они пошли из универмага к своей машине. «Ты почему такой вредный?» — спросила она. «Ах, да замолчи ты, ради Бога! На гроб берут!»
…Один раз, когда они собирались на работу, она увидела его в прихожей — через открытую дверь спальни, где одевалась. Он был уже одет, так как выходил пораньше — прогреть машину. Он не видел ее. Она же видела, как он старательно и очень серьезно надевал на пальто через плечо и большой живот выменянный планшет, который в общем-то ему и не был особо нужен, как сдвигал его с живота на правый бок и как, довольный, пошел…
Вспомнилось, как после очередной бессонной ночи она сидела в их средней комнате, кабинете, и что-то выписывала из книги. Было тихо. Вдруг из кухни раздались звуки радио. Они, хотя и были негромкими, раздражали ужасно. Все раздражало после этой ночи. И тут раздался еще один звук, тоже из кухни и тоже страшно раздраживший ее, тем более, что она не понимала, что это за звук был.
А это был звук его бритвы.
«Какое счастье, — думала она сейчас, стоя возле него, — он бреется!»
Он — бреется.
БРЕ-ЕТ-СЯ!
«БРО-ЕТ-СЯ»!! И внезапно звуки бритвы стали большими и заполнили весь мир.
Когда они находились в нейрохирургической клинике Новокузнецка, — она была очень тяжелой после неудачной московской операции и теперь ожидала вторую, которая должна была как-то исправить работу знаменитого профессора — чуть ли не самого главного нейрохирурга страны — муж (в Новокузнецке он был вместе с ней, ухаживал за ней, помогал во всем) читал ей на еврейском стихи Овсея Дриза. Читал и тут же переводил, так как она еврейского не знала. Он знал, потому что родился и жил до войны в еврейской деревне, где закончил семилетку.
С тех пор он помнил язык, хотя, когда лет 15 после войны открыл на еврейском сборник Шолом-Алейхема, вначале читать не мог, но вскоре все вспомнил и читал хорошо, а вот говорить на еврейском ему больше не пришлось, — родителей и всех его родных в 41-м расстреляли немцы, а теща, хотя и помнила много еврейских слов и многое понимала, говорить не могла. А больше никого почему-то на его пути не встретилось, с кем можно было бы поговорить…
Он хорошо знал и украинский, потому что десятилетка у них была уже украинской, да и жили они с украинцами, дружили с ними — большое украинское село было совсем рядом, через речку; неплохо, тоже со школы, помнил немецкий, так что в армии раз был даже переводчиком, а когда после войны жил в Ташкенте, довольно быстро обучился узбекскому.
А вот жена к языкам была неспособна.
Взять с собой в Новокузнецк сборник Дриза решила она, потому что любила его, зная, конечно, на русском, и любила, как муж читал на еврейском, и, главное, как переводил. Тут у него появлялось большое и особое обаяние, которое в обычной жизни ему как раз не было так уж свойственно.
Этот сборник, красиво изданный, с портретом и суперобложкой случайно купила старшая дочь — прямо накануне их отъезда. Дриз в высоком черном свитере был похож на Высоцкого. С тех пор она навсегда запомнила одно стихотворение и сейчас, прислушиваясь к дыханию мужа, механически повторяла строчки из него:
«Ломир зих швэрн, Шарл»*, «А мэнч аф а мэнчн дарф гофн»…** Все стихотворение в дословном переводе мужа звучало так:
Давайте себе поклянемся, Шарл, Если такое случится, Когда тебе захочется плакать, Чтобы мне не хотелось смеяться. Давайте себе поклянемся, Шарл, Человек на человека должен надеяться Если у кого-то что-то заболит, Пусть другой не сможет уснуть.У него никогда не было бессонницы, он всегда спал хорошо: только ляжет и спит.
Просто у него как-то не выходило нормально спать.
7 лет армии, включая 4 военных года, а он радист первого класса — какой сон!..
Со студенчества уже ночные дежурства — медбрат в неврологической клинике, а там всегда тяжелые постельные больные… ну а потом — хирургия. А какая хирургия без ночных дежурств! Да и семья уже была — четыре человека, вскоре пять, а зарплата у них с женой небольшая, совсем, можно сказать, маленькая…
Бывало, он брал по 12, по 14 ночных дежурств в месяц, а хирургия у них экстренная круглосуточно и круглогодично и — вместе с травмой. А об отгулах тогда и речи не было.
И выходило, что когда он дежурил в ночь, днем у него была обычная, своя, работа:
плановые операции, перевязки, обходы… А потом сразу — эта ночь… С утра же и весь день после — снова своя работа… 36 часов подряд…
И так — почти через день.
Он еще старался и все суточные праздники брать, так как праздники оплачивались вдвойне. Да и любил он свою работу, всю ее любил, и дежурства тоже, да и здоровый был, молодой.
Когда он приходил домой, он, бывало, не шел есть, пока не расскажет теще, какие операций сегодня сделал и как сделал — каким методом-способом, как резал, как шил — каждый шаг. И даже рисовал все на листке — весь ход операции. Теща надевала очки, садилась, если до того, скажем, лежала, и молча, внимательно слушала, смотрела рисунок.
Она знала всех его больных по фамилиям и судьбам.
…Ах, сон!.. Он часто говорил жене: «А ты полюби свой сон! Ты же свой собственный сон не любишь! Снотворные!..» Она сердилась, но понимала, что муж был прав. А он…
Когда, бывало, на самом сне тихонько скажет ему няня: «Вставай давай, вострый (острый) привезли», — он вскакивал, словно не спал, и бежал в приемный покой, а после операции, если она была, снова засыпал в дежурке мгновенно и мертво, хоть и на полчаса, пока снова не приходила няня… Так и осталось на всю оставшуюся жизнь: мгновенное засыпание-просыпание, «мертвый» сон…
Когда он прочел это стихотворение про Шарл, он так изумился, так разволновался вдруг, как будто другие стихи Дриза — седые матери, баюкающие Бабий Яр, желто-красно-зеленая процессия шутов, идущая фиолетовой улицей с прахом Короля Лира на плечах — не изумляли, не рвали душу! Но ЭТО так лично коснулось его, так точно другой человек сказал о НЕМ, и, главное, сказал такими простыми, обычными словами, так сумел отразить тот их момент, что он, когда переводил, до того волновался, что вначале вообще ничего не мог перевести, а потом, когда все же перевел беспомощно так развел руками: ну да, мол, конечно, как же можно уснуть, когда «у кого-то что-то заболит»!.. У КОГО-ТО…
А у нее — какие же боли тогда были! А лабиринтопатия! Ни одного движения головой она не могла сделать, чтобы не возникла черная чернота такое быстрое было вращательное головокружение, что она вообще переставала что-либо видеть. Вот он и привез ее, безнадежную, в Новокузнецк. Но здесь никто не обнадежил его, здесь ему просто сказали о крайне серьезном положении жены и в связи с этим о необходимости второй операции на позвоночнике — по жизненным показаниям, — рискованного, но единственного сейчас шага, и разъяснили суть операции.
…Вместо «Шарл» он порой переводил «Шура», хотя точно не знал, не был уверен, что Шарл действительно в переводе Шура.
Стихи он читал жене не в промежутках между болями — промежутков не было, — он читал их ВМЕСТЕ, — ведь она жила ДВУМЯ ЖИЗНЯМИ, поэтому такое было возможно…
А как легко он не спал тогда!..
Когда он вернулся из кардиосанатория и считался уже как бы здоровым долго еще была слабость, потливость противная, серость лица и голубизна губ, усталость быстрая… Ведь вот же — и не работал столько, и отоспался, как никогда за свою жизнь, да и инфаркт был не трансмуральный — не обширный, не сквозной, а все равно — вяло шло выздоровление…
Правда, за последние две недели он все же стал крепнуть, он и внучку в первый раз сам выкупал, — когда она из роддома прибыла, и уже довольно много ходил, хотя и медленно или даже с остановками, но ходил, причем с шагомером, купленным по совету санаторных врачей, — вначале по 700 шагов в день, а потом и по 5 и по 7 тысяч.
Шагомер он прикрепил тоненькой цепочкой к брюкам спереди у левой цапки подтяжек, и если кругом было тихо, можно было услышать, как шагомер тихонько постукивает в такт его шагам…
И вот старшая дочь сидит перед разложенным диваном и выкладывает на него подарки и покупки.
У ног ее раскрытый чемодан; другой, закрытый, и две большие мягкие сумки — чуть подальше. Все тут, вокруг нее: мать и сестра по краям дивана, отец в кресле, 9-летний сын рядом со своим отцом, племянница в новой красивой колясочке — спит…
— Папочка, тебе! Твое любимое! — передаю отцу вино — яркую желто-красную бутылку.
Отец надевает очки, которые всегда висят у него на груди на веревочке и внимательно разглядывает этикетку.
Я смущена, даже озадачена: отец сидит такой нарядный — в новой пижаме, вернее, в новом домашнем костюме.
Костюм этот был куплен сестрой лет 7 назад в Ленинграде, но он так и оставался новым, так как все 7 лет провисел в отцовском шкафу. Я понимала, что костюм был надет не ради меня, так как был уже ношен — ношен сейчас, в мое отсутствие, и был даже ушит с боков.
ГДЕ ЖЕ КОРИЧНЕВЫЙ ЛЫЖНЫЙ КОСТЮМ?
Это был байковый костюм времен 50-х годов, теперь поблекший, с белесыми разводами, с резиночками у кистей и щиколоток. В нем, тогда новом, отец ходил с матерью на лыжах. (У матери были нормальные ноги! Мать бегала на лыжах!!)
После того, как родители бросили лыжи, костюм этот был убран и забыт, но, наверное, лет 5 или 6 назад отец извлек его откуда-то, втянул в пояс и к щиколоткам новые резинки, — в рукавах были хорошие, кое-где подштопал, поставил заплаты, постирал, погладил и стал носить. Почти всегда. Вначале мы все ругали его за этот костюм, смеялись даже, но он продолжал носить.
А потом все привыкли.
И вот — отец НЕ В НЕМ!
Костюмов у него было полно, и всего полно, всякой современной одежды: свитеров разных, рубашек с погончиками, с молниями, бобочек… Даже джинсы были. И ни одного пятнышка нигде, ни одной пуговки болтающейся, измятости малой… Все висело в шкафу отца в полном порядке, но… не носимое… Вернее, носимое, но уж очень редко.
Что-нибудь из этого надевалось, если он шел, например, на партсобрание или на какое-нибудь проводимое им занятие, и шел из дома — с работы он был, конечно, в своем врачебном, или когда они с матерью шли на какой-нибудь вечер, концерт, на какую-нибудь интересную встречу, или, скажем, в гости, — если гости приходили к ним и были людьми близкими, что чаще всего и бывало — отец был все в том же лыжном костюме.
На работу он ходил в синих брюках с красной искрой, хотя и старых, но прекрасно держащих стрелку, и в синей шерстяной кофточке-рубашке с пуговицами на груди, тоже старенькой, зато очень мягкой; в больнице переодевался в хирургическое, одинаковое для всех хирургов: в светло-голубые брюки х/б и белую короткую рубашку с короткими же рукавами, тоже х/б. Ну а сверху, естественно, белый халат и колпачок. (В белом этом колпачке, конечно, уже стареньком, «домашнем», отец любил загорать, если летом бывал «на природе». Три раза он был на море, два из них — то со мной, то с сестрой, — и на море тоже был в этом колпачке — не только загорал в нем — был везде: на экскурсиях, на рынке, в столовых…)
Все, что обычно носил отец, он любил, и оно было или на нем или на полке в прихожей — не в шкафу: этот вот лыжный костюм, эта кофточка-рубашка и брюки с красной искрой.
Да, еще был СЕРЫЙ СВИТЕР (Вместо синей кофточки мог быть только он) ОЧЕНЬ любимый. С широким воротом, не раздражающим шею и с большими ромбовидными, красиво вшитыми заплатами на локтях. Заплаты ставила одна приемщица из химчистки, которая немного шила и латала, причем латала хорошо и латать любила.
Любимой еще была (из верхней одежды) летная куртка с цигейкой внутри, обтянутая сверху из-за сильной потертости темно-коричневой плащевой тканью.
Носовые платки отец не любил, но они, конечно, были — лежали аккуратными отутюженными стопочками — один к одному — на верхней полке шкафа или свернутые трубочками в красивых картонных коробках. И лежали, как и все — годами…
Вместо носовых платков он пользовался хирургическими салфетками, особенно ценившимися после стирок, когда становились совсем мягкими.
Два раза в год отец проводил генеральную уборку шкафа. Из него все вынималось, просматривалось, проветривалось, а сам шкаф изнутри пылесосился и протирался, и все затем возвращалось на свои места.
Как относился ко всему этому Шкаф? Положительно. Он гордо осознавал себя единственным Хранителем Ценностей своего Хозяина, поэтому считал, что весь уход за ним и его содержимым правильный.
Однако, скорее всего, Шкаф не отдавал себе отчета в том, что любимые вещи его Хозяина хранятся как раз не в нем. Вот, например… «Вот, например, — думал Шкаф, — понадобился Хозяину новый домашний костюм пожалуйста! Аккуратно поверните ключик в моей дверце, не дергая резко, откройте ее и снимите костюм! Он — ваш!»
Я хранил его многие годы именно ради этой минуты — для того, чтобы МОЯ ВЕЩЬ стала теперь тоже ЛЮБИМОЙ и покинула меня. Я готов к этому, более того — рад, и после расставания буду снова терпеливо ждать новой такой минуты.
Так что Шкаф все понимал.
Старшая дочь, конечно, виду не подала, что изумлена тем, что отец снял вдруг лыжный костюм, — узнает потом у матери или сестры, впрочем… Она вообще ничего узнавать не станет. Да-да, не станет. Носит отец новый домашний костюм и носит.
И пусть носит. И узнавать нечего.
Отец поставил бутылку на пол возле кресла, в котором сидел.
На ногах его были носки из собачьей шерсти и коричневые тапочки в клетку с высоким задником, то есть не стоптанные. У него всегда были такие тапочки.
Старшая дочь достала из чемодана материн заказ: два отреза для штор на окна и плед на диван.
Еще он не спал, когда оперировали тещу. И на самой операции простоял от начала до конца, конечно, не оперируя, — все метастазы видел… Что-то потом «смягчал» жене…
А потом все, что было с тещей потом…
Все перевязки страшной раны, возникшей на месте удаленной груди — с разрастающимися вокруг метастазами, переливания крови на дому, наркотики внутривенно — под кожу и внутримышечно уже ничего не действовало, и он вводил внутривенно, а вен не было…
И самое немыслимое — последние две ночи…
Жена от матери не отходила — ведь трепетала, если та заболевала даже пустяком, а тут… Они всегда были дружны, близки, как подруги, очень любили друг друга, жена просто сходила с ума: не представляла, как переживет…
Дочери, тогда 14-ти и 7 лет, тоже помогали ухаживать за бабушкой. И все же — самое страшное было его. А чье же? Ведь он мужчина, он хирург, муж.
…всегда все самое страшное…
Сколько ездили они в Москву, шторы и плед подобрать не могли — все не то было, да и здесь, у себя, можно было купить не хуже, чем в Москве, а вот — не подходило. А тут — чудо! И сами по себе красивые ткани, и, главное, в тон обоям.
Для кабинета — коричневая с розовым, для родительской спальни салатная с белой полосочкой.
И еще тут важно было: старший зять похвалил, а у него был отличный вкус, так что было, конечно, приятно.
Мать аккуратно сложила шторный материал и повесила на спинку стула.
Хорош был и плед: по красному полю красные же цветы, но иного тона и выделки, отчего казались выпуклыми.
Плед постелили, все отошли, полюбовались — да, красиво.
Его так и оставили на диване — пусть лежит, обнашивается, нечего прятать.
И не стали отрывать узенькую, встроченную в одном месте в шов бумажку с какими-то цифрами — пусть… От пледа шел особый, как бы «резиновый» запах.
Еще из крупных вещей был славный, коричневых тонов, венгерский халат для матери, точнее, платье-халат и два отреза из модной сейчас вельветовой ткани — серой и зеленой — на юбки и жилеты дочерям.
Было хорошо, празднично, всем нравилось привезенное, но все же не терпелось, особенно матери и младшей дочери, увидеть и другое, то есть не только крупные эти вещи — покупки, заказы — а так, мелочь всякую, чуть ли не ерунду:
безделушки, игрушки, канцтовары, подарки разные, а среди них — и Главный! (О, он уж, конечно, не мог быть ерундой, хотя и мог быть мелочью, но… мелочью лишь в буквальном смысле — в смысле размера, по сути же он был значительным.)
И вот из одной сумки на диван посыпалась действительно мелочь: да, она не была Главным Подарком, ничего из нее, и всем это было ясно: тюбики, тубы, баночки — белые, желтые, синие, — стеклянные, пластмассовые и такие же, но в картонных упаковках…
Была, например, одна коробочка — квадратная, бело-розовая, как бы муаровая, на которой сверху стояли две красиво переплетенные буквы: f и К — словно вензель какой-то.
В ней была баночка с золотой крышкой. В баночке был коллаге — новый крем, «пригодный за уходом всех типов кожи лица».
Что означали f и К — было не ясно: «К», может, от слова «коллагеновый», а «f»?.. — не ясно, потому, наверное, коробочка была так привлекательна.
Бусы из миндальных косточек, подарок сестры матери, Янки, и еще интересные — из различных резиновых трубочек — лабораторные какие-то бусы!
Брелочки разные — керамические, костяные, черти на витых коричневых и черных шнурках…
— Вот, Малыш, — сказала старшая сестра, передавая младшей небольшой целлофановый пакетик, — теперь — самый крик!
Сквозь целлофан глядело очень милое и очень, кстати, простенькое женское лицо, то есть вовсе не рекламное, — в больших очках на цепочке. Да, это была цепочка для очков. Производство опытного завода металлической галантереи и сувениров Ленинграда.
… Шампуни разные, SHAMPOO!
Например, Lakmе' caress в бесподобной упаковке или вот наш — Ромашка, без упаковки, но тоже чудесный шампунь.
РОМАШКА была, во-первых, универсальной, во-вторых, содержала именно натуральный экстракт, в-третьих, очень обильно пенилась и, в-четвертых, придавала блеск волосам, свежий вид и приятный аромат коже.
Пять посудин ГЖЕЛИ: медовница и набор «Петушок»: чайник в виде петушка и три кружечки.
Совсем недорогие, но очень красивые очки от солнца.
Вьетнамские деревянные вроде бы листочки — с ладошку размером, изящные, прекрасной выделки, — ну, для колечка с руки или для часов, чтобы оставить, например, на ночь, а можно и так — просто положить «листочек» на стол — очень красиво, а потом, если надо, бросить в него маленький карандашик, ластик, бритвочку, — мелочь всякую с письменного стола…
Вьетнамские же плетеные КОРЗИНОЧКИ с крышечками — невысокие, одна в другой. Для чего? Да хоть для чего! Можно тоже для красоты поставить, а можно конфеты положить, в бумажках, конечно, — и удобно, и мило, и необычно.
— Мамочка, подумай: перед самым отъездом нашла! — старшая дочь передала матери полиэтиленовый пакет в форме плоского термоса с просвечивающим черным картоном, на котором в центре было написано: WARITEX, а чуть ниже: waritex international.
Это был сложенный в 4 раза плотно-эластичный американский лечебный пояс.
Наверху картона, справа и слева, указывалось, какие, в процентах, ткани содержит пояс.
Внизу стояли номера в соответствии с окружностью талии. У матери был 6-й, то есть талия у нее была… Но ничего! За 6-м были еще 7-й и 8-й!
На самом верху черного картона перечислялись болезни, при которых «очень поможет пояс варитекс».
Ну, а потом — самое-самое! Канцтовары и игрушки, но не для маленьких, нет!
Какая великолепная светло-салатная и голубая бумага для писем, тисненая, с просвечивающими веточками ландыша!
Какие рижские блокнотики в кожаных переплетах!
Какие карандаши изумительные!
А фломастеры венгерские!
Ножи для разрезания бумаги!
А польские бумажные закладочки! Какие они хорошенькие, какие цветные ниточные кисточки по краям!
А игрушки!..
После кинофильма «Монолог» мать просто измечталась о солдатиках, в какие играл там герой.
И это неважно, что она женщина, она тоже в минуты раздумий переставляла бы на своем письменном столе этих солдатиков, да где же их взять? Ведь даже там, в фильме, герою его высылали солдатиков друзья-ученые из разных стран. Но старшая дочь все же искала их в Москве и в Орехово-Зуеве, где училась, в Ленинграде, куда ездила. Нет, не было их. Она привезла другие игрушки, тоже замечательные — маленькие и изящные, как солдатики.
Аккуратнейший черный трубочист в черном цилиндре и с черной щеточкой! Прозрачная красавица-черепашка, Карлсон с крохотным пропеллером на спине и страшно лохматый! Танцующий ежик! Лопоухий Чебурашка и глиняная птичка-свистулька…
Да что перечислять!..
— А этот мужичок — ну просто нэцкэ! Необыкновенный, правда? Лицо какое! А руки!
В Орехово купила на рынке — за рубль, представляете? Самоделка.
«Мужичка» стали передавать друг другу. Правда, нэцкэ!
Но ничего из этого не было Главным Подарком!
Сейчас никто не стал рассматривать подарки детально («Да! Вот еще очень модно:
дамские гольфы!») — это будет приятно сделать позднее, в полном покое, и рассмотреть уже все не спеша, лучше даже в одиночку, так что подарки пока не разбирались, а оставались лежать на диване, и пока было именно хорошо смотреть на все вместе, в целом. А в целом все это сверкало, благоухало, переливалось в веселой праздничной горке, растущей на новом красном пледе.
Отец всего этого не любил, называл «мусором», но непременно рассматривал каждую вещицу, поворачивая ее во все стороны, и, рассмотрев, возвращал на место, махнув рукой: «Ерунда…»
И тут — прямо прелесть такая! — бутылочки для детского питания! Но не наши, не обычные, с которыми он 25 и 33 года назад ходил на детские молочные кухни в Москве и здесь, когда появлялись дочери, потому что у жены оба раза не было молока. Нет, это были совсем другие бутылочки…
В Москве, еще в студенчестве, когда у них родилась старшая дочь, он бегал с этими (да не с этими!) бутылочками за 2-й Зачатьевский, где они жили, за монастырь — направо и вниз, чуть ли не к Москва-реке — на детскую молочную кухню. К 6-и утра. Чтобы еще с пятью СПЕШАЩИМИ ОТЦАМИ разгрузить два ЗИСа со всем детским питанием для их куста, за что получить питание вне очереди и бежать с ним домой, отдать жене и бежать в институт — он учился тогда на V-м курсе, а потом, если дежурил, что было часто — в неврологическую клинику, в ночь, а утром снова бежать на молочную кухню…
— Всю Москву оббегала! — смеялась старшая дочь, передавая сестре чудесные бутылочки. Крупные, необычной формы, с желтой навинчивающейся крышкой с отверстием, от краев которого спускалась внутрь соска, выворачивающаяся при кормлении.
А сверху надевался колпачок.
По поверхности бутылочек шел красный бумажный пояс, на котором изображались две бойкие какие-то птички — носик к носику. И было крупно написано: BABY KAVALIER.
…Да, это были совсем другие бутылочки…
Все знали: ГЛАВНЫЙ ПОДАРОК — впереди.
Он был всегда, кто бы откуда ни возвращался, и всегда выдавался неожиданно, даже внезапно, но обычно ближе к концу.
То есть до поры он был секретом, никто никогда ни спрашивал о нем, не выпытывал вернувшегося, — все делали вид, что ничего не знают, ничего особого не ждут. Да и само обозначение, слово это — ГЛАВНЫЙ — никогда не употреблялось у них применительно к подарку, но все знали: ГЛАВНЫЙ ПОДАРОК ЕСТЬ!
Всякий раз он кому-нибудь предназначался, но никогда не покупался специально, то есть никогда не был преднамеренностью, — он был всегда как бы СЧАСТЛИВОЙ НАХОДКОЙ, но находкой, удивительно соответствовавшей какому-то важному, конкретному факту жизни кого-то из них.
Главный Подарок не был ВЕЩЬЮ, ПОКУПКОЙ: платьем, например, туфлями, теми же пледом или шторами, теми же отрезами на юбки и жилеты, или даже французскими духами. Но нет, нет, не так! Французскими духами он, конечно, мог быть, еще как!
И вообще ОН МОГ БЫТЬ ВСЕМ: любой вещью! Да, ЛЮБОЙ ВЕЩЬЮ! Так что зря я так вот запросто все их отбросила!
ВСЕ МОГЛО БЫТЬ ГЛАВНЫМ ПОДАРКОМ, ЛИШЬ БЫ ПОДХОДИЛО, ОТКЛИКАЛОСЬ СУТЬЮ!
Из духов, например, сейчас (СЕЙЧАС, — вот что важно!) таким подарком могла быть ТОЛЬКО скромнейшая «Уральская рябинушка» — маленький совсем флакончик, совсем дешевый…
Он всегда мог теперь (ТЕПЕРЬ!) быть Главным Подарком — с лета 1971 года, потому что…
…Июнь 1971 года. Последние дни перед выпиской… жаркое, безумно жаркое начало лета, а в клинике все сестры душатся «Уральской рябинушкой»…
Этот запах ворвался тогда в духоту палат и коридоров, он уничтожил все больничные запахи, он перечеркнул саму больницу, он сводил меня с ума, опьянял, звал отсюда… Он сыграл особую роль в моем выздоровлении, так как КРИЧАЛ о жизни, о любви, о счастье, — я должна была, обязана была выздоравливать! И мне стало легче, — появилась НАДЕЖДА, — маленькая, совсем маленькая, но — надежда!
Муж попросил одну сестру купить мне флакончик «Уральской рябинушки». Но — «рябинушка» вдруг исчезла. Муж сам пошел по магазинам, обошел все парфюмерные — «Рябинушки» не было. Но я не очень страдала: мне хватало этого запаха.
Потом, уже дома, младшая дочь купила мне один раз «Рябинушку», и все больше ее опять-таки нигде не было.
Но я легко воспроизводила запах этих духов, а вместе — мгновенно и остро — долго такое не удержать! — воспроизводилось, вспыхивало ТО ВРЕМЯ.
Я всегда видела одно и то же: нашу палату с кислородным баллоном в углу, спину выходящей из нее медсестры с отведенной рукой, в которой был лоток со шприцами, и — окно.
За ним на большом пустыре перед больницей царствовал удивительной формы и красоты, сплошь расцветший куст черемухи, какого я в жизни своей не видала — внезапный ожог счастья!
ГЛАВНЫМ он был еще потому и скорее всего потому, что был НАГРАДОЙ, то есть не просто подарком — бескорыстным даром, а действительно наградой, правда, нередко отдаленной от побудившего к ней поступка, это уж как получалось, часто наградой-шуткой, но, конечно, не без умысла, и никогда наградой грубой: вот, мол, за ЭТО — получай! Хотя он был именно ЗА ЧТО-ТО.
Младшая дочь, например, еще маленькой, однажды получила огромную лохматую собаку, игрушку, за победу, хотя и неполную, в чем, собственно, и была вся суть, — ПОДАРОК НАДЕЯЛСЯ! — над визгом, киданием и лаем настоящей собаки, которую она поначалу ужасно боялась.
В прошлом году Главный Подарок получила мать (кстати, это вовсе не означало, что в этом году она не смогла бы его получить снова. Ничего подобного, смогла бы!
Если именно ей этот подарок подошел бы и сейчас больше, чем остальным) — великолепный тяжелый том Анри Перрюшо «Жизнь Ван Гога», на белоснежном супере которого горело окровавленное ухо, — и не только потому, что Винсент Ван Гог был любимым ее художником, а потому еще, что года три назад она просидела все лето над этой книгой, взятой у кого-то для чтения, выписывая и выписывая из нее…
Сколько? Да разве сосчитать! — все лето сидела и выписывала, оторваться не могла. Отец ругался: «Писец!! Подумать: такие книги переписывать!» Из себя выходил.
2. «AX, ВАШЕ СОБАЧЕСТВО»
А потом сколько стихов о Ван Гоге она написала!..
Даже цикл был — «Ван Гог и я»…
И я!..
… Он рыжим недаром родился, нет!.. Рыжее пламя костра!.. В котором сгорал желудок пустой, Плоть, мешавшая жить порой, Отвергнутая доброта… Но я не знаю совсем никакой Разницы между Ван Гогом и мной! И я горю, пожирая себя (О желтый и красный цвет!..), но нет ни единого полотна, нет ничего, — лишь его душа Бесплодно дымится на углях костра… Но я ведь зачем-то была?..Однажды она показала своему 5-летнему внуку портрет Ван Гога «Плачущий старик» и спросила, как он думает: почему этот дедушка в голубом костюме?
Внук сказал:
— Потому что его обидели.
— Ну и что? Почему же костюм голубой?
Он посмотрел на неё и ничего больше не сказал.
Бабушка улыбнулась.
В это время на веранду, где они сидели за ее раскладным столиком отдыхали тогда всей семьей в доме отдыха, потому и веранда была и раскладной столик — вышел дедушка в лыжном костюме с большим синим кувшином воды. Он медленно стал лить воду у их ног, и вода вместе с притащенной грязью стекала в щели между досками. Закончив, дедушка ушел в комнату и вновь вернулся с кувшином воды. Он снова лил ее на пол, теперь подальше от них, шире радиусом. Сейчас, вечером, мыть полы на веранде было ни к чему, ну а грязь тоже была ни к чему…
А сколько раз он плохо спал из-за бессонницы жены — она невольно будила его: то щелкнет выключатель ее ночника, то зашелестит переворачиваемый лист…
А что же ей оставалось делать, коли не было сна? Она читала до одурения, делала в уме какой-нибудь доклад, выключала свет и подолгу лежала в темноте не шевелясь, пытаясь полностью расслабиться, убирала в дальней от спальни части квартиры, даже стирала, но ведь не будешь убирать и стирать каждую ночь…
Много раз они собирались «разъехаться» по разным комнатам, но — не разъезжались:
как-то дико было. Вот и лежали рядом…
Правда, она часто прямо с вечера оставалась в кабинете, в средней комнате — писала что-нибудь свое или писала письма и в спальню приходила только под утро, а иногда выходила в кабинет среди ночи, прокрадывалась, чтобы не лежать просто так в спальне, но опять-таки — всю ночь и каждую в кабинете не просидишь, к тому же, если появлялись стихи, а это было всегда внезапно и всегда ночью, то вставать было уже нельзя: если стихи не записать тут же, сию секунду, они тут же и улетучатся, так что порой она просто никуда уйти не могла — лежала возле мужа и писала…
В последнее время он сообразил загораживаться от нее, от света ее ночника, подушками-думочками, положенными одна на другую — «баррикадой». Сам он зарывался под нее так, что из-за «баррикады» видна была лишь правая рука, потому что засыпал он только, держась ею за спинку кровати, — иначе уснуть не мог; потом, когда уже спал, рука падала — он не замечал этого…
Один раз, когда она пролежала без сна всю ночь, она написала стихотворение «Любовь».
Начиналось оно с ее любимых гамсуновских слов: «Так что же такое любовь?»
Дальше она писала, что на этот вопрос до сих пор нет ответа. Собственно, ответить хотела она. Вначале она делала как бы ретроспекцию. Тут и выходило: ни Пушкин, ни Блок, ни Маяковский… (Господи, она!..)
«Возьму сейчас и брошусь навзничь» — ответ? Впрочем, может быть…
Она писала:
Ищите у Пушкина, где Керн, где Грузия, где скамейка у Лариных там, там! «Любовь это адская музыка, заставляющая плясать даже сердце старика», А, может, она — Мандельштам? Со склоненною шеей безбожницы «С золотыми глазами козы?» Глинка? Ахматова? Тютчев? Чайковский? Алишер Навои? Пастернак, у которого «чайный и шалый, зачаженный бутон, заколов за кушак»?.. — так? …Джульетта? Раскаты Бетховена? Травиата?.. …«Словно анемон»… Хватит! НЕ ТАК! Может быть, боль, Когда я гляжу как во сне ты Мальчишкой свернулся, Майка скатилась с плеча, И рот стал красивым, И мне ничего не нужно, Может быть, это ОНА?Он это стихотворение никогда не читал, да еще хорошо, что она его в тот раз не разбудила.
Вообще-то он стихи не любил, и не то, чтобы вот так — НЕ любил! — он просто не интересовался поэзией и никогда, кроме Новокузнецка, специально и подряд стихи не читал, а главное, никогда не читал их ДЛЯ СЕБЯ, как, например, жена или младшая дочь, хотя вообще читал много, правда, скоро забывал прочитанное, и если вдруг заходил о нем разговор, просил быстренько напомнить, О ЧЕМ ТАМ, и, услыхав, тут же вспоминал.
Читал он просто так, чтобы отдохнуть, отвлечься, и все. И уж, конечно, ничего себе не выписывал в тетради и блокноты.
Впрочем, многое он никогда и не забывал. Он знал, например, всего Фейхтвангера, любил и помнил Ольгу Форш и Тендрякова, а в последнее время по-настоящему полюбил Толстого, что для него самого, как и для всех в семье, было неожиданностью.
И такое было ему откровение!
Как-то он сказал жене: «Я заметил, что читаю сейчас иначе». Она, шутя, сказала, что зря ведь его жизнь рядом с ней пройти не могла, и добавила: «Да и редакторство твое тоже к тому побуждает.» «Может быть», — сказал он.
Редакторство…
Она давно писала стихи, но они были не в счет, никакого редакторства не требовали — были плохие, она знала это, знала и то, что многие считали, что все же зря она не берется за них всерьез, что если бы их чуть-чуть подправить, довести… Она не обманывалась здесь, зная, что как раз и не может этого «ЧУТЬ-ЧУТЬ», но что в нем-то и дело. Но она продолжала писать их — для себя, ей это было НУЖНО, а когда неожиданно, поначалу — даже как бы и случайно, пошла проза и три ее рассказа были уже опубликованы в союзных журналах, стихи потихоньку ушли… И вот тогда оказалось, что никто из ее друзей-интеллектуалов, эрудитов, умников, даже профессиональных писателей не мог быть для нее редактором, кроме мужа таким настоящим, таким нужным ей. Вот уж чего она не ожидала! Многие считали, что, утверждая это, она шутит, а это была правда.
Возможно, это было потому, что он все же действительно много читал, но ее друзья читали не меньше. Нет, тут было другое.
Во-первых, он знал ее с весны 45-го года, когда она пришла к ним в батальон, — ей было тогда 19 лет, — то есть знал давно, с юности, что, очевидно, имело для него какое-то значение, к тому же он сразу полюбил ее, — тем более имело значение, во-вторых, он был радистом 1 класса, иначе — у него был прекрасный слух. Она читала ему свои рассказы, а он, не глядя в текст, не читая — редактировал: говорил что гдe… Фальшивый звук он чувствовал сразу.
Вслед за бутылочками для детского питания — игрушки и одежки для новорожденной!
Это была прямо сказка!
Коза в кружевном платьице, с сумочкой в руке. С ридикюлем!
Танцующая обезьянка, подбрасывающая и ловящая ярко-желтые бананы.
Белая резная колясочка со шторкой на окошке с красавицей-принцессой за ним, тоже в белом.
Дивный Виннй Пух.
Шагающий домик на курьих ножках с вращающимся петушком на крыше.
Печальный красный крокодил с матерчатым носовым платком у глаз клетчатым.
Часы с боем, с выскакивающей кукушкой и качающейся, вместо гири, белочкой на качелях.
А потом — пинеточки, колготочки, ползуночки, распашонки, шапочки!
Младшему зятю были вручены крошечные двигатели для крошечных машинок, которые он конструировал с детьми на своей СЮТ — станции юных техников. Он расцеловал свояченицу.
Мы с сестрой росли на стихах — на Поэзии вообще и стихах мамы. Мы их очень любили, для нас они всегда были прекрасны, а главное, всегда нужны. Они были нашей жизнью, большой частью ее.
Одно из стихотворений, посвященное мне, называлось «Ах, Ваше Собачество!»
Это было особое стихотворение.
Один раз мы с мамой вышли во двор. Была первая осень, когда ей после двух операций вздохнулось полегче, и мы гуляли.
Был листопад, лавочки были все в листьях, воздух синий и слегка морозный.
Было так замечательно, что я воскликнула, обращаясь к маме: «Ах, Ваше Собачество, как хорошо!» Откуда взялось это «Собачество», да еще «Ваше», да еще и обращенное к маме, — понятия не имею, но так это получилось здорово, так к месту(!), что мы обе были в восторге. Мы сидели на лавочке, на листьях, и хохотали. А потом мама написала это стихотворение.
А вот отец… Он вообще к стихам был равнодушен, но мамины стихи другое дело, но он и к ним тоже был… ну, он не то чтобы любил их или не любил, — он жалел маму. Из-за них, из-за того, что в них, в некоторых, то есть у него здесь свои стихи были…
Мама любила писать частушки и исполнять их с кем-нибудь из друзей, чаще с кем-то из мужчин, который тут же, как и мама, повязывал на голову косыночку (она приготовляла). Было очень смешно и весело.
Например, к 50-летию отца мама спела с одним нашим другом такие куплеты:
Пролетели утки стаей, Их не видно сквозь туман, Мы на фронте повстречались, Я — ефрейтор, он — сержант. Долго он все куролесил, На губвахту все сажал, А потом в любви признался, Серым волком зарыдал: «Полюби меня навеки, Всесторонне я хорош! Изменять тебя не буду, Заболеешь — не умрешь!Отец был доволен, смеялся, хлопал в ладоши, подпевал вместе со всеми:
«елки-палки, лес густой, в профсоюзе не застой!», и так далее. Казалось, ему нравилось все это, и действительно — нравилось, но в общем-то все эти частушки, эти шутки не имели для него особого значения, как, впрочем, и серьезные мамины стихи, да он и не знал их, вернее, не запоминал. Он знал только те, которые она писала, когда ей было совсем плохо, больничные… Только эти.
…Какие высокие окна, А в КОМНАТЕ как-то темно… То ли деревья большие Свет застилают в нее, То ли грустно очень Тем, кто в комнате той… За окошками больницы Раскричались воробьи… Стоит больница под синим небом, За нею весны, поля под снегом… …у автоматов, у раздевалки стоят родные мне так их жалко!.. И снова больница, и город чужой, И за окошком ветер… Он не пронзительный, он… голубой! ВЕРИТЬ!! …Как страшно, как холодно, Как чудно: не мне НА обход, а ОБХОДА Жду до рассвета каждую ночь, В отчаяньи ЖДУ обхода! … Стоит больница. В больнице люди. Свои здесь судьбы. Свои здесь судьи… Стоит больница — надежды лик, Молочный шар люцеты — солнце… Свои здесь темы. Свои здесь споры. Свои здесь «звезды». Свои законы… Одной из этих «звезд» была она. Чуть ли не самая крупная… Подари мне осины лист, Подари мне охапки осины, Под небом вдруг яростно-синим И тут же осенне-бессильным Дрожащей осины твист… Подари мне осины лист…(Ему, мужу, посвященное стихотворение, как и следующее…)
Я прощаюсь с тобою, прощаюсь, Каждой встречей с тобою прощаюсь, Каждым утром прощаюсь снова, Каждым утром этой весною. С сединой я прощаюсь твоею Головой белой-белой своею, Но горящей веселой краской, От страха кричащей, красной…Эти стихи, отцовские…
И никакого там «ВОЗВРАЩЕНИЯ» (Хотя к жизни ведь!!), никакой «РАДОСТИ» («Под рукой моей окрепшей от картошки серпантин!»), или — «Я ЛЮБЛЮ, И НЕ НУЖЕН МНЕ ОТДЫХ! Я ЛЮБЛЮ СУМАСШЕДШИЙ СВОЙ БЫТ!», или это вот «СОБАЧЕСТВО», — ведь, казалось бы… а вот нет! — только э т и окна, воробьи за окошками, ветер, раздевалки, только этой осины лист, это прощание…
… отцовские…
И еще одно стихотворение было. И он помнил его. Было оно к 70-летию ее отца, чуть ли не совпавшего со второй ее операцией, которую они от отца скрыли, то есть скрыли, что она будет и что сделана, — хватит с него первой, московской, — отец жил в Москве. Всего, что досталось тогда, — еще и до самой операции, целый месяц, когда она лежала и просто ждала очереди, а каждый день умирал кто-нибудь из соседей, больных, и после, когда она сама стала умирающей, и к ней не пропускали — лежала в реанимации.
Один раз сердобольная старушка-санитарка, тетя Ксеня, привела отца под ее окно:
«Гляди». Он глядел, стоя на каком-то строительном мусоре, поднимался на цыпочки, вытягивался — окно было высоким — видел никелированные головки кроватей, нескольких больных с забинтованными головами, но не ее, не дочь. Он плакал, стучал в окно, делал какие-то знаки, но из палаты никакого отклика не было, — он снова пошел к тете Ксене. Та кинулась в палату:
— Ты почему такая, а?! Лежишь тута и даже отца своего не хотишь посмотреть! А он стоит за стеклом на кирпиче и ничего тебя не видит, а ты даже рукой своей не хотишь помахать, ты рукой-то своей помахай ему!
А руки — свои — были у нее крепко сжаты в кулаки, парализованы и «прошиты»
каузальгией. Была она тяжелой лежачей больной, сидеть не могла, повернуться не могла… Окна не видела — лежала к нему макушкой, да еще и во 2-ом от него ряду коек, у стены, но будь она и возле окна — не увидела бы отца… Чтобы увидеть, — много чего надо было — в зависимости от положения.
Если, скажем, лежишь на боку лицом к стене, надо было прежде всего повернуться на спину, — она этого не могла, хотя… казалось бы: уж этого ли не мочь? а она не могла… но — если даже оказывалась на спине, — чтобы увидеть, надо было еще сильно запрокинуть или вывернуть голову, что после операции и в теперешнем ее положении было абсолютно невозможно. Был второй путь: со спины повернуться на другой бок — лицом к окну, — но этого она опять-таки не могла, но вот если бы кто-нибудь ее повернул, а затем чуть приподнял!. Да, чуть! — она была такой легкой сейчас, что приподнять ее или хотя бы помочь приподняться — ничего не стоило! Но кто же?
Некому было.
Вообще-то как тяжелую спинальную больную, сестры и санитарки ДОЛЖНЫ БЫЛИ поворачивать ее МНОГО РАЗ в сутки, а несколько раз и приподнимать (ПРИ-ПОД-НИ-МАТЬ), чтобы не было пролежней, застоя в легких, но они не поворачивали, ну, может, повернут раз по настроению, а приподнять!.. Такого они и в дурном сне не видели! Об этом не могло быть и речи! ЭТО БЫЛО СМЕШНО!
Прекрасные продукты, что приносил ей отец, обслуживающий персонал забирал себе — по ее, конечно, просьбе: ведь достать их из тумбочки, тем более из холодильника, она все равно не могла.
Обслуживающий персонал должен был кормить таких больных, но он не кормил.
Отец редко потом рассказывал об этом, редко и скупо — не мог… Так вот, собираясь теперь снова на операцию, в Новокузнецк, она заранее подготовила подарок к 70-летию отца и красиво переписала то свое стихотворение — своей рукой, как и бланк с адресом для бандероли, чтобы отец не заподозрил, что она снова не дома, что снова что-то случилось. И только когда вернулась, хотя была еще тяжелой и в гипсовом скафандре, но все же дома, все же вторая эта операция — особая, пластическая — была позади, и теперь можно было как-то надеяться, — отец узнал обо всем.
Стихотворение ее то, об отце, начиналось так:
Мир огромный! Мир счастливый! Пусть не мой…Она понимала, что прекрасный этот мир ей сейчас не принадлежит, что он действительно сейчас НЕ ЕЕ, но отец…
Отец должен был — обязан! — принять его, и не просто — СО ВСЕЙ ОСТРОТОЙ!
Она писала:
…Я хочу, Чтоб сегодня ощутил Ты Синей жизни красоту! Чтоб в московском подземелье, где весна всего явней, где нельзя остановиться, где кричит старик-еврей, закалевший, ошалелый, обещая в лотерее только счастье, чтобы там все мимозы, гиацинты — все! легли к Твоим ногам! Чтоб подснежники сырые белые и голубые тыкались к Твоим бровям! ВСЕ — ТВОИ! Ты заслужил их! Только будь красивый, сильный, чтобы этот мир счастливый, весь в разрывах синевы, был ТВОИМ!Дело в том, что этот МИР ОГРОМНЫЙ, МИР СЧАСТЛИВЫЙ был отнят у него в 37 лет, и ей хотелось вернуть его отцу хотя бы сейчас, в 70 (и раньше, конечно, — как только он возвратился, просто раньше она не писала стихов), чтобы была радость, мимоза…
18 лет отец пробыл на Севере («На далеком севере нас ждут»…). Она переписывалась с ним все эти годы, с 15 лет, когда послала отцу свое первое письмо, первое письмо в жизни вообще, и — не куда-нибудь: в лагерь… И сейчас, почти полвека спустя, вспоминая письмо, все еще испытывала жгучее чувство стыда и боли.
Это было письмо… слава Богу, что его у меня нет. Увы, нет и последующих писем за 10 лет — до 50-го года, когда отца снова арестовали, теперь уже в лагере.
При аресте он заложил в наволочку мои письма и взял с собой. Почему-то это не запретили.
Однажды, когда в лагерной тюрьме отец шел в очередной раз к следователю, как он считал, на очередной допрос, его, оказывается, освобождали, просто добавили десятку — «за диверсию в лагерях», о чем следователь и объявил ему сейчас, торжественно и отчетливо выговаривая каждое слово, и велел возвращаться в свой барак. Отец тут же, прямо из кабинета следователя, пошел ДОМОЙ.
У тюремных ворот его бросило в жар: письма! Они остались в камере. Он повернулся и пошел назад. Он не сомневался, что ему отдадут наволочку, здесь письмами никто не интересовался, но он… он не забрал их, и они все пропали — ОТЕЦ НЕ
СМОГ ПЕРЕСТУПИТЬ ПОРОГА ТЮРЬМЫ…
И ушел.
И никогда себе этого не простил.
Если бы папа забрал тогда мои письма, Юлька вернула бы их мне в 73 году, когда папа умер, как вернула те, что накопились в лагере потом, с 50 года, и те, что приходили уже в Москву после освобождения — до конца, до смерти… И тогда я смогла бы перечитать ТО письмо. Хорошо, что я не смогла это сделать, — память не то, не чтение…
Память все смягчает, смазывает; оставляя СУТЬ, смахивает «мелочи»: почерк, конкретные слова, обороты, знаки препинания… Все это уходит, а ведь дело в этом, именно в этом, — в МЕЛОЧАХ! Вот я и говорю: хорошо, что нет того письма, хотя… мне все равно никуда не деться от него, не уйти, — все, о чем я писала и как писала, мне известно из подробного папиного ответа, но все же хорошо…
Мелким, убористым почерком, четко выписывая каждую букву, отец отвечал мне, девчонке, на 21-й странице!
«Дорогое мое дитя, — писал отец, — твое письмо вызвало у меня целую бурю чувств, потрясло все мое существо. Ряд ночей я не мог уснуть, я все беседовал с тобой, делился, убеждал — впервые делился, как со своей старшей дочерью, как с уже взрослым человеком.
Дочь моя дорогая, бесконечно любимая моя! Я поздравляю тебя со вступлением в комсомол, со вступлением в ряды боевой большевистской смены; из своего проклятого далека я от всей души приветствую самую лучшую, самую яркую, лучезарную полосу жизни, в которую ты сейчас вступила и которую люди назвали прекрасным словом — юность!»
(С тех пор я была влюблена в это слово, в само звучание, написание его: ЮНОСТЬ!
И я знала, что если я в своей юности ощущала ее чудо, ее вдохновенную силу, если она прошла не затем, чтобы стать лишь «прекрасным воспоминанием», а каждый день ее был ПРОЖИТ, и прожит светло, радостно, ликующе, — это было связано с первым папиным письмом из лагеря.
…Я наслаждалась юностью, я купалась в ней, во мне всегда что-то пело, я всегда была счастливой, всегда влюблена, все прекрасное немедленно отзывалось во мне, небо надо мной было высоким, я всегда была красивой, всегда сильной, готовой выполнить любое дело, — юность моя прошла на войне — самое трудное, самое невозможное, самое неинтересное, — все было возможно, интересно, легко, я могла сделать счастливым весь мир, мне ничего это не стоило! И ВСЕ ЭТО БЫЛО ОТЦОМ!)
«Мне грустно, доченька, и очень больно, что собственными глазами я не могу видеть твоей торжествующей юности, но мне было бы еще тягостней, если бы это обстоятельство хоть в малейшей степени омрачило ее.
Будь здорова, будь счастлива, будь радостна, будь бодра!» Как часто потом приходили ко мне эти последние слова! Не в письмах, нет, — САМИ!
Это письмо папа писал 8 дней — с 29 декабря 40-го года по 5 января 41-го. Оно было послано из Котласской пересылки, не почтой — папа с кем-то его передал.
«…Пока я писал тебе, стукнули сильные морозы (-46). В наших краях страшны не морозы сами по себе, а тем, что они сопровождаются пронизывающими ветрами. В бараке стало не совсем тепло»…
… О, моя юность!
Когда мне было 13 лет, я написала один рассказ. В нем говорилось о девочке Наташе, пионерке, у которой были родители, дедушка с бабушкой и младшая сестренка — прямо как у меня! И обстановка в Наташиной квартире была, как у нас, только абажур в столовую я позаимствовала из квартиры одной моей школьной подруги — Сони Бродской.
Это был очень красивый абажур и такой большой, что когда все сидели за столом, он чуть ли не накрывал всех. Но главным в абажуре был особый шнурочек, заканчивающийся золотым шариком. Во время обеда у Сони то и дело дергали за этот шнурочек, вызывая старенькую няньку: принеси то, принеси это… И нянька приносила. А за шнурочек все дергали и дергали: то да это, то да это…
В Наташиной семье, как и у нас, никакой няньки не было, некого было вызывать и нечего приносить ЕЩЕ: у нас с Наташей бабушки накрывали на стол СРАЗУ. Так что за шнурочек в рассказе никто не дергал. Абажур просто висел, и все.
Отец у Наташи был настоящий коммунист. Это знали все. И еще он был добрый и веселый, и все его очень любили, а Наташа с отцом вообще была в закадычной дружбе, — как я со своим.
И вдруг Наташиного отца арестовали.
Наташа видела, как он, не оборачиваясь, уходил…
Рассказ был написан, но я не знала, какой должен быть конец, как должна теперь вести себя Наташа: продолжать ли любить отца или не продолжать.
И я пошла к папе. Он все знает и все скажет. Папа что-то писал за своим столом в кабинете. Я сказала, что написала рассказ, но не знаю, какой должен быть конец.
Папа бросил работу, разулыбался и обнял меня. Я положила перед ним школьную тетрадь. Он, держа меня перед собой, стал читать. Вдруг он как-то странно замер, перестал читать и внезапно отпустил меня, словно выронил, и встал.
Я никогда не видела его таким. Я ничего не понимала.
Папа ходил по кабинету и молчал.
Потом, подойдя ко мне, спросил:
— Откуда ты это взяла? В школе задали?
— Нет, просто сама…
— Что сама? Сама придумала?
Папа снова стал ходить по кабинету. Он что-то говорил, что-то бормотал про себя, но так невнятно, так тихо, что я ничего не поняла.
Потом он сел, посмотрел на меня как-то странно, как-то словно издалека-издалека, и вдруг быстро провел рукой по моей голове.
Почему папа так погладил меня? Я не понимала. Но я не задумалась над этим, сердце мое не сжалось, душа не перевернулась. Никакая ТОНКАЯ ДЕТСКАЯ ИНТУИЦИЯ ничего мне не подсказала.
Почему я была такой?
Папа листанул веером мою тетрадь и снова встал.
Он сказал: «Наташа больше не должна любить своего отца». И добавил: «Да, ЛУЧШЕ его не любить…» Голос его был не его. Сказав это, он снова листанул тетрадь.
Руки у него дрожали. Затем он как бы слегка подтолкнул меня к двери. И плотно закрыл ее.
Я пришла в детскую и тут же дописала рассказ — как сказал папа. И легла спать.
Через два месяца папу арестовали.
Была ночь.
Я, держа котенка в руках, стояла возле детской в прихожей. Папа сказал: «Комедии прощания устраивать не будем».
И пошел.
Я видела, как он, не оборачиваясь, уходил. Как Наташин…
В углу прихожей, опустив фуражку, плакал дворник.
Он ушел последним.
Мама сидела в кабинете на папином черном кожаном диване. Белая как мел. На столе, на полу — везде лежали вороха бумаг и встрепанных книг.
Мама подняла с пола какой-то лист и стала внимательно читать.
С 38 по 40 год мы ничего не знали об отце. Мы с мамой искали его, ходили к каким-то ОКОШКАМ — на Арбат, на Кузнецкий, еще куда-то… Наконец нам сказали, что мы можем послать папе посылку, написать ему, вообще можем писать два раза в месяц, и дали адрес.
Вот тогда я и написала…
«…Да, дорогая, твое письмо, излучающее столько тепла и света, содержит одну, всего лишь одну печальную страницу, и эта страница посвящена мне… Жестоко страдая, читал я о твоем теперешнем отношении ко мне, о твоей интерпретации фактов моего ареста и заключения…
Да, да, ты, конечно, «честно и прямо», пожалуй, несколько сурово, ставишь передо мной вопросы: в чем дело? как могло ЭТО произойти?
…Кто знает, может быть, было бы лучше, если бы я сказал тебе: вырастешь, дочка, узнаешь… Но, во-первых, ты уже выросла и требуешь немедленного ответа, а, во-вторых, сам я кровно заинтересован, чтобы ты знала правду. Другое дело, я мог бы обидеться, что моя дочь не сразу почувствовала, что произошла какая-то ошибка и в связи с этим не сумела сразу определить своего отношения ко мне, но я не обиделся и твою постановку вопроса принимаю.
Знай же, что твой отец ни в чем не повинен, никаких преступлений не совершал, ни себя, ни семьи своей не позорил, ни одного человека не оговорил»…
«…произошла какая-то ошибка»… Этой мыслью я долго потом жила — в школе, в армии, первый год в институте, — пока не приехала к папе в лагерь, в 47 году.
Там я увидела много-много людей, да в одном папином бараке… «И со всеми произошла какая-то ошибка», — думала я и вдруг произнесла эти слова вслух. При папе. Как-то совсем внезапно и неожиданно слова эти слетели с моих губ. Я растерялась, но папа быстро ответил: «Да». И тут я увидела его глаза и — осеклась…
Папа тоже ничего больше не сказал, мы вообще больше об этом не говорили, но мне казалось, что ему было не по себе от этого оборванного разговора, что в нем была какая-то фальшь, и папа, чувствуя ее, страдал…
Но с этой минуты я впервые стала что-то понимать. «Понимать»… Конечно, это громко сказано, но что-то именно тогда во мне сдвинулось…
А папа? Он же сам писал мне о какой-т о ошибке!
Писал.
В январе 41 года, а сейчас (мое свидание с папой в лагере!) — январь
47-го…
Что пережил он за 6 этих лет и как пережил? Что перенес, передумал, понял?
Кстати, 6 лет — это ведь с того времени, как папе разрешили писать, а репрессирован-то он был уже более 9!..
Ошибка!..
Папа продолжал письмо.
«Ты, детка, конечно, помнишь «Дон Кихота», написанного, кстати, в тюрьме. На страницах этой своей книги Сервантес рассыпал много замечательных поговорок.
Есть в ней и такая мудрость: «Правда, как масло в воде, обязательно всплывет на поверхность». Я верю, что правда в отношении меня рано или поздно будет восстановлена — всплывет на поверхность! — верю, иначе потерял бы веру в саму жизнь. А жить хочется, очень хочется!»
Папа писал, что много раз видел т а м «смерть в глаза». Последний раз, когда болел, когда температура была свыше 40 градусов. Он слышал, как смерть звала его, заманивала, сулила покой и отдых, избавление от всех мук…» Коварно убаюкивая, усыпляя, напевала она колыбельную Некрасова:
Еще вчера людская злоба Тебе обиду нанесла; Всему конец, не бойся гроба! Не будешь знать ты больше зла! Не бойся клеветы, родимый, Ты заплатил ей дань живой, Не бойся стужи нестерпимой: Я схороню тебя весной.Были минуты, когда папа и в самом деле хотел умереть, — «смерть так много обещала, а я так устал»…
«Но это были лишь отдельные минуты, а всем своим телом, изболевшимся, измученным телом, всеми фибрами своей души я тянулся к жизни.
Жить! Жить во что бы то ни стало! «Надо, чтобы я жил, — говорил я врачам, — пожалуйста, сделайте так, чтобы я жил!» Это не было животным страхом перед смертью, нет, моя дочь, я не боялся ее. Это была сохранившаяся здоровая тяга к жизни. И я напрягал свои последние силы, остатки их, чтобы победить смерть, одолеть ее, и, как видишь, одолел.
Итак, я остался жить и на этот раз. Но основной опорой в моей жизни, основным бугорком, ухватившись за который я еще могу ее продолжать, это вы, это ваша моральная поддержка, связь с вами.
Имею ли я право на эту связь, на эту поддержку?
Да, имею! Моя невиновность дает мне это моральное право. Право просить у своих родных о доверии ко мне. Не отворачиваться, нет, напротив, помочь, поддержать!»
Так писал мне отец…
… «Просить у своих родных»… А РЕЧЬ ВЕДЬ ШЛА ТОЛЬКО ОБО МНЕ!
«НЕ ОТВОРАЧИВАТЬСЯ»… — речь шла обо мне, ТОЛЬКО ОБО МНЕ!
Старшая дочь вдруг резко наклонилась к одной пустой уже большой сумке. Она что-то искала в ней, от чего сумка шуршала и изгибалась.
Все замерли.
Внезапно дочь разогнулась.
С ЗУБАМИ!
Огромные оскаленные зубы с кривыми свисающими клыками еле умещались во рту.
Она запрыгала с ними, выбрасывая руки то вверх, то в стороны, взбивая при этом свои и без того пышные волосы, лохматя их. Продолжая прыгать, она схватила с дивана какой-то яркий красный шарфик и быстро повязала себе косо на голову, закрыв им один глаз.
Теперь волосы дыбились во все стороны из-под шарфика. Да, разбойничий был вид!
Напряжение в комнате сменилось взрывом хохота, так что мать немедленно покатила колясочку с ребенком в другую. Наперебой посыпались вопросы, восклицания:
— Дай мне!
— Дай мне!
— Чья фирма?
— Ну, протезы!!
— Сколько челюстей привезла?
— Подожди! — крикнул младший зять и помчался в кухню. Он принес веселый сверкающий ножик и, протягивая свояченице, жестом показал, чтобы она вставила его между зубами. Но — не вышло: зубы не могли удержать его — не по зубам он был.
Дочь закончила танец и, пощелкивая челюстями, торжественно направилась в ванную — снимать и ополаскивать их.
Теперь зубы были у младшего зятя, и это было почему-то еще забавней.
Все смеялись.
— Зубы — одни, берите, кому надо! — старшая дочь подняла с пола нож и стала внимательно рассматривать его.
…НЕ ПО ЗУБАМ…
… право просить у родных доверия… не отворачиваться, нет… помочь, поддержать…
Я, А НЕ КТО-ТО ЕЩЕ В СЕМЬЕ, ПРЕДАВАЛ ОТЦА, Я, ТОЛЬКО Я!
Почему я была такой?
Где же то непреложное чувство родства, которое всегда право?
Ну, время, ну, дура, девчонка тех времен!.. Но только временем, одним временем не объяснить этого, нет! И тем, что я была ДЕВЧОНКОЙ ТЕХ ВРЕМЕН. Разве все девчонки, у кого отцы были репрессированы, писали им в те времена такие письма?
Нет. Это я знала, — у половины моих подруг, может, больше половины, отцы были в лагерях. Но только я, я одна…
И я считала, что поступила правильно, хорошо. Я ГОРДИЛАСЬ СОБОЙ!.. А ведь я так любила Диккенса…
Нет, у меня был какой-то дефект, чего-то во мне не хватало…
Я долго бы не поняла, в чем дело, может, вообще никогда бы не поняла, если бы не сам отец, — он невольно объяснил мне меня — в том же своем письме, в первом, но все началось с того моего.
Дело в том, что оно было очень большим и лишенным логики, поэтому, высказавшись, так сказать, принципиально, я тут же забыла свою «принципиальность» и писала отцу уже обо всем на свете и — очень доверительно: с кем дружу, как учусь, какие кружки посещаю, какие читаю книги, какие у меня успехи по музыке, какие новые коллекции бабочек сделала… Было в нем и о смерти бабушки, матери моей мамы.
Тут-то все и раскрылось…
Вот что я написала о бабушке (конечно, и это из папиного письма — он цитировал меня): «После смерти бабушки мне многое стало казаться несколько в ином свете.
Может быть, это нехорошо, но, говоря откровенно, меня больше тронула смерть человека вообще, чем смерть самой бабушки».
Папа ответил: «Мне стало жутко от этой холодной философской формулы. Я, конечно, понимаю, что на тебя, девушку впечатлительную, не могло не произвести огромного воздействия непосредственное столкновение со смертью, впервые переступившей порог нашего дома. Но бабушка, бабушка, которая выращивала тебя, которая отдавала тебе столько душевных и физических сил, — разве о смерти такой хорошей бабушки, которая была у нас, можно было сказать то и только то, что сказала ты?
Разве утрата самой бабушки не должна была вызвать в тебе какие-то большие, глубокие переживания, непосредственно относящиеся именно к ней? Откуда, Инночка, такая холодность и к чему она?
Дитя мое, мне хочется предостеречь тебя»…
И папа написал мне, что существуют люди, особый тип людей, которые на своей основной и общественной работе просто идеальны, они являются примером для всех, они передовые, лучшие, а вот дома, в личной жизни… Дома они буквально преображаются… В отношении к своим родным, к семье, к близким люди эти становятся сухими, заносчивыми, безразличными, даже бездушными, даже жестокими… О них говорят, что они принадлежат к старшему поколению большевиков и что их нужно еще долго и много воспитывать… Нужно ли распространяться о том, что молодежь не должна следовать примеру этих людей?! Страшись, девочка, недооценки своих близких, и прежде всего родных, каждый из которых готов отдать за тебя самое дорогое, что у него есть — жизнь».
ГОСПОДИ! ВОТ, ОКАЗЫВАЕТСЯ, КТО Я! ВОТ КТО Я!!! ПРЕДСТАВИТЕЛЬ СТАРШЕГО ПОКОЛЕНИЯ БОЛЬШЕВИКОВ!!!
Кто бы мог подумать? Ведь я понятия о них не имела, о представителях этих, а вот…
Но почему, почему же?? Почему это случилось именно со мной? ПО-ЧЕ-МУ?
Но теперь было ясно, почему я была такой бесчувственной в кабинете отца, когда принесла ему свой рассказ. Почему не видела немых страданий мечущегося в комнате загнанного человека, такого родного, самого родного! Почему не понимала его смертельного страха именно за меня (ЗА-МЕ-НЯ!), заставляющего говорить не свое, а что-то совсем чужое, совсем дикое, обалдело-механическое!..
Я была холодна ко всему, кроме ДЕЛА, за которым пришла: получить совет, как закончить рассказ, и все.
ОСТАЛЬНОЕ МЕНЯ НЕ ИНТЕРЕСОВАЛО!
…Мое письмо! Задыхающееся от восторга, с множеством восклицательных знаков!..
О, это я помню!
Оно казалось мне ярким, смелым, умным, а было не только глупым, не только трусливым, скудным по мыслям и чувствам, но — самое страшное! безоглядным и потому — неправедным, хотя… правдивым, именно правдивым, честным, искренним.
Это так, это действительно так: ни одного слова неправды или фальши в нем не было. Но оно было НЕПРАВЕДНЫМ. А это совсем другое, совсем…
Вот в чем дело…
3. КОНФЛИКТ
Своему мужу старшая дочь вручила две прекрасные книги пражского издания, купленные на улице Горького в магазине демократической книги японское классическое искусство, живопись и графика. В одном томе Харунобу, в другом — Сэссю, Мосанобу, Утамаро и Хокусай.
Обложки были в виде красивых твердых папок, которые спереди своеобразно застегивались: маленькие, как бы бамбуковые палочки проходили сквозь двусторонние петли на папках, крепко держась в них.
Конечно, были и всеобщие любимцы семьи — клоуны.
На бирках, висящих на их руках, были написаны имена. Большой, в красно-синей клетчатой кепке, был Эжен, поменьше, в оранжевом колпаке и пышном кружевном жабо — Бим, а совсем маленький, махровый, с обручем в руках — Виктор.
Я передала матери две школьные тетрадки, исписанные мною — стихи Высоцкого из книги «Нерв», которую Юльке удалось достать.
Я сидела ночами в Москве и переписывала эти стихи, и почти весь «Нерв» списала.
А Юлька — так мы называли ее про себя — это вторая жена деда.
С вечера он подготовил жену к операции: искупал и подстриг машинкой наголо — для надевания послеоперационного гипсового скафандра.
Приведя в палату, улыбаясь, сказал: «Котовский».
Утром вместе с анестезиологом отвез на каталке в операционную и с самого начала не стал стоять возле ее дверей, а стал убирать в тумбочке жены, хотя вчера убрал там, и в тумбочке был полный порядок. Из нее, из какой-то книги, выпал небольшой листочек. На нем были написаны слова, все почему-то начинавшиеся с буквы «П»:
палата, подарки, позвонки, перевозчик-водогребщик, парез*, перо жар-птицы, перстень, % голубого неба, Планида, парус. Да: «процент» был изображен в виде своего знака, а «Планида» начиналась с заглавной буквы.
Что все это означало, он не знал, подумал: Какие-то заготовки для стихов. Он спрятал листочек в свою записную книжку — отдаст жене после операции, и тогда уже спросит, что это.
Но после операции было не до листочков…
Совсем плохо ей было, а тут надо было еще перенести (на вторые сутки после тяжелой операции!) надевание гипса, так называемой кранио-торокальный, то есть черепно-грудной, гипсовой повязки, или попросту скафандра, чтобы прижилась трупная кость, вставленная между половинками 4-го и 6-го шейных позвонков — другие половинки были удалены и вместо полностью удаленного 5-го.
Открытыми от этой повязки оставались лишь макушка и лицо, да и то — не полностью… Рот — щелкой, чтобы хоть как-то втягивать в себя жидкую пищу… Да, открытыми были еще молочные железы, богатый ее бюст, как шутя говорили они дома… Ох и тяжело было ему, богатому, в грубых прорезях гипса!
Повязку эту, гипсовый скафандр, предстояло носить три, а то и четыре месяца.
Но что носить, что забегать вперед! Надеть ее надо было, а надевалась она — кому как, конечно, — часа два-три, а потом больше суток сушилась…
Старый гипсовый мастер, гибкий как лоза, худенький Терентич, вначале зашел поглядеть на нее в целом, — как на модель, вернее, болванку, на исходный материал, с которым ему предстояло работать, а материалом этим было предельно измученное почти двухлетней каузальгией тело, к которому невозможно было прикоснуться, так как самое легкое касание — и чем легче, поверхностней оно было, тем сильнее — вызывало эту мучительную жгучую и совершенно ПРОТИВОЕСТЕСТВЕННУЮ боль (Боль, например, при ушибе руки-ноги, уколе пальца и подобном — естественная: она ПОНЯТНА человеку, легко представима, воспроизводима в уме, она лечится, но эта…).
Обычное касание тела одеждой, постельным бельем было настолько тягостным, что дома она ходила почти голой, а если кто-нибудь к ним заходил — надевала особо сшитый — чуть ли ни на одном шве! — широкий халат. Свежие, отутюженные простыни, прежде чем ей постелить, долго и сильно мялись — гладкая ткань переносилась особенно мучительно…
И почти неподвижным был этот материал — из-за тяжелого тетрапареза** и вращательного головокружения…
«Тэк-тэк», — цедил сквозь тонкие губы Терентич, оглядывая ее, голую по пояс, со всех сторон, и щурил левый глаз.
Он тут же сделал разные карандашные наброски возможных, моделирующих формы тела гипсовых ходов — ЭСКИЗЫ — и, показывая ей и мужу, уважительно говорил, что можно «тэк», а можно «тэк»: как ИМ, — он кивал в ее сторону, — больше понравится, но «им» было все равно, и Терентич сказал, что «тогда» будет ОДЕВАТЬ «по своему вкусу». И одел.
Надели все же кранио-торокальную повязку! Причем, без введения наркотиков, которые были здесь показаны, но она отказалась — не переносила.
«Любой мужик за это время раза три бы в обморок хлопнулся», — шепнул мужу ее хирург, присутствовавший при процедуре. А она — ничего, выдержала…
Перед гипсом над было надеть еще подкладочку, чтобы не класть его на голое тело, и не какую-нибудь, а шерстяную — шерстяной такой КАФТАНЧИК!.. А был невероятный июнь, как никогда в Новокузнецке: плюс 35 на улице, а в палате и все 50, так как батареи до сих пор по всей клинике почему-то не были отключены. А у них к тому же была крохотная палата-изолятор — дышать и вовсе было нечем, глаза вылезали…
Операция, которую сделал ей здесь совсем молодой нейрохирург, не только спасла ее от смерти, но одарила вторым рождением — она действительно начала жить заново.
Операция эта нужна была давно, еще до московской, и не только «до» вместо, знай она давно, что с ней, но уж во всяком случае в 69-м, когда эту московскую делали, когда полупараличи рук и ног стали такими тяжелыми, и появилось еще множество других серьезных симптомов… Но профессор, завкафедрой факультетской неврологии их области, известный и вообще в медицинском мире страны, направил ее не в Новокузнецк, а в Москву.
Странно, но ОН ПОНЯТИЯ НЕ ИМЕЛ (!), ЧТО У НИХ ЖЕ В СИБИРИ, СОВСЕМ РЯДОМ, РАЗРАБОТАНА И ХОРОШО ОСВОЕНА КАК РАЗ ТА ОПЕРАЦИЯ, КОТОРАЯ ТОЛЬКО И БЫЛА ЕЙ НУЖНА, ОН ВООБЩЕ НЕ ЗНАЛ, ЧТО ТАКОВАЯ СУЩЕСТВУЕТ (!), ХОТЯ ЕЕ УЖЕ ДЕЛАЛИ ВО ВСЕМ МИРЕ, правда… НЕ в Москве. Однако Москва ЗНАЛА О НЕЙ! Прекрасно знала создателей и первых — теперешних! — исполнителей ее у нас, но, зная, знать не хотела, а сама не владела! Вообще не владела нейропластикой, на которой как раз и была основана эта умная и такая эффективная операция и, главное, абсолютно не травмирующая, как московская, спинной мозг.
Но! Москва не подумала отказаться от этой больной! Не подумала отправить ее назад, в свою Сибирь, в свою провинцию, где был и этот самый Новокузнецк! Нет!
Знаменитый московский нейрохирург сделал ей СВОЮ операцию — не просто бессмысленную, но строго ей ПРОТИВОПОКАЗАННУЮ, и тут же, не отходя от операционного стола, обратил ее в глубочайшего инвалида и мученика. Знай наших!
У нее было врожденное сужение спинномозгового канала на шейном уровне. То есть спинной мозг ее был, по сути, в опасности уже от рождения, но особо уязвимым становился в юные и зрелые годы, когда нагрузка на позвоночник нарастала, — нарастала, следовательно, и возможность травматизации. Эластичность же межпозвонковых дисков (главный элемент в работе позвоночника***) в этом самом активном возрасте чаще всего уменьшалась (диски рано стареют!), что у человека было как бы нормой.
И получалось — не сводились концы! — норма нередко «оборачивалась» болезнью, особой болезнью позвоночника — остеохондрозом.
В условиях же врожденно суженного спинномозгового канала при падении эластичности дисков и нарастании нагрузки на них достаточно и вовсе немногого, чтобы заболевание не только быстрее и пышнее расцвело, но, возможно, дало одно из самых серьезных своих осложнений — сдавление (компрессию) спинного мозга, миелопатию (миело — мозг, патия — состояние. Миелопатия — хроническая компрессия (состояние) спинного мозга): спастические парезы, параличи, слабость конечностей, мышечная атрофия, нарушение чувствительности…
В широком канале, просторном, спинному мозгу «дышалось» легко, — даже большие, грубые изменения межпозвонковых дисков и позвонков — не достигали его, не травмировали.
Свое «немногое» она получила прежде всего на войне, в армии, куда ушла в 17 лет добровольцем.
Все три ее военных года были полны для нее, городской домашней девочки, не просто незнаемой до того, не просто тяжелой, но порой совсем непосильной физической работы, непосильной даже и для крепких деревенских женщин, привычных к тяжелому труду. А ей особенно потому еще так досталось, что она ушла в армию в пору, когда позвоночник не был до конца сформирован (точнее, не был полностью окостеневшим, «взрослым»), что наступало к 23–26 годам, а тут еще этот врожденный дефект… Вот и оказалась её хребтина столь чувствительной к физической нагрузке — и общего характера и к той, что непосредственно касалась шеи: к тасканию на ней здоровенных, тяжелых катушек с кабелем, на шее девичьей, то-о-ненькой, почти начисто лишенной и внешней опоры — развитых мышц…
Знай она о своем неполноценном с рождения позвоночнике, она ДОЛЖНА БЫ всегда! — жить ОСТОРОЖНО, быть БЛАГОРАЗУМНОЙ, ПРЕДУСМОТРИТЕЛЬНОЙ: голову поворачивать тихонько, лучше не поворачивать совсем, а поворачиваться при необходимости всем телом, не заниматься общей физкультурой, — только лечебной, да и то — индивидуально РАЗРАБОТАННОЙ…
Осторожно, совсем немного, работать физически и, конечно, без всяких перегрузок, не играть в любимый волейбол (О Сиршасане и упоминать не станем)… Словом, НЕ, НЕ, НЕ!
…Жить ОС-ТО-РОЖ-НО (ясное дело, ОДНОЙ ЖИЗНЬЮ!)…
Но какие могли быть У НЕЕ осторожность, благоразумие, предусмотрительность??
Так что, слава Богу, что не знала она ничего о своей шее до самого до случившегося, так как помочь все равно бы никто не мог — остеохондроз в нашей стране начали (только начали!) изучать в конце 50-х годов, в их же области — в конце 60-х, да и то — вначале изучали рентгенологи… Операции же в Новокузнецке начали делать лишь в 63–65 гг., то есть высокого мастерства даже и у нейроортопедов еще не было…
Но знай она о своей болезни даже с юности, если бы та была известна, все равно бы ушла на фронт, все равно жила бы как жила… ДИСКОМФОРТ — ее стихия («Я шагаю по канату, что натянут туго-туго между смертью и обычной нашей жизнью дорогой»…), ее органическое состояние, жизнь — грань…
Все, что она делала, действительно всегда было на грани возможности. Со стороны казалось, что вот-вот, и… Но все всегда хорошо кончалось, она не срывалась. И не потому, как некоторые думали, что побеждала себя, а потому, что ее вела Любовь. Она и не давала любому делу (мытью окон до алмазного блеска, подготовки доклада до проработки малой малости, предельной четкости мысли и красоты изложения) превратиться в мучение, в скуку, в утомление, в тоску. ЕЙ НРАВИЛОСЬ ВСЕ, ЧТО ОНА ДЕЛАЛА, хотя «нравилось» не то было слово — она ОБОЖАЛА все!
Вот, например, как заканчивалось одно ее стихотворение, называемое «Я люблю»:
…я подарки люблю дарить! Я люблю эти елки снежные, Карагачей ветви перистые, Я люблю своих ТРУДНЫХ больных! Стол, заваленный книжками разными, Одуванчик весною ранней, Нет, не просто «люблю» ОБОЖАЮ! Пусть звонит без конца телефон! Я не просто хмелею, любимые! — И лечить бесполезно: ЗАПОЙ!Вернулась она из армии уже больной, но не настолько, чтобы осознавать это всерьез, тем более осознавать всю меру опасности… К тому же обращать внимание на какое-то недомогание В ТО ВРЕМЯ было просто нелепо. Надо было начинать жизнь сначала, жить в крохотной комнатке при мужской школе, где преподавала мама, где ежедневно послевоенные школьники преподносили им множество «сюрпризов», когда, например, влетавший через оконное стекло в тарелку супа камень, был пустяком, когда надо было получать аттестат зрелости — ведь она ушла в армию из 10 класса, не окончив и первой четверти его, поступать в институт… Да и все свои жалобы она легко объясняла тогда недоеданием, усталостью, даже переутомлением, которые действительно были…
Ну а потом — вся дальнейшая ее жизнь — ДВЕ СРАЗУ… Они-то и завершили формирование ее шейного остеохондроза, этой «болезни бухгалтеров», «болезни согнутой шеи» (у нее шея была согнута порой сутками), столь распространенной среди людей, но в общем-то протекающей довольно благополучно. Это — ХОРОШЕЕ заболевание: дает длительные ремиссии (светлые промежутки), иногда бывает лишь эпизодом в жизни, успешно лечится, да и компенсаторные возможности организма велики; смертности же при остеохондрозе практически не бывает.
Такое течение, как у нее, — столь неординарное, небанальное! редкость. Точнее: большая редкость…
Операции при остеохондрозе тоже явление не частое. Здесь важно не пропустить момента необходимости ее. Где остеохондроз хорошо лечат, операции и вообще не бывает.
Процент операции в разные годы разный, что и понятно. В мои времена он был равен примерно 3.
Последним для нее, так сказать, разреушающим фактором оказалась Сиршасана, стойка на голове, на такой голове-шее, где к тому времени уже не было живого места, не было ни одного здорового диска…
Действительно, очень скоро после этих стоек у нее и появились парезы конечностей…
Поразительным тут было еще то, что она умудрилась целый год (!) не только не обращать внимания на болезнь (из страха ОСОЗНАТЬ? от УЖЕ осознанного, и осознанного как НЕПОПРАВИМОСТЬ? Бог ее знает: она ведь была врачом…), но и отвести от себя, от своей походки глаза самых близких людей!
Так был потерян такой важный для лечения год. Так ее любимая Сиршасана, ее гордость, оказалась последней каплей…
…Сиршасана… самая важная из асан…
Сиршасана делается так…..и, прижимая колени к груди, начинаешь выпрямлять тело, поднимая его и ноги к не-бе-сам!
Я была влюблена в Сиршасану… в нечеловеческий свой труд… и добилась… не было тяжело…
Я так насобачилась!..
…сразу в свечу, в вертикаль!
… и мир был прекрасен!
Сиршасана — мое вдохновение!
«Давно я не получал от тебя такого бодрого письма, — писал ей из Москвы отец. — Для меня совершенно неважно, каковы, так сказать, спортивные результаты йоговой гимнастики. Важней всего то, что у тебя хватило силы воли, упорства, чтобы одолеть эти сложнейшие упражнения, и именно это я считаю главным признаком твоего выздоровления».
…В московской клинике, прямо перед моим поступлением, умерли две молодые женщины, по совпадению — тоже врачи и тоже делавшие Сиршасану…
Вот так и получилось, что все шло и пришло к возникновению особого конфликта — диско-медуллярного. То есть конфликта, как явствует из названия, между дисками и спинным мозгом (medulla), дисками совсем уже плохими, разрушенными — с грыжами*, с реактивно возникшими задними костными разрастаниями на телах позвонков над грыжами… В двух местах на рентгене были видны почти сидящие друг на друге подвывихнутые позвонки с неровными тонюсенькими полосочками между ними — остатками дисков…
Грыжи…
Задние грыжи — а у нее были задние — направлялись кзади, именно к спинному мозгу, травмируя, сдавливая его — или непосредственно, или за счет нарушения кровообращения в нем и связках — воистину КОНФЛИКТОВАЛИ! Миелопатия, о которой шла речь, и была прямым следствием этого конфликта. Операция освобождения спинного мозга была у нее срочной — ПО ЖИЗНЕННЫМ ПОКАЗАНИЯМ! Ну а то, что успех ее зависел от ее характера, не знали не только больная и ее муж — их профессор… Да что говорить: знаменитый в стране московский нейрохирург по тому же незнанию считал, что место этой больной здесь, в ЕГО клинике!.. не знал и знать не хотел? А ведь знал! ЗНАЛ!.
…знать не хотел…
Вот так и получилось, что в Москве ей сделали не только ненужную, но губительную операцию, лишив нестабильный ее позвоночник последней опоры, пусть небольшой, но опоры — дужек, образующих заднюю стенку спинномозгового канала, нанесшей ее несчастному спинному мозгу еще одну, самую большую и жестокую травму, — операционную.
Надежда московского нейрохирурга, что его операция — ЛАМИНЭКТОМИЯ удаление части дужек и соответствующих им остистых отростковрасширит суженное пространство позади спинного мозга, была не просто напрасной, она была необоснованной, ну, инфантильной, что ли…
Дело в том, что на проблему: остеохондроз — спинной мозг «чистые» нейрохирурги (московские в те времена) смотрели весьма просто, весьма элементарно — никакой дифференцировки: сжат спинной мозг — освободи его СЗАДИ! Все! Ламинэктомия!
Ламинэктомия — единственный и понятный для нейрохирурга подход, операция же СПЕРЕДИ — через диски и тела позвонков (ПЕРЕДНИМ ДОСТУПОМ. Так она сокращенно называлась**) — ту, которую сделали ей в Новокузнецке прерогатива нейроортопедов. Они смотрят на проблему остеохондроз — спинной мозг именно ОРТОПЕДИЧЕСКИМИ ГЛАЗАМИ, то есть ШИРОКО.
Они тоже знают ламинэктомию и делают ее, но… по необходимости — кому надо, то есть, дифференцируя. Таким образом, при выборе способа оперативного вмешательства, нейроортопед обладает СВОБОДОЙ, у него нет нейрохирургической ограниченности — ОДНОГО ПУТИ: ДЕЛАЙ ТАК И ТОЛЬКО ТАК! Иначе, НЕЙРОХИРУРГ НЕ ВЕДАЕТ СОМНЕНИЙ! А ведь это страшно несомневающийся врач!
Профессор, который оперировал меня в Москве, был хирургом экстракласса и при желании мог бы легко освоить операцию переднего доступа, но — он не желал этого, ибо был ПРОТИВНИКОМ ее, не понимая ее сути и не желая понимать, вникнуть в нее, увидеть ее преимущества, — шел ПРЯМО, раз и навсегда выбранным путем (способом).
Он не был ХУДОЖНИКОМ, ТВОРЦОМ, тем более, БОЛЬШИМ, то есть не был, как уже говорилось, МУЧЕНИКОМ СОМНЕНИЙ, а, значит, — СОВЕСТИ (Говорят, Врубель даже портил свои полотна…)
И к МОЕМУ СЛУЧАЮ профессор подошел СТАНДАРТНО, не видя в нем ничего индивидуального, то есть подошел как самый обыкновенный ремесленник…
Молодой же новокузнецкий нейроортопед оказался подлинным ТВОРЦОМ: он пошел на ликвидацию САМОГО диско-медуллярного конфликта: выкинул дефектные позвонки, освободил спинномозговой канал от выпавших в него дисков и образовавшихся спаек, поставил вместо них трансплантат, трупную кость, вернув тем самым позвоночнику его высоту, а, значит, и нужную длину спинному мозгу, создав все условия для репаративных процессов, предупредив дальнейшее прогрессирование болезни.
Но… вернемся к московской операции… Освободившееся было в результате ламинэктомии пространство позади спинного мозга, на что и был расчет, постепенно начало суживаться — из-за рубцевания здесь, на месте операции, и спинной мозг в конце концов вновь оказался в том же узком пространстве, что и был, только вместо гладкой задней стенки его канала, дужек, появились спайки. То есть КОНФЛИКТ ДИСКОВ СО СПИННЫМ МОЗГОМ У НАШЕЙ БОЛЬНОЙ ОСТАВАЛСЯ, ИБО НИЧЕГО ВЕДЬ НЕ ИЗМЕНИЛОСЬ ПОСЛЕ ОПЕРАЦИИ, ТАК КАК НИЧЕГО НЕ БЫЛО СДЕЛАНО КРОМЕ ОДНОЙ ЭТОЙ ЛАМИНЭКТОМИИ, правда… Сказать, что «ничего не было сделано» нельзя было, и очень было! Была нанесена грубая операционная травма задним отделам спинного мозга, его сосудам и оболочкам, отчего у меня возникло необычное, прямо устрашающее состояние: ощущение прохождения электрического тока через все тело, при сгибании шеи резко усилился тетрапарез, возникли эти кошмарные боли в руках, головокружения… Теперь конфликт не просто «оставался» — галопировал!
Казалось бы: чего уж больше? А было и больше. Когда прибывшие из столицы консультанты-нейрохирурги, два ученика профессора, оперировавшего меня, назначили ВЫТЯЖЕНИЕ ЗА ШЕЮ, то есть, по сути, тянули (как не сломали?)
подвывихнутые, деформированные позвонки, своими крючьями-грыжами, подцепившими и без того поврежденный спинной мозг, — тянули вместе с ним (как не порвали совсем??), по пути разрушая возникшие за долгие годы болезни костно-хрящевые компенсаторные структуры, как-то еще удерживавшие еле живой позвоночник… И все это — в домашних условиях, самодельно, с недопустимо тяжелым грузом вытяжений, недопустимо нарастающим по тяжести и продолжительности, как и недопустимым числом всех процедур.
(Вытяжение ей было строго ПРО-ТИ-ВО-ПО-КА-ЗА-НО, СТРО-ЖАЙ-ШЕ!! Но…
консультанты этого НЕ ЗНАЛИ, как не знали они и элементарной МЕТОДИКИ производства самого вытяжения — такой-то простоты и… ХЛЕБА СВОЕГО!!)*.
Почти уже с полными параличами всех четырёх конечностей, с тяжелейшей каузальгией, лабиринтным головокружением и атаксией — бросанием из стороны в сторону, — такой неустойчивостью и десятком других, так сказать, «мелких»
симптомов, я и прибыла в Новокузнецк…
Поздно, конечно, очень поздно…
И только особое мастерство моего врача, взявшегося вообще оперировать меня в таком состоянии, консультации и доброжелательность профессора, заведующего кафедрой, разработавшего лет 12 назад проведенную мне вскоре операцию, предоставившего нам с мужем места в своей клинике (не отправившего в столицу, к АВТОРУ!) и, конечно, уход мужа — спасли меня.
Ах, если бы все это на два года раньше — вместо Москвы! Хотя бы на год, ну, на полгода — до вытяжения! Господи, да на два месяца, на два дня! Да, на два дня!!
Но… РАНЬШЕ не бывает…
Хорошо хоть так, хоть сейчас!
Терентич, пока делал, часто обходил ее со всех сторон — она сидела на табуретке посреди палаты.
Он всматривался, щурил левый глаз, наматывал и наматывал на нее тяжелые (мокрые!) гипсовые бинты — МОДЕЛИРОВАЛ.
То шел кругами — один бинт на другой, то так, чтобы один был чуть выше или чуть ниже предыдущего, восьмерками: срываясь с головы на грудь и в подмышку, катил бинт через спину в другую подмышку, и вновь поднимался наверх, шел петлями вокруг шеи, снова останавливался, всматривался, обтирал руки влажной тряпкой, лежавшей в кармане его длинного клеенчатого фартука: «тэк-тэк»…
Все окончив, сказал: «Скульптурно».
Уходя, объяснил мужу, как надо теперь сушить рефлектором гипс: немедленно, не меньше суток и — «чтобы ОНЕ никуда не прислонялись и терпели, чтобы все оставалось вот именно как есть — ЧИСТО СКУЛЬПТУРНО», то есть без единой вмятины.
И что завтра он зайдет.
Что она говорила себе, что внушала, когда в адовый этот палатный жар муж направлял на нее раскаленный красный рефлектор — сушил мокрый тяжелый гипсовый скафандр?..
Надо было стоять струной — ни к чему не прислоняясь, или так же, ни к чему не прислоняясь, сидеть на табуретке… Должно быть, лучше всего было бы висеть — ведь чего-нибудь да коснешься на земле… И тогда — все: ВМЯТИНА!! — все пропало: гипс ляжет неверно, надо будет как-то исправлять, а исправлять уже надетый, тем более высохший гипс — последнее дело, так что… Так что трансплантат, трупная кость, вставленная вместо удаленных шейных позвонков может отторгнуться, не прижиться. Потому что нужной, правильной фиксации ее не будет.
Но не прислоняться к чему-либо она давно уже не могла, лет, наверное, 10–15, так как позвоночник ее давно был лишен опорной функции, был нестабилен…
А тут еще эта жара несусветная: и солнце бьет, и батареи пылают, и рефлектор!..
И каузальгия совсем озверела из-за жары и гипса, и головокружение чуть головой шелохнешь…
Но самое страшное: невозможность запрокинуть голову, широко раскрыть рот и пить, пить, пить — залпом, стакан за стаканом — ледяную прозрачную водичку!..
Ну, вот как хочешь!
Он нервничал, кричал на жену, резко приказывал поворачиваться то туда, то сюда, направляя огненный рефлектор вслед за ее поворотами: скорее, скорее! Хоть бы убрать большую влагу, хоть бы чуть подсушить!..
И вдруг… сломался рефлектор!
Была ночь, он бегал по клинике, по сестринским постам, но запасного рефлектора ни у кого не было, он разбудил в дежурке слесаря, но тот сказал, что они «рефлектора не чинют», а что они — по батареям…
А она стояла, держась вытянутой рукой за дверную ручку — чтобы ни к чему не прислониться и чтобы не упасть, — ждала мужа.
Она думала об отце. О том, что вынес он и как вынес, что сказал бы сейчас, видя эту ее процедуру. Не сейчас, конечно, а тогда, — сейчас он бы только плакал.
Пустяком бы она ему ТОГДА показалась? Пустяком! Конечно, пустяком!
Она яростно ощутила: пус-тяк!
Ей стало легче. Ерунда! Что вообще выносят люди! Е-рунда!
…Отец сидел с разбитым в кровь лицом и молчал — как всегда. В кабинет Заборова заглянул Мехлис.
— Не признается?
— Не признается.
— Продолжайте работать.
И Заборов продолжал…
«Вынесу!» — сказала она себе.
Отец никогда, ни на одном допросе, не подписал никакой своей вины, не назвал ни одного имени, никого не оговорил. Вначале он был убежден, что поэтому его не расстреляли, позднее же изумлялся, что именно поэтому не расстреляли.
Отца обвиняли в том, что он хотел убить Сталина.
Такие показания дал его давний друг — Боярский. И еще Булатов. Боярский показал, что они все втроем собирались стрелять в Сталина из ложи Большого театра. Отец после реабилитации с болью говорил, что вот он — жив, а Боярский, очевидно, погиб… «Не сомневаюсь, — говорил отец, — что беднягу лишь пытками могли вынудить на такое признание, и впрямь — ТЕАТРАЛЬНОЕ…»
Ей снова стало плохо. Мужа все не было.
Был момент, когда она чуть не плюнула на все и не повалилась в мокром гипсе в постель — черт с ним, пусть мнется! Пусть мнется! Кривится, сбивается, выгибается! Пусть что угодно — стоять больше она не могла.
…Отец…
Откуда у него, мягкого, нежного человека, такая сила? А она… Господи, она…
надо же так расклеиться!..
…Трава… Высокая и сочная, зеленая… Отец больше всего мечтал, если вернется, в первую очередь найти такую траву, в первую очередь…
Он бросится в нее, упадет, раскинется, и настанет особый ч а с: особая тишина, особый покой, и над ним поплывет голубое небо — «как твои глаза»…
Мамины…
…«За окошком небо голубое, голубое, как твои глаза» — тюремная песенка… Отец как-то спел ее, хотя петь не умел. Это было где-то в шестидесятых, когда она была в Москве на курсах усовершенствования и жила у него. Спел он эту песенку тогда впервые и как-то так неожиданно… Она чуть с ума не сошла, слушая его…
Слова песенки она знала давно, по первому его письму из лагеря, в котором отец писал и о своем единственном свидании с мамой. Единственном вообще. В тюрьме.
Как мама кинулась к нему, к его окошку, как улыбалась, пытаясь ободрить… что это была за улыбка!.. Какая вымученная… Какая мама стала седая за эти два года!.. совсем… А глаза… глаза оставались прежними: огромными, голубыми-голубыми!
Вот и песенка та…
В исполнении отца она напоминала рыдания… Она потом написала стихотворение — «Мгновенные рыдания» — не то, чтобы о том, как пел отец, но все равно — о том…
Мгновенные рыданья! По судорожной силе Они страшнее крика Безумца на могиле. Мгновенные рыданья Продлить их невозможно, Их осознать немыслимо, Восстановить — ничтожно. Миг. Словно бы и не было. Но как рыданье полно: Не пролито слезинки, Так плачет зверь — утробно. Как молния — внезапны, Как гром — неосторожны… Мгновенные рыданья Дар памяти безбожной…«Остаток жизни хочется прожить осмысленно», — писал он в 49-м, считая, что вот-вот освободится: 8 из полученных лет были пройдены, почти 9, но… как раз в это время его повторно арестовали, дали еще 10. Это было вскоре после того, как она была у него в лагере в 47 году в зимние свои институтские каникулы…
«Дай хоть последней нежностью выстелить твой уходящий шаг». Ты помнишь эти строчки из Маяковского? — я читал их тебе, как свое любимое. А затем, прощаясь с тобой, (после отъезда из лагеря), повторял и повторял про себя, и весь день они звучали в моей душе. Даже сейчас они словно продолжают и свидание и прощание с тобой. Вот, может быть, после этого письма, может быть, высказав, что накопилось во мне, они оставят меня в покое.
Ты уехала, и тогда я особенно остро почувствовал, как много значишь ты для меня и как много я потерял с твоим отъездом. Ты стала нужной мне, страшно нужной»…
А уж как он был нужен ей, такой отец! Не просто отец — друг. ТАКОЙ друг!
«Что смолкнул веселия глас?!» — писал он ей, молодой девахе-студентке. Из лагеря, все оттуда, утешая, ободряя, вытаскивая в очередной раз из очередного отчаяния, из очередного, в общем-то, пустяка… Ну, не пустяка, — он-то никогда не считал так, но пустяка ведь, все равно пустяка, что там говорить!.. «Ты совсем размякла, — писал отец, — надо выкарабкиваться! И никто этого не сделает за тебя. Найди в себе силы, только в себе!»
Она так и стояла, держась за ручку двери. ОТЕЦ ДЕРЖАЛ ЕЕ.
«Весна, наконец, прорвалась и к нам. Вместе с теплыми ветрами принесла она издалека ароматы волнующие, возбуждающие душу, зовущие и влекущие. До какого же это возраста весна будет еще томить своими опьяняющими запахами, своей сладостной истомой и неясной тревогой? Очевидно — перестать чувствовать весну — перестать чувствовать жизнь. Я, следовательно, еще не потерял чувства жизни».
И еще: «Я всего хочу: и греха, и подвига! Я хочу проявления всех человеческих сил и страстей, заложенных во мне». Еще такие слова: «Подлинный талант жизни только тогда и сказывается, когда несмотря ни на что (НИ НА ЧТО!), ощущаешь жизнь как радость. Знай же, если ты думаешь обо мне, как о несчастном, то ошибаешься». Вот.
Он не потерял ЧУВСТВА ЖИЗНИ там. Он ощущал ветры весны, волнующие, пьянящие ее ароматы. Он ощущал, несмотря ни на что, жизнь КАК РАДОСТЬ! Он СМЕЛ. СМЕЛ!
Там.
ОН НЕ БЫЛ ЗАВИСИМ.
При том, что испытал и перенес, испытывал и переносил.
В этом и был его секрет. Загадка его души, его жизни, вернее — разгадка, — свет его, светлая его сила.
«Будь здорова, будь счастлива, будь радостна, будь бодра, несмотря и вопреки всем большим и малым лишениям!»
…БУДЬ ЗДОРОВА, БУДЬ СЧАСТЛИВА, БУДЬ РАДОСТНА, БУДЬ БОДРА!.. Эти слова часто приходили к ней как особый пароль, пароль отца, и ей всегда становилось легче.
Выкарабкиваться! Немедленно! Никакой жалости к себе!
Через 3–4 месяца — всего-то! — снимут этот гипс, сни-мут!! Не будет его!
Не-бу-детНИ все будет хорошо, нормально. Кость эта трупная приживется, все восстановится, руки, ноги… все пройдет, боль пройдет… Надо выкарабкиваться!
БУДЬ ЗДОРОВА, БУДЬ СЧАСТЛИВА, БУДЬ РАДОСТНА, БУДЬ БОДРА!
— Па-па! — закричала она на всю палату, на весь этаж, на всю клинику, на весь Новокузнецк. — Па-па! — Ты что? — муж вбежал в палату. — Что с тобой?
Она сказала: — …выкарабкиваться…
Он осторожно посадил ее на табуретку, подставив перед ней стул спинкой, чтобы можно было упираться руками, ощупал лоб. Нет, температуры не было, лоб был холодный, влажный.
Он присел на край койки.
Она тихо запела: «Глухой неведомой тропою…» Почему-то эту песню. Муж молчал.
Потом она спела еще одну, любимую: «На вечернем сеансе, в небольшом городке, пела песню актриса на чужом языке»…
С этой песней она шла на первую операцию, в Москве, то есть те, кто был в сознании в ее палате — четверо из одиннадцати и трое из соседней, пришедшие «на проводы», спели ее тогда, и спели, между прочим, очень хорошо…»Это было недавно, это было давно…»
Это было в последний вечер перед операцией, перед самым сном, когда она пришла из ванной.
А… та ванная… Ванная комната… Она была напротив кабинета профессора, в Туалетном переулке — так называли больные это небольшое узкое пространство возле туалета.
Здесь в углу, на высокой каталке лежала связанная старуха — после операции на головном мозге. У нее был бред, отек мозга. Она говорила, говорила, говорила…
Она страшно раздражала сестру в реанимации, и та велела санитарке связать старуху и увезти в ванную, — «пока не замолчит». Это было здесь принято.
Я подошла к больной, спросила, что ей надо, но она не слышала меня она говорила, говорила… Накинув халат, я пошла в реанимацию — за сестрой. Та кивнула, но не пришла…
Здесь, в этой же ванной, один парень, тоже больной, остриг наголо мое операционное поле: от уха до уха — от затылка до шеи.
Парикмахеров в клинику не приглашали, и стричь больных перед операцией должны были палатные сестры, но они не стригли, да и некогда им было: сестры сидели вечерами в глубоких креслах друг за другом, в длинном коридоре у окон напротив палат, и, положив ноги на стулья… вязали. Вот такая славная уютная цепочка…
Я собрала с пола свои остриженные волосы, бросила их в мусорное ведро и стала мыть ванну. Это был труд еще тот. Там даже не грязь была, я не знаю, как это назвать…
Тут кто-то постучал. Я приоткрыла дверь. Санитарка, отталкивая меня, ввела мужчину в кальсонах, положила на кушетку напротив и стала делать клизму. Я надела халат и продолжала драить ванну.
Судно с калом было оставлено на кушетке. Я пошла его выносить.
Мылась я под дикие крики старухи: она теперь не говорила — только кричала. Два раза я вылезала из ванны, подходила к ней, звала бесполезно…
После купания, по пути в палату, я снова заглянула в реанимацию и снова сказала о больной. «Иди себе»… — сказала сестра и отвернулась.
Как всегда перед сном, палатная сестра раздала нам лекарства и ушла, не сказав мне ни слова — день своей операции, завтра, я знала, что же еще, о чем еще говорить-то, в самом деле! Дополнительно каких-либо лекарств, чего-то успокаивающего, мне не дали — здесь так было принято…
Мы спели «Это было недавно…» и легли спать.
Утром я пошла на операцию — санитарка залетела в палату и велела идти (Премедикация здесь тоже не проводилась. Больной шел в операционную сам: его не везли туда на каталке уже уснувшим после введения в палате особых успокаивающих или снотворных, а если и не уснувшим, то без всякого волнения, расслабленным, ну, а если не везли, то он сам спокойно шел в операционную с кем-нибудь из службы анестезиологии.)
Больные сидели в коридоре за столами и завтракали — коридор одновременно служил не только местом для вечерне-ночных вязаний сестер, но и местом для занятий студентов и столовой для больных — столы постоянно передвигались: к окнам (вязание, занятия), в середину коридора (столовая), друг на друга и торцами к палатам (уборка коридора)…
Теперь я шла мимо отодвинутых от окон столов, мимо завтракавших больных, мужчин и женщин. В ночной рубашке. И это здесь было принято. Больные перестали есть и с застылыми глазами проводили меня минутой молчания…
Я вошла в операционную. Там катали кислородные баллоны, сновали, что-то куда-то подвешивали, привязывали, санитарка в зеленом мыла полы.
Врачей не было.
Санитарка сказала, чтобы я тут же, у входа, разделась «нагишом»: сбросила на пол ночную рубашку, скинула тапки и легла на стол. Она показала на какой.
Скорчившись, голая, лежала я на ледяном операционном столе 40 минут. Потом пришла анестезиолог и велела мне лечь на другой стол и кинула зеленую простыню — укрыться.
Я попробовала подоткнуть часть простыни под себя — не вышло… Пролежала еще 30 минут. Я до того заколела, что мне было безразлично, как там идет у них подготовка к операции, о чем они говорят, шутят…
— Сейчас у вас будет сильное сердцебиение, — внезапно и строго сказала анестезиолог, — пожалуйста, не вздумайте дергаться, держите себя в руках! Я ввожу атропин, один кубик.
Она ввела мне внутривенно чистый атропин — без димедрола и промедола, которые как раз и надлежало бы ввести в палате, но и тут, конечно, в операционной было можно.
О, до того как проснуться через 5 часов после операции, и уже инвалидом, мне было дано ощутить царское сердцебиение!..* Ах, Москва!
Через двое суток гипс был совсем сухой и — без единой — вмятины! (Муж тогда исправил рефлектор сам.)
Терентич одобрил.
А у нее начался отек гортани, и муж ночью снова бегал по клинике, теперь — в поисках врача ухо-горло-нос…
Начались галлюцинации, так как ей, хотя до операции и договорились, что промедола не будет, его вводили (не могли, конечно, не вводить, просто она тяжело переносила наркотики). Она же считала, что делают антибиотики, и лишь на 3-и сутки, пробившись как-то сквозь дебри промедоловых видений и поняв, в чем дело, просто не подпустила к себе сестру с промедолом. Сестра была ужасно оскорблена: «Другие просют!» (Но… на третьи сутки уже можно было жить без наркотиков, хотя, конечно, это не легко, но ей легче было переносить оставшуюся боль, чем промедол…)
Муж не успевал сушить ее подушечки — их было три, на смену, думочки, хотя сушил их на огненных батареях: тут же, как только она ложилась на думочку, та пропитывалась даже не потом — гольной водой…
Если ей удавалось на минутку задремать, она сразу же синела начиналась асфиксия, так как она повисала на своем подбородочно-гипсовом краю, «соскальзывая» на него во время дремоты из небольшого люфта над макушкой.
Почему это так получалось, никто не понимал: ни муж, ни хирург, ни профессор, ни Терентич. Это была какая-то загадка: скафандр был надет идеально. Попробовали все же чуть подпилить гипс под подбородком — ничего не изменилось…
Муж придумал поставить ей в постель чемодан, чтобы она, лежа, упиралась в него ногой и, таким образом, не «выскакивала» из люфта, но дремота или просто обычное расслабление — ослабляли или прекращали и нажим на чемодан, и она снова «летела»
в гипсовую «петлю»…
Он перетащил ее на функциональную кровать (она стояла в палате) и, вращая несколько часов подряд специальной ручкой, пытался соотнести плоскости кровати таким образом, чтобы асфиксии не наступало. Напрасно…
И тут, тут, в это именно время, у него возникла острейшая боль в правой стопе, в пятке, из-за чего он абсолютно не мог на нее наступать.
Сделали рентген. Оказалась здоровенная пяточная шпора. Конечно, сто лет ей было, но вот ведь! — ни до, ни после этих дней она никогда не беспокоила его.
Ноге нужен был покой, физиолечение, но… «а мэнч аф а мэнчн дарф гофн»… «Аз дир вэт зих вэлн вэйнэн, зол мир зих нит вэлн лахн!»* И он весь месяц ухаживал за ней на одной ноге, здоровой — прыгал на ней.
И — выходил. И увез домой.
«Нянюшка моя». Это у Астафьева, в «Сне о белых горах». Это Эля об Акимке говорила…
4. САПОЖКИ
В первые же свои зимние институтские каникулы она поехала к отцу в лагерь.
Его станция — Княж-Погост. (У нее было еще два названия: Сыр-Яга и Вой-Вож — на коми.)
В вагоне было холодно, но в тамбуре она просто задохнулась: было минус 50, а на ней шинель и кирзовые сапоги, армейские — ничего другого у нее тогда не было.
Какой он? Узнают ли они друг друга спустя 9 лет, таких лет?
Она помнила его смоляную курчавую голову, склоненную над письменным столом и такие невероятные брови — такие они были широкие и густые, и тоже — смоляные.
И вот…
Она увидела его и, конечно, узнала, и он увидел ее и узнал, и было так немыслимо, так жутко, и такое было счастье, что какая-то лошадь с широченной телегой вдруг вышла откуда-то и встала между ними, разгородив их, не успевших еще подойти друг к другу, и каждый мог хоть как-то прийти в себя из-за этой лошади, перевести дыхание, а уже потом, когда она прошла, было все же легче.
Брови были такие же, серая тряпичная ушанка спускалась к ним, словно поддерживалась ими. Кое-где, правда, немного, в них посверкивали серебристые искорки. А рот… У отца не было ни одного зуба, хотя ему было 46 лет, и рот был как бы провалившимся…
Мы шли к его бараку («А я иду, со мной беда»…)
Мы шли так, словно шли так каждый день, словно ничего не было, не произошло. Я хотела реветь, кричать, выть, как воют над своей бедой бабы, я хотела броситься к отцу, целовать его, целовать, целовать (СО-МНОЙ-БЕ-ДА!), залить слезами, залить всего, растопить в своей любви. Наверное, и он чувствовал что-то вроде того, но мы шли, словно ничего не было, иначе мы оба так бы размякли, ослабли так, что совсем бы пропали, и ничем уже не смогли бы друг другу помочь… НУ, НИЧЕГО НЕЛЬЗЯ БЫЛО!
Единственное, что было можно — держать отца под руку и слегка прижиматься к нему, слушая, как его взволнованный, охрипший от этого волнения голос, ударяясь о его ребра, ударяется потом в мои… («…со мной беда!..) Но я… я не просто слегка прижималась к отцу, а прижималась сильно, вжималась в него, впитывалась, но делала это не физическим, а особым внутренним движением… Я проникала в него, вбирала его боль (…беда, беда!..), его беду (беда!), я была уверена, что ему теперь легче, что он должен как-то ощутить мою боль и мою любовь, как-то почувствовать их.
(«А я иду, со мной беда, не прямо и не косо, а в никуда и в никогда, как поезда с откоса…»)
Бараков тут стояло несколько, длинных бревенчатых зданий. Одно прямо кричало яркими разноцветными занавесками. Что это? Клуб, что ли? Но я не стала ни о чем спрашивать.
В центре между бараками, по кругу, были вбиты красные остроконечные колышки.
«Пардон, площадь пенисов», — сказал потом лагерный сапожник, перетягивавший мне сапоги, вспоминая в разговоре это, как он выразился, «достопримечательное место»
(летом — клумба).
Дневальный у барака улыбнулся нам.
Мы вошли.
Комната. Длинная и узкая. С нарами с двух сторон. Печка, стол. За перегородкой умывальник, таз на табуретке. Тусклые лампочки. На нарах слежавшиеся матрацы, торчащие из-под одеял — коротких и тонких. В головах небольшие хилые подушки, приседавшие на один бок, если хозяева решали их поставить.
В дальнем конце нар, с той стороны, где было место и у отца, кто-то спал, укрывшись с головой. И кроме этого спящего и нас — никого: все работали.
Папа посадил меня за стол, а сам, находясь как бы не в себе, взял стоявшую в углу возле умывальника растопыренную дворницкую метлу на длинной палке и стал мести пол.
Потом он поставил метлу и сел. Он угостил меня главным лагерным лакомством («божественно вкусно!» — сказал он) — ПРЕМБЛЮДОМ, то есть премиальным, выдававшимся за перевыполнение плана. Это был кусок застывшей ячневой каши.
Абсолютно не сладкой, но — по сравнению с ежедневной баландой на рыбьих костях и тощей рыбешкой с ложкой какой-нибудь трухи — лакомство.
Мы сидели и пили чай, когда с работы стали возвращаться ребята.
Все они были очень похожи на папу — в таких же телогрейках и ушанках, с провалившимися ртами…
Время от времени кто-то из них как бы случайно оказывался возле папы и тихонько касался его плеча или спины — подбадривал.
Среди «ребят» был и дедушка Субоч, белорус, которого она увезла потом с собой, так как у него выходил срок.
Дедушка был очень худой и не просто седой, а просто абсолютно белый, с длинной белой бородой. Он страшно боялся всего, боялся ехать один, и узнав, что дочь товарища согласилась взять его в Москву, да еще и посадить там в поезд на Белорусском, тут же перевязал свой фанерный чемоданчик веревкой, поставил его под нары и стал тихо благоговейно ждать…
Свидание с отцом было каким-то чудным — они почему-то совсем мало были вместе и поэтому ни один их серьезный разговор не был доведен до конца.
За два дня до отъезда отец отвел ее к лагерному сапожнику, который великолепно перетянул широченные ее кирзачи, сделав не только по ноге, но и в обтяжку — модно! — и так надраил, что она потом всю дорогу переживала, что невольно пачкает их, и тихонько, чтобы никто не видел, вытирала носовым платком…
Ну сапожник!.. Чего только он не рассказал ей за две их встречи в своем закутке!..
Рассказал, как во время войны в лагере свирепствовала пеллагра («Вы ж понимаете, дефицит витамина «ПП»), какая смертность была от нее. «ЗЭ-КА (он произносил это слово именно так, на два слога) косило, прямо косило. Умер профессор Баренгольц — член ГОЭЛРО и вообще весьма уважаемый человек». Как пеллагрой болел папа, как умирал от нее, и как он, сапожник, тоже ужасно болел пеллагрой и тоже выжил — они лежали в лазарете рядом. И как папа тут же заболел «скорбутом» (цингой), и тут уже никто не думал, что он выживет, а он выжил. «Он же рассказывал вам, не так ли? Не-ет? Ай, простите! Так вы не говорите папе, прошу вас! Это будет наша маленькая тайна». Она кивнула.
В последний приход (папа всегда ждал ее на улице) — за готовыми уже сапогами, Йона особенно тянул: долго надраивал их разными щетками и бархоткой: «А? Нужно ведь делать блеск?»
Понимая, что она вот-вот навсегда исчезнет из его закутка, из его жизни, он говорил обо всем сразу, чтобы успеть, чтобы выговориться…
Казалось, он говорил такое, о чем лучше бы помолчать, но он говорил, что хотел.
Ему было сейчас все равно.
«Папа вам рассказывал про нашего Ёську Ключкина? Начальник Севжелдорлага!! Ой, Ёська!..
Недавно ваш папа сделал ему на собрании критику в области, знаете ли, планирования — папа там только начал работать, в плановом отделе. Так мы все прямо дрожали за папу, а Ёська сидел себе, руки в подбородок, и слушал, время от времени говоря по сторонам: «Тише! Тише!» Все спокойно выслушал и сказал:
«ЛЕМЕШЕВ». Про вашего папу. Понимаете смысл? ЛЕ-МЕ-ШЕВ!! Дескать: КАК ПОЕТ! И, знаете, все потом по-папиному переделал! Так мы теперь вашего папу потихоньку Лемешевым зовем! Вот вам Ёська Ключкин!
У него, конечно, свой уклад, дневальный, очень, знаете ли, вежливый бакинец…
По воскресеньям он крутит Ёське мороженое и выпекает вертуты. Не знаете вертуты?
Так это… как бы сказать… это то, что давно мне не снится, что делала еще моя бабушка… Это такой слоеный-слоеный пирог с черносливом и изюмом…
Представьте, Еська и зэ-ка угощает, пожалуйста! Он вообще к зэ-ка не кровожадный…»
Сапожник продолжал наводить блёск.
«У нас на Ракпасе, в лагпункте рядом, целый швейный комбинат. И женщины там ходят очень гордые… ну… как бы это сказать… они вроде раскрепощены, ир фэрштэйт? (вы понимаете?), но они — зэ-ка… А зэ-ка есть зэ-ка… Так…
немного видимости… немного радости через слезы… Так там на конвейере работала одна худенькая девушка, Аля, очень худенькая… И она все время перевыполняла норму. Гавронский говорил, что она дочь очень замечательной писательницы. Цветковой или Цветовой, не слыхали? Гавронский даже стихи ее наизусть читал.
Одно, знаете ли, про солдат. Конец такой: «Господи, Боже ты мой!» Представляете:
ГОСПОДИ, БОЖЕ ТЫ МОЙ? Такие стихи. Я раньше никогда таких стихов не слыхал, чтобы такой конец был… Редкое очень стихотворение… Господи, Боже ты мой!..
У нас здесь лекпомы есть, врачи такие, самодельные… кто стремится… Ну, знаете… пару слов по латыни: воленс-ноленс, немного названий лекарств, — ничего, зэ-ка подойдет… И вот… трудно забыть… С нами мальчик был, лет 15, колхозник, тоже этот… враг народа… Так он раз пошел к лекпому и говорит:
«Нету у меня сил, совсем нету, умираю, освободите сегодня от работы». А мы тогда на лесоповале были… А он такой голубоглазый, мальчик, тихий… «Нет, — говорит лекпом, — не ври, ты здоровый, иди и не притворяйся». Ну, он пошел. Стал работать, дерево валил и упал и дерево его убило… А от мамы его все посылки шли… Страшно, знаете… Господи, Боже ты мой!..»
Замолчал. Вдруг, без всякого перехода:
«А женский барак урок видели? Не-ет? Ай! Посмотрите! А то — что же вы будете в своей Москве про лагерь рассказывать? Не про сапожника же Иону! Вот пойдете сейчас, так посмотрите. Барак стоит в центре, и там всегда очень культурный дневальный, дама… У них — занавески!! Больше такого ни у кого здесь нет. Это такое море, такие волны! Всех цветов! («А! Вот оно что!» — вспомнила я) Из чего?
Так из марли. Из медицинской марли. Берется, знаете ли, медицинская марля и красится разными красками, ну, лекарствами, лекарствами. Марганец там, зеленка, акрихин… А постели? Дамы эти… ну… прямо изощряются! Пардон, как же: профессия обязывает! У них столько подушек! Гора, целая гора, вы не представляете! У них закон: сколько хахалей, столько подушек!! Такие, понимаете ли, э… дамы, факт… На головках у них обязательно цветные платочки, и они особо завязываются — спереди всегда рожки. У них это модно. Женщины по 58-й никаких рожек не делают, кто в чем ходит, тот и ходит, у кого что есть… И у них барак свой. Нет-нет! Никаких занавесок!
А писателя Леву Кассиля слышали? Так в лагере умер его брат, Ося. Кажется, от цинги или от сыпного тифа, за точность диагноза не ручаюсь. Жене Оси дали 8 лет, а дочку забрали в детский приемник. После освобождения жена Оси вышла замуж и хотела забрать дочку, а та говорит: «Я с тобой не поеду. Коммунист не имеет право на развод» — вся в отца. Ося всегда так говорил: «Коммунист не имеет право на развод».
А Тамара Целукидзе, вдова знаменитого режиссера Ахметели? Его расстреляли в 37-м — так думает Тамара. Она прибыла к нам из Протоки, из сангородка, в 43-м и принесла большую радость — ТК. Большое событие. Она влилась со своим ТК в наш ТЭКО. Не знаете? Так ТК — театр кукол, а ТЭКО театрально-эстрадный коллектив.
Руководит сам Гавронский. Выдающийся режиссер. Величина. Вокруг него всегда культурный зэ-ка, но, знаете, не только: всякий, если, конечно, зэ-ка имеет время. Гавронский знает все на свете! Знаете, я вам скажу за себя: я ведь теперь тоже другой стал. Как бы сказать… ну, лагерь меня сильно э… ойсгэлэрнт, понимаете? — Выучил — факт. Что я знал в своем местечке? А сейчас — даже слов нет: столько достойных людей увидел, столько узнал! Ну было что страшного, было, пережил, но порой мне кажется, что мне просто повезло, что я попал в лагерь.
Ведь здесь же собрались все лучшие люди! А ваш папа! Сколько он дал мне! Вы не представляете! Он не раз говорил: «Слушай, Иона, не будь барышней: ставь всегда вопрос — ПОЧЕМУ? Наша главная беда в том, что мы все этот простой вопрос не ставим». Так теперь я всегда этот вопрос ставлю, но, понимаете, не всегда могу на него ответить, но я заметил, что если я его все же поставил, мне как бы что-то понятней делается, ир фэрштэйт дос? Просто интересно!
Знаете, у Тамары Целукидзе есть два гения, которых она лично сделала Мирочка и Алексей Линкевичи, муж и жена. Поженились в лагере. Кроме всяких комических номеров с куклами на местные темы, они поставили «Соловья»… этого… ну…
АНДЕРСА. Представляете? Для зэ-ка. Событие. Большой праздник. Мирочка там играет мальчика с фонариком. Он говорит: «Сегодня я видел слезы на глазах императора, а слезы — это лучшая награда для певца». Ну так Мирочка получила тогда столько слез, столько слез… мы, знаете, все плакали… И… как бы сказать, ну, и ИМПЕРАТОР наш… Он в первом ряду сидел, и он постоянно применял носовой платок… Тоже…
Да, так вот за Гавронского. Он вначале был на ЦОЛПе*, а сейчас у нас. Величина.
Талант. Он вам и режиссер, и писатель, и, понимаете ли, философ… Дружил с Эренбургом, с Асей… с Айсей… ну, с этой… с Дункан, с Луначарским. Остряк!
Ох остряк! И спиртик любит. Лю-убит! Он еще не так стар, но принял в лагере облик ДЕДА. Это облегчает жизнь, очень облегчает… Дед, знаете ли… Привыкли — уважают и не трогают. Остроумнейший человек. Мирочка почти каждый день ухитряется его послушать, но в субботу — баня, не приходит. Так Александр Осипович написал такие вирши:
Я проклинаю эту баню, И день субботний, и санчасть, Все, что легло меж нами гранью И воду льет на нашу, страсть!Я вообще-то сам очень вирши люблю, стихи разные. Много в лагере на память выучил, наизусть. Ваш папа тоже много мне стихов наизусть рассказал — в лазарете, когда от пеллагры поправлялся. Я запомнил одно, редкое, знаете, стихотворение, послушайте:
Захотелось солнечной Наконец-то встречи…Минутку! Так.
Захотелось солнечной Наконец-то встречи, Редкостной, до полночи, Долгой, долгой речи, Захотелось… захотелось… захотелось…Стоп! Не помню! Забыл, подумать! «Захотелось…» Их виль, я хочу… нет, не помню… Иона забыл! Ай-яй-яй! Но — факт…
Знаете, там какой-то ПОНЕДЕЛЬНИК есть, какой-то очень хороший, особенный… не помню… Вы знаете? Нет? Спросите папу!
У нас тут раввин сидел, — без перехода продолжал Иона, — «так Мирочка захотела с ним поговорить, потому что у нее дед тоже раввин был, духовный раввин Белостока.
Я говорю: «Простите, ребе, тут одна дама хочет с вами немного познакомиться и пару слов поговорить». Так он до того разозлился, ужас. Говорит: «У меня дома своя дама есть». Все, знаете ли, долго смеялись, но его вскоре расстреляли.
Почему? Ну-у… как бы сказать… нам об этом не докладывают…
А папа рассказывал вам о своей встрече с Ронисом, из-за которого его арестовали?
Да, было… Было на одном этапе, давно, почти в самом начале…
Была ночь. Папа проснулся и видит: здравствуйте, Ронис лежит. Рядом, на нарах.
Спит себе. Пригнали новый этап. Ваш папа схватил нож, знаете, обыкновенный столовый нож и бросился на Рониса. Да-да, ваш папа бросился с ножом… немножко смешно… собрался зарезать… Ронис открыл глаза, испугался до смерти, а папа говорит: «Это ты погубил мою семью, моих деток? Ты! Ты! Что ты со мной сделал?
За что? Как ты мог?» И, понимаете, ножом над ним! А Ронис говорит: «Ты не знаешь, что они со мной делали!» И заплакал. У папы нож из рук выпал, он ушел от Рониса и, представьте, уснул. Утром проснулся — Рониса нет, этап угнали, а на папе дорогая шуба на меху и богатая меховая шапка Ронис свое все оставил, а сам в папином ушел — в телогрейке и треушке… Но у папы все тут же забрали, и он все потом удивлялся, как же Ронис в такой роскоши столько этапов прошел, но — факт…
А Галина Серебрякова, писательница? Знаменитость. Наши дамы по 58-й буквально кинулись к ней, были счастливы, что она к нам прибыла, но, представляете, разочаровались… Что уж там вышло, не знаю, но… не тот алмаз… плохо о ней говорили… Бывает… А знаете, психбольницы от нас совсем близко, так там…»
Отец был рад, что она теперь ПОФОРСИТ в институте! Он говорил не «сапожки», а «сапожки'»…
А у нее все вертелось и вертелось в голове: «Захотелось солнечной, наконец-то, встречи»… И очень хотелось спросить папу, что это за стихи, чьи они, что там за понедельник такой, но почему-то было страшно спрашивать, так и не спросила, и никогда потом не спрашивала.
А спустя 27 лет, на следующий год после папиной смерти, моя младшая дочь поехала на его могилу, в Донской крематорий, к его нише, где на табличке были слова: «Он был мудрый и добрый».
В ее дневнике есть такая запись, сделанная в то время, в Москве: «Сегодня Юлька дала мне папку с некоторыми бумагами деда: «Поройся, если хочешь».
Я, конечно, очень хотела. В папке были и три мамины научные статьи — в журналах «Клиническая медицина» и «Гематология». Там же я нашла маленький листочек, написанный рукой деда. Красными чернилами. Это было какое-то стихотворение, но без названия и без автора, вообще какой-то обрывок. Дед писал здесь очень неразборчиво, хотя у него всегда был очень хороший почерк, но я разобрала, но мно-гого как-то не поняла по смыслу и спросила Юльку. Она взяла листочек, прочла, пожала плечами и заплакала…
Захотелось солнечной, наконец-то, встречи, редкостной, до полночи, долгой-долгой речи. Захотелось цельности мнений неподдельных. Днем высокой ценности стал бы понедельник.О чем дед думал, когда писал эти строки? Кто написал их? Может, мама знает.
Юлька не знает, мы с ней сидели и плакали»…
На вокзале, пока не подошел поезд, она разулась и отец грел руками ее заколевшие в САПОЖКАХ ноги, — морозы не падали.
Мне хотелось обнимать рапу, плакать, кричать, выть над ним, мне было бы тогда легче, но этого нельзя было делать: ведь папе надо было оставаться здесь, жить здесь неизвестно сколько, и ему было бы еще тяжелей…
Дедушка Субоч ни на шаг не отходил от нее; в метро она намучилась с ним, так как он ни за что не хотел шагнуть на «лестницу-чудесницу», и если бы не двое веселых военных, которые без всяких разговоров не подхватили бы под руки дрожащего дедушку и — не внесли бы его на эскалатор, а потом так же не снесли с него, она просто понятия бы не имела, что же с ним делать.
Через два месяца от отца пришло письмо.
«Наше свидание носило несколько сумбурный характер… Ты, вероятно, не заметила, во всяком случае я пытался это тщательно скрыть, в каком глубоком волнении я находился. Поэтому я старался чаще быть с тобой на людях, что облегчало мое состояние, облегчало скрыть волнение.
Я не видел тебя много лет и не в состоянии был до конца отрешиться от ощущения тебя, как еще совсем маленькой. И это ощущение сдерживало меня от того, чтобы довести основной наш разговор до конца. Я не боялся его по существу того, что касалось меня, но я опасался нанести твоей душе хотя бы малую царапину».
Ах, малая эта царапина!..
Да, когда я была у отца в лагере, хотя мне уже и было 22 года и я прошла войну, отец, должно быть, был прав, продолжая видеть во мне не очень-то взрослого человека, да, наверное…
Но потом, но всю жизнь?!
ОН ТАК И НЕ МОГ НАНЕСТИ НИКОМУ ИЗ НАС ЭТОЙ САМОЙ ЦАРАПИНЫ!
Поэтому, хотя мы, конечно, все знали о страшных годах его жизни, но все это было так разрозненно, дробно, так между делом, в год по чайной ложке… Он всегда старался перевести разговор на другую тему или провести его в шутку, специально выбирая что-нибудь смешное и здесь, БЕЗОБИДНОЕ, так что какой-то уж ОЧЕНЬ СТРАШНОЙ картины у нас не получалось…
Обычно он говорил одно и то же, повторял, и — НЕ САМОЕ ПЛОХОЕ, и мы привыкли к ЭТИМ рассказам, а он и хотел, чтобы мы привыкли, чтобы не думали о ДРУГОМ…
Не желал, не хотел он всех этих воспоминаний, ну, НЕ ХОТЕЛ! И, главное, не хотел делиться с нами!
И прошло много лет, вся жизнь отца прошла, пока он, за год до смерти, приехав погостить к нам на лето, не рассказал…
Рассказал не столько уж много, но зато — по желанию, и — словно в воду бросаясь… Да, не так уж много рассказал отец, как очень ярко все было, ОТЧЕТЛИВО; все вдруг не только поднялось перед глазами, — стало невероятно явным и жутким.
…Зачем-то нужен был отцу этот рассказ сейчас, в кругу СЕМЬИ — мы все сидели на широкой веранде за моим раскладным столиком, — отдыхали тогда всей семьей в доме отдыха. Но он все же не сумел закончить рассказ, внезапно громко разрыдался, закрыв дрожащими пальцами глаза…
Да, вполне можно было сказать: сумел-таки отец уберечь всех нас от царапины, на всю жизнь сумел, ибо сейчас все уже были так или иначе «подготовлены!..
…Мы узнали о годовой одиночке, «каменном мешке», кишевшем ночами огромными крысами, которых отец отвлекал от лица, вскармливая дневной хлебной пайкой, о «телефон-автомате», плотно закрытой со всех сторон узкой будке, куда он, идущий по коридору и ничего не подозревавший, был вдруг пойман и захлопнут — будка возникала на пути внезапно и так, что обойти ее было нельзя. Там он стоял без сознания по стойке «смирно» — не только упасть, осесть было некуда. В нужный момент служитель открывал дверь будки, и жертва вываливалась из нее, приходя в себя от падения и, если особых повреждений не было, поднималась и вновь отправлялась по коридору, пока вновь не захлопывалась в очередном «телефон-автомате», вновь внезапно возникавшем на пути… О следователе Заборове, зверски истязавшем отца, харкавшем ему в лицо, требовавшем назвать свои инициалы полностью, а затем рыдавшем над ним, беспомощно молотя кулаками о стол…
С тем, чтобы тут же все начать сначала…
Давно, когда она еще училась в институте, отец написал ей: «Я знаю, что если я спас себя в какой-то мере, если не сошел с ума, не искалечен психически, то благодаря тому, что не позволял себе сосредоточиться на своем мученичестве, насильственно выколачивая себя из того мрака, в который был загнан…»
После свидания с отцом, осенью, к нам в школу, где мы тогда жили в Москве с сестрой и мамой, кто-то постучал. Мы жили здесь потому, что нашу трехкомнатную квартиру в Островском, через переулок отсюда, через Лопухинский, заняли Лукашевы, работники Фрунзенского райкома партии, пока мы были в эвакуации и не отдали, когда мама с сестрой вернулись в Москву. (Я была в армии).
Они не только захватили нашу квартиру, но и наши вещи. Мама умоляла отдать хотя бы старый кожаный диван отца, но они не отдавали, а когда она пришла за книгами — книги они отдавали и, подставив стремянку к антресолям, стала доставать их, втягиваясь вглубь, на мгновение оторвавшись от стремянки, — они тихонько отодвинули ее, и мама, обсыпаясь книгами, упала на пол… Она сильно вывихнула стопу и долго потом хромала…
Так вот, однажды осенью кто-то постучал к нам домой, в школу.
Я пошла открывать.
Передо мной стояла милая, очень аккуратная старушка, не просто седая, а просто абсолютно белая, в голубой косыночке с черным платком поверху, в длинной черной юбке и черном плюшевом жакете, которая оказалась бабушкой Субоч и которая спросила «ту маленькую девушку, что дедка моего с лагеря вывезла». Узнав, что это — я, она низко мне поклонилась и подала «гостинец от дедушки Субоча», мягко отвергая все мои приглашения зайти, сказав, что с поезда на поезд.
ГОСТИНЕЦ был в белом, в голубой горошек, довольно большом узелке.
В нем было 5 яичек вкрутую, 5 яблок с зелеными еще, свернувшимися листочками, кусок сала в белоснежной тряпочке и 3 толстеньких зеленых огурца с крупными белыми пупырышками…
5. КРУЖЕНИЕ
— Эй! Москвичка! А это еще что? — крикнул старший зять жене. Она вынула со дна чемодана большой полиэтиленовый пакет, чем-то туго набитый, выпуклый, образующий у нее на груди и животе как бы широкую цветную грелку или подушечку, думочку.
Что там было — никто не понимал.
— Ой, а где же материн раскладной столик? — крикнула она.
— Действительно, сразу не сообразили, — сказал отец.
Младший зять выскочил из кабинета и принес столик. Он разложил его и поставил возле дивана.
«Москвичка» стала горстями вынимать из пакета и выкладывать на стол округлые разноцветные штучки, и — будто живые. Ну да, живые: это были маленькие волчки.
Мать ахнула, все понимая.
Дочь, наклонив пакет, придерживая его с боков, высыпала оставшиеся волчки, а когда все высыпала, расставила руки, ограждая края столика, чтобы волчки не слетели. Но один, видно, самый бойкий, все же прыгнул на пол и, ударившись об него, закружился на шаровидном своем основании. Потом, кружась, завалился на бок — на один, на другой — и, вертясь, катаясь на боках, тарахтя ножкой, пытался перевернуться, вскочить, встать на нее и вдруг действительно встал и быстро-быстро закружился, сливая три свои цвета — зеленый, белый и синий так, что вначале зеленое основание словно покрылось прозрачной белой пленочкой, которая в кружении постепенно как бы сползала, скатывалась с него к синей ножке.
К концу вращения все части волчка снова оказались в своем цвете.
— Ты подумай!
— Вот так фокус!
— А как он так?
Старшая дочь подняла волчок и положила на стол в веселую их компанию.
Волчки были разной формы и цвета, но все примерно одинаковой величины: не больше кулачка новорожденного.
— Да, это вот такие волчки, — сказала она, — вот, видите, — она взяла несколько, — шарики, будто ранетки, черешенки на черенках-ножках, а кружатся они так потому, что верхняя часть и ножка у них тяжелее основания, вот волчок и стремится перевернуться, вскочить на ножку — она перетягивает. Только его надо сильно крутануть, придать ускорение.
И она, отодвинув лежащие волчки к краю столика, крутанула один и все снова увидели красоту кружения черешенки, смену красок.
Кроме отца, все были сейчас возле столика — рассматривали волчки, крутили их, сталкивая друг с другом.
Были здесь еще одни интересные — низкие, широкие и плоские, с нарисованными по их поверхности разноцветными волнами. Когда волчки кружились, волны быстро переходили одна в другую, сливались, и то как бы втягивались, как бы уходили внутрь себя, образуя цветную вращающуюся воронку, то выплывали из нее, поднимались — вращались в другую сторону. Распускались и закрывались… От них трудно было оторвать взгляд.
Были почти веретенообразные, двухъярусные, с резными краями, ручками разной длины и формы, в кружении совсем непохожими по цвету на те, какие были в покое; были нервные — кидающиеся из стороны в сторону, разлетающиеся по всему столу, но больше было тихих — кружась, стоящих на месте.
Разные были волчки. Но все необычные, пахнущие лаком.
…Деревянные, металлические, пластмассовые…
Иные двигались при помощи особой палочки со вправленной в нее пружинкой, которая («Волшебная», — сказала старшая дочь) словно накачивала волчки сверху вниз — заводила их.
А волчки прибыли не просто так…
Как-то дед прислал из Москвы младшей внучке, тогда совсем маленькой, один волчок. Деревянный, с длинной ручкой, с оранжевыми пятнышками на круглом основании.
Внучка поиграла с ним, поиграла и бросила, а бабушка взяла себе — просто так, посмотреть. Но он так и остался у нее, и она часто потом крутила волчок.
Сидит, бывало, за столом, вся ушла в себя и крутит, крутит… А волчок, кружась, был словно русская девушка в оранжевом сарафане…
Кружился он подолгу, никогда не разбегался — всегда только на одном месте, всегда перед глазами бабушки и, казалось, совсем и не кружился стоял, только юбочка слегка двигалась.
Бабушка неотрывно смотрела на него, а он кружился, стоя на месте, кружился, кружился, кружился…
И он здорово стерся от этого кружения, ножка, на которой он плясал, почти вся скружилась…
После смерти бабушки мать взяла волчок к себе и тоже стала вертеть его в особые минуты, и тоже неотрывно смотрела на него. Не сразу, правда, волчок несколько лет простоял у нее на столе, а потом — начала… Потом младший зять сделал ей еще один волчок — маленький-маленький, черный выточил на станке у себя на СЮТ из какого-то угольно-черного металла. Этот кружился как бешеный, очумело кидался во все стороны… Потом дочери купили в «Детском мире» еще несколько волчков, тоже славных, хотя и не таких красивых, какие сейчас прибыли.
Мать крутила волчки так: то по отдельности, по очереди, то пускала все сразу, но чаще всего тот, в оранжевой юбочке, бабушкиной мамы. И до того докрутила, что ножка уже совсем стерлась, полностью, и волчок больше кружиться не мог — почетный, стоял на столе, привалившись на бок.
И вот — целая гора их!
Вначале, наверное, у всех мелькнуло: Главный Подарок! И мать подумала так. Но нет, вскоре все поняли: нет, не он. Как поняли — не объяснишь, но поняли правильно. Действительно, не он был.
Мать была очень рада волчкам. — Где же их держать-то теперь? — спросила она.
Младшая дочь подскочила к дивану, вытащила из груды привезенных вещей плетеную вьетнамскую корзиночку:
— Вот!
Но волчки все туда не влезли.
— Найдем! — сказала она. — Пока пусть останутся в пакете. Сестра стала закладывать волчки в целлофан, в котором их привезла, освобождая стол для новых вещей.
— Удивляюсь я вам, — сказал отец, — ну зачем это? Да еще столько! Ведь мусор! — он взял один волчок и стал пытаться завести его у себя на ладони.
— А ну, скажите: почему волчок не падает во время движения? — спросил он.
Все молчали, а зятья улыбались.
— А где еще применяется принцип действия волчка?
Зятья продолжали улыбаться — женщины растерялись.
— Эх вы! — сказал им отец и отдал свой волчок старшей дочери.
Наконец, спустя 25 лет после начала их работы, она пошла посмотреть, как муж оперирует.
Вначале, правда, она попала не на операцию, а на амбулаторное выжигание (электрокоагуляцию) опухоли мочевого пузыря. Тоже, конечно, операция.
Потрясло ее два момента.
Во-первых, что спасение человека было равно мгновению. Ну и то, как вел себя муж, как выглядел.
Ррраз!.. И все! И:
— Вы можете идти домой. Все в порядке.
Бабка встала и пошла домой.
А вел себя муж и выглядел так: войдя в урологический кабинет, сорвал с крючка свой халат, надел его, застегнув сикось-накось — не на те пуговицы, надвинул на лоб колпачок и, как мальчишка к калейдоскопу (голова почти вся седая), приник к цистоскопу (прибор для осматривания мочевого пузыря), прямо упал в него — засмотрелся.
Потом, не отрываясь, поманил меня рукой: — Смотри.
На нежно-розовой слизистой мочевого пузыря, заполненного слабым раствором фурациллина, я увидела остаток опухоли (до того уже было выжжено четыре части), живой и наглой, — жуткую «цветную капусту» — алую, с гадким ворсом по поверхности.
Рядом были черные и белые пятна — участки некроза (омертвения) и рубцевания — результат предыдущих коагуляций.
— Видишь? Отходи.
Я отошла, а он махнул сестре: давай, мол, включай т о к! Сестра включила диатермию (аппарат для физиолечения и электрокоагуляции), и он снова «упал» в цистоскоп: повел как-то рукой с электродом — раз, другой, третий… Миг. И все.
И:
— … можете идти…
До того, как больная ушла, я снова посмотрела в цистоскоп. Наглости как не бывало! Опухоль опала, скукожилась, по ее окружности плавали хлопья… Алость в центре сменилась буро-коричневым, отдельные ворсинки поблекли, сморщились…
Судьба ее была решена!
Левка сдернул халат, и мы поехали домой.
А ведь это рак мочевого пузыря! Рак! Но бабка будет жить, долго жить.
(Она на самом деле прожила потом еще долго — 15 лет и умерла от болезни сердца, от склероза — «по старости», в 89…
Рецидива опухоли обнаружено не было.)
А потом, в том же году и в том же месяце она увидела и как муж оперирует.
Когда она вошла в операционную, больной уже лежал на столе. Это был парень лет 19–20. Глаза были закрыты, под ними трепетали пшеничные ресницы.
На стекле окна висела его рентгенограмма, чуть смоченная водой, чтобы прилипнуть. В правой почке был виден камень.
Муж, в голубых брюках х/б и такой же рубашке, с вымытыми и согнутыми в локтях руками ладонями друг к другу, вошел в операционную.
Он вытер руки стерильной салфеткой, которую подала ему операционная сестра, потом вытер их маленькой салфеточкой со спиртом, обработал ногти и концы пальцев йодом, сестра подала ему стерильный халат, тесемки которого завязала сзади санитарка, сестра подала растопыренные перчатки и, наконец, маску-косынку, закрывающую лицо и лоб, уходящую на голову, оставляя открытыми лишь глаза — в прорезях для них.
В желтоватом и мятом (стерильном!) халате, с поднятыми руками в резиновых перчатках и в этой маске муж казался человеком иного мира, и хотя она много раз видела хирургов в подобном одеянии и в своей больнице и, как все, на кино- и телеэкранах, на фотографиях, ощущение необычности и значительности было очень острым, словно видела она все это впервые.
БЕЛЫЕ ОДЕЖДЫ НЕ ВЫЯВЛЯЛИ, а помогали СКРЫТЬ… Скрыть то, что и было столь необычным и значительным. Это волнение, эту сдержанность, эту готовность и что-то еще, что словами ни за что не сказать, что лишь просверкивало сквозь прорези маски.
И он словно забыл о ней, о жене, весь уйдя в свое, в предстоящее…
Операция началась.
Она была потрясена как нежданному явлению раскрывшейся вдруг нежной желто-розовой ране — подкожному жиру, пронизанному мелкими красными сосудами — таким мгновенным был разрез.
…Еще разрез в глубину, еще, и вот он, чуть отклонясь, удерживает фиолетовую дышащую почку, блестящую, ускользающую…
— Вишенку! — крикнул сестре. («Что это — «вишенка»?)
… и еще один разрез — по ускользающей этой почке… И вот уже в моей руке удаленный камень — маленькое сердечко коричневого цвета с шероховатой поверхностью, будто усыпанной блестящим битым стеклом — солями, испачканными кровью…
Операция длилась минут 15, я стояла возле стола, я все видела, но как все произошло, к а к камень оказался в моей ладони — мне все же трудно было понять…
Потом, в коридоре, муж спросил, как мне его техника.
— Техника?? Какая техника?! Просто быстро, и все!
Он негромко засмеялся.
— А что это — «вишенка»? Оказывается, круглый марлевый шарик на зажиме.
6. СОБСТВЕННИК ЦИКАД
Как-то один из ее друзей написал ей: «Спасибо за фотографии. Ух, какая вы сейчас красивая! Сразу чувствуешь — у вас твердая почва».
Она знала, что никогда не была красивой, что просто могла хорошо получиться на фотографии и считала, что друг ее написал так потому, и потому именно сейчас и увидел эту ее «красоту», что у него самого в то время никакой почвы вообще не было: шла сплошная черная полоса, и она за него страшно переживала.
Вначале она не придала значения его словам, но в одну из бессонных ночей они вдруг выплыли, и тогда она поняла, что ведь «твердая почва» это он, муж ее!
Это буквально потрясло ее, хотя в общем-то ничего нового по сути для нее здесь не было, она давно все понимала, но чтобы ЭТО так называлось, так формулировалось!! Чтобы быть из-за этого красивой!..
И все вдруг стало иным в ее понимании… И, может быть, не всем понятно, но ей за это (!) особенно сильно хотелось, чтобы он во всем был безупречным! Казалось, вовсе не эти мысли должны были бы сейчас прийти ей в голову… Как же странно и несправедливо все…
Казалось, в миг такого просветления она должна была бы испытать немыслимую благодарность мужу, а она…
ОН ДОЛЖЕН БЫТЬ ВО ВСЕМ БЕЗУПРЕЧНЫМ!.. Ерунда какая-то… Она благодаря ему красивая, а он за это… безупречный!!
Да, именно: безупречный!
А сама? Но ведь это же ЕГО дело!.. Если бы ему так уж захотелось, чтобы она была безупречной — это было бы так легко и приятно сделать!..
Если бы только он захотел, если бы это ему было надо!
В том-то и дело… А ему было все равно.
Он любил ее всегда, она знала это, и ему было все равно — безупречна она или не безупречна… А ей… ей хотелось нежности:
Боже мой, оказывается, любовь и нежность — не одно и то же!.. Вот, например, Антон Павлович Кержун, ВЕЛИКАН, любимый ее герой любимого писателя*.
Она, кстати, не относилась к нему, как к литературному герою, ни в коем случае, а ощущала живым человеком, хорошо ей знакомым, причем таким, о котором всегда мечтала. Так вот, Антон Павлович Кержун…
Он умел «щепоткой» пальцев «обирать» слезы с ресниц любимой — «теплые и веские»
эти слезы, большие, как «поспелый крыжовник»…
Господи! Ведь женщине не просто нужна любовь, да, да — не ПРОСТО ЛЮБОВЬ, а ПРЕКЛОНЕНИЕ, то есть нежность, именно нежность, ведь преклонение и есть высшая форма нежности. И нужно-то все это лишь затем, чтобы и она могла преклоняться — в ответ на это великодушие, на эту нежность — не просто любовь, а вершину ее.
Почему он не дает ей этой возможности?
Когда мужу было 55 лет, она подарила ему особый алфавитный блокнот, в который были вписаны любимые ее стихи или отрывки из них, разные мысли… Это был ЕЕ АЛФАВИТ, который, конечно, всегда был предлогом…
Кстати, на странице, где наверху стояла буква «П», он вновь прочел написанные подряд знакомые слова: «Палата, подарки, позвонки, перевозчик-водогребщик, парез, перо жар-птицы, перстень, % голубого неба, Планида, парус…»
Тогда, после второй операции жены, он забыл спросить ее, что это за слова, не до них было, а потом тоже не до них, ну а потом — забыл вообще, да и листочек со словами куда-то делся…
Блокнот начинался с такого ее стихотворения, которое было как бы посвящением:
Ты хороший, Ты очень хороший, А хотелось, Чтоб был Великаном, Чтобы слезы мои обирал ты, Чтоб дорогой людей подбирал бы, Чтобы «цаплиные яички» Ты домой приносил иногда, Чтоб чужая людская беда Для тебя не была ерунда, Чтоб цветы у девчонки-цыганки, Что засохли давно и жалки, Ты купил лишь затем, Чтобы дать ей Рубль иль два, И помчать «Росинанта»!** …«Вот пришел великан и упал…»Стихотворение это она тогда не дописала, не знала как, чем закончить, то есть не знала, как написать Главные Слова. И она оставила для них место, но так и не дописала. И не потому, что некогда было или забыла, что это надо, нет — как-то не выходило, не писались нужные слова…
Так и осталось посвящение недописанным…
Муж не придал этому значения, скорее всего и не заметил, что законченности здесь не было.
…ВОТ ПРИШЕЛ ВЕЛИКАН…
Тут все было ее мечтой. Мечтой о своем Антоне Павловиче, который к ней непременно должен прийти, хоть когда, хоть во сколько лет! И пусть это будет он, ее муж, пусть, лишь бы Великан! Чтобы тоже — ОБИРАЛ ее слезы, покупал у цыганки завядшие цветы («цыганкины цветы»), сажал в свою машину (в «Росинанта») на дороге любого (О! Это — особенно! Муж никогда этого не делал.), назвал бы хоть раз обычные куриные яички «цаплиными»!
Да! Да! Цап-ли-ны-е!
ВОТ ПРИШЕЛ ВЕЛИКАН!
И пусть он тоже, как там, придет и заплачет, пусть! Это особенно важно, особенно!
Да, особенно!
Она, когда читала повесть, подсчитала, что Антон Павлович Кержун, Великан сам, хотя он там и не считался Великаном, и его Ирена Михайловна плачут 40 раз, то есть плачут через каждые 1–3 страницы!.. И что Великан упал. Пришел и упал, не побоялся, хотя и Великан (он — не он Великан — все равно он!).
Да, не побоялся! Правда, у них там по-настоящему никто не падал, это у них такая поговорка была, для успокоения, но ведь не каждый для успокоения такое бы себе выбрал, а они выбрали! И он, Антон Павлович, действительно не побоялся бы, ни за что бы не побоялся упасть! Если бы было надо, если действительно было надо — пришел бы и УПАЛ, — вот что важно.
А, что говорить…
Цветы ей муж вообще не преподносил, был, правда, один случай, в армии, в Венгрии, но не об этом же особом случае вести речь!.. И сейчас бывало, конечно, бывало, но так редко… Скажем, если он видел, что цветы продаются прямо под носом, или если кто из больных приносил ему, или случалось такое по весне, — она настоятельно (!) просила остановить машину возле какого-нибудь куста черемухи, мимо которого они проезжали, и ему приходилось выходить и ломать черемушные ветки, но это ведь тоже не могло идти в счет! — ведь делал он это по просьбе, да еще настоятельной, — без своей воли, без своего желания!..
Сам же он, сам, лично, специально за цветами никогда не охотился, нет, этого не было. Даже в праздники. А уж если бы увидел завядшие!.. — ни в коем случае, даром бы не взял! Потому что ее муж никогда бы не взял в ум купить завядшие цветы просто так, да, просто так, — ну, для игры, в шутку, для предлога — отдать девчонке эти копейки — цыганке ли, не цыганке, и, конечно, не потому, что жаль ему было эти копейки, нет — просто в голову сроду не пришло бы такое — ну, не Великан он, ну что тут поделать!..
Насчет слез. Он никогда не плакал (как и не падал). Правда, раз, один раз — было. И она слышала, как он плакал, точнее, кричал в голос. Это, когда она приехала от профессора из их областной клиники, и муж узнал, что ей предстоит операция. И какая.
…Он сидел на краю ванны, включив широкую струю воды, чтобы крика не было слышно, а она в этот момент случайно вошла в ванную.
В своего «Росинанта» людей сроду не сажал, это уж никогда! И придумывал в оправдание всякую всячину: вдруг, например, сядет к ним ненароком какой-нибудь хулиган, вдруг придется задержаться где-нибудь из-за этого пассажира, а ей в это время надо будет, скажем, срочно попасть домой, чтобы лечь — нехорошо ей станет, да мало ли что может быть, если в машине посторонний!.. Хотя она-то всегда умоляла остановить машину. И все это хотя «Великана» читал и прекрасно знал, как эта повесть любима женой.
Муж внимательно прочел подаренный ему АЛФАВИТ, и он ему понравился.
Спустя какое-то время жена забрала его — он лежал в стопке книг на стуле возле кровати мужа, но никогда им не перечитывался.
Теперь блокнот стоял на полочке над ее письменным столом.
Муж не заметил исчезновения.
Почти все, что было в этом алфавите, она знала наизусть. Цитаты… Но были не только они — были и ее стихи и мысли, а цитаты… Они ведь тоже были ее! Ее, сокровенное, без чего она не могла бы теперь быть собой и чем так хотела, именно как СВОИМ, поделиться с другими, сейчас — с мужем…
(Таких алфавитов было сделано ею разным друзьям 15 штук и всем по-разному в смысле содержания, выбора цитат и оформления. Надо сказать: труд большой.)
Цитаты — цикады, говорил Мандельштам, потому что ими неумолимо напоен воздух. Ты становишься СОБСТВЕННИКОМ ЦИТАТ, введя их в свой духовный мир. А ее духовный мир был настолько НАПОЁН ими, так ими НАПРЯЖЕН, что мог бы просто взорваться!..
«А» начиналось двумя словами:
Аббат Прево.
За ними шла строфа стихотворения:
А навстречу, улыбаясь, В блеске солнца, как в тиаре, золотая, голубая Беатриче Портинари… (Б.Пильник) Айда! День выбросил дугу! (Алик Ривин)Еще:
А в Библии красный кленовый лист Заложен на Песни Песней. (Анна Ахматова)Были и такие слова:
«А чья-то огромная многосердечная доброта до сих пор склоняется надо мной, извлекая со дна любой печали».
(Белла Ахмадулина)И очень дорогие ей слова Анны Ахматовой, которые всегда связывались с отцом, с посещением его в лагере:
А я иду — за мной беда! Не прямо и не косо, А в никуда и в никогда, Как поезда с откоса…Кончалась буква словами (и музыкой!) детской песенки, которую сочинила их младшая дочь, когда ей было 14 лет:
А там вдали — рассвет, А там вдали — преград нет, А там вдали — идет пароход, А там вдали — мой друг идет. Рассвет, рассвет ясный, Рассвет, рассвет красный, Люблю тебя, рассвет, каким бы ты ни был, Люблю тебя, рассвет, каким бы ты ни был…Ноты песенки были написаны сбоку — сестрой, закончившей музыкальную школу. Она и мелодию песенки сочинила.
А все-таки жизнь хороша, И мы в ней чего-нибудь стоим! (Арсений Тарковский)Отец очень любил спидолу и, когда было время, часами слушал всякие ВОЛНЫ (особенно летом, в отпуске…)…
Когда он купил ее, младшей дочери было 8 лет, и она первый год вела тогда дневник. В нем есть такая запись, как и остальные, написанная красивым детским почерком с наклоном и нажимом, которая называлась «Папа» (дневниковые ее записи много лет потом все еще были с заголовками):
«15 июня 1966 года, Среда.
ПАПА Мой папа врач-хирург. Он много спас людей. У него есть радио по имени SPIDOLA.
Он ее очень любит».
Spidola была написана крупно, красным карандашом.
— Да, папочка! Юлька передала тебе, лови! — старшая дочь бросила отцу небольшую, вроде металлическую вещицу.
— Что это?
Отец держал в руках маленький прямоугольничек светлошоколадного цвета с какой-то надписью.
— Что это? Что написано?
Это был маленький портсигар, изящный, с закругленными краями, или, может, сигаретница, с выпуклыми буквами поверху. Отец взял очки, висящие у него на шее, на веревочке, надел их и прочел:
— Брейнц майн харц. По-еврейски. Наискосок было написано.
Читать надо было справа налево.
— Переведи!
— Гори, мое сердце, — перевел отец.
Все рассмеялись.
Руки у отца слегка дрожали. Такой легкий тремор был у него уже давно от многолетнего неумеренного курения — по 2 пачки «Беломора» в день, а то и больше, и, главное — начинаемого непременно и ежедневно натощак, но тремор не мешал ему хорошо оперировать и делать даже тонкие операции, как, например, удаление крохотного камешка из юксто-везикального отдела мочеточника, то есть — предпузырного, расположенного глубоко в малом тазу, почему и трудно было тут работать. А он еще делал это быстро и ловко.
У него были выпуклые ногти — так называемое часовое стекло, а ногтевые фаланги — утолщены и закруглены, словно барабанные палочки. Они так и назывались в медицине. Сходство с ними усиливалось от этого часового стекла — фаланги были еще более выпуклыми, — еще больше походили на барабанные палочки.
Чаще всего это бывало у больных с хроническим бронхитом и эмфиземой легких, которые у отца были.
Старшая дочь уже знала, что отец за ее отсутствие бросил курить и была этому страшно рада — она больше всех давно умоляла его бросить, но он не бросал.
— Папочка! Эта сигаретница, кажется, Юлькиной тетушки, ну, их фамильная. Юлька сказала: «Пусть уж из этой, маленькой, курит!» Она ведь, как и я, не знала, что ты у нас теперь некурящий! Знаешь, Юлька сейчас со многими вещами, даже реликвиями, почему-то расстается… Только дедово все оставляет…
Как-то не по себе было дочери: и вино, и сигаретница, а отцу все нельзя…
Привезла….. Гори, мое сердце… Отец улыбнулся, побросал сигаретницу в полусогнутых ладошках и опустил в карман домашнего костюма.
— Папочка! Вот бы раньше такую!
— Да зачем же? Я разве такие курил?? — он махнул рукой.
…Раньше…
Она доставала фотоаппарат — сыну.
… Раньше…
Когда отцу было 18 лет, его призвали на действительную. Он закончил дивизионную школу, и ему было присвоено звание младшего сержанта и радиста высшего класса — 1-го. Он был направлен в 262 батальон аэродромного обслуживания (БАО) 1-й Воздушной Армии Западного особого военного округа.
Это было в 1940 году.
Через 8 месяцев началась война.
Их округ был реорганизован в Западный фронт, он стал помощником командира радиовзвода, оставаясь и радистом — обеспечивал радиосвязью наиболее сложные операции авиачастей.
Связь с родителями он потерял с конца июня 41 года, — они жили на Украине, в еврейской деревне Нагартаве Николаевской области, которая была сейчас под немцами.
Он надеялся, что родители успели эвакуироваться. Но почему они молчали?
Он волновался, но была война, почта ходила плохо…
В общем, он верил, что родители живы, что вот-вот он о них все узнает.
С тех пор он начал курить.
Буква «Б», как и все, содержала много разного, но любимым среди него, самым, было это; «Боже мой, как хрупка, как катастрофически хрупка жизнь! Дивный талант, глубокий ум зависит от какой-нибудь жилочки, которую порвать, перерезать ничего не стоит… «Рукописи не горят!» Еще как горят!» (Ольга Чайковская)
И вот еще потрясающие слова:
«Благодарение прозорливому Господу — жить со спокойной совестью больше невозможно. И вера не примирится с рассудком. Мир должен быть таким, как хочет Дон Кихот, и постоялые дворы должны стать замками, и Дон Кихот будет биться с целым светом и, по видимости, будет побит, а все-таки он останется победителем, хотя ему и придется выставить себя на посмешище. Он победит, смеясь над самим собой… Итак, какова же новая миссия Дон Кихота в нынешнем мире? Его удел — кричать, кричать в пустыне. Но пустыня внимает ему, хоть люди его и не слышат; и однажды пустыня заговорит, как лес: одинокий голос, подобный павшему семени, возрастет исполинским дубом, и тысячи языков его воспоют вечную славу Господу жизни и смерти».
(Мигель де Унамуно)В «В» были слова А.Битова о евреях.
«Ведь почему мы евреев не любим? Потому что при всех обстоятельствах они евреи.
Мы принадлежность (выделено автором — А.Б.) в них не любим, потому что сами не принадлежим. Задумывался ты, что в тебе евреи любят? Как раз принадлежность (…)»
Здесь же было переписано все стихотворение Окуджавы «Виноградную косточку в теплую землю зарою…» Столбик стихотворения оплетался нарисованными зеленым фломастером виноградными листочками с усиками (в алфавите были и рисунки, и фотографии).
И еще: «Вот уже много веков на Краковском костеле появляется ежечасно трубач, извещая, что минул еще один час быстротечной жизни». (Это были слова известного поэта их области. Он часто бывал и у них в городе, читал свои стихи. Звали его Марк Сергеев.)
Воздух ясен, и деревья голы, Хрупкий снег, как голубой фаянс. По дорогам Англии веселой Вновь трубит старинный дилижанс. Догорая над высокой крышей, Гаснет в небе золотая гарь. Старый гномик над оконной нишей Вновь зажег решетчатый фонарь.(…)
Это стихотворение (не все — то, что было в книге) она выписала из «Алмазного венца» («Алмазный мой венец») В.Катаева. Там автор значился под именем некоего ЭСКЕССА, данного ему, как и всем героям «Венца» Катаевым. Приходилось разгадывать, искать — это было хорошо: о многом узнавал в поисках сам. Узнавал не только подлинного поэта и его имя, но нередко что-то совсем новое о нем, очень интересное.
Где она узнала потом об Эскессе (это был самый трудный поиск), она теперь не помнит, может, и от самого Катаева, может, он где-то сам написал о нем, но вряд ли…
С — это первая буква имени поэта — Семен, Кесс — первые четыре — его фамилии: Кессельман.
Его хвалил Блок.
Эскесс жил вдвоем с матерью, вдовой, в Одессе, в подвале… Мать его боготворила. Он ее страстно любил, но… боялся.
У Семы было жирное лунообразное лицо со скептической еврейской улыбкой, на котором часто возникало такое пророческое выражение, что было страшно за его судьбу… Она и оказалась страшной. Он погиб с матерью во время Отечественной войны — был сожжен фашистами…
Возможно ли, — было ли это?
(Верлен)Вот видишь — приходит пора звездопада, И, кажется, время навек разлучаться…
… А я лишь теперь понимаю, как надо Любить, и жалеть, и прощать, и прощаться.
(Ольга Берггольц)«Вот бы и мне (как Монтеню!) написать такую статью, в которой мотивированно, а значит увлекательно (…), нашли бы место цитаты (…) не одна, не две, а целая река цитат».
(Юрий Олеша)«Г» начиналось словами о Гейне:
«Гейне приходил в Лувр, часами просиживал около статуи Венеры Милосской и плакал. О чем? О поруганном совершенстве человека. О том, что путь к совершенству тяжел и далек, и ему, Гейне, отдавшему людям яд и блеск своего ума, уж, конечно, не дойти до той обетованной земли, куда его всю жизнь звало беспокойное сердце».
(Конст. Паустовский)Кончалась страничка словом, о многом им говорящим:
«Гипс».
В «Д» она любила это: Двое и яблоко.
Изобразить эту фразу (название одного стихотворения Вероники Тушновой) так, чтобы яблоко было нарисовано, придумала она. Яблоко было красное, а черенок и листочек зеленые.
И это, из забытого нынче Эренбурга, из «Бури», любила:
Другие встретят солнце И будут петь и пить, И, может быть, не вспомнят, Как нам хотелось жить.«Е» с первой строки содержало мысль, касаемую посадки посторонних в «Росинанта»
(«чужая людская беда» — в стихотворном посвящении мужу из подаренного ему алфавита).
Если жизнь облыжная вас не дарит дланями Помогите ближнему, помогите дальнему! Помогите встречному, все равно чем именно, Подвезите женщину — не скажите имени! (Андрей Вознесенский)И была приклеена ее фотография, очень подходящая к этому случаю: мольба на лице, прижатые к груди руки — так, по какому-то поводу она была снята в позе просящей.
«Если человек во сне в Раю и получил в доказательство своего пребывания там цветок, а проснувшись, сжимает этот цветок в руке — что тогда?!»
(Колридж, 18 век)Страница с буквой «Ж» наверху начиналась с фамилии Желтков.
Сбоку, обрамленная волнистой тоненькой рамочкой, была фраза, относящаяся к этой фамилии, на что указывала золотая стрелка.
«… то скажите ей, что у Бетховена самое лучшее произведение (…)
L. van Beethoven. Son. N 2, Opus 2. Largo Appassionato».
(А.Куприн)«… жизнь все же не символ, не одна-единственная загадка и не одна-единственная попытка ее разгадать, что она не должна воплощаться в одном конкретном человеческом лице, что нельзя, один раз неудачно метнув кость, выбывать из игры; что жить нужно — из последних сил, с опустошенною душой и без надежды уцелеть в железном сердце города — ПРЕТЕРПЕВАТЬ (выделено автором — Д.Ф.). И снова выходить — в слепой, соленый, темный океан».
(Джон Фаулз)«Желаю новогоднего счастья навсегда».
(Бел Кауфман, внучка Шолом-Алейхема)Ну, а на странице с буквой «3» было это самое стихотворение о понедельнике:
Захотелось солнечной Наконец-то встречи»…»Здесь была и строка Мандельштама:
«За стихи у нас убивают».
У него была одна-единственная фотография родителей. Он тоже был с ними, сидел в середине. Ему было 17 — канун 18-летия и ухода в армию.
И эту единственную фотографию он, очевидно, еще в студенческие годы или, может, в первые годы их жизни здесь заложил в какую-то толстую книгу, чтобы распрямить, и так с тех пор не мог найти. Каждый год он пересматривал книги, листал, тряс их, но фотографии так и не нашел…
Были у него за войну всего одно письмо и открытка от матери (все письма за 8 месяцев до войны пропали во время отступления под Лепелм), справка из их сельсовета и письмо-треугольник от матери друга его детства Зямы Фалкова, сгоревшего в танке.
Вот и все, что было из дома…
Причем, письмо и открытка, как и справка из сельсовета, были даже не на его имя.
Первые на имя его друга Моси, с которым он уходил вместе в армию и вместе потом служил год, а справка — на имя московского дяди, брата мамы.
С конца июня 41 года мать почему-то перестала получать письма сына, хотя он был жив и здоров и, главное, рядом с Мосей, вот мать и писала Мосе.
«Нагартав, 26/VII 41 г.
Здравствуй, дорогой Мося!
Только что твои родители получили твое письмо от 9/VII, в котором ты не пишешь привет от Лейвуси. Нашим переживаниям и волнениям нет границ. От Лейвуси мы получили письмо от 27/VI, и с тех пор ни слова. Прошу тебя, дорогой Мося, с получением этого письма написать нам, где сейчас находится наш сын, служит ли он по своей специальности, все ли вы, наши нагартавские ребята, вместе, а если нет, далеко ли вы все друг от друга.
Мы читаем газеты, слушаем передачи из действующей армии и очень за вас беспокоимся.
Сегодня твои родители напишут тебе письмо.
Будь здоров, желаю тебе и всем нашим ребятам остаться целыми и невредимыми и с полной победой над лютым врагом вернуться домой.
Мать твоего друга Лейдерман П.Д.
Учти, Мося, наши волнения и напиши сразу ответ».
Вскоре Мосе пришла открытка, написанная через 4 дня после этого письма.
«Нагартав, 30/VII 41 г.
Здравствуй, Мося!
При получении сей открытки немедленно напиши мне, где сейчас находится наш сын, мы от него не имеем с 27/VI никаких писем. Нашим переживаниям нет границ.
Надеюсь, что ты сейчас же ответишь нам. Дома у вас благополучно. Будь здоров, желаю тебе остаться целым и невредимым.
Мать твоего друга Лейдерман П.Д.»Конечно, сразу при получении письма и открытки Мося отдал их своему другу. Тот тут же написал домой, но опять ответа не получил. Теперь уже и Мося ничего не получал.
Ровно три года длилось это молчание. Молчали все.
29 июля 1944 года секретарь Нагартавского сельсовета Березнеговатского района Николаевской области на запрос моего московского дяди, брата мамы, тоже разыскивавшего ее, написал следующую открытку-справку:
«На Ваше письмо от 16/VII 44 г. Нагартавский с/с отвечает, что Ваши родственники Лейдерман И.Б. и его жена Лейдерман П.Д. были эвакуированы в 1941 г., но не сумели переправиться и вернулись обратно в Нагартав, где погибли от рук фашистов.
Сын их Лейдерман Л.И. находится в РККА. Его адрес: п/п 64275 «г».
29/VII 44 г., секретарь с/с»
И стояла подпись.
Дядя тут же переслал эту справку мне, на мои же личные запросы так все и не было почему-то никаких ответов…
«И».
И я вижу ее, и теряю ее, и скорблю, И скорбь моя подобна солнцу в холодной воде… (Поль Элюар) И тогда, протягивая руку, Думая о бедном, о своем, Полюбил я горькую разлуку, Без которой мы не проживем. (Борис Корнилов) И пошел, куда не зная, С автоматом у плеча, «Белоруссия родная!..» Громким голосом крича… (Д.Самойлов)Однажды, будучи беременной, мать вышла из дома и увидела на улице, прямо перед собой повешенного на дереве знакомого парня-украинца из соседнего села. И его отца, тоже знакомого, стягивающего с сына сапоги.
На груди парня висела фанера с надписью: «Погромщик».
Кем он стал, этот парень — свой же, сосед, совсем молодой?..
Ушел к «зеленым»? Еще к кому-нибудь из бандитов?
В 22 году таких на Украине оставалось еще немало.
Чья-то карающая рука настигла его. У матери, все это увидевшей, тут же начались роды…
Ребенок родился семимесячным, слабым…
Дедушка мне часто рассказывал, что рос он, грудным, в мягком и теплом курином пуху.
А я, как дурак, твердил одно и то же:
— Да ведь ты же сам этого не помнишь!
— Ну и что?? Я же помню мамины рассказы.
И я замолкал, я не знал, что теперь говорить.
А дед обычно тихо повторял: — Да, представляешь, В ПУХУ…
Этот факт его биографии был для него почему-то очень важным, возможно, даже он гордился им… И еще он говорил, что перед сном мама всегда гладила утюгом его постель, даже когда он был уже взрослым.
И я сохраняю бережно боль Как луч твоего тепла.
(Наум Коржавин)
Бессонными ночами я часто повторяла по порядку свой алфавит, пытаясь уснуть, но не засыпала, зато хорошо выучила все…
«К» начиналось самойловской строфой — такой значительной для обоих.
Как это было! Как совпало — Война, беда, мечта и юность!
И это все в меня запало И лишь потом во мне очнулось!..
Дальше шли:
Каузальгия
и
Кержун Антон Павлович.
И вот это, из К.Воробьева, но не из «Великана», а из другой, тоже прекрасной его повести — «И всему роду твоему…»
«Кто-то из великих писателей сказал, что день опять обрадует меня людьми и солнцем и опять надолго обманет меня».
Были здесь и слова Мити из Достоевского, из «Карамазовых»:
«Калина, ягоды, какие красные».
Эти слова, кроме всего, были вывешены вроде своеобразного лозунга на встрече «Свечи» с писателем В.Г.Распутиным в 81 году, когда он был на заседании клуба уже второй раз (в первый раз, в 76 году, обсуждалась его повесть «Живи и помни»)
— рассказывал, вернее, читал («Я плохо говорю») свое эссе о Шукшине, которое тогда нигде еще не было опубликовано. Слова Достоевского были как бы эпиграфом к этому эссе, одним из них, но эпиграфом о т клуба, от читателей.
Распутин тогда говорил и об отношении Шукшина к женщинам, о том, что Шукшин не любил их, и они в его произведениях, кроме Матери, всегда отрицательные образы…
С женщин Валентин Григорьевич логично перешел на семью. И стал вдруг яростно говорить о том, что развод не имеет право на существование: «Женился и живи всю жизнь с той, кого выбрал! Жена — родня… Родина…»* Он тут очень четко все увязал.
В зале возник шум, послышались вопросы, возражения, но Валентин Григорьевич все это отмел и закончил тему несколько своеобразно: «Когда человек живет с одной женой, — он на двух ногах, — хороша ли, плоха нога, но своя, как и жена. Новая жена — протез (да, так он сказал). Женившийся второй раз идет словно на протезе»
(да, да, именно так сказал).
Потом, конечно, выступали, спорили, доказывали, что Валентин Григорьевич все же не совсем прав, приводили примеры, недоумевали (нога жена??), но, как и на первой встрече, Распутин был как скала — стоял твердо, и все их жаркие слова оказывались… жалкими: ударялись в эту скалу, нисколько не сокрушив ее…
«Л».
«Люди, милые люди, здравствуйте!»
(В.Шукшин)«М»
«Мы все сошлись на том, чтобы как можно лучше ухаживать за страждущим человеком, иногда держать его за руку, дарить хоть каплю дружеского тепла, ведь даже за пять минут можно порой одолеть отчаяние»
(Мадлен Риффо, «Больница как она есть». Эту вещь они тоже обсуждали в своем клубе. Говорили и о ней, и о себе, о своей больнице как она есть…)Здесь было и мое стихотворение «Мама и город».
Можно сменить квартиру, В город уехать другой, Но здесь же твоя могила — Мне надлежит быть с тобой. Ах, что говорить, Что «оправдывать» Город хороший мой!.. Какая здесь горечь-черемуха Над твоей распустилась звездой!.. Мне придется еще увидать напоследок, Как мой мальчик снесет пережитое мной. (Юнна Мориц)Микеланджело — Микеланьоло ди Лодовико ди Лионардо ди Буонарроти Симони (так звучит полное имя Микеланджело) родился 6.111.1475 года.
«Мне часто приходит в голову мысль о том, что неплохо было бы пересказать (…) все те сюжеты литературных произведений, которые поразили меня. Первым вспоминается «Принц и нищий». Нет, нет, ничто не вспоминается отдельно врывается целый вихрь!»
(Юрий Олеша)(Он сам пересказывает (и весьма своеобразно рассказывает о самих авторах!)
Данте, Монтеня, Гете, Л.Толстого, Тургенева, Пушкина, Достоевского, Марка Твена, Ростана, Уэлса, Ренана, Хемингуэя, Б.Шоу, Карела Чапека, Бунина, Делакруа, Ван Гога, Моцарта, Хлебникова, Ренара, Бетховена, Шаляпина, Маяковского…
И он пишет (пересказывает о львах, собаках, гориллах, кошках, лисицах, воробьях, птице-секретаре, бабочках, павлинах, разных деревьях… И все это, чтобы в конце концов воскликнуть: «Да здравствует мир без меня!»)
«Н»
…Не жизни жаль с томительным дыханьем, Что жизнь и смерть? А жаль того огня, Что просиял над целым мирозданьем И в ночь идет и плачет, уходя… (Афанасий Фет)«Надо соизмерять свои силы. В этом, очевидно, мудрость. Но я не мудрый. Я любящий. Таким меня и запомните».
(Эдуард Гольдернесс)«Невозможно, чувствуя ответственность, приходить в отчаяние»
(не знаю чье). Никто не знал тебя, как я, Поэтому я не остался с тобой, С такой, как разгорающийся огонь… (Н.Панченко)«Не боги горшки обжигают? А жаль!»
(М.Френкель)Примерно с 11 до 15 лет я часто ходил со своими друзьями на окраину села, на маслобойку, которой заведовал дядя Соломон, отец моего друга Илюши Когана.
Увидев нас, идущих сюда, дядя Соломон выходил на дорогу — встречать. Он махал сложенной в руке фуражкой и кричал:
— Кум цу мир, майнэ тайерэ! («Идите ко мне, мои дорогие!»)
Мы кидались к нему.
За ухом дяди Соломона был всегда воткнут какой-нибудь цветок — то ли ярко-синий колокольчик, то ли ромашка… Один раз — не за ухо, а под фуражку был вставлен совсем маленький подсолнушек.
Нам предстоял чудесный пир, дивное лакомство: лущенный подсолнух разных видов.
Подсолнухов в нашем селе было, конечно, навалом — Украина! Но дело в том, что на маслобойке ничего не надо было лущить! — все было готово!
Мешки, разные емкости — ешь до отвала!
Кроме сырых, белых семечек, были и жареные, коричневатые. Жарились они здесь же, в специальной круглой жаровне с механической мешалкой. Это делалось перед тем, как выжать из подсолнуха масло — на особом прессе. До макухи, жмыха.
Любые семечки — сырые или жареные — мы могли брать здесь сколько угодно. И мы брали. Горстями. Горсть запихивали в рот и тут же снова набивали его, не успев прожевать первой.
Жевали до обалдения, пока не заболевали мышцы лица, пока сами не превращались в прессы, в выжималки, откуда текло подсолнечное масло — до подбородка, на грудь…
Обычно на маслобойке мы ели жареные семечки, а карманы набивали сырыми, чтобы не замаслить их, хотя… замасленные мы были уже хорошо!..
Ах, как вкусно все было, какой чудесный запах стоял здесь, как ласковы были с нами взрослые!
Мой внук часто спрашивает меня о самом лучшем, что было в моем детстве, и я всегда говорю: «Маслобойка!»
Внук каждый раз возмущается: «Маслобойка… Да ты мне сто раз о ней говорил!»
«Ну и что? — говорю я. — Ты же задаешь один и тот же вопрос».
И внук смирялся: «Да ладно, дед, ладно! Расскажи про маслобойку, расскажи! Я очень хочу! А у нас есть маслобойка?»
«Нормальный глаз лошади должен быть большим, открытым, блестящим, смелым и доверчивым». (Андрей Битов)
«На всей нашей планете, вероятно, едва ли наберется пятьсот клоунов»… (Юрий Никулин)
7. НЕ ПЛАКАТЬ, НЕ СМЕЯТЬСЯ, А ПОНИМАТЬ
Эта фраза тоже висела в виде «лозунга» при встрече с Распутиным, при обсуждении его повести «Живи и помни», когда писатель был у них первый раз, в 76 году.
Эти слова Баруха Спинозы были тоже встречным, читательским эпиграфом, с ходу говорящим автору о том, как они, читатели, подходили к его повести.
Эпиграфов-лозунгов» было много, с них, по сути, не только начиналось обсуждение повести, но и спор с писателем, что выяснилось очень скоро.
Эпиграфы были не только лозунговые. Был, например, музыкальный эпиграф: на пианино прозвучало Andante Cantabile из 5-й симфонии Чайковского — как знак беды, трагедии….Затем медсестры со своим руководителем и ее младшей дочерью прочли стихотворную композицию, рефреном которой были слова Николая Панченко из его потрясающей «Баллады о расстрелянном сердце»:
Убей его! — и убиваю. Хожу, подковками звеня, Я знаю: сердцем убываю, И вот — нет сердца у меня.То есть совершенно прямо «Свеча» говорила об УБЫВАНИИ СЕРДЦА на войне и у НАШИХ солдат, о потере его, об аморальности войны, ЕЕ вине… Шел подход к тому, что Андрей Гуськов, герой разбираемой повести, хотя и является дезертиром, но дезертиром не НАСТОЯЩИМ, не ПРЕДНАМЕРЕННЫМ — дезертирство для него самого оказалось внезапным, неожиданным («Оттуда, с фронта, конечно, не побежал бы, а тут показалось вроде рядом», «Я же не с целью побежал…»)* Он прежде всего ЖЕРТВА войны, жертва человеческого бездушия, ибо сердце на войне убывает не только у солдат, примером чего является поведение даже врачей — ведь именно они, врачи госпиталя, отправляют Гуськова после тяжелого ранения (третьего по счету) сразу на фронт: «Можешь воевать — и точка!» Дня не дали на побывку домой, хотя был он так близко!
Ах, Гуськов «чуть ли не лизал свои раны» — только бы увидеть родителей и жену, всего себя «до последней капли» приготовил он для встречи — жил этим… Ну нисколько он не сомневался, с первого дня не сомневался отпустят… Все бывалые мужики в палате были уверены: дадут не меньше 10 дней.
А врачи до таких чертей устали, обалдели от всего, что сердце-то и потеряли! И запросто потеряли («И вот — нет сердца у меня…»). Оно ушло у них на зверский труд по ПОЧИНКЕ тьмы других, кроме Гуськова, солдат, хотя, конечно, не обязательно было бы при этом терять сердце…
Ошарашенный Гуськов бегал «по врачам», — кричал, доказывал, просил, горячился, ругался… НИЧЕГО НЕ ВЫШЛО.
Никто не захотел даже выслушать его. Выпроводили врачи Гуськова из госпиталя:
«Можешь воевать — и точка».
И — ТОЧКА!
Вот с чего началось дезертирство это. ВОТ С ЧЕГО!
Не будем же забывать! Говоря об этой книге, прежде всего будем помнить именно ЭТО — иначе ошибемся уже с самого начала.
И если по большому счету — не Гуськов главный виновник несчастий, описанных в повести, если не сказать — вообще не виновник, хотя Евг. Евтушенко в книге очерков «Завтрашний ветер» пишет о «бегстве от боязни расплаты за вину…»
Какая же вина? Желание перед тем, как снова «под пули, под смерть», взглянуть на родных — «только один-единственный денек побывать дома, унять душу — тогда он опять готов НА ЧТО УГОДНО» — ему дышать было нечем, до того захотелось увидеть своих — ВЕДЬ ДОМ-ТО БЫЛ РЯДОМ, РЯ-ДОМ-ЖЕ!
Вина ли это?
Вина, как не вина, коли не получено на то официального разрешения, без чего ты испытывать подобные чувства не имеешь права! (Ну, чувства-то, положим, никому и никакие не запретишь, но ведь они предшествуют делу! А вообще-то, чувства у советского солдата должны быть ВСЕГДА ПРАВИЛЬНЫМИ, то есть такими, как велит Родина, партия, сам товарищ Сталин, так что…)
Мечась по вокзалу в ожидании поезда, своего состава на запад, на фронт, вскочил Гуськов, как сомнамбула, в подошедший, как нарочно, именно иркутский, да еще с каким-то иркутянином, с которым только познакомился, бойко подстрекающим его к посещению родных.
Да, чувства на миг захлестнули Гуськова, и мига этого было достаточно, чтобы вскочить в поезд…
Итак, это ВИНА.
Что же БЕГСТВО?
Все те события, которые составляют толщу повести, что сам Распутин, САМ (!)
назвал «ОТЧАЯННЫМ ВЫВЕРТЫШЕМ СУДЬБЫ», тем «ТУПИКОМ, выхода из которого НЕТ», чему может быть лишь страшное имя: НЕВОЗВРАТНОСТЬ, — то, что выдает действительность, жизнь, когда наступает та убыль, потеря сердца, о которой шла речь. (Выходит, обсуждаться предлагался ТУПИК??)
Конечно, не каждый и в этом случае побежал бы, не каждый, будь он даже и в шаге от своего дома.
Есть особые люди, понимающие воинский долг как АБСОЛЮТ. Но Гуськов, этот простой мужик, хотя и не был как эти люди, долг свой тоже знал.
Он провоевал почти всю войну, был хорошим разведчиком, не раз был ранен, контужен был, лежал в госпиталях, но о бегстве не помышлял (о, мечтал, мечтал о побывке домой, всяко примеривался, но то были именно мечты, чтобы согреть душу, да и подразнить нас писатель хотел!), а тут… тут… ну, так сложилось, сошлось так, НАПРОСИЛОСЬ прямо: ведь не зря же Гуськов не вызвал в госпиталь Настену и родителей, как это делалось уверен был, что явится нежданно сам, что его, конечно, отпустят хоть на денек! А как же! Это ведь естественно: дом-то недалеко, да и ранение у него было тяжелое и не первое, к тому же ведь война кончалась. Что, действительно, стоило отпустить человека на денек на побывку?! А тут — не отпустили, не вышло!.. Вот он и рванул, не понимая поначалу, что делает, а ведь и обернуться хотел — успеть на фронт!
А когда все понял — было поздно: никто бы его не простил, не помиловал: ему маячил один расстрел.
И он видел его, показательный, когда расстреливали двух солдат за побег, причем одного — прямо мальчика, ребенка…
Нет, боялся Андрей…
Ну, судите, судите теперь Гуськова за этот его страх, су-ди-те! В том же своем очерке Евтушенко, упоминая Гуськова, называл его только так: Андрей Гуськов, дезертир из повести Распутина». Звучит это абсолютно утвердительно, запросто, как само собой разумеющееся, преподносится как аксиома, то есть Евтушенко действительно припечатывает ПОДЛИННОЕ ДЕЗЕРТИРСТВО. Но ведь это значит, что он не делает и малейшей попытки какого бы то ни было осмысления? Да, не делает.
Но не все в клубе «Свеча», совсем не все, в 76 году были согласны с его концепцией, но и согласных, конечно, было немало, и когда они, согласные, говорили об этом (Андрей — дезертир), Распутин согласно кивал — не так уж, чтобы очень сильно, не унижал себя кивками, но, безусловно, ему нравились такие выступления, очень нравились, он был с ними согласен, и это было видно.
И все же, как мы говорили, согласными были не все, что было важно: за время существования «Свечи», равное к моменту первой встречи с Распутиным четырем годам, многие сестры, как и гости клуба, коих всегда было немало, уже умели смотреть на войну несколько иначе, для себя по-новому, и они не могли видеть в Андрее преднамеренного дезертира.
СУДЯ ПО ВСЕМУ, ТАЛАНТЛИВЫЙ ПИСАТЕЛЬ САМ НЕ ВПОЛНЕ ПОНИМАЛ, ЧТО ОН НАПИСАЛ, КАКОЕ ЗНАЧИТЕЛЬНОЕ ПРОИЗВЕДЕНИЕ СОЗДАЛ! — такое нередко бывает.
Ведь по сути, по глубинной своей сути, Распутин показал не «бегство за вину», как утверждает Евтушенко, а этот самый ужас войны, ее безжалостность, бесчеловечность, именно эту легкость потери сердца, и ВСЕМИ (!). И еще — столь важное: НЕОБХОДИМОСТЬ (!)
КАЖДОМУ (!) — «КАК ОДИН ЧЕЛОВЕК!»* — быть ГЕРОЕМ!
Очевидно, сам того не желая, Распутин показал, как НЕ ЗАПРОСТО дается это самое геройство, то есть, что оно — НЕЕСТЕСТВЕННО, невозможно для всех. И сейчас (СЕЙЧАС-ТО!) это уж никак не может быть секретом! (Почему же сам Распутин делает из этого СЕКРЕТ, почему??)
Сейчас мы должны знать, что было по-всякому и всякое, и в том числе настоящее, преднамеренное, прямое дезертирство, и — не в единичных случаях, НЕ В ЕДИНИЧНЫХ — иначе незачем было бы об этом писать!! Ведь не ради же исключительного случая написана книга?? Да что дезертирство! — а изменники, полицаи, каратели? Вот и КАК ОДИН ЧЕЛОВЕК!.. Так что не будем делать «БОЛЬШИЕ ГЛАЗА»
…Несколько выступающих сестер высказались за то, что Гуськов вообще НЕ ПОНИМАЛ войны — ну, что ли, не осознавал ее политически — не каждому ведь это дано.
«Откуда она свалилась, эта война, откудова взялась?» — в недоумении думал Андрей Гуськов и потому, наверное, принял ее не как общую беду, а чуть ли не как личную обиду… Он даже на Ангару обиделся: течет все в ту же сторону… И провоевав ПОЧТИ ВСЮ ВОЙНУ, 3,5 ГОДА, все не мог к ней привыкнуть, завидовал мужикам, которые шли в бой спокойно, как на работу. Он — не мог, хотя был хорошим солдатом. Странно, не правда ли? Ходить в бой спокойно, как на работу — не то же ли это самое, что ХОДИТЬ, ПОДКОВКАМИ ЗВЕНЯ, ВЛАДЕЯ ЧУДОМ? То же самое! И это — для большинства! А вот Гуськов не мог… Хорошо это или плохо?
Очень важный вопрос. Пусть каждый ответит на него для себя.
И тем не менее, это, это: БЫЛ ХОРОШИМ СОЛДАТОМ! Это тоже всем нам, обсуждающим повесть, надо помнить!
Ее, повесть, надо непременно очень четко разобрать, прямо-таки построчечке, понять хорошо, — вдруг писатель нас специально запутывает?..
Они, сестры, и пытались разобраться, понять за месяц подготовки к диспуту.
И, казалось, Распутину как раз это и было нужно — такой читательский подход, это стремление именно ПОНЯТЬ, что он написал, вникнуть… Книга ведь была непростая — как жизнь, но в жизни-то пытаются разобраться! Казалось, Распутин давно ждал этого и вот, наконец, дождался, услышал кроме известных ему текстов то, что было для него так важно, так дорого, что ему, возможно, никто еще и не говорил, а то, что это так, выяснилось очень скоро, да и в критических статьях того времени иного толкования, нежели: «Гуськов — дезертир» — не было. Во всяком случае она, руководитель «Свечи», тщательно следившая за литературой, ничего другого не находила. Конечно, что-то она могла пропустить, но речь ведь шла об общей тенденции. И только спустя 11 лет (!) в том же сборнике Евтушенко она нашла, что Гуськов в ТОМ ЧИСЛЕ (!) и «преступление самой войны», но в очерке это было всего лишь одной-единственной фразой, так, МИМОХОДОМ БРОШЕННОЙ, и вовсе не на ней были авторские акценты. Конечно, не на одном Евтушенко свет сошелся, но мысли его были взяты ею за модель, тем более, что написано это было в 87 году, то есть и спустя 11 лет после их встречи писали именно (или примерно) так же — ничего не изменилось.
Да, казалось, нужен был Распутину такой читательский подход, казалось…
Но…
Валентин Григорьевич, с трудом сдерживая гнев, если не сказать ярость, заявил, махнув рукой на стену, что «эти слова» («Не плакать, не смеяться, а понимать»), возможно, только тем и могут привлечь «чье-то»(!) внимание, что принадлежат «этому(!) Спинозе», лично же для него, Распутина, они никакого значения не имеют, так как писателю, сказал он, вовсе не требуется какого-то там особого читательского ПОНИМАНИЯ (да, так он сказал). Ему, например, Распутину, напротив, дороги чувства («плакать, смеяться»!) — «душевные переживания»… И что вообще — ни во что ему, читателю, как раз и не следует ВНИКАТЬ (ПОНИМАТЬ!): ПРОЧЕЛ, ПОЧУВСТВОВАЛ ВСЕ, ДОСТАТОЧНО!
Еще бы, Господи, ну да как же без чувств-то (слез, смеха!), без этих самых «душевных переживаний» читать книги?! («Над вымыслом слезами обольюсь».)
Конечно, невозможно, да никто так и не читает. Но это же ясно, это банальность.
А кроме того, чтение душой, сердцем ведь тоже понимание, да еще какое! ОТРИЦАТЬ ЭТОГО НИКАК НЕЛЬЗЯ!
Пусть, пусть этот вид понимания больше подкорковый, чувственный, нежели корковый (умом — разумом — интеллектом), ну и что? Просто такой ВИД понимания — сердцем!
— был ближе Распутину, дороже. Ну и хорошо! Нормально! Но почему Валентин Григорьевич так активно протестовал против такой великолепной мысли Спинозы, такой точной?
Почему читательский ум прямо-таки отвергался Распутиным, был для него таким отталкивающим, пожалуй, даже и ненавистным? Думающий читатель, стремящийся проникнуть в суть созданного им был чужд ему, — почему?
Вот это и было непонятно, неясно.
Распутину очень понравилось, когда Вера Иннокентьевна, одна из старших сестер больницы, сказала, раскрасневшись, смущаясь: «Я не знаю никаких там правил, но считаю, что Настена при Андрее, как медсестра при тяжелом больном, которого она никак, ну никак не может бросить!» И правда: хорошо сказано! Но ведь это же не тот АНАЛИЗ, к которому «Свеча» готовилась весь месяц, это же НЕ ВСЕ! Но в том-то и дело: Распутину большего не надо было… (А, может, он прав? Ну-у… Кто-то пусть решит…)
Выходит, действительно, зря они так готовились к этой встрече, рассуждали, спорили, зачитывали вслух куски из книги, зря возникали у них бесконечные МИКРОДИСПУТЫ — то в коридорах больницы, то в ординаторских? Нет, конечно, не зря, нет, но всем как-то не верилось, было не по себе, когда Распутин всерьез говорил, прямо УВЕРЯЛ ИХ, что ему НЕ НАДО никакого их «понимания», но он подчеркивал это и подчеркивал и был словно очень сердит и на них — тех, кто стремился понять и, конечно, на «этого Спинозу»…
Поэтому и вышло, что хотя диспут был интересным, долгим, горячим — ни к чему не привел. В том смысле, что автор, сжав губы, устремив куда-то вдаль свои черные жгучие глаза, стоял на своем: Андрей — ПЛОХОЙ, очень плохой, и не зря он чуть ли не превращается В ЖИВОТНОЕ, В ЗВЕРЯ, вот и воет, как волк (последние слова Распутин сам не произнес, но был рад, когда их произносили другие, очень рад).
Из-за него, Гуськова, погибает прекрасная женщина — Настена, прощения ему быть не может — НИКАКОГО И НИКОГДА!..
О роковой роли войны, ситуации и слова не сказал, не сказал и о «потере сердца», и что не каждый может и умеет его терять… Валентин Григорьевич вообще никак не отозвался на их стихотворный монтаж, в который они вложили столько сил и страсти, столько вдохновения — его будто и не было вовсе, или будто Распутин абсолютно не слышал его…
Все, конечно, хорошо кончилось, да и вообще ведь — хорошо было. Шутка ли? — у них в гостях, у простых медсестер, САМ Распутин — Писатель N 1 их Времени! Сам этот факт!! Все горды были ужасно, горды и благодарны, ну и потом — ведь больше всего было восторженных отзывов, искренних и таких заслуженных! Я не пишу о них только потому, что в самих этих отзывах в общем-то не было чего-либо особо ярко-индивидуального, интересного: ну, хвалили повесть, восхищались Настеной, но это все-таки были общие места. Говорили, правда, о смелости и новаторстве писателя, но не уточняли, в ЧЕМ же эта смелость и новаторство. То есть повесть действительно поняли, и поняли именно душой, чувствами, не проникая вглубь, в суть, потому и не могли объяснить, в ЧЕМ конкретно были новаторство и смелость (а они ведь действительно были), но поскольку все же самое главное было отгаданорадость, даже какое-то воодушевление, словно флюиды, передавались друг другу, в зале царила атмосфера праздника, тепла, единства.
Лицо Распутина покрылось красными пятнами, вся суровость его как бы опала.
Валентин Григорьевич смущенно улыбался, что очень шло ему, был искренне растроган и сказал, что ТАКИХ ВСТРЕЧ У НЕГО ЕЩЕ НЕ БЫЛО. Вот ведь!! И бывшие «углы» нисколько не чувствовались, — они ведь не только могли быть — должны! — диспут же был, всяк свое говорил, обсуждали, спорили, и хорошо, что спорили, а не молчали, для того и собрались, да и Распутин вон как доволен!
И было много цветов в дар писателю, очень много…
И передана была Валентину Григорьевичу — с ладошки на ладошку славная, деревянная статуэточка медсестры, — маленькая, в косыночке с красным крестиком и медицинской сумочкой, тоже с крестиком. Сестру все дружно решили назвать «Настеной» (На второй встрече, о Шукшине, была вторая такая же, названная «Анной» — по имени главной героини распутинской повести «Последний срок», и была тогда уже договоренность и о третьей встрече, где будет непременно такая же третья медсестра, которой они тоже дадут какое-нибудь хорошее, дорогое писателю женское имя. Увы… третьей встречи не было, хотя сестры горячо приглашали Валентина Григорьевича в 87 году для обсуждения его последней повести «Пожар»*, написанной в 85 году и опубликованной, как чаще всего бывало, в любимом его журнале «Наш современник». Но… не приехал к ним Распутин, почему-то не приехал… Очевидно, какие-то другие дела и заботы отвлекли (увлекли?) его, может, времена чуть изменились, но «чуть» — это для них, а для Валентина Григорьевича, может, и не «чуть», трудно им было понять… Он, когда его приглашали, говорил теперь совсем не так, как в предыдущие разы. И почему-то резко, совсем коротко, как с чужими, и вообще — как-то чудно: дескать, какой там диспут еще! И чувствовалось: не-до-вас!)
Ну, а тогда, тогда хорошо было.
В конце Распутин автографы раздавал, его много фотографировали, благодарили. Да, хорошо было.
Наконец Распутина проводили в приемный покой больницы, к которому должна была подъехать легковая машина, чтобы увезти писателя домой, в Иркутск.
Пока ждали ее, в приемник зашел мой муж (из своей больницы). Поздоровавшись с писателем, он извинился: «Жаль, не мог послушать. Партсобрание было».
И тут Валентин Григорьевич громко, очень громко, на весь приемник, отчетливо произнес: «А поменьше бы этих партсобраний было! Партия да партия! Куда ни плюнь! А к чему она, эта партия, зачем? Мы уже до того дошли, что даже так стали говорить: «Прошла зима, настало лето, спасибо партии за это!» Вот до чего докатились!» Угольные глаза его пылали. Губы были сжаты, так что их совсем не было видно…
Вот это да-а-а!!
Все, кто был в приемном покое, опешили, смутились, опустили глаза, головы (76-й год ведь!).
Многие, конечно, восхитились смелостью писателя, мы с мужем — во всяком случае.
Тут подошла легковушка, и Валентин Григорьевич, высокий и статный, богато и изящно, но очено скромно одетый, утопающий в цветах, попрощавшись со всеми, уехал домой.
«О»
«Остановись на миг, останови миг и осмотрись: как прекрасны, как сложны, как ранимы, как завидно свободны, как лучше тебя все собравшиеся за столом».
(А.Цыбулевский)«О, други, не надо этак!»
(Слова из речитатива заключительной части 9-й симфонии Бетховена)«П»
Перед какой безвестностью зимой, Каких еще тревог и потрясений Так свеж и ясен этот мир осенний, Так сладок каждый вдох и выдох мой? (А.Твардовский)И было стихотворение одного из любимых ее поэтов — Наума Коржавина:
Предельно краток язык земной Он будет всегда таким. С другим — это значит то, что со мной, Но — с другим. И я давно победил эту боль, Ушел и махнул рукой: С другой… это значит то, что с тобой, Но — с другой.«Помни меня! Я тебе никогда не чужая.
Помни меня, не забудь меня! Слышишь? Не за…»
(П.Антокольский)У деда с внуком были свои разговоры, часто повторяющиеся. Внук был мал, а у деда не так уж много было прекрасных воспоминаний, а разговоры чаще всего строились именно на них, на дедовых воспоминаниях…
Ну вот, был у них, среди других, разговор о фазанах, точнее, о павлинах.
Оказывается, у маленького деда дома жили настоящие павлины.
Просто так. Да, просто так. Две пары павлинов, этих прекрасных птиц. Они ходили по двору между курами, утками и гусями.
Появились они у них потому, что мама деда взяла павлиньи яйца у жены их сельского врача Картавы, у которого павлины жили давно — откуда-то врач привез их.
— Дед! А вы их потом тоже жарили, как кур?
— Павлинов? Павлинов жарить?? Ну, ты даешь! — ошалело кричал дед. — Да они же для красоты! Это же жар-птицы, понимаешь?
— Жар-птицы?? — потрясался внук.
— Ну. Жар-птицы. А ты — жарить…
Смущенный внук умолкал. А после рассказывал своим друзьям, что У ЕГО ДЕДА, КОГДА ОН БЫЛ МАЛЕНЬКИМ, ВО ДВОРЕ ЖИЛИ НАСТОЯЩИЕ ЖАР-ПТИЦЫ. ПРОСТО ТАК. ДЛЯ КРАСОТЫ.
Однажды кто-то зашел к ним домой с мандолиной. И дед запросто стал играть на ней. Играл и подпевал: «Где эта улица, где этот дом?», «Раскинулось море широко…», «Песню про Щорса» на украинском, «Аз дэр рэбэ Эле-мэйлах…» («Когда учитель Эле-король…») на еврейском.
Он огорчился, когда пришлось вернуть мандолину хозяину. Они все искали ее тогда в магазинах, но мандолин не было. И потом не раз искали, а их все не было, да и дед вроде забыл о ней.
Однако, вспоминая друзей своей юности, он вспоминал и свою мандолину.
У них, почти у всех ребят, был какой-нибудь инструмент, и каждый подбирал разные песенки.
Иногда они собирались вместе, чтобы вместе поиграть, а в 7-м классе их учитель музыки организовал школьный струнный оркестр, в который все они вошли, и который был очень популярен — слушать его приходили и взрослые. Ребята выступали со сцены. Играли русские, украинские и еврейские песни. Некоторые девочки пели со сцены под их музыку, например, очень красивая девочка Зина Белинская.
На мандолине, кроме него, играли Мося и Зяма, на гитаре — Мара, на домре — Илья, на балалайке — Коля Плиц.
Когда теперь дед иногда слышал песни Утесова, он прямо расцветал весь и изумлялся: «Так ведь мы же все эти песенки еще когда пели!» И вдохновляясь, напевал одну за другой.
Где они теперь, школьные его друзья?
Мара и Зяма сгорели в танках, это он знал от матери Зямы, которая написала ему в армию и которую он видел после войны в 46 году, когда приезжал в свое село на место расстрела.
Узнал он и о гибели Зины Белинской, страшной ее гибели… Он старался не вспоминать об этом — тут надо было или действительно как-то ухитриться не вспоминать или уже сразу умереть.
Буква «П» кончалась так:
«Послала я к тебе, друг мой, связочку, изволь носить на здоровье и связывать головушку, а я тое связочку целый день носила, и к тебе, друг мой, послала:
изволь носить на здоровье. А я, ей-ей, в добром здоровье. А которые у тебя, друг мой, есть в Азове кафтаны старые изношенные и ты, друг мой, пришли ко мне, отпоров от воротка, лоскуточек камочки, а я тое камочку стану до тебя, друг мой, стану носить — будто с тобою видица…»
(Конст. Воробьев, рассказ «Генка, брат мой» — письмо жены мужу, 17 век)
«Р»
Рань, рвануться, раздать, родственники в приемном покое, развидняется, разнотравье, Requiem, радостные глаза…
Река Сугаклея уходит в камыш, Бумажный кораблик плывет по реке, Ребенок стоит на песке золотом, В руках его яблоко и стрекоза. (Арсений Тарковский)«C»
Столько музыки в мире слышится И не слышно столько людей! (В.Коротич)
«С годами человек в чем-то становится тверже, в чем-то мягче, но ни в чем и никогда не становится более зрелым».
(Сент-Бев) Сова осердилась, Пошла, не простилась. «Оглянись, моя Совушка, Воротись, Савельевна!» «Не такого я отчества, Чтоб назад ворочаться…» (Ольга Чайковская)«Снова. Грустнее, чем «был». Снова. Грустнее всех слов. Снова».
(Фолкнер) Сказки пишут для храбрых. Зачем равнодушному сказка? Что чудес не бывает, Он знает со школьной скамьи. Для него хороша И обычная серая краска. Он уверен Невзрачны на вид соловьи. Соловьи золотые!.. (Александр Коваленков)«Т» начиналось так: Такси 89–60. Сбоку были нарисованы шашечки. Это была опять же тема «Росинанта».
Как-то они ехали вечером зимой из их областного города, из клиники после консультации, и что-то сломалось в их машине — она прочно встала. Все проезжали мимо, никто не собирался их спасать. Прошло около 2 часов, наступала ночь. Ей стало плохо. Пришлось принимать лекарства. И вот такси N 89–60, переполненное людьми, остановилось возле них. Пожилой таксист («Выключите там спидометр!») долго возился с «Росинантом», пытаясь исправить, но… не вышло; тогда он прицепил «Росинанта» тросом к своей машине и довез домой, до гаража. Денег не взял ни за что. «Бывают чудеса», — сказала она. Муж молчал. Да, такси 89–60…
Только бы обнаружить друг друга рано утром Старыми, слабыми, больными, но живыми. (Борис Слуцкий) Твою ненаглядную руку Так крепко сжимая в своей, Я все отодвинуть разлуку Пытаюсь, но помню о ней… (Александр Кушнер)Здесь были и очень дорогие, важные для нее слова Достоевского:
«Тут одна только правда, а, стало быть, и несправедливо».
Эти слова тоже были эпиграфом от клуба к «Живи и помни», и эпиграфом очень важным, значительным. Что? Снова Распутин? Снова! А разве нельзя?? А если это надо, если интересно? Очень интересно?? Можно, конечно, было бы написать о Распутине сразу, подряд, но ведь какой здесь закон? Да нет его! А подряд как-то много, читать трудно, так мне кажется, да и эпиграф напомнил именно здесь.
… Я сказала Валентину Григорьевичу, что вот и любимый его Достоевский считает, что ОДНОЙ правды, ГОЛОЙ (Андрей — дезертир!) для правды мало, что нужно ЧТО-ТО ЕЩЕ, что-то как бы совсем противоположное.
Распутин вновь махнул рукой: дезертир!
Меня чуть ли не сбила, сразу заговорив, Нина Михайловна Гудыма, одна из наших самых активных и самых боевых сестер; лет, наверное, 50-55-ти, простая женщина, говорящая всегда что думает, думающая, часто вызывающая немыслимой своей откровенностью и прямотой смех, не обращающая на него внимания, часто любого, кем бы он ни был, называющая на «ты», что у нее всегда хорошо получалось — естественно, не фамильярно.
Обращаясь непосредственно к Распутину, она воскликнула: — Да ведь и вы же об этом написали — о СПРАВЕДЛИВОСТИ! Как этот сказал, писатель Достоевский. Вот (достает из кармана своего медицинского халата сложенный вчетверо тетрадный листок, разворачивает его, надевает очки, читает): «Разве это правильно, справедливо?» Это об Андрее, о врачах его. Видите? «Разве это правильно, справедливо? «Сам же вопрос ставишь! (Смех в зале.)
Нина Михайловна досадливо улыбнулась, и — дальше, свое. — А все это место у вас начинается так: «Как же обратно, под пули, под смерть, когда рядом в своей уже стороне, в Сибири?» Тоже твои слова, а сам удивляешься! (Смех) Мы говорили давеча об этом, но я еще раз говорю, чтобы подчеркнуть. Действительно, мужик, считай, в ограде своей стоит, ему снова под смерть идти, а его в дом не пускают!! Конечно, несправедливо, не по человечеству — каждый скажет.
(Снова вынимает листок, читает): «Ему бы только один-единственный денек побывать дома, унять душу — тогда он опять готов на что угодно». Вот, слышите: ГОТОВ НА ЧТО УГОДНО! ОПЯТЬ!! Это я все из книжки твоей списала (спохватывается: вашей!), это ВАШИ слова, ЛИЧНО ВАШИ! Ну и какой же он дезертир-то? Просто беда у человека вышла, БЕ-ДА… И, главное, из-за чего? Из-за отсутствия милости, простой жизненной милости, жалости самой простой — у врачей тех в госпитале и у вас.
(Распутин в недоумении поднял глаза. Лицо сосредоточено, непроницаемо, строго.
Он закрыт весь, но изумление заметно.) Да-да, я про вас говорю, про вас! В каком смысле? У вас тоже милости нет: вы Гуськова больше нужного плохим сделали! Разве справедливо, что он сподряд одни преступления делает?? То рыбу крадет, то мельницу хотит поджечь, Настене грозит: убью, мол, если скажешь кому про меня, убью, и рука не дрогнет; то теленка при матери его убивает, то оленя, Ну, козулю эту… Сподряд, сподряд, как настоящий разбойник! А ведь Гуськов — не разбойник, он мужик как мужик, между прочим, неплохой, ну, обыкновенный; два ранения перенес, это третье уже, контуженный, всю войну без полгода провоевал, солдат хороший, разведчик, мужики с ним в разведку ходить любили, — а разве это так, так просто? Что же еще нужно-то? А вы? ОТ ВАС ЗАВИСИТ ВЕДЬ! (смех) Ну, рыбу ладно, рыбу пусть бы снял, ну, волком бы повыл — он же настоящего волка этим отпугивал, да тут и вообще завоешь (к Распутину), и ты бы завыл, вы! (в зале быстро обрывающийся нервный смех), но ведь не все же у человека одно хуже другого!.. Разве это СПРАВЕДЛИВО? Ему и так бы хватило, КОЛИ ОН ДЕЗЕРТИРОМ СЧИТАЕТСЯ, вполне бы хватило!.. Разве ты не понимаешь? Дезертир же!
Я вот думаю, что ты специально его таким сделал, чтобы людям легче было осудить его — помогаешь имя, — вот и выходит, что правда у вас несправедливая. (Тишина. Как-то страшно.)
А зачем помогать? Кому? Все и так злые, прощать не умеют. Да люди же хуже зверей — не поймут и не простят. А уж в военное-то время!.. К стенке! Расстрел! Только расстрел, хоть Гуськов бы сто раз покаялся, сто раз бы на коленках прощения просил! Никто не простил бы. Никто! Ты спроси, спроси сейчас! Ну? Никто! НЕЛЮДИ МЫ, КАК ВРАЧИ ВАШИ ТЕ, МЫ ВСЕ ТАКИЕ, ВСЕ! (Тишина. Совсем страшно.)
Я еще не согласная с вами, что вы сейчас сказали: я, мол, книгу не про Гуськова и не про войну писал, я об одной женщине прекрасной хотел написать, дескать, она здесь главное, Настена, значит. Ну, смех! Не про войну!! Про Настену, значит??
Нет! У вас повесть не о ней, а — именно о войне, а, точнее, о добре и зле. Я сразу поняла. У нас на «Свече» тоже такая тема была: «ДОБРО И ЗЛО». Акимова еще доклад делала. (К залу): Помните? Вот. Мы тогда четыре раза собирались: все уложиться в одно занятие не могли, и у нас тогда, что ни месяц — то добро и зло!
(смех) (Непосредственно к Распутину): Какое у вас здесь зло? Зло здесь у вас сама война и люди, которые на ней управляют, даже совсем малую власть имеют, но — власть. Ну и добро, конечно, есть — любовь. Но не Настена одна, нет, а именно ЛЮБОВЬ. Я так понимаю, я свое мнение высказываю.
Я уже говорила: нелюди мы, вот я и хочу пример один привести из жизни нашей больничной — какие мы. Для сравнения.
И Нина Михайловна рассказала, что у них в больнице, где она раньше работала, тоже «женщина прекрасная» была, больная. Она полюбила одного парня в больнице, умирающего, Гошей звали. Она знала, что он умирающий, но полюбила. Любовь у них была очень хорошая, красивая… Женщина эта помогала Гошке жить. И вот старшая сестра отделения и говорит раз на планерке, что, мол, нечего здесь «РОМАНСЫ»
КРУТИТЬ». Так и сказала, сострила, что ли…
Что это, мол, больница, а не что-нибудь… И чтобы после одиннадцати «этой парочки» — так она сказала — на диванчике в коридоре не было, чтобы «разгонять»
их. Тоже ее слова. И мы, дураки, марионетки безжалостные, послушались и разгоняли, когда они в коридоре сидели и тихонько разговаривали, никому не мешая… И вот… вот Гошка через какую-то неделю умер… Так скоро, так никто не ожидал… Вот… «романсы»… Вот какие мы, я… Вспомнить жгет, внутри, стыдно, забыть не дает… А тут — дезертир, война! Дезертир-не дезертир! — разбираться-то кто будет?
Ну хорошо, ладно: сделал человек ошибку, не рассчитал. Но исправить-то ТЕПЕРЬ КАК?? НЕЛЬЗЯ ВЕДЬ! Сам говоришь: ВЫКИДЫШ судьбы (смех). Ой, простите, я-то всю жизнь в гинекологическом кабинете работаю, вот и спуталась. Ну, этот (заглядывает в свой листок) ВЫВЕРТЫШ! Вывертыш у него получился. Вывертыш-не вывертыш — крышка! Верно, да? Судьбу-то не объедешь. Тут одно остается, одно-единственное — опять же он, расстрел! Только под него идти, но ведь это же… ну… как идти-то? — страшно ведь… Не знаю, как и сказать… Может, кто и пошел бы, может, но… сильно страшно…
Я еще скажу: вы хотите, чтобы человек без единой ошибки жизнь прожил, без е-ди-ной! Да так не бывает! Да вот и сам, сам-то как? Вы сами? Неужели без ошибок прожили?? Нет! И у вас ошибки были, были, будут и есть! Как у всех, без них человеку не прожить. Вот я и думаю, что все равно главное в жизни не ошибки эти, хотя мы свои ошибки всегда открыто разбираем, даже дневник такой ведем:
«Моя ошибка», но все равно не они главное, главное — МИЛОСЕРДИЕ, но мы им все не обладаем, только единицы, совсем единицы. Вот.
И Нина Михайловна сказала, заканчивая, что история, которую она рассказала о больнице, о любви той, О ЖЕНЩИНЕ ПРЕКРАСНОЙ, тоже не о ней. Она тоже, «как и книжка твоя» — о добре и зле, о зле больше: о нашей сестре старшей, о нас всех, о нас — особенно: мы-то ведь никто слова не сказал, НИКТО не заступился!
Ну, а добро тоже есть, и тоже — любовь. Как у вас, в книжке твоей: ЛЮ-БОВЬ!
(Долгий добрый смех. Распутин отпустил сжатые губы, разжал их, слегка улыбнулся, осуждающий взгляд его — он почти всегда у него осуждающий стал почти обычным… Кстати, что он конкретно осуждает? Наверное, конкретно — ничего, просто взгляд такой у человека… ОСУЖДЕНИЕ В ЦЕЛОМ…)
Между прочим, я как подумала — любовь из всего добра — самое главное. Не только, конечно, между мужчиной и женщиной — между людями вообще. Вот в Библии говорят, чтобы врага своего любили. Да? А мы даже не то, чтоб врага, мы своих-то любить не умеем!.. Это я все про тех твоих врачей говорю, что Андрея домой перед смертью на денек не пустили, и про нас, не давших нашей небольшой начальнице по мозгам (все хохочут). Ой! Ну, все равно, верно же говорю, правду: ПО МОЗГАМ!
(Снова смех) Вот если бы мы любить умели, многого зла на земле не было.
— Спасибо вам, — внезапно сказала Нина Михайловна, — спасибо за книжку твою! (добрый смех) Интересная! Я всю ночь читала — без отрыва, потом на второй раз прочла, потом выписывала из нее (показывает листок), мужика своего прочесть заставила, детям дала. Мы дома ее вчера обсуждали, диспут тоже был. Спорили!
Спасибо. Еще когда приезжай! (Смех. Распутин встал, улыбнулся смущенно, кивнул: дескать, и вам спасибо. Сел. А сестра эта к нему подошла и крепко руку пожала.
Он смутился ужасно. Лицо опять в красных пятнах стало. Все зааплодировали.)
… Так отчетливо вижу тебя я — до крика. (Марк Сергеев)… Да, Распутин тогда впервые озадачил меня. Но все, знавшие его, хорошо знавшие, говорили, что ВОТ ТАКОЙ он. Невероятно честный, правдивый, кристально чистый, бескомпромиссный, никогда не идущий ни на какие сделки с совестью, на малую несправедливость, не представляющий предательства, не прощающий потому и малейшую непорядочность, прямой, искренний, словом, человек ЧЕСТИ да и МУЖЕСТВА — вот ведь о партии как сказал! Никто в то время и ВЫДОХНУТЬ такого не смел…
Сам такой, вот и Андрею своему не прощает: воюй, как все! Какие тебе еще особые привилегии?! Женщина такая из-за тебя, предателя, погибает, да еще с ребенком, с твоим ребенком, предатель! Нет, не быть тебе прощенным в веках, нет! Что ж…
Распутин был писателем, который не поднимался над своими героями, не смотрел на них со стороны, он был пристрастен, он НЕ МОГ с ними расстаться, ОТПУСТИТЬ ОТ СЕБЯ, он был крепко связан с ними, был субъективен, то есть он или любил их горячо, или не любил, иначе — он НЕ СУДИЛ!! их. И ничего здесь плохого не было.
Просто это было именно так. И он имел полное право на такое отношение к своим героям.
Разные бывают писатели, к своим героям по-разному относящиеся, и не этим определяется их талант!
И еще: вскоре после нашей встречи один знакомый мне писатель же рассказал, как однажды при Распутине, ехавшем с группой писателей в машине, начался какой-то антисемитский разговор. Попросив шофера остановить машину, Распутин выскочил из нее и, резко хлопнув дверцей, быстро пошел прочь.
ДА, НАСТОЯЩИЙ РУССКИЙ ПИСАТЕЛЬ НЕ МОЖЕТ БЫТЬ АНТИСЕМИТОМ. Это, конечно, банальность. Но — все же…
ДА, ЧЕЛОВЕК ЧЕСТИ, СОВЕСТИ, ЧИСТОТЫ, МУЖЕСТВА.
Слава не изменила, не испортила его.
Ничего иного нельзя было думать, никто и не думал.
И любовь, и уважение к Распутину остались, и восхищение осталось. И гордость, что он живет рядом, и свет в душе…
… Много, очень много было цветов… Валентин Григорьевич страшно смущался, когда принимал их, краснел, становился беспомощным, тихо говорил каждому:
«спасибо»…
… Действительно, а если бы каждый, как Андрей?! Что было бы, если бы каждый так?!
Вот именно…
Просто где-то глубоко-глубоко осталась какая-то неясная неясность, даже и не объяснишь… Зазубринка какая-то…
Ну да Бог с ней! Все хорошо.
«Т» кончалось так:
…Только в мире и есть, что душистый Милой головки убор, Только в мире и есть — этот чистый Влево бегущий пробор… (Афанасий Фет)17 ноября 1944 года, наконец, пришло первое письмо на его имя.
«Добрый день, родной Лейвуся!
Давно от тебя не имела писем, волновалась за тебя и очень была рада получить твое письмо.
Ты спрашиваешь о своих родителях и всех остальных.
Это было 14 сентября 1941 г.
В воскресенье в 3 часа утра их вывели и стали сгонять в нагартавский клуб. В 7 часов утра начался расстрел, а в 10 часов бандиты уже закончили свою работу. По неполным данным погибло 867 человек нагартавцев, а расстреливало всего двое эсэсовцев, остальные — русские — изменники Родины, 10 человек.
Расстреливали голых, вместе стариков, женщин и детей — две ямы возле больницы, две ямы возле дома, где раньше жил наш Шмулик, т. е. в природных балках. Но это еще не все. 7-летний Ицик Гринберг сумел убежать, он прибежал в Висунь, в дом Осадчих и попросил напиться. Осадчие, муж и жена, были дома. Они напоили ребенка и вдвоем, взяв его за руки, увели назад, и его расстреляли.
Мстить, родной, есть за что!
Потом был процесс над полицаями, я была на процессе, жутко было слушать, что эти варвары делали. Как высказывались Станиславская, Дара Гуревич, Ида Блиндер и другие.
Погиб целиком колхоз Кирова — А.Окс, Гедале Лейдерман, Л.Гинчерман и все остальные.
Как следует все будет выяснено после войны.
Будешь иметь возможность, приезжай ко мне, как в родной дом, как к матери.
Я живу в своем старом доме, частично восстановилась после эвакуации, только нет дорогих людей, замученных фашистскими зверями.
Мне теперь, кроме товарищей сына, больше некого встречать. Розочка кончила курсы, работает следователем, а я по-прежнему — прокурором.
Адрес Коли Плиц: п/п 37569 «Т», он в Ленинграде, учится. Он тоже остался один:
мать и Абрашу расстреляли здесь, а отец погиб на фронте.
Целую матерински, как сыночка.
Пиши, не забывай меня.
Мать твоего погибшего друга Зямы — Фалкова Е.Д.» Теперь я знаю: счастье есть, И только не хватает жизни. (Ирина Снегова)«У»
«У человека средневековья весь уклад нашей нынешней жизни вызвал бы омерзение, он показался бы ему не то, что жестоким, а ужасным и варварским».
(Герман Гессе) Учу науку расставаний Труднейшую из всех наук! (Б.Пильник)«Ф»
Флейты свищут, клевещут и злятся, Что беда на твоем ободу Черно-красном, и некому взяться За тебя, чтоб исправить беду. (Осип Мандельштам)«Хорошо, когда в мире есть такая большая тоска, большая жизнь, большое внимание, большая, обнаженная, зрячая душа».
(Евг. Богат)«Хорошо, мучительно хорошо было жить. Не уходил бы…»
(Василий Шукшин)«Хорошее дело надо хорошо делать».
(Дидро)После войны он узнал от матери Зямы, что в Нагартаве расстреляли еще Бенциона, — двоюродного брата деда по отцу, с тремя детьми, а в Бершади (Винницкая область)
— родного брата матери с семьей — женой и 14-летним сыном Яном.
Родителей же матери — его дедушку и бабушку с их дочерью, то есть родной сестрой матери, в Бершади повесили.
Семеро мужчин из его родни погибли на фронте — родные братья отца и матери.
Он остался один.
Были, правда, еще два дяди — по отцу и матери.
По матери, который переслал мне справку из Нагартавского сельсовета, тяжело болел туберкулезом легких (заболел на фронте). Я заехал к нему в Москву сразу после демобилизации, проведал его и отдал на питание и лечение 700 рублей из полученных при демобилизации 750-ти.
Дядя вскоре умер.
Оставался последний, родной брат отца, который жил со своей семьей женой и дочерью — в Ташкенте.
К нему я и поехал.
…В алфавите были и древнееврейские слова, но написанные русскими буквами — строфа из стихотворения Хаима Нахмана Бялика, которую ее отец прочел им наизусть, когда был у них в последний раз, в 72-м, за год до смерти. Она записала строфу эту под его диктовку — даже и русскими буквами это было нелегко…
hаhнисини тахос кнофейх Вэhэили эйм выохойс Вэhэи hейкейх миклат роиши Кан тфилойсаи hанидохойс Оймрим ейш боьйлом hааво hеихан hи hааво«h» не было русским «х», а гортанным звуком, чем-то между «х» и «г».
Она проставила и ударения — по тому, как отец произносил…
В переводе стихотворение звучало так:
Приюти меня под крылышком И будь мне мамой и сестрой, На груди твоей разбитые Сны-мечты мои укрой. Говорят, есть в жизни молодость, Где же молодость моя? Говорят, любовь нам велена Где и что моя любовь? Звезды лгали — сон привиделся, И не стало и его. Ничего мне не осталося. Ничего.«Ц»
Цветок виноградной лозы расцвел, И мне сегодня вечером двадцать лет. (Андре Терье) Цыгане и серафимы Коснулись аккордеонов… (Федерико Гарсиа Лорка)Здесь было переписано все стихотворение Бараташвили «Цвет небесный, синий цвет»…
«Целое — это то, что имеет начало, середину и конец. Целостность безначальна и бесконечна: это целое без частей».
(По Аристотелю) Целую вас — через сотни Разъединяющих верст! (Марина Цветаева)В «Ч» было ее большое стихотворение «Черемуха», написанное летом 71 года в Новокузнецке, в клинике, о дивной черемухе, которую она увидела из окна их изолятора на пустыре напротив больницы…
(…) Как женщина утром Вся в снах волшебных, Раскинув прекрасные руки, Как ветви, Вся счастьем пронзенная Щедрым, чрезмерным Смеялся куст черемухи снежной. Звездные кисти, Воздетые к солнцу, По ветру кружились, Как карусели, Белые кисти Черемухи пряной В лицо мое заглянули дерзко, Словно вино — опьянили, зазвали!.. Боль! Боль! Боль! Боль! Теперешний мой водитель! Иду за тобой! Но за окном Снежной черемухи куст шальной Спаситель мой, погубитель!Через 5,5 лет после нашей встречи в Венгрии и через 5 после расставания в Чехословакии мы поженились — я из Ташкента переехал в Москву. В этот самый монастырь, в эту 36 мужскую среднюю школу, где преподавала моя теща.
Я привез с собой два фанерных чемодана, в одном из которых до года спала потом наша старшая дочь.
В чемоданах были мои медицинские конспекты (я закончил три курса ташкентского мединститута), учебники, любимая книга — «Мартин Иден» Джека Лондона, довоенные и военные фотографии, письма и открытка матери (те два), военный треугольник от Фалковой Е.Д. - о расстреле родителей и письма моей будущей жены за 5 лет нашей переписки до женитьбы, плоский фронтовой котелок, 4 комплекта нижнего белья х/б — рубашек и кальсон с веревочками, новые брюки и гимнастерка, тоже х/б — другие брюки и гимнастерка были на мне, как и новая шинель, из которой мы сделали потом теще очень хорошее деми-пальто.
Еще было солдатское одеяло, две пары новых портянок — байковые и суконные, плащ-палатка, пилотка. Одеяло было подарком.
Его подарил мне на станции Ицкани, под Яссами, пожилой, бедно одетый румын за то, что я дал ему махорку. Потрясенный румын закурил, долго, до слез, кашлял (махорка была кременчугская, очень крепкая) и побежал домой, — дом был рядом. Он принес это одеяло и протянул мне. Я отмахивался: «ну! ну!» («нет! нет!» — по-румынски), но румын, безоружно улыбаясь, всучил его мне.
Одеяло нам очень пригодилось.
А вот плоский котелок принадлежал моему другу Андрею Головко, с которым мы в знак дружбы обменялись котелками и ложками. Я отдал Андрею свой круглый, а он мне этот, плоский, на котором была сделана штыком «гравировка» — «Андрей Головко» — наискосок.
Под Ярцевым, во время внезапного налета «юнкерсов» на дорогу, по которой мы отступали, я с Андреем спрятались за большим валуном.
Андрея убило осколком.
Страшный удар снес ему полголовы, и я весь был забрызган мозгами Андрея.
…Чем еще? Дорожным легким прахом, Ветром, бьющим в синее окно. Чем еще? Скажи, чтоб я заплакал, Я тебя не видел так давно… (Александр Прокофьев)Кончалась страничка таким ее стихотворением:
Что ж!.. Прорежусь! Не здесь — значит там! Не хотите? Приду все равно! Не по вашим слепым следам Я дождем разобью окно! По звенящим по ветру листам Я, как ветер, нежданно ворвусь Через толщу нечитанных книг Я их даже листать не возьмусь! Я их тоже прочесть не смогла Не успела! Но Бог мне простил, Потому что не здесь — значит там Я прорежусь Мне хватит сил!Стихотворение это тоже было написано в Новокузнецке, вскоре после надевания гипсового скафандра.
«Ш»
Здесь, конечно, была прежде всего Шея.
И были слова Пушкина:
«Шум внутренней тревоги»
и
«широкошумные дубравы».
(«…И Пушкин падает в голубоватый рыхлый снег…»)
Отец был очень горяч и вспыльчив, но отходил так быстро, что те, на кого обрушивался его гнев, не успевали обидеться, но не мать…
Они часто «цапались» и, хотя по пустякам, жизнь это отравляло… Мать любила говорить слова, кажется, Жоржа Сименона, хотя они ему абсолютно не подходили и, скорее всего, были не его: «Прошу тебя, люби меня поменьше, но относись ко мне получше». Да, это был, конечно, не Сименон. Кто? Кажется… Впрочем, какая разница!
Но он и относился хорошо и даже очень хорошо, но эти вспышки!.. Однако и она была не подарком… И она знала это, но что из того, что знала?! Как-то надо было бы потерпимей, подобродушней, помягче, многое просто не замечать… Надо бы, так надо, а — не выходило… Вот в чем была беда!.. А! Слова эти, конечно, не Сименона — Воннегута, Курта Воннегута слова. Вспомнила!
У Воннегута была одна загадочная для нее фраза: «Быть глазами, ушами и совестью Создателя вселенной». Загадочная, так как я не очень-то понимала, — как можно быть совестью Создателя… Впрочем…
«Щ»
«Щемяще длинная шея цапли».
(О.Чайковская)«Э»
«Эне, мене, мнай, мбондим, мбондим — я». «Эне, мене, мнай, мбондим, мбондим — я». (Петр Алешковский)Возможен был и такой вариант:
«Ена бена рекс квинтер минтер жес» — ничего не понятно, а все счастливы».
(А.Злобин)(Здесь мы соединили в одно «Э» и «Е» — ничего страшного: заставил смысл)
Это где-то должно оставаться: Слезы, отзвуки смеха, общения! — Ни картины, ни слово, ни песни: Мы не гении! Мы не гении! Где-то все же должны ведь скопляться Наши муки и озарения, Наши первые громы весною, Наши красные листья осенние!.. Где-то все-таки должен остаться Легкий след моего назначения! Ни моря, пусть ни реки прекрасного Небольшие озера прекрасного Мы оставим же — пусть и не гении!Ее стихотворение.
«Ю»
Юный хипон Аркадиус и Мона Лиза…
(Это — из Василия Аксенова, из его «Поиска жанра», который она очень любила. Муж тоже читал эту вещь.
Здесь, в алфавите, был выписан большой отрывок о встрече Аркадиуса с Моной Лизой, где она прикрывает свою загадочную улыбку тонкой девичьей рукой — на картине… Прекрасное место!)
«Я»
Главными здесь были слова К.Кондрашина о Шостаковиче, строчка Мандельштама и четыре строфы из прекрасной поэмы Маргариты Алигер «Человеку в пути». Вообще же на «Я» было очень много чего во всех ее алфавитах.
«…Я спросил его (Шостаковича), не считает ли он слишком длинным фугато в третьей части. Не будет ли публике трудно долго слушать столь однообразное по фактуре место? Дмитрий Дмитриевич, несколько покоробившись, сказал: «Пусть слушают, пусть слушают…»
Я пью за военные астры. (О.Мандельштам)И вот из М.Алигер:
Я не хочу тебя встречать зимой. В моей душе ты будешь жить отныне Весенний, с непокрытой головой, Как лучший день мой, как мечта о сыне. Я не хочу тебя встречать зимой. Боюсь понять, что ты старей и суше, Услышать, как ты ссоришься с женой, Увидеть, как ты к другу равнодушен. Боюсь узнать, что хоть короткий миг Случается тебе прожить, скучая, Увидеть, как поднявши воротник, Спешишь ты, облаков не замечая. Хочу тебя запомнить навсегда Моим знакомым, путником, влюбленным в дороги, реки, горы, города беспечным, ненасытным, изумленным (…)Вот что еще было на «Я»:
Я человек кусочек бога и ветер сжат в моих руках. (Алик Ривин) Я одиночества такого никогда… я одиночества такого никому… (Бахыт Кенжеев)Он полюбил ее сразу, как только увидел, когда она прибыла к ним в часть после курсов радистов в конце войны (до этих курсов она служила в таком же, как и его по роду службы, батальоне, БАО, в 52-м) — 3 марта 1945 года в городок Кунмадараш в Венгрии. Ей было 19 лет, и он навсегда запомнил этот момент — как она появилась и какая была.
А ей в то время нравился один паренек из летного полка, и она ему нравилась, но оба они были до того стеснительными, что никакой любви у них не выходило…
(Летный же полк, где служил этот парень, сейчас как раз прилетел именно сюда, на их аэродром, на обслуживание 262 БАО. Вот так, будто специально, — и она прибыла на этот аэродром и парень, которого она любила!)
Отец знал об этой любви и помогал, чем мог. Он, например, помог матери навестить того парня в Брно, в госпитале, куда тот попал, так как сломал ногу, играя в футбол с чехами.
После демобилизации отец уехал в Ташкент к дяде, а мать в Москву, где жила со своей матерью и сестрой и училась в первом мединституте.
Отец тоже учился в мединституте, но в Ташкенте, он был на курс младше, так как демобилизовался позднее — всего он прослужил вместе с действительной 7 лет. Он был старше матери на два года.
Его ташкентский дядя, у которого отец жил, хотел женить его на своей дочери, то есть на двоюродной сестре отца, но он не женился, так как любил мать.
Он расстался с дядей и перешел в общежитие.
Я люблю тебя в дальнем вагоне, В желтом комнатном нимбе огня. Словно танец и словно погоня, Ты летишь по ночам сквозь меня. «…» Я тебя не забуду за то, что Есть на свете театры, дожди, Память, музыка, дальняя почта… И за все, что еще. Впереди. (П.Антокольский)Он учился и работал. Работал в лаборатории, на кафедре биологии у профессора, который создал свою теорию рака и проводил испытания на кроликах.
Конечно, алфавит мужу не исчерпывал всех ее любимых изречений — ведь их было сотни! Они были записаны в 17-ти больших толстых блокнотах в алфавитном порядке.
А началось все просто со слов. В какой-то момент ей вдруг захотелось не просто читать орфографические словари, что было делом давним, а, читая, выбирать и выписывать из них свои. Что за «свои»? Ну… Это же понятно. Вот, например… да любой пример, на любую букву! Ну вот, на букву «В».
Все-таки, вагранка, вариант, василек, вбегать, вдовушка, виноградная кисть, ведьмач, вдруг, ведь, вековуха, веснянка, волглый, вьюжить, вздох, взблеск, вертикаль, вербочка, венчальный, волторн, воробушек, воск, всполох, вьюшка, вяз, вьюнки, вякать, вешка, верблюжий, венгерец, ветка…
На «К»:
Клоун, календарь, клен, канатоходец, кинуться, кларнет черешневый, коростель, ковшик, комелек, комочек, кондуктор, коняга, королевна, колчедан лучистый, крик, крокус, крылечко, купава, котелок…
На «Н»:
Невозвратно, нефрит, новогодний, «неизбежные глаза», нет, няня, несказанный, непреложно… Хватит! Смешно.
Это же почти все слова можно переписать!
Тут и само слово, просто само по себе, название, могло быть бесконечно красивым, когда смысл его, содержание, не имело значения. Ах, опять нужны примеры?..
Ну вот, ну вот хотя бы «крокус». Что за цветок этот крокус, она не знала, так как не видела его, а, может, видела, да не знала, что это он, а вот слово, само слово какое!! Или, например, «волглый». Здесь как бы наоборот. Ну что хорошего быть, скажем, волглым или иметь, например, волглое белье?.. А слово красивое.
«Иное название еще драгоценнее самой вещи», — говорил Гоголь.
Конечно, очень часто «название» и «вещь» совпадали. Например, «разнотравье», «вальс»…
Слово часто дорого тебе по какой-нибудь ассоциации, как особый условный знак, твой знак, память о чем-нибудь…
Для нее одним из таких было как раз слово «волглый» — частый эпитет у Тушновой, поэтический, о многом говорящий, или, например, «ветка», «клоун», «канатоходец»… Ее слова. Да мало ли…
О словах можно диссертацию написать…
Все! Достаточно, что у нее есть блокноты с этими любимыми, дорогими ей словами.
Хватит!
В алфавите, подаренным ею одной из подруг, было такое посвящение:
Я антологию из слов, Их сочетаний, изречений, Стихов, отрывков из стихов Вам отправляю со значеньем. Да-да, я отправляю все Вам со значеньем, а не просто, Чтоб вспомнить все, Что было в прошлом Прекрасного, И что возможно При помощи все тех же слов Прекрасное сейчас Во всем!Между прочим, антология означает «собрание цветов» по-гречески…
8. РАБАТ
Старшая дочь писала им все три месяца часто и много. Она почти каждый день ездила в Москву из Орехово-Зуево, где были ее курсы усовершенствования, и в электричке — 2 часа! — писала.
Она знала, что не сможет удержать в памяти все детали теперешней своей жизни в их свежести, чтобы рассказать о них дома и, в конце концов, все забудется. А она столько интересного увидела и узнала, что ни за что не хотела, чтобы хоть что-нибудь из этого пропало, чтобы ее родные не смогли бы всего узнать и были бы здесь обделены.
Кроме того, она была очень эмоциональной и должна была сразу же реагировать. Она и реагировала: плохо спала, часто плакала, ну и писала…
И еще: письма эти были как бы планами для ее будущих рассказов, определенными конспектами, поэтому писала она по возможности подробно и просила хранить письма, так как по приезде будет рассказывать по ним ведь письма все равно не заменят рассказа и, как говорила Юлька, — «в лицах». (О… это была их семейная манера — в лицах! И Юлька, говоря так, переживала, зная, что и она попадется в живых этих картинках, особенно выговором — она своеобразно картавила.)
Одно из писем содержало как бы детальный отчет о помещении материнских мест. И это было п исьм о, не «определенный конспект», и письмо особое.
«17 окт. 83 г., Москва.
Дорогая мамочка!
Сегодня воскресенье, и я специально посвятила его походу по твоим местам, и вся изревелась!
Ездили с Лялей и Сашей на их машине.
Какие они чудесные люди!
Машину чаще вела Ляля, а Саша везде выходил со мной и фотографировал для тебя дома и улицы.
Мамуся! Я передать тебе не могу своего состояния, не могу передать, что со мной.
Реву и реву, уже и Лялю с Сашей перестала стесняться, да и Ляля сама часто со мной плачет.
Но ты, пожалуйста, не думай, что я хоть капельку жалею, что хожу здесь по всем этим местам, я же не представляю иного. Ты ведь знаешь, что я всегда приходила сюда, когда бывала в Москве, просто в этот раз я здесь целых три месяца и, как никогда, все-все детально рассматриваю и вся буквально Москвой пропитана, а, значит, — тобой! Твоим детством, и юностью, и тем, что после войны, т. е. институтом, вашим житьем-бытьем с бабушкой, тетей Яной и папой и, между прочим, целым годом моей жизни! Ну а потом — дед. Его жизнь до ареста и после, до смерти… Все вообще о нем… Это же здесь на каждом шагу! Например, кругом продают гвоздику — любимые его цветы (а какие цветы были нелюбимыми??), и вот — дед!!
Да что говорить! Через неделю уже десятилетие со дня его смерти, де-ся-ти-ле-ти-е! А кажется: ведь только что с ним обо всем на свете говорили, он был у нас, а потом мы еще целый год говорили с ним по телефону! Нет, невозможно»…
Невозможно…
… Но ведь это же было! Я могла потрогать тебя рукою, Я могла услышать твой голос, Я могла дышать запахом твоей папиросы, Я могла переждать треск в телефонной трубке И — после кашля и сквозь него: «А-а-а!..Это ты-ы!..»«Конечно, твоя операция, — тоже осень, оранжевые листья., Да, действительно, операция все и решила: эту твою невозможность быть сейчас в Москве… И я все время ощущаю, что я — вместо тебя, т. е. я вся на взводе!
Послезавтра у нас свободный день, и я поеду на Пироговку к твоему институту, к клиникам и к окнам нейрохирургии, у которых столько простаивал дед…
Вчера с Юлькой, Лялей и Сашей были на Донском.
Около плиты деда красная рябина и ярко-зеленый густой плющ.
Все ужасно тяжело, но без этого я бы и дня не согласилась прожить в Москве.
Сегодня начали с МОПШКи.* Во 2-й Обыденский въехали через 3-й, т. к. ехали от бассейна «Москва». Ляля завела машину прямо в школьный двор. Мы все вышли.
«Илья Обыденный» (Имя святого, по которому названы переулок и церковь) на месте!
Церквушка славная, и я сразу обратила внимание на удивительное сходство с твоим школьным рисунком «Из окна». Сразу же нашла окно, из которого только и можно было именно так срисовать, с натуры!
Церковь работает, мы видели аккуратненьких старушек в черном, поднимающихся по ступенькам «Ильи» с опущенными головами.
Ма! Знаешь, вместо МОПШКи здесь теперь «Московский городской дошкольный методический комитет», о чем гласит вывеска справа от входа (это Саша переписал).
Сейчас здесь ремонт и несколько женщин в комбинезонах на лесах что-то там делают на школе, а у дверей и по двору, — кирпичи, банки с краской…
Я попросила Сашу сфотографировать меня на фоне школы у дверей (фотографию вышлю, как только Саша сделает. «Илью» Саша тоже снял.)
Так как для меня сия земля священна, я сорвала лист у какого-то низкого кустика, растущего почти у входа в школу. (Дверь, кстати, заперта, а то я, конечно бы зашла.)
Дома положила лист в толстую книгу, которую Юлька специально мне выделила для твоих ненаглядных кленовых листьев. На странице, где лежит школьный лист, подписала: «МОПШКа», — чтобы не путать с другими. Поставила дату.
Мамочка, спуск в школьный сад перегорожен большой плитой, очевидно, в связи с ремонтом, так что к яблоням сейчас доступа нет. В низинке за школой был яблоневый сад.
Стою у плиты, а в голове вертится ваш с Янкой школьный вальс:
Я помню последний экзамен, Веселый, взволнованный класс… И май, голубыми глазами, В окошко смотрящий на нас!..Надо сказать, что дети наших вождей в поведении ничем не отличались от нас и в наших глазах не были КЕМ-ТО.
Многие же из них уже тогда были по-своему несчастны:
Директор школы Николай Яковлевич Сикачев частенько кричал расшалившемуся Алешке Микояну (учился со мной в параллельном классе): «Смотри у меня! Отца вызову!»
Мать Алешки часто бывала в школе — она была в родительском комитете. Звали ее Ашхен — скромная и красивая седая женщина.
Юра Жданов, как, и его папа, любил пианино и на переменах частенько играл на нем. Сережа Аллилуев учился с Янкой в классе, и Саша в дальнейшем работал, дружил с МОИМ Сережей.
На переменах тихонько ходила кругами по залу Талочка Андреева с толстой длинной косой под руку со своей подругой Дездемоной.
Помню и Юрочку Каменева — чудесного мальчика.
Толстый Джоник Сванидзе одно время был влюблен в мою двоюродную сестру Иру и вместе с ней изучал Фламариона и звездное небо…
Мамуся! Представь: меня охватили воспоминания!!! Словно это не ты, а я (Я!) здесь училась!
Я ведь про твой класс, про твою школу, про всех ваших ребят знаю (помню!) больше, чем о своих!..
И вообще, понимаешь, я все время ловлю себя на каком-то странном чувстве: с одной стороны — да, не ты, с другой же — вовсе не Я — ТЫ ХОДИШЬ ЗДЕСЬ ВЕЗДЕ! Я так остро ощущаю себя тобой, т. е. мне кажется, что я и думаю и чувствую абсолютно так же, как ты! (А помнишь, как ты была мною, когда я была влюблена в Сашку и сходила с ума?! Как мы с тобой пели: «…Скоро осень, за окнами август…»? Как ты расплакалась?.. Наши детство и юность как бы перепутались, перемешались, и мне вообще трудно понять, что твое, а что мое…
Потом я долго стояла, прислонясь к забору у входа в школьный двор, и смотрела на него. Весной и летом, я знаю, посреди двора была овальная клумба, за которой до поздней осени ухаживали сами ребята.
Мне казалось, что я вижу Сережу. Вот он идет, высокий кудрявый мальчик в очках, в школу с томом Козьмы Пруткова, знаешь, с нашим, с дедушкиным, который у нас дома, вроде именно этот том он и несет, с этими «ситцевыми» форзацами…
А потом уже вы после уроков выходите вместе и идете домой.
Я вижу тебя так отчетливо, так ясно!
Ты в белой пушистой шапочке, которая очень нравилась Сереже, с такими ушками…
Вы идете через всю Москву к проезду МХАТа, Сережа быстро бежит домой, выводит на поводке Нельку, и вы долго гуляете по снежной Москве и говорите, конечно, про Овода!
А потом вспомнила, как Сережа Портрет Старухи играл! Сидел на сцене в платке, в большой раме, и — не шевелился!
Господи! Сколько раз ты нам обо всем этом рассказывала!..
Ах, Ваше Собачество!
Может быть, все так остро сейчас действительно потому, что кругом осень, листопад?..
А вообще я невозможная истеричка! Но при мысли, что вот здесь, на этом самом дворе были ваши линейки, вы с Янкой, маленькие, бегали, ходили, входили в эту самую дверь каждое утро — не могу, и все!..
Ну вот такая я дура сантиментальная…
Знаешь, когда я была в гостях у Мельниковых, Женя рассказал мне, что еще до вашей школы здесь был замечательный интернат, созданный Лепешинским, и что в нем учился и Александр Шаров! Да, и какое совпадение: сегодня в Орехово купила Шарова «Волшебники приходят к людям»! Там есть и наш с тобой «Януш Корчак»*!
Книга вышла к 70-летию Шарова, сейчас ему 74 года, и он неизлечимо болен… Еще одно совпадение и потрясение: книгу иллюстрировала д е вочка Ника Гольц!!
Удивительный твой класс!
Рисунки Ники бесподобные: серо-голубоватые с черным и белым, как бы жемчужные.
Изящно необыкновенно. В цвете (красно-синем) только один из двух зонтиков у маленького Оле-Лукойе. А какие портреты сказочников: Сент-Экзюпери, Андерсена, Сервантеса, Корчака!.. Сколько трагедии чувствуешь, какие лица! Удивительный портрет и самого Шарова. Прямо какая-то трепетная, немыслимая доброта, и вот-вот, кажется, хлынут слезы и у тебя, и у самого Шарова, но высокое его мужество и достоинство как бы тут же преграждают им путь: Бог с вами, куда вы, зачем?? Нет причин, все нормально.
Когда выезжали со двора школы, я прошла немного пешком и подошла к дому Игоря Ласса — прямо напротив церкви слева, в 3-м Обыденском, да? Я это представила по твоей «Панаме с зайчиками»… Между прочим, зря ты эту повесть бросила — сейчас я это особенно остро ощутила.
И вот меня охватило безумное желание войти в дом, позвонить, узнать! А вдруг Игорь не погиб? Могло ведь быть такое, ведь всякая путаница была, мало ли что могло быть? Вдруг сам Игорь вышел бы ко мне?! Но я же понятия не имела, в какую квартиру идти!.. Да и как-то мне не по себе было… И я села в машину.
Мамочка! Я очень жалею, что не зашла, очень! Надо было бы постучать в любую дверь, сказать, что здесь до войны, в этом доме, жил такой беленький лупоглазый мальчик Игорь Ласс, может, кто знает, помнит, может, здесь родные его живут?..
Я непременно схожу сюда, непременно, только одна.
Когда ехали к монастырю, я рассказала Ляле и Саше про Нику Гольц, что была вот такая высокая худенькая девочка с тобой в классе, которая всегда оформляла ваши стенгазеты и любила рисовать стройных коней с длинными тонкими ногами (Между прочим, в «Волшебниках» тоже есть такие кони.), и что она теперь известный художник-оформитель. Я им завтра эту книгу покажу.
Рассказала Ляле с Сашей, как один раз Ника «выручила» тебя на биологии, и мы долго хохотали, а в конце я опять же… всплакнула…»
Да, было…
Ника подсказала мне, лучшей ученице по биологии, какое «отличие пчелы от осы».
Она не думала, что я повторю ее шутку и зашептала: «Пчела более цивилизованное животное». А я, дура, повторила. Весь класс ржал, Ника была в отчаянии, а Мария Николаевна, преподаватель биологии, стояла в потрясении и молчала…
«К монастырю пришлось ехать Кропоткинской, через Лопухинский — внизу на Метростроевской был какой-то ремонт.
Заехали во двор Лопухинского, где, судя по твоей повести, должна была быть китайская прачечная.
Я очень люблю это место в повести и вот решила посмотреть.
Знаешь, мамуся, с Сашей и Лялей тем еще хорошо общаться, что они ну абсолютно не нервные, как все мы, и никуда не спешат(!). И такие они душевные! Ну а Саша шутит себе потихоньку, и ничего его не раздражает.
У предполагаемой прачечной мы с ним вышли из машины, посмотрели вокруг — никакой прачечной! Саша спросил у одной старушки во дворе, была ли здесь когда прачечная. Она так… ну восхитилась, что ли, так встрепенулась, что чуть с лавки не слетела. «Была, милай, была! В подвале. Ки-тай-ска-я! — и показала на дом. — А знаешь, как стира-а-ли?! Вручную! А белье было белое-белое и хрусте-ло!
А до войны Серега один, покойный ныне, им машину поставил, вот она и стирала с а м а! Но весь дом трясло, ажно качало!»
А Саша мягко: «Вибрировало».
Старушка поглядела на Сашу беспомощно и говорит: «Ага! Ага!» И дальше: «И вот, знаешь, жильцы-то недовольные все были, и машину ту сняли»…
Саша: «Демонтировали».
Старушка опять: «Ага! Ага!» и опять продолжает: «А потом, милай, китайцы-то отсюдова ушли, совсем ушли, а вот почему — не знаю. Это так через год или, может, через два после войны, и больше сюда ни разу не приходили, ну, ни-ра-зу, а то, бывало, как выстирают, так все с тючками на спине и бегают взад-вперед, так и бегают — белье разно-сют…»
…Зимними темными утрами (первая смена школы) мы проходили с Янкой Лопухинским, и она, боясь темноты, жалась ко мне, а я, показывая на ярко-оранжевый свет над тротуаром в прачечной, говорила: «Вон, видишь, китайские фонарики!» Но мы быстро пробегали мимо этих «фонариков» (я тоже их немного побаивалась) и заворачивали на Метростроевскую.
А когда шли домой, видели согнутых почти под прямым углом бегающих китайцев с аккуратными тючками белья на спинах…
«Так что на том месте сейчас просто два обычных жилых дома; в одном, что лицом к Метростроевской, внизу магазин «Мясо».
Подъехали к моему Отечеству, к монастырю. Машину поставили за бензоколонку, но подальше, где машин нет. Мы в прошлый раз, когда ехали на концерт Ю.Мориц, Окуджаву здесь встретили.
Мамуся! Ты не представляешь, как реставрировали стены и купол монастыря! Теперь сюда даже экскурсантов водят!
Ма! А твоего тополя в переулке нет! Спилили? Зачем? Но ни у кого спрашивать не стала. Как-то не захотелось…
Школа внешне чистенькая. В нашей квартире теперь, видимо, школьный буфет. Саша сфотографировал меня у окна комнаты — я специально вытянула руку по наружному железному подоконнику, увидишь.
На окне пышная занавесочка с синей каймой, а внутри на подоконнике весы… И вот, понимаешь, во мне шевельнулась ревность, что ли… да, она… И это — несмотря на то, что мы так тяжело здесь жили!.. Я все это знаю по рассказам, но какая же разница?! Я хорошо это знаю.
Заглянула вглубь окна, хотя сильно отсвечивало, и увидела место, где была моя л юлька, то бишь папин фанерный чемодан!..
Потом постояла и у кухонного окна, в которое ты, вернувшись из армии, стучала, увидев «мать-старушку»… А она: «Вон! Вон! Прочь отсюда!» И руками размахивала!
… Мама, моя мама, ставшая за войну совсем седой, не видя меня, стоящей на улице у освещенного изнутри окна, считала, что это опять «школьные мальчики»!..
Долго я стучала, а она — ни за что! И все гнала рукой… А потом, потом, когда узнала…
«Рассказала и эту историю. Опять хохотали и опять я плакала…
Собрала на засушку несколько больших тополиных листьев, желтых, возле Анечкиного дома. Вложила тоже в Юлькину книгу, подписала: «Монастырь, 36 школа». Итак, все листья, со всех «точек» у тебя будут! И ты сделаешь (представляю!) букет:
«Московская осень, 83»!
Постояла и у торцовых оцинкованных дверей, даже вошла в их небольшое углубление, и так ясно представила, как ты сидишь здесь на табуретке — «на свежем воздухе»
(!) и зубришь свою медицину на повышенную, т. к. денег у вас… «рубль на баню — проблема»… И как ты здесь, на воздухе, сознание от голода теряешь…
Походила по двору — от наших дверей до Анечкиных, т. е. по пути моей прогулки в коляске, и представила, как отец, еще в военной форме, возит меня здесь, а перед собой держит раскрытый учебник… Да, помню все это по твоим рассказам, но они так вошли в меня, что это уже не память, а воспоминания!
Вот я все это прямо и увидела и — невероятно отчетливо, в том числе и себя:
доходную, диатезную — «типичного студенческого ребенка», почти не подающего надежд…
Передай отцу еще раз спасибочки и за люльку и за весь обиход! За молоко с детской кухни!
Да, конечно, не представляю, как вы все в этой комнате размещались + я + ваши госэкзамены + бабушкина работа с этими послевоенными «детишками»…
Кстати, Саша везде рисует на лощеной бумаге особые карты (со всеми принятыми обозначениями!) прилегающих к «главному объекту» улиц и переулков; у него это очень здорово получается. Он считает, что разбег всех этих переулков здесь необычайно красив, и тебе будет приятно получить именно такую карту, говорит:
«Лучший подарок!»
Да, эти карты + фотографии + листья!..
Мамуля, хотя и не принято с могилы ничего брать домой, я, учитывая особый случай, сорвала три листа рябины и штук пять, наверное, зеленых листьев плюща от деда.
Мамочка, я еще вспомнила, как бабушка в своей деми-шинели споткнулась возле монастырских ворот, упала и разлила ВСЕ (!) суфле, весь бидончик, который вы с Янкой так ждали!.. Господи! Реву…
Мать! Сегодня же покупаю ВАЛЕРИАНОВКУ!!
Ну, а потом поехали в Мертвый, ныне Островский, вернее, Островская, потому что теперь это улица, а не переулок. Переименование состоялось в 37-м, когда вы еще там жили, в Москве, но все называют его переулком и до сих пор.
Он как бы с огромным ухом — газетный киоск слева, если въезжать с Кропоткинской.
В доме N 12- за пять домов перед вашим — Ник. Островский в 31 году написал первую часть «Как закалялась сталь». Знала?
Интересно, что Могилевские, Большой и Малый, не переименованы до сих.
Между Б.Власьевским и Б.Могилевским — музыкальная школа. Не знаю, была ли она при вас. А может, именно в ней ты училась? Напиши!
Ну вот…
Мамочка, знаешь, нам на одной лекции сказали, что слово «Арбат» происходит от арабского «рабат», что означает «пригород», «предместье», т. е. я сейчас в предместье, в пригороде твоего детства! Как мне хочется поглубже проникнуть в него, но в то, что в твоей душе!
Поэтому я так стремлюсь описать тебе каждый дом, каждое дерево и сквер, чтобы ты почувствовала всю атмосферу этого теперешнего «пригорода» и среди всего нового вдруг все же да и нашла что-нибудь свое!
Да, я забыла тебе сказать, что когда ехали сюда Кропоткинской и остановили машину возле Дома ученых, т. к. Саша фотографировал его и въезд в Островский, к нам подошел какой-то чудной мужчина лет 60-ти с большим количеством орденских планок, в мягкой шляпе и с огромным портфелем.
Он подошел к Саше и сказал, что раньше тоже здесь жил, и неопределенно махнул рукой. Он попросил его тоже сфотографировать. Саша, конечно, с готовностью, а тот подбежал к киоску и поставил там свой портфель почему-то не хотел с ним фотографироваться. Саша снял сего мужа на фоне ограды Дома ученых. Руки по швам, ноги на ширине плеч, взгляд устремлен вдаль. Чудак… Как только Саша отщелкал, тот кинулся за своим портфелем, схватил его и, не оглядываясь, быстро пошел вперед. Саша побежал за ним узнать адрес, чтобы выслать фотографии. А он: «Да что вы! Не беспокойтесь! Спасибо, что сфотографировали!» Господи, вот ведь… Но адрес потом дал и пожал Саше руку.
Я, конечно, сразу вспомнила, что ты где-то в этих местах встречала однажды зимой тоже одного чудного человека — «букиниста с Арбата», — в одном костюме, без шапки, с тросточкой, и как он попросил у тебя поесть, как ты кормила его, и как потом он от тебя убежал».
…Господи, какую страшную и странную историю вспомнила моя дочь!..
Это было году в 50-м. Да, он шел по Чертольскому, приближаясь к Кропоткинской, а я, переходя ее, приближалась к нему.
Да, должно быть, букинист, с Арбата… в прошлом…
Да, зимой, в одном костюме, без шапки, с тросточкой…
Широкий длинный шарф оборачивал его шею в несколько раз, от чего он казался очень гордым и несгибаемым, с откинутой головой и важной походкой…
Наверное, из-за его стати и палочка его взлетала тоже как-то чудно: вначале горизонтально, потом вверх, и, описав полукруг в воздухе, вперед…
Когда мы с ним сошлись и невольно остановились, он сказал мне вот это: «Я букинист с Арбата, — рот его был провалившимся. — Дайте мне поесть». Я достала из портфеля (шла в институт) свой студенческий завтрак (весьма скромный бутерброд) и отдала ему. Он мгновенно проглотил его и, ничего не говоря, гордо повернулся и медленно пошел в Чертольский.
Так продолжалось дней пять, каждое утро, в одно и то же время. Он ждал меня и всякий раз, проглотив бутерброд (большего я не могла ему сейчас принести), гордо поворачивался и неторопливо удалялся, ни слова не говоря. С нетерпением ждала я стипендии… И вот…
Нет! Не надо! Не надо больше, не могу!..
«Ну вот, приехали в Островский.
Ляля поставила машину в скверик за церковью, напротив вашего дома. Саша сел на лавку и сразу начал свои карты.
Да, он засмеялся и говорит: «Везде по пути нашего следования — церкви, монастыри и стройлеса!» Потому что, как и школа, церковь здесь тоже была в лесах. Перед ней, прямо перед вашим подъездом, стоит какой-то строительный бункер, обнесенный заборчиком с вывеской:
Главспецстроймонтаж,
Мосспецстроймонтаж.
(Все это и подобное списываю с Сашиных карт. Они при мне!)
Скверик, как и Островская и Щукина, в листопаде, т. е. все, как в том твоем стихотворении, посвященном Антокольскому:
На грани церквушки и «Овощного», В районе воспетого в песнях Арбата, Ваш переулок дворами веселыми С нашим сливался огнем листопада…Только, мамочка, «Овощного» сейчас нет, вместо него на грани ваших переулков — «Прием стеклопосуды», о чем гласит надпись от руки».
Сюда, на этот угол возле «Овощного», приходил в моем детстве точильщик, заявляя о себе пронзительно-радостным кличем: «Точить ножиНожницы, бри-твы пра-а-вить!»
(«Ножи-ножницы» сливались в одно слово.)
Со всех сторон сбегались люди с ножами, ножницами и бритвами, а точильщик, молодой мужчина, сияя улыбкой, нажимал ногой на педаль своего станка, вращая большое колесо, и запойно точил, на мгновение останавливаясь для того, чтобы поправить на ремне бритву, проверить на пальце ее остроту и еще раз огласить воздух своим радостным кличем.
А у нас, детей, стоявших в 1-м ряду возникшего вокруг точильщика полукруга, весело кружилась голова от мчавшихся друг за другом серебряных спиц колеса, белозубой, сверкающей улыбки Мастера и летящих из-под ножей-ножниц красных искр…
Долго потом, ошалевшие, мы кричали со всех концов двора: «Точить ножи-ножницы, бри-твы пра-а-вить!»
«Я вошла внутрь бывшего «Овощного». Постояла. Ведь здесь — здесь же! скоропостижно умер мой прадедушка!..
Потом я зачем-то вернулась к машине, не пошла в дом… Саша сфотографировал меня на асфальтном бортике сквера.
Мы пошли к дому вместе с Сашей, но тоже не сразу, а прошлись немного по улице — к каштанам за чугунным забором.
Какие прекрасные каштаны, какие высокие!»
…Высокие каштаны? Прекрасные? Не помню никаких каштанов! Это там, за Чертольским, за Фурманова, а здесь?.. Нет, не помню…
Если бы посадили недавно, не были бы высокими… Не помню…
«Я снова перешла к церкви (Саша что-то записывал у подъезда), встала спиной к бункеру и смотрю на дом. Он светло-серый (со двора оказался желтый), 5-этажный, с крупными цифрами 22 в большом металлическом квадрате, под которым на длинной жестяной полосе значилось: Улица Островского Н.А.
Ну и эти подвешенные снаружи лифты над подъездами — таких я больше нигде не видала.
Смотрю на ваши окна — вашей с Янкой детской и кабинета деда. Везде желто-зеленые шторы, в окне деда, представляешь, сидит серый пушистый кот и глядит на улицу!
Лучше бы я этого кота не видела… Подошел Саша, поглядел и тут же стал наносить кота на карту!
Хватит! Пора идти в дом! Но я опять и опять это откладываю, и мы идем через «сквозные» двери во двор, — и только потом уже поднимаемся к квартире…
Конечно, во дворе я сразу начала искать «Сиреневый просек» (почему вы так странно говорили; «Просек»?), где женщина та была, о котором столько слышала и читала в твоей «Панаме».
Ничего подобного — не то, чтобы просек — ни одной сирени!
И никаких заборчиков, палисадничков, домика дворника — ни-че-го… ПОТОМУ ЧТО ДВОРА НЕТ!
Насколько я сориентировалась, вместо «просека» стоят совсем молодые липы, даже без листьев, видимо, только высаженные.
Глубже, как бы в следующем дворе, две 14-этажные башни из желтого облицовочного кирпича, а между ними, прямо перед вашим дворовым подъездом — красивый 3-этажный домик, красный с белым — «центр вычислительной техники» с детской площадкой перед ним.
Выходит, здесь все совершенно новое и ни следа этой вашей «Австро-Венгрии», этих заборных заплат, так что, надо думать, дворовых боев здесь вести было бы сейчас никак нельзя, и твой Колян был бы без дела».
…Коля-Колян…
Милый сумасшедший нашего двора…
Он жил с сестрой Калей, которая весь день играла на пианино. Выйдя во двор из дома, Коля тут же, сложив руки рупором, кричал в направлении льющихся из окна звуков.
— Каля! Я пошел миз (вниз), вам (непременно вам) ничего не надо? (Всегда только и только эти слова.
Кале никогда ничего не было надо, кроме игры на пианино, и она продолжала ее, а Коле, видно, тоже ничего не было надо, никакого ответа ему важно было прокричать свое, что он и делал, сколько бы раз ни выходил во двор, а выходил он часто… После запроса Кале Коля поступал в наше распоряжение, и мы с его помощью начинали бой с соседним двором, выставив Колю впереди себя. Он был большой, высокий, с лохматой головой и длинными руками. Размахивая ими и что-то громко и непонятно крича, Коля внезапно выскакивал из-за угла и этим каждый раз страшно пугал противника, который — наша разведка доносила — уже подбирался к нам, — противник сдавался без боя.
Так мы побеждали.
…Коля-Колян, Коля-Колян… «Я пошел миз. Вам ничего не надо?».. Наш дом, наш двор…НИЧЕГО НАМ БОЛЬШЕ НЕ НАДО… НИ-ЧЕ-ГО…
«Смотрю со двора на ваш балкон, с которого так хорошо был виден этот просек, а иногда и та женщина»…
…Та женщина!..
Эта сирень, стоящая широкой длинной стеной в палисаднике перед нашим балконом, была с него видна вся. И вырастила ее именно она, та женщина. Она была очень доброй и всегда выкидывала нам наши лаптовые мячики, улетающие во время игры в ее сирень… На одной из дорожек, засыпанной золотым песком, стояла ее плетеная качалка, такая… ну, кресло-качалка, летняя, слегка желтоватая, какие бывают на дачах…
Качалка, утопая в сирени, видна была с балкона не вся, и женщина, которая в ней качалась, тоже была видна не вся, что делало ее особенно загадочной, таинственной.
Мы забирались на наш балкон и ждали, когда заскрипит качалка…
Эта женщина летом и весной всегда была в длинном белом платье с широкой оборкой внизу и в белой панаме с большими полями. ПО ЭТИМ-ТО ПОЛЯМ И ПРЫГАЛИ ЗОЛОТЫЕ СОЛНЕЧНЫЕ ЗАЙЧИКИ!.. Поля прикрывали ее лицо, и хорошо мы его никогда не видели — это было особо счетово!
Чем-то она болела… Мы не знали, чем, кажется, что-то было с ногой, но не точно, просто она чуть прихрамывала. И это тоже было счетово. Из сирени она никуда не выходила. Зимой мы совсем ее не видели, а осенью она иногда гуляла по дорожке в длинной, теперь уже черной юбке и коротком жакете с небольшим рыжим меховым воротничком и с черной тросточкой в руке… Тросточка была безумно счетовой!
Мы не знали ее имени, но про себя называли Анной. Произносили его редко и, если произносили, — всегда на выдохе и не до конца, с «затуханием»: Анн… Имя это было счетово, счетово, счетово!
Под впечатлением письма дочери, в одну из бессонных ночей, я написала стихотворение «Детство»:
Где вы дни, пронизанные солнцем, Не высоким, недоступным и надменным Низким, близким-близким На лужайках, на тропинках дач меланхоличных, во дворе, где клубы дерзкой пыли Заросли сиреней позакрыли, С брызгами бутылочных осколков, Сквозь которые зеленым глазом солнце?Балкон, по-моему, размером с наш.
Наверху, на специальных трубах, протянуты бельевые веревки, внизу стоит большая розовая корзина из универсама.
Со двора, в бабушкином окне и на кухне — белый тюль.
Рву какой-то лист у ног — для сушки, ну и пошли в квартиру, на 2-й этаж…
Стоим на площадке у перил.
По этой лестнице спускался в последний раз дед… Наверное, держаться за перила ему не дали… Стою и думаю об этом. Мне кажется, что и Саша об этом думает, ведь они с Лялей так любили деда, как и все Капитоши, как все вообще!..
Поднимаю глаза: № 13.
У меня страшно заколотилось сердце.
Дверь обита черным дерматином, как у нас, только здесь дерматин снаружи (Господи, все — как у нас!..)
Саша говорит:
— Позвони, не бойся!
Мне ужасно страшно, но я тяну руку к звонку, а в голове кусочек какого-то стихотворения: «Не искал я твой детский след: «* И вертится, и вертится, хотя зря: я-то ищу!
Молчим, ждем. Что же будет? Что я скажу? «Не искал я твой детский след», — вот что я скажу! Я уверена была, что это скажу, понимаешь? Черт-ти что в голове! Но все же из-за Саши я была сравнительно спокойна уж он-то со своей иронией что-нибудь придумает!»
Мать специально прервала здесь чтение.
Мало ли что могло оказаться на 2-м этаже… Войдет ли дочь в НАШУ квартиру?
Матери было не по себе, и она вернулась во двор.
Там, в детстве, время от времени появлялся еще один чудодей старьевщик.
Худой человек, серьезный и деловитый, он останавливал возле сторожки дворника свою лошадь с повозкой, груженой всяким барахлом, а сам расхаживал по двору, хрипло, но зычно возглашая: «Старье берем! Старье берем!»
Вслед за этим раздавались дивные для наших ушей звуки «Уди-уди-и-и» и различные, как бы птичьи, голоса — пронзительные, заливистые, булькающие…
Мы торопили своих родных, чаще бабушек, тащили их во двор. По дороге они роняли разные тряпки, ворохом прижатые к груди или перекинутые через руку.
Все быстро обменивалось у старьевщика на свистящие глиняные птички, бумажные китайские мячики — круглые, словно яблочки, но как бы со срезанным верхом, небольшие, туго набитые опилками, увитые меридианами тоненькой серой резиночки, переходящей в центре в длинную держалку, — ось! — обычно закрученную вокруг среднего пальца руки, которая била шарик. Он улетал вниз и в стороны, тут же возвращался, и рука снова била его, и он снова улетал, и на эти «Уди-удиии» — тоже шарики, но воздушные, особые, исходящие из воздушного же образования — «ножки», выдуваемой в первую очередь, а затем уже, в конце ее, возникал-выдувался и сам этот шарик маленький и односторонний, чаще направленный вверх, а когда воздух покидал его, он, спадаясь, и издавал эти свои печальные пронзительные «Уди-уди-й-й»…
Дожидаясь бегущих к нему людей со старьем, которое он брал, небритый хозяин, словно фокусник, проделывал со своим «реквизитом» все возможные с ним операции — одну за другой или почти одновременно: свистел и булькал птичками, бил китайские шарики с опилками и надувал воздушные, выдыхающие свое «Уди-уди-и-и»…
Грудь его была увешана лентами-кубиками переводных картинок. Да, были еще и петушки-леденцы, лежащие на газете поверх хлама.
И все это было счастьем.
«Итак, квартира 13, мы перед ней — я и Саша. Я звоню — никто не открывает.
Я безумно обрадовалась и стала звонить непрерывно. Звоню и звоню! Тишина. А я прямо руки от звонка не отрываю!
Правда, ну что бы я им сказала? — «Почему вы украли нашу квартиру?»
Черт с ними!
Боже мой! Я такую речь потом ночью придумала!
Я знаю, что прихожая здесь такая же, как у нас (опять как у нас!! Да здесь все, как у нас, все, — потому что ВСЕ ЭТО НАШЕ!).
Черт с ними!..
И вдруг мне стало так страшно, что я кинулась вниз по лестнице, крикнув Саше:
«Скорее пошли!» Я подбежала к машине, испугала Лялю. Но я не могла больше ничего… Меня словно изрезали всю, раздавили…
Мы быстро поехали из Островского, из этого Мертвого, от этой N 13!..
Как только выехали на Кропоткинскую, я немного успокоилась. Да, Саша показал мне Чертольский, я попросила. Какой-то чудной, уступчатый и просто коротышка! Ну и переулок!..
Мамочка! Я осталась сегодня ночевать в Москве, не поехала в Орехово. Юлька спит, а я сижу и пишу тебе. 2-й час ночи, но я решила, пока не напишу, не лягу, в электричке высплюсь. Пишу с радостью и по самым свежим следам. («Не искал я твой детский след» — вот привязалось!) Главное, мне лишь сейчас стало, наконец, спокойно. Пишу тебе, все время глядя на Сашины карты. Да, карты — чудо! Молодец Саша!
Матря! Если уж быть до конца откровенной, то я тебе вот что скажу: «Зори» на Таганке меня так уж не потрясли — из-за тебя!!
Понимаешь, я ведь, по сути, все это уже много раз пережила. По всем твоим уходам в армию** (пусть это по рассказам, ну и что!), по самой армии, по «предельной» твоей «готовности»!* И из-за того, КАК ты из армии возвращалась, из-за вагона того… Из-за всех твоих фронтовых подруг, старшины, всех 9-х маев!!!»
…Возвращались мы, пятеро девушек, из армии «самотеком» — как сумеем… Из Чехословакии. И оказалось — абсолютно неожиданно для нас, что солдаты (наши!!) не берут нас в свои теплушки, грубо обзывают, гогочут, показывают на нас пальцами, крича: «Воздух!» В Киеве мы все же сели в вагон-ледник. Солдаты в нем ехали стоя: не хватало мест. Но мы влезли в этот ледник, когда все выскочили на стоянке, кто за чем. Наступала ночь. Когда поезд пошел, солдаты не сразу нас заметили, а заметив, хотели… растерзать… Мат стоял дикий, немыслимый, рев, свист… И вот одна из нас, Оля Щетинина, сельская учительница, вдруг сказала:
«Ребята, а хотите, я вам сказку расскажу?» Это было невероятно. Ледник обалдел.
Мгновение все молчали, но уж потом-то такой мат и рев!.. И все же что-то изменилось, и Оля стала говорить, вначале, правда, еще под их крики, но все же говорила и не старалась никого перекричать…
…«В некотором царстве, в некотором государстве»…
Голос ее был негромким, с легкой хрипотцой… В конце концов (и быстро) вагон затих. Да не то, чтоб затих — мертвая стояла тишина.
Оля проговорила часа два. Кончила, изнемогши. А солдаты ревут: «Миленькая, девонька, еще! Еще давай!» «Не могу!» — говорит Оля. — Я вам все сказки рассказала, не знаю больше…» А они: «Да ты снова эти же говори, снова эти!»
Оля снова стала говорить и еще два часа проговорила…
Мелькали папироски, слышалось громкое сопение, нередко кто-то взрыдывал…
Расстались мы друзьями.
Провожали нас на нашу ветку всем ледником, вещи несли… А как прощались, как плакали!..
А Оля… она такая сказительница была, еще довоенная, она столько сказок знала, но с той поры больше их НИКОГДА не рассказывала. НИ-КОГ-ДА. ЗАБЫЛА. Все до одной, до последней… Навеки забыла.
«То есть меня уже не так легко было удивить, хотя дед был в таком потрясении от Таганки! Помнишь его рассказ и слезы? Но то ведь дед… Ну, ладно… да и ты сама тоже… ты была в потрясении от одного чтения «Зорей», только! Но ты такая же, как дед, у вас все это по-другому… не знаю, как назвать. К тому же ты ведь не видишь себя со стороны и все воспринимаешь как нечто новое…
Ты в этих девочках себя не видишь так, как я. Я уверена в этом. Поэтому мое потрясение спектаклем как бы «смягченное», смягченное именно из-за тебя, понимаешь?** Но, конечно, ПОТРЯСЕНИЕ, еще бы, но все же смягченное, хотя говорить ТАК о ТАКОМ спектакле — грех. Но… это же условно мы говорим, мы ведь все прекрасно понимаем! Просто я с тобой всю жизнь (!) прожила и потрясаюсь, наверное, лет с 12… Ну и вот. А… ладно…
Кропоткинской ехали медленно из-за большого движения в это время, и я видела не только Чертольский, но и твою аптеку, твою булочную (лотков, конечно, возле нее сейчас нет!), твой край Гоголевского, твое метро… Весь, весь твой рабат!
Мамочка! На могилу Сережи поеду, очевидно, в следующий выходной с Женей Мельниковым и Сашей Аллилуевым. Во вторник еду на Пироговку и к клинике, где тебя оперировали. Обнимаю, крепко тебя целую, целую всех!
Ваша Коза. (Прозвище дочери с детства)
P.S.
1. Я все забываю тебе написать, что на курсах мы сейчас занимаемся «Словом о полку Игореве» в переводе Шкляревского. Очень хорошо и совсем не трудно. Мне очень понравилось высказывание Шкляревского о так называемых «темных местах»
«Слова»; он — за тайну. Т. е. он считает, что «темные» места так и должны оставаться темными, ну, как нора или дупло, т. к. если все их «высветлить», то обеднеет лес, улетят совы, уйдут все лисы и бобры!..
Почитай этот перевод в «Юности» N 6, очень прошу!
2. Купила замечательные шторы (материал!) для вашей спальни и кабинета. Клава сошьет!
3. Срочно сообщи, нужен ли интерферон (срок годности до февраля-марта).
4. 21 октября иду на вечер (в нашем литмузее), посвященный 80-летию со дня рождения М.Светлова. Ведущий — Паперный, будет М.Алигер. Все напишу подробно.
5. На лекциях в литмузее (потрясающих! Ты не представляешь, что такое этот музей!) опять ругают Ю.Кузнецова за безнравственность. Вот. А ты его еще любишь!.. Но я тут как-то осмелела (в смысле обнаглела!) и высказала твое мнение о Кузнецовском Пушкине.*** Сказала это твое: Пушкин «больше расплескал» не потому, что Кузнецов считает Гомера, Софокла и Данте гениальнее, а потому, считает он, что у Пушкина как раз т а к много всего, что ему и «глотка» хватит, — вот и не жаль «расплескать», он, Пушкин, не придает этому расплескиванию значения, — он не «алчет»….
Наш руководитель, очень эрудированный и умный, сказал; «Любопытно», но я не стала «развивать» т тему и скромненько умолкла… К счастью, почти без перерыва началась другая лекция, а то непременно начали бы в N-раз «трясти» «череп отца»…
…Ох уж этот череп! Я пил из черепа отца За правду на земле, За сказку русского лица И верный путь во мгле. Вставали солнце и луна И чокались со мной. И повторял я имена, Забытые землей.Казалось бы, действительно, что может быть безнравственней: пить из черепа отца?
Но.
При всей эпатажности формулы первой строфы, при том, что вся она метафора, эпатажная метафора, парадоксальность состоит в том, что метафора эта отражает вполне прямой смысл, однако иной, нежели тот, за который поэта «ругают».
Таким образом, там и там — смысл прямой, но знаки противоположные.
Присмотримся.
Отрицательный знак — то, за что ругают поэта — стихотворение как оно есть, как выглядит черным по белому, противоположный — или как я понимаю стихотворение — объясню.
Черепа наших отцов разбросаны по всей стране, по всей земле — «от тайги до британских морей»… На местах всех ГУЛАГов, с двумя дырами в затылках (но не обязательно — смерть в лагере можно и колыбельной «набаюкать»…), на местах всех боев, да и мало ли еще на каких местах… (Мы ведь «БЕЗДНУ ПЕРЕШЛИ»…)
(Стихотворение «Память»)
Так что не так уж и невозможно действительно схватить ненароком даже череп своего родного отца!
Самое нестерпимое: «разбрасывание черепов» ПРОДОЛЖАЕТСЯ!..
А раз так запросто, так легко и лихо это происходит, раз человек совсем (ну совсем!) ничего не стоит, так почему бы и не выпить из его черепа??
Только вот… за что?
А «ЗА ПРАВДУ НА ЗЕМЛЕ»! — раз, ЗА «ВЕРНЫЙ ПУТЬ ВО МГЛЕ»! — два, «ЗА СКАЗКУ РУССКОГО ЛИЦА»! — три.
И, конечно, Солнце и Луна ВСТАНУТ и чокнутся с тобой. Еще бы! За такое! За самое!!
7 июля 1919 года во Дворце Искусств Цветаева читала перед Луначарским свою «Фортуну» («Так отчетливо я никогда не читала: (…), так ответственно я никогда не читала (…) Монолог дворянина в лицо комиссару — вот это жизнь!»), которую выбрала специально из-за слов в конце: «ТАК ВАМ И НАДО ЗА ТРОЙНУЮ ЛОЖЬ «СВОБОДЫ, РАВЕНСТВА и БРАТСТВА!»
Не правда ли, у Кузнецова, по сути, речь идет все о той же «ТРОЙНОЙ ЛЖИ»: ПРАВДЫ НА ЗЕМЛЕ, ВЕРНОГО ПУТИ, СКАЗКИ РУССКОГО ЛИЦА??
Пару слов о последнем — о «сказке русского лица». На примере удивительного стихотворения Ю.Кузнецова «Атомная сказка».
…Вышел Иванушка в поле, запустил наугад стрелу и пошел по ее направлению.
Попал в болото к лягушке.
Вскрыл Иванушка «белое царское тело» лягушки, пропустил через него «электрический ток» и с наслаждением наблюдал, как она «в долгих муках умирала».
(«В КАЖДОЙ ЖИЛКЕ СТУЧАЛИ ВЕКА»).
Кончается стихотворение так:
И улыбка познанья играла На счастливом лице дурака.
Такова СКАЗКА русского лица. По КУЗНЕЦОВУ. Что еще надо?
«Я пил из черепа»… — стихотворение-перевертыш, «Перевертень» — по названию еще одного стихотворения Кузнецова, в котором «насмешка такова»: «опрокидывается душа и смысл», «извращаются слова и дела»…
Вот так стихи Кузнецова, словно протягивая друг другу руки, цепляясь одно за другое, образуют своеобразную вязь ни на кого не похожей поэзии, в которой почти все — перевертни.
«Отец!» — кричу. — Ты не принес нам счастья!.. — Мать в ужасе мне закрывает рот», — ярчайший пример перевертеня Кузнецова, — наиболее известные всем строки…
…И с горечью поэт повторяет «имена, забытые землей»…
6. Мамочка, знаешь, Москва ежедневно опускается и поднимается на 40 см, как корабль во время морского прилива.
Это из-за земных приливов (сроду о таких не слыхала!), приводящих в движение всю поверхность земли.
7. Слова: «И дольше века длится день», оказывается, Пастернака!
И дольше века длится день, И не кончается обьятье…
Если ты знала это и не сказала мне — нет тебе прощенья!!
Ах, Ваше Собачество!
Я видела настоящие эдельвейсы! Представь, они вроде наших «кошачьих лапок» — мелкие и довольно невзрачные. Кто бы мог подумать! ВедьЭ-ДЕЛЬ-ВЕЙ-СЫ!! Их Лида Графова из Монголии привезла.
И последнее. Вчера, когда была у Лиды, и мы вначале стояли возле их писательского дома, возле резных, очень красивых чугунных ворот и разговаривали (был чудесный солнечный день), она мне показала сына Бабеля. Но пока я повернулась, увидела лишь спину худого, сутулого человека с зонтиком в руке. Но все равно!..
Лида такая же красивая, и этот ее голос!.. Главное же, конечно, она по-прежнему в чужом горе. Всем помогает.
Господи! Мамочка! Никак не могу сегодня с тобой расстаться!
Я не согласна с толкованием здесь катаевского «Вертера» — официальном и в домах.
Мне кажется, что сам Катаев никакого секрета из этой вещи не делал и все абсолютно сказал словами Пастернака о «мучениках догмата».
Почему-то думают совсем о другом»…
В Ташкенте, на кафедре биологии, я вначале просто ухаживал за кроликами — кормил их отходами из нашей студенческой столовой, очистками всякими: капустным листом, морковкой… Вскоре профессор взял меня к себе лаборантом, и я с еще двумя подрабатывающими у него студентами стал тоже ставить опыты на кроликах:
прививать им Броун-Пирсовский штамм — вид злокачественной опухоли кроликов. В сосуды ушей. Попадать в них нелегко, но у меня получалось.
Потом мы наблюдали, как опухоль развивалась, куда и когда давала метастазы. Для этого надо было забить кроликов через 5-10 дней после прививок (через месяц, если привитые кролики не забивались, они сами погибали от сплошного метастазирования и интоксикации). Затем гистолог проводил серии микроскопических исследований участков опухоли и метастазов, и все протоколировалось.
Однажды у нас с профессором произошел такой разговор:
— А куда вы забитых кроликов деваете?
— Как-куда? Выбрасываем!
— Нуу… «Выбрасываем»… Их, знаете ли, есть надо.
— Есть? Как — есть?..
— Да обычно. И я буду с вами полдничать. Только по возможности уберите там опухоль и метастазы, и — в кастрюлю, кастрюлю в автоклав — 2 атмосферы, 2 часа!
Я стоял расстерянно и молчал.
— Ну-ну, — профессор похлопал меня по плечу. — Знаете, яблоки еще возьмите.
Непременно. Яблоками начините. Де-ли-ка-тес! — профессор закатил глаза.
В конце концов все сделали по его рецепту. Нет, не пожалели.
В 47–48 послевоенном учебном году при выпускании пара из автоклава в лаборатории кафедры биологии по всему административному корпусу Ташкентского мединститута, где находилась эта кафедра, растекался божественный запах…
9. АЛОА-ОЭ
Ах, сколько еще хороших цитат-цикад не было вписано в алфавит мужа (ведь всего в небольшой блокнот не вписать, да и не надо всего, а вот жаль…) Она помнила все цикады, почти все, очень много, а если забывала вспоминала в алфавитном порядке.
«Алоа»
Это слово придумал Курт Воннегут. Вроде оно — гавайское и вроде означает одновременно и «здравствуй» и «прощай».
— Алоа! Алоа!
Она часто в шутку пользовалась им. И не только в шутку. Например, когда встречала кого-нибудь из очень дорогих ей людей и вскоре должна была с ними расстаться.
Да, хорошее слово придумал Курт Воннегут. Но Воннегут ли? Что-то она припоминала еще из юности, что-то вроде этого слова она где-то читала, когда никакого Воннегута не знала… Припоминала, но вспомнить не могла…
У нее было даже одно стихотворение, которое она однажды написала в Москве, весной, прощаясь с Москвой, уезжая к себе, — оно так и называлось: «Алоа».
Я уезжаю от слез и от книг, От окон московских, на вид одинаковых…
Да, она прощалась с Москвой, уезжала… Конец апреля. Год 1967-й.
Я пробыла в Москве 1,5 месяца, и весна разворачивалась на моих глазах, точнее — над моими глазами…
…Я сижу на узеньком-узеньком Юлькином балкончике, где еле умещается табуреточка. Мои ноги в комнате, на журнальном столике перед открытой балконной дверью — телефон. По комнате змеится его черный шнур с удлинителем. Моя запрокинутая голова лежит на подушечке, на думочке, а тана перилах балкона.
Я гляжу, гляжу, гляжу…
Все небо надо мной заткано переплетениями ветвей и почками. К концу марта они словно звездочки и крестики — сделались так, такую приняли форму. И все небо в этих звездочках-крестиках, в звездочках-крестиках, а над и под ними то ли плывут, то ли стоят белые прозрачные облака.
А запах…
Я одна под этим небом (на небе?) — балкон у Юльки со всех сторон закрыт плитами, и я действительно ничего, кроме неба и ветвей, не вижу. Да и в той позе, в какой я нахожусь, сидя на низкой табуреточке спиной к улице, ничего больше и не увидать. Одна ветка почти лежит на моем плече, касается щеки…
Папа в библиотеке, Юлька на работе.
Звонит телефон, я беру трубку и снова запрокидываю голову, и гляжу на небо, и так разговариваю по телефону.
— Интересно, почему у тебя такой голос?
— Такой! — говорю я и смеюсь.
В середине апреля почки уже другие — звездочки и крестики исчезли, почки длиннее и толще, пузатенькие, как веретенца, набухшие, вот-вот лопнут…
И от этого — уезжать!..
Да не только от этого… Тяжело…
Я уезжаю от слез и от книг, От окон московских, на вид одинаковых, От встреч невозможных с Фридой Исааковной, У которой дома весы Лили Брик.
От страшно скупых откровений отца, От самых лучших на свете театров, От стука скакалок, От песни скворца, От яркой афиши с лицом Клеопатры.
От милых реликвий И старых друзей (Мне с детства известны их честь и отвага), Похожих на благородных князей.
Недавно носивших бушлаты ГУЛАГа.
Я уезжаю в родные края От этих, весной распечатанных, почек, От лиц стариков — «глухих одиночек»*, С которыми связана юность моя…
Эти старики, эти московские старики… Вот кто меня добьет!..
Я иду по улице, а навстречу мне идет старик, и у него такое лицо… Мы почему-то задерживаемся друг возле друга, но, спохватившись, проходим…
Если бы остановиться, если бы — разрыдалась перед незнакомым, родным человеком.
Да-да: родным. Прохожу, ухожу, а сердце разрывается от боли, дикого страха за того, кто прошел сейчас с таким лицом…
Ну и разрыдалась бы, разрыдалась! Что особенного? Сама же сказала: «родной человек».
Почему не схватила в охапку, не расцеловала, не потащила к ларьку с цветами, не нахватала всех подряд, не вложила в руки, не помчала к кондитерской, не накупила всякой всячины, не остановила такси, не увезла домой, не накипятила чаю… не… не… не…
Господи, ПО-ЧЕ-МУ?
Вот и «родной человек»… Ах, какие мы дорогие, какие дорогие! Кто-то сказал так, забыла… А как точно! А… Шукшин сказал, в «Калине красной», Люба сказала… Но почему же, почему?
А ведь одним из них, из стариков этих, вполне мог бы быть мой ротный старшина, так жалевший нас, девчонок. Когда мне было 17, ему было 42, выходит, сейчас ему 67, старик… Да мало ли кто… Да ведь папа, мой папа! Кому-то и он тоже может казаться стариком!
Иду и плачу.
— Женщина, вам плохо?
— Да ничего подобного, откуда вы взяли?
И Фрида Исааковна…
Три длинных звонка, один короткий…
Стою у двери и жду, пока кто-нибудь из соседей не откроет. А может, она сама?
(…От встреч невозможных с Фридой Исааковной, У которой дома весы Лили Брик…)
Почему у Фриды Исааковны весы Лили Брик? Не знаю, ну не знаю, понятия не имею.
То ли забыла, то ли не спросила, то есть не знаю, как они сюда попали, почему, но то, что они — Лили Брик, это точно, абсолютно точно.
— Милая моя, — говорит Фрида Исааковна, и я изо всех сил сдерживаю слезы.
Она постарела? Очень постарела? Постарела, хотя лицо по-прежнему чудесное:
дивная кожа, ни единой морщинки, прекрасный рот. Откуда я беру, что она постарела? Не знаю, ну, не знаю! Нет, наверное, не постарела, просто вначале так показалось. Да, показалось, показалось!
Поговорили обо всем на свете, сидя друг перед другом.
Потом Фрида Исааковна, пытаясь встать со своего кресла на колесиках (упаси Боже — помочь ей!), как бы выныривает из теста своего тела, как бы вывинчивается из него, становясь выше и, упираясь кулаками в стоящий перед ней столик, командует себе: «Ап!
Встала.
Я подскакиваю к весам Лили Брик — взвешиваюсь.
— Без тебя я прекращаюсь, без тебя я прекращаюсь, без тебя…
— Что это вы там говорите?
— Да ничего я не говорю, я не знаю…
Это большие, обычные весы — стоячие, как в бане или больнице, но блестят, как новые, и такие точные — ходят, как по маслу, играют! Надо думать: уж Лиля Брик следила за своим весом!
— Ну, помянем царя Давида и всю кротость его, — говорит Фрида Исааковна, как всегда перед любой примеркой.
(Сколько будет примерок на этот раз? Но сколько бы ни было, сколько бы ни было!!)
Фрида Исааковна непревзойденный бюстгальтерных дел Мастер. К ней стремятся попасть женщины всей Москвы, но попасть к ней трудно, так как она шьет только тем, кто ей понравился, причем сразу, с первой встречи, остальным тут же отказывает. «Из-за бюста?» — лепечет женщина. «Бюст вон еще где! Из-за лица». И все. И закрывается дверь. Вот она такая.
— Ах, Иннна (так она произносит мое имя — с таким удлинением «н»), какие я шила блузочки для Парижа! Ручная работа. Какая, Иннна, это была работа, я вам не могу сказать. Я не вру. Это правда, Иннноч-ка.
Я верю. Еще бы: не верить ЕЙ!
Пыхтя, задыхаясь, еле удерживаясь на больных ногах и согнутой пояснице, она начинает примерку.
— Иннночка, это ведь тоже ручная работа, — говорит она, надевая на меня бюстгальтер.
Действительно, уж эта работа — ручная, самая что ни на есть!
Фрида Исааковна никогда не берет ткань, чтобы наложив на нее выкройку, резать потом в соответствии с данными размерами… Ничего подобного!
Первая примерка.
Непринужденно беседуя с заказчицей, Фрида наблюдает, как та сидит, стоит, находится в разных позах и движениях — в бюстгальтере и без него. Это — как бы «снятие маски» с бюста на расстоянии — не касаясь руками.
На второй примерке (у меня сейчас именно вторая, так как маска с моего бюста у Фриды есть — сохранилась с прежних времен, и, так как вес мой не изменился, она мне подходит) Мастер надевает на женщину эту самую «маску», этот сшитый по взгляду «первичный» бюстгальтер и, ловко манипулируя на нем булавками и короткими швами, производит таким образом множество «вмятин» и «выпуклостей» — лепит, словно скульптор, оглядывая модель фас и в профиль.
Время для Мастера остановилось, усталости никакой, болезней никаких, узловатые суставы кистей рук словно выпрямляются, лицо горит…
Это минуты подлинного вдохновения. Они всегда передаются мне (надо думать не мне одной!): меня вдруг начинает лихорадить, я чувствую, как разгорается мое лицо, я необычна в ее руках! И вот… вот… бюстгальтер запел («А-а-аа! Во-от! Во-от! — ЭТО УЖЕ КОЕ-ЧТО ДРУГОЕ!» — тихо и в упоении говорит Фрида).
О, мой богатый бюст! Ты рискуешь потерять свое богатство!
Она валится в кресло («повал») (обычно она так не может — обычно она медленно опускается в него, и — как бы по частям, как бы складывается…), достает из кармана халата носовой платок, вытирает пот с лица, платка не хватает — берет полотенце, протягивает руку — я вставляю в нее большую кружку с водой. Полное изнеможение. И — счастье. Какое счастье!
— Ах… я совсем сумасшедшая старуха…
— Я, Иннна, все собираюсь бросить это дело и все не могу… Во-первых, мои руки, — она протягивает их мне, изуродованные артритом, — они должны непременно касаться ткани, — этой, — показывает на бюстгальтер, шелковистой. Именно шелковистой. Я должна ее ощущать. Мне кажется, что моим суставам от этого легче.
Может, это какой-то массаж для них?? Во-вторых, Иннночка, я очень люблю сладкое, я даже могу весь день питаться только им… Заварные, эклеры, ромовые бабки, шоколад, шоколадные конфеты, только хорошие, самые хорошие… Не могу без сладкого, вы не представляете. Мне покупает Вася соседский мальчик, и мы с ним потом едим… Но если я перестану шить, моей пенсии на сладкое не хватит, и тогда я не смогу жить. Мне ведь итак всего нельзя, сладкого особенно, так что мне пришлось выбирать, ну, я и выбрала, пусть… О, царь Давид и вся кротость твоя! Не осуди, благослови ее!
На следующую примерку принесу много сладкого! Я же не знала, понятия не имела.
Теперь я буду посылать ей посылки со сладостями. Напеку всяких печений: маковых, ореховых, с корицей — всяких! Накуплю шоколада и разных конфет очень хороших, только очень хороших! Напеку песочные торты! Сделаю безе! Да Господи!..
Когда бюстгальтер готов (последняя примерка и близость расставания, которого я боюсь и потому заказываю еще бюстгальтер), я надеваю на него тоненький шерстяной свитерок (требование Фриды Исааковны, так как в нем, шерстяном и тонком, только и видно, какова вышла «вещь»: свитер, обтягивающий грудь, не просто говорит — кричит о малейшем недостатке) и иду к зеркалу.
Это — премьера примерки. «Лепки» здесь уже не бывает — редко когда что-нибудь…
Фрида, отталкиваясь от стола, подъезжает ко мне в своем кресле, останавливается на определенном расстоянии и смотрит — «в целом».
Я стою перед зеркалом и не верю своим глазам, не узнаю себя. Фрида Исааковна, чуть улыбаясь, чуть склонив голову набок, смотрит на меня своими прекрасными круглыми глазами. Говорит:
— Можете видеть.
Ах, конечно! Ах, конечно!
Я вижу! Я прекрасно вижу!
А всего-то по три простроченных вертикальных столбика с каждой стороны и по три поперечно-косых вытачки… И не ясным кажется, как же ЭТО не только удерживает «богатые бюсты», но превращает их в изящные! Не видно глазу мастерства…
(Ван Гог говорил, что искусство должно быть столь изощренным, чтобы казаться «наивным», совсем простым, чтобы от него «не разило» талантом…
Вот уж — не разит…)
Я безумно хочу немедленно вскочить на весы Лили Брик, потому что знаю, ощущаю физически, как упал мой вес!
…Да, сладости, сладости… («Без тебя я прекращаюсь!», Маяковский. Из письма к Лиле Брик) Но главное — массаж, ткань эта.
ОНА не может, она совершенно не может без нее!
НЕ-МО-ЖЕТ! ПРЕ-КРА-ЩА-ЕТ-СЯ!!
Но как она шьет такими руками, как? Это непонятно, совершенно непонятно…
Суставы каждого пальца, вся кисть — сплошь узлы и бугры, все страшно деформировано… Непонятно…
Над ее креслом огромнейшая, как большая картина, старинная фотография коричневого тона в золотистой деревянной раме, где Фриде Исааковне 2 года. Папа, мама и много-много детей: братьев и сестер Фриды. Как-то она рассказывала мне о каждом. Мама похожа на Зыкину.
Ниже три чудесные фотографии, тоже коричневых тонов, тоже в золотистых рамочках — сыновья и муж. Все красавцы. Все умерли.
Старший сын в 20 лет — мгновенно — от массивного легочного кровотечения (туберкулез), младший, 24-х лет — на фронте, муж — от врачебного исследования спинного мозга, которое позднее делали перед операцией и мне, но мне повезло…
— Да, Иннночка…
Почти на каждой примерке узнаю, что кто-то из подруг Фриды умер.
— Я вот, Иннна, не сразу поняла: старость. Чувствую: что-то не то… Голова какая-то… Не понимаю. И все трудно, самое простое — трудно, какая-то лень чудная… Потом поняла. Так неожиданно: я ведь еще молодая (86 лет). Ну, руки, спина, жир этот — так это давно, это болезни, их много, и пусть бы, пусть, я сжилась с ними, а то — то другое… Вы думаете: что такое старость, Иннночка? Я вам сейчас скажу. Это усталость, страшная усталость… Вот что это такое.
И она совсем утопает в себе, становится меньше, молчит. Потом поднимает голову, расправляет плечи — берет бюстгальтер, подставляет кромку его под поднятую лапку небольшой швейной машинки и крутит ее ручку правой рукой-култышкой, а левой култышкой подводит и подводит под лапку тут же убегающую за нее, теперь простроченную шелковистую полосу…
Я сижу сбоку, гляжу, как работает Фрида Исааковна, и мне кажется, что я вижу, как вокруг нее падают, как осенние листья, опадают ее подруги… Падают, опадают… Отлетают…
Потом она подъезжает к комоду, выдвигает ящик и достает круглую картонную коробочку. Вынимает из нее белую матерчатую розу — ну совершенно как живую, совершенно как живую! Лишь чуть припорошенную легкой темной пыльцой — сколько же ей лет?
— Это, Иннночка, я тоже делала для Парижа. С блузками.
И подержав ее в руке, слегка отодвигает от себя и вглядывается, вглядывается, словно прикидывает, КАК ОНА — на груди изящной дамы в сшитой лично ею, Фридой Исааковной, блузочке.
Быстро убирает розу в коробку, кладет в ящик комода и, невысоко подняв руку, как-то неопределенно махнув ею, задвигает ящик. Все.
— Ах, Иннна, ну что вы плачете? Да бросьте…
…От лиц стариков — «глухих одиночек», С которыми связана юность моя… Что скажешь о них, современный Тацит? А я, наглотавшись таблеток и капель, Любимый с собою везу гиацинт, Как самую светлую память о папе… Я еду навстречу новой весне, Где первый подснежник торчит из-под снега, Где солнце сидит на высокой сосне Под синим зонтищем ангарского неба.Гиацинт (всегда сиреневый) мне всегда весной дарил папа.
Принес и сейчас, протянул дрожащей рукой, улыбнулся.
Короткая толстая ножка. Сочная. Кудрявые сиренево-лиловые барашки-колокольчики, переходящие один в другой, один в другой, и этот запах…
— Ну куда вы, Господи, еще гиацинт тащите! — кричит Юлька, придя с работы, глядя на тьму вещей, которые я должна увезти.
— Она довезет и гиацинт, и вещи, — говорит папа, положив руку на Юлькино плечо, глядя на меня сквозь слезы.
Я вспоминаю, что «Алоа», это из Джека Лондона, — это действительно гавайское слово, но у него там не просто «Алоа», а «Алоа-оэ». Так назывался гавайский гимн, и так назывался один из его рассказов этого цикла.
Гимн этот, это «Алоа-оэ», всегда исполнялся на берегу оркестром при встрече и уплывании кораблей.
В самолете, закрыв глаза, вижу узенький балкончик, где еле умещается табуреточка, на которой я сижу, оставив ноги в комнате, подтащив к открытой двери телефон и, запрокинув голову, гляжу в кусочки невинного молочно-голубого неба, которые просвечивают сквозь густые сплетения ветвей.
Над моей головой и у самого плеча — толстые черно-розовые почки, уже треснувшие… Я хорошо вижу через эти трещинки свернутые зеленые листочки и красные червячки, которыми почки набиты. Вот-вот пробрызнут листвой (…«Набухшие почки готовы пробрызнуть листвой. Идет батальон…», — была у нас в батальоне, в армии, любимая песня… Тогда меня прямо потрясли эти слова:
«пробрызнуть листвой», а сейчас я это так увидела!..)
Гиацинт я держу то в руке в маленькой бутылочке с водой, которую Юлька дала мне в дорогу, то ставлю на откидной столик (он у меня все время, весь полет, «откидной»). И нюхаю, нюхаю…
Папа. Я чувствую его близость. Вижу его протянутую ко мне дрожащую руку. Я хочу назад, в Москву! (Алоа-оэ! Самолет! Поворачивай назад!)
Там, возле папиного столика с желто-коричневой керамической пепельницей и лежащей в ее желобке сигаретой, с летящим над ней голубым дымком, мы говорим, говорим, говорим… Когда я теперь увижу папу?
Прямо перед ним в большом кресле сидит огромный плюшевый мишка с короткими лапами, очень славный, которого все обожают. Он занимает это кресло целиком.
Мишку я подарила папе в день рождения лет 5 назад. Это был подарок из подарков!
Юлька, собираясь на работу, утрами тихонько разговаривала с ним… Он до сих пор сидит в своем кресле…
Один раз, придя от Фриды Исааковны, я передала папе ее монолог о старости.
Папа ценил Фриду за ум. Они с Юлькой давно знали ее, и именно они в свое время познакомили меня с ней.
Договариваться тогда взялся папа.
— Дорогая моя Фрида Исааковна, — говорил он по телефону торжественно, с ноткой демонстративного просительства. — Не могли бы вы выручить меня лично своим мастерством?
— Ва-ас?
— Да, именно. Точнее, в моем лице — дочь! Нет, простите, в ее лице меня!
Фрида Исааковна смеялась так, что мы, в комнате, слышали ее смех.
Но папа вдруг сделался серьезным, поднял и опустил широченные свои брови и кивнул. Положив трубку, сказал мне:
— Вот что, родненькая. Так-то она старуха что надо и согласилась, но она еще и чертова старуха, понимаешь? И если ты ей не понравишься — шить не будет даже в моем лице! Но ты ей в своем понравишься, я уверен!
И тут уже мы с папой стали хохотать до чертиков, хотя особых причин для такого смеха не было — ну, серьезно папа вел разговор с Фридой, очень серьезно, и забавный был разговор, но не настолько, чтобы из-за этого мне упасть в кресло на мишку (папа закричал: «Сейчас же оставь его в покое!», — отчего мы стали хохотать еще сильней, и я никак не могла встать с кресла)…
Да, так вот о старости.
Когда я рассказала папе о монологе Фриды, он стал ходить по комнате и напевно, красиво и горько читать наизусть Слуцкого:
Умирают мои старики, Мои боги, мои педагоги, Пролагатели торной дороги…Видя, что папа не очень весел, я быстро перебиваю его:
— Умирают-то умирают, — но!
Завещают мне жить ОЧЕНЬ ДОЛГО! (Эту строчку я произношу громко и выразительно, с акцентом на «очень долго», с восклицанием).
Папа:
— Но не дольше, чем нужно по долгу. ПО ЗАКОНУ СТРОФЫ И СТРОКИ»
Он все шагал по комнате. Подошел ко мне и серьезно сказал, подняв к брови полусогнутый палец правой руки:
— Поняла? — «не дольше, чем нужно ПО-ДОЛ-ГУ», понимаешь?
Я сказала: — А! Это у них профессиональное — для поэтов! СВОИ законы, эти вот — «строфы и строки»! Папа нервно хохотнул, сел в кресло, закурил.
Я, чтобы чего-нибудь не случилось и вышло совсем не печально, а, может, даже и весело, стала читать того же Слуцкого, про тех же стариков, но все же — про других: нарушающих слово, начинающих снова… «В шестьдесят или семьдесят-семьдесят пять… Позабывших зарок, нарушающих слово, Начинающих снова опять и опять!»
Я читала быстро, задорно, страстно, крещендо, с ударением почти на каждом слове, размахивая рукой:
— «Не зеленым, а серо-седым, посрамленным, На колени поставленным, та-та-та-та!»Еще вдохновенней:
«Закаленным тоской и бедой укрепленным Я б охотней всего подсобил и помог».Папа: — Вот-вот: «ПОМОГ»… ПОМОГЛИ БЫ ДА ПОДСОБИЛИ!..
Ужасно.
Я (громко, Леонида Мартынова):
«Бессилие бессильным оказаться — Вот мощное бессилье стариков!»(Ударение я делаю на «вот».)
Папа озадачен: что за слова, и такие?.. Чьи они?..
Ага! Не знает! Надо искать что-то такое, еще что-то такое!
И я добавляю алфавитного Слуцкого:
— «Угроза, в ходе слышная часов, Пружин их ржавых Хриплое скрипенье Не распугает птиц моих лесов. И не прервет их радостного пенья».Папа и вовсе озадачен, но он рад, что у нас все же так ловко получается и на этот раз — у нас часто так бывало — в стихах. Но я вижу, что вместе с радостью он не сбился со своего тона, не ушел от волнения, которое его охватило. Я же, говоря о Фриде, совсем его не ожидала, тем более, что папа моложе ее на целых 20 лет и вообще — КАКОЙ ОН СТАРИК?! А вот — волнение… И чем еще все это кончится?
Но папа — такой сильный, так владеющий собой, и все же — все же надо поскорей это закончить, перевести в шутку, и я говорю:
— Во-первых, 1:0 в мою пользу! Во-вторых, клянусь! — я буду таким стариком…
ну, этим… сшибленным с ног, но всегда начинающим сначала, снова! Понимаешь, да? Веришь? И МОЩНОЕ БЕССИЛЬЕ СТАРИКОВ всегда будет при мне!!
Папа улыбнулся, тихонько щелкнул меня по носу, и вдруг, — как бы на зло себе, на такое зло, такую боль стал читать Эренбурга: «Теперь не годы, только дни»..
Мм… «Перелети, перешагни, перегони…» Нет! Только «перелети» одно. Так:
«Перелети, хоть ты ОБЪЕДОК, ЛОСКУТ, КОТОРЫЙ СЪЕЛА МОЛЬ…»
А! Так? Вот что?! Вот? Ах, какое же иезуитство! И я вступаю, не дав ему опомниться, договорить — из его же Эренбурга, из того же цикла «Старость», быстро отбирая в уме хоть что-нибудь ПОЛУЧШЕ:
«Я с теми, кто та-та-та борется, Прет на рожон, да впереди, та-та-та-та как свищет молодость, та… Кто не вышел из игры!»Папа, как бы не слыша меня: «Мое уходит поколение, А те, кто выжил, что тут ныть, — Уж не людьми, а просто временем, лежалые, у-це-не-ны».
— КТО это «уценен», КТО? Кто ЛЕЖАЛЫЙ?? — кричу я и тоже читаю Эренбурга, но теперь не из «Старости» — из АЛФАВИТА: «Я знаю все — годов проломы, бреши…» Но — «ВСЕ ЖЕ Я СКАЖУ ПРО ДОЖДЬ, ПРО ВЕТВИ»!
Папа снова удивлен, на мгновенье заслушивается, но, опомнившись, продолжает свое, выбирая по-прежнему самое больное, и все это — на зло себе, да-да, только на зло, только: «Молодому кажется, что к старости Расступаются густые заросли, Все измерено, давно погашено…»…«Погашено»…
«ВСЕ-НЕ-ТАК!»
Но на зло ли? Ведь это был какой-то упорный прорыв открытости, «бессердечная искренность» (слова Слуцкого): взять и не тая больше ничего, выложить все, что на душе! Исповедаться стихами, как бы больно ни было!..
— «Все измерено, давно погашено… м… давно погашено…» другие, не такие громоздкие, занимающие полкомнаты… Купила как их? Ну… напольные, напольные; они маленькие, их легко сунуть под шкаф, но, между прочим, они не такие точные… Ах, да Господи, да какое мне дело, в конце концов!
Я немного успокаиваюсь, но слезы еще бегут…
Самолет тем временем идет на снижение.
И тут меня пронзает: мой город! Подснежники прямо под снегом! Прямо под снегом же!!
Мне становится легче.
АЛОА! Здравствуй!
…Словно Москвы и не было…
Я спускаюсь по трапу последней, — я люблю так. Еще на трапе, наверху, вижу маленький оркестрик, стоящий на аэродроме чуть левее трапа.
Он из двух рядов музыкантов, в каждом по четыре человека. Дирижирует мой муж, но стоит он к оркестрику спиной, так как ищет среди сходящих меня, но музыканты играют правильно.
Звучит «Алоа-оэ».
Лицо у мужа растерянное и радостное.
«Б»
«Без тебя я прекращаюсь».
(В.Маяковский) Будь, пожалуйста, послабее, Будь, пожалуйста. И тогда подарю тебе я Чудо запросто. И тогда я вымахну вырасту, стану особенным. Из горящего дома вынесу тебя, сонную. Я решусь на все неизвестное, на все безрассудное, в море брошусь, густое, зловещее — и спасу тебя!.. «…» Но ведь ты же сама готова спасти других (…) Не заблудишься, не утонешь, зла не накопишь. Не заплачешь и не застонешь, если захочешь (…) Мне с тобою — такой уверенной — трудно очень. Хоть нарочно, хоть на мгновенье, я прошу, робея, Помоги мне в себя поверить, стань слабее. (Роберт Рождественский) г. Иркутск

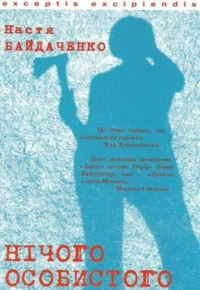







Комментарии к книге «Голоса над рекой», Александр Алексеевич Яковлев
Всего 0 комментариев