Элис Манро Любовь хорошей женщины (сборник)
Alice Munro
THE LOVE OF A GOOD WOMAN
Copyright © 1998 by Alice Munro
All rights reserved
© Е. Калявина, перевод, 2018
© Издание на русском языке, оформление.
ООО «Издательская Группа „Азбука-Аттикус“», 2018
Издательство АЗБУКА®
* * *
Манро — одна из немногих живущих писателей, о ком я думаю, когда говорю, что моя религия — художественная литература… Мой совет, с которого и сам я начал, прост: читайте Манро! Читайте Манро!
Джонатан ФранзенОна пишет так, что невольно веришь каждому ее слову.
Элизабет СтраутСамый ярый из когда-либо прочтенных мною авторов, а также самый внимательный, самый честный и самый проницательный.
Джеффри ЕвгенидисЭлис Манро перемещает героев во времени так, как это не подвластно ни одному другому писателю.
Джулиан БарнсНастоящий мастер словесной формы.
Салман РушдиИзумительный писатель.
Джойс Кэрол ОутсКогда я впервые прочла ее работы, они показались мне переворотом в литературе, и я до сих пор придерживаюсь такого же мнения.
Джумпа ЛахириПоразительно… Изумительно… Время нисколько не притупило стиль Манро. Напротив, с годами она оттачивает его еще больше.
Франсин ПроузОна — наш Чехов и переживет большинство своих современников.
Синтия ОзикОна принадлежит к числу мастеров короткой прозы — не только нашего времени, но и всех времен.
The New York Times Book Review«Виртуозно», «захватывающе», «остро, как алмаз», «поразительно» — все эти эпитеты равно годятся для Элис Манро.
Christian Science MonitorКак узнать, что находишься во власти искусства, во власти огромного таланта?.. Это искусство говорит само за себя со страниц с рассказами Элис Манро.
The Wall Street JournalМанро неоспоримый знаток своего дела. «Любовь хорошей женщины» изображает жизнь с элегантностью и точностью даже большей, чем удавалось писательнице ранее, в уже признанных ее работах. Скупыми, но чудодейственными штрихами она намечает контуры судеб или сложные взаимоотношения, но это детально прописанные портреты — с легкими тенями и глубокой перспективой, — а не банальная дидактика. Как все великие писатели, она обостряет чувства. Ее воображение бесстрашно. Трудно представить себе лучшую книгу рассказов.
The Washington Post Book WorldУвлекательная подборка, прелестная книга. Проза Манро скользит сквозь время с проворным изяществом. Поэзия в ней высвечивает действительно серьезную повествовательность единственно верным образом.
San Francisco ChronicleВеликолепно… поразительно… Когда-то давно Вирджиния Вулф назвала Джордж Элиот одним из немногих писателей «для взрослых». То же самое и с полным правом можно сказать сегодня об Элис Манро. Она по-чеховски явственно ощущает своих персонажей.
The New York Times Book ReviewКажется, что Манро складывает все свои рассказы из нескольких тысяч слов и заставляет вас недоумевать, чем же другие прозаики заполняют оставшиеся лишние страницы.
The Philadelphia InquirerБлестяще… на самом острие эмоций… Манро замахивается на великие темы — любовь и смерть, страсть и предательство, ожидание и разочарование…
The San Diego Union-TribuneАскетические и поучительные рассказы Манро о вожделении и потерях, возможно, даже более загадочны, чем всегда, и все же сквозь туман нет-нет да и замаячит нечто родственное надежде.
The New YorkerПроза Манро интеллектуальна — она аккумулирует все, что в высшей степени необходимо знать читателю, но никогда не попирает и не принижает сути мистерии, которая и есть — источник всякого великого искусства.
Chicago TribuneРассказы Манро словно пульсары, несколько поразительных чайных ложек весят тонны… вся сложность и богатство нюансов сконцентрированы на нескольких десятках страниц.
The Plain DealerЧитать рассказы Манро — все равно что входить в густой лес в разгаре лета, настолько они богаты цепляющими деталями, игрой света и тени, полны шелестом неведомого бытия и плодородными запахами, но тем не менее тропа явно намечена и ведет к дивным местам и удивительным открытиям.
BooklistВ удивительно откровенных рассказах Манро, пронизанных состраданием к героям, прослеживается мысль: жизнь — это труд, и если мы подходим к этому труду с достаточной решимостью и упорством, то сможем прожить до конца достойно.
San Francisco ChronicleУ Элис Манро памятливый глаз художника. Она владеет почти совершенным пониманием мира ребенка. И у нее невероятное видение канадского пейзажа.
Saturday NightВ хитросплетениях сюжетов Манро не перестает удивлять: банальные бытовые драмы оборачиваются совсем необычными психологическими ситуациями, а типичная ссора приводит к настоящей трагедии. При этом рассказ обрывается столь же неожиданно, как начинался: Манро не делает выводов и не провозглашает мораль, оставляя право судить за читателем.
ИзвестияВсе ее рассказы начинаются с крючочка, с которого слезть невозможно, не дочитав до конца. Портреты персонажей полнокровны и убедительны, суждения о человеческой природе незаезженны, язык яркий и простой, а эмоции, напротив, сложны — и тем интереснее все истории, развязку которых угадать практически невозможно.
Комсомольская правдаВсе это Манро преподносит так, словно мы заглянули к ней в гости, а она в процессе приготовления кофе рассказала о собственных знакомых, предварительно заглянув к ним в душу.
Российская ГазетаБанальность катастрофы, кажется, и занимает Манро прежде всего. Но именно признание того, что когда «муж ушел к другой» — это и есть самая настоящая катастрофа, и делает ее прозу такой женской и, чего уж там, великой. Писательница точно так же процеживает жизненные события, оставляя только самое главное, как оттачивает фразы, в которых нет ни единого лишнего слова. И какая она феминистка, если из текста в текст самым главным для ее героинь остаются дети и мужчины.
АфишаВ эти «глубокие скважины», бездну, скрытую в жизни обывателей, и вглядывается Элис Манро. Каждая ее история — еще и сложная психологическая задачка, которая в полном соответствии с литературными взглядами Чехова ставит вопрос, но не отвечает на него. Вопрос все тот же: как такое могло случиться?
ВедомостиПревосходное качество прозы.
РБК СтильНо даже о самом страшном Манро говорит спокойно и честно, виртуозно передавая сложные эмоции персонажей в исключительных обстоятельствах скупыми средствами рассказа. И ее сдержанная, будничная интонация контрастирует с сюжетом и уравновешивает его.
PsychologiesРассказы Манро действительно родственны Чехову, предпочитающему тонкие материи, вытащенные из бесцветной повседневности, эффектным повествовательным жестам. Но… Манро выступает скорее Дэвидом Линчем от литературы, пишущим свое «Шоссе в никуда»: ее поэзия быта щедро сдобрена насилием и эротизмом.
Газета. руАмериканские критики прозвали ее англоязычным Чеховым, чего русскому читателю знать бы и не стоило, чтобы избежать ненужных ожиданий. Действительно, как зачастую делал и Антон Павлович, Элис показывает своих героев в поворотные моменты, когда наиболее полно раскрывается характер или происходит перелом в мировоззрении. На этом очевидные сходства заканчиваются, — во всяком случае, свои истории Манро рассказывает более словоохотливо, фокусируясь на внутреннем мире…
ELLEПосвящается Энн Клоуз,
моему дорогому редактору и верному другу
От автора
За профессиональные замечания, чрезвычайно важные для этих рассказов, приношу свою благодарность Рут Рой, Мэри Карр и Д. К. Коулмену. Также благодарю Рэга Томпсона за вдохновенные и изобретательные изыскания по многим вопросам.
Включенные в этот сборник рассказы, которые ранее публиковались в журнале «Нью-Йоркер», представлены здесь в существенно измененном виде.
Любовь хорошей женщины
Последние лет двадцать в Уоллее действует музей, где хранятся фотографии, маслобойки, лошадиная сбруя, старое зубоврачебное кресло, громоздкое приспособление для чистки яблок и диковинки вроде изоляторов из стекла и фарфора, какие в старину устанавливали на телеграфных столбах.
А еще там есть красный ящик с гравировкой Д. М. Уилленс, офтальмолог и табличкой: «Этот ящик для офтальмологических инструментов, хотя и не является предметом старины, имеет существенное значение для истории края, поскольку принадлежал мистеру Д. М. Уилленсу, утонувшему в реке Перегрин в 1951 г. Ящик избежал катастрофы и был найден, предположительно, анонимным жертвователем, приславшим этот экспонат для нашей коллекции».
Офтальмоскоп напоминает снеговика. Верхняя его часть — та, что крепится к полой рукоятке. Большой диск, а над ним диск поменьше. В большем диске имеется отверстие, чтобы смотреть сквозь него, передвигая сменные линзы разной толщины. Рукоятка увесистая — там до сих пор батарейки внутри. Если батарейки вынуть и вставить вместо них прилагающийся стержень с дисками на обоих концах, то можно подключить электрический шнур. Но видимо, инструмент чаще использовался там, где электричества не было вовсе.
Ретиноскоп выглядит более замысловато. Из-под круглого лобного хомута торчит нечто вроде головы эльфа с круглой плоской физиономией и в остроконечном металлическом колпачке. Она наклонена под углом сорок пять градусов к тонкой трубке, на верхушке которой должна гореть крохотная лампочка. Плоская рожица сделана из стекла и служит в качестве темного зеркала.
Все инструменты черные, но других цветов тут и нет. Кое-где — в местах, где рука окулиста терлась чаще всего, — краска облезла и хорошо видны прогалины сияющего серебристого металла.
I. Ютландия
Это место называлось Ютландией. Когда-то здесь была мельница и что-то вроде небольшого сельца, но все пришло в упадок еще в конце прошлого века и не представляло особой ценности. Многие уверяли, что местечко названо в честь знаменитого морского сражения времен Первой мировой войны, но на самом деле все уже лежало в развалинах задолго до той великой битвы[1].
Троица мальчишек, прибежавших сюда ранним субботним утром весной 1951 года, была, как и большинство местных ребят, уверена, что название произошло от слова «ютиться»: дети часто «ютились» в развалинах, играя у реки, где старые деревянные столбики торчали из земли вдоль берега, а другие столбы — толстые и прямые — выступали из прибрежной воды неровным частоколом. (На самом деле это были останки плотины, выстроенной еще до появления бетона.) Эти деревяшки, руины каменного фундамента, заросли сирени и несколько могучих яблонь с покореженными узловатыми стволами, да еще неглубокий ров под сгинувшим мельничным колесом, каждое лето доверху зараставший крапивой, — вот и все, что осталось здесь с былых времен.
От пригородного шоссе сюда вела дорога, вернее — грунтовая колея, которую даже гравием не посыпали ни разу, и на карте она обозначалась пунктирной линией, как предположительный съезд. Летом по ней частенько заезжали на автомобилях любители искупаться в реке или ночные парочки, ищущие уединенное место для стоянки. Машины разворачивались неподалеку от мельничного рва, там виднелась разъезженная шинами плешь, а вся окрестность в иной дождливый год так зарастала крапивой, борщевиком и болиголовом, что машинам порой приходилось пятиться до самого выезда на пригодную дорогу.
Тем весенним утром было нетрудно заметить следы колес, ведущие к самой кромке воды, но мальчишки не обратили на них внимания, всецело поглощенные мыслями о плавании. Во всяком случае, они называли это плаванием — вот вернутся они в город и станут рассказывать, как купались в Ютландии еще до того, как растаял снег.
Здесь, в верховье реки, было холоднее, чем в плавнях ближе к городу. На прибрежных деревьях ни листочка, всего-то зелени — клочки черемши на земле да калужница, свежая, как шпинат, вдоль каждого ручейка, пролагающего себе путь к реке. А на противоположном берегу, под кедром, пацаны углядели то, что так старательно искали, — продолговатый, осевший, непокорный ноздреватый сугроб, серый, как булыжник.
Не растаял-таки.
И вот они сейчас прыгнут в воду, и холод пронзит их своими льдистыми кинжалами. И боль от ледяного острия резанет где-то позади глаз и воткнется в макушку черепа изнутри. Быстро-быстро перебирая руками и ногами, они вынырнут на поверхность, дрожа и стуча зубами, а потом будут втискивать окоченевшие конечности в рукава и штанины, чувствуя боль оттого, что встрепенувшаяся кровь заставляет тела оттаивать, и облегчение оттого, что их похвальба стала правдой.
Шинный след, который прозевали мальчишки, проходил прямо через ров — в нем сейчас ничего не росло, лишь пожухлая прошлогодняя трава выстилала дно. Через ров — и в реку, без малейшей попытки развернуться. Дети протопали прямо по следу. Но на этот раз они оказались достаточно близко к воде, чтобы их внимание зацепилось за нечто более странное, чем какие-то следы колес.
Чудной бледно-голубой отсверк из воды, и это было не отражение неба. Машина целиком, ушедшая в запруду наискось, — передние колеса и нос уткнулись в донный ил, а горбатый багажник чуть выступал над гладью воды. В те дни голубые авто были в диковинку, да и такая выпуклая форма кузова тоже. Они сразу же узнали его. Маленький английский автомобильчик — «остин», уж точно единственный такой на всю округу. Он принадлежал мистеру Уилленсу, врачу-офтальмологу. За рулем этой машинки офтальмолог смотрелся мультяшным персонажем, поскольку был он мужчина приземистый, но плотный, с увесистыми плечами и широким загривком. Казалось, что его впихнули внутрь автомобиля, словно в трещавший по швам костюм.
В крыше автомобиля имелось окошко, которое мистер Уилленс открывал в жаркую погоду. И сейчас оно зияло. Мальчишкам не очень хорошо было видно, что там внутри. Цвет машины делал ее очертания почти незаметными в воде, но вода на самом деле была не очень-то чистая и скрывала только неяркие детали. Пацаны присели на корточки, потом легли животами на прибрежный песок, по-черепашьи вытягивая головы, чтобы получше разглядеть находку. Что-то темное и мохнатое, наподобие большого звериного хвоста, высовывалось из окошечка в крыше и лениво колыхалось на волнах. Вскоре стало ясно, что это рука в рукаве темного пиджака или куртки из чего-то плотного и ворсистого. Вроде бы внутри находилось мужское тело — не иначе как тело мистера Уилленса — в странной позе. Сила течения — а даже в мельничной запруде в это время года течение довольно быстрое, — наверное, как-то подняла его с сиденья и вытолкнула наверх, так что одно плечо уперлось в потолок и рука вырвалась на свободу. А голова, наверное, уткнулась в окно водительской двери. Одно переднее колесо увязло глубже другого, так что машина накренилась не только вперед, но и вбок. На самом деле дверное окно должно было быть открыто, и голова должна была торчать оттуда, чтобы тело застряло в таком положении. Но увидеть это было невозможно. Пацаны представляли себе лицо мистера Уилленса, каким они его знали: большое, квадратное лицо, которое частенько театрально хмурилось, но никогда не бывало по-настоящему угрожающим. Жидкие вьющиеся волосы, то ли рыжие, то ли медные на макушке, доктор зачесывал на косой пробор. Брови у него были темнее волос, толстые и мохнатые — точь-в-точь две гусеницы, прилепившиеся над глазами. Лицо это и без того казалось детям уродливо-смешным, как и многие взрослые лица, так что лицо утопленника их бы не испугало ничуть. Но они видели только предплечье и бледную кисть — и все. Кисть стала видна довольно отчетливо, едва они приспособились смотреть сквозь толщу воды. Она покачивалась в воде как-то робко, нерешительно, будто перышко, хотя на вид казалась плотной, как тесто. И обыкновенной, как только свыкнешься с мыслью, что она вообще здесь находится. Ногти на руке напоминали опрятные личики, по-будничному смышленые и приветливые, благоразумно отрешенные от обстоятельств.
— Фигассе, — протянули мальчики. И повторили с усиленной энергией, с глубоким уважением и даже благодарностью: — Фигассе!
Это была их первая вылазка в этом году. Они перешли реку Перегрин по мосту, однополосному мосту в два пролета, известному среди местных как «Адские ворота» или «Капкан смерти», хотя по-настоящему опасен был скорее резкий поворот дороги на южном конце моста, нежели сам по себе мост.
На мосту имелась обычная пешеходная дорожка, но мальчишки ею не пользовались. Даже не вспоминали о ней. Может, много лет назад, когда они были так молоды, что их водили за ручку. Но те времена для ребят бесследно канули, они отказывались вспоминать о них, даже если им предъявляли свидетельства в виде фотокарточек или принуждали слушать семейные россказни. Теперь они ходили исключительно по железному карнизу по ту сторону моста. Карниз был дюймов восемь в ширину и на фут возвышался над поверхностью моста. Река Перегрин стремительно уносила свое, теперь уже стаявшее, зимнее бремя льда и снега к озеру Гурон[2]. Она только-только вернулась в берега после ежегодного половодья, превращавшего низины в озера, вырывавшего с корнем молодые деревца и крушившего всякую лодку или хижину на своем пути. Вернувшаяся с полей мутной и землистой, при бледном рассветном солнце вода казалась кипящим карамельным пудингом. Но стоит упасть туда — и она заморозит тебе кровь и утащит тебя в озеро, если сразу не вышибет тебе мозги об опоры.
Машины сигналили им — предупреждая или укоряя, но они на это — ноль внимания, шли гуськом, невозмутимые, как лунатики. Затем, оказавшись на северном берегу, они срезали путь в низину, отыскав свою прошлогоднюю тропинку. Половодье сошло недавно, и идти по тропинке было нелегко. Приходилось протаптывать себе путь сквозь прибитый к земле кустарник и перепрыгивать с одной облепленной грязной прошлогодней травой кочки на другую. Порой мальчишки прыгали беспечно и бултыхались в грязь или в лужи, оставленные наводнением, а когда ноги промокли окончательно, они и вовсе перестали замечать, куда приземляются. Они шлепали по грязи и плюхались в лужи, так что вода поднималась и наливалась им в резиновые сапоги. Ветер потеплел, он рвал ветхую шерсть облаков в клочья, чайки и вороны ссорились и пикировали вниз, к самой воде. Канюки кружили над ними, караулили свысока, только что вернулись зарянки, красноплечие трупиалы стрелой носились попарно, такие ослепительно-яркие, будто их только что окунули в краску.
— Эх, жаль, не взял свой двадцать второй!
— Эх, жаль, не захватил двенадцатый калибр!
Уже слишком взрослые, чтобы поднять палочку и изобразить звук выстрела, они говорили с будничным сожалением, словно оружие только и ждет, чтобы они его взяли.
Мальчишки взобрались на северный берег, туда, где голый песок. Считалось, что черепахи откладывают в этом песке яйца. Еще было слишком рано для этого, да и рассказы про черепашьи яйца уходят в далекие годы, никто из этих мальчиков в глаза не видел ни одной черепахи. Но они ковыряли и топтали песок просто на всякий случай — а вдруг? Затем они обшарили место, где один из них в компании другого пацана в прошлом году нашел коровью тазовую кость, принесенную половодьем с какой-то скотобойни.
Всегда можно было рассчитывать, что река слизнет откуда-то и притащит куда-нибудь тьму неожиданных, громоздких, причудливых или обыденных объектов. Мотки проволоки, целый лестничный пролет, согнутый засов, помятый котелок. Тазовая кость, когда ее нашли, висела, зацепившись за ветку сумаха, — что казалось вполне кстати, потому что все его гладкие ветки напоминали не то коровьи рога, не то рога оленя, кое-где с порыжелыми заостренными кончиками.
Пацаны с треском прочесывали заросли — Сэс Фернс показал им тот самый сук, но они ничегошеньки не нашли.
Именно Сэсу Фернсу и Ральфу Диллеру попалась та самая находка, и когда Сэса спросили, где она сейчас, тот сказал: «У Ральфа». Двое его теперешних спутников — Джимми Бокс и Бад Солтер — знали, почему так. Сэс никогда не приносил домой ничего достаточно крупного, ничего, что невозможно протащить тайком от его папаши.
Они поговорили о более полезных вещах, найденных или будто бы найденных за минувшие годы. Из реек для ограды можно соорудить плот, всякие разрозненные деревяшки сгодились бы для будущей хижины или лодки. Вот бы повезло найти парочку ловушек для ондатр. А там можно приниматься за дело. Собрать побольше досок, расширить плоты, стащить скорняцкие ножи. Поговорили о том, что хорошо было бы сложить все в тот пустой сарай, который они приглядели в тупике за бывшей конюшней. На двери там замок висит, но можно же пролезть как-то через окно, вытаскивать оттуда плот по ночам и возвращать на рассвете. Фонарь надо бы взять, для ночной-то работы. Не фонарь, а светильник. Можно свежевать ондатр, растягивать шкурки и продавать за кучу денег.
Замысел стал для них таким реальным, что они не на шутку встревожились за драгоценные шкурки, на целый день оставленные в сарае без присмотра. Кому-то из них придется караулить добычу, пока двое других охотятся. (О школе — ни слова.)
Вот так они и беседовали, вырвавшись из города. Как будто они вольные — ну или почти вольные — птицы, как будто им не надо ходить в школу, не надо жить со своими родителями и страдать от всяческих унижений, которым их подвергают из-за возраста. И еще как будто эта деревня и хозяйства местных жителей обеспечат их всем необходимым для всех начинаний и приключений, стоит только чуточку рискнуть и приложить крошечное усилие.
Было и другое отличие в их здешнем общении: здесь они практически не употребляли имен. Они вообще нечасто использовали свои настоящие имена, даже такие семейные прозвища, как Бад, например. Но в школе почти у всех имелись иные прозвища, клички, часть из которых были как-то связаны с внешним видом или манерой говорить, как, например, Очкарик или Трепло; другие, как Стыложопый или Ссыкун, вели начало от реальных или вымышленных происшествий, случившихся в жизни носителей этих кличек или же — а такие прилипали на десятки лет — в жизни их братьев, отцов или дядьёв. Все эти имена и клички прекращали действовать в зарослях и речных низинах. Если нужно было привлечь внимание, они обращались друг к другу «эй!». Использование имен, даже оскорбительных и непристойных кличек, о которых взрослые и слыхом не слыхивали, испортило бы ощущение, возникавшее у них во время таких вылазок, когда внешний вид, привычки, семья и личное прошлое друг друга принимались ими совершенно как должное.
Однако мальчишки едва ли считали себя друзьями. Они никогда не помечали кого-то ярлыками, как девчонки: «самый лучший друг» или «почти самый лучший друг», частенько меняя один ярлык на другой. Каждый из примерно дюжины пацанов мог оказаться на месте любого из этой троицы и был бы благосклонно принят остальными. Большинство членов этой компании были в возрасте от девяти до двенадцати лет, слишком большие, чтобы томиться в собственных или соседских дворах, но слишком маленькие, чтобы работать, даже чтобы подметать дорожки перед магазинами или доставлять покупки на великах. Большинство мальчиков жили в северной части города, а это означало, что вскоре им светит работа вроде этой, как только они дорастут до нее, и ни одного не пошлют ни в Эпплби-колледж, ни в колледж Верхней Канады. Никто из них не ютился в лачугах, ни у кого родственники не сидели в тюрьме. И все равно существовали заметные различия между их домашней жизнью и между тем, чего от каждого из них ожидали в будущем. Но разница эта исчезала, едва мальчишки оказывались вне видимости городской тюрьмы и элеватора, и церковных шпилей, вне слышимости боя курантов на башне здания суда.
На обратном пути они двинулись быстрее. Время от времени переходили на торопливый семенящий шаг, но не бежали. Забыли о прыжках, плюханьях и выкрутасах, не вопили и не гикали. Богатства, принесенные потопом, принимались во внимание, но и только. Они шли домой, как настоящие взрослые: с хорошей неизменной скоростью, избрав самый разумный маршрут, неся в себе груз того, что им пришлось сделать, и того, что нужно сделать дальше. Перед глазами, прямо перед глазами у них стояла картина, отделившая их от мира, нечто подобное, видимо, есть у большинства взрослых. Запруда, машина, рука, пальцы. Они думали, что, дойдя до определенного места, начнут кричать. Они войдут в город, вопя, и разнесут по всему городу весть, и все замрут, услыхав ее.
Реку они пересекли как обычно — по карнизу моста. Но без чувства опасности, без куража или показной небрежности. Точно так же они могли бы двигаться по пешеходной дорожке.
Вместо того чтобы пойти по крутой дороге, ведущей и к пристани, и на площадь, они вскарабкались прямо на высокий берег и по тропке вышли к железнодорожным складам. Куранты отыграли четверть. Четверть первого.
В это время люди шли домой обедать. У офисных служащих был короткий день. Но работников магазинов отпускали только на часовой обеденный перерыв — все магазины по субботам оставались открытыми до десяти, а то и до одиннадцати вечера.
Большинство дома ждал горячий и сытный обед. Свиные отбивные, колбаса, или отварная говядина, или рулет по-деревенски. Обязательно картофель — пюре или жареный, запасенные на зиму корнеплоды, или капуста, или лук под белым соусом. (Некоторые хозяйки — побогаче или неумехи, — наверное, открывали баночку консервированного горошка или бобов.) Хлеб, сдобные булочки или оладьи, варенье, пирог. Даже те, у кого не было дома, или по каким-то причинам они не хотели туда идти, могли довольствоваться почти точно такой же пищей в «Герцоге Камберленде», или в «Купеческом отеле», или, подешевле, у запотевшего окна молочного бара «Шервилс».
Домой шли в основном мужчины. Женщины уже были дома — они были дома всегда. Но некоторые женщины средних лет, работавшие в магазинах или конторах не по своей вине, а потому, что муж умер, или болеет, или вообще его нет, дружили с мамами наших ребят и окликали их даже через улицу (хуже всех приходилось Баду Солтеру — его называли Бадди) насмешливыми или задорными голосами, сразу наводившими на мысль, что они в курсе всех семейных дел, начиная с глубокого младенчества пацанов.
Мужчины не окликали мальчишек по имени, даже если хорошо их знали. Они называли их «мальчики», или «молодые люди», или, очень редко, «господа».
— Доброго дня, господа.
— Что, мальчики, сейчас прямиком домой?
— Ну, молодые люди, что за проделки у вас на уме с утра пораньше?
Все эти обращения были шуточными в той или иной мере, но разница между ними все-таки имелась.
Мужчины, говорившие «молодые люди», были более благожелательными или хотели казаться более благожелательными, чем те, кто говорил «мальчики». Обращение «мальчики» могло быть сигналом, что сейчас последует нагоняй за провинности, как неопределенные, так и конкретные. «Молодые люди» указывало на то, что говорящий и сам был когда-то молод. «Господа» звучало открытой насмешкой, даже издевкой, но не сулило никаких нагоняев и выговоров, потому что говорившему было все равно.
Отвечая, пацаны не поднимали взгляд выше дамской сумочки или мужского кадыка, четко и ясно здоровались, а то еще неприятностей не оберешься, а на вопросы отвечали «дасэр», «нетсэр» и «ничего такого». Даже в этот день взрослые голоса, обращенные к ним, вызывали тревогу и смущение, и они отвечали, как всегда, сдержанно.
На одном из перекрестков им пришлось разделиться. Сэс Фернс, всегда спешащий домой больше других, отвалил первым. Он сказал:
— Встретимся после обеда.
Бад Солтер ответил:
— Ага, тогда и сходим в город.
И все они поняли, что «в город» значит «в городской полицейский участок». Казалось, что, не сговариваясь, они приняли новый план действий, более трезвый способ сообщения новостей. Однако не было между ними строгого договора, что они ничего не расскажут домашним. Ни у Бада Солтера, ни у Джимми Бокса не было веских причин молчать. А Сэс Фернс никогда и ничего дома не рассказывал.
Сэс Фернс был единственным ребенком. Его родители были старше родителей большинства его друзей, а может, просто казались старше из-за своей никчемной жизни. Расставшись с ребятами, Сэс, как всегда, за квартал от дома ускорил шаг. Не потому, что так уж хотел туда попасть, и не потому, что считал, что так лучше. Наверное, ему хотелось заставить время бежать быстрее, потому что, проходя этот последний квартал, он изнывал от дурных предчувствий и опасений.
Мать возилась на кухне. Хорошо. Она встала с постели, хотя все еще в халате. Отца не было, и это тоже было хорошо. Он работал на элеваторе, и в субботу после обеда у него выходной, и раз его до сих пор нет, значит он отправился прямиком в «Камберленд». Значит, общаться с ним придется уже ближе к концу дня.
Отца Сэса Фернса тоже звали Сэс Фернс. Это было хорошо известное имя, которое многие в Уоллее произносили с нежностью, и кто-то, рассказывая некий анекдот даже тридцать или сорок лет спустя, само собой, будет знать, что речь об отце, а не о сыне. Если относительно новый человек в городе скажет: «Это не похоже на Сэса», то ему ответят, что никто и не имеет в виду этого Сэса: «Да речь-то не о нем, а о его старике».
А рассказывали о тех временах, когда Сэс Фернс пришел в больницу — или его туда доставили — с воспалением легких или с какой-то другой тяжелой хворью и медсестры обернули его влажными не то полотенцами, не то простынями, чтобы снизить температуру. Он пропотел, и все полотенца и простыни стали коричневыми. Это никотин из него вышел. Медсестры никогда такого не видели. Сэс пришел в восторг. Уверял всех, что с десяти лет курит и пьет.
А однажды он пошел в церковь. Трудно представить, что он там забыл, но церковь была баптистская — жена-то у него баптистка, так что он, наверное, решил сделать ей приятное, хотя это представить еще труднее. И как раз попал к причастию, дело было в воскресенье, а на причастии в баптистской церкви хлеб — это хлеб, но вместо вина — виноградный сок.
— Что это? — возопил Сэс Фернс во весь голос. — Если это кровь Агнца, то он, видать, страдал сильным малокровием, черт побери!
На кухне Фернсов приготовления к трапезе шли своим чередом. На столе лежала нарезанная буханка хлеба, банка консервированной свеклы была открыта, несколько кружков болонской колбасы поджарили не после яиц, а раньше, и теперь держали на плите, чтобы не остыли. Мать Сэса жарила яйца. Нависла над плитой с лопаточкой в одной руке, а другую прижимала к животу, чтобы унять боль.
Сэс взял у нее лопаточку и убавил нагрев электроплиты. Пришлось снять сковороду с горелки и дать ей остыть, чтобы белок не пережарился и не подгорел по краям. Сэс не успел вернуться вовремя, чтобы счистить старый, прогорклый жир и плюхнуть на сковороду чуток свежего смальца. Мать никогда не счищала старый жир, просто жарила на нем снова и снова, добавляя смалец, когда уже совсем ничего не оставалось.
Температура стала более подходящей, и Сэс поставил сковородку на плиту и сотворил из кружевных яиц аккуратные кружки. Нашел чистую ложку и брызнул чуток горячего жира на желтки, чтобы те отвердели. Они с матерью любили яичницу, зажаренную именно так, но у матери часто не получалось все сделать правильно. Отец любил яичницу-размазню, обжаренную с двух сторон, как блин, твердую, как подошва, и черную от перца. Сэс умел готовить и так.
Никто из приятелей не знал, что Сэс умеет куховарить, как не знал о тайнике, обустроенном Сэсом позади дома, в слепом закутке под японским барбарисом, что рос за окном столовой.
Мать сидела на стуле у окна, пока сын дожаривал яичницу. Она не спускала глаз с улицы. Отец все еще мог в любую минуту пожаловать домой поесть. Может, еще и не пьяный даже. Но его поступки не всегда зависели от того, насколько он набрался. Если бы он сейчас вошел на кухню, он мог велеть Сэсу поджарить яичницу и ему. А потом спросить у Сэса, где его передник, и сообщить, что из него выйдет первоклассная женушка для какого-нибудь счастливчика. Это если он в хорошем настроении. А будучи не в духе, сначала уставится на Сэса, этак пристально, со значением — с выражением бессмысленной и беспричинной злобы на роже, и скажет: «Берегись, пацан! Что, шибко умный, жучила, да? Ну-ну, погоди, я до тебя доберусь!»
А потом уже не важно, глянул Сэс на него в ответ или не глянул, уронил лопаточку, положил ли ее со стуком или даже крайне осторожно скользил вокруг, ухитрившись ничего не уронить и не издать ни звука, — в любую секунду папаша был готов оскалить зубы и зарычать, как собака. Это было бы нелепо и смешно — это и было нелепо и смешно, — если бы он не переходил от слов к делу. Минуту спустя и еда, и тарелка оказывались на полу, стулья и стол переворачивались вверх дном, а папаша гонялся за Сэсом по комнате, вопя, чтó он с ним сделает на этот раз, вот как размажет его морду по горячей конфорке, и тогда поглядим, как ему это понравится! И можно было не сомневаться — он свихнулся. Но если в эту минуту раздавался стук в дверь — явился какой-нибудь его приятель, скажем, чтобы подбросить его, — папашино лицо вмиг преображалось и он приоткрывал дверь и приветствовал приятеля громким дурашливым голосом:
— Я сейчас, в два счета буду твой. Я бы пригласил тебя войти, да жена опять тарелки всюду пораскидывала.
Папаша не заботился, чтобы ему поверили, болтал что попало, лишь бы превратить случившееся в шутку.
Мать спросила Сэса, потеплело ли на улице и куда он ходил с утра.
— Ага, — ответил он. — Гулял на отмели.
Она сказала, что, кажется, чувствует, как от сына пахнет рекой.
— А знаешь, что я собираюсь сделать, как поем? — сказала она. — Возьму-ка я бутылку с горячей водой и полежу еще в постели, может, мне полегчает, силы вернутся, и я смогу что-то поделать по дому.
Так она говорила почти всегда, и всегда объявляла об этом так, словно ее только что осенила эта блестящая, обнадеживающая идея.
У Бада Солтера были две старшие сестры, от которых всего-то и пользы, что на свет родились. Нет чтобы крутить свои прически, мазать свои маникюры, ваксить туфли, краситься и даже переодеваться у себя в комнатах или в ванной! Пораскидывают вечно свои щетки-расчески, бигуди, пудры, лаки для ногтей, кремы для обуви по всему дому. А еще спинки всех стульев всегда были заняты только что отутюженными блузками, а на каждом свободном кусочке пола сушились свитерки, расправленные на полотенцах. (И сестры орали на тебя, если ты шел поблизости.) Они торчали перед всеми зеркалами в доме — перед зеркалом в шкафу для пальто в прихожей, перед буфетным зеркалом в столовой и перед зеркалом рядом с кухонной дверью, полочка под ним ломилась от невидимок, булавок, монеток, пуговиц и огрызков карандашей. Иногда одна из сестриц застревала перед зеркалом минут на двадцать, оглядывая себя в разных ракурсах, инспектируя зубы или отбрасывая волосы назад, а потом стряхивая их вперед. Затем она удалялась, судя по всему удовлетворенная или, по крайней мере, закончив себя разглядывать, но только до ближайшей комнаты, до следующего зеркала, где все начиналось сначала, будто ей только что прислали новую голову.
Прямо сейчас его старшая сестрица, та, которая считалась красивой, вынимала шпильки из волос перед кухонным зеркалом. Голова ее была облеплена блестящими завитками, словно улитками. Другая сестра по распоряжению матери толкла картошку в пюре. Пятилетний братишка Бада сидел за столом, барабанил ножом и вилкой и вопил: «Официант! Официант!»
Он перенял это от отца, который любил так пошутить.
Бад прошел мимо братишкиного стула и спокойно сказал:
— Смотри, она опять кладет в пюре комки. — Он внушил брату, что комки в пюре добавляют из коробки в буфете, как изюм в рисовый пудинг.
Брат перестал скандировать и заныл:
— Я не бу-у-уду есть пюре с комками! Ма-а-ама! А пусть она не кладет в пюре комки-и-и!
— Ох, не будь дурачком, — сказала мама Бада. Она поджаривала свиные отбивные и ломтики яблок с луком. — Хватит хныкать, как маленький.
— Это все Бад, он его науськал, — сказала старшая сестра. — Пришел и сказал, что она кладет комки в пюре. Бад всегда ему так врет, не придумал ничего лучше.
— Бад так и напрашивается, чтобы ему физию расквасили, — сказала Дорис — та сестра, что мяла картошку. Она не всегда бросала такие слова на ветер — однажды ее рука оставила глубокую царапину на Бадовой щеке.
Бад отошел к комоду, где остывал пирог с ревенем. Он взял вилку и принялся потихоньку ковырять его, выпуская наружу вкусный пар, нежно пахнущий корицей. Он пытался раскурочить одну из дырочек, оставленных для вентиляции, чтобы отведать начинку. Братишка видел все это, но трусил ябедничать. Сестры все время баловали и защищали младшенького, и Бад был единственным человеком в доме, которого младшенький уважал.
— Официант, — повторил он, на этот раз глубокомысленным полушепотом.
Дорис подошла к комоду, чтобы взять оттуда миску для пюре. Бад сделал неловкое движение, и кусок верхнего коржа провалился внутрь.
— Та-ак. Теперь он уродует пирог! Мама! Он уродует твой пирог.
— Заткни свой поганый рот, — прошипел Бад.
— Оставь пирог в покое, — велела Баду мама с отработанной, почти безмятежной твердостью в голосе. — Хватит ругаться. Довольно ябедничать. Пора взрослеть.
* * *
За столом, где сел обедать Джимми Бокс, было многолюдно. Он, его отец, мать и сестры, четырех и шести лет, жили в бабушкином доме вместе с бабушкой, двоюродной бабушкой Мэри и дядей-холостяком. Отец держал мастерскую по ремонту велосипедов в сарае за домом, а мать работала в универмаге «Хонкерс».
Отец Джимми был калека — в двадцать два года он перенес полиомиелит. Он ходил, сильно согнувшись вперед от самых бедер и опираясь на трость. Это было не так заметно, когда он работал в мастерской, потому что такая работа всегда выполняется внаклонку. А вот идя по улице, он действительно выглядел очень странно, но никто его никогда не обзывал и не дразнил. Когда-то отец Джимми был известным на весь город хоккеистом и бейсболистом, и ореол былой славы и доблести до сих пор окружал его, отнеся его нынешнее состояние в перспективу, и посему его можно было рассматривать как фазу (пусть и финальную). Он всячески способствовал этому восприятию, на людях весело отпускал дурацкие шуточки и хорохорился, превозмогая боль, которая плескалась в его запавших глазах и не давала уснуть ночи напролет. Но, в отличие от папаши Сэса Фернса, настрой отца Джимми не менялся, когда он возвращался домой.
Правду сказать, это был, конечно, не его дом. Мать Джимми вышла замуж за его отца уже после того, как отца перекосило: правда, обручены они были еще до болезни, и казалось совершенно естественным, что они переехали в дом ее матери, чтобы та могла в будущем нянчить внуков, пока дочь ходит на свою работу. И теще тоже казалось совершенно естественным принять под свою крышу еще одну семью, как в свое время совершенно естественно приняла она свою сестру Мэри, когда она почти совсем ослепла, и своего сына Фреда, необычайно застенчивого малого, который продолжал жить дома, пока не найдет более приятное для себя место.
Эта семья переносила трудности даже с меньшим недовольством, чем плохую погоду. В самом деле, никто в этом доме не считал состояние отца Джимми или слепоту тети Мэри трудностями или проблемами, равно как и Фредову застенчивость. Изъяны и невзгоды просто не замечали, не отделяли от достоинств и радостей.
По традиции в этой семье считалось, что бабушка Джимми — отличная повариха, и когда-то наверняка так и было, но в последние годы что-то не ладилось. Режим экономии применялся независимо от того, была в том необходимость или нет. Мать Джимми и дядя приносили приличную зарплату, тетушка Мэри получала пенсию, а в велосипедной мастерской всегда кипела работа, но вместо трех яиц всегда клали одно, а в мясной хлеб всегда добавлялась лишняя чашка овсянки. Все это пытались компенсировать, перебарщивая с вустерским соусом или добавляя чересчур много мускатного ореха в заварной крем. Но никто не сетовал. Все только нахваливали. В этом доме жалобы случались не чаще шаровой молнии. И все говорили «извините», даже малышки говорили «извините», случайно задев друг дружку. За столом все передавали друг другу блюда с непременным спасибо-пожалуйста-не за что, будто каждый день принимали гостей. Так у них было заведено, в этом битком набитом доме, где на каждом крючке навалом висела одежда, а пальто просто перебрасывались через перила, где в столовой постоянно стояли две раскладушки — для Джимми и дяди Фреда, где буфета не было видно под ворохом стираного белья, ожидающего глажки или штопки. Никто не топал по лестнице, не захлопывал с грохотом двери, не включал радио на полную громкость, не говорил ничего неприятного.
Может, именно поэтому Джимми держал рот на замке в тот день за обедом? Все пацаны держали рот на замке, все трое. Ну, Сэса-то легко понять. Его папаша не поверил бы, сообщи ему Сэс о столь важном открытии. Он бы обозвал его вруном, как пить дать. А мать Сэса, которая все меряет папашиными реакциями, сразу поняла бы — и правильно, — что даже поход сына в полицию с рассказом о случившемся вызовет в доме разлад, и стала бы просить Сэса «ради бога молчать». Но двое других мальчишек тоже помалкивали, хотя жили в семьях весьма разумных и могли бы проговориться. У домашних Джимми это вызвало бы ужас и некоторое недоверие, но очень скоро они бы признали, что вины Джимми здесь нет.
Зато вот сестрицы Бада, конечно, спросили бы, не съехала ли у него крыша ненароком. Эти наверняка все повернули бы так, что, мол, такое совершенно в духе Бада, из-за своих гадких привычек он и наткнулся на утопленника. Отец Бада, впрочем, был человек рассудительный и спокойный, привыкший выслушивать всяческие несусветицы у себя на работе — он служил фрахтовым агентом на железнодорожной станции. Он бы велел сестрам попридержать языки и после серьезного разговора удостоверился бы, что Бад говорит правду, ничего не приукрашивая, и тут же позвонил бы в полицию.
Просто их дома показались ребятам слишком людными. Слишком много всего происходило там одновременно. И у Сэса не меньше, чем у остальных, потому что даже в отсутствие отца в доме всегда витала грозная память о его психованных выходках.
— Ты сказал?
— А ты?
— Я — ни слова.
Они шли в центр города, не выбирая дороги. Повернув на Шипка-стрит, они оказались прямо возле оштукатуренного бунгало, в котором жили мистер и миссис Уилленс. Мальчики поняли это, только когда уже стояли прямо перед домом. В доме было два маленьких эркерных окна по обе стороны от парадной двери, а к ней вела лестница, на вершине которой хватало места для двух кресел, в данное время отсутствующих, но летними вечерами там сидели мистер Уилленс и его супруга. С одной стороны к дому притулилась пристройка с плоской крышей и еще одной, выходящей на улицу дверью, к которой вела отдельная дорожка. Табличка рядом с дверью гласила: Д. М. Уилленс, офтальмолог. Никто из мальчишек лично никогда не посещал этот кабинет, но тетя Джимми, Мэри, регулярно приходила сюда за глазными каплями, а его бабушка заказывала здесь очки. И мама Бада Солтера тоже.
Штукатурка была грязно-розовая, а двери и оконные рамы выкрашены в коричневый цвет. Ставни, как и в большинстве домов этого города, еще не снимали. В самом доме не было ничего особенного, зато палисадник славился своими цветами. Миссис Уилленс была известной садовницей, она не высаживала цветы длинными рядами вдоль огорода, как это делали бабушка Джимми и мама Бада. Цветы ее росли и на круглых клумбах, и на полукруглых, и повсюду, где только можно, даже кольцами вокруг деревьев. Еще пара недель, и лужайку заполонят нарциссы. Но теперь единственным цветущим растением был куст форзиции на углу дома. Он вытянулся почти под самый карниз и рассыпáл желтизну во все стороны, как фонтан рассыпает струи.
Форзиция качнулась, но не от ветра, и из-за куста показалась понурая бурая фигура. Это миссис Уилленс в своем старом костюме для работы в саду, низенькая неуклюжая женщина в мешковатых штанах, драной куртке и фуражке — наверное, мужниной, — которая сползла так низко, что глаза миссис Уилленс почти скрылись под козырьком. Может, они думали, она их не заметит, не заметит, как они торчат тут столбами. Но она их уже увидела, потому-то и направилась к ним.
— Вижу, вы любуетесь моей форзицией? — сказала миссис Уилленс. — Не хотите ли взять домой по веточке?
Вообще-то, они не на форзицию глазели, а на дом и двор, на все сразу, и дом выглядел совершенно как всегда — табличка у дверей, раздвинутые занавески. Никакой такой зловещей пустоты, никаких признаков, что мистера Уилленса нет в этом доме и что его машина не в гараже, а в Ютландской запруде. И миссис Уилленс ковыряется в своем саду, и каждый в городе знал, что увидит ее там с той самой минуты, можно сказать, как сошел снег. И это ее знакомый прокуренный голос, резкий и натужный, но совсем не злобный, обращается к мальчишкам.
— Погодите, — говорит она. — Постойте, я вам наломаю.
Она принялась вдумчиво, разборчиво щелкать ярко-желтые ветки, а когда наломала, сколько хотела, приблизилась к ним, едва видимая за охапкой цветов.
— Ну вот, — сказала она. — Держите, отнесите домой своим мамам. Форзиция всегда радует глаз, все-таки самые первые весенние цветы. — Она разделила ветки между ними. — Как Цезарь Галлию. Вся Галлия разделена на три части. Вы должны это знать, если учили латынь.
— Мы еще не в старшей школе, — ответил Джимми, который, благодаря своей домашней обстановке, был лучше своих приятелей подготовлен к беседам с дамами.
— Правда? — сказала она. — Ну, тогда у вас столько еще всего впереди! Скажите мамам, пусть поставят в тепленькую водичку. О, да я уверена, что они знают. Я дала вам свеженькие ветки, так что они вечность простоят.
Они поблагодарили: Джимми первый, а приятели по его примеру. И пошли по городу с охапками цветов. Мальчишки вовсе не собирались возвращаться, чтобы отнести цветы домой, и они очень надеялись, что миссис Уилленс понятия не имеет, где они живут. Через полквартала они оглянулись, не смотрит ли она.
Она не смотрела.
Но большой дом у тротуара и так загораживал весь обзор.
Форзиция дала им пищу для размышлений. О том, какая стыдоба ее нести и как нелегко от нее избавиться. А иначе они стали бы думать о мистере и миссис Уилленс. О том, как она может копаться в саду, когда он утоп в своей машине. Знает ли она, где он, или не знает? Им показалось, что не знает. А знает ли она хотя бы, куда он поехал? Она вела себя как ни в чем не бывало, будто вообще ничего плохого не произошло, и когда они стояли перед ее домом, им показалось, что так оно и было. Все, что они знали и видели, словно отступило, побежденное ее неведением.
Две девчонки на велосипедах вырулили из-за угла. Одна из них была Бадова сестра, Дорис. Девчонки тут же принялись улюлюкать и вопить.
— Ой, поглядите-ка на эти цветочки! — верещали они. — А где же свадьба? Гляньте, какие прекрасные невестушки!
Бад проорал в ответ наигнуснейшие слова, какие только могли прийти ему в голову:
— У тебя кровь на жопе!
Ничего подобного, конечно, но однажды такое случилось — Дорис пришла домой, а на юбке сзади у нее была кровь. Все это видели, и забыть об этом невозможно.
Бад не сомневался, что Дорис нажалуется на него дома, но она не нажаловалась. Ей было так стыдно вспоминать тот давний случай, что она не стала бы упоминать о нем, даже чтобы насолить братцу.
* * *
Мальчишки поняли, что цветы надо немедленно выбросить, так что они просто зашвырнули веточки под припаркованный автомобиль. Стряхнув остатки желтых лепестков с одежды, они повернули к площади.
В те времена суббота была значительным днем, в этот день сельские жители приезжали в город. Машины уже стояли повсюду вокруг площади и на прилегающих улицах. Взрослые деревенские девочки и мальчики и детишки помладше шли в кинотеатр на утренний сеанс.
В ближайшем квартале им было нужно пройти мимо «Хонкерса». И там, в большой витрине, Джимми увидел свою маму в полный рост. Она уже вернулась на работу с обеда и надевала шляпу на женский манекен. Мама расправила вуалетку, затем принялась хлопотать над плечиками платья. Женщина она была невысокая, и ей пришлось встать на цыпочки, чтобы справиться как следует. Она сняла туфли и ходила босиком по выстланной ковром витрине. Сквозь чулки просвечивали розовые подушечки пяток, потом она потянулась, и в разрезе юбки показалась тыльная сторона ее бедер, чуть выше виднелся широкий, но красивый круп и очерченная линия трусов или пояса. Джимми мысленно слышал, как она тихонько покряхтывает. А еще ему чудился запах чулок, которые она сразу же снимала, придя домой, чтобы уберечь от затяжек и стрелок. Чулки и белье, даже чистое женское белье, всегда источали едва уловимый запах, привлекательный и отталкивающий одновременно.
Он надеялся на две вещи. Что приятели не заметят ее (они заметили, но сама мысль о том, чтобы мама каждый день наряжалась и находилась в городе среди людей, была для них настолько дикой, что они не сказали ни слова, они могли только отвергнуть ее), а еще что она — ну пожалуйста, пожалуйста! — не обернется и не засечет его. А то ведь, не ровен час, начнет стучать в стекло и шептать «привет!» одними губами. На работе она утрачивала свое молчаливое благоразумие, свою домашнюю вышколенную мягкость. Ее кроткая любезность превращалась в веселую предупредительность. Раньше его приводила в восторг эта ее другая сторона, эта резвость, игривость, так же как и сам универмаг с его широченными прилавками из стекла и полированного дерева, его огромными зеркалами на вершине лестницы, в которых он видел себя, взбираясь по ступенькам в отдел женской одежды на втором этаже. «А вот и мой маленький проказник», — говорила мама и иногда подсовывала ему гривенник. Он не мог задержаться больше чем на минутку. Мистер или миссис Хонкер могли заметить.
Маленький проказник.
Слова, которые когда-то было так же приятно слышать, как звон гривенников и четвертаков, теперь превратились в коварное глумление. Мальчишки благополучно прошли незамеченными.
В следующем квартале им пришлось идти мимо «Герцога Камберленда», но Сэс не беспокоился. Если отец не пришел домой в обед, значит он сидит там уже несколько часов подряд. Но слово «Камберленд» всегда отзывалось тяжестью в сознании Сэса. Еще с тех пор, когда он даже не знал, что оно означает, он испытывал чувство горестного падения. Груза, рассекающего темные воды, отвесно, до самых глубин.
От «Камберленда» к городской управе вел немощеный переулок, а позади управы стоял полицейский участок. Они свернули в этот переулок, и разом на них обрушилось множество новых звуков, заглушая гомон окрестных улиц. Звуки летели не из «Камберленда» — все тамошние шумы приглушались, в пивном баре все окошки были маленькими и под самым потолком, как в общественном туалете. Гам доносился из полицейского участка. Двери участка стояли нараспашку по случаю теплой погоды, и еще в переулке слышался крепкий дух трубочного табака и сигар. А внутри сидели не только полицейские, особенно в субботу пополудни, и зимой там трещали печки, а летом гудели вентиляторы, и двери открывались в такие дни, как сегодня, между зимой и летом, чтобы впустить приятный чистый воздух.
Полковник Бокс был где-то здесь, на самом деле они уже слышали его хрип — долгоиграющее эхо астматического хохота. Полковник приходился Джимми родней, но домашние к нему относились с прохладцей, потому что полковник когда-то не одобрил женитьбы отца Джимми на его матери. Полковник разговаривал с Джимми, когда замечал его, с удивлением и насмешкой в голосе. «Если он вдруг предложит тебе четвертак или еще что, скажи, что ты не нуждаешься», — наставляла мать Джимми. Но полковник Бокс никогда ничего такого не предлагал.
Еще тут ошивались мистер Поллок, аптекарь на пенсии, и Фергюс Соллей, который выглядел как полудурок, хотя и не был слабоумным на самом деле, просто во время Первой мировой войны он попал под газовую атаку. Весь день эти люди и их приятели играли в карты, курили, травили анекдоты и пили кофе за счет города (так отец Бада говорил). Любому, кто хотел подать жалобу или заявление, приходилось делать это под их присмотром, и, скорее всего, они всё подслушивали.
Пройти сквозь строй.
Пацаны дошли почти до самого порога распахнутой двери. Никто не заметил их. Полковник Бокс произнес: «Я еще не помер», воспроизводя финальную фразу какого-то анекдота. Мальчишки медленно пошли дальше, мимо, понурив головы и пиная гравий под ногами. Зайдя за угол здания, они припустили быстрее. У входа в мужской сортир красовались потеки недавней блевотины, несколько пустых бутылок валялись на земле. Им пришлось пройти между мусорными ящиками и высокими зоркими окнами городской управы и вернуться по гравийной дороге на площадь.
— У меня есть деньги, — сказал Сэс.
Услышав это будничное сообщение, все вздохнули с облегчением. Сэс позвенел мелочью в кармане. Это мама дала ему после того, как он помыл посуду и сказал, что идет гулять. «Возьми сам себе пятьдесят центов на комоде», — сказала она. Иногда у нее водились деньги, хотя Сэс никогда не видел, чтобы отец их ей давал. И всякий раз, когда она говорила «возьми сам» или давала ему мелочь, Сэс понимал, что она стыдится такой их жизни, стыдится его и перед ним, и в такие минуты он ненавидел ее (хотя и был благодарен за деньги). Особенно если она говорила, что он хороший мальчик и чтобы он не думал, что она не благодарна ему за все, что он делает.
Они пошли по улице, ведущей к пристани. Сбоку от пэкетовской станции техобслуживания стояла палатка, где миссис Пэкет торговала хот-догами, мороженым, леденцами и сигаретами. Сигареты она им отказалась продать, даже когда Джимми соврал, что это для его дяди Фреда. Но не стала пенять им за попытку. Миссис Пэкет была симпатичная франкоканадская толстушка.
Мальчишки купили лакричные палочки — черные и красные. Потом они собирались купить мороженое — чуток позже, когда обед чуть уляжется. Они пошли туда, где под деревьями в тени стояли два старых автомобильных сиденья. Они поделили лакричные палочки.
Капитан Тервит сидел на одном из сидений.
Капитан Тервит был настоящим капитаном, много лет он проплавал на озерных судах. Теперь он служил добровольным помощником полиции. Он останавливал машины, чтобы дети могли перейти улицу возле школы, и предупреждал автомобилистов об обледеневших поворотах на боковых улочках зимой. Он дул в свисток и махал большой рукой в белой перчатке, из-за этой перчатки рука капитана Тервита напоминала клоунскую. Капитан оставался по-прежнему рослым и широкоплечим, хоть уже состарился и поседел. Машины слушались его, и дети тоже.
По ночам он ходил повсюду, проверяя, заперты ли двери магазинов и не шарят ли внутри грабители. Днем он частенько спал где-нибудь у всех на виду. В плохую погоду он спал в библиотеке, а в хорошие деньки — устраивался на какой-нибудь уличной лавочке. Капитан не торчал все время в полицейском участке, наверное, потому, что был глуховат и не мог участвовать в разговорах без слухового аппарата, а слуховой аппарат, как и все глухие люди, он терпеть не мог. И вообще он привык к одиночеству, еще с тех времен, как глядел вдаль поверх носа озерного корабля.
Капитан сидел с закрытыми глазами, запрокинув голову и подставив лицо солнцу. Когда мальчики подошли к нему, чтобы перекинуться словом (решение они приняли не сговариваясь, только переглянулись с сомнением и покорностью), им пришлось прервать его дрему. На лице у него на миг отобразился процесс узнавания: где, когда и кто. Потом он извлек из кармана свои большие часы, будто предвидел, что дети, как обычно, спросят, который час. Но они заговорили, и лица у них были возбужденные и немного смущенные. Они выпалили:
— Мистер Уилленс в Ютландской запруде.
И еще:
— Мы видели машину.
И:
— Утопшую.
Капитан Тервит поднял одну руку, помахал ею, пытаясь их утихомирить, и приложил палец к губам, пока другой рылся в кармане и вытаскивал слуховой аппарат. Он серьезно и ободряюще кивал, будто говоря: «Спокойно, спокойно, ребята», вставляя аппарат в ухо. Потом поднял обе руки, призывая: «Тишина, тишина!», проверил, работает ли. Он коротко кивнул напоследок и строгим голосом, но понарошку, шутливо-строгим, сказал:
— Дальше.
Тогда Сэс, который был самым тихим из троицы, как Джимми — самым воспитанным, а Бад — самым болтливым, перевернул все с ног на голову:
— У вас ширинка расстегнута!
И все трое с воплями бросились наутек.
Эйфория не покидала их. Но ею нельзя было ни с кем поделиться, и об этом нельзя было поговорить, им пришлось разбежаться по домам.
Сэс пошел домой и стал прибираться в своем тайнике. Картонная подстилка, зимой промерзшая насквозь, теперь оттаяла, намокла и нуждалась в замене. Джимми забрался на чердак над гаражом, где он недавно нашел коробку старых журналов «Док Сэвидж», когда-то принадлежавших дяде Фреду. Бад вернулся домой и не застал там никого, кроме матери, натиравшей мастикой пол в столовой. Он полистал комиксы с часок, а потом все ей рассказал. Бад считал, что за пределами дома у матери нет ни опыта, ни власти и она не способна самостоятельно решить, что предпринять, пока не позвонит отцу. К его удивлению, мать тут же позвонила в полицию. А уж потом отцу. И кто-то пришел забрать Сэса и Джимми.
Полицейская машина съездила по грунтовой дороге в Ютландию, и все подтвердилось. Полицейский и священник англиканской церкви навестили миссис Уилленс.
— Я не хотела вас беспокоить попусту, — сказала миссис Уилленс. — Дала ему время до темноты.
Она рассказала им, что вчера пополудни муж уехал за город, повез капли одному слепому старику.
— Иногда он задерживается, — сказала она, — то навестит кого-нибудь, то машина заглохнет.
— Был ли он подавлен, или что-то в этом роде? — спросил ее полицейский.
— Что вы, конечно же нет, — встрял священник. — Он был оплотом нашего хора.
— Слово «подавлен» — не из его словаря, — подтвердила миссис Уилленс.
Кое-что произошло с мальчиками, которые сидели дома за обедом и не сказали ни слова. А потом накупили лакричных палочек. Новая кличка — Жмурик — родилась и закрепилась за каждым из них. Джимми и Бад носили ее до тех пор, пока не покинули город, а Сэсу, который рано женился и устроился работать на элеватор, довелось увидеть, как она перешла к обоим его сыновьям. К тому времени никто уже не помнил о ее происхождении.
Обида, нанесенная капитану Тервиту, осталась тайной.
Каждый из троицы ждал какого-то напоминания — праведно обиженного или осуждающего взгляда, когда им в следующий раз по пути в школу пришлось переходить через дорогу под его поднятой рукой. Но он поднял руку, затянутую в перчатку, благородную и клоунскую белую руку, невозмутимо и доброжелательно, как всегда. Он дал добро.
Дальше…
II. Остановка сердца
«Гломерулонефрит», — записала Инид в блокнот. Такое она видела впервые. Беда в том, что почки миссис Куин отказывали, и ничего нельзя было с этим поделать. Ее почки ссыхались и превращались в твердые и бесполезные зернистые комочки. Моча ее теперь была скудной и мутной, а запах, исходивший изо рта и источаемый кожей, — едким и зловещим. Имелся и другой, едва уловимый запах, как от гниющих фруктов, который Инид связывала с бледными лиловато-бурыми пятнами, возникающими на теле миссис Куин. Ноги ее судорожно дергались от внезапной боли, а кожа неистово зудела, и Инид приходилось обкладывать пациентку льдом. Она заворачивала лед в полотенца и прижимала сверток к саднящим местам.
— И вот как вообще можно подцепить такую болячку? — недоумевала золовка миссис Куин.
Золовка звалась миссис Грин. Олив Грин. (По ее словам, ей и в голову не приходило, как это может звучать, но стоило ей выйти замуж, и внезапно все стали смеяться над этим «оливково-зеленым» сочетанием имени и фамилии.) Она жила на ферме в нескольких милях отсюда по шоссе и приезжала каждые два-три дня, чтобы забрать в стирку простыни, полотенца и ночные рубашки. Детское белье она тоже стирала, возвращая все вещи чистыми, свежевыглаженными и аккуратно сложенными. Она отутюживала даже ленточки на рубашках. Инид была ей признательна — порой, на других работах, ей приходилось самой стирать белье, а то и хуже — нагружать этим маму, и мама еще и оплачивала пересылку белья в город. Не желая никого обидеть и в то же время чувствуя, куда ветер дует, Инид ответила:
— Трудно сказать.
— А то ведь всякое говорят, — продолжала миссис Грин. — Говорят, что это случается от каких-то женских таблеток. Они их принимают, если вдруг задержка, например. Так вот если они их пьют с благими намерениями и так, как доктор говорит, то все хорошо, но если принять слишком много и с дурной целью, то почки могут отказать. Я права?
— Я никогда не сталкивалась с такими случаями, — сказала Инид.
Миссис Грин была рослая, крепкая женщина. Как и у ее брата Руперта, мужа миссис Куин, у нее было круглое, курносое лицо с симпатичными морщинками — такие лица мама Инид величала «ирландской картошкой». Но под добродушным выражением лица Руперта таились настороженность и скрытность. А у миссис Грин — неутолимая жажда. Инид не знала, чего именно. К самой простенькой беседе миссис Грин предъявляла огромные требования. Может, это была просто жажда новостей. Новостей о чем-то важном. О каком-нибудь событии.
Конечно, событие приближалось, и очень важное, по крайней мере для этой семьи. Миссис Куин умирала в возрасте двадцати семи лет. (Этот возраст назвала сама миссис Куин, Инид дала бы ей на несколько лет больше, но, когда болезнь заходит так далеко, угадать очень трудно.) Как только почки совсем откажут, сердце ее остановится, и она умрет. Доктор сказал Инид:
— Это продлится все лето. Но есть вероятность, что вы получите своеобразный отпуск еще до того, как спадет жара.
— Руперт встретил ее, когда поехал на север, — сказала миссис Грин, — уехал один, трудился там на лесозаготовках. А она работала в гостинице. Не знаю кем. Горничной, что ли. Хотя это не родные ей места были, она говорит, что выросла в приюте в Монреале. Она не виновата. Можно было предположить, что она говорит по-французски, но даже если и так, она не подавала виду.
— Интересная жизнь, — отозвалась Инид.
— И не говорите.
— И все же я скажу. Интересная.
Иногда она ничего с собой не могла поделать и пыталась шутить даже тогда, когда мало надежды, что шутка сработает. Инид ободряюще приподняла брови, и миссис Грин все-таки улыбнулась.
Но было ли ей больно? Точно так же улыбался Руперт, еще старшеклассником, упреждая вероятные издевки.
— До этого у него никогда не было девушки, — сказала миссис Грин.
Инид училась с Рупертом в одном классе, хотя и не сказала об этом миссис Грин. Ей было немного совестно, потому что он был одним из тех мальчиков, кого они с подружками травили и третировали, причем он был их главной жертвой. Они называли это «задать жару». И уж они задавали жару бедняге Руперту, преследуя его на улице по пятам и окликая: «Эй, Руперд, привет! Привет, Ру-перд!», доводили его до белого каления и смотрели, как багровеет его затылок. «У Руперда пурпурная лихорадка, — говорили они. — Руперд, а Руперд! Тебя надо поместить в карантин». А еще девчонки делали вид, что одна из них — Инид, Джоан Маккалиф или Мэриан Денни — запала на него. «У нее к тебе разговор, Руперт. Почему ты никогда ее не позовешь погулять? Ты бы хоть позвонил ей, что ли? Она до смерти хочет с тобой пообщаться!»
Они не слишком рассчитывали, что он клюнет на эту жалостливую увертюру. Но что за радость, если бы он ответил? Он был бы немедленно «отшит» и ославлен на всю школу. Почему? Зачем они с ним так обращались, почему так жаждали его унизить? Просто потому, что могли.
Вряд ли он об этом забыл. Но он вел себя с Инид как с новой знакомой, сиделкой его жены, пришедшей в его дом откуда угодно. И Инид поняла его намек.
Удивительно, но в этом доме все было устроено так, чтобы избавить ее от лишней работы. Руперт ночевал у миссис Грин и питался там же. Две маленькие девочки тоже могли бы жить у тетки, но тогда пришлось бы перевести их в другую школу, а ведь до летних каникул оставался всего какой-то месяц. Вечерами Руперт приходил домой, чтобы пообщаться с детьми.
— Вы были хорошими девочками? — спрашивал он.
— Покажите папе, что вы построили из кубиков, — говорила Инид. — Покажите папе, какие вы картинки разрисовали в раскрасках.
Кубики, мелки, раскраски — все это подарила девочкам Инид. Она позвонила своей маме и попросила поискать что-нибудь в старых сундуках. Мама так и сделала и привезла еще пожертвованные кем-то старые наборы картонных кукол и обширные коллекции бумажных одежек для «принцессы Елизаветы» и «принцессы Маргарет Роуз». Инид не удалось добиться от малявок слова «спасибо», пока она не поставила все на верхнюю полку и не объявила, что все вещички останутся там, пока девочки не скажут «волшебное слово». Лоис и Сильви было семь и шесть лет соответственно, и росли они дикими, как сельские котята.
Руперт не спрашивал, откуда взялись все эти игрушки. Он велел дочкам слушаться и спрашивал Инид, не нужно ли ей что-то привезти из города. Как-то раз она сказала, что заменила лампочку на лестнице, ведущей в подвал, и нужно купить еще лампочек про запас.
— Я бы сам заменил, — сказал он.
— Я умею справляться с лампочками, — сказала Инид, — и даже забивать гвозди. Мы с мамой давно уже обходимся без мужчины в доме.
Она хотела его поддразнить чуточку, по-дружески, но не сработало.
Наконец Руперт спрашивал о жене, и Инид рассказывала, что давление немного снизилось, или что она поела и оставила часть омлета на ужин, или что свертки со льдом, кажется, чуть умерили зуд и она спала поспокойнее. И Руперт говорил, что раз она спит, то он лучше не будет входить к ней. Инид возражала:
— Глупости.
Увидеться с мужем для женщины полезнее, чем вздремнуть. Она вела девочек укладываться в постель, оставив мужа и жену наедине. Но Руперт никогда не задерживался дольше нескольких минут. А когда Инид шла вниз и заходила в гостиную, служившую теперь палатой для больной, чтобы подготовить пациентку к ночи, миссис Куин лежала, откинувшись на подушки, взволнованная, но не сказать чтобы недовольная.
— Не очень-то долго он здесь ошивается, правда? — говорила миссис Куин. — Просто смешно. Ха-ха! Как дела? Ха-ха-ха, нам пора! Почему бы не взять ее и не выкинуть в выгребную яму? Вышвырнуть ее на помойку, как дохлую кошку, ведь так он думает? Так ведь?
— Сомневаюсь, — ответила Инид, неся таз, полотенца, спирт для протирки и детскую присыпку.
— Сомневаюсь, — повторила миссис Куин довольно злобно, но весьма охотно позволила снять с себя рубашку, зачесать волосы назад и подстелить полотенце под бедра.
Инид привыкла к пациентам, которые поднимали шум по поводу своей наготы, даже очень старенькие или больные. «Думаете, я никогда не видела человека, голого ниже пояса? — говорила она им. — Выше пояса, ниже пояса — со временем уже становится совершенно без разницы. Это ведь просто две части, из которых мы состоим, — верхняя и нижняя». Но миссис Куин не стыдилась, она раздвинула ноги и приподнялась, чтобы облегчить Инид работу. Она была маленькая хрупкая женщина, теперь ее фигура обрела причудливую форму: вздувшийся живот, отечные руки и ноги и усохшие, похожие на крохотные мешочки грудки с изюминками сосков.
— Раздулась, как свинья какая-то, — сказала миссис Куин. — Кроме титек. Но от них и раньше-то было мало толку. У меня никогда не было таких больших доек, как у тебя. Тебя не тошнит от моего вида? Небось, обрадуешься, когда я сдохну.
— Кабы так, то меня бы здесь не было, — ответила Инид.
— Скатертью дорожка, — продолжала миссис Куин, — вот что вы все скажете. Скатертью дорожка. Я теперь для него бесполезна, правда же? И для любого мужчины. Уходит каждую ночь, чтобы подцепить какую-нибудь девку, да?
— Насколько я знаю, он идет к сестре домой.
— Насколько ты знаешь… Да что ты можешь знать-то?
Инид подумала, что знает, откуда эта злоба и яд, эта энергия, накопленная для разглагольствований. Миссис Куин рыскала в поисках врага. Больные люди со временем начинают все сильнее возмущаться здоровыми, и иногда это происходит с мужьями и женами и даже с матерями и детьми. В случае миссис Куин — и муж, и дочки. Утром в субботу Инид позвала девочек, игравших под крыльцом, чтобы они посмотрели, какая мамочка хорошенькая. Миссис Куин, только-только после утреннего умывания, лежала в чистой ночнушке, ее тонкие, редкие светлые волосы были зачесаны назад и завязаны синей лентой. (Инид вооружилась этими лентами, когда стала работать сиделкой у больных женщин, а еще она припасла бутылку одеколона и кусок душистого мыла.) Она выглядела хорошенькой, или, во всяком случае, можно было заметить, что когда-то она была очень миловидной: высокий лоб, точеные скулы (теперь они едва не протыкали кожу, словно китайские дверные ручки), огромные зеленоватые глаза, а еще прозрачные, как у ребенка, зубы и маленький упрямый подбородок.
Дети вошли в комнату послушно, но без малейшего энтузиазма.
Миссис Куин сказала:
— Убери их от моей кровати. Они грязнули.
— Они просто хотели с вами повидаться, — сказала Инид.
— Ну повидались, — сказала миссис Куин, — а теперь пусть уходят.
Такое обращение, похоже, детей ничуть не удивило и не смутило. Они посмотрели на Инид, и та сказала:
— Ну ладно, теперь вашей мамочке пора отдохнуть.
И девочки убежали, хлопнув кухонной дверью.
— Не могла бы ты запретить им это делать? — сказала миссис Куин. — Каждый раз мне будто кирпич бросают на грудь.
Можно было подумать, что две ее собственные дочери — это пара шумных сирот, которых она из милости приютила на неопределенное время. Но именно так вели себя некоторые люди, прежде чем погрузиться в умирание, а иногда и до самого смертного часа. И даже человек более мягкий по натуре — казалось бы, — чем миссис Куин, мог начать рассказывать, как сильно ненавидят его/ее собственные братья, сестры, мужья, жены, дети и как все они обрадуются его/ее смерти. И это на исходе мирной, полной радостей жизни среди любящей семьи, без малейшего повода для подобных истерик. Обычно эти истерики проходят. Но зачастую последние недели и даже дни своей жизни больные обмусоливают старые распри и обиды или хнычут о том, как несправедливо их наказали семьдесят лет назад. Как-то раз одна женщина попросила Инид принести ей из буфета фарфоровое блюдо с синим китайским узором. Инид решила, что больная просто хочет напоследок полюбоваться красивой вещицей, но оказалось, она захотела истратить оставшиеся силы — и откуда только взялись? — на то, чтобы вдребезги разбить блюдо о стойку кровати.
— Ну вот, теперь я знаю, что сестрицыны лапки его не загребут, — сказала больная.
А еще люди часто ворчали, что родня навещает их, чтобы только позлорадствовать, и что это доктора виноваты в их страданиях. Не переносили одного вида Инид за ее бессонную выносливость, за терпеливые руки и за то, как восхитительно уравновешенно струятся внутри нее жизненные соки. Инид к этому привыкла и была способна понять, в какой беде оказались эти люди, как тяжко им умирать и что тяжесть доживания порой заслоняет даже саму смерть.
Но с миссис Куин она растерялась.
Вовсе не потому, что не могла обеспечить ей комфорт. А потому, что не могла себя заставить. Инид не могла побороть отвращение к этой обреченной и несчастной молодой женщине. К этому телу, которое ей приходится обмывать, обрабатывать присыпкой, утешать ледяными и спиртовыми компрессами. Теперь она понимала, что люди имеют в виду, когда говорят, что ненавидят болезнь и больные тела, понимала женщину, сказавшую ей однажды: «Просто не представляю, как вы можете этим заниматься. Я никогда не стала бы медсестрой, это единственное, чего я никогда бы не смогла делать». Она не выносила именно это тело, все очевидные проявления его болезни. Этот запах, эти пятна, эти заморенные соски и эти жалкие беличьи зубы. Во всем этом она видела печать злонамеренной порчи. Она была ничуть не лучше миссис Грин, вынюхивающей разгул скверны. Несмотря на то, что она медсестра и знает куда больше, и несмотря на то, что ее профессии — и, конечно, ей самой — свойственно сочувствие. Инид не знала, почему так произошло. Миссис Куин чем-то напомнила девчонок, знакомых ей по старшей школе: бедно одетые, болезненного вида девочки с весьма безотрадным будущим, которые тем не менее демонстрировали суровое довольство собой. Выдерживали они год-два, потом беременели, большинство выскакивали замуж. Инид приходилось ухаживать за ними в более поздние годы, помогая в домашних родах, и оказывалось, что их самоуверенность иссякла, дерзость сменилась кротостью или даже набожностью. Ей было жаль их, хотя она и помнила, как непреклонно они добивались такой жизни.
Миссис Куин была случаем наитяжелейшим. Она могла язвить сколько угодно, но не было внутри нее ничего, кроме угрюмых пакостей, ничего, кроме гнили.
Инид чувствовала отвращение, и это было худо, но куда хуже было то, что миссис Куин это знала. Ни терпение, ни доброжелательность, ни жизнелюбие Инид, призванные ею на помощь, не смогли помешать миссис Куин знать. И это знание стало для миссис Куин триумфом.
Скатертью дорожка.
Когда Инид было двадцать лет и она почти закончила курсы медсестер, ее отец умирал в больнице Уоллея. Тогда-то он сказал ей:
— Не нравится мне профессия, которую ты выбрала. Я не хочу, чтобы ты работала в таком месте, как это.
Инид наклонилась к нему и спросила, где, по его мнению, он находится.
— Это же просто больница Уоллея, — сказала она.
— Я знаю, — ответил отец спокойно и рассудительно, как всегда (он работал страховым агентом по недвижимости). — Я знаю, о чем говорю. Обещай мне, что ты не будешь.
— Не буду — что?
— Не будешь заниматься такой работой, — сказал отец.
Она не смогла добиться от него никаких объяснений. Он только поджимал губы, как будто ее вопросы вызывали у него омерзение. Он только просил:
— Пообещай.
— Что все это значит? — спросила она у матери, и та сказала:
— Ох, ну давай. Давай, пообещай ему. Какая теперь-то уж разница?
Инид подумала, что мать говорит ужасные вещи, но ничего не сказала вслух. Таков уж был у матери взгляд на очень многое в жизни.
— Я не собираюсь обещать то, чего не понимаю, — сказала Инид. — Я, наверное, вообще ничего не стану обещать. Но если ты знаешь, о чем он, то должна мне рассказать.
— Это просто его сиюминутная идея, — сказала мать. — Ему кажется, что работа медсестры огрубляет женщину.
Инид повторила:
— Огрубляет?
Мать сказала, что отец не может смириться, что медсестрам постоянно приходится иметь дело с голыми мужскими телами. Он думает — он так решил, — что это может изменить девушку и, даже более того, изменить отношение мужчин к ней. Это может лишить ее хорошего шанса, предоставив множество других — вовсе не таких уже хороших. Одни мужчины утратят к ней интерес, зато у других он появится — и в извращенной форме.
— Думаю, у него это смешалось с желанием выдать тебя замуж, — сказала мать.
— Очень плохо, если так, — сказала Инид.
И все-таки в конце концов дала обещание.
— Надеюсь, ты счастлива.
Не «он счастлив», а именно «ты счастлива». Видимо, мать знала, знала задолго до Инид, насколько соблазнительным может быть подобное обещание. Обещание, данное у смертного одра, самоотречение, всеобъемлющая жертвенность. И чем больше абсурда, тем лучше. Вот чему она подчинилась. И не ради любви к отцу (как думала мать), а ради острых ощущений от содеянного. Благородная порочность чистейшей воды.
— Если бы он попросил тебя отказаться от чего-то не настолько важного для тебя, ты бы, наверное, ответила, что, мол, ничего не можешь поделать, — сказала мать. — Попроси он тебя не пользоваться губной помадой, ты бы до сих пор губы мазала.
Инид слушала ее с терпеливым выражением на лице.
— Небось, молилась об этом? — едко спросила мать.
— Да, — ответила Инид.
Она ушла из школы медсестер, сидела дома и хлопотала по хозяйству. Денег было достаточно, чтобы она могла не работать. На самом деле именно мать с самого начала не хотела, чтобы Инид шла в медсестры, утверждала, что этим занимаются только бедные девушки, родители которых не в состоянии их содержать или отправить учиться в колледж. Инид не стала напоминать об этой ее непоследовательности. Она красила забор, она укутывала на зиму розовые кусты. Она училась ездить на велосипеде, играть в бридж, заняв отцовское место в еженедельной игре матери с соседями — мистером и миссис Уилленс. Совсем скоро она стала, по выражению мистера Уилленса, «возмутительно хорошо играть». И сам мистер Уилленс принялся то шоколадными конфетами, то розовыми розами восполнять свою несостоятельность в качестве партнера.
Зимними вечерами Инид ходила на каток. Она играла в бадминтон. У нее и раньше не было недостатка в друзьях, не было его и теперь. Большая часть тех, с кем она училась в выпускном классе, теперь уже заканчивали колледж или уехали, работали где-то учителями, медсестрами или бухгалтерами. Но она сошлась с другими — с теми, кто оставил школу раньше ее, чтобы работать в банках, в магазинах или конторах, чтобы стать водопроводчиками или модистками. Девушки в эту компанию «слетались как мухи на мед», как они сами говорили друг о дружке, увязая в матримониальной деятельности. Инид без устали устраивала девичники и помогала во время «чаев с приданым». Через пару лет пошли крестины, куда Инид звали в качестве любимой крестной. Детишки, вовсе не состоявшие с ней в родстве, стали величать ее тетей. И она уже считалась кем-то вроде «почетной дочери» для женщин возраста ее матери и старше, единственной молодой девушкой, посещавшей Клуб книголюбов и Общество садоводов-огородников. Так, быстро и незаметно, несмотря на юный возраст, она отхватила эту важную, центральную, хотя и обособленную, роль.
Но на самом деле эта роль всегда принадлежала ей. В школе Инид всегда была секретарем класса или общественным уполномоченным. Она была популярной, веселой, хорошо одетой и миловидной, но чуточку отстраненной. У нее были друзья-юноши, но ни одного кавалера. Казалось, она еще не сделала свой выбор в этом смысле, но это ее не беспокоило. Она была поглощена своими амбициями, сначала — стать миссионером, этот период уже стыдно вспомнить, а потом — стать медсестрой. Инид никогда не считала, что работа медсестры — это лишь способ скоротать время до замужества. Она надеялась стать хорошей, творить добро, и не обязательно предсказуемым, привычным образом, подобающим чьей-то жене.
* * *
На Новый год Инид пошла на танцы в городскую управу. Мужчина, приглашавший ее чаще всего, проводивший ее до дома и пожавший ей руку на прощанье, работал управляющим на молокозаводе. Закоренелый холостяк лет сорока с гаком, чудесный танцор, отзывчивый друг девушек, которым не светит найти партнера. Ни одна женщина не принимала его всерьез.
— Тебе бы на бизнес-курсы устроиться, — сказала мать. — И вообще, может, поступишь в колледж?
И мысленно, конечно, прибавила: «Где мужчины куда лучше способны тебя оценить».
— Старовата я для колледжа, — ответила Инид.
А мать рассмеялась.
— Это только доказывает, насколько ты еще юна, — сказала она.
Похоже, она испытала облегчение, когда дочка обнаружила глупость, естественную в ее возрасте, считая, что между двадцатью одним и восемнадцатью — беспроглядная даль.
— Я имею в виду, что не собираюсь кучковаться с детишками только со школьной скамьи, — сказала Инид. — И вообще, почему тебе так приспичило от меня избавиться? Мне и здесь хорошо.
Эта угрюмость и резкость, казалось, должны были порадовать и ободрить мать, но минуту спустя та вздохнула и сказала:
— Ты удивишься, до чего быстро летят годы.
В августе грянули в одночасье эпидемия кори и несколько вспышек полиомиелита. Доктор, который лечил ее отца и обратил внимание на ее компетентность в больничных делах, спросил, не согласится ли она помочь и некоторое время поухаживать за больными на дому. Инид сказала, что подумает.
— Ты хотела сказать, что помолишься? — спросила мать, и на лице Инид появилось упрямое, скрытное выражение, которое у других девушек возникает, едва речь заходит о свидании с парнем.
— А то обещание, — спросила она мать на следующий день, — оно ведь касалось работы в больнице, правда?
Мать сказала, что да, она это так поняла.
— И окончания курсов и получения диплома медсестры, так ведь?
Да и да.
Значит, если люди нуждаются в медицинском уходе на дому — кто не может позволить себе лежать в больнице или не хочет туда ложиться, — а Инид будет ухаживать за ними не как дипломированная медсестра, а в качестве так называемой практикующей сиделки, то вряд ли это будет считаться нарушением обещания, ведь правда? И раз большинство нуждающихся в ее уходе будут дети и женщины с младенцами или умирающие старики, то опасность заслужить проклятие не слишком велика, так ведь?
— Если те мужчины, за которыми ты будешь ухаживать, больше никогда не встанут с постели, то думаю, может, ты и права, — сказала мать.
Но она при этом не смогла не прибавить, что все это значит: Инид решила отказаться от возможности получить достойную работу в больнице, чтобы надрываться на жалкой работенке в жалких примитивных домишках за жалкие гроши. И ей придется набирать воду из грязных колодцев, колоть лед в зимних умывальниках, сражаться с полчищами мух и пользоваться туалетом во дворе, стиральными досками и керосиновыми лампами вместо стиральных машин и электричества. Придется ухаживать за больными в таких условиях да еще выполнять работу по дому и присматривать за бедняцкими шалопаями-детьми.
— Но если это — цель твоей жизни, — сказала она, — то я понимаю, что чем страшнее картину я тебе нарисую, тем прочнее ты утвердишься в своих намерениях. Прошу тебя лишь о двух вещах. Пообещай мне всегда пить только кипяченую воду и не выходить замуж за фермера.
— Что за безумные идеи, — сказала Инид.
Было это шестнадцать лет назад. И первые годы народ становился все беднее и беднее. И все больше появлялось тех, кто не мог себе позволить лечиться в больнице, а домá, где Инид пришлось работать, были почти такими, как описывала ее мать. Простыни и пеленки приходилось стирать вручную там, где стиральная машина сломалась и не на что было ее починить, или где отключили электричество, или где электричества отродясь не было. Инид не работала бесплатно — так было бы нечестно по отношению к другим сиделкам, которые зарабатывали этим на жизнь. Но большую часть денег она возвращала в виде детской обуви, зимних курточек, походов к зубному врачу или рождественских подарков.
Мама Инид обходила дома подруг в поисках старых детских кроваток, стульчиков для кормления, одеял и изношенных простыней, которые она сама рвала на подгузники. Все говорили, что такой дочкой нельзя не гордиться, и она отвечала, что, конечно, она ею гордится.
— Но порой это просто какая-то чертова уйма работы, — говорила она. — Быть матерью святой.
А потом грянула война, резко сократилось число докторов и медсестер, и Инид стала просто-таки нарасхват. Нарасхват она была и сразу после войны, когда рождалось множество младенцев. И только сейчас, когда больницу расширили, а многие фермы процветали, похоже, что ее обязанности сократились, она ухаживала только за теми, кто находился в безнадежном или патологическом состоянии, или за теми, кто был так неистребимо капризен, что больница от них просто избавлялась.
* * *
В это лето каждые несколько дней шли сильные ливни, а потом появлялось жаркое солнце, сверкавшее на мокрой листве и траве. Ранние утра были туманны — здесь, почти у самой реки, — и даже когда туман рассеивался, видимость во всех направлениях не очень прояснялась из-за летнего полноводия и густой растительности. Могучие деревья и кусты оплетал дикий виноград, опутывал плющ, а вокруг стеной высились посевы кукурузы, ячменя, пшеницы и стояли стога сена. Травы уже в июне были готовы к покосу, и Руперту пришлось торопиться, чтобы собрать сено в амбары, прежде чем дожди его погубят. Он приходил домой все позже и позже, вынужденный трудиться дотемна. Однажды вечером он вернулся и увидел, что дом погружен во мрак, только свечка горит на кухонном столе.
Инид поскорее отбросила крючок на сетчатой двери.
— Нет напряжения? — спросил Руперт.
— Ш-ш-ш, — ответила Инид.
Шепотом она объяснила ему, что позволила детям спать внизу, потому что в комнатах наверху невыносимая жара. Она сдвинула кресла и соорудила им постели из стеганых одеял и подушек. И разумеется, ей пришлось выключить все лампы, чтобы они уснули. Она нашла в одном из ящиков свечу, и этого ей хватает, чтобы делать записи в блокноте.
— Они навсегда запомнят, как спали здесь, — сказала она. — Всю жизнь ты помнишь, как в детстве спал в каком-то непривычном месте.
Руперт поставил на пол коробку с потолочным вентилятором для комнаты больной. Специально ездил в Уоллей купить его. Еще он купил газету и теперь протянул ее Инид.
— Подумал, тебе захочется знать, что в мире происходит, — сказал он.
Она развернула газету на столе рядом с блокнотом. Там была фотография двух собак, плещущихся в фонтане.
— Пишут, жара в этом году аномальная, — сказала она. — Как мило, что они нам сообщили.
Руперт осторожно извлекал вентилятор из коробки.
— Прекрасно, — сказала Инид. — Сейчас чуть попрохладней стало, но завтра ей будет так хорошо с ним.
— Встану с утра пораньше, чтобы его повесить, — сказал он, а потом спросил, как его жена провела день.
Инид сообщила, что боли в ногах стали утихать, а новые таблетки, назначенные доктором, похоже, приносят ей некоторое облегчение.
— Единственное — она засыпает рано, — сказала Инид. — И не может дождаться твоего прихода.
— Пусть лучше отдыхает, — сказал Руперт.
Этот разговор шепотом напомнил Инид их разговоры, когда они оба учились в выпускном классе, а прежние подколки и жестокие заигрывания давно остались в прошлом. Весь этот последний год Руперт сидел за партой позади нее, и они часто обменивались короткими репликами, всегда по какой-то сиюминутной надобности. У тебя есть стиралка для чернил? Как правильно: «изобличать» или «изоблечать»? Тирренское море — это где? Обычно заговаривала Инид, сидя на стуле вполоборота и скорее чувствуя, чем видя, насколько Руперт близко. Ей действительно нужна была стиралка, и она на самом деле нуждалась в некоторой информации, но еще ей хотелось наладить отношения. И как-то загладить вину: Инид стыдилась того, как они с подружками издевались над Рупертом. Извиняться теперь было бы так же плохо — он бы только сильнее смутился. Ему легче жилось, когда он просто сидел позади нее и знал, что она не может посмотреть ему в лицо. Если они встречались на улице, он до последнего глядел в другую сторону, а потом бормотал неразборчивое приветствие в ответ на ее звонкое «привет, Руперт!», в котором ему слышался отзвук прежних мучительных интонаций, которые она хотела прогнать. Но когда он тыкал пальцем ей в плечо, привлекая ее внимание, когда наклонялся вперед и почти касался, а может, и действительно касался — она не могла сказать наверняка, — ее жестких волос, непокорных даже в модной укладке «боб», вот тогда она чувствовала, что прощена. И это в некотором смысле ей льстило. К ней относились серьезно, ее уважали.
Где же, где же в самом деле находится это Тирренское море?
Интересно, помнит ли он теперь хоть что-нибудь.
Она разделила верхний и нижний листы газеты. Маргарет Трумэн посетила Англию и сделала реверанс королевской семье. Врач короля пытается лечить болезнь Бюргера, которой страдает его величество, с помощью витамина Е.
Она предложила первую страницу Руперту.
— Посмотрю, что там за кроссворд, — сказала она. — Люблю разгадывать кроссворды, они помогают расслабиться в конце дня.
Руперт сел и начал читать газету, и она спросила, не хочет ли он чашку чая. Разумеется, он попросил ее не беспокоиться, но она взяла и все равно заварила, понимая, что такой ответ — то же самое, что просторечное «да».
— Кроссворд на тему «Южная Америка», — сказала она, глянув в газету. — Латиноамериканский. Один по горизонтали — музыкальный… нос… Музыкальный нос? Нос?.. И куча букв. О, о… мне сегодня везет. Мыс Горн! Ты посмотри, и кто только выдумывает такие глупости? — сказала она и встала, чтобы налить чаю.
А если он все помнит, то затаил ли на нее обиду? Не казалось ли ему то беспечное дружелюбие в выпускном классе настолько же непрошеным, настолько же высокомерным, что и предыдущие насмешки?
Впервые увидев Руперта в этом доме, она подумала, что он не очень-то изменился. Тогда он был рослым, крепким, круглолицым мальчиком, а теперь — рослым, плотным, круглолицым мужчиной. Он всегда так коротко стригся, что почти не было никакой разницы между его тогдашними светло-каштановыми волосами и теперешними серо-каштановыми. На щеках вместо румянца — вечный загар. А на лице — все та же старая забота, все та же проблема: твое место в мире, имя, которым люди тебя называют, кем они считают тебя на самом деле.
Она вспомнила, какими они были в выпускном классе. К тому времени класс был уже невелик — за пять лет нерадивые, легкомысленные и равнодушные отсеялись, остались только эти великовозрастные, серьезные, покладистые детишки, зубрившие тригонометрию, учившие латынь. Как они представляли себе ту жизнь, к которой они так старательно готовились? Какими людьми они собирались стать?
Перед глазами возникла книга в темно-зеленом переплете под названием «История Возрождения и Реформации». Из вторых рук, а то и из десятых — новые учебники никто никогда не покупал. Внутри были подписаны имена всех предыдущих владельцев, некоторые из них принадлежали местным домохозяйкам средних лет или городским торговцам. Невозможно было представить себе, как они заучивают параграфы или как подчеркивают красным «Нантский эдикт» и отмечают «NB!» на полях.
Нантский эдикт… Бесполезность, экзотика всего, чем была напичкана эта книга и чем набивали головы все предыдущие ученики, и она, и Руперт, вызывали в душе у Инид чувство нежности и удивления. Ведь не может быть, чтобы они действительно собирались стать теми, кем не стали? Ничего подобного! Руперт и не мыслил себе ничего иного, кроме хозяйствования на этой ферме. Это отличная ферма, а он — единственный сын у родителей. Да и она сама в итоге занимается именно тем, чем всегда хотела. Нельзя сказать, что они выбрали неверный путь в жизни или выбрали его против своей воли. Просто они не осознавали, как время пролетело, а они не стали лучше, чем были когда-то, а может, даже стали чуточку хуже.
— «Хлеб Амазонки», — прочитала она.
— «Хлеб амазонки»? — переспросил Руперт. — Маниок?
Инид посчитала.
— Семь букв, — сказала она. — Семь.
— Кассава? — предложил он.
— Кассава? С двумя «с»? Кассава.
Миссис Куин с каждым днем становилась все привередливее в еде. То скажет, что хочет тост, то бананов в молоке. Как-то захотелось ей печенья с арахисовым маслом. Инид готовила все эти блюда, дети все равно съедали их с удовольствием, но когда подавала их миссис Куин, та говорила, что не выносит их вида или запаха. Даже желе пахло для нее невыносимо.
Иногда ее раздражали все звуки, даже звук вентилятора, и она просила его не включать. А в другие дни она хотела, чтобы радио всегда работало на волне, где передавали поздравления с именинами, годовщинами и устраивали для слушателей викторины по телефону. Если ты правильно ответил на вопрос, то мог выиграть поездку на Ниагарский водопад, полный бак бензина, кучу каких-нибудь нужных товаров или билеты в кино.
— Это все обман, — говорила миссис Куин. — Они просто притворяются, что кому-то звонят, просто сидит кто-то в соседней комнате с готовыми ответами. У меня был раньше знакомый, который работал на радио, так оно и есть.
В такие дни пульс у нее учащался. Она говорила очень быстро, лепетала прозрачным, бездыханным голосом.
— Какая у твоей матери машина? — спрашивала она.
— Бордового цвета.
— А какой марки? — интересовалась миссис Куин.
Инид отвечала, что не знает, и это была правда. Знала когда-то, но забыла.
— Она была новой, когда ее купили?
— Да, — сказала Инид. — Да, но прошло уже три или четыре года с тех пор.
— Твоя мать живет в большом каменном доме по соседству с Уилленсами?
— Да.
— А сколько в нем комнат? Шестнадцать?
— Слишком много.
— Ты ходила на похороны мистера Уилленса, когда тот утонул?
Инид покачала головой:
— Я не любитель похорон.
— Я должна была пойти. Тогда я себя лучше чувствовала. Собиралась поехать с Хервеями, они обещали подвезти меня по шоссе, а потом ее мать захотела поехать и сестра, и на заднем сиденье не хватило места. Потом еще Клайв и Олив ехали на грузовике, и я могла бы втиснуться к ним на переднее сиденье, но они не догадались меня позвать. Думаешь, он сам утонул?
Инид представила мистера Уилленса, преподносящего ей розу. От его шуточной галантности у нее сводило зубы почище, чем от избытка сладостей.
— Не знаю. Думаю, что нет.
— А у них с миссис Уилленс было все в порядке?
— Прекрасно, насколько я знаю.
— О, да неужели? — сказала миссис Куин, пытаясь копировать сдержанную интонацию Инид. — Пре-кра-а-ас-но.
Инид ночевала на кушетке в комнате миссис Куин. Изматывающий зуд почти оставил миссис Куин, и почти исчезла нужда в мочеиспускании. Большую часть ночи больная спала, но у нее случались приступы резкой, ожесточенной одышки. Припадки эти будили Инид, и теперь уже она сама не могла уснуть. Ей начали сниться дурные сны. Совсем не такие, как раньше. Прежде она думала, что кошмар — это когда снится, что ты в незнакомом доме, где комнаты все время меняются, и всегда работы больше, чем ты в состоянии выполнить, и сделанная работа тут же оборачивается несделанной, и тревогам нет конца и края. Конечно же, ей и тогда снились сны, которые она считала романтическими. В этих снах какой-то мужчина обнимал ее — или даже она сама его обнимала. Это мог быть незнакомец или знакомый, иногда тот, кого смешно даже представить в подобной ситуации. Эти сны навевали задумчивость или легкую грусть и приносили некоторое облегчение: хорошо было знать, что все-таки ей не чужды подобные чувства. Те сны, может, и были неприличными, но не шли ни в какое, ни в малейшее сравнение с теми, что она видела сейчас. В теперешних снах она совокуплялась или пыталась совокупиться (иногда ее прерывало чье-то вторжение или резкая смена обстоятельств) с абсолютно недопустимыми, запретными, немыслимыми партнерами. С извивающимися толстыми младенцами, с забинтованными пациентами или с собственной матерью. Она истекала похотью, выгибалась и стонала и принималась за дело с грубостью и злобным прагматизмом. «Да! Вот что мы должны сделать, — говорила она сама себе. — Вот что мы сделаем, раз ничего лучшего не попадается». И это хладнокровие, эта безразличная порочность только сильнее раззадоривали в ней вожделение. Она просыпалась нераскаявшейся, вся в поту, в изнеможении и лежала, словно каркас поверх самой себя, поверх стыда и недоумения, хлынувших в нее обратно. Пот студил кожу. И она лежала в ознобе среди теплой ночи, дрожа от отвращения и унижения. И не осмеливалась снова уснуть. Она свыкалась с темнотой, с длинными квадратами окон, занавешенных тюлем. И с дыханием больной — скрежещущим, сварливым, а потом почти совсем исчезающим.
Будь она католичкой, думала Инид, стоило бы ей пойти и исповедоваться в своих снах? О таком она не решилась бы заикнуться даже в молитве. Она не слишком часто молилась теперь, разве что чисто формально, да и привлекать внимание Господа к только что пережитому ею казалось абсолютно никчемной идеей — что за неуважение к Богу. Это оскорбило бы его. Она сама была оскорблена собственным подсознанием. Ее вера в Бога была оптимистической и рассудительной, в этой вере не было места вздорным драмам, вроде козней дьявола, проникшего в ее сон. Скверна, как она думала, содержалась в ней самой, и нет никаких причин драматизировать ее или придавать ей важность. Конечно, это все пустое. Это просто замусоренное сознание, и только.
На лужке между домом и берегом реки паслись коровы. Инид слышала, как они жевали и толкались во время ночной кормежки. Она воображала себе их крупные мягкие бока среди лютиков, цикория и цветущего разнотравья и думала: «До чего замечательная жизнь у этих коров».
Конечно, жизнь эта завершается на бойне. Конец — это катастрофа.
Впрочем, как и для всех. Зло заграбастывает нас, когда мы спим. Боль и распад подстерегают нас. Животный ужас, худшее из всего, что только можно себе представить. И покой постели, и утешительное дыхание коров, и узоры звезд на ночном небе — все это может вмиг перевернуться вверх тормашками. И вот она, вот она, Инид, ничего не видит в этой жизни, кроме работы, и притворяется, что это не так. Пытается облегчить людские страдания. Пытается быть хорошей. «Ангелом милосердия», как говорила мама, и со временем ирония в ее словах почти иссякла. Пациенты и врачи тоже называли ее ангелом милосердия.
А сколько людей все это время считали ее просто дурой? Люди, на которых она трудилась, втайне презирали ее. Думая о том, что никогда бы не делали этого на ее месте. Они не такие дураки. Нет уж.
«Жалкие грешники, — вдруг подумалось ей. — Жалкие грешники. Ниспошли им искупление».
Так что она встала и принялась за работу, для нее это был лучший способ искупления грехов. Трудилась она очень спокойно, но планомерно, всю ночь отмывала захватанные стаканы и липкие тарелки, стоявшие в буфетах, и наводила порядок там, где его вообще не было. Никакого. Чашки стояли вперемежку с кетчупом, горчицей, а туалетная бумага лежала на ведерке с медом. На полках не то что вощеной бумаги — даже газетки не постелено. Коричневый сахар в пакете затвердел как камень. Понятно, что все пошло под откос последние месяцы, но выглядело все так, будто дом отродясь не знал ни порядка, ни ухода. Все занавески посерели от дыма, оконные рамы засалены. Недоеденный джем на дне банки покрылся пушком плесени, отвратно воняющую воду, в которой когда-то стоял доисторический букет, так никто и не удосужился вылить из вазы. Но все же это был добротный дом, который можно выскоблить и покрасить заново. Но что ты поделаешь с уродливой бурой краской, которой недавно так неряшливо вымазали пол гостиной?
Позже, когда у нее выдалась свободная минута, Инид прополола цветочные клумбы, разбитые еще матерью Руперта, выдернула сорняки, выкопала лопухи и пырей, душившие горстку отважных многолетников.
Она научила детей правильно держать ложку и читать благодарственный стишок:
Спасибо, Господь, что мы есть на земле, Спасибо за пищу на нашем столе…Она научила их чистить зубы и молиться перед сном: «Господи, благослови маму и папу, и Инид, и тетю Олив, и дядю Клайва, и принцесс Елизавету и Маргарет Роуз». После этого каждая должна была прибавить имя сестры. Прошло уже довольно времени с тех пор, как они заучили эту молитву, когда Сильви вдруг спросила:
— А что это значит?
— Что значит — что?
— Что значит «Господи-благослови»?
Инид готовила гоголь-моголь, не сдабривая его ничем, даже ванилью, и кормила им миссис Куин с ложечки. Она понемножку давала ей питательный раствор, и миссис Куин была в состоянии удерживать то, что давалось ей в малых количествах. Если же не могла, Инид ложечкой вливала ей в рот некрепкий, чуть подогретый имбирный эль.
Солнечный свет, да и любой свет, как и любой шум, стали к тому времени совершенно невыносимы для миссис Куин. Инид пришлось завесить окна плотными стегаными покрывалами поверх опущенных штор. Поскольку вентилятор, по требованию миссис Куин, не включали, в комнате становилось ужасно жарко, и пот капал со лба Инид, когда она наклонялась над кроватью, ухаживая за больной. У миссис Куин начались приступы озноба, она никак не могла согреться.
— Дело затягивается, — сказал доктор. — Видимо, ваши молочные коктейли поддерживают в ней силы.
— Гоголь-моголь, — уточнила Инид, будто это имело какое-то значение.
Теперь миссис Куин все чаще бывала слишком слаба, чтобы говорить. Порой она лежала в ступоре, дышала неслышно, и пульс ее становился таким незаметным и прерывистым, что человек менее опытный, чем Инид, мог бы принять ее за мертвую.
Но временами она оживлялась, просила включить радио, потом — выключить. Она по-прежнему прекрасно осознавала, кто она такая, кто такая Инид, и иногда казалось, что она наблюдает за Инид не то подозрительно, не то заинтересованно. Краски давно уже сбежали с ее лица, даже губы поблекли, но вот глаза казались еще зеленее, чем прежде, — молочная, туманная зелень. Инид старалась ответить на этот взгляд, преследующий ее по пятам.
— Хотите, я позову священника, он поговорит с вами?
Казалось, миссис Куин сейчас плюнет.
— Я что, похожа на чертову католичку?
— Пастора? — Инид знала, что об этом надо спросить, все правильно, но вот состояние ее души было неправильным — холодным и даже слегка злобным.
Нет. Не этого хотела миссис Куин. Она недовольно хрюкнула. В ней по-прежнему оставались какие-то силы, и у Инид создавалось впечатление, что она копит их ради некой цели.
— Хотите поговорить с детьми? — сказала она, заставляя свой голос звучать сочувственно и ободряюще. — Хотите, да?
— Нет.
— А с мужем? Ваш муж скоро уже придет.
Инид не знала этого наверняка. Руперт иногда приходил так поздно, уже после того, как миссис Куин принимала последние таблетки и засыпала. И тогда он сидел вместе с Инид. Он всегда приносил ей газету. Спросил как-то раз, что она записывает в свои блокноты — он заметил, что их два, — и она рассказала. Один — отчет для врача: кровяное давление, пульс, температура, что ела, была ли рвота, стул, лекарства, принятые за день, некоторые основные показатели состояния больной. В другой блокнот — уже для себя — она записывала почти то же самое, хотя и не так скрупулезно, но добавляла подробности о погоде и о том, что происходило вокруг. И кое-что для памяти.
— Например, вот что я записала на днях: «Что сказала Лоис. Лоис и Сильви пришли домой, когда здесь была миссис Грин, и миссис Грин упомянула о том, как ежевичные кусты разрослись вдоль переулка и вытянулись поперек дороги. И тогда Лоис сказала: „Как в `Спящей красавице`“, — потому что я только что читала им эту сказку». И я это записала.
— Все никак не доберусь до этих кустов, надо бы их обрезать, — сказал Руперт.
Инид показалось, что ему приятно услышать пересказ речей Лоис и еще ему приятно, что Инид их сохранила, записав в книжечку, но сказать об этом он не умел.
Однажды вечером Руперт сообщил Инид, что должен уехать на пару дней на распродажу скота. Он посоветовался с доктором, и доктор дал добро.
В тот вечер он возвратился до того, как больная приняла последние таблетки, и Инид предположила, что он хотел застать жену бодрствующей перед этой недолгой поездкой. Она сказала, что он может идти прямо в комнату миссис Куин, и закрыла за ним дверь. Инид взяла газету и собралась подняться наверх, чтобы почитать, но дети, наверное, еще не спали и обязательно нашли бы предлог зазвать ее к себе. Можно было выйти на крыльцо, но там в это время всегда роились комары, особенно после дождя, как в тот вечер. Она боялась невольно подслушать нечто интимное или некое подобие ссоры, а потом оказаться с ним лицом к лицу, когда он выйдет из комнаты. А в том, что миссис Куин замыслила сцену, она не сомневалась. Но прежде чем решить, куда ей деваться, Инид все-таки кое-что подслушала. Не взаимные упреки, не (если это вообще возможно) ласки и даже не рыдания, хотя она почти ждала их, а смех. Она услышала слабый смех миссис Куин, и в смехе этом звучала издевка и удовлетворение, которые Инид уже слышала раньше, но было в нем еще кое-что, прежде ею не слыханное, ни разу в жизни, — нечто намеренно гадкое, подлое. Следовало уйти, но Инид не могла пошевелиться, она будто приросла к месту да так и сидела за столом, уставившись на дверь комнаты, когда минутой позже он вышел оттуда. Ни он не отвел взгляда, ни она. Она не могла. Правда, она не была уверена, что он ее видит. Он просто посмотрел на нее и вышел на двор. У него был такой вид, будто он схватился за оголенный электрический провод и просит прощения — у кого? — за то, что его тело попало в эту дурацкую передрягу.
Наутро силы миссис Куин стали неожиданно прибывать. Такое обманчивое и неестественное состояние Инид уже видела однажды или дважды у других своих подопечных. Миссис Куин пожелала сесть в подушках. Потребовала включить вентилятор. Инид сказала:
— Прекрасная мысль.
— Я могу рассказать тебе такое, что ты не поверишь, — сказала миссис Куин.
— Люди многое мне говорят, — ответила Инид.
— Конечно. Лгут, — сказала миссис Куин. — Могу поспорить, что все это ложь. А знаешь ли ты, что мистер Уилленс был здесь, в этой самой комнате?
III. Ошибка
Миссис Куин сидела в кресле-качалке, а мистер Уилленс исследовал ее зрение с помощью какого-то прибора, поднеся его к самым ее глазам, и никто из них не слышал, как вошел Руперт, поскольку предполагалось, что Руперт рубит лес у реки. Но он незаметно вернулся. Он проскользнул через кухонную дверь совершенно бесшумно — наверное, заметил машину мистера Уилленса, прежде чем войти, — а потом легонько толкнул дверь комнаты, чтобы увидеть, как мистер Уилленс стоит там на коленях, одной рукой держа какую-то штуку над глазом его жены, а другой ухватившись за ее бедро — для равновесия. Он вцепился ей в бедро, чтобы не упасть, и юбка ее задралась, оголив ногу, но и только, и она ничего не могла с этим поделать, потому что должна была сосредоточиться на том, чтобы сидеть неподвижно.
И вот Руперт входит в комнату так, что никто его не слышит, одним прыжком налетает на мистера Уилленса, молниеносно, так что мистер Уилленс не успевает ни повернуться, ни выпрямиться и оказывается на полу прежде, чем что-то понять. Руперт колотит его головой об пол, Руперт выбивает из него дух, а она вскакивает так быстро, что качалка опрокидывается, и коробка с инструментами мистера Уилленса переворачивается, и все ее содержимое рассыпается по полу. Руперт просто отдубасил его, ну и еще, кажется, сломал ножку стола, она не помнит. Она подумала: «Я следующая». Но не могла обойти их, чтобы выбежать из комнаты. А потом она поняла, что Руперт вовсе не собирается ее трогать. Он выдохся и просто поднял качалку и сел на нее. Она подошла к мистеру Уилленсу и перевернула его, такого тяжеленного, на левый бок. Глаза у него были полуоткрыты, изо рта вытекала струйка. Ни ссадин, ни синяков на лице — может, просто еще не проявились. И жидкость, вытекавшая у него изо рта, даже не очень-то походила на кровь. Что-то розовое, и если хочешь знать, на что это было действительно похоже, так вот она выглядела точнехонько как земляничный сироп, когда варенье варишь. Ярко-розового цвета. Жижа эта размазалась по лицу мистера Уилленса, когда Руперт колотил его об пол. А еще он издал звук, когда она его переворачивала. Бульк-бульк. И все. Бульк-бульк — и замер камнем.
Руперт вскочил с кресла, так что оно продолжило раскачиваться, и принялся подбирать и складывать инструменты мистера Уилленса в ячейки коробки. Каждую вещицу в подходящую ячейку. Нашел на что время терять. Это был специальный футляр, выстланный красным плюшем, с углублениями для каждого предмета, и надо было разложить все по своим местам, чтобы крышка закрылась. Руперт все сложил, крышка поддалась, а потом он снова сел в кресло и стал колотить себя по коленям.
На столе лежала одна из тех скатертей, что, как говорится, ни уму ни сердцу, — сувенир, привезенный отцом и матерью Руперта из поездки на север, куда они отправились поглазеть на пятерняшек Дион[3]. Она содрала скатерть со стола и обернула ею голову мистера Уилленса, чтобы промокнуть розоватую слизь, ну и так им не пришлось больше на него смотреть.
А Руперт все отбивал себе колени разлапистыми ладонями. Она сказала: Руперт, нам надо его зарыть где-нибудь.
Руперт только посмотрел на нее, будто спрашивая: зачем?
Она сказала, что можно закопать его в подвале — там пол земляной.
— Заметано, — сказал Руперт, — а где мы закопаем его машину?
Она сказала, что можно загнать ее в амбар и засыпать сеном. Он сказал, что возле амбара всегда трется слишком много народу.
Тогда она подумала: «Надо его в воду спустить». И представила его в машине под водой. Будто картинку увидела. Сначала Руперт не ответил, так что она пошла на кухню, принесла воды и умыла мистера Уилленса, чтобы он ничего не заляпал. Слизь изо рта больше не сочилась. Она взяла у него из кармана ключи. Сквозь брючину она чувствовала, что его толстая ляжка все еще теплая.
— Пошевеливайся, — сказала она Руперту.
Он взял ключи.
Они подняли мистера Уилленса — она за ноги, а Руперт за голову, — весил покойник целую тонну. Он будто свинцовый был. Но когда она его несла, один его ботинок как будто лягнул ее между ног, и она подумала: «Ах ты ж, опять за свое, черт похотливый!» Даже его старая мертвая нога подбивала к ней клинья. Не то чтобы она ему позволяла, но он всегда норовил облапать ее при случае. Схватить за бедро, задрать юбку, тыча в глаз той своей штуковиной, и она не могла его остановить. И надо же было Руперту незаметно вернуться и все понять неправильно.
Через порог, кухню, крыльцо, вниз по ступеням. Нигде никого. Но день был ветреный, и первым делом ветер сорвал скатерть с лица мистера Уилленса.
Двор от дороги не просматривался — только конек крыши и окно наверху. И машина мистера Уилленса не была видна.
Руперт обдумывал, что делать дальше. Надо его в Ютландию, вода там глубокая, а колея ведет к самой воде, пусть думают, что он просто съехал с дороги и заблудился. Как будто бы свернул человек на Ютландскую дорогу, а может, уже стемнело, и он просто въехал в запруду и даже не понял, куда попал. Просто ошибся как будто бы.
Он ошибся. Мистер Уилленс несомненно допустил ошибку.
Проблема заключалась в том, что нужно было проехать по переулку и по дороге до поворота на Ютландию. Но здесь никто больше не жил, а после поворота на Ютландию дорога вела в тупик, так что всего-то около полумили нужно молиться, чтобы никого не встретить. А потом Руперт пересадит мистера Уилленса на водительское место и столкнет машину прямо с берега в воду. И концы в воду. Работенка предстояла, конечно, тяжелая, но что-что, а он — Руперт — сильный детина. И не будь он таким сильным, не случилось бы всего этого дерьма, в первую голову.
Пришлось повозиться, чтобы машина тронулась с места, потому что Руперт таких никогда не водил, но все получилось, он развернулся и поехал по переулку с мистером Уилленсом, будто бы привалившимся к его плечу. Руперт нахлобучил на голову мистера Уилленса его шляпу. Шляпа лежала на сиденье автомобиля.
Зачем он снял шляпу перед тем, как войти в дом? Не просто из вежливости, нет, а чтобы легче было тискать ее и целовать ее. Если только можно назвать это поцелуями. Прижиматься к ней, не выпуская из рук ящика с инструментами, а потом стискивать бедро и присасываться к ней слюнявым старческим ртом. Засасывать и жевать ее губы и язык и навалиться на нее, чтобы угол ящика воткнулся в нее и впечатался ей пониже спины. Ее застали врасплох, зажали в ловушку, и она не знала, как из нее выбраться. Наваливался на нее, присасываясь и слюнявя ее, и тыкался в нее, в то же время причиняя ей боль. Грязный старый скот.
Она вышла и отцепила скатерть пятерняшек от забора, куда ее сдуло ветром. Она внимательно осмотрела ступени, поискала пятна крови или другую грязь на крыльце и в кухне. Но всего несколько пятен нашлось в гостиной и у нее на туфлях. Она отскребла то, что было на полу, потом сняла и отдраила туфли. И, только отмыв все это, она заметила, что спереди вся в пятнах. Откуда они взялись? И в тот же самый миг, как она их увидела, раздался звук, от которого она приросла к месту. Она услышала шум мотора, мотора незнакомой машины. И машина приближалась по переулку.
Она глянула в окно сквозь тюлевую занавеску: да, так и есть. Машина, с виду новая, темно-зеленая. Испятнанная одежда, босиком и на мокром полу. Она отошла поглубже, где ее не было видно, но не могла придумать, куда бы спрятаться. Машина остановилась, открылась дверца, но мотор продолжал урчать. Она услышала, как дверца захлопнулась, а потом автомобиль развернулся и начал удаляться по переулку. А с крыльца послышались голоса Лоис и Сильви.
Это была машина учительницыного ухажера. Ухажер забирал учительницу из школы каждую пятницу после обеда, а сегодня как раз была пятница. Так что учительница сказала: «Давай подвезем домой этих малявок, они самые маленькие, а идти им дальше всех, и кажется, вот-вот дождь начнется».
Дождь и в самом деле начался. Он начался, когда Руперт возвращался домой вдоль берега реки. Она сказала: «Это хорошо, смоет твои следы, там, где ты столкнул ее в воду». Он сказал, что снял ботинки и ходил там в одних носках. «Значит, ты снова в своем уме», — сказала она.
Вместо того чтобы попытаться отстирать сувенирную скатерть или свою блузку, она решила сжечь их в духовке. Они ужасно воняли, и от смрада ей стало дурно. Это спровоцировало начало ее болезни. И еще краска. После того как она отмыла пол, ей все равно по-прежнему мерещились пятна, так что она взяла коричневую краску, оставшуюся после того, как Руперт покрасил ступеньки, и выкрасила весь пол в комнате. И ее затошнило оттого, что пришлось наклоняться и вдыхать краску. И еще боли в спине — боли начались именно после этого.
Выкрасив пол, она просто перестала заходить в гостиную. Но однажды она подумала, что лучше все же застелить стол какой-нибудь скатертью. Тогда все будет выглядеть почти как обычно. Если бы она этого не сделала, то ее золовка принялась бы шастать вокруг и вынюхивать: «Куда подевалась та скатерть, которую привезли мама с папой, когда ездили посмотреть на пятерняшек?» Зато если она увидит другую скатерть, то скажет только: «О, кажется, тут что-то изменилось». А непокрытый стол смотрится нелепо.
Она взяла скатерть Рупертовой матери, вышитую корзинками с цветами, и принесла ее в гостиную. Запах по-прежнему преследовал ее. И прямо на столе стоял темно-красный ящичек со штуковинами мистера Уилленса и его именем на крышке, так и простоял там все это время. Она не помнила, как поставила его туда или как Руперт его поставил. Напрочь о нем забыла.
Она взяла ящичек и спрятала его в одном месте, потом перепрятала в другое. Она никогда не рассказывала, куда спрятала его, и не собирается рассказывать. Она бы расколотила его вдребезги, но как расколотить вдребезги его содержимое, все эти штуки? Штуки для осмотра. Ну, мадамочка, давайте-ка осмотрим ваши глазки, просто сядем и просто расслабимся, просто закроем один глазик, а другой откроем пошире. Пошире, открывайте, ну же. Каждый раз будто играл в одну и ту же игру, и предполагалось — она ни сном ни духом, что происходит, и когда он доставал то одну вещицу, то другую, чтобы заглянуть ей в глаз, он хотел, чтобы она сохраняла спокойствие, этот грязный старый козел отфыркивался, давал волю своим скользким пальцам и отфыркивался. И ей не полагалось говорить, пока он не остановится и не спрячет свои инструменты в ящик, и тогда ей полагалось спросить: «О, мистер Уилленс, сколько я вам сегодня должна?»
И для него это было сигналом, чтобы он повалил ее и начал долбить, как старый козел. Прямо на голом полу, вколачиваясь в нее вниз-вверх, вниз-вверх, пытаясь вытрясти из нее душу. Шланг у него горячий, как паяльная лампа.
Как бы тебе это понравилось?
А потом в газетах написали: «Мистер Уилленс найден в реке. Он утонул».
Сообщили, что он ударился головой о руль. И что он был еще жив, когда оказался в воде. Смешно!
IV. Ложь
Инид не сомкнула глаз всю ночь — даже не пыталась уснуть. Она не могла лечь в комнате миссис Куин. Сидела в кухне часы напролет. Каждое движение давалось Инид с усилием, было трудно даже заварить чай или пойти в ванную. Стоило пошевелиться — и встряхивалась информация, которую она пыталась уместить в голове, с которой пыталась свыкнуться. Она не разделась, не распустила волосы, а когда чистила зубы, ей казалось, что она совершает нечто трудоемкое и незнакомое. Луна светила сквозь стекло кухонной двери — Инид сидела в потемках и смотрела, как пятно лунного света всю ночь ползет по линолеуму и исчезает. Исчезновение лунного пятна стало для нее неожиданностью, как и последовавшее за этим пробуждение птиц и начало нового дня. Ночь казалась такой долгой, а оказалась такой короткой, потому что к утру ничем не разрешилась.
Инид встала, на негнущихся ногах прошла к двери, отперла замок и села на крыльцо под занимающимся светом. Даже это движение взболтало все ее мысли. Ей пришлось снова рассортировать их, разложив по двум полкам. То, что случилось или якобы случилось, — на одну полку. Что с этим делать — на другую. И вот что же с этим делать, ей никак не удавалось для себя прояснить.
Коров уводили с лужка между домом и берегом. Если бы она захотела, то открыла бы калитку и пошла туда. Инид знала, что должна вернуться и посмотреть, как там миссис Куин. Но руки сами открыли задвижку на калитке.
Коровы не всю траву объели. Росистые стебли ластились к ногам, и чулки тут же промокли насквозь. Тропа была чистой, хотя деревья на самом берегу — большие плакучие ивы и обвивавший их дикий виноград — тянули вниз свои мохнатые обезьяньи руки. Поднимался туман, так что реку было почти не видно. Нужно было напрячь зрение, сконцентрироваться, и тогда пятно воды проглядывало сквозь туман точь-в-точь, как вода в крынке. А ведь здесь должно быть сильное течение, но Инид его не разглядела.
А потом она увидела нечто движущееся, но не по реке. Это двигалась лодка. Привязанная к суку, старая плоскодонка чуть покачивалась на волнах — вверх-вниз, вверх-вниз. Теперь, когда Инид ее нашла, она уже не могла оторвать от нее взгляда, будто ждала, что лодка ей что-то скажет. И она сказала. Кое-что нежное и окончательное.
Ты знаешь. Ты знаешь.
* * *
Когда дети встали, Инид встретила их в прекрасном настроении, умытая, в чистой одежде и с распущенными волосами. Она уже поставила застывать желе с кусочками фруктов — девчонки полакомятся им в полдень. И замешивала тесто для печенья, чтобы испечь его до того, как станет слишком жарко включать духовку.
— Это не вашего отца лодка? — спросила она. — Там, внизу, на реке?
Лоис сказала, что да.
— Но нам нельзя играть в ней. — А потом она сказала: — А вот если бы ты пошла с нами, стало бы можно.
Они мгновенно уловили сегодняшнюю атмосферу вольности, праздничных привилегий, необычное для Инид сочетание истомы и волнения.
— Посмотрим, — сказала Инид.
Она хотела сделать этот день особенным для них, особенным вопреки тому факту — факту, ставшему для нее уже почти очевидным, — что этот день станет днем смерти их матери. Инид хотелось, чтобы в детском сознании задержалось что-то способное скрасить, озарить искупительным светом то, что произойдет позднее. И ее саму, конечно, и то, как она в дальнейшем повлияет на их жизнь.
Тем утром пульс миссис Куин почти не прощупывался, и она не могла, судя по всему, ни поднять голову, ни открыть глаза. Огромная перемена после вчерашнего, но Инид не удивилась ей. Она знала, что тот великий всплеск энергии, те злобные излияния стали последними. Она поднесла ложку с водой к губам миссис Куин, и миссис Куин сделала маленький глоток. Она издала мяукающий стон — последний отзвук всех ее жалоб. Инид не стала звать врача, он все равно собирался прийти в тот день, чуть позже, наверное где-то после полудня.
Инид развела мыльной пены в миске, согнула и отломила кусок проволоки, потом еще один, загнула петельки и сделала инструменты для мыльных пузырей. Показала детям, как выдувать ровненько и осторожно, пока самый огромный и радужный пузырище не задрожит в петле, и как потом мягко стряхнуть его на волю. Они гонялись за пузырями по всему двору и не давали им упасть, пока потоки ветра не подхватывали радужные шары и не развешивали по ветвям деревьев и по карнизу над крыльцом. Казалось, что жизнь этим пузырям продлевают крики восторга, радостные визги, летящие снизу. Инид не усмиряла детей, сколько бы они ни шумели, и, когда мыльный раствор кончился, намешала еще.
Доктор позвонил, когда она подавала детям ланч — желе, блюдо с печеньем, посыпанным цветным сахаром, и по стакану молока с шоколадным сиропом. Он сообщил, что задерживается у ребенка, упавшего с дерева, и придет, наверное, не раньше ужина. Инид мягко сказала:
— Я думаю, она уходит.
— Что ж, сделайте все возможное, чтобы ей было полегче, вы и без меня знаете как, — сказал доктор.
Инид не стала звонить миссис Грин. Она знала, что Руперт не скоро вернется, и не думала, что миссис Куин в минуты просветления, если такие и будут, захочет видеть или слышать свою золовку. И детей она тоже, скорее всего, не захочет видеть у себя в комнате. Да и детям не стоит запоминать ее такой.
Она больше не пыталась измерять давление или температуру миссис Куин — просто обтирала губкой лицо и руки и предлагала воды, но больная перестала замечать это. Инид включила вентилятор, гул которого так часто раздражал миссис Куин. Запах, исходивший от тела, кажется, менялся, становился не таким аммиачно-едким. Превращался в обычный запах смерти.
Инид вышла и села на ступеньках. Сбросила туфли и чулки и вытянула ноги на солнышко. Дети принялись осторожно ходить вокруг да около, спрашивая, а можно ли им на речку, а можно посидеть в лодке, а можно, если они найдут весла, она покатает их. Ей хватало здравого смысла, чтобы не заходить слишком далеко в своих уступках, но она спросила их:
— Как насчет того, чтобы устроить бассейн? А два бассейна?
И она принесла два корыта, поставила их на траву и наполнила водой из бака. Девочки мигом разделись до трусиков и развалились в корытах, воображая себя принцессами Елизаветой и Маргарет Роуз.
— Как вы считаете, — спросила Инид, сидя на траве с запрокинутой головой и закрытыми глазами, — как вы считаете, если человек сделал что-то очень плохое, должны ли его наказать?
— Да, — немедленно выпалила Лоис. — Надо вздуть его как следует.
— Кто сделал плохое? — спросила Сильви.
— Ну, кто-то, не важно кто, просто люди, — сказала Инид. — Что, если это был очень плохой поступок, но никто не знает, что они его совершили? Должны ли они признаться и быть наказаны за это?
— А я бы догадалась, что они это сделали, — сказала Сильви.
— Не догадалась бы! — возразила Лоис. — Откуда бы ты узнала?
— Я бы их посадила.
— Не посадила бы.
— А знаете, почему они должны быть наказаны? — сказала Инид. — Потому что им самим будет очень плохо от своего поступка. Даже если никто их не видел и никто ничего не знает. Если вы делаете что-то очень-очень плохое и вас за это не наказывают, то вы чувствуете себя хуже, намного хуже, чем если бы вас наказали.
— Лоис украла зеленый гребешок, — сообщила Сильви.
— Я не крала! — сказала Лоис.
— Я хочу, чтобы вы запомнили это, — сказала Инид.
— Да он просто валялся на обочине, — сказала Лоис.
Инид каждые полчаса заходила в комнату больной, чтобы обтереть ей лицо и руки влажной тканью. Она не заговаривала с миссис Куин и не касалась ее руки — только протирала салфеткой. Она никогда прежде так не отстранялась от умирающей. Открыв дверь около половины шестого, она поняла, что в комнате больше нет никого живого. Простыня была скомкана, а голова миссис Куин свисала с края кровати — об этом Инид не записала и никому не сказала. Она выпрямила мертвое тело, обмыла его и привела в порядок постель к приходу доктора. Дети так и играли во дворе.
«5 июля. Рано утром дождь. Л. и С. играют у крыльца. Вентилятор вкл. и выкл., жалобы на шум. Полчашки гог. — мог. каждый прием пищи. А. Д. высокое, пульс учащенный, жалоб на боль нет. Дождь не слишком охладил. Р. К. вечером. Сенокос кончился.
6 июля. Жаркий день. Сост. замкнутое. Пробовала вент., но нет. Часто протирки. Р. К. вечером. Завтра начнет жать пшеницу. Все на 1–2 нед. раньше из-за жары, дождь.
7 июля. Непрекр. жара. Не хочет гог. — мог. Имбирный эль с ложки. Сост. апатичное. Прошел сильный ливень. Ночью ветер. Р. К. не может жать, колосья прибило в нек-рых местах.
8 июля. Без гог. — мог. Имбирный эль. Рвота с утра. Тревожность усилилась. Р. К. уехал на аукцион скота 2 дня назад. Д-р одобрил.
9 июля. Сост. возбужденное. Говорит ужасные вещи.
10 июля. Пациентка миссис Руперт (Джанетт) Куин умерла сегодня ок. 17:00. Остановка сердца из-за уремии. (Гломерулонефрит.)»
Инид никогда не дожидалась похорон своих подопечных. Ей казалось правильным покинуть дом, как только позволят приличия. Ведь присутствие сиделки невольно будет напоминать о времени, непосредственно предшествовавшем смерти, порою мрачном и полном физических страданий, а теперь все закончилось, и похоронный обряд с его гостеприимством, цветами и пирогами вот-вот придаст некий лоск печальным событиям.
А еще обычно всегда находилась некая родственница, полностью бравшая бразды правления в свои руки, из-за чего Инид внезапно оказывалась в положении незваной гостьи.
Миссис Грин, к слову, приехала в дом Куинов даже раньше гробовщика. Руперт еще не вернулся. Доктор сидел на кухне, прихлебывая чай, и рассказывал Инид о следующем пациенте, которым она могла бы заняться, раз здесь все закончилось. Инид отнекивалась, говорила, что хочет взять небольшой отпуск. Девочки были наверху. Им сказали, что мамочка отправилась на небеса, и для них это стало венцом такого необычного и полного ярких событий дня.
Миссис Грин помалкивала, пока не уехал доктор. Стоя у окна, она наблюдала за тем, как его машина разворачивалась и уезжала прочь. А потом сказала:
— Может, я и не должна так говорить прямо теперь, но скажу. Я рада, что это случилось сейчас, а не позже, в конце лета, когда они снова пошли бы в школу. Теперь же у меня будет время приучить их к жизни в нашем доме и помочь свыкнуться с мыслью о новой школе. И Руперту, ему тоже придется привыкать.
И тут Инид впервые осознала, что миссис Грин намерена забрать детей и поселить их у себя, а не просто взять их на некоторое время. Миссис Грин страстно жаждет устроить этот переезд и уже, наверное, какое-то время планировала его и ждала только повода. Скорее всего, она уже приготовила детям комнаты и купила ткань на новую одежду. У нее просторный дом и собственные дети.
— Вы, наверное, уже хотите поскорее домой, — сказала она Инид. (Пока в этом доме оставалась другая женщина, он мог соперничать с домом миссис Грин, и миссис Грин было трудно втолковать брату, что детям необходимо переехать к ней насовсем.) — Руперт может отвезти вас, когда вернется.
Инид ответила, что все в порядке, ее мать уже едет за ней.
— Ой, а я и забыла о вашей маме, — сказала миссис Грин, — и о ее модном автомобильчике.
Она оживилась и начала открывать дверцы буфета, инспектируя стаканы и чашки — достаточно ли они чисты для похорон?
— Кто-то потрудился, — сказала миссис Грин — испытав огромное облегчение насчет Инид, она готова была расщедриться на комплименты.
Мистер Грин ждал снаружи — сидел в грузовике вместе с гриновским псом Генералом. Миссис Грин позвала Лоис и Сильви, и те сбежали со второго этажа с кое-какой одежкой в коричневых бумажных пакетах. Они промчались через кухню и хлопнули дверью, даже не обратив внимания на Инид.
— Придется с этим что-то делать, — сказала миссис Грин, имея в виду хлопанье дверью.
Инид слышала, как девочки завопили, приветствуя Генерала, и Генерал радостно залаял в ответ.
Два дня спустя Инид вернулась за рулем маминой машины. Она приехала под вечер, когда похороны уже давно кончились. Снаружи не было ни одной посторонней машины, значит женщины, помогавшие на кухне, уже разъехались по домам, забрав с собой лишние стулья, чашки и кофейники, принадлежавшие церкви. На траве остались следы шин и несколько затоптанных цветков.
Теперь ей пришлось постучаться. И ждать, пока ее пригласят войти.
Она слышала тяжелые быстрые шаги Руперта. Она поздоровалась с ним, когда он появился по ту сторону стеклянной двери, но не посмотрела ему в лицо. Он был без пиджака, но в костюмных брюках. Он откинул дверной крючок.
— Я не была уверена, что застану здесь кого-то, — сказала Инид. — Думала, наверное, ты все еще в амбаре.
— Там есть кому помочь. Все налегли.
Она чувствовала запах виски, когда он говорил, но голос у него был трезвый.
— А я думал, ты — одна из тех теток. Забыла что-то и пришла забрать? — спросил он.
— Ничего я не забыла, просто пришла узнать, как девочки.
— Хорошо. Они у Олив дома.
Как-то он не спешил приглашать ее войти. Но он медлил не из враждебности, а от смущения. Она не подготовилась к этой первой, неловкой части разговора. И теперь избегала смотреть на него, а смотрела на небо вокруг.
— Прямо чувствуется, как вечера становятся короче, — сказала она. — И ведь месяца не прошло с самого длинного летнего дня.
— Это правда, — сказал Руперт.
Теперь он распахнул дверь и отступил в сторону, и она вошла. На столе стояла чашка без блюдца. Она села за стол напротив того места, где сидел он. На ней было темно-зеленое платье из шелкового крепа и замшевые туфли в тон. Надевая эти вещи, она думала: а что, если это последний раз, когда она одевается сама, и это последний ее наряд? Она зачесала волосы, заплела «французскую косу» и припудрила лицо. Вся эта возня, эта тщательность казалась глупой, но необходимой как воздух. Инид не спала уже три ночи подряд, не спала ни минуты, и не могла ни есть, ни даже ввести в заблуждение мать.
— В этот раз было особенно тяжко, да? — спросила мама.
Мама ненавидела разговоры о болезнях и одрах смерти, и если уж она сподобилась спросить, значит огорчение Инид было слишком очевидно.
— Это из-за деток, к которым ты так привязалась? Бедные мартышки!
Инид ответила, что просто очень трудно приходить в себя после такого долгого эпизода, и безнадежного к тому же, что, конечно, усиливает напряжение. Днем она не выходила из дома матери, но вечером все-таки пошла на прогулку — так у нее было больше уверенности, что она никого не встретит и ни с кем не придется говорить. Ноги сами принесли ее под стены местной тюрьмы. Она знала, что за этими стенами находится тюремный двор, где когда-то казнили преступников на виселице. Но не годы напролет и не в последнее время. Сейчас они, наверное, делают это в какой-нибудь большой центральной тюрьме, если приходится кого-то казнить. И уже много-много лет никто из местной общины не совершал достаточно серьезного преступления.
Сидя за столом напротив Руперта, глядя на дверь комнаты миссис Куин, она почти забыла повод, который привел ее сюда, упустила нить происходящего. Она чувствовала сумочку на коленях, тяжесть фотоаппарата в ней напомнила ей все.
— Я хочу попросить тебя кое о чем, — сказала она. — Я подумала, что надо сейчас, потому что другого случая уже не представится.
Руперт сказал:
— И что это?
— Я знаю, у тебя есть лодка. И я хотела попросить тебя прокатить меня на середину реки, чтобы я могла сделать снимок. Мне хочется сфотографировать берег. Там такая красота, плакучие ивы над самой водой.
— Хорошо, — согласился Руперт.
Он не выразил удивления, так сельские жители благоразумно не удивляются фривольности — или даже грубости — своих гостей.
Кем она сейчас и являлась — гостьей.
А план у нее был таков: дождаться, когда они доберутся до середины реки, а потом сообщить ему, что она не умеет плавать. Сперва спросить его, насколько здесь может быть глубоко, и он, конечно же, скажет — после всех нынешних дождей, — что тут может быть семь-восемь, а то и все десять футов. А потом сказать ему, что она не умеет плавать. И это не будет ложью. Инид выросла в Уоллее, на озере, она все свое детство летом играла на берегу, была крепкой девчонкой, заводилой в играх, но воды она боялась, и ни уговоры, ни примеры, ни попытки пристыдить не действовали на нее — плавать она так и не выучилась.
Ему достаточно будет просто толкнуть ее веслом в воду и дать ей утонуть. А потом бросить лодку в воде и доплыть до берега. Переодеться в сухое и сказать, что он пришел из амбара или с прогулки и увидел здесь машину, а где же она? Даже фотоаппарат, если его найдут, сделает его рассказ правдоподобнее. Она села в лодку, чтобы сделать фотографию, а потом как-то упала в воду.
Как только он осознает свое преимущество, она ему все расскажет. И спросит: «Это правда?»
Если нет, то он возненавидит ее за этот вопрос. А если правда (и не она ли все это время была уверена, что это правда?), он возненавидит ее, но другой, более страшной ненавистью. Даже если она тут же пообещает — и пообещает искренне — никому никогда не рассказывать.
Она все время будет говорить очень тихо, помня, как звучны голоса над водой летним вечером.
Я никому не собираюсь говорить, кроме тебя. Ты не можешь жить с такой тайной.
Ты не можешь жить на свете с такой ношей. Ты не выдержишь такой жизни.
Если она зайдет так далеко, а он ничего не будет отрицать и не столкнет ее в воду, Инид будет знать, что рискнула — и выиграла. Тогда будет продолжение разговора, непоколебимые, но тихие уговоры, которые подведут его к той точке, когда он повернет к берегу.
Или он спросит потерянно: «Что мне делать?» И она поведет его шаг за шагом и сначала скажет: «Греби назад».
Первый шаг долгого и страшного пути. Она подскажет ему каждый шаг и останется с ним, пока будет в силах. Теперь привяжи лодку. Иди по берегу. Иди через луг. Открой калитку. Она будет идти следом или впереди, как ему покажется лучше.
По двору и на крыльцо, и в кухню.
Они попрощаются и сядут по разным машинам, и тогда уже его дело, куда он отправится. И завтра она не позвонит в полицию. Она будет ждать, пока они сами ей не позвонят и не пригласят прийти к нему на свидание в тюрьму. Каждый день или так часто, как ей позволят, она будет сидеть и разговаривать с ним в тюрьме и будет писать ему письма. Если его отправят в другую тюрьму, она поедет туда, даже если ей разрешат видеться с ним лишь раз в месяц, она будет рядом. И на суде — да, каждый день суда — она будет сидеть там, где он сможет ее видеть.
Не может быть, чтобы кто-то вынес смертный приговор за такое преступление, ведь оно отчасти случайное, это безусловно преступление страсти, но здесь является тень, чтобы отрезвить Инид, когда она чувствует, что эти картины преданности, привязанности, которая подобна любви, но за гранью любви, становятся непристойными.
И вот началось. С ее просьбы отвезти ее на реку якобы сделать фотографии. Оба они встают, и она снова смотрит на дверь комнаты больной — и снова эта дверь закрыта.
Она говорит глупость:
— А покрывала сняли с окон?
Какую-то минуту кажется, он не понимает, о чем она.
— Покрывала. А, да. Думаю, Олив их сняла. У нас же там поминки были.
— Просто я подумала. Они выгорят на солнце.
Он открывает дверь, она обходит вокруг стола, и они стоят, глядя в комнату. Он говорит:
— Можешь зайти, если хочешь. Все в порядке. Заходи.
Кровать убрали, разумеется. Мебель посдвигали к стенам. Центр комнаты, где ставили стулья для поминок, пуст. Как и пространство между северными окнами — там, наверное, стоял гроб. Стол, на который Инид ставила тазик, складывала салфетки, вату, ложки, лекарства, задвинули в угол, на нем стоял букет дельфиниума. Высокие окна по-прежнему наполнял дневной свет.
«Ложь» — из всех слов, сказанных миссис Куин в этой комнате, Инид слышала сейчас только это слово. «Ложь, могу поспорить, что все это ложь!»
Может ли человек выдумать нечто настолько изощренное и дьявольское? Ответ — да. Больной человеческий разум, разум умирающего может быть переполнен всякого рода мусором и способен организовать этот мусор наиболее убедительным образом. Даже собственный разум Инид, когда она спала в этой комнате, переполнялся гнуснейшими, отвратительнейшими измышлениями, мерзостью. Подобная ложь может таиться в уголках сознания, висеть там, подобно летучим мышам, выжидая тьмы, чтобы возобладать над разумом. Никогда нельзя утверждать: «Такое выдумать невозможно. Глядите, как подробны эти сны, слой за слоем, так что только часть из них можно запомнить и выразить словами — лишь то, что соскребаем с самой верхушки».
Когда Инид было лет пять или шесть, она сказала матери, что зашла к отцу в кабинет и увидела, что он сидит за столом, а на коленях у него какая-то женщина. Все, что она могла вспомнить об этой женщине, и тогда, и теперь, — на ней была усыпанная цветами шляпа с вуалью (такие шляпы уже и в те времена давно вышли из моды), а пуговицы блузки или платья были расстегнуты, оттуда торчала одна голая грудь, кончик которой прятался у отца во рту. Она рассказала об этом матери, совершенно не сомневаясь, что видела это на самом деле. Она сказала:
— Одна из ее передниц торчала у папы во рту.
Слова «грудь» она не знала, но знала, что их две.
Ее мать сказала:
— Инид, погоди. О чем ты говоришь? Что за передница такая, скажи на милость?
— Как мороженое в рожке, — объяснила Инид.
Вот так она это видела, в точности. Она и сейчас могла это увидеть. Вафельный рожок, в нем горка ванильного мороженого, расплющенного на женской груди, а узкий кончик рожка — у отца во рту.
Мать сделала тогда нечто совершенно неожиданное. Она расстегнула платье и вытащила оттуда бледный предмет, плюхнувшийся ей в ладонь.
— Мороженое-рожок, — сказала Инид.
— Значит, тебе это приснилось, — сказала ее мать. — Сны иногда бывают глупыми-преглупыми. Ничего не рассказывай папе. Это очень глупый сон.
Инид не сразу поверила матери, но через год, или около того, поняла, что мать, наверное, все-таки права, ведь мороженое-рожок никак не удержится на груди у женщины, да и не бывает таких огромных рожков. А став чуть постарше, она осознала, что шляпа наверняка сошла с какой-нибудь картинки.
Ложь.
Инид еще не спросила его, она молчала. Ничто не обязывает ее спрашивать. Все по-прежнему было «до». Мистер Уилленс все еще сам въехал в Ютландскую запруду, намеренно или случайно. Все по-прежнему верили в это, и Инид тоже верила, верила, что Руперт ни при чем. А раз так, то эта комната и этот дом, и ее жизнь предлагали иной вариант развития событий, в корне отличный от того, который она переживала (или которым упивалась, можно и так сказать) последние несколько дней. Иная возможность была ей ближе, и все, что ей следовало сделать, — молчать и отпустить. Благодаря ее молчанию, ее молчаливому сообщничеству, такие блага могли расцвести пышным цветом! И для других, и для нее.
Большинству людей известно, что это такое. Простая истина, которую она так долго не могла уяснить. Только так этот мир еще остается пригодным для жизни.
Инид расплакалась. Не от горя, а от нахлынувшего облегчения, которого она так ждала, сама о том не ведая. Теперь она взглянула Руперту в лицо и увидела, что глаза у него в красных прожилках, а кожа вокруг глаз сухая и сморщенная, как будто он тоже плакал.
— Не повезло ей в жизни.
Инид извинилась и пошла за платком, лежавшим в сумке, забытой в кухне на столе. Теперь ей стало стыдно, что она так вырядилась, изготовившись к мелодраматической развязке.
— И о чем я только думала, не знаю, — сказала она. — Я же не смогу подойти к реке в этих туфлях.
Руперт закрыл дверь в гостиную.
— Если ты не передумала, то мы все еще можем пойти, — сказал он. — Там обязательно есть пара резиновых сапог более-менее тебе по ноге.
Только бы не ее, надеялась Инид. Нет. Ее будут слишком малы.
Руперт открыл ящик в дровяном сарае сразу за кухонной дверью. Инид никогда не заглядывала в этот ящик, она думала, что там дрова, в которых определенно не было ни малейшей надобности этим летом. Руперт вытащил несколько разрозненных резиновых сапог и даже один зимний сапог, пытаясь подобрать пару.
— Вот эти вроде должны подойти, — сказал он. — Наверное, это мамины. А может, даже и мои, когда нога еще не выросла.
Он вытащил нечто, напоминающее кусок брезента, а потом за оборванный ремень извлек из ящика старый школьный ранец.
— Я и забыл, что тут лежит все это барахло, — сказал он, забрасывая вещи обратно, сверху он положил непригодившиеся сапоги.
Он уронил крышку ящика, издав при этом сердечный, горестный и немного официальный вздох.
В таком доме, как этот, доме, где долго-долго живет одна семья, запущенном последние несколько лет, найдется множество ящиков, баков, полок, чемоданов, сундуков и закоулков в подполе, наполненных всяческими вещами, которые только и ждут, чтобы Инид их рассортировала — что-то подписала и положила про запас, что-то починила и вернула в обиход, а что-то отправила в коробку и на свалку.
Будь у нее такая возможность, она бы от нее не отказалась. Она превратила бы этот дом в место, где для нее нет никаких тайн и где все идет по заведенному ею порядку.
Руперт поставил перед ней сапоги, когда она внаклонку расстегивала ремешки на туфлях. Сквозь запах виски Инид почувствовала горький запах его дыхания после бессонной ночи и длинного тяжкого дня, она почувствовала запах крепко пропотевшей кожи тяжело работающего мужчины, которого никакое мытье — во всяком случае то, как он моется, — не освежает как следует. Ей были знакомы все телесные запахи — даже запах семени, но было что-то новое и агрессивное в запахе этого тела, которое не находилось ни в ее власти, ни под ее опекой.
Запах был приятный, желанный.
— Проверь, сможешь ли ходить, — сказал он.
Она смогла. Она пошла впереди него к калитке. Он перегнулся через ее плечо, чтобы открыть калитку перед ней. Она подождала, пока он закроет задвижку, а затем посторонилась, пропустив его вперед, потому что он захватил из сарая маленький тесак, чтобы расчистить тропинку.
— Обычно коровы объедают стебли, — сказал он, — но то, что там растет, коровы не жуют.
— Я ходила туда всего раз, — сказала она. — Рано утром.
Ее тогдашнее отчаяние казалось ей теперь ребячеством.
Руперт ушел вперед, выкашивая толстый мясистый чертополох. Солнце проливало ровный пыльный свет на кроны деревьев впереди. Сперва воздух был кристально чист, а потом вдруг возник рой крошечной мошкары. Мошки, мелкие, как пылинки, все время пребывали в движении и при этом держались вместе в форме то ли столба, то ли облака. Как им это удается? И как они выбирают свои места, эти точки одну над другой? Это, наверное, как-то связано с поиском пищи. Но они, кажется, никогда не насыщаются.
Когда они с Рупертом вошли под сень летней листвы, был уже закат, почти ночь. Приходилось смотреть в оба, чтобы не споткнуться о корни, вылезающие из-под земли на тропинку, или не треснуться головой о свисающий неожиданно крепкий стебель лозы. А потом вода полыхнула меж черных ветвей. Светящаяся вода у противоположного берега реки и деревья над ней, все еще озаренные. А на этой стороне — теперь они шли вдоль кромки воды, сквозь ивняк — вода была чайного цвета, но прозрачная.
И лодка в ожидании качается в сумерках, все та же лодка.
— Весла в тайнике, — сказал Руперт.
Он вошел в заросли ив, чтобы найти весла, и Инид мгновенно потеряла его из виду. Она шагнула к самой воде, и сапоги ее чуть погрузились в ил и увязли в нем. Если бы она попыталась, то расслышала бы, как Руперт шуршит в зарослях. Но, прислушавшись к движению лодки, легкому и тайному движению, она почувствовала бы, как все вокруг, далеко-далеко вокруг, объяла тишина.
Джакарта
I
У Кэт и Сонье на пляже собственное место за громадными бревнами. Они выбрали его не только чтобы укрыться от налетавшего порой пронзительного ветра и не потому, что брали с собой малышку, дочь Кэт, но и чтобы их не видели женщины, приходившие на пляж каждый день. Они прозвали этих женщин мониками.
У моник по два, три, четыре ребенка на нос. И верховодит ими всамделишная Моника, которая не поленилась пройти по пляжу и представиться, когда впервые заметила Кэт, Сонье и малышку. Она пригласила их присоединиться к сборищу.
И они подчинились, в четыре руки таща переносную кроватку с ребенком. А что еще можно было сделать? Но с той поры они таятся за бревнами.
Лагерь моник сооружен из пляжных зонтов, полотенец, мешков с подгузниками, корзин для пикников, надувных матрасов и китов, игрушек, лосьонов, запасной одежды, соломенных шляп, термосов с кофе, бумажных стаканчиков и тарелок и термосов с домашним фруктовым мороженым.
Среди них есть и беременные, и те, что кажутся беременными, потому что фигуры их утратили форму, расплылись. Они с трудом сползают к воде, истошно окликая своих детишек, седлающих бревна и бултыхающихся с этих бревен в воду или барахтающихся на надувных китах.
— Куда ты дела панамку? Где твой мячик? Ты уже долго плаваешь на этой штуке, теперь очередь Сэнди.
Даже когда они говорили друг с другом, им приходилось повышать голос, перекрывая детские визги и вопли.
— В «Вудвардс» можно купить бифштекс не дороже фарша.
— Я пробовала цинковую мазь, но не помогло.
— Теперь у него нарывает в паху.
— Нельзя пользоваться пекарским порошком, попробуй соду.
Женщины эти ненамного старше Кэт и Сонье. Но они вступили в жизненную пору, внушающую Кэт и Сонье ужас. Весь пляж эти моники превратили в плацдарм. Их тяготы, их разнузданное потомство, их материнская тучность, их властность способны уничтожить чистую воду, совершенную бухточку, земляничные деревья с алыми ветками, узловатые скрюченные кедры на высоких утесах. Кэт особенно остро переживает этот страх, ведь теперь и сама она стала матерью. Во время кормления она часто читает книгу, иногда закуривая сигарету, чтобы не погрязнуть в трясине животных функций. И грудью она кормит, чтобы уменьшилась матка и живот втянулся, а не только ради снабжения малютки Ноэль драгоценными материнскими антителами.
У Кэт и Сонье тоже есть кофе в термосе и собственные запасные полотенца, из которых они соорудили шалашик для Ноэль. И сигареты есть, и книги. У Сонье — Говард Фаст[4]. Ее муж сказал, коль уж она взялась за художественную литературу — эта книга самая подходящая. А Кэт читает рассказы Кэтрин Мэнсфилд и новеллы Д. Г. Лоуренса[5]. Сонье повадилась бросать свою книгу и хватать ту, которую Кэт не читает в данный момент. Ей хватает одного рассказа, а потом она возвращается к Говарду Фасту.
Когда подруг одолевает голод, одна из них совершает долгое восхождение по длинной деревянной лестнице. Дома окружают бухточку, громоздясь на скалах под соснами и кедрами. Все они были прежде летними дачами, еще до того, как построили мост Лайонс-Гейт, в те годы, когда жители Ванкувера по воде добирались сюда во время отпусков. Некоторые коттеджи, вроде тех, где живут Кэт и Сонье, все еще выглядят довольно примитивно и сдаются по дешевке. Другие, как тот, где обитает всамделишная Моника, заметно усовершенствовали. Но никто не собирается засиживаться в дешевых домишках. Все хотят перебраться в более благоустроенные. Кроме Сонье и ее мужа, чьи планы кажутся более таинственными, чем у остальных.
Немощеная дорога полумесяцем пролегает вдоль домов и обоими концами упирается в Марин-драйв. Внутренность полукружия заполнена поваленными деревьями, зарослями папоротника с кустами морошки, но там можно отыскать увлекательные тропки, по которым рукой подать до магазина на Марин-драйв. В магазине Кэт и Сонье обычно берут жареный картофель навынос для ланча. Чаще за покупками ходит Кэт, потому что прогулка под деревьями для нее — удовольствие, обычно недоступное матери, обремененной детской коляской.
Когда Кэт только приехала сюда, перед самым рождением Ноэль, она продиралась сквозь деревья почти ежедневно, никогда не задумываясь о своей свободе. Однажды она встретила Сонье. Обе работали в Ванкуверской публичной библиотеке задолго до этой встречи, но трудились они в разных отделах и ни разу и словом не перемолвились. Кэт уволилась на шестом месяце беременности, как полагалось, дабы не раздражать начальство своим видом, а Сонье уволилась из-за скандала.
Или, по крайней мере, из-за истории, попавшей в прессу. Ее муж, Коттар, работавший журналистом в газете, о которой Кэт никогда не слышала, побывал в красном Китае. В газете его назвали писателем-леваком. Рядом с фотографией Коттара поместили фото Сонье и сообщили между делом, что она работает в библиотеке. И выразили озабоченность, что, пользуясь служебным положением, Сонье может пропагандировать книги коммунистов и влиять на детей, посещающих библиотеку, так что и они могут стать коммунистами. Никто не утверждал, что она так и делала, просто выражалось опасение. И не было ничего противозаконного в том, что житель Канады съездил в Китай. Но выяснилось, что Коттар и Сонье — американцы, и их поведение показалось еще подозрительнее — кто знает, что там у них на уме?
— Я знаю эту девушку, — сказала Кэт мужу Кенту, когда увидела фотографию Сонье. — По крайней мере я знаю ее в лицо. Она всегда кажется такой застенчивой. И ей будет стыдно за все это.
— Нет. Не будет, — ответил Кент. — Таким нравится подвергаться гонениям, они ради этого и живут.
Директор библиотеки заявил, как сообщалось в газете, что Сонье никак не связана с выдачей книг или влиянием на молодежь — большую часть времени она печатает каталоги.
— Забавно получилось, — сказала Сонье Кэт, когда они поближе узнали друг друга и поговорили, а потом еще поговорили с полчаса, идя по дорожке. Забавно было то, что печатать она не умела.
Ее не уволили, но уйти все равно пришлось. Но Сонье и так собиралась уволиться, потому что у них с Коттаром намечались перемены в жизни.
Кэт подумала, что перемены, наверное, подразумевают ребенка. Ей казалось, что и после окончания школы жизнь вынуждает тебя постоянно сдавать экзамены. Первый — замужество. Если не сдать его до двадцати пяти, экзамен будет провален, несмотря на все благие намерения и поставленные цели. (Она всегда теперь подписывалась «Миссис Кент Мэйберри» с чувством облегчения и некоторого душевного подъема.) Потом приходят мысли о первом ребенке. Подождать год до зачатия — мысль полезная. Два года — мысль скорее благоразумная, чем необходимая. Три года — и люди начинают недоумевать. А потом вдруг появляется и второй ребенок. Дальнейшие перспективы становятся все туманнее, и трудно понять, когда ты очутилась в том или ином месте и было ли оно изначально твоим конечным пунктом.
Сонье оказалась не из тех подруг, кто признается, что пробует зачать ребенка, и как долго она пыталась его зачать, и к каким приемам она прибегала для этого. Она никогда не обсуждала сексуальные отношения в этом ключе, не упоминала месячные или другие проявления своего организма, хотя уже скоро начала рассказывать Кэт такое, от чего у большинства людей волосы бы встали дыбом. Сонье обладала величавым чувством собственного достоинства — она хотела стать балериной, пока не выросла слишком высокой, и всегда сожалела, что не стала, пока не встретила Коттара, сказавшего:
— О, еще одна крошка-буржуа, мечтающая превратиться в умирающего лебедя.
У нее было широкое лицо, спокойное, румяное, она никогда не пользовалась косметикой — Коттар не одобрял косметики, — и ее густые, зачесанные наверх прекрасные волосы венчал пышный шиньон. Кэт она казалась восхитительной — серафической и мудрой.
Поглощая картошку фри на пляже, Кэт и Сонье обсуждают персонажей прочитанных рассказов. Как же так, почему ни одна женщина не полюбила Стэнли Бернела? Что не так со Стэнли? Он ведь еще мальчик совсем — с этой своей настырной любовью, жадностью за столом, самодовольством. А вот Джонатан Траут, ведь жена Стэнли, Линда, должна была выйти за Джонатана Траута, за Джонатана, скользившего по воде, пока Стэнли плескался и фыркал. «Приветствую тебя, мой небесный цветок персика», — бархатным басом рокочет Джонатан. Он полон иронии, нежен и слаб. «Скоротечность жизни, скоротечность жизни», — говорит он. А дерзкий мир Стэнли рушится, он лишен доверия[6]. Что-то тревожило Кэт. Она не могла сказать об этом вслух, не решалась даже подумать. Неужели Кент похож на Стэнли?
Однажды Кэт и Сонье поспорили. Неприятный и неожиданный спор вызвал у них рассказ Д. Г. Лоуренса. Назывался он «Лис». В конце рассказа любовники — солдат и женщина по имени Марч — сидят на скале у моря, глядя на Атлантику, за которой их ждет будущий дом в Канаде. Они собираются покинуть Англию и начать новую жизнь. Они преданы друг другу, но на самом деле не вполне счастливы. Пока нет.
Солдат знает, что настоящего счастья им не видать, пока женщина не посвятит ему всю жизнь, чего не сделала до сих пор. Марч все еще борется с ним, чтобы уберечь свою жизнь, отделить от его жизни, и это ее вина, что оба подспудно несчастны, из-за ее усилий держаться своей женской души, своего женского ума. Она должна все это прекратить — прекратить думать, прекратить желать и начать топить свое сознание, пока оно полностью не погрузится в его сознание. Как тростник, колышущийся под поверхностью воды. Опусти глаза, опусти глаза — видишь, как тростник колышется в воде, он живой, но никогда не выйдет наружу. Именно так женская природа должна жить в мужской природе. Тогда и она будет счастлива, и он получит силу и довольство. И оба достигнут истинного супружества. Кэт заявила, что считает это чепухой.
И принялась обосновывать свою точку зрения:
— Он говорит о сексуальных отношениях, правда?
— Не совсем, — возражает Сонье. — О жизни вообще.
— Да. Но ведь именно секс ведет к беременности. То есть ведет при нормальном раскладе. Итак, у Марч ребенок. Или, возможно, не один. И она должна за ними смотреть. И как этим можно заниматься, если твои мысли колышутся под водой?
— Это слишком буквальное истолкование, — отвечает Сонье несколько покровительственно.
— Или ты способна думать и принимать решения, или не можешь ни того ни другого, — говорит Кэт. — Например, малыш собирается схватить бритву. Что ты делаешь? Просто говоришь: ах, я побултыхаюсь под водой, пока муж не придет домой, не включит мозги, наши общие мозги, и не обмозгует, разумно ли ребенку играть с бритвой, как тебе это?
— Ты доводишь до абсурда, — говорит Сонье.
Голоса обеих ожесточаются. У Кэт голос живой и язвительный, голос Сонье мрачен и упрям.
— Лоуренс не хотел детей. — говорит Кэт. — Он даже ревновал Фриду к ее детям от первого брака.
Сонье смотрит в одну точку у себя меж колен, просеивая пальцами песок.
— Просто я думаю, как это было бы прекрасно, — говорит она, — как было бы прекрасно, если бы женщина смогла.
Кэт понимает: что-то пошло не так. Что-то не так с ее собственными доводами. Почему она так разозлилась и взволновалась? Почему она заговорила о малышах, о детях? Потому что у нее есть ребенок, а у Сонье нет? Не потому ли она заговорила о Лоуренсе и Фриде, что подозревала — нечто похожее происходит между Сонье и Коттаром?
Когда ты выстраиваешь доказательства, используя детей в качестве аргумента, и говоришь, что женщине следует присматривать за детьми, ты вне подозрений. Тебя не в чем винить. Но когда Кэт прибегает к подобным аргументам, она прикрывается детьми. Она не может смириться с метафорой про тростник и воду, она чувствует, как разрывает, как душит ее бессознательный протест. Выходит, это она о себе думает, не о детях. Она и есть та самая, порицаемая Лоуренсом женщина. Но она не скажет об этом напрямик, потому что Сонье может заподозрить — или сама Кэт заподозрит, — что собственная ее жизнь бедна и неполноценна.
Сонье, которая обмолвилась во время другого щекотливого разговора: «Мое счастье зависит от Коттара».
Мое счастье зависит от Коттара.
Это утверждение потрясло Кэт. Она бы никогда не сказала ничего подобного о Кенте. Себе бы она такого не пожелала. Но Кэт не хотелось, чтобы Сонье считала ее женщиной, испытывающей нехватку любви. Которую никогда не считали достойной любви до исступления и которой никогда не предлагали такой любви.
II
Кент помнил название орегонского городка, куда переехали Коттар и Сонье. Вернее, куда переехала Сонье на исходе лета. Она отправилась присматривать за матерью Коттара, когда Коттар умотал на очередной дальневосточный пикник за счет газеты. Поговаривали о каких-то воображаемых или реальных проблемах, возникших, когда Коттар вернулся из Китая в Штаты. Сонье и Коттар решили по его возвращении встретиться в Канаде и, может, даже перевезти туда же его мать.
Маловероятно, что Сонье снова живет в их городке. Но возможно, тут поселилась мать Коттара, хотя вряд ли. Кент сказал, что ради этого заезжать туда не стоит, но Дебора спросила:
— Почему же, разве не интересно узнать, там ли она?
Они спросили на почте, им указали направление. Кент с Деборой ехали из города по песчаным дюнам — вела машину Дебора, как и всегда во время таких вот долгих, неторопливых путешествий. Дебора и Кент только что навестили Ноэль, дочь Кента, которая жила в Торонто, и его двух сыновей от второй жены, Пэт, — одного в Монреале, а другого в Мэриленде. Они провели время со старыми друзьями Кента и Пэт, жившими теперь в элитной резиденции в Аризоне, и с родителями Деборы — ровесниками Кента — в Санта-Барбаре. Теперь они направлялись на Западное побережье, домой в Ванкувер, но не слишком торопились, чтобы не утомлять Кента.
Трава покрывала дюны. Они выглядели как обыкновенные холмы, если не считать оголенные песчаные верхушки, из-за которых пейзаж казался игрушечным. Детская конструкция, только непомерно разросшаяся.
Дорога упиралась прямо в искомый дом. Ошибиться было невозможно. Вот и табличка: «Тихоокеанская школа танцев». И имя Сонье, и объявление о продаже ниже. И женщина, подстригающая кусты в саду.
Значит, мать Коттара еще жива. Но Кент вспомнил, что мать Коттара была слепой. Поэтому кто-то и должен был жить с ней после смерти отца Коттара.
И что слепая могла делать с этими ножницами в кустах?
Кент допустил обычную ошибку, не представляя, сколько лет, сколько десятилетий прошло. И какой древней должна теперь быть мать Коттара. И сколько лет сейчас Сонье, и сколько ему самому. Ведь это была Сонье, и сначала она тоже не узнала Кента.
Она наклонилась, чтобы воткнуть ножницы в землю, и потом обтерла руки о джинсы. И Кент прямо-таки на собственных суставах прочувствовал, как тяжело ей двигаться.
Волосы ее были белы и скудны, развеваясь на легком океанском ветерке, отыскавшем сюда путь через дюны. Твердость покинула ее плоть, кожа да кости. Сонье всегда была скорее плоскогрудой, но не слишком тонкой в талии. Широкая спина, широкое лицо. Нордический тип девушки. Впрочем, имя ей досталось не от этих предков — Кент вспомнил историю о том, что ее назвали Соня, потому что мать любила фильмы с Соней Хени[7]. Сонье переиначила свое имя, презирая материнское увлечение. Они все презирали своих родителей тогда, хоть за что-нибудь. Яркое солнце мешало Кенту как следует разглядеть ее лицо, но он заметил пару серебристо-белых пятен на тех местах, где, видимо, были удалены меланомы.
— Ну и ну, Кент, — сказала она. — Как-то глупо получилось. Я решила, что ты — покупатель, приехавший посмотреть дом. А это Ноэль?
Вот, и она тоже ошиблась.
Дебора и вправду была на год младше Ноэль. Но в ней не было ничего от типичной «молоденькой жены». Кент встретил ее после первой операции. Она работала физиотерапевтом, никогда не была замужем, а он — давно овдовел. Невозмутимая, надежная женщина, чуждая моде и иронии, она заплетала волосы в косу. Она познакомила его с йогой, научила необходимым упражнениям и до сих пор пичкала его витаминами и женьшенем. Дебора была настолько тактична и нелюбопытна, что казалась безразличной ко всему. Возможно, женщины ее поколения полагали, что у всякого имеется перенаселенное и неисповедимое прошлое.
Сонье пригласила их в дом. Дебора заявила, что оставит их пообщаться, а сама пойдет поищет магазин здоровой пищи (Сонье рассказала ей, где такой находится) и погуляет на берегу.
Холод — первое, что Кент отметил в доме. И это в яркий солнечный день. Но дома на северо-западном побережье редко прогреваются, хотя на вид кажутся теплыми — но только войди в тень, и сразу почувствуешь студеный ветер. Туманы и дождливые зимы, наверно, частенько посещали этот дом, почти не встречая сопротивления изнутри. Дом представлял собой большое деревянное бунгало, ветхое, но не аскетичное, с верандой и опочивальнями. Когда Кент еще жил в западном Ванкувере, там было много подобных домов. Но большинство из них продали под снос.
Две большие смежные гостиные были пусты, если не считать фортепиано. Пол посередине истерся и посерел, а по углам был отполирован дочерна. Вдоль одной стены шел поручень, а на противоположной располагалось пыльное зеркало, в котором, проходя мимо, он увидел два тощих белых тела.
Сонье сказала, что пытается продать дом — ну да, он уже понял это по объявлению — и что, раз уж тут все оборудовано для школы танцев, она подумывает оставить все как есть.
— Кто-нибудь наверняка сможет довести все это до ума.
Она рассказала, что они открыли школу где-то в тысяча девятьсот шестидесятом году, сразу после извещения о смерти Коттара. Мать Коттара, Делия, аккомпанировала на пианино. Она аккомпанировала, пока ей не исполнилось девяносто и она не свихнулась. («Извините меня, — сказала Сонье, — но как-то притерпеваешься к такого рода вещам»).
Сонье определила свекровь в дом престарелых и каждый день ходила туда кормить старуху, хотя Делия ее уже не узнавала. И стала нанимать других аккомпаниаторов, но дела пошли совсем плохо. Потом пришло время, когда сама она уже не могла ничего показать ученикам, могла только давать советы. И тогда Сонье поняла, что пора прекращать.
Раньше она была высокомерной девушкой, не очень общительной. Более того, не сильно подружливой, или так он думал о ней. А теперь она суетилась и болтала, как все слишком одинокие люди.
— Поначалу дела шли отлично, девчонки с ума сходили по балету, а потом все стало угасать, искусство стало слишком формальным. Но полностью интерес никогда не пропадал, а потом, в восьмидесятых, люди стали сюда переселяться, и с молодняком, и с кучей денег, похоже, — и где они столько взяли? И вроде опять все пошло удачно, но я уже не справлялась.
Она добавила, что, наверно, весь дух и вышел, когда ее свекровь его испустила.
— Мы были лучшими подругами, — сказала Сонье. — Всегда.
Кухня представляла собой еще одну огромную комнату, где посудные шкафы и кухонная утварь стояли и валялись как попало. Пол выстилали серые и черные плитки, или, скорее всего, белые и черные, но белое стало серым от частого мытья. Они прошли по коридору, уставленному полками, полками до самого потолка, набитыми книгами, и истрепанными журналами, и, возможно, даже газетами. Запах ломкой старой бумаги. Здесь уже пол был покрыт циновкой, циновки тянулись до самой боковой веранды, где Кенту наконец удалось присесть. Ротанговые кресла и канапе — натуральные изделия, наверно, стоили бы кучу денег, кабы не развалились. Бамбуковые шторы тоже были не в лучшем состоянии, закатанные доверху или приспущенные, а снаружи разросшиеся кусты приникали к окнам. Кент не очень-то разбирался в растениях, но вспомнил эти кусты — из тех, что приживаются на песчаной почве. Листья у них твердые и блестящие — побеги выглядят так, словно их обмакнули в масло.
По пути через кухню Сонье успела поставить чайник. И сейчас она нырнула в одно из кресел, словно была рада-радехонька тоже присесть наконец. Она подняла большие грязные ладони с узоватыми косточками.
— Сейчас вымою, — сказала она. — Я не спросила, хотите ли вы чаю. Могу заварить кофе. Или, если хотите, бог с ним со всем, и нам лучше бы выпить джину с тоником. И как я раньше не сообразила? Вроде отличная идея.
Затрезвонил телефон. Назойливый, громкий, старомодный звук. Доносился он вроде бы из коридора, но Сонье поспешила в кухню.
Она поговорила какое-то время, прервавшись, чтобы снять засвистевший чайник. Кент слышал, как она сказала: «У меня сейчас гости», и понадеялся, что она не отказала кому-то, пожелавшему взглянуть на дом. Судя по нервному тону, это не был деловой звонок, но, возможно, связанный с деньгами. Он сделал над собой усилие, чтобы больше не подслушивать.
Книги и газеты, захламлявшие коридор, напомнили Кенту о домишке над пляжем, в котором некогда жили Сонье и Коттар. А на самом деле напомнило об этом общее ощущение неуюта, безразличия. Гостиная в том доме с одной стороны обогревалась каменным камином, и, хотя пламя еще тлело — в тот единственный раз, когда Кент там был, — пол усыпали горстки старой золы, обугленные ошметки апельсиновой кожуры, еще какой-то мусор. И повсюду книги, книги, брошюры, буклеты. Вместо дивана — койка: либо ты сидишь, поставив ноги на пол, и тогда не на что опереть спину, либо отодвигаешься к стене и сидишь там, скрестив ноги. Именно так и расположились Кэт и Сонье. И им довольно неплохо удавалось не вступать в разговор.
Кент сел в кресло, подобрав с сиденья книгу «Гражданская война во Франции» в унылой обложке. «Это так они называют Французскую революцию?» — подумал он. Потом увидел имя автора — Карл Маркс. И даже до этого он чувствовал враждебность, осуждение, витавшие в этой комнате. Точно так же в помещении, заполненном евангельскими трактатами и картинками «Иисус на осле», «Иисус на море Галилейском», начинаешь чувствовать, что Страшный суд уже вершится над тобой. И не только от книг или газет — это исходило от беспорядка в камине, от ковра со стертым орнаментом и холщовых штор. Рубашка и галстук Кента были тут не к месту. Он подозревал, что именно так Кэт смотрела на его одежду, но он-то, раз ее надев, снимать не собирался. Она же носила одну из его старых рубашек поверх джинсов, державшихся на резинке, сколотой двумя английскими булавками. Кент считал, что в этой небрежной одежде не следует идти в ресторан, но сообразил, что ни в какую другую она не влезет. Это было как раз перед рождением Ноэль.
Коттар хозяйничал на кухне, готовил карри, и еда оказалась отменной. Они пили пиво. Коттару тогда было за тридцать — он был старше, чем Сонье, и Кэт, и Кент. Долговязый, узкоплечий, с высоким лысым лбом и клочковатыми бачками на щеках. Текучая, успокаивающая, доверительная речь.
Там еще была пара постарше: женщина с отвисшей грудью и седеющим бубликом волос на затылке и коротышка, одетый несколько неряшливо, хотя было что-то щеголеватое в его манерах, в его педантичном и нервном голосе и в привычке складывать ладони в аккуратные квадраты. И еще был там юноша, рыжий и веснушчатый, с отекшими, слезящимися глазами. Это был студент-вечерник, он подрабатывал на грузовичке, доставляя пачки газет для мальчишек-разносчиков. Конечно, студент только что занялся этой работой, и пожилой — знакомец юноши — стал поддразнивать парня: мол, стыдно развозить такую никчемную газетенку. Орудие класса капиталистов, рупор правящей элиты.
И хотя он говорил это полушутливо, Кент такого спустить не смог. Он подумал, что может вмешаться, как припозднившийся, и заявил, что не видит в этой газете ничего дурного.
А те только того и ждали. Пожилой уже выудил информацию о Кенте, что тот фармацевт в одной из сетевых аптек. И юноша уже спросил: «Вы из управляющих?» Его тон подразумевал, что остальные воспримут вопрос как шутку, но Кент его так не воспринял. Он ответил, что рассчитывает на это.
Подали карри, и они поели, и добавили пива, и подбросили дров в огонь, и весеннее небо потемнело, и огни Пойнт-Грей появились по ту сторону залива Беррард[8], и Кент взвалил на себя роль защитника капитализма и Корейской войны[9], ядерного вооружения, Джона Фостера Даллеса[10], смертной казни Розенбергов[11] — всего, что остальные ему подкидывали. Он поднял на смех утверждение, что американские компании убеждали матерей Африки покупать искусственное питание и не кормить грудью детей и что Королевская канадская конная полиция ответственна за жестокое обращение с индейцами, и более всего он ополчился на замечание Коттара, что его, Коттара, телефон может прослушиваться. Он процитировал журнал «Тайм», о чем и сказал открытым текстом.
Юноша хлопал себя по коленям и мотал головой из стороны в сторону, извергая гомерический хохот:
— Просто не верится. Вы верите этому парню? Меня увольте.
Коттар продолжал мобилизовать доказательства и сдерживал раздражение, полагая себя рассудительным человеком. Пожилой же сорвался с профессорского тона, а женщина с отвислой грудью встряла с интонациями ядовитой благовоспитанности:
— Почему вы так усердно защищаете власть всякий раз, когда она обнаруживает свою восхитительную сущность?
У Кента не было ответа. Он не понимал, какая вожжа попала ему под хвост. Он даже не воспринимал этих людей всерьез, как врагов. Они существовали где-то на обочине реальной жизни, разглагольствовали и много мнили о себе, как часто случается с подобными фанатиками. В них не было основательности, если сравнить с теми, с кем работал Кент. На работе, не будем говорить об ошибках, ответственность Кента не менялась, у вас нет времени валять дурака, носясь с идеей, что сеть аптек непродуктивна, или разрешать себе паранойю по поводу компаний, производящих лекарства. Это был реальный мир, и он входил в него каждый день, неся на плечах свое с Кэт будущее. Он это принял, и даже гордился своим положением, и не собирался извиняться перед целой сворой кликуш.
— Жизнь становится все лучше, несмотря на ваши разговоры, — сказал он им. — Всего-то и надо — оглянуться вокруг.
Сегодня Кент не соглашался с юным собой. Он считал, что был дерзок тогда, и не ошибался. Но его удивляла злость, царившая в этой комнате, болезненная энергия, исходившая отовсюду.
Сонье оторвалась от телефона. Она окликнула его из кухни:
— Я определенно решила пропустить чай и перейти к джину с содовой.
Когда она принесла выпивку, он спросил ее, когда умер Коттар, и она ответила, что тридцать лет назад. Кент шумно втянул воздух и покачал головой. Так давно?
— Он скончался скоропостижно от укуса какого-то тропического насекомого, — сказала Сонье. — Это случилось в Джакарте[12]. Его похоронили раньше, чем я узнала о его болезни. Джакарту раньше называли Батавией, вы это знаете?
— Смутно, — ответил Кент.
— Я помню ваш дом, — сказала она. — Веранда служила гостиной, она находилась на фасадной стороне, как наша. И помню жалюзи из палаточной ткани, зеленые с коричневыми полосками. Кэт нравилось, как свет струился между ними, она говорила — будто в джунглях. А вы называли дом «достославной хижиной». Каждый раз так и говорили: достославная хижина.
— Она стояла на забетонированных деревянных сваях, — сказал Кент. — И они подгнили. Дом чудом не рухнул.
— А как вы с Кэт ходили искать новый дом, — вспомнила Сонье. — Когда у вас был выходной, вы ходили по участкам с Ноэль в коляске. И смотрели на все новые дома. Вы знаете, какие там были участки — без тротуаров, поскольку предполагалось, что пешком больше никто ходить не станет, все деревья спилили, а дома прилипали друг к другу, уставившись друг на друга через венецианские окна.
— Что еще можно себе позволить для начала? — сказал Кент.
— Я знаю, знаю. Но вы спрашивали: «Который тебе нравится?» — и Кэт никогда не отвечала. Так что в конце концов вы вышли из себя и спросили, какой дом ей нравится в принципе, и она ответила: «Достославная хижина».
Кент ничего этого не помнил. Но полагал, что так оно и было. В любом случае Кэт именно так рассказала Сонье.
III
Коттар и Сонье устроили отвальную: Коттар уезжал на Филиппины, или в Индонезию, или куда там еще, а Сонье отправлялась ухаживать за его матерью. Пригласили всех, кто жил на берегу, поскольку вечеринку собирались проводить на воздухе, самое разумное решение. Вдобавок позвали людей, с которыми Коттар и Сонье жили в коммунальном доме, прежде чем перебраться ближе к пляжу, и знакомых Коттару журналистов, и сотрудников Сонье по библиотеке.
— Ну просто все тут, — сказала Кэт, и Кент весело поинтересовался:
— А коммуняк много?
Кэт сказала, что не знает, просто все.
Всамделишная Моника вызвала свою приходящую няньку, и всех детей собрали у Моники в доме, а родители потянулись на берег. Кэт привезла Ноэль в коляске, когда уже начало смеркаться. Она сообщила няньке, что вернется до полуночи и Ноэль, возможно, проснется для кормления. Она могла бы захватить бутылочку со сцеженным молоком, но не захватила. Кэт не была уверена, что вечеринка ей понравится, и решила припасти предлог, чтобы уйти оттуда.
Они с Сонье никогда не обсуждали обед в доме Сонье, когда Кент вступил в перепалку со всеми гостями. Да и после этого Сонье не встречалась с ним, и все, что она после сказала о нем, что он действительно довольно красив. Кэт подумала, что эту оценку можно воспринять как банальный утешительный приз.
Весь вечер она просидела, прислонившись к стене, прижимая диванную подушку к животу. Эта привычка появилась у нее во время беременности — прижимать подушку к месту, куда бил ребенок. Подушка была вылинявшая и пыльная, как все в доме Сонье (они с Коттаром снимали меблированный дом). Узорные голубые цветы и листья посеребрились. На них-то Кэт и сосредоточилась, пока остальные загоняли Кента в угол, а он этого даже не замечал. Молодой человек обращался к нему с театральным гневом, словно сын к отцу, а Коттар — напротив, с усталым терпением школьного учителя. Пожилой ожесточенно удивлялся, а женщина переполнялась нравственным отвращением, словно Кент был персонально ответствен за Хиросиму, за азиатских девушек, загнанных на фабрики и сожженных там, за всю грязную ложь и воспеваемое лицемерие. И Кента обвиняли почти во всем, насколько могла видеть Кэт. Она предчувствовала, что так и случится, когда увидела, как он надевает рубашку с галстуком, и решила натянуть джинсы вместо приличной юбки, соответствующей статусу почти-уже-матери. И как только попала на вечеринку, ей пришлось просидеть там, терзая подушку в поисках сомнительного успокоения. Все в этой комнате были уверены во всем. Когда они переводили дыхание, то в паузе источали вечный поток непорочной добродетели, целомудренной уверенности. Исключая, возможно, Сонье. Сонье не говорила ничего. Но Сонье тянул за собой Коттар, он был источником ее уверенности. Она встала, чтобы предложить еще карри, и обратилась к одному из коротких злых молчаний.
— Похоже, никто не хочет есть мой кокос.
— О, Сонье, ты пытаешься быть тактичной хозяйкой? — сказала пожилая женщина. — Как кто-то там у Вирджинии Вулф?[13]
Так, получалось, что Вирджинию Вулф здесь тоже ни в грош не ставили. Слишком многого Кэт не могла понять. Но, по крайней мере, она чувствовала, что это происходит, и не была готова назвать происходящее бессмыслицей.
Тем не менее она уже хотела, чтобы воды отошли. Хоть бы уже родить. Если бы она начала корчиться тут перед ними или напрудила на полу, тогда они бы остановились.
Впоследствии Кента не сильно волновал этот далеко зашедший вечер. И он даже полагал, что выиграл раунд.
— Все они коммуняки и иначе говорить не умеют, — сказал он. — Только и умеют болтать.
Кэт настолько не хотела говорить о политике, что постаралась поменять тему, рассказав, что пожилая пара жила с Сонье и Коттаром в коммуналке. Там были еще супруги, тоже потом переехавшие. И у них происходил организованный обмен сексуальными партнерами. У пожилого мужчины нашлась любовница на стороне, и она тоже со временем стала предметом обмена.
Кент удивился:
— Ты хочешь сказать, что молодые парни могут спать со старухами? Ей же лет пятьдесят.
— Коттару тридцать восемь, — сказала Кэт.
— Даже если и так, — отозвался Кент, — это отвратительно.
Но Кэт нашла, что идея всех этих оговоренных и обязательных соитий возбуждает не меньше, чем внушает отвращение. Передавать себя послушно и безвинно любому, кто следующий в списке, — все равно что служить храмовой проституткой. Похоть, воспринимаемая как долг. Эта мысль возбуждала в ней плотское волнение.
Но вовсе не возбуждала Сонье. Она не испытала оргазмов. Коттар спросил ее, удовлетворена ли она, когда они сошлись опять, и Сонье сказала, что не удовлетворена. Он расстроился, и она тоже, ради него. Он объяснил ей, что она чересчур избирательна и слишком к нему привязана в контексте сексуальной собственности, и Сонье знала, что он прав.
— Он полагает, что если бы я любила его достаточно сильно, то была бы лучше в постели, — сказала она. — Но ведь я люблю его, мучительно люблю.
Несмотря на все эти искушающие мысли, посетившие Кэт, она полагала, что может спать только с Кентом. Сексуальные отношения между ними выглядели так, как если бы именно они их изобрели. Попытка переспать с кем-то еще была бы подобна замене провода под напряжением — вся ее жизнь могла взорваться. Но при этом она бы не сказала, что мучительно любит Кента.
Идя по пляжу из дома Моники к Сонье, Кэт увидела каких-то людей, ожидавших начала вечеринки. Те стояли маленькими группками или сидели на бревнах, наблюдая последние лучи заката, пили пиво. Коттар с каким-то мужчиной отмывали мусорный бак, в котором они собирались приготовить пунш. Мисс Кампо, главный библиотекарь, сидела в одиночестве на бревне. Кэт помахала ей жизнерадостно, но не присоединилась. Если присоединиться к кому-то на этой стадии, то уже не отделаешься. Так и придется коротать вечер вдвоем. Оставалось прибиться к группе из трех или четырех человек, даже если разговоры, издалека просто оживленные, окажутся довольно-таки отчаянными. Но она и этого не могла сделать, после того как помахала рукой мисс Кампо. Надо было направиться еще куда-нибудь. Так что она продолжала идти, миновав Кента, беседующего с мужем Моники о том, как долго придется пилить одно из бревен на берегу, поднялась по ступенькам дома Сонье и вошла в кухню.
Сонье помешивала чили в большом котле, а пожилая женщина из коммуналки выкладывала ломти ржаного хлеба, салями и сыр на блюдо. На ней было надето то же самое, что и на вечеринке с карри, — мешковатая юбка и неряшливый, но обтягивающий свитер, груди под которым приплюснулись и свисали чуть ли не до самой талии. «Каким-то образом это связано с марксизмом, — подумала Кэт, — недаром Коттар предпочитает, чтобы Сонье не носила бюстгальтер и пренебрегала чулками и помадой». Кроме того, это было как-то связано со свободными сексуальными отношениями, лишенными ревности, с великодушным непорочным аппетитом, который не чурается и пятидесятилетних женщин.
Еще одна девушка из библиотеки тоже была там — нарезала зеленые перцы и помидоры. И женщина, которую Кэт не признала, сидела на табуретке, куря сигарету.
— Вечно у нас с тобой не хватало времени почирикать, — сказала библиотекарша Кэт. — Все время работали. Мы слышали, что ты родила очаровательнейшее дитя, а ты даже не привезла ее показать нам. Где она сейчас?
— Спит, надеюсь, — ответила Кэт.
Библиотекаршу звали Лоррейн, но Сонье и Кэт, вспоминая дни, проведенные в библиотеке, называли ее Дебби Рейнольдс[14]. И ей не сиделось на месте.
— У-у-у, — сказала Лоррейн с сожалением.
Низкорослая женщина поглядела на них с тщательно отработанным отвращением.
Кэт откупорила бутылку пива и протянула ее Сонье.
— О, спасибо, — обрадовалась Сонье, — я так сосредоточилась на чили, что забыла, можно же и выпить.
Она волновалась, ибо в кулинарном искусстве ей было далеко до Коттара.
— Уже хорошо, что ты не собиралась выпить сама, — встряла библиотекарша. — Если кормишь — ни-ни.
— Я упивалась пивом все время, пока кормила, — заявила женщина, сидевшая на стуле. — Полагаю, что это полезно. Все равно большую часть выписаешь.
Глаза у нее были подведены черным карандашом, а веки накрашены фиолетово-синим до самых глянцево-черных бровей. Все остальное лицо было очень бледным или таким казалось, а губы — до того бледно-розовые, что выглядели почти белыми. Кэт видела такие лица и раньше, но только в журналах.
— Это Эми, — представила ее Сонье. — Эми, это Кэт. Извините, что не познакомила раньше.
Эми подхватила только что отрезанный кусок сыра и съела его. Эми — вот как звали любовницу. Любовницу мужа пожилой женщины. Она была именно тем человеком, с которым Кэт неожиданно захотела познакомиться, подружиться, так же как однажды она страстно желала познакомиться с Сонье.
Вечер перешел в ночь, и группки людей на берегу стали менее различимы, начали сбиваться в кучки. Вдалеке на кромке прибоя женщины сбрасывали обувь, наклонялись и снимали чулки, если они их носили, и шлепали по воде. Большинство гостей завязали с пивом и перешли к пуншу, и пунш уже начал меняться. Сперва он содержал ром и ананасный сок, а теперь — другие соки, газировку, а еще туда добавили водку и вино.
Те, кто начал с обуви, расхрабрились и пошли еще дальше. Кто-то входил в воду почти полностью одетый, потом снимал одежду и бросал кому-то на берегу. Другие раздевались там, где стояли, убеждая друг друга, что в темноте ничего не видно. Однако можно было различить голые тела, плещущиеся и бегающие по воде, и шлепающиеся в воду. Моника принесла большую кучу полотенец из дома и призывала всех обернуться ими, когда они выйдут на берег, чтобы не принять смерть от холода.
В темных деревьях на вершине утеса взошла луна, и казалась она такой огромной, такой торжественной и страшной, что послышались крики изумления. Что это? И даже когда она взобралась еще выше в небеса и сжалась до нормального размера, люди посматривали на нее, говоря:
— Полнолуние.
Или:
— Вы видели ее на восходе?
— Я сначала решил, что это огромный воздушный шар.
— Не могла представить, что это такое. Не думала, что луна может быть такого размера.
Кэт шла по берегу, беседуя с человеком, жену и любовницу которого она видела в кухне Сонье. Жена его купалась теперь, чуть в стороне от вопящих и плещущихся. В другой жизни, сказал мужчина, он был священником.
— «Да, Веры Море когда-то было полно, — сообщил он шутливо, — сплетено чудесным поясом у берега земли». Я тогда был женат на совершенно другой женщине.
Он вздохнул, и Кэт решила, что он вспоминает продолжение стихотворения.
— «Но слышно мне сейчас, — произнесла она, — как отступает и ревет оно в тягучем споре с полночным ветром, как за часом час лишь галька мира шелестит вдали»[15].
Она примолкла — ей показалось, что сказать «любовь моя, так будем же верны друг другу» значило зайти слишком далеко.
Жена его сейчас плыла в их сторону, потом поднялась, когда вода стала ей по колено. Ее груди раскачивались и разбрасывали брызги воды, когда она шла вброд.
— Европа! — воскликнул он в духе товарищеского приветствия.
— Тогда вы — Зевс, — храбро сказала Кэт.
Ей захотелось, чтобы вот такой мужчина немедленно поцеловал ее. Человек, которого она почти не знала и до которого ей не было дела. И он ее поцеловал, шевеля прохладным языком у нее во рту.
— Представьте себе континент, названный в честь коровы, — сказал он.
Жена его стояла рядом с ними, признательно дыша после усилий плавания. Она стояла так близко, что Кэт испугалась, как бы длинные темные соски или черный волосяной кустик на лобке этой женщины не коснулись ее.
Кто-то разжег костер, и все купальщики вышли на берег, завернутые в одеяла или полотенца, или скорчились за бревнами, с трудом натягивая непослушную одежду.
И звучала музыка. Люди, жившие по соседству с Моникой, владели причалом и лодочным домиком. Они принесли проигрыватель, и начались танцы. На досках пристани танцевать было легче, чем на песке. Танцевать пытались и на бревнах, сделав два или три па, прежде чем споткнуться и упасть, если не успевали спрыгнуть. Женщины, уже натянувшие одежду или не раздевавшиеся, женщины, которые, подобно Кэт, были слишком возбуждены, чтобы стоять на месте, ходили по кромке прибоя (больше никто не купался, купание ушло в прошлое и забылось напрочь), и все разбрелись под музыку, раскачиваясь, сначала застенчиво, в шутку, потом все более напоказ, словно киношные красотки.
Мисс Кампо все еще сидела на прежнем месте и улыбалась. Девушка, которую Кэт и Сонье окрестили Дебби Рейнольдс, сидела на песке, прислонившись спиной к бревну, и плакала. Она улыбнулась Кэт и сказала:
— Не подумайте, что мне грустно.
Муж ее раньше был футболистом, а теперь владел авторемонтной мастерской. Когда он заходил за женой в библиотеку, то выглядел как настоящий футболист, чуть презирающий остальной мир. Но сейчас он стоял на коленях рядом с женой и играл ее волосами.
— Все в порядке, — сказал он. — Это всегда трогает ее, правда, голубушка?
— Ну да, — сказала она.
Кэт нашла Сонье. Та ходила вокруг костра и раздавала маршмэллоу. Кто-то ухитрился насадить сладость на палочку и поджарить, другие подбрасывали лакомство на руке и роняли в песок.
— Дебби Рейнольдс плачет, — сказала Кэт, — но все в порядке, она счастлива.
Они начали смеяться и обниматься, превращая в месиво оказавшийся между ними кулек с маршмэллоу.
— О, как я буду скучать по тебе, — сказала Сонье, — как мне будет не хватать нашей дружбы.
— Да-да, — откликнулась Кэт.
Каждая взяла по остывшей пастилке, и они съели их, посмеиваясь и глядя друг на друга с нежностью и отчаянием.
— Это ты запомнишь, думая обо мне, — сказала Кэт. — Ты мой настоящий-пренастоящий друг.
— А ты мой, — сказала Сонье, — настоящий-пренастоящий. Коттар сказал, что хочет переспать сегодня с Эми.
— Не позволяй ему! — возмутилась Кэт. — Не позволяй, если тебе плохо от этого.
— Тут дело не в позволении, — храбро сказала Сонье. Она закричала: — Кто хочет чили? Коттар раздает чили. Чили? Чили?
Коттар принес котел с чили к подножию лестницы и сел на песок.
— Берегитесь котла, — отечески увещевал он. — Берегитесь котла, он горячий.
Он присел на корточки, чтобы обслужить людей, на которых были одни развевающиеся полотенца. Эми стояла рядом с ним, выдавая миски. Кэт сложила ладони лодочкой, став перед Коттаром.
— Пожалуйте, ваше величество, — сказала она, — Я не заслужила миски.
Коттар вскочил, упустив черпак, и возложил руки ей на голову:
— Благословляю, дитя мое, последние станут первыми.
И поцеловал ее в склоненную шею.
— А-а-а, — простонала Эми, будто целовали ее или сама она одарила поцелуем.
Кэт подняла голову и посмотрела мимо Коттара.
— Я бы не возражала против такой губной помады, — сказала она.
— Пошли со мной, — сказала Эми.
Она отложила миски, приобняла Кэт за талию и подтолкнула ее к ступенькам.
— Наверх, — сказала она. — Сейчас мы тебя накрасим.
В крошечной ванной за спальней Коттара и Сонье Эми разложила баночки, тюбики и карандаши. Единственным местом, где это можно было сделать, оказалась крышка унитаза. Кэт пришлось сесть на край ванны, лицо почти упиралось в живот Эми. Эми размазала жидкость по ее щекам и втерла блеск в веки. Потом она напудрила Кэт. Она пригладила и навела глянец на ее брови и положила три слоя туши на ресницы, подчеркнула губы и накрасила их, потом все стерла и накрасила снова, приподняла голову Кэт и повернула лицом к свету. Кто-то постучал в дверь, а потом затряс ее.
— Погодите! — выкрикнула Эми. И потом: — Да в чем дело-то, неужели нельзя отлить за бревном?
Она не позволяла Кэт взглянуть в зеркало, пока не закончит.
— И не улыбайся, — предупредила она. — Весь эффект испортишь.
Кэт отвесила челюсть и молча уставилась на свое отражение. Губы ее стали похожи на сочные лепестки, лепестки лилии. Эми оттянула ее от зеркала:
— Я не это имела в виду. Лучше вообще на себя не смотри, не надо тебе смотреть, выглядишь прекрасно.
— Придержи свой драгоценный мочевой пузырь, мы выходим! — крикнула она тому, кто теперь ломился в дверь, или тому, кто продолжал ломиться.
Эми сунула свои запасы в сумку и закинула ее под ванну. Она позвала Кэт:
— Пойдем, красавица.
Кэт и Эми танцевали на дощатом причале, смеясь и подначивая друг дружку. Какие-то мужчины попытались внедриться между ними, разбить пару, и какое-то время женщины их не впускали. А потом сдались, расцепили объятия, изображая на лицах тревогу и хлопоча руками, подобно подбитым птицам, когда те понимают, что пойманы, и каждая из них закружилась в орбите новоявленного партнера.
Кэт танцевала с мужчиной, которого она не помнила и до этого не видела на вечеринке. Он вроде был ровесником Коттара. Высокий, с несколько округлившейся линией талии, бесцветной курчавой копной на голове и болезненной синевой под глазами.
— Вдруг я упаду? — сказала Кэт. — Мне дурно. Вдруг я свалюсь в воду?
— Я тебя удержу, — заверил он ее.
— Мне дурно, но я не пьяна, — сказала она.
Он засмеялся, а она подумала: «Ну да, все пьяные так и говорят».
— Правда? — спросил он, и это было правдой, потому что она в этот вечер даже не пригубила ни пива, ни пунша.
— Если, конечно, алкоголь не проник сквозь кожу, — сказала она. — Осмотически.
Он не ответил, но прижал ее к себе, а потом отпустил, не отрывая от нее взгляда.
Соития Кэт и Кента были нетерпеливыми и усердными, но в то же самое время сдержанными. Они не обольщали друг друга, но так или иначе ковыляли к интимности или к тому, что они понимали под интимностью, но никогда не заходили дальше. Если у вас всю жизнь один партнер, ничего не может быть особенным, ибо эти отношения уже особые. Они видели наготу друг друга, но в такие минуты им не приходилось смотреть друг другу в глаза.
А теперь Кэт делала это с незнакомым партнером, не отрываясь. Они прижимались и отпускали друг друга, кружили и уворачивались, выставлялись друг перед другом и глядели друг другу в глаза. Их глаза заявляли, что это их представление — ничто, ничто по сравнению с обнаженной схваткой, которую они могут устроить, если захотят.
И одновременно это была шутка. Стоило их телам соприкоснуться, они отстранялись. Сходились — приоткрывали рты и дразняще проводили языком по губам — и снова прядали друг от друга, изображая томление. На Кэт была кофточка с короткими рукавами из чесаной шерсти, удобная для кормящей матери благодаря низкому треугольному вырезу и застежке на пуговицах впереди. Когда в следующий раз они сошлись, партнер Кэт поднял руку, словно защищался, и обратной стороной ладони и обнаженным запястьем провел по ее набухшей под электризующейся шерстью груди. От этого движения они запнулись и чуть не бросили танцевать. Но все-таки продолжили, хотя у Кэт от слабости подкашивались ноги.
Она услышала, как ее зовут: «Миссис Мэйберри! Миссис Мэйберри!»
Это была нянечка, она стояла на середине лестницы, ведущей к дому Моники. Кэт остановилась. Покачиваясь, она прошла между танцорами. В темноте она спрыгнула с пристани и поковыляла по песку. Она знала, что партнер ее идет за ней, она слышала, как он тоже спрыгнул следом. Кэт уже изготовилась подставить ему губы или шею. Но он схватил ее за бедра, развернул к себе, упал на колени и поцеловал ее прямо в промежность сквозь хлопковые трусы. Потом легко вскочил, что было странно для такого крупного мужчины, и в тот же миг они развернулись спинами друг к другу. Кэт поспешила к свету и пошла по ступенькам в дом Моники. Тяжело дыша и цепляясь за перилла, как старуха. Нянечка ждала в кухне.
— О, ваш муж, — сказала она. — Ваш муж как раз пришел с бутылочкой. Я не знала, как вы договорились, могла бы и не кричать.
Кэт вошла в гостиную Моники. Свет туда попадал только из коридора и кухни, но она могла рассмотреть, что это настоящая гостиная, не переделанная веранда, как у нее и у Сонье. Там стояли современный скандинавский журнальный столик и красиво обитая мебель, а окна скрывали шторы. Кент сидел в кресле и кормил Ноэль сцеженным молоком из бутылочки.
— Привет, — сказал он тихо, хотя Ноэль сосала так яростно, что даже не могла дремать. — Я подумал, что это хорошая идея, — сказал он, — на случай если ты выпьешь.
— Нет же, — сказала Кэт. — Я не пила.
Она сжала груди, чтобы проверить их наполненность, но зашевелившаяся шерсть дала ей такой заряд сладострастия, что она не смогла сжать сильнее.
— Ну вот, теперь давай ты, если хочешь, — сказал Кент.
Она села на краешек дивана, наклонившись вперед, изнывая от желания спросить его, как он зашел в дом — с парадного входа или с черного? Как пришел — по дорожке или по пляжу? Если он шел по берегу, то не мог не видеть танцующих на причале. Но там танцевало так много людей, что он вряд ли мог различить отдельных танцоров. Так или иначе, нянечка ее заметила. И он наверняка слышал, как она ее зовет. И тогда посмотрел, кому она, собственно, кричит. Но это если он шел по берегу. А если шел по дорожке и вошел в дом по коридору, а не через кухню, то вообще не видел танцующих.
— Ты услышал, как она меня зовет? — спросила Кэт. — И поэтому пошел домой за бутылочкой?
— Я заранее подумал об этом, — ответил Кент. — Подумал, что время пришло.
Он приподнял бутылочку, чтобы посмотреть, сколько высосала Ноэль.
— Голодная, — отметил он.
— Да, — кивнула она.
— Ну вот, теперь у тебя есть возможность. Если хочешь надраться.
— А ты сейчас? Уже надрался?
— Я свою долю получил, — сказал он. — Давай, если хочешь. Развлекись.
Она подумала, что его бахвальство звучит печально и притворно. Наверно, он видел, как она танцует. Иначе спросил бы, что она сделала со своим лицом.
— Я лучше подожду, пока ты закончишь.
Он нахмурился, глядя на ребенка, поднял бутылочку повыше.
— Почти закончил, — сказал он, — теперь ты, если хочешь.
— Мне надо в туалет, — сказала Кэт.
А в туалете у Моники, как она и ожидала, было полно гигиенических салфеток. Она открыла горячую воду, намочила лицо и стала тереть, намачивала и терла, то и дело смывая в унитаз комки черных и фиолетовых салфеток.
IV
Посреди второго бокала, когда Кент разглагольствовал о поразительном, воистину оскорбительном росте цен на недвижимость в западном Ванкувере, Сонье сказала:
— Знаете ли, у меня есть теория.
— Эти наши прежние обиталища, — сказал он. — Они давным-давно сгинули, как в песне поется. Даже не знаю, сколько вам за него дадут. Просто собственность. Под снос.
Так что это за теория у нее? О ценах на недвижимость?
Нет. Это касалось Коттара. Она не верила, что он мертв.
— Да, сначала я поверила, — сказала она. — Мне и в голову не приходило сомневаться. И вдруг я проснулась и поняла, что это может не соответствовать действительности. Вообще не соответствовать действительности. Исходя из обстоятельств, — сказала она.
Ей написал врач. Из Джакарты. И вот оно — ей написал человек, назвавшийся врачом. Он сообщил, что Коттар умер, и сказал от чего, привел медицинский термин, она забыла какой. Да и не важно, просто инфекционная болезнь. Но откуда уверенность, что это настоящий доктор? Но если даже и доктор, то откуда она знает, что он говорил правду? Коттару не составило бы труда познакомиться с доктором. Подружиться с ним. Каких только друзей у него не было.
— Или даже приплатить ему, — добавила она. — Такое тоже вполне вероятно.
— А зачем ему это понадобилось? — спросил Кент.
— Он был бы не первым врачом, совершившим подобное. Может, ему деньги нужны были на содержание больницы для бедных, откуда нам знать. А может, для себя. Доктора не святые.
— Нет, — возразил Кент. — Я о Коттаре. Зачем это Коттару. Да и были ли у него деньги?
— Нет. Совсем не было, но… я не знаю. Это только гипотеза теперь. Деньги. И я была там. Я была там, заботясь о его матери. И он знал, что я никогда ее не брошу. Так что все было хорошо. Правда, все было хорошо, — сказала она. — Я очень любила Делию. Она меня совсем не тяготила. Я, наверно, была создана заботиться о ней, а не быть замужем за Коттаром. И вот знаете что странно — Делия тоже так думала. О Коттаре. Те же самые подозрения у нее были. И она никогда со мной ими не делилась. Каждая из нас боялась разбить сердце другой. Но однажды вечером, незадолго до ее ухода, я читала ей детектив, там действие происходило в Гонконге, и она сказала: «Может, и Коттар сейчас там. В Гонконге». Она сказала, что надеется, что не огорчила меня. Тогда я рассказала ей, что я думаю, и она засмеялась. Мы смеялись вместе. Ждешь, что убитая горем мать станет жаловаться, как ее единственный ребенок сбежал и бросил ее, — но не тут-то было. Может, не все старики такие. По-настоящему старые. Горе их больше не убивает. Они, наверно, догадались, что оно того не стоит. Он знал, что я позабочусь о ней, хотя, вероятно, не представлял, как долго, — сказала Сонье. — Хотелось бы показать вам письмо доктора, да я его выбросила. Все это было довольно глупо, но я тогда обезумела. Я не представляла себе, как буду жить. Не знала, что мне делать дальше, какие запрашивать документы, или просто попросить прислать справку о смерти или хоть что-нибудь. Я потом только до этого додумалась, но и тогда у меня не было никакого адреса. Я не могла написать в американское посольство, потому что это были люди, с которыми Коттар хотел иметь дело в последнюю очередь. И он не был гражданином Канады. Может, он даже жил там под чужим именем. Там могло быть ложное опознание личности. Фальшивый паспорт. Он намекал на нечто подобное. И этим он тоже привлекал меня, отчасти.
— Кое-что здесь похоже на инсценировку, — заметил Кент. — Вы так не думаете?
— Ну конечно, я так думаю! — воскликнула Сонье.
— И конечно, никакой страховки нет и в помине?
— Не говорите глупостей. Будь у него страховка, я бы добралась до истины. И да, страховки не было, — сказала Сонье. — Итак, вот что я намерена сделать…
Она сказала то, чего никогда не говорила свекрови. Что когда она останется одна, то отправится на поиски. Она собирается отыскать Коттара или выяснить правду.
— Вы, наверное, думаете, что это какая-то дикая фантазия? — спросила Сонье.
«Долой с этой качалки», — подумал Кент и внутренне содрогнулся. В каждом визите в этом путешествии рано или поздно наступал момент острого разочарования. Момент, когда он понимал, что человек, с которым он говорил, человек, которому он признавался, что ищет, не собирается дать ему то, за чем он пришел. Старому другу, которого он навестил в Аризоне, повсюду мерещилась опасность, несмотря на то что жил он в охраняемом кондоминиуме. Жена старого друга, которой было за семьдесят, всучила Кенту альбом с фотографиями, где она с какой-то старухой нарядились, как клондайкские девки в салуне, для любительского спектакля. И его взрослые дети были заняты собственными жизнями. Это он полагал естественным и неудивительным. Удивительно было то, что все эти жизни, жизни его сыновей и дочери, казались завершенными, предсказуемыми что ли. Даже происходящие в их жизни перемены он мог предвидеть, или же ему рассказали о них — Ноэль находилась на грани развода со вторым мужем, — но все эти изменения его не интересовали. Он не говорил об этом с Деборой и даже себе не признавался, но так оно и было. И вот теперь Сонье. Сонье, которая ему действительно нравилась, к которой он относился бережно, в каком-то смысле обращаясь с ней словно с частью некой мистерии, — Сонье превратилась в болтливую старуху с непостижимым сдвигом в мозгах.
А ведь у него была причина повидать ее, к которой они так и не приблизились из-за этих причитаний по Коттару.
— Будем откровенны, — сказал он, — не очень-то благоразумно так себя вести, если откровенно.
— Погоня за химерами, — охотно согласилась Сонье.
— Существует вероятность, что он уже умер, так или иначе.
— Верно.
— Или мог уехать куда угодно и жить где угодно, если ваша теория верна.
— Точно.
— Значит, единственная надежда — что он умер на самом деле, и тогда ваша теория ошибочна, и вы получите тому подтверждение и не продвинетесь ни на шаг.
— О, я думаю, что продвинусь.
— Но вы же можете точно так же оставаться здесь и написать несколько писем.
Сонье сказала, что она не может согласиться. Сказала, что нельзя обращаться в официальные органы в делах такого рода.
— Нужно стать своей на улицах.
На улицах Джакарты для начала, вот что она имела в виду. В местах таких, как Джакарта, люди не живут за замкнутыми дверьми. Люди живут на улицах, и все про них известно. Знают владельцы лавок, всегда есть кто-то, знающий кого-то еще, и так далее. Она будет задавать вопросы, и пройдет слух, что она здесь. Такой человек, как Коттар, не может пропасть бесследно. Даже если прошло столько времени, должна остаться память. Информация любого сорта. Может, и дорогостоящая, и не все будет правдой. И все равно.
Кент хотел спросить, как она планирует достать денег. Не получила ли она что-то в наследство от родителей? Он вроде помнил, что они порвали с ней, когда она вышла замуж. Видимо, она думала, что ей отвалится жирный кусок за этот дом. Времени на это уйдет немало, но, может, она и права.
Но даже если это так, она не сможет отмахнуться от всего за пару месяцев. Но слух пройдет, это точно.
— В тех городах многое изменилось, — все, что он мог сказать.
— Не то чтобы я пренебрегаю обычными каналами, — сказала она. — Я пойду везде. Посольства, регистрация смерти, истории болезни, если там такое есть. На самом деле я уже написала письма. Но в ответ одни отписки. Надо появиться там во плоти. Там надо быть. Быть там. Ходить кругами, и всех раздражать, и находить слабые места, и быть готовым сунуть в руку, если необходимо. У меня нет ни малейших иллюзий, что это будет легко. Например, я знаю о тамошней изнуряющей жаре. И кажется, там нет ни одного приличного места, во всей Джакарте. Там болота и низины везде. Я же не дура. Я сделаю прививки и приму все предосторожности. Возьму все витамины, и потом, Джакарту основали голландцы, там должен быть джин. Голландская Вест-Индия. Это не очень старый город, вы же знаете. Построен где-то в тысяча шестисотых, я думаю. Одну минутку. У меня много… я покажу вам… где же они…
Она поставила стакан, который уже был пуст какое-то время, быстро встала и, сделав несколько шагов, споткнулась о порванную подстилку и накренилась, но устояла, ухватившись за дверь.
— Надо бы избавиться от этих старых ковриков, — сказала Сонье и помчалась в дом.
Он слышал, как она сражается с неуступчивыми ящиками комода, потом звук упавшей кучи бумаг, и она при этом продолжала с ним говорить полубезумным убедительным тоном — люди отчаявшиеся пытаются привлечь ваше внимание. Кент не мог разобрать, что она говорила — или пыталась сказать. Он воспользовался возможностью принять лекарство — последние полчаса он только об этом и думал. Это была пилюлька, которую можно было проглотить без жидкости — его стакан тоже был пуст. И он мог бы, возможно, положить ее в рот так, что Сонье ничего бы и не заметила. Но что-то вроде застенчивости или суеверия останавливало его. Он сопротивлялся постоянным заботам Деборы, хранящей его здоровье, и дети его должны были знать это, но, казалось, существовал некий запрет на подобную откровенность с ровесниками Кента.
Таблетка пришлась ко времени. Прилив слабости, враждебный жар, пугающий распад подкрались и выступили капельками пота на висках. Несколько минут он чувствовал, как они захватывают плацдарм, но, равномерно дыша и медленно меняя положение рук и ног, он вернул себе позиции. Все это время Сонье возилась с кипой бумажных карт и листами, которые, наверное, были копиями страниц из библиотечных книг. Кое-что выскользнуло у нее из рук, когда она наконец уселась. Коврик покрылся бумагой.
— Вот то, что теперь называют старой Батавией, — сказала она. — Тут все хорошо, геометрически расположено. Очень по-голландски. Вот пригород под названием Вельтверден. Это значит «вполне довольный». Ну не шутка ли будет, если я найду его там? А вот старая португальская церковь. Построена в конце тысяча шестисотых. Конечно, это мусульманская страна. У них там самая большая мечеть в Юго-Восточной Азии. Капитан Кук заходил туда для ремонта кораблей и очень хвалил тамошние верфи. Но сказал, что дренажные канавы в болотах были плохи. И наверняка такими и остались. Коттар никогда не выглядел крепким, но заботился о себе получше, чем можно было подумать. Он не просто болтался по малярийным болотам или покупал выпивку с лотка на улицах. Ну да, конечно, теперь, если он там, я надеюсь, что он уже полностью акклиматизировался. Я не знаю, что ожидать. Могу представить, что он полностью натурализовался, стал похож на них, или воображаю его мирно живущим с маленькой желтой женщиной, которая его всегда ждет. Представляю, как он ест фрукты у бассейна. Или ходит повсюду, собирая деньги для бедняков.
Вообще говоря, кое-что Кент помнил. Ночь на берегу, Коттара, обернутого лишь полотенечком, который подошел к нему и спросил, что он знает, как фармацевт, о тропических болезнях. Но это не выглядело неуместным. Любой, собирающийся туда, куда он собирался, задал бы такой же вопрос.
— Вы думаете об Индии, — сказал он Сонье.
Он уже пришел в себя, таблетка прибавила надежности механизму у него внутри, остановив то, что он ощущал как расход костного мозга.
— Вы знаете, есть одна причина, по которой он должен быть жив, — сказала Сонье. — Он мне не снится. Мне снятся умершие. Все время мне снится моя свекровь.
— Мне ничего не снится, — сказал Кент.
— Всем людям снятся сны, — возразила Сонье. — Вы просто не помните.
Он потряс головой. Кэт еще жива. Она живет в Онтарио. В Холлибёртоне, недалеко от Торонто.
— Твоя мать знает, что я здесь? — спросил он у Ноэль.
— О, ну конечно, — ответила та. — Наверняка.
Но никто так и не постучался в двери. Когда Дебора спросила его, хочет ли Кент сделать крюк, он ответил:
— Давай не сбиваться с дороги. Не стоит.
Кэт жила одна у озерца. Мужчина, выстроивший вместе с нею дом, в котором они с Кэт прожили довольно долго, умер.
— Но у нее есть друзья, — сказала Ноэль, — она в порядке.
Когда Сонье упомянула Кэт ранее в их разговоре, у Кента возникло теплое и опасливое ощущение, что эти две женщины все еще общаются. Существовал риск, что ему придется выслушать то, чего он знать не хотел, но была и надежда, что Сонье донесет Кэт, как хорошо он выглядит (и он полагал, что хорошо, — неизменный вес и ровный загар с Юго-Запада) и как он счастлив в браке. Ноэль могла сказать что-то подобное. Но слово Сонье значило бы больше. Он ожидал, что Сонье заговорит о Кэт снова. Но Сонье не пошла этим галсом.
Вместо Кэт она была одержима Коттаром, глупостью и Джакартой.
Беспокойство сейчас нарастало не в нем самом, но за окнами, где ветер беспрестанно раскачивал кусты и напирал все сильнее. И это были не те кусты, что опускали длинные, подвижные ветки перед таким ветром. Ветви этих кустов тугие, и листья так тяжелы, что каждый куст надо как следует раскачать, чтобы вырвать с корнем. Солнечный свет оплавил маслянистую зелень. Ибо солнце еще сияло, но ветер нагнал тучи, хотя это не означало, что польет дождь.
— Еще выпьем? — спросила Сонье. — Меньше джина?
Нет, после таблетки он не мог.
Все теперь было в спешке. Кроме случаев, когда все тянулось безнадежно медленно. В дороге он просто ждал, когда Дебора довезет его до следующего города. А потом что? Ничего. Но порой приходило мгновение, когда казалось: все может что-то ему сообщить. Качающиеся кусты, выцветающий свет. Все мгновенно, наспех, когда невозможно собраться. Только-только захочешь подвести итоги, а перед тобой прыткий, бестолковый вид, будто глядишь с вертящейся карусели. И тогда тебе в голову приходит ложная идея. Что кто-то умерший жив и находится в Джакарте.
Но какой толк знать, что этот кто-то жив, что можно доехать до самой его двери, если ты упускаешь эту возможность?
Что важнее этой жертвы? Увидеть в ней чужую, не веря, что она была твоей женой, или увидеть, что она никогда не могла быть чужой и все же недостижимо далека от тебя.
— Они сбежали, — сказал он. — Вдвоем.
Сонье позволила бумаге, что лежала у нее на коленях, упасть на пол и присоединиться к прочим листам.
— Коттар и Кэт, — сказал он.
— Такое случается каждый день, — согласилась она. — Почти каждый день в это время года, когда под вечер поднимается ветер.
Пятнышки величиной с монетку поймали свет, пока она говорила, словно зеркало посылало солнечные зайчики.
— Жена ваша что-то долго ходит, — сказала она. — Абсурд, конечно, но молодежь меня не интересует. Если бы они исчезли совсем, и тогда это не имело бы значения.
— Напротив, — сказал Кент. — Вы же говорите о нас. О нас.
Благодаря таблетке его мысли растягивались длинными и прозрачными языками и начинали светиться, как шлейфы пара. Он сейчас исследовал мысль, относящуюся к пребыванию в этом доме, к словам Сонье о Джакарте, к ветру, сдувающему песок с дюн.
Мысль, как-то связанную с нежеланием продолжать — продолжать возвращение домой.
Остров Кортеса
Невестушка. Мне было двадцать лет, ростом была я пять футов и семь дюймов, весила фунтов сто тридцать пять — сто сорок, но некоторые (жена Чессова начальника, например, секретарша постарше в его офисе, миссис Горри, жившая этажом выше) называли меня не иначе как «невестушка». Иногда — «наша невестушка». Мы с Чессом превратили все в шутку, но на людях он принимал это мое звание с видом любящим и заботливым. Я же натянуто улыбалась, смущалась, но не возражала.
Жили мы в полуподвале, в Ванкувере. Супруги Горри не владели домом, как я думала вначале, он принадлежал сыну миссис Горри, Рэю. Он иногда заглядывал, чтобы починить чего. И входил через подвальную дверь, как и мы с Чессом. Это был тощий, узкогрудый человек, чуть за тридцать, всегда с ящиком инструментов и в неизменной кепке, какие носят работяги. Он вечно сутулился, может, потому, что трудился внаклонку, когда слесарил, или чинил проводку, или плотничал. Лицо у него было восковое, и кашлял он изрядно. Каждое его «кхе-кхе» являло собой сдержанное, независимое высказывание, утверждающее, что Рэй находится в подвале в силу необходимости. Он не извинялся за свое присутствие, но и не расхаживал по дому по-хозяйски. Мне случалось с ним разговаривать, только когда он стучал в дверь, чтобы сообщить, что отключит на какое-то время воду или свет. За квартиру мы каждый месяц платили миссис Горри наличными. Не знаю, передавала она сыну всю сумму целиком или оставляла часть себе на разные траты. Поскольку жили они с мистером Горри, сказала она мне, только на его пенсию. Сама миссис Горри пенсии не получала. «Я еще недостаточно старая», — сказала она.
Миссис Горри всегда кричала с верхней ступеньки, осведомляясь о здоровье Рэя, и приглашала на чашку чая. Он каждый раз отвечал, что все у него нормально, а вот времени нет. Она говорила, что он так тяжело работает, прям как она сама. И пыталась всучить ему сласти собственного изготовления, какое-нибудь повидло, или печенье, или имбирные пряники, то же самое она проделывала со мной. Он отказывался, мол, только что пообедал или что этого добра и дома полно. Я тоже долго отнекивалась, но на седьмой или восьмой раз — сдалась. Мне стало неловко постоянно отказывать, видя ее обхаживание и разочарование. Я восхищалась умением Рэя говорить «нет». Он даже не говорил «нет, мама». Просто «нет» — и все.
Потом она пыталась найти тему для беседы.
— Что там у тебя новенького-интересненького приключилось, сынок?
Ничего особенного. Не знаю. Рэй не грубил, не раздражался, но никогда не уступал матери ни пяди. Со здоровьем все нормально. Простуда прошла. У миссис Корниш и Айрин тоже всегда все было нормально.
Миссис Корниш — это хозяйка дома, в котором он жил, где-то в восточном Ванкувере. Как и у нас, в доме миссис Корниш для него всегда находилась работа, так что он убегал, как только заканчивал тут. А еще он помогал ухаживать за дочерью миссис Корниш — Айрин, прикованной к инвалидной коляске. Айрин страдала церебральным параличом.
— Бедняжка, — говорила миссис Горри, когда Рэй уверял ее в отличном здоровье Айрин.
Она никогда не упрекала сына, что он проводит много времени с болезной девочкой, гуляет с ней в Стэнли-парке или возит вечерами за мороженым. (Она была в курсе, потому что иногда звонила миссис Корниш.) Но мне она жаловалась:
— У меня так и стоит перед глазами ее лицо с текущим изо рта мороженым. Не могу отделаться. Люди, наверно, глазеют на них — и радуются.
Она сказала, что когда вывозит мистера Горри в инвалидной коляске на улицу, то народ на них тоже глазеет (мистер Горри перенес инсульт), но иначе, потому что на улице он не двигается и помалкивает, а она всегда следит, чтобы он выглядел прилично). А вот Айрин сидит враскоряку и долдонит: «гаггледигагаледи — гаггледи»… Бедняжка не умеет молчать.
Миссис Корниш явно что-то задумала, сказала миссис Горри. Кто будет смотреть за инвалидкой, когда мать уйдет?
— Должен же быть какой-то закон, запрещающий жениться на таких вот, но ведь нету его.
Когда миссис Горри зазывала меня на кофе, мне не хотелось идти. У себя в подвальчике я вела собственную насыщенную жизнь. Время от времени, когда она стучала в дверь, я притворялась, что меня нет дома. Но приходилось тушить свет и запирать дверь, едва заслышав, что она открывает свою на верхнем этаже, и не шевелиться, пока она стучала ногтями по двери и нараспев звала меня. А после еще час как минимум нельзя было шуметь и спускать воду в туалете. Если я говорила, что не располагаю временем, что занята, она смеялась и спрашивала:
— Чем занята?
— Пишу письмо, — отвечала я.
— Все пишешь и пишешь, — замечала она. — Наверное, скучаешь по дому.
У нее были розовые брови, некая вариация розовато-рыжего цвета ее волос. Сомнительно, что волосы были такими от природы, но как она умудрялась выкрасить брови? Лицо у нее было худое, нарумяненное, жизнерадостное, зубы крупные и блестящие. Ее неуемная жажда общения, ее амикошонство не принимали никаких возражений.
Когда Чесс впервые привел меня в эту квартиру, встретив на вокзале, она постучала в дверь, держа тарелку с печеньем, и на лице застыла эта ее волчья улыбка. Я даже не успела еще снять дорожную шляпку, а Чессу пришлось прервать труды по развязыванию моего пояса. Печенье оказалось сухим, твердым, с ярко-розовой присыпкой в ознаменование моего брачного статуса. Чесс разговаривал с ней учтиво. Ему надо было вернуться на работу через полчаса, и когда он от нее отделался, уже не осталось времени на то, с чего он начал. Вместо этого он сгрыз все печенье, одно за другим, жалуясь, что на вкус оно — чистые опилки.
— Твой благоверный такой строгий, — говорила она мне. — Прямо до смеха — как серьезно-пресерьезно он на меня смотрит, когда приходит или уходит. Так и хочется сказать ему: эй, расслабься, это не ты держишь мир на плечах.
Иногда мне приходилось подниматься к ней, бросив книгу или не дописав предложение. Мы усаживались за обеденный стол, покрытый кружевной скатертью и восьмиугольным зеркалом, в котором отражался глиняный лебедь. Мы пили кофе из фарфоровых чашек и ели из блюдечек под стать чашкам (все то же печенье, или липкие булочки с изюмом, или черствые кексы) и прижимали крохотные вышитые салфеточки к губам, чтобы смахнуть крошки. Я сидела лицом к горке, в которой выстроились красивые бокалы, сахарницы и сливочники, солонки с перечницами, слишком хрупкие или слишком изящные для каждодневного пользования, цветочные вазы, чайник в виде покрытой соломой хижины и подсвечники в форме лилий. Раз в месяц миссис Горри перемывала весь фарфор из шкафа. Так она мне сказала. Она поучала меня, как я должна обустроить свое будущее, тот дом и то будущее, которое я, по ее представлениям, обрету, и чем больше она говорила, тем сильнее я чувствовала свинцовую тяжесть во всем теле, тем больше мне хотелось зевать и зевать уже с утра, уползти от нее, спрятаться и заснуть. Но вслух я всем восхищалась. Содержимым горки, тонкостями хозяйствования миссис Горри, тщательно подобранной одеждой, в которую она облачается каждое утро. Юбками и кофточками всех оттенков розовато-лилового или кораллового и венчающими гармонию шарфиками из искусственного шелка.
— Первым делом надо нарядиться, словно ты собираешься на работу, причесаться, накраситься. — (Она не однажды заставала меня в халате.) — Потом ты всегда можешь надеть фартук, если надо помыть чего или испечь. Это укрепляет моральный дух. И всегда имей в запасе выпечку — мало ли, гости вдруг нагрянут. — (Насколько я знаю, к ней никто не заходил, кроме меня, но и обо мне едва ли можно было сказать, что я «вдруг нагрянула».) — И боже тебя упаси подавать кофе в кружках.
Ну, вообще-то, выражалась она не столь категорично. Все больше: «Я всегда…», или «Как правило, я люблю…», или «Мне кажется, было бы красивее…».
— Даже живя в дебрях, я всегда предпочитала…
Желание зевнуть во весь рот или заорать чуть ослабело на миг. Когда это она жила в дебрях? И в каких именно?
— О, далеко, на побережье, — пояснила она. — Я ведь тоже была невестой, давным-давно. Я долго там прожила. В Юнион-Бэе[16]. Впрочем, не такие уж и дикие дебри. Остров Кортеса.
Я спросила, где это, и она сказала:
— О, далеко отсюда.
— Там, наверное, интересно, — сказала я.
— О, интересно. — Она вздохнула. — Если тебе интересны медведи. Или пумы. Я предпочитаю чуточку более цивилизованные места.
Столовая отделялась от гостиной раздвижной дубовой дверью. Дверь всегда была приоткрыта, чтобы миссис Горри, находясь на дальнем конце стола, могла приглядывать за мистером Горри, сидящим в глубоком раскладном кресле у окна. Она называла его «мой муж в инвалидной коляске». Хотя на самом деле в инвалидной коляске он сидел, только когда она вывозила его на прогулку. У них не было телевизора, в те времена телевизоры были еще в новинку. Мистер Горри сидел и смотрел на улицу, на парк Китсилано напротив и на залив Беррард за ним. Он сам добирался до туалета, с палкой в одной руке, а другой цепляясь за спинки стульев или колошматя об стену. А добравшись туда, тоже справлялся самостоятельно, хоть это и занимало много времени. И миссис Горри говорила, что после там иногда нужно было слегка прибраться. Все, что я видела обычно, — это брючина мистера Горри, вытянутая на ярко-зеленом кресле. Раз или два ему приходилось совершать этот шаркающий и шаткий бросок к туалету, когда я у них гостила. Крупный человек, крупная голова, широкие плечи, тяжелая кость.
Я не смотрела ему в лицо. Люди, искалеченные инсультом или иными болезнями, для меня — дурное предзнаменование, грубое напоминание. И дело не в парализованных конечностях или еще каких горестных отметинах, которых я избегала, — я избегала их человеческих глаз.
Не думаю, что и он на меня смотрел, хотя миссис Горри сообщала ему, что я к ним пришла, жиличка снизу. Он издавал крякающий звук, и это лучшее, что он мог сделать в качестве приветствия или прощания.
В нашей квартире было две с половиной комнаты. Сдавались они меблированными, и, как обычно в таких местах, половину из этих предметов обстановки в ином случае давно бы уже выбросили. Я помню пол в гостиной, выстланный квадратными и прямоугольными обрезками линолеума — все разного цвета и с разным узором, подбитые в одно целое, как пестрое стеганое одеяло, и скрепленные металлическими скобками. И газовую печку на кухне, питавшуюся четвертаками. Кровать наша стояла в углублении рядом с кухонькой — да так плотно, что залезать в нее приходилось у изножья. Чесс читал, что так женщины гарема входили на ложе султана, сначала восхищаясь его ногами, а затем ползли по нему, отдавая должное остальным частям тела. Так что иногда мы играли в эту игру.
Занавеска скрывала кровать, отделяя спальную нишу от кухни. Вообще-то, это было старое покрывало, скользкое и бахромчатое, с лицевой стороны узор из вишневых роз и зеленых листьев на желтовато-бежевом фоне, а с изнанки — полоски вишнево-красного и зеленого с цветами и листьями, проступающими, как привидения, в бежевом цвете. Эту занавеску я помню лучше всего остального в квартире. И не удивительно. В разгар сексуальных утех и потом, после них, эта ткань мозолила мне глаза и стала воспоминанием о том, что мне больше всего нравилось в замужестве, — о той награде, ради которой я терпела и непредвиденно обидное положение «невестушки», и изощренную пытку горкой с фарфором.
Мы с Чессом выросли в семьях, где сексуальные отношения до замужества считались отвратительными и непростительными, и они же в браке никогда не обсуждались и скоро забывались. Мы, сами того не зная, застали самый конец времен, когда на плотскую любовь смотрели именно так. Однажды мать Чесса нашла в его чемодане презервативы и в слезах побежала к его отцу (Чесс объяснил, что их выдавали в лагере, пока он отбывал военную подготовку в университете, — это было правдой — и что он совершенно о них забыл — тут он соврал). Поэтому обладание собственным жильем и собственной кроватью, где мы могли делать все, что хотели, казалось нам чудом. Мы пошли на эту сделку, но нам никогда не приходило в голову, что старшее поколение — родители, тетки и дядья — тоже могли совершить эту сделку, потакая вожделению. Казалось, что их заботили только дома, имущество, газонокосилки, холодильники и нерушимость стен. А если говорить о женщинах — дети. Все, что и мы вольны выбрать или не выбрать в будущем. Мы никогда не думали, что все это неизбежно и неумолимо свалится на нас, как возраст или погода.
И по сей день, когда я рассуждаю обо всем этом здраво, так и не свалилось. Ничто не случилось против нашей воли. Даже беременность. Мы рисковали, просто чтобы доказать свою взрослость, если бы это действительно случилось.
Еще одним занятием, которому я отдавалась за этой занавеской, было чтение. Я читала книги, взятые в библиотеке Китсилано, в двух кварталах от дома. И когда я выныривала из бурлящих вихрей потрясения, куда зашвыривали меня книги, и голова кружилась от поглощенных сокровищ, то перед глазами мелькали все те же полосы на занавеске. И не персонажи, не сюжет, но сам дух книги садился на неправдоподобные цветы и исчезал в темно-вишневом потоке или в сумрачной зелени. Я читала толстые книги с уже знакомыми, чарующими названиями — даже пыталась осилить «Обрученных»[17], а между томами этой эпопеи читала Олдоса Хаксли[18], и Генри Грина[19], и «На маяк»[20], и «Конец Шери»[21], и «Смерть сердца»[22]. Я проглотила их один за другим без предпочтений, отдавшись каждой книге по очереди, как в детстве. Меня все еще обуревали приступы неуемного аппетита, прожорливости на грани муки.
Но по сравнению с детством добавилась одна сложность: мне казалось, что я должна стать писателем, как стала читателем. Я купила школьную тетрадь и попыталась писать — по-настоящему писать: страницы, начинавшиеся решительно, потом скукоживались, так что приходилось их вырывать, сминать, карая сурово, и отправлять в мусор. И продолжалось это снова и снова, пока от тетради не осталась только обложка. Потом я купила другую тетрадь и начала все сначала. И тот же цикл — восторг и отчаяние, восторг и отчаяние. Все равно что скрывать беременность и каждую неделю заканчивать выкидышем.
И не совсем скрывать, впрочем. Чесс знал, что я много читаю и пытаюсь писать. Он ничуть не отбивал у меня охоту. Чесс думал, что это вполне разумно и что, весьма вероятно, я выучусь. Придется, конечно, как следует потренироваться, но освоить можно. Как игру в теннис или в бридж. Я не благодарила его за эту великодушную веру. Она просто влилась в фарс моих бедствий.
Чесс работал в фирме по оптовой продаже бакалеи. Раньше он подумывал о карьере учителя истории, но отец убедил его, что учительство — вовсе не та работа, которая позволит содержать жену, да и вообще сводить концы с концами. Отец помог ему получить должность, но предупредил, что дальше на него рассчитывать нечего. Чесс и не рассчитывал. Всю первую зиму нашего супружества он уходил из дома до рассвета и возвращался поздно вечером. Трудился он не покладая рук, не требуя, чтобы работа удовлетворяла его интересы или служила хоть каким-то идеалам, прошлым или нынешним. Никакой иной цели, только нести нас обоих к жизни, в которой будут газонокосилки и холодильники и которая, как мы считали, нам совершенно безразлична. Наверное, я восхитилась бы его смирением, если бы вообще думала о смирении. Его радостным, даже, можно сказать, галантным смирением.
Но ведь, думала я, так поступают все мужчины.
Я и сама ходила искать работу. Если дождь лил не слишком сильно, я шла в аптеку, покупала газету и прочитывала все объявления за чашкой кофе. Потом я выходила, даже если моросило, и шла во все эти места, где искали официантку, или продавщицу, или фабричную работницу, согласная на любую работу, где не требовалось умение печатать и не нужен был опыт. Если шел ливень, я садилась в автобус. Чесс велел, чтобы я всегда ездила автобусом, а не экономила деньги, идя пешком. «Пока ты экономишь, — сказал он, — другая девушка получит работу».
На самом деле именно на это я и надеялась. И никогда не расстраивалась, услышав, что место занято. Иногда я добиралась до цели и стояла на тротуаре, глядя на «Магазин женской одежды», с его зеркалами и блеклыми коврами, или наблюдала за девушками, легкой походкой спешащими по лестнице на перерыв из той конторы, где искали секретаршу. Я даже не заходила, понимая, что моя прическа и ногти, и стоптанные туфли без каблуков дадут мне дурную характеристику. Так же точно меня обескураживали фабрики — я слышала шум станков в цехах, где разливали по бутылкам напитки или собирали рождественские украшения, и видела свисающие с высоких, как в амбарах, потолков лампочки без абажуров. Мои ногти и обувь без каблуков, может, здесь и не мешали, но неуклюжесть и техническая тупость непременно отозвались бы ругательствами, воплями (я даже слышала повелительные крики, заглушающие шум машин). Меня выгонят с позором. Я считала, что не смогу управиться даже с кассовым аппаратом. Так я и сказала управляющему в ресторане, который уже подумывал меня нанять.
— Как по-вашему, освоите или нет? — спросил он, и я ответила:
— Нет.
Он посмотрел на меня так, словно впервые слышал подобное признание. Но я сказала правду. Я думала, что ничего не смогу освоить, особенно в спешке и на людях. Я остолбенею. Легко я усваивала лишь такие вещи, как перипетии Тридцатилетней войны.
Но, говоря по правде, и не должна была. Чесс зарабатывал нам на жизнь, пусть мы и могли позволить себе только самое необходимое. Мне не надо было выталкивать себя в широкий мир, ведь муж меня содержал. Как и положено мужчине.
Я решила, что справлюсь с работой в библиотеке, так что туда я и обратилась, хоть они и не искали сотрудников. Женщина записала мое имя. Она была вежлива, но не обнадеживала. Потом я пошла в книжные магазины, выбирая те, где не было кассовых машин. Чем безлюдней и неопрятней, тем лучше. Владельцы этих лавчонок курили или клевали носом за прилавками, а у букинистов часто воняло кошками.
— Мы не сильно заняты зимой, — говорили они.
Одна женщина посоветовала вернуться весной:
— Хотя и тогда мы не сильно заняты.
Зима в Ванкувере не была похожа на привычные мне зимы. Ни снега, ни малейшего намека на промозглый ветер. В разгар дня в центре города пахло чем-то вроде жженого сахара — я решила, что это, наверно, из-за троллейбусных проводов. Я шла по Гастингс-стрит, где другие женщины не ходят, — там одни пьянчуги, нищие старики, пронырливые китайцы. Никто мне и слова худого не сказал. Я шла мимо складов, заросших сорняком пустошей, где вообще не было ни души. Или по Китсилано, вдоль высоких деревянных домов, до отказа набитых людьми, вынужденными жить вместе, как и все мы, шла к опрятному Данбару, к его оштукатуренным бунгало и подстриженным деревьям. И по Керрисдейлу, где возникали деревья пошикарней, березки на лужайках. Балки в стиле Тюдоров, Георгианская симметрия, мечты о Белоснежке в имитациях соломенных крыш. Или настоящих соломенных крышах, поди пойми.
Повсюду в этих людских обиталищах свет зажигали в четыре часа пополудни, а потом загорались и уличные фонари, и часто тучи расходились на западе, над морем, чтобы пропустить красные полоски заходящего солнца, и в парке, по которому я петляла, идя домой, листья зимних кустов блестели в сыром розоватом сумраке.
Кто завершил покупки — тот шел домой, кто еще работал — подумывал о доме, кто весь день просидел дома — выбирался на короткую прогулку, чтобы дом показался радушнее. Я встретила женщин с колясками и скулящими старшенькими, только начавшими ходить; никогда бы не подумала, что скоро окажусь в шкуре этих самых женщин. Встретила стариков с собаками и еще стариков, еле ковыляющих или в инвалидных колясках, приводимых в движение супругами или сиделками. Встретила миссис Горри, толкавшую коляску с мистером Горри. На ней была пелерина и берет из мягкой лиловой шерсти (теперь я знаю, что она сама шила и вязала почти всю свою одежду), а на лице — много розового тона. На голову мистера Горри она надвинула кепку, а шею закутала толстым шарфом. Она приветствовала меня пронзительно и собственнически, он — отрешенно. Но те, кто сидит в инвалидной коляске, редко выглядят иначе. У кого-то обиженно-отсутствующий вид, кто-то смотрит прямо перед собой.
— Послушайте, когда мы виделись в парке на днях, — сказала миссис Горри, — вы, случайно, не работу искали?
— Нет, — солгала я.
Инстинктивно я врала ей по любому поводу.
— О, хорошо. Потому что я собиралась сказать, знаете ли, что если вы вышли искать работу, то надо бы как-то прихорошиться, хоть чуть-чуть. Да вы и сами знаете.
— Да, — согласилась я.
— Не понимаю, как нынешние женщины могут вот так выходить. Я никогда не вышла бы в туфлях без каблуков и без косметики, даже в магазин. И тем более искать в таком виде работу.
Она понимала, что я лгу. Она знала, что я замираю за дверью подвала, не отвечая на ее стук. Я бы не удивилась, узнав, что она роется в нашем мусоре и читает разрозненные, измятые страницы с пространным описанием моих бедствий. И почему она от меня никак не отстанет? Она не могла. Я была для нее как работа, — может, мои странности, мое неумение становились на одну доску с увечьями мистера Горри, а то, что невозможно исправить, следовало вытерпеть.
Однажды она спустилась по ступенькам, когда я стирала в главной части подвала. По вторникам мне было разрешено пользоваться ее стиральной машиной, отжималкой и шайками.
— Как там, есть надежда на работу? — спросила она, и по какому-то наитию я ответила, что в библиотеке пообещали найти что-нибудь в будущем.
Я подумала, что смогу притворяться, будто хожу туда работать, — стану ходить туда и сидеть каждый день за одним из длинных столов, читать или даже пробовать писать, как делала раньше иногда. Конечно, шила в мешке не утаишь, если миссис Горри когда-нибудь явится в библиотеку, хотя так далеко она мистера Горри не укатит, да еще в гору, или упомянет о моей работе Чессу — но это вряд ли. Она говорит, что иногда даже боится здороваться с ним, такой у него вид сердитый.
— Что ж, может, до тех пор… — сказала она. — Мне сейчас пришло в голову, что пока вы могли бы немного поработать, сидя с мистером Горри во второй половине дня.
Она сказала, что ей предложили работу в сувенирной лавке при церкви Святого Павла, три-четыре раза в неделю днем.
— Это не за деньги, иначе я бы вас туда послала, — сказала она. — Просто на добровольных началах. Но доктор посоветовал выйти из дома. Сказал: «Вы себя измотаете». И деньги мне ни к чему. Рэй к нам так добр, просто немного поработать на добровольных началах.
Она заглянула в шайку для полоскания и увидела рубашки Чесса в той же чистой воде, где лежала моя ночнушка в цветах и наши бледно-голубые простыни.
— О, дорогая, — сказала она, — надеюсь, вы не положили белое и цветное вместе?
— Ну, чуточку цветастое, — сказала я. — Ничего страшного.
— Цветастое — все еще цветное, — возразила она. — Вы будете думать, что рубашки белые, но они не такие белые, как должны быть.
Я пообещала, что в следующий раз исправлюсь.
— Это просто показывает, как вы заботитесь о вашем мужчине, — заметила она с возмущенным смешком.
— Чессу все равно, — сказала я, не представляя, что с годами все меньше и меньше это будет правдой и как все эти заботы, кажущиеся мелкими и почти шаловливыми на границах моей настоящей жизни, переместятся на первый план и в центр.
Я согласилась сидеть с мистером Горри после двенадцати. На столике за зеленым креслом было расстелено полотенце — если что-нибудь разольется, — а на столе выстроились его баночки с пилюлями, и микстуры, и небольшие часы, чтобы мистер Горри знал, который час. На столе с другой стороны лежала куча чтива. Утренняя газета, вчерашняя вечерняя, журналы «Лайф», «Лук» и «Маклинз» — все толстые, громоздкие журналы тех лет. На полочке под столом — куча альбомов для вырезок, вроде тех, что детям дают в школе, толстая коричневатая бумага и грубые обрезы. Из них торчали вырезки и фотографии. Эти альбомы мистер Горри заполнял много лет, пока инсульт не лишил его возможности орудовать ножницами. В комнате стоял книжный шкаф, но там, кроме журналов и тех же альбомов, ничего не было, разве что половину полки занимали университетские учебники, вероятно Рэя.
— Я всегда читаю ему газету, — сказала миссис Горри. — Читать сам он может, но газета у него в руках не держится, и глаза сразу устают.
Так что я читала газеты мистеру Горри, пока миссис Горри, легко ступая под цветастым зонтиком, шла к автобусу. Я читала ему спортивные страницы, и официальные сообщения муниципалитета, и новости мирового значения, и все об убийцах и грабителях и о плохой погоде. Я читала письма к редактору и письма к доктору, который давал медицинские советы, и вопросы к Энн Ландерс и ее ответы. Видимо, спортивные новости и письма к Энн Ландерс его интересовали больше всего прочего. Иногда я неверно произносила имя спортсмена или путала термины, так что получалась бессмыслица, и мистер Горри указывал мне раздраженным ворчанием, что следует попытаться снова. Когда я читала спортивные страницы, он всегда напрягался. А когда про Энн Ландерс — лицо его расслаблялось и раздавались звуки, которые я принимала за благодарные, — что-то вроде бульканья и громкого урчанья. Они возникали именно тогда, когда письма затрагивали чисто женские или тривиальные проблемы (женщина писала, что ее свояченица утверждает, что сама испекла пирог, хотя забыла убрать бумажную салфетку из кондитерской под ним) или когда речь шла — в иносказательной манере, как тогда было принято, — о сексуальных отношениях.
Во время чтения передовиц или пространного вздора о том, что сказали русские в ООН и что ответили американцы, его веки опускались, или, скорее, веко над еще видящим глазом опускалось почти полностью, а другое, над невидящим потемневшим зрачком, приопускалось, и движение груди его становилось все более заметным, так что я могла сделать паузу и проверить, не заснул ли он. И тогда он издавал другой звук — отрывистый и укоряющий. Я привыкала к нему, он привыкал ко мне, и в звуке этом слышалось все меньше упрека и все больше убеждения. Он убеждал меня не столько в том, что не спит, сколько в том, что пока еще не умирает.
Вероятность того, что он умрет прямо у меня на глазах, сначала вызывала во мне ужас. Почему бы ему не умереть, если он уже по крайней мере наполовину мертв? Слепой глаз, словно камень под черной водой, и угол рта со стороны этого глаза всегда открыт, являя собственные плохие зубы (у большинства стариков зубы вставные), с темными пломбами, мерцающими на мокрой эмали. Он был жив, и казалось, что это ошибка природы, которая в любой момент может быть исправлена. Но потом я сказала себе: надо к нему привыкать. И выглядел он грандиозно: большая благородная голова и широкая натруженная грудь — и бессильная правая рука на длинном бедре в брючине, рука, которая отвлекала меня от чтения, когда попадалась на глаза. Подобен мощам он был, древний воин из варварских времен. Эрик Кровавая Секира[23]. Король Кнут[24].
Мощь покидает королей, — морской король признался рати, — Не бороздить мне вновь морей, я больше не завоеватель.Вот каким он был. Его полумертвый корпус, представляющий опасность для мебели и крушащий стены, когда он совершал великий поход в туалет. Запах его, не зловонный, но и не отдающий детской мыльно-тальковой чистотой, запах плотной одежды со следами табака (хотя он уже не курил) и заключенной под одеждой кожи, такой же плотной, думала я, и натянутой, с ее барственными выделениями и животным жаром. Легкий, но постоянный запах мочи на самом деле мог бы вызвать у меня отвращение, если бы исходил от женщины, но в его случае был не только простительным, но даже казался неким выражением древних привилегий. Если я заходила в туалет после него, то там стоял дух логова — логова шелудивого, но все еще сильного зверя.
Чесс заявил, что я попусту трачу время, сидя с мистером Горри. Погода улучшилась, и дни стали длиннее. Магазины обновляли витрины, выходя из зимней спячки. Все стали подумывать о найме новых служащих. Так что и мне следовало выходить на поиски работы. Миссис Горри платила мне всего сорок центов в час.
— Но я же ей пообещала, — возразила я.
Однажды он сказал, что видел, как она выходит из автобуса. Он видел ее из окна своего кабинета. И было это вовсе не рядом с больницей Святого Павла.
— Наверно, у нее был перерыв.
— Никогда раньше не видел ее при дневном свете, — сказал Чесс. — Господи помилуй.
Я предложила мистеру Горри прогулку в инвалидном кресле, когда погода улучшилась. Но он отверг эту идею, исторгнув такие звуки, которые уверили меня определенно, что ему неприятно разъезжать в коляске у всех на виду или, может быть, неприятно, что его будет везти наемная сиделка вроде меня.
Чтобы спросить его о прогулке, я прервала чтение газеты, а когда попыталась продолжить, он начал жестикулировать и мычать, сообщая, что устал слушать. Я отложила газету. Он помахал здоровой рукой, указывая на кучу альбомов на нижней полке стола позади него. Звуков стало больше. Я могу их описать как хрюканье, храп, отхаркивание, лай, бормотание. Но сейчас эти звуки почти складывались в слова. Они и звучали как слова. Я слышала не только категорические утверждения и требования («Не хочу». «Помоги встать». «Дай глянуть на часы». «Я хочу пить»), но и более сложные высказывания: «Боже, почему эта собака не заткнется?» или «Ну и треп» (это после того, как я прочла не то речь, не то передовицу в газете).
Теперь я слышала: «Давай поглядим, нет ли там чего поинтереснее газет».
Я вытащила стопку альбомов с полки и устроилась у его ног на полу. На обложках были выписаны большими черными фломастерами буквы и даты прошедших годов. Я перелистывала альбом за 1952 год и увидела вырезки из газет по поводу похорон Георга VI. А выше надпись фломастером: «Альберт Фредерик Георг. Родился в 1885. Умер в 1952». Фотография трех королев в траурных вуалях.
На следующей странице история об Аляскинской трассе.
— Какие интересные документы, — сказала я. — Хотите, я помогу начать новый альбом? Вы выберете то, что вам интересно, я вырежу и вклею туда.
Его мычание означало «Слишком много возни», или «Кому это сейчас интересно?», или даже «Что за глупая идея».
Он смахнул короля Георга VI, желая увидеть даты на других альбомах. И не нашел того, что хотел. Он качнулся в сторону книжного шкафа. Я принесла еще одну стопку альбомов. Я поняла, что он ищет альбом за какой-то определенный год, и держала каждый так, чтобы он видел обложку. Иногда я пробегала по страницам, несмотря на его недовольство. Я увидела статью про пантер на острове Ванкувер и еще одну — о смерти акробата, упавшего с трапеции, и еще о ребенке, который выжил в снежной лавине. Мы вернулись в годы войны, добрались до тридцатых, до года моего рождения, и еще почти на десять лет назад, пока он не нашел то, что искал. И отдал приказ:
Загляни в этот. 1923.
Я начала перелистывать с самого начала.
«Январский снегопад похоронил деревню под…»
Не это. Скорее. Шевелись!
Я стала листать быстрее.
Медленней. Полегче. Медленней.
Я листала страницы одну за другой, не останавливаясь, чтобы заглянуть в них самой, пока не дошла до той, которую он искал.
Там не было ни фотографии, ни заголовка. Чернильные буквы гласили:
«Ванкувер-Сан, 17 апреля 1923 г.».
— «Остров Кортеса», — прочла я. — Это?
Читай. Ну же.
Остров Кортеса. Ранним утром воскресенья или вечером в субботу дом Энсона Джеймса Уайльда на южной оконечности острова был полностью уничтожен огнем. Дом находился вдалеке от других жилищ или поселений, и поэтому пламя никто из островитян не заметил. Сообщают, что пожар увидели в воскресенье рано утром с рыболовецкого судна, направлявшегося в бухту Дезолейшн-Саунд, но там, на борту, решили, что кто-то сжигает валежник. Зная, что вследствие влажности в лесу подобные кострища угрозы не представляют, они продолжили путь.
Мистер Уайльд, владелец «Уайльдфрут орчардс», прожил на острове около пятнадцати лет. Одинокий человек, прежде он служил в армии, но к тем, кто попадался ему на пути, он относился сердечно. Некоторое время назад он женился и обзавелся сыном. Полагают, что родом мистер Уайльд с восточного побережья.
Огонь превратил дом в пепелище и обрушил балки. Тело мистера Уайльда лежало среди обугленных руин, сожженное почти до неузнаваемости. В руинах нашли почерневшую канистру из-под керосина. Жена мистера Уайльда в это время отсутствовала, ибо в прошедшую среду приняла приглашение прокатиться на лодке с грузом яблок из сада ее супруга, отправленных в Комокс. В ее намерения входило вернуться в тот же день, но отсутствовала она три дня и четыре ночи вследствие проблем с двигателем судна. Утром в воскресенье она вернулась с другом, предложившим ей прогулку, и они вместе обнаружили трагедию.
Опасались за судьбу младшего сына Уайльда, отсутствовавшего в доме во время пожара. Поиски начались сразу же, и перед наступлением темноты дитя было обнаружено в лесу, не далее мили от дома. Ребенок промок и замерз, проведя в подлеске несколько часов, но, к счастью, избежал травм. Оказалось, что ребенок взял с собой немного еды, покидая дом, ибо при нем нашли несколько ломтей хлеба. Было проведено дознание в Кортни по случаю пожара, уничтожившего дом Уайльда и повлекшего за собой смерть последнего.
— Вы знали этих людей? — спросила я.
Переверни страницу.
4 августа 1923 года. Дознание, проведенное в Кортни на острове Ванкувер по случаю пожара, приведшего к смерти Энсона Джеймса Уайльда на острове Кортеса в апреле этого года, обнаружило, что возможность поджога со стороны покойного или неустановленной личности не может быть доказана. Наличие канистры для керосина на месте пожара не было принято как убедительное доказательство. Мистер Уайльд регулярно покупал и использовал керосин, согласно мистеру Перси Кемперу, владельцу магазина «Мэнсонс лэндинг» на острове Кортеса. Семилетний сын покойного не предоставил никаких свидетельств о пожаре. Он был найден поисковой партией несколькими часами позднее бродящим в лесу недалеко от дома. В ответ на вопросы дознания он сообщил, что отец дал ему немного хлеба и яблок и отправил в «Мэнсонс лэндинг», но он заблудился. Однако через несколько недель он отказался от своих показаний, утверждая, что не помнит, как это случилось и как он сбился с пути, ведь по этой дороге он ходил неоднократно. Доктор Энтони Хелуэлл из Виктории[25] утверждает, что осмотрел мальчика и полагает, что, возможно, он убежал, как только увидел огонь, и имел достаточно времени, чтобы захватить немного еды, о чем он теперь не помнит. В то же время доктор полагает, что рассказ мальчика может со временем измениться, как и подавленные воспоминания о случившемся. Он также заметил, что дальнейшие допросы мальчика бесполезны, ибо тот, скорее всего, не способен отличить факт реальный от воображаемого.
Миссис Уайльд отсутствовала в доме во время пожара, поскольку находилась на судне, принадлежащем мистеру Джеймсу Томпсону Горри из Юнион-Бэя и следующем на остров Ванкувер. Смерть мистера Уайльда признается несчастным случаем, она наступила в результате пожара неизвестного происхождения.
Теперь закрой альбом.
И убери. Убери их все.
Нет, нет, не так. Сложи их по порядку. Год за годом. Так-то лучше. Так, как они всегда стояли.
Она еще не пришла? Ну-ка, выгляни в окно.
Хорошо. Но скоро явится.
А вот ты, что ты думаешь обо всем этом?
Мне все равно. Все равно, что ты скажешь.
Представляла ли ты себе, что человеческая жизнь бывает такой и может вот так закончиться? Оказывается — может.
Я ничего не рассказала Чессу об этом, хотя обычно рассказывала все интересное или удивительное, что происходило со мной за день. Но сейчас он отмахивался от всего, что было связано с супругами Горри. Для них у него имелось словечко — «уродцы».
Все блеклые деревца в парке расцвели. Ярко-розовыми цветочками, как раскрашенная воздушная кукуруза. И я получила настоящую работу. Позвонили из библиотеки Китсилано и предложили приходить на несколько часов в субботу днем. Я оказалась по ту сторону библиотечной стойки, штампуя даты возврата в формулярах. Некоторых посетителей я знала, будучи тоже читателем. И теперь я им улыбалась от имени библиотеки. Я говорила:
— До встречи через две недели.
Некоторые смеялись и отвечали:
— О нет, гораздо скорее.
Такие же запойные читатели, как и я сама.
Оказалось, эта работа мне вполне по плечу. Никаких касс — когда надо платить штраф, сдача лежала в ящике. И почти все книги на полках были мне знакомы. Когда дело дошло до картотеки, то пригодилось знание алфавита.
Мне предложили больше часов. У одной из штатных работниц случился выкидыш. Ее не было два месяца, а в конце этого срока она опять забеременела, и доктор посоветовал ей не работать. Так что я стала штатным сотрудником и работала до тех пор, пока сама не отходила половину срока собственной первой беременности. Я работала с женщинами, которых знала в лицо уже давно. Мэвис и Ширли, миссис Карлсон и миссис Йост. Они помнили, как я приходила и слонялась по библиотеке — как они мне сказали — часами. Жаль, что они так внимательно следили за мной. Надо было ходить туда пореже.
Какое простое наслаждение — сидеть за стойкой, глядеть из-за нее на людей, помогать, проворно и доброжелательно, всем, кто обращался ко мне. И быть в их глазах личностью, человеком сведущим, имеющим внятные обязанности в этом мире. Не менее приятно было избавиться от необходимости скрываться, блуждать и предаваться мечтам и стать просто девушкой из библиотеки.
Конечно, теперь у меня стало меньше времени для чтения, порой я держала книгу в руке всего секунду, когда выдавала ее, я держала ее как объект, а не как сосуд, который должна опустошить немедленно, — и меня охватывал приступ страха, как во сне, когда вдруг оказываешься в чужом доме или когда опоздала на экзамен и понимаешь, что это лишь намек на некий смутный катаклизм, а то и на ошибку всей жизни.
Но ужасы тут же исчезали.
Женщины, с которыми я работала, вспомнили времена, когда они видели, как я что-то пишу за столом. Я сказала, что писала письма.
— Вы писали письма в блокнотах?
— Конечно, это дешевле.
Последний блокнот остывал, спрятанный в ящике со скомканными носками и нижним бельем. Он остывал, и каждый раз, глядя на него, я содрогалась от недобрых предчувствий и унижения. Я собиралась его уничтожить, но не уничтожила.
Миссис Горри не поздравила меня с обретением работы.
— Вы не говорили, что продолжаете искать работу, — сказала она.
Я ответила, что мое имя давно было в списке соискателей в библиотеке и я ей давно рассказала об этом.
— Это было раньше, чем вы начали работать у меня, — сказал она. — Но что теперь будет с мистером Горри?
— Я сожалею, — сказала я.
— Ему от этого легче не станет, правда?
Она приподняла розовую бровь и заговорила со мной напыщенным тоном, каким она разговаривала по телефону с мясником или булочником, перепутавшими заказ.
— И что прикажете мне делать? — спросила она. — Вы покинули меня в беде, не правда ли? Надеюсь, вы будете держать обещания, данные другим людям, получше, чем мне.
Все это было полной чепухой, конечно. Я ничего ей не обещала, мы не обсуждали, как долго я буду сидеть с мистером Горри. И тем не менее я чувствовала если не всю вину, то некоторую ее долю. Я ничего не обещала миссис Горри, но как быть с теми временами, когда я не отвечала на ее стук, когда прокрадывалась в дом и из дому, опускала голову, проходя под окном ее кухни? Как насчет того, что я старалась сохранять эту зыбкую, но слащавую псевдодружбу в ответ на предложение — ну конечно же — вещей первоклассных, незыблемых?
— Ну что ж, пусть так, — добавила она, — в любом случае я не хочу, чтобы с мистером Горри был тот, кто не заслуживает доверия. И я не вполне довольна тем, как вы за ним ухаживали, вот что я вам скажу.
Скоро она нашла другую сиделку — маленькую паукообразную женщину с сеточкой на брюнетистой прическе. Я никогда не слышала ее голоса. Но слышала, как миссис Горри разговаривает с ней. Дверь на этаже выше оставалась открытой, так что мне ничего другого не оставалось.
— Она никогда даже не мыла его чашку. И вообще редко заваривала ему чай. Не знаю, на что она вообще годна. Сидеть и читать газету.
Теперь, когда я уходила из дома, окно на кухне было широко открыто, и ее голос звенел над моей головой:
— Вон она идет. Ишь, даже не удосужилась рукой махнуть. Мы дали ей работу, когда никто не давал, но ей-то что. Ох, не могу…
Я не махала им. Мне приходилось идти мимо окна, за которым сидел мистер Горри, но я думала, что если теперь помашу ему или даже посмотрю на него, то он оскорбится. Или разозлится. Что бы я ни сделала — наверняка все покажется насмешкой.
Через полквартала оба они вылетали из моей головы. Утра были прекрасными, и я с легкой душой шла к цели. В такое время мое недавнее прошлое казалось уже смутно постыдным. Часы за занавеской в нише, часы за кухонным столом, страница за страницей, исписанные моими неудачами, часы в перетопленной комнате со стариком, мохнатый ковер и плюшевая обивка, запах его одежды и тела и высохших альбомов с вырезками, акры печатных новостей, через которые мне пришлось пробираться. Скверные истории, которые он сохранил и заставил меня читать (я не понимала тогда и на секунду, что это были рассказы о тех же человеческих трагедиях, которые я так чтила в книгах). Вспоминать об этом — все равно что вызывать в памяти периоды болезней в детстве, вспоминать добровольное пребывание в ловушке фланелевых простынок, пахнущих камфорой, в ловушке моей апатии и лихорадочных, невнятных посланий от веток, видневшихся из окна моей комнаты под крышей. Об этих периодах я не так уж сильно сожалела, их уход был естественным. И казалось, они были частью меня самой — болезненной частью? — которая теперь уходит в небытие. Вы подумаете, что замужество ответственно за это превращение, но какое-то время все было не так. Я впала в спячку и пережевывала жвачку моей прежней сущности — настырной, неженственной, иррационально скрытной. И вот теперь я встала на ноги и приветствовала удачу превращения в жену, в труженицу. Симпатичную и достаточно компетентную в своих трудах. Не слишком тяжких. Преодолимых.
Миссис Горри принесла наволочку к моей двери, скаля зубы в безнадежной, враждебной усмешке, и спросила — не моя ли? Без колебаний я ответила, что не моя. Обе наволочки, бывшие в моем владении, находились на двух подушках на нашей кровати.
— Что ж, и не моя определенно, — сообщила миссис Горри мученическим тоном.
— Как вы их отличаете? — спросила я.
Ее губы медленно растянулись в более уверенной ядовитой ухмылке.
— Я никогда не постелю такую ткань на кровать мистера Горри. Или на свою.
— Почему?
— Потому что она недостаточно хороша.
Так что мне пришлось снять наволочки с подушек, покоящихся на кровати в алькове, и принести их ей, и оказалось, что они не одинаковые, хотя я не видела разницы. Одна из двух наволочек была сшита из «хорошей» ткани и принадлежала ей, а другая в ее руке — была моя.
— Ни за что бы не поверила, что можно не заметить разницу, — сказала она, — но с вас станется.
Чесс прослышал про другую квартиру, настоящую квартиру — не «клетушку» — с ванной и двумя спальнями. Его приятель по работе съезжал, потому что они с женой купили дом. Новая квартира располагалась в доме на углу Первой авеню и Макдональд-стрит.
Оттуда я по-прежнему могла добираться до библиотеки пешком, а он мог садиться на тот же автобус, которым ездил всегда. С двумя зарплатами квартира была нам по карману.
Приятель и его жена оставили нам кое-какую мебель, хотя могли бы и продать ее по дешевке. Мебель эта не вписывалась в их новый дом, но нам казалась великолепной во всей ее респектабельности. Мы обошли светлую квартиру на третьем этаже, восхищаясь кремовыми стенами, дубовым паркетом, просторными кухонными шкафами и кафелем на полу в ванной. Там даже был балкончик с видом на листву Макдональд-парка. И мы полюбили друг друга по-новому, влюбившись в наш новый статус, выйдя во взрослую жизнь из подвала, служившего нам лишь кратким пристанищем. И еще долгие годы мы будем шутить, что этот подвал был нашим испытанием на прочность. Каждый новый переезд — в съемный дом, в наше первое собственное жилище, потом во второй собственный дом, первый собственный дом в другом городе — будет внушать нам это эйфорическое чувство движения вперед и еще сильнее привязывать нас друг к другу. До того последнего, самого роскошного дома, в который я вошла, предчувствуя катастрофу, со смутным ощущением, что надо бежать.
Мы сообщили Рэю, что съезжаем, ничего не сказав миссис Горри. И ее враждебность вышла на новый виток. По правде сказать, она слегка взбесилась.
— О, она думает, что самая умная. А сама не может и двух комнат содержать в чистоте. Когда подметает, то всего лишь смахивает грязь в угол.
Купив первую собственную щетку, я забыла купить совок, и какое-то время действительно сметала мусор в угол. Но она-то могла узнать об этом, только если проникала в наши комнаты со своим ключом, когда меня не было дома. И теперь ясно, что так и было.
— И она все делает украдкой. Я с первого взгляда поняла, до чего она увертлива. И лжива. У нее извилин не хватает. Сидит там и пишет письма, как она говорит, одно и то же, одно и то же, и никакие это не письма. У нее с головой не в порядке.
Вот так я поняла, что она рылась в мусорной корзине, разглаживая комки бумаги. Я часто начинала рассказ одними и теми же словами. Как она и сказала: одно и то же, одно и то же.
Немного потеплело, и я вышла на работу без жакета, в одном уютном свитерке, заправленном в юбку, затянув ремень на самую дальнюю дырку.
Распахнув дверь, она заорала мне вслед:
— Шлюха. Гляньте на эту шлюху, как она выпячивает грудь и крутит задом. Вообразила, что ты Мэрилин Монро? — И еще: — И даром ты не нужна нам, нечего тебе делать в нашем доме. Чем раньше ты уберешься отсюда, тем лучше.
Она позвонила Рэю и сообщила ему, что я пыталась стащить ее постельное белье. Она пожаловалась, что я рассказываю небылицы про то, как она слоняется по улицам. Она распахнула дверь, чтобы я наверняка услышала, и орала в телефон, но в этом не было необходимости: телефонная линия у нас была общая и мы могли слушать друг друга, если бы приспичило. Я никогда не подслушивала — мой инстинкт затыкал мне уши. Но однажды вечером, когда Чесс был дома, он схватил трубку и заговорил:
— Не обращайте внимания на нее, Рэй, она просто выжившая из ума старуха. Я понимаю, что она ваша мать, но должен сказать вам, что она выжила из ума.
Я спросила, что ответил Рэй, разозлился, наверное?
— Он просто сказал: «Конечно, все в порядке».
Миссис Горри бросила трубку и теперь кричала со ступенек:
— Я скажу тебе, кто тут выжил из ума. Я скажу тебе, кто выживший из ума лжец, распускающий враки направо и налево обо мне и моем муже…
— Мы вас не слушаем, — сказал Чесс. — И оставьте мою жену в покое.
Позднее он спросил у меня:
— А что это за враки о ней и ее муже?
Я ответила, что понятия не имею.
— Она просто одержима тобой, — сказал он. — Потому что ты юная и хорошенькая, а она старая ведьма. Забудь все, — сказал он и пошутил несмешно, чтобы поднять мне настроение: — И зачем только нужны эти старушенции?
Мы переехали в новую квартиру на такси с одними чемоданами. Мы ждали такси, стоя спиной к дому. Я ожидала прощального скандала, но из дома не доносилось ни звука.
— А что, если у нее есть ружье и она выстрелит мне в спину? — спросила я.
— Не говори, как она, — испугался Чесс.
— Я бы хотела помахать мистеру Горри на прощание, если он там.
— Пожалуй, не стоит.
* * *
Я не бросила прощальный взгляд на дом и больше ни разу не прошла по этой улице, по этой части Эрбатас-стрит, выводящей к парку и к морю. Я уже не помню, как она выглядит, но кое-что помню отчетливо — занавеску у кровати, горку, зеленое кресло мистера Горри.
Мы познакомились с другими парами, начинавшими, как и мы, жившими в дешевых комнатах чужих домов. Мы слушали про крыс, тараканов, ужасные туалеты и сумасшедших квартирных хозяек. И сами рассказывали о нашей сумасшедшей хозяйке. Паранойя.
Иначе о миссис Горри я думать не могла. Но мистер Горри приходил в мои сны. В моих снах мне казалось, что я знала его до того, как он познакомился с ней. Он был подвижен и силен, но не молод и не выглядел лучше, чем когда я читала ему в гостиной. Возможно, он мог говорить, но речь его не отличалась от тех звуков, которые я научилась понимать, — отрывистая и властная, четкая, но, возможно, презрительная прелюдия к действиям. А действия оказывались пылкими, ведь сны-то были эротические. И всю мою бытность молодой женой, и потом, не откладывая в долгий ящик, молодой матерью — занятой, верной, регулярно удовлетворенной, — нет-нет да и снились мне эти сны, и в них напор, отклик заходили за грань возможного, куда дальше, чем позволяет реальная жизнь. Из которой романтика изгнана. Как и порядочность. Нашим ложем — мистера Горри и моим — обычно служили галечный пляж, или грубая палуба судна, или терзающие кожу бухты толстых канатов. Это было наслаждение тем, что вы назвали бы уродством. Его резкий запах, его студенистые глаза, его собачьи зубы. Я пробуждалась от этих варварских снов, выхолощенная даже от удивления или стыда, и снова засыпала, и снова просыпалась с воспоминаниями, которые привыкла отрицать утром. Долгие годы и уж точно долгое время после смерти своей именно так мистер Горри управлял моей ночной жизнью. Пока я не использовала его до конца, как, полагаю, всегда мы используем мертвых. Но этого, кажется, так и не случилось — чтобы я стала главной, чтобы я сама впускала его в свои сны. Казалось, все должно быть обоюдно, как если бы он впускал меня в свои сны и переживал то же самое, что и я.
И судно, и док, и галька на берегу, и деревья, устремленные в небо или скрюченные, припавшие к воде, и замысловатый абрис окрестных островов и окутанных туманом, но все же различимых гор — все это, казалось, существует в естественном смятении, более экстравагантное и все-таки более простое, чем я могла намечтать или выдумать. Как место, которое всегда будет существовать, независимо от того, есть ты там или нет тебя, и оно на самом деле никуда не исчезло.
Но я никогда не видела обугленных балок, упавших на тело мужа. Это случилось давным-давно, и все вокруг поросло лесом.
И только жнец
Они играли почти в ту же самую игру, которой Ева развлекала Софи в долгих, утомительных поездках, когда Софи была еще совсем девчушкой. В те времена это были шпионы, теперь — пришельцы из космоса. Дети Софи — Филип и Дейзи — сидели на заднем сиденье, Дейзи едва исполнилось три, и она еще не понимала, что, собственно, происходит. Всем заправлял семилетний Филип. Именно он выбрал машину, за которой им должно было следовать, именно в ней только-только прилетевшие космические странники направлялись к тайным штаб-квартирам, в логовища захватчиков. Пришельцы получали указания и двигались по знакам, поданным благонадежного вида людьми из других машин, или кем-то, стоящим у почтового ящика, или даже трактористом в поле. Многие инопланетяне уже давно прибыли на Землю и преобразовались — Филип сам придумал это слово — так, что пришельцем мог оказаться кто угодно. Заправщик на бензоколонке, или женщина с коляской, или даже малыши в колясках. Они-то и подавали сигналы.
Обычно Ева и Софи играли на запруженном шоссе, в потоке машин таком плотном, что их трудно было бы засечь. (Хотя однажды сбились с пути и оказались на каком-то проселке.) На сельских дорогах, по которым Ева ехала теперь, надо было очень постараться, чтобы заблудиться. Она пыталась объяснить случившееся тем, что они следовали за одним автомобилем, но их сбил со следа другой, оказавшийся хитрой приманкой, вовсе не собиравшейся скрываться, а просто уводившей их от намеченной цели.
— Нет, ничего подобного, — заявил Филип. — На самом деле они высасывают людей из одной машины и выплевывают в другую, просто из предосторожности, если обнаруживают слежку. Они как бы в одном теле и вдруг высопливаются по воздуху и проникают в другое тело в соседней машине. Они все время вселяются в других людей, а люди об этом не знают.
— Да ну? — изумилась Ева. — Но как мы узнаем, в какую машину?
— Код находится на номерном знаке, — уверил ее Филип. — И он меняется в электрическом поле, которое они создают в машине. Так что космические охотники могут их найти. Это, конечно, самая простенькая штука, но больше я не могу рассказать.
— Не надо, конечно, — согласилась Ева. — Полагаю, мало кто об этом знает.
— В Онтарио я один знаю, — сказал Филип.
Он наклонился, насколько позволял ремень безопасности, и тихо, с присвистом, иногда постукивая зубами от напряжения и крайней сосредоточенности, предостерегал ее:
— Ссс-сссс, берегись! Кажется, тебе надо развернуться. Да. Да. Теперь я уверен.
Они преследовали белую «мазду», а теперь, ясное дело, впереди оказался старый зеленый грузовичок «форд».
— Точно? — спросила Ева.
— Точно.
— Ты чувствуешь, что они уже высасывают через пространство?
— Они преобразуются одновременно, — сказал Филип. — Можно, конечно, сказать «высасывают», но это просто чтобы понятнее было.
По первоначальному замыслу Евы штаб-квартира должна была базироваться в деревенском магазинчике, продающем мороженое, или на детской площадке. И как будто бы все пришельцы собрались там, приняв личины детей, и, соблазненные прелестями мороженого или горками и качелями, временно пригасили свои невероятные способности. Так что можно не бояться, что они умыкнут тебя или вселятся в тебя, если, конечно, ты не выберешь неправильный цвет мороженого или не просчитаешься с количеством раскачиваний на определенной качели. (Все-таки какие-то опасности должны угрожать, а то Филип почувствует себя обманутым и униженным.) Однако Филип совершенно всерьез принял командование на себя, так что предсказать последствия становилось все труднее. Грузовичок съехал с вымощенной сельской дороги на боковую, выложенную гравием. Это был ветхий автомобиль с непокрытым кузовом, остов изъеден ржавчиной — далеко не уедет. Скорее всего, домой, на какую-то ферму. И вряд ли появится другая машина, за которой можно будет следовать до самой цели.
— Ты уверен? — спросила Ева. — Там же только один водитель. Я думала, они никогда не ездят поодиночке.
— Собака, — сказал Филип.
И действительно, в кузове ехала собака, она бегала от одного борта к другому, словно стараясь заполнить собой весь грузовик одновременно.
— Собака тоже пришелец, — добавил Филип.
Утром, когда Софи уезжала в аэропорт Торонто, чтобы встретить Иэна, Филип занимал Дейзи в детской. Дейзи вполне освоилась в чужом доме, если не считать мокрых простыней каждую ночь, — но в этот раз мать впервые уехала, не взяв ее с собой. Поэтому Софи попросила Филипа отвлечь сестренку, и он с энтузиазмом взялся за дело (обрадовался новому повороту событий?). Он катал игрушечные машинки по всему полу, издавая сердитое моторное рычание, чтобы заглушить звук настоящей машины Софи, которая выезжала со двора. Потом он крикнул Еве:
— Ну что, Б. М. уехала?
Ева убирала на кухне остатки завтрака, пытаясь сосредоточиться. Она вошла в гостиную. Там лежала кассета с фильмом, который они с Софи смотрели вчера вечером. «Мосты округа Мэдисон»[26].
— Что такое «Б. М.»? — спросила Дейзи.
Детская спальня открывалась в гостиную. Домишко был тесный, наскоро и по дешевке приведенный в порядок для сдачи на лето. Ева собиралась снять дачу у озера на время каникул — Софи и Филип не приезжали почти пять лет, а Дейзи она вообще видела впервые. Ева выбрала этот мыс на озере Гурон, потому что в детстве бывала там с родителями и братом. Все изменилось в тех местах — дачи смотрелись солидно, что твои пригородные дома, и арендная плата подскочила до небес. Их домик располагался в полумиле от каменистой, не самой удобной северной части пляжа, и это было лучшее, что она могла себе позволить. Дом стоял посреди кукурузного поля. Ева рассказала детям то же, что отец когда-то поведал ей самой: ночью можно услышать, как растет кукуруза.
Каждый день, снимая с веревки отстиранные вручную простыни Дейзи, Софи вытряхивала из них кукурузных клопов-черепашек.
— Б. М. означает «белая моча», — ответил Филип, хитро поглядывая на Еву.
Ева застыла на пороге. Вечером они смотрели, как Мерил Стрип сидит под дождем в кузове грузовика своего мужа, как она поворачивает дверную ручку, как задыхается от тоски и желания, когда ее возлюбленный уезжает. Потом мать и дочь подняли друг на друга глаза, полные слез, тряхнули головами и засмеялись.
— Еще это означает «Большая Мама», — заявил Филип уже более примирительным тоном. — Так папа ее иногда называет.
— Ну ладно, — сказала Ева. — Если это твой вопрос, то ответ — да.
Правда ли, размышляла она, что Филип считает Иэна своим родным отцом? Она не спрашивала Софи, что ему сказали. И конечно, не спросит. Настоящим отцом был ирландский парнишка, путешествовавший по Северной Америке, чтобы решить, кем быть, раз уж он передумал становиться священником. Ева считала, что он просто друг Софи; кажется, и Софи так о нем думала, пока не соблазнила его. (Он был такой стеснительный, что я и мечтать не могла об этом, сказала она.) Только увидев Филипа, Ева представила себе, как же выглядел тот мальчик. Тогда она увидела его достоверное воспроизведение — светлоглазый, педантичный, обидчивый, насмешливый, придирчивый, застенчивый, вспыльчивый юный ирландец. Он чем-то смахивал на Сэмюэла Беккета[27], сказала она, вплоть до морщинок. Конечно, дитя подрастало, и морщинки стали исчезать. Софи тогда училась в университете на археолога. Ева нянчила ребенка, пока Софи отсутствовала. Ева была актрисой — она и теперь ею оставалась, если подворачивалась работа. Даже в те времена случалось, что работы она не находила, или брала Филипа на дневные репетиции. Пару лет они жили все вместе — Ева, Софи и Филип — в торонтовской квартире Евы. Именно Ева возила Филипа в грудничковой коляске, а потом в открытой прогулочной по улицам между Куин и Колледж, Спадина и Оссингтон, и во время этих прогулок она порой находила какой-нибудь превосходный, хоть и заброшенный домик, выставленный на продажу, на прежде неведомой ей короткой (всего два квартала) тенистой улочке-тупике. Она посылала Софи поглядеть на дом, затем они обходили его вместе с агентом по продаже, разговаривали об ипотеке, обсуждали усовершенствования, достойные вложений, и то, что они могли бы отремонтировать сами. Они все раздумывали и предавались фантазиям, пока дом не продавали кому-нибудь, или пока Еву не одолевал нечастый, но сильный приступ финансовой осмотрительности, или пока кто-нибудь не убеждал их, что эти очаровательные переулки и закоулки не вполне безопасны для женщин и детей, в отличие от светлой, уродливой, хамоватой и шумной улицы, где они продолжали жить.
На Иэна Ева обращала даже меньше внимания, чем на ирландского мальчика. Это был друг, к ним в квартиру он всегда приходил с кем-то. Потом он получил работу в Калифорнии — по специальности Иэн был городской топограф, — и телефонные счета подскочили так, что Еве пришлось обсудить это с Софи, и атмосфера в квартире изменилась (может, Еве не стоило упоминать счета?). Вскоре в планах нарисовался визит, и Софи взяла с собой Филипа, потому что Ева была занята в летней постановке местного театра.
Чуть погодя пришли новости из Калифорнии. Софи и Иэн собирались пожениться.
— Может, было бы разумнее немного пожить вместе? — спросила Ева по телефону.
И Софи ответила:
— Ох, нет же. Он чокнутый. Он не верит в такое.
— Но я не могу отпроситься на свадьбу, — сказала Ева. — Мы играем до середины сентября.
— Все нормально, — ответила Ева. — Мы поженимся без свадьбы.
И Ева не видела ее до самого нынешнего лета. Поначалу обеим сторонам не хватало денег. Когда Ева работала, у нее были строгие обязательства, когда не работала, она не могла позволить себе никаких излишеств. Скоро и Софи нашла работу — секретаршей в приемной у доктора. Однажды Ева чуть не купила билеты, но тут позвонила Софи и сообщила, что умер отец Иэна и Иэн улетел в Англию на похороны, а вернется оттуда с матерью.
— А у нас всего одна комната, — сказала она.
— Боже упаси! — сказала Ева. — Свекровь и теща в одном доме, да еще однокомнатном.
— Может, после ее отъезда? — предложила Софи.
Но мать Иэна оставалась у них до рождения Дейзи, до их переезда в новый дом, восемь месяцев в общей сложности. Потом Иэн начал писать книгу, гости в доме были бы ему затруднительны. Да и вообще, все было затруднительно. Время шло, и Ева лелеяла мысль пригласить их к себе. Софи прислала фотографии Дейзи, сада, всех комнат в доме.
Потом объявила, что они смогут приехать — она, Филип и Дейзи могут приехать в Онтарио этим летом. Они проведут три недели с Евой, пока Иэн один будет работать в Калифорнии. На четвертой неделе он к ним присоединится, и они полетят из Торонто в Англию, чтобы провести месяц с его матерью.
— Я сниму домик на озере, — пообещала Ева. — Ох, это будет прелестно.
— Конечно, — сказала Софи. — Как безумно долго мы этого ждали.
Так и случилось. Приемлемо прелестно, думала Ева. Казалось, что Софи мало беспокоит или удивляет ночное недержание Дейзи, Филип пару дней был привередлив и чопорен, холодно встретив сообщение Евы, что она знает его с пеленок, и капризничая из-за приставучих комаров в прибрежных зарослях по дороге на пляж. Внук желал отправиться в Торонто и посетить Научный центр. Но потом он успокоился, плавал в озере, не жалуясь на холод, и занимал себя в одиночестве проектами вроде того, как сварить и освежевать притащенную домой дохлую черепаху, чтобы остался только панцирь. В желудке черепахи оказались непереваренные рачки, и панцирь ее легко отдирался полосками, но это Филипа не пугало.
Ева и Софи тем временем проводили утра в приятных и размеренных домашних хлопотах, после обеда валялись на пляже, за ужином пили вино и смотрели фильмы до поздней ночи. Они пускались в не совсем серьезные размышления о доме. Что можно с ним сделать? Сперва ободрать обои в гостиной — эту имитацию якобы деревянных панелей. Отодрать линолеум с дурацким орнаментом из золотых геральдических лилий, уже побуревший от глины с песком и грязной воды при попытках его отмыть. Софи так размечталась, что отколупнула кусок, гнивший под раковиной, и обнаружила еловые доски, которые наверняка можно отшлифовать. Они обсудили стоимость проката пескоструйки (если бы, разумеется, дом принадлежал им) и какой цвет они бы выбрали для дверей и панелей, штор на окнах, открытых полок на кухне, вместо выцветших фанерных шкафчиков. И что можно сделать с газовым камином?
И кто тут будет жить? Ева. Любители кататься на снегоходах, проводившие здесь зимы, строили собственное новенькое клубное здание, и владелец этого дома был бы счастлив сдать его на год. Или продать задешево, учитывая плачевное состояние. Отличное пристанище на зиму, если Ева получит работу, как она надеялась. А если не получит, то почему бы не пересдать квартиру и не пожить здесь? Появится разница в оплате, плюс пенсия по возрасту, которую она начала получать в октябре, и деньги, которые все еще приходят за рекламу витаминов. Она справится.
— И потом, если мы будем приезжать летом, то поможем с оплатой, — сказала Софи.
Филип их слышал. Он уточнил:
— Каждое лето?
— Но тебе ведь уже нравится озеро? — спросила Софи. — Ведь нравится?
— И комары, кстати, не каждое лето такие кусачие, — добавила Ева. — Обычно они кусачие в начале лета, до того, как ты сюда попадешь. Весной все эти болотистые места заполнены водой, и комары там размножаются, потом болотца высыхают, и они уже не размножаются. Но в этом году начало лета было таким дождливым, что болотца не высохли, поэтому у комаров появился второй шанс, и вот вам — новое поколение.
Она обнаружила, что Филип питает куда большее уважение к информации, чем к ее мнениям и воспоминаниям.
Софи тоже не слишком жаловала воспоминания. При всяком упоминании об их совместном прошлом — даже о тех месяцах после рождения Филипа, которые Ева считала самыми счастливыми, самыми трудными, самыми многообещающими и гармоничными в своей жизни, — лицо Софи становилось серьезным и скрытным, выражая терпеливое и сдержанное осуждение. Самое раннее прошлое, детство Софи, оказалось сущим минным полем — Ева поняла это, когда речь зашла о школе Филипа. Софи сетовала на ее излишнюю строгость, а Иэн считал, что самое оно.
— Какая разница по сравнению с «Черным дроздом», — сказала Ева, и Софи тут же выпалила, чуть ли не злобно:
— О, «Черный дрозд»! Этот балаган. Когда я думаю, что ты за него еще и платила… Ты ведь платила.
«Черный дрозд» (название взяли из «Уже светало»[28]) — школа альтернативного обучения, куда ходила Софи. Стоила она больше, чем Ева могла потянуть, но она полагала ее более подходящей для ребенка с матерью-актрисой и невидимым отцом. Когда Софи было девять или десять, все разбилось из-за несогласия родителей.
— Я изучала греческие мифы, даже не зная, где она, эта самая Греция, — заявила Софи. — Я понятия не имела, что это такое. На уроках по искусству мы только и делали, что клепали антиядерные плакаты.
— Не может быть! — изумилась Ева.
— Может. И они буквально изводили нас разговорами о сексе. Настоящее словесное растление. Которое ты же и оплачивала.
— Я не подозревала, что все так плохо.
— Ну да, — сказала Софи. — Я выжила.
— Это самое главное, — неуверенно сказала Ева. — Выживание.
Отец Софи был родом из Кералы, штата в южной части Индии. Ева встретила его в поезде, и всю поездку из Ванкувера в Торонто они провели вместе. Молодой доктор обучался в Канаде по аспирантской стипендии. Дома в Индии его ждали жена и маленькая дочка. Путешествие заняло три дня. В Калгари поезд остановился на полчаса. Ева и доктор обегали всю станцию в поисках аптеки, чтобы купить презервативы. И не нашли ни одной. Когда они добрались до Виннипега, где поезд стоял целый час, было уже поздно. Фактически — как сказала Ева, излагая эту историю, — когда они подъезжали к черте города Калгари, было, наверное, уже слишком поздно.
Он располагал плацкартой — все, что позволяла стипендия. А Ева пускала пыль в глаза и купила купе спального вагона. Именно это расточительное решение, сделанное в последнюю минуту, и уединенность купе ответственны, по словам Евы, за существование Софи и за величайшую перемену в жизни самой Евы. Ну и еще тот факт, что в районе станции Калгари невозможно было найти презерватив, ни за какие коврижки.
В Торонто она помахала рукой любовнику из Кералы, как машут случайному поездному попутчику, потому что ее встречал человек, который в это время представлял для нее большой интерес и являлся главной проблемой в ее жизни. Все три дня любовные движения дорожных спутников усиливались колыханием и раскачиванием поезда и, возможно, по этой причине казались безвинными, необоримыми. Видимо, это сказалось и на их чувствах, и на разговорах. Ева помнила только нежность и великодушие — ни тебе серьезности, ни отчаяния. Трудно быть серьезным, когда имеешь дело с пространством и перспективой купе.
Она сообщила Софи его имя — Томас, в честь святого. До их встречи Ева никогда не слышала о древних христианах в южной Индии. Какое-то время в подростковом возрасте Софи увлекалась Кералой. Она набрала книг в библиотеке и наряжалась в сари на вечеринки. Став постарше, она заговорила о том, что хочет отыскать отца. То, что она знала его имя и специализацию — болезни клеток, — казалось ей вполне достаточным. Ева напомнила ей о величине населения Индии и о том, что, возможно, он там уже больше не живет. Но так и не решилась объяснить, что появление Софи в жизни ее отца будет для него как гром среди ясного неба. К счастью, идея угасла, и Софи перестала надевать сари, когда все эти театральные этнические костюмы всем набили оскомину. Впоследствии она лишь раз упомянула отца — когда носила Филипа — и пошутила по поводу семейной традиции перелетных отцов.
Теперь она так не шутит. Софи стала более величавой, более женственной, грациозной и сдержанной. Однажды они шли лесом на пляж, и Софи наклонилась подхватить Дейзи, чтобы скорей выбраться из комариных владений, — и в эту минуту Еву поразило новое, запоздалое проявление красоты дочери. Пышнотелая, безмятежная, классическая красота, достигнутая не уходом и тщеславием, но бескорыстием и трудами. Она стала сильнее походить на индианку, ее кремово-кофейная кожа потемнела на калифорнийском солнце, и под глазами появились лиловые полумесяцы постоянной умеренной усталости.
Но она оставалась отличной пловчихой. Плаванье было единственным спортивным занятием, которое ее увлекало, и она плавала, как всегда, преотлично, каждый раз казалось, что она доплывет до середины озера. В первый день она с этим справилась и сказала:
— Как здорово! Я чувствую себя совершенно свободной.
Она не упомянула, что свободна, пока Ева смотрит за детьми, что она ценит это, но Ева понимала, что и без слов Софи ей благодарна.
— Я рада, — сказала она, хотя на самом деле испугалась.
Сколько раз она мысленно просила: «Вернись, вернись сейчас же», но Софи продолжала плыть, не обращая внимания на телепатическое послание. Ее темноволосая головка становилась пятном, потом пятнышком, потом и этот образ исчез в мерно бегущих волнах. И Ева не боялась, что силы оставят дочь, но думала о том, захочет ли она вернуться. Словно новая Софи, эта взрослая женщина, так привязанная к жизни, могла оказаться к ней более равнодушной, чем та хорошо знакомая Еве девочка, юная Софи, со всеми ее многочисленными выбрыками, любовями и трагедиями.
— Надо вернуть кассету в прокат, — обратилась Ева к Филипу. — Может, заедем туда перед пляжем.
— Меня уже тошнит от пляжа, — сказал Филип.
Еве не хотелось спорить. Учитывая отъезд Софи в аэропорт, все нарушенные планы, то, что они уезжают совсем, все они уедут к вечеру, ее тоже тошнило при мысли о пляже. И тошнило от дома, ибо все, что она видела, — это завтрашние опустевшие комнаты. Мелки, игрушечные машины, несобранные куски незамысловатой головоломки Дейзи — все ссыпано и увезено. Детские книжки, которые она знала наизусть. Никаких простыней, сохнущих за окном. И долгих восемнадцать дней коротать ей в этом доме одной.
— А что, если нам еще куда-нибудь съездить сегодня? — предложила она.
— Куда? — спросил Филип.
— Пусть это будет сюрпризом.
Вчера Ева вернулась из деревни, нагруженная провизией. Свежие креветки для Софи (сельский магазин теперь представлял собой по сути классический супермаркет, и там можно было найти все, что угодно), кофе, вино, ржаной хлеб без тмина — Филип терпеть не мог тмин, — спелая дыня, черешня, которую все обожали (правда, за Дейзи нужен глаз да глаз, чтобы не проглотила косточку), ведерко кофейно-шоколадно-сливочного мороженого и все, что нужно для жизни на неделю. Софи убирала со стола после ланча.
— О, — вскричала она, — что же мы будем делать со всем этим?
Иэн звонил, сказала она. Позвонил и сообщил, что летит в Торонто завтра. Работа над книгой пошла быстрее, чем он ожидал, и планы поменялись.
Вместо того чтобы ждать три недели, он прилетает завтра — взять Софи и детей в небольшое путешествие. Он хочет поехать в Квебек. Он там никогда не был и полагает, что дети должны увидеть ту часть Канады, где говорят по-французски.
— Он соскучился, — сказал Филип.
Софи засмеялась:
— Да, он скучает по нас.
Двенадцать дней, подумала Ева. Из трех недель прошло двенадцать дней. Она сняла дом на месяц. Она пустила своего приятеля Дева пожить в ее квартире. Еще одного безработного актера, бывшего в таких нешуточных или воображаемых финансовых обстоятельствах, что он отвечал на телефонные звонки разными голосами. Дев ей очень нравился, но она не могла вернуться и жить с ним в одной квартире.
Софи упомянула, что они поедут в Квебек на арендованной машине, а потом на ней же доедут до аэропорта, где ее и сдадут. Ни слова о том, что возьмут с собой Еву. В машине для нее не было места. Но разве она не могла ехать на своей? Взяв, например, Филипа для компании. Или Софи. Иэн может поехать с детьми, раз уж так соскучился, и дать Софи отдохнуть. Ева и Софи могли бы ехать вместе, как когда-то на летних каникулах, путешествуя до города, в котором они не бывали раньше и где Еве удалось разжиться работой.
Глупости это все. Машине Евы было девять лет, и состояние ее не располагало к долгим поездкам. И скучал-то Иэн именно по Софи — это было написано на ее раскрасневшемся лице, хоть она и отвернулась. К тому же Еву никто не звал.
— Вот хорошо, — сказала Ева, — что он так быстро справился с книгой.
— Ну да, — сказала Софи.
В ее голосе всегда появлялась нотка отрешенности, стоило ей упомянуть о книге Иэна, а когда Ева спросила, о чем книга, то она ответила просто «городская топография». Возможно, так и должны отвечать жены научных работников — Еве такие прежде не встречались.
— Да и ты сможешь собой заняться — сказала Софи. — После этого цирка. Узнаешь наконец, каково обладать домом в деревне. Убежищем.
Ева попыталась перевести разговор на другую тему, что угодно, только бы не начать бессвязно блеять, выспрашивая Софи, по-прежнему ли она собирается приехать на следующее лето.
— У меня был друг, удалившийся в самый настоящий ретрит, — сказала она. — Он буддист. Нет, скорее индуист. Ненастоящий индус. — (При упоминании индуса Софи усмехнулась, сигнализируя, что в эту тему не следует углубляться.) — Ну так вот, там три месяца запрещалось разговаривать. И другие там тоже были, но им нельзя было говорить. Так он рассказывал, что часто случается, и об этом их заранее предупреждали, что один человек влюблялся в другого, не обмолвившись ни словечком. Чувствуешь, что общаешься как-то иначе, по-особому, когда не можешь говорить. Понятно, что это любовь на духовном уровне и с этим ничего нельзя поделать. И у них там с этим строго. Или это он так сказал.
— И что? — спросила Софи. — Когда им разрешали говорить, что случалось?
— Большое разочарование. Обычно человек, с которым, казалось, налажена связь, не общался с тобой совершенно. Может, они думали, что общались с кем-то другим таким образом, и считали…
Софи рассмеялась с облегчением.
— Да, ничего не поделаешь, — сказала она, радуясь, что никто не выказал разочарования, ничьи чувства не задеты.
Может, они поссорились, думала Ева. Может, ее приезд — это тактическая уловка. Софи забрала детей, чтобы проучить его. Решила провести время с матерью, просто чтобы проучить его. Спланировала отпуск сама, убедив себя, что способна на поступок. Устроила демонстрацию.
И животрепещущий вопрос: кто из них позвонил?
— Может, оставишь детей здесь, — предложила она, — пока съездишь в аэропорт? Потом вернешься, заберешь их и уедешь. И сама побудешь одна немного, и с Иэном проведешь немного времени наедине. Ведь это сущий ад — ехать с ними в аэропорт.
— Заманчивое предложение, — сказала Софи.
И согласилась в конце концов.
Теперь Ева думала, а не затеяла ли она эту маленькую корректировку планов дочери только ради того, чтобы поговорить с Филипом.
(Ты сильно удивился, когда папа позвонил из Калифорнии?
Он не звонил. Мама сама ему позвонила.
Правда? Я и не знала. И что она сказала?
Она сказала: «Не могу здесь оставаться. Тошно мне здесь, давай придумаем что-нибудь, чтобы меня вызволить».)
Ева заговорила будничным голосом, обозначив конец игры:
— Филип… Филип, послушай. Я думаю, мы должны остановиться прямо здесь. Это грузовик какого-то фермера, и едет он туда, куда мы не должны ехать.
— Нет, должны, — сказал Филип.
— Нет, не должны. Они сильно рассердятся.
— Мы вызовем вертолеты и постреляем их.
— Не глупи. Ты же знаешь, что это просто игра.
— Они их постреляют.
— Не думаю, что у них есть оружие, — сказал Ева, применив другую тактику. — Они еще не придумали оружие для уничтожения пришельцев.
Филип возразил:
— Ты ошибаешься! — и пустился в объяснения про какие-то ракеты, но она его не слушала.
Когда Ева была ребенком и жила в деревне с братом и родителями, они иногда ездили с матерью в город, тоже большую деревню. Машины у них не было — время было военное, они ездили поездом. Хозяйка одной гостиницы дружила с матерью Евы и радушно их принимала, когда они ездили в город за кукурузой, клубникой или помидорами. Иногда они останавливались выпить чаю или посмотреть на старую посуду и остатки мебели на продажу на пороге фермы какой-нибудь предприимчивой женщины. Отец Евы предпочитал держаться подальше и играть в шашки на берегу. Там соорудили большую бетонную квадратную плиту с нарисованной на ней доской в черно-белую клетку, с крышей, но без стен, и по этой доске даже в дождь игроки неторопливо двигали огромные шашки, подталкивая их шестами. Брат Евы наблюдал за ними или шел купаться — один, без присмотра, он был старше. Все это уже ушло в прошлое — бетонная плита тоже исчезла, или что-то на ней построили. Исчезла и гостиница с верандами, нависающими над песком, исчез и вокзал с клумбами, на которых цветами было выложено название деревни. И железнодорожные пути тоже. Вместо них там построили торговый центр «под старину», с вполне удовлетворительным новым универмагом и винным магазином, магазинчиками летней одежды и лавочкой с кустарными поделками.
Когда Ева была совсем маленькая и носила на голове огромный бант, она обожала эти путешествия. Она ела маленькие печенья с повидлом и пирожные с твердой глазурью сверху и мягкой внутри, а поверх всего сочилась засахаренная вишня. Ей не разрешалось касаться посуды, или атласно-кружевных подушечек для иголок, или старых кукол с болезненными лицами, и разговоры женщин проходили мимо ушей, набегая и удаляясь, подобно неизбежным тучам. Но ей нравилось сидеть на заднем сиденье, воображая себе, что это седло коня или что машина — это королевская карета. Потом ей расхотелось ездить с матерью. Ей стало неприятно тащиться за матерью следом и считаться маминой дочкой. Моя дочь Ева. Насколько же покровительственно, как ошибочно собственнически звучал этот голос у нее в ушах. (Она потом много лет использовала эту интонацию, или ее вариации, как главный элемент в своих наименее замысловатых, намеченных широкими мазками ролях.) Ей стала не по вкусу материнская привычка наряжаться, когда они выезжали в город: ее огромные шляпы и перчатки, ее просторные платья, на которых цветы пучились, словно бородавки. А полуботинки, которые мать надевала, чтобы поберечь мозоли на ногах, казались позорно огромными и стоптанными.
«Что ты больше всего ненавидишь в матери» — так называлась игра, в которую Ева играла с подружками в первые годы вдали от дома.
«Корсет», — говорила одна девочка, а другая: «Мокрый фартук. Сетку для волос. Толстые руки. Цитаты из Библии. Песню „Дэнни-бой“». Ева всегда говорила: «Мозоли».
Она только недавно вспомнила эту игру. Думать о ней теперь — все равно что тревожить больной зуб.
* * *
Грузовик перед ними замедлился и, не показав поворота, свернул в аллею с деревьями по обе стороны.
— Я не могу больше следовать за ними, Филип, — сказала Ева.
И поехала, не сворачивая. Но, проезжая аллею, приметила столбы от ворот. Необычные, по форме напоминающие топорные минареты, украшенные выбеленными ракушками и осколками цветного стекла. Оба покосились и частично были скрыты золотарником и дикой морковью, так что и сами потеряли чувство реальности в качестве воротных столбов и выглядели словно забытые декорации пошленькой оперетки. Как только Ева их увидела, она вспомнила кое-что еще: отбеленную временем стену заднего двора, на которой красовались мозаичные картинки. Картинки неуклюжие, фантастические, какие-то детские. Церкви со шпилями, замки с башнями, квадратные домишки с квадратными, кривобокими, желтыми оконцами. Треугольные рождественские елки, толстая лошадь с миниатюрными ножками и горящими красными глазами, извилистые голубые реки, похожие на завитки лент, Луна и перекошенные звезды, и жирные подсолнухи, кивающие над крышами домов. И все это сделано из кусочков цветного стекла, вставленного в бетон или штукатурку. Она это видела, и было это не в каком-то общественном месте. Мозаики находились где-то в городе, и она была с мамой. Контуры материнского тела вырисовывались перед стеной, о которой она расспрашивала старика-фермера. Он, наверное, был ровесником матери и казался Еве стариком.
Мать и хозяйка гостиницы отправлялись в поездки не только поглядеть на антиквариат — они искали редкости, диковинки. Их интересовал куст, подстриженный «под медведя», и сад карликовых яблонь.
Ева совсем не помнила эти столбы, но ей казалось, что они должны быть частью этого воспоминания. Она сдала назад и въехала на узкую тропу под деревьями. Это были грузные, старые лесные сосны, возможно опасные: везде виднелись полумертвые свисающие ветки и ветки, уже поникшие или упавшие, покрывавшие траву и лозы по обе стороны дороги. Машина раскачивалась на выбоинах, и Дейзи, похоже, одобряла такую езду. Она начала издавать звуки в том же ритме. Уппи. Уппи. Уппи.
Наверно, Дейзи запомнит это — только это она и запомнит — об этом дне. Согбенные деревья, неожиданные тучи, забавные подскоки автомобиля. Может, и белые лица цветов дикой моркови, трущиеся о стекла машины. Ощущение присутствия Филипа рядом с собой — его непостижимое серьезное волнение, звоночки его детского голоса, попавшие во власть сверхъестественного. Более смутный образ Евы — ненакрашенной, веснушчатой, со сморщенными от загара руками, блондинистые с проседью кудряшки, затянутые черной лентой. Может, запах. Уже не запах сигарет или косметики и кремов, на которые Ева когда-то тратила так много денег. Старческой кожи? Чеснока? Вина? Полоскания для рта? Ева, может, умрет к тому времени, когда Дейзи вспомнит все это. Дейзи и Филип могут отдалиться друг от друга. Ева не разговаривала с братом три года. С тех пор, как он сказал ей по телефону: «Тебе не следовало становиться актрисой, если ты не готова на все ради успеха».
Впереди ничто не предвещало дома, но в просвете деревьев высился скелет амбара, без стен, балки наружу, только крыша цела, но съехала набекрень, как смешная шляпа. Кажется, останки каких-то механизмов, древние автомобили или грузовики, разбросанные вокруг в море цветущих сорняков. У Евы не было времени всмотреться — надо было удерживать машину на неровной дороге. Зеленый грузовик исчез впереди — куда его уже занесло? Потом она заметила, что аллея изогнулась. Аллея изогнулась, они покинули сосновую тень и выехали под яркое солнце. Все та же морская пена дикой моркови, те же образы ржавого мусора расплывались перед нею. Высокая одичавшая живая изгородь с одной стороны, а за нею — вот он, дом, тут как тут. Большой, два этажа желто-серого кирпича, деревянный чердак, слуховые окна уплотнены грязной губчатой резиной. Одно из нижних окон сияло алюминиевой фольгой, прилепленной изнутри.
Она забралась куда не надо. Ничего не помнила про этот дом. Здесь не было стены вокруг скошенной травы. Побеги молодых деревьев пробивались сквозь сорняк тут и там.
Грузовик припарковался прямо перед ней. А дальше она видела клочок очищенной земли, где щебень разровняли, и можно было развернуть машину. Но дальше было не проехать. Еве тоже пришлось остановиться. Она думала — раз человек в грузовике остановился здесь, то у него есть определенная цель, и это она должна объяснить себе, какая именно. Сейчас он лениво вылезал из грузовика. Не глядя на нее, он выпустил собаку, которая моталась по кузову туда-сюда и лаяла довольно-таки злобно. Оказавшись на земле, она продолжала лаять, но от хозяина не отходила. Лицо человека закрывал козырек кепки, так что Ева не могла рассмотреть его выражение. Он стоял у грузовика, глядя на них, не решив еще, подходить ли. Ева отстегнула ремень безопасности.
— Не выходи, — сказал Филип. — Сиди в машине. Развернись. Уезжай.
— Я не могу, — сказала Ева. — Все в порядке. Собака просто тявкает и не причинит вреда.
— Не выходи.
Вот не стоило так увлекаться игрой. Семилетку вроде Филипа может запросто занести не на ту дорожку.
— Это не часть игры, — сказала она. — А просто человек.
— Я знаю, — сказал Филип. — Только не выходи.
— Хватит, — отрезала Ева.
Она вышла из машины и хлопнула дверцей.
— Привет, — сказала она. — Простите, я обозналась. Приняла вас за другого.
Мужчина промычал что-то вроде «ну».
— На самом деле я искала другое место, — сказала Ева. — Я там бывала однажды, еще маленькой девочкой. Там такая стена с картинками — знаете, из кусочков битого стекла. Кажется, такая бетонная стена, беленая. Когда я увидела эти столбы у дороги, я подумала, что это то самое место. Вы, наверно, думали, что мы увязались за вами. И вправду глупо получилось.
Она услышала, как открылась дверь машины. Вышел Филип, волоча Дейзи за собой. Ева подумала, что он прижмется к ней, и протянула руку, чтобы его обнять. Но он оторвался от Дейзи, обошел Еву и заговорил с мужчиной. Он оправился от перепуга чуть раньше и был, похоже, спокойнее, чем Ева.
— Ваша собака не кусается? — вызывающе спросил он.
— Она тебя не обидит, — ответил мужчина. — Пока я с ней, она в порядке. Просто рыпается, потому что еще щенок. Щенок она еще.
Он был невысок, не выше Евы. На нем были джинсы и распашной пестрый жилет, из тех, что вяжут в Перу или Гватемале. Золотые цепи и медальоны искрились на безволосой, загорелой и мускулистой груди. Когда он говорил, то откидывал голову, и Ева заметила, что лицо у него старше тела. Несколько передних зубов отсутствовали.
— Мы больше не будем беспокоить вас, — сказала она. — Филип, я как раз рассказывала этому человеку, что мы ехали по этой дороге в поисках места, где я бывала маленькой девочкой, и там были картинки из цветного стекла на стене. Но я ошиблась, это не то место.
— Как ее зовут? — спросил Филип.
— Трикси, — ответил мужчина, и, услышав свое имя, собака подпрыгнула и стукнулась о его локоть. Он шлепнул ее. — Я не слышал про картинки. Я тут не живу. Гарольд — он только и может знать.
— Ладно, ничего, — сказала Ева и взяла Дейзи на руки. — Не могли бы вы просто отъехать, тогда я смогу развернуться.
— Я не знаю ни о каких картинах. Видите, если бы они были тут, на фасаде, я не мог бы их видеть, потому что Гарольд развалял эту стену.
— Нет, они были не в доме, — сказала Ева. — Но не важно. Это было давным-давно.
— Да-да-да, — продолжал мужчина куда более приветливо. — Зайдите и попросите Гарольда все вам рассказать. Вы знаете Гарольда? Он хозяин тутошний. Хозяйка-то здесь Мэри, но Гарольд поместил ее в богадельню, так что теперь сам хозяйствует. Он не виноват, ей пришлось туда отправиться.
Он полез в грузовик и вытащил две упаковки пива.
— Мне надо было в город. Гарольд послал меня в город. А вы идите. Заходите. Гарольд будет рад повидаться.
— Рядом, Трикси, — строго сказал Филип.
Собака скулила и прыгала вокруг них, Дейзи повизгивала от страха и удовольствия, и как-то они оказались на дорожке, ведущей к дому, а потом и у входа. Ева несла Дейзи, а Филип и Трикси карабкались рядом по земляным буграм, бывшим когда-то ступеньками.
— Открывайте, и вперед, — сказал мужчина. — Идите прямо. Ничего, что здесь не так чисто, как бывало раньше? Мэри в богадельне, никто не убирается больше, как раньше.
Невероятный беспорядок — вот через что им пришлось идти, — такой, что годы понадобились бы, чтобы навести здесь чистоту. Нижний слой представлял собой стулья, и столы, и диваны, и, возможно, пару печек, ветхие простыни, и газеты, и оконные шторы, и мертвые растения в горшках, и бревна, торчащие из стен, и сломанные осветительные приборы, и карнизы для занавесок поверх всего этого, иногда до самого потолка, заслоняя наружный свет. Чтоб видеть путь, у входной двери горел светильник. Мужчина поставил на пол упаковки с пивом, открыл дверь и позвал Гарольда. Уже трудно было сказать, где они находились сейчас, — видны были кухонные шкафы с дверцами без петель, какие-то банки на полках, но тут же стояли две раскладушки с голыми матрасами и мятыми одеялами. Окна настолько успешно скрывались за мебелью или развешанными лоскутными одеялами, что найти их было трудновато, и пахло, как в лавке старьевщика, тут же забитая раковина и, возможно, забитый туалет, остатки еды и жира, запах сигарет и человеческого пота, и собачьего дерьма, и полного помойного ведра.
Никто не отозвался на крик. Ева обернулась — места для этого в комнате хватало, в отличие от передней, — и сказала:
— Я не думаю, что…
Но Трикси путалась у нее под ногами, и мужчина обошел ее, чтобы постучать в другую дверь.
— А, вот он где, — сказал он, все еще громко, хотя дверь уже открылась. — Вот он, Гарольд, тут он.
И тут же Трикси рванулась вперед, и другой мужской голос сказал:
— Блин. Убери собаку отсюда.
— Тут вот дама хочет глянуть на какие-то мозаики, — сказал коротышка.
Трикси взвыла от боли — кто-то ее пнул. Делать нечего, Ева вошла в комнату. Это оказалась столовая. С массивным обеденным столом и стульями столу под стать. За столом сидели три человека и играли в карты. Четвертый встал, чтобы ударить собаку. Температура в комнате доходила градусов до тридцати с гаком.
— Закройте дверь, сквозит же, — потребовал один из сидящих.
Коротышка выудил Трикси из-под стола и вышвырнул в другую комнату, потом закрыл дверь за Евой с детьми.
— Черт. Блин, — сказал вставший мужик.
Его грудь и руки так густо покрывали татуировки, что кожа казалась фиолетовой или синеватой. Он тряс ногой, словно ушиб ее. Наверное, ушиб, когда пнул Трикси.
Спиной к двери сидел юноша с острыми, узкими плечами и нежной шеей. По крайней мере, Ева предположила, что он юн, потому что прическа его представляла собой торчащие во все стороны крашеные золотистые перья, а в ушах висели золотые кольца. Юноша не обернулся. Человек, сидящий напротив юноши, на вид был Евиных лет, бритый наголо, с аккуратной седой бородкой и кровянистыми прожилками в глазах. Глаза эти глядели на Еву недружелюбно, но осмысленно, с проблеском ума, чем седобородый отличался от татуированного, смотревшего сквозь нее, словно она была галлюцинацией, которую он решил не замечать.
В конце стола, в кресле хозяина или отца семейства, сидел человек, приказавший закрыть дверь, но сидел, не поднимая головы и вообще никак не реагируя на вторжение. Был он мосластый, толстый, бледный, на голове курчавились потные патлы, и, насколько Ева могла видеть, был он совершенно голый. Татуированный и блондин были в джинсе, а седобородый — в джинсах и клетчатой рубашке, застегнутой до горла и подвязанной галстуком-ленточкой. На столе стояли стаканы и бутылки. Человек в кресле во главе стола, видимо Гарольд, и седобородый пили виски. Двое других — пиво.
— Я ей и говорю, может, и были мозаики на фасаде, но она туда не пошла, вы же его разваляли, — сказал коротышка.
— А ты заткнись, — буркнул Гарольд.
— Я прошу прощения… — начала Ева.
Больше ничего не оставалось, как пуститься в пространные объяснения, дойти до истории ночевки в деревенской гостинице, когда она была маленькой девочкой, путешествующей с мамой: мозаики на стене, всплывшие сегодня воспоминания, столбы, она, конечно же, ошиблась и очень извиняется. Обращалась она непосредственно к седобородому, поскольку, казалось, только он желал ее слушать или был способен ее понять. Руки и спина онемели под тяжестью Дейзи и еще оттого, что все тело напряглось, натянулось как струна. И еще она думала, как все это описать, на что это похоже, — все равно что оказаться вдруг в кульминации одной из пьес Пинтера[29]. Или посреди ее обычного ночного кошмара — полный партер бесстрастных, безмолвных, враждебных зрителей. Седобородый заговорил, когда она уже не знала, что бы еще придумать такого заискивающего или извиняющегося. Он произнес:
— Я не знаю. Вам надо спросить Гарольда. Эй! Эй, Гарольд. Ты знаешь что-нибудь о картинах, сделанных из битого стекла?
— Скажи ей, что, когда она тут разъезжала и пялилась на мозаики, меня еще не родили.
— Вам не повезло, леди, — сказал седобородый.
Татуированный присвистнул.
— Эй, ты, — обратился он к Филипу. — Эй, парень. Можешь сбацать чего на пианино?
Пианино стояло позади Гарольда. Рядом не было ни стула, ни скамьи — Гарольд сам занимал большую часть пространства между пианино и столом, — и неуместные вещи, какие-то тарелки, пальто, кучами валялись на пианино, впрочем, как и на каждой поверхности в доме.
— Нет, — быстро сказала Ева. — Нет, он не умеет.
— Я его спрашиваю, — сказал татуированный. — Можешь чего сбацать?
— Оставь мальца в покое, — сказал седобородый.
— Просто спросил, может он сыграть чего, — что в этом не так?
— Оставь его в покое.
— Видите ли, я не могу развернуться, пока кто-нибудь не перепаркует грузовик, — сказала Ева.
Она подумала: «В этой комнате пахнет спермой». Филип молча жался к ее ноге.
— Если вы просто отъедете… — сказала она, оборачиваясь в надежде найти коротышку за спиной.
И осеклась, не найдя его там, да и вообще в комнате, — он ушел, а она не заметила. А что, если он запер дверь?
Ева взялась за ручку и нажала ее, дверь открылась с трудом и во что-то уперлась дальше. Коротышка там и оказался — подслушивал, сидя на корточках. Ева вышла, уже не обращаясь к нему, прошла кухню, Филип семенил рядом, как самый послушный ребенок в мире. По узкой дорожке на входе, через весь хлам, и когда они вышли на свежий воздух, она наконец вдохнула его, потому что почти все это время едва дышала.
— Вам бы надо ехать по дороге дальше и там спросить про жилье кузины Гарольда, — послышался голос коротышки за спиной. — Там место хорошее. У них новый дом, и хозяйка она что надо. Они покажут вам и мозаики, и все, что захотите, они люди радушные. Усадят вас и накормят, и никто не уйдет с пустым желудком.
Наверно, коротышка не все время корячился под дверью, потому что грузовик он передвинул. Или кто-то другой. Грузовик вообще исчез — убран в какой-нибудь сарай или припаркован неизвестно где.
Ева коротышку проигнорировала. Она пристегнула Дейзи. Филип пристегнулся сам, без напоминания. Откуда-то появилась Трикси и обошла машину с безутешным видом, обнюхав все четыре колеса. Ева села за руль, закрыла дверь, положила потную руку на ключ. Машина завелась, и она въехала на гравий — в пространство, окруженное густыми кустами (ягодными, предположила она) и пожелтевшими лилиями в лопухах. Кое-где кусты были придавлены кучами старых покрышек, бутылок и жестяных банок. Трудно было представить, что весь этот мусор выброшен из дома, учитывая то, что там осталось, но, вероятно, так и было. И когда Ева разворачивала машину, она увидела какие-то фрагменты стены, открывшиеся в местах, где кусты были придавлены, обломки, на которых виднелось нечто белое.
Ей казалось, что она видит сверкающие осколки, вдавленные в стену.
Она не притормозила, чтобы вглядеться. Хоть бы Филип ничего не заметил — а то еще захочет остановиться. Она направила машину к аллее и миновала грязные ступени, ведущие к дому. Коротышка стоял там, маша обеими руками, и Трикси махала хвостом, уже стряхнув пугливую покорность настолько, что залаяла на прощанье и погналась за ними полпути до аллеи. Погоня была чистой формальностью, собака легко настигла бы их, если бы захотела, Еве пришлось замедлиться, когда она доехала до колеи. Она двигалась так медленно, что появившаяся из высоких сорняков фигура поравнялась с ними и легко на ходу открыла с пассажирской стороны переднюю дверцу, которую Ева не догадалась запереть, — и запрыгнула в машину. Оказалось, что это блондин, сидевший за столом спиной к ней, тот, чьего лица она не видела.
— Не пугайтесь. Никому не надо пугаться. Я просто подумала, не подкинете ли меня, ребята, хорошо?
Блондин оказался не мужчиной или мальчиком, это была девушка, девушка в чем-то грязном, похожем на нижнюю рубашку.
— Хорошо, — сказала Ева.
Каким-то чудом ей удалось не въехать от неожиданности в дерево.
— Не могла попросить вас там, в доме, — сказала девушка. — Я пошла в ванную, выпрыгнула в окно и прибежала сюда. Они, наверно, еще не знают, что я удрала. Они уже совсем на рогах там.
Девушка собрала в кулак край ночной рубашки, слишком большой для нее, и понюхала.
— Воняет, — сказала она. — Я ее подобрала в ванной, одна из Гарольдовых. Вонища.
Ева проехала колдобины, мрак аллеи и выбралась на нормальную дорогу.
— Господи Исусе, как я рада, что выбралась оттуда, — сказала девушка. — Понятия не имела, во что вляпалась. Даже не знаю, как я туда попала. Я даже не помню, как туда добралась, стояла ночь. Но мне там не место. Понимаете?
— Вроде они все там в стельку, — сказала Ева.
— Ну да. Еще бы. Извините, что я вас напугала.
— Да все в порядке, — сказала Ева.
— Я запрыгнула в машину, потому что боялась, что вы не остановитесь. Вы бы остановились?
— Не знаю, — ответила Ева. — Наверно, да, если бы сообразила, что вы девушка. Я вас там не слишком рассмотрела.
— Ага, я сейчас не особенно похожа на девушку. Выгляжу как полное дерьмо. Я не говорю, что не люблю компашки. Я люблю развлечься. Но компашки бывают разные, понимаете?
Она повернулась на сиденье и посмотрела на Еву в упор, так что Еве пришлось оторвать глаза от дороги на секунду и встретиться с ней взглядом. И она увидела, что девушка пьяна сильнее, чем показалось сначала. Ее карие глаза остекленели, но были широко открыты, округлились с усилием и приняли умоляющее и туманное выражение, как обычно у пьяных, что-то вроде последней отчаянной попытки тебя одурачить. Кожа на теле ее кое-где была покрыта пятнами, иногда пепельного цвета, лицо слегка помятое, расплывшееся с перепоя. Девушка была натуральная брюнетка — золотые перья намеренно и провокационно темнели у корней — и довольно хорошенькая, если не обращать внимания на неопрятность в ее нынешнем состоянии. Неизвестно, каким ветром занесло ее к Гарольду и его собутыльникам. Образ жизни и стиль времяпрепровождения, вероятно, лишил ее тело пятнадцати или двадцати природных фунтов — но она была невысока и уже точно не походила на мальчика. Ей полагалось быть аппетитной, симпатичной девушкой, всеми любимой пышкой.
— Херб, наверно, совсем рехнулся, раз привел вас туда, — сказала пышка, — у него не все дома, у Херба.
— Я заметила, — сказала Ева.
— Уж не знаю, что он там делает, наверно, работает на Гарольда. Но не думаю, что Гарольду от него так уж много проку.
Ева никогда не чувствовала сексуального влечения к женщине. И эта девушка в ее теперешнем потасканном состоянии вряд ли вообще могла кого-то привлечь. Но, может, девушка не могла поверить, что никому не мила, — и наверное, раньше она многим нравилась. Во всяком случае, рука ее скользнула по голому бедру Евы и проникла чуточку под кромку Евиных шорт. Привычным, отработанным движением, и пьяным, как и она сама. Она растопырила пальцы, чтобы сразу ухватить плоть, но перестаралась. Этому отработанному, автоматически многообещающему движению не хватало истинной, сильной, мучительной, свойской похоти, и Ева почувствовала, что рука может легко соскользнуть и начать ласкать кожаную обивку сиденья.
— Я в порядке, — сказала девушка, и ее голос, подобно руке, силился пробраться на новый, более интимный уровень отношений с Евой. — Вы меня понимаете? Понимаете, о чем я? Да?
— Конечно, — мгновенно уверила ее Ева, и рука девушки, покончив с любезностями, отправилась восвояси, словно усталая шлюха.
Но бесследно эти любезности не прошли. Их, таких вульгарных и неуверенных, оказалось достаточно, чтобы задеть какие-то старые струны.
То, что ласки, так или иначе, все равно сработали, наполнило Еву дурными предчувствиями, отбросив тень в прошлое: на все беспутное и импульсивное, на все многообещающее и серьезное, на все, в чем она не раскаялась, — на все соития ее жизни. Не настоящую вспышку стыда, не ощущение греха — просто грязную тень. Ну не шутка ли, что она начала вожделеть теперь, после чистейшего прошлого, с чистого листа. Но может быть, она по-прежнему, как и всегда, просто жаждет любви.
— Куда ты, собственно, направляешься? — спросила Ева.
Девушка резко откинулась, глядя на дорогу.
— А ты куда едешь? — поинтересовалась она. — Живешь неподалеку?
Туманный тон соблазна изменился, и, без сомнения, он точно так же изменился бы после акта любви, уступив грубоватой развязности.
— Тут через деревню ходит автобус, — сказала Ева. — Он останавливается на заправке. Я видела знак.
— Да, но вот ведь какое дело, — сказала девушка. — У меня нет денег. Понимаешь, я так спешила, что не взяла деньги. И смысл садиться в автобус без денег?
Дальше по списку следовало не отвечать на угрозу. Надо ей сказать, что можно проголосовать, раз нет денег. Вряд ли у нее в джинсах револьвер. Она просто притворяется, что вооружена.
А если нож?
Девушка впервые посмотрела на задние сиденья.
— Ваши дети в порядке? — спросила она.
Ответа не последовало.
— Хорошенькие, — заметила девушка. — Они стесняются чужих?
Как же глупо думать о сексе, думала Ева, когда настоящие опасности поджидают повсюду.
Евина сумка лежала на полу, у девушки в ногах. Ева не знала, сколько там денег. Долларов шестьдесят-семьдесят. Вряд ли больше. Предложить ей денег на билет — так назовет какое-нибудь дорогое направление. Монреаль. Или Торонто по меньшей мере. Сказать: «Да бери все, что там есть», — так решит, что Ева сдалась. Она почувствует страх Евы, и это заставит ее пойти дальше. Что же такого она может сотворить? Отнять у нее машину? Если Ева с детьми останется на дороге, то за воровкой погонится полиция, и довольно скоро. Если она оставит их мертвыми где-нибудь в кустах, то уедет подальше. Или возьмет их в заложники, пока это необходимо, приставит нож к горлу — Еве или детям.
Такое бывает. Но не так часто, как в кино или по телевизору. Такое вообще нечасто случается.
Ева повернула на сельскую дорогу, где движение было довольно бойкое. Что подняло ей настроение? Иллюзорное чувство безопасности. Она вполне могла сейчас ехать по шоссе в плотном ряду машин среди белого дня — прямо навстречу смерти.
— Куда ведет эта дорога? — спросила девушка.
— На шоссе.
— Так поехали туда.
— Но я туда и еду, — сказала Ева.
— А шоссе куда ведет?
— Оно ведет к Оуэн-Саунд или потом до Тобермори, где ты можешь сесть на корабль. Или на юг — но я не знаю куда. Правда, там можно свернуть на другое шоссе и доехать до Сарнии. Или Лондона. Или Детройта, или Торонто, если долго ехать.
И до самого шоссе все молчали. Ева свернула на него и сказала:
— Вот и все.
— А куда ты теперь?
— Я еду на север.
— Это туда, где вы живете?
— Я еду в деревню. Надо заправиться.
— У тебя есть бензин, — сказала девушка. — Больше половины бака.
Глупо получилось. Надо было сказать — купить еды.
Девушка рядом издала протяжный стон, будто решилась на что-то, может и на полную капитуляцию.
— Знаешь что? — сказала она. — Знаешь, я же могу выйти и здесь, если уж ехать автостопом. Какая разница, где голосовать.
Ева съехала на гравий. Облегчение стало превращаться в некое подобие стыда. Наверно, девушка и вправду не взяла денег, когда убегала, и теперь у нее ни гроша. Каково это — быть пьяной, измученной, без денег и на обочине.
— Куда, ты сказала, вы направляетесь?
— На север.
— А куда на Сарнию, говоришь?
— Южнее. Просто перейди дорогу, и там все машины едут на юг. Осторожнее переходи.
— Конечно, — сказала девушка. Ее голос отдалился, она прикидывала новые возможности. Уже ступив одной ногой из машины, она сказала: — Увидимся.
— Погоди, — сказала Ева.
Она нагнулась и, нащупав в сумке кошелек, достала двадцатидолларовую бумажку. Потом вышла и, обогнув машину, оказалась рядом с девушкой.
— Вот, — сказала она. — Тебе пригодится.
— Ага. Спасибо, — сказала девушка, засовывая деньги в карман и глядя на дорогу.
— Послушай, — сказала Ева. — Я тебе скажу, где мой дом, на всякий случай. Это около двух миль к северу от деревни, а деревня — с полмили к северу отсюда. На север. Вот туда. Там сейчас моя семья, но к вечеру они уедут, если это тебя смущает. На почтовом ящике, ты увидишь, написано «Форд». Это не моя фамилия. И я не знаю, почему она там. Дом стоит сам по себе посреди поля. У него обычное окно по одну сторону от входной двери и маленькое забавное оконце по другую. Такое, как обычно делают в туалете.
— Ага, — сказала девушка.
— Это на тот случай, если никто тебя не подхватит.
— Хорошо, — сказала девушка. — Ладно.
Когда они тронулись снова, Филип сказал:
— Фу. Она воняла, как блевотина. — Чуточку помолчал и прибавил: — Она даже не знает, что надо ориентироваться по солнцу. Такая дура, да?
— Наверное, — ответила Ева.
— Фу, в жизни не видал таких дур.
Когда они ехали по деревне, он спросил, нельзя ли остановиться и купить по мороженому. Ева сказала «нет».
— Столько народу хочет мороженого, что трудно припарковаться, — сказала она. — У нас мороженого и дома полно.
— Ты не должна говорить «дома» — это просто место, где мы остановились, — надо говорить «в том доме».
Огромные рулоны сена в поле к востоку от шоссе подставили лица солнцу, они были так плотно скручены, что смотрелись как щиты, или гонги, или изделия ацтеков. За ними тянулось поле, полное золотых не то хвостов, не то перьев.
— Это называется ячмень, вот эти золотые колоски с хвостиками, — объяснила она Филипу.
— Знаю, — сказал он.
— Их еще называют бородками иногда.
Она начала напевать:
— И лишь жнецы, с рассветом дня, на поле желтом ячменя…[30]
— Что такое «чменя»? — спросила Дейзи.
— Яч-меня, — поправил Филип.
— Одни жнецы, с рассветом дня, — повторила Ева, пытаясь припомнить точнее; и только жнец с рассветом дня, да, кажется, «только жнец» звучит лучше всего. И только жнец.
Софи и Иэн купили кукурузы с лотка на обочине. К ужину. Планы поменялись — они не уедут раньше утра. И еще они купили бутылку джина, немного тоника и лимоны. Иэн смешивал напитки, пока Ева и Софи обдирали кукурузу.
— Две дюжины! — сказала Ева. — С ума сойти.
— Подожди, и увидишь, — ответила Софи, — Иэн обожает кукурузу.
Иэн поклонился, вручая Еве напиток, и она сказала, пригубив:
— Лучше нектара и амброзии.
Иэн был совсем не таким, каким она его помнила или воображала. Он не был высоким тевтонцем, начисто лишенным чувства юмора. Он оказался худым, еще не лысым человеком среднего роста, подвижным и компанейским. Софи казалась менее уверенной в себе, более робкой, чем раньше, во всем, что она говорила и делала. И все-таки она казалась счастливее.
Ева рассказала, что с ними приключилось. Она начала с шашечной доски на пляже, исчезнувшей гостиницы, поездки в деревню. Рассказ включал наряды ее матери, городской дамы, ее просторные платья и шлепанцы в тон, но она не упомянула о том отвращении, которое испытывала юная Ева. Потом начались зрительные образы — карликовый сад, полки со старыми куклами, великолепные мозаики из битого стекла.
— Они немного походили на Шагала, — добавила Ева и вопросительно глянула на Иэна.
— Ага, — сказал Иэн. — Даже мы, городские топографы, слыхивали про Шагала.
— Ах, простите-простите, — отозвалась Ева.
Оба рассмеялись. И вот столбы, нахлынувшие воспоминания, темная аллея, и разрушенный сарай, и ржавые железяки, дом в руинах.
— Хозяин играл в карты с друзьями, — продолжала Ева. — Ничего не слышал про мозаики. Не знает, или ему безразлично. И господи боже ты мой, почти шестьдесят лет тому я там была, подумать только!
— Ох, мамочка, — сказала Софи. — Какая жалость.
Она лучилась от счастья, видя, что Ева и Иэн так хорошо ладят.
— Может, и нет, — сказала Ева. — Может, и нет.
Она не упомянула фрагмент стены, замеченный за кустами. Зачем, когда есть еще так много того, о чем не стоит упоминать? Прежде всего об игре с Филипом, так его перевозбудившей. И почти все о Гарольде и его приятелях. Почти все, что касалось девушки, запрыгнувшей в машину.
Есть люди, излучающие порядочность и оптимизм, они словно бы очищают любую атмосферу везде, где находятся, и им нельзя рассказывать подобные вещи, это слишком разрушительно. Еву поразило, что Иэн оказался одним из таких людей, несмотря на нынешнее свое благодушие, и что Софи благодарит свою счастливую звезду за то, что нашла его. Обычно старики нуждаются в защите, но теперь все чаще кажется, что и более молодые, и такие, как Ева, пытаются не показать, что они запутались. Вся ее жизнь явственно видится как непристойное метание, неисправимая ошибка.
Она еще могла бы рассказать, что дом гадко смердел и что хозяин и его приятели имели вид испитой и отвратный, но не о том, что Гарольд был голым, и уж ни в коем случае — что сама она испугалась. И ни за что — чего именно.
Филипу поручили собрать кукурузную шелуху и выбросить у кромки поля. Дейзи тоже схватила пару горсток и раскидала их вокруг дома. Филип ничего не добавил к истории Евы да вроде и не собирался. Но когда Ева закончила рассказ и Иэн (которому приспичило включить эту местную байку в свои профессиональные исследования) спросил Еву, что она знает о разрушенных деревенских древностях, о сельском быте, о распространении, как он выражался, агробизнеса, Филип отвлекся от ползания по полу под ногами у взрослых. Он посмотрел на Еву. Прямым взглядом, с проблеском сообщнической пустоты, с подавленной улыбкой, исчезнувшей раньше, чем появилась необходимость заметить ее.
Что бы это значило? Только то, что он уже начал собственную работу по сбору и сокрытию воспоминаний, самостоятельно решая, что хранить и как и что именно будет иметь значение для него в его неведомом будущем.
Если девушка разыщет Еву и появится здесь, пока дети еще не уедут, тогда грош цена всем Евиным предосторожностям.
Девушка не придет. За десять минут, проведенных у шоссе, может возникнуть вариант получше. Возможно, более опасный вариант, но зато куда интереснее и, уж наверное, более выгодный.
Девушка не придет. Разве что встретит какого-нибудь бездомного, бессердечного бродягу своего возраста. (Я знаю место, где мы можем пожить, если избавимся от старухи.)
Не сегодняшней, но завтрашней ночью Ева будет лежать в этом опустевшем доме, меж дощатых стен, похожих на бумажную скорлупу, позволив себе стать легкой, безответственной, и в голове у нее не будет ничего, кроме шороха густой, высокой кукурузы, которая, наверное, уже перестала расти, но все еще трепетно шумит во мраке.
Дети останутся
Тридцать лет тому одна семья проводила отпуск на восточном берегу острова Ванкувер. Молодые отец и мать, две их дочурки и пожилая пара — родители мужа.
Погода превосходная. Каждое утро, каждое утро первый чистейший солнечный луч падает сквозь высокие ветки, выжигая туман над спокойной водой пролива Джорджии. Вода отступила, оставив огромный пустой клин еще влажного песка, но ходить по нему легко, словно по бетону на последней стадии застывания. Отлив на самом деле еще не закончился, каждое утро уголок песка все меньше, но он по-прежнему достаточно велик. Изменения прилива больше всех интересуют деда.
Паулине, молодой маме, берег нравится меньше, чем дорога, бегущая за дачными строениями приблизительно на милю к северу, пока не остановится на берегу речушки, спешащей в море.
И если бы не приливы и отливы, то вообще ни за что не догадаешься, что перед тобой море. По ту сторону воды взгляд упирается в горы материка, предел, который и есть западная стена Северо-Американского континента. Эти хребты и вершины, которые вот прямо сейчас начинают проглядывать в дымке и в просветах между деревьями, уже заметны Паулине, катящей по дороге дочкину коляску; эти хребты также весьма интересуют деда. И его сына Брайана, мужа Паулины. Отец и сын постоянно спорят, что есть что. Которые из этих абрисов действительно континентальные горы, а какие — неправдоподобной высоты острова, окаймляющие берег? Сложно определиться, когда их ряды вот так сливаются и часть гор кажется то ближе, то дальше в переменчивом дневном свете.
Но между коттеджами и пляжем есть застекленный стенд с картой. Можно встать прямо перед ней и, попеременно глядя то в карту, то на пейзаж, определиться, что именно ты видишь. Дед и Брайан так и делают каждый день — и спорят, как водится, хотя спорить вроде бы не о чем, раз есть карта. Брайан полагает, что карта неточна. Но его отец не принимает никакой критики в рассуждении этих мест, ибо именно он выбрал их для отпуска. Все превосходно — и карта, и здешние удобства, и погода.
Мать Брайана на карту не смотрит, говорит, что карта ее тревожит. Мужчины смеются на ней и соглашаются, что да, вид у нее встревоженный. Ее муж так полагает, потому что она женщина, Брайан — потому что она его мать. И вечно ее волнует, все ли накормлены и напоены, надели ли дети шляпки от солнца и не забыли ли намазаться кремом от загара. И что это за укус на ручке у Кейтлин, совсем не похожий на укус комара? Она заставляет мужа надевать мешковатую хлопковую панаму и считает, что Брайан должен носить такую же: «А помнишь, как в детстве мы отдыхали летом в Оканагане, ты перегрелся на солнце и тебе стало дурно?»
Иногда Брайан не выдерживает.
— Мама, отстань, а? — ласково говорит он, но отец непременно вопрошает, неужели Брайан считает, что теперь может так разговаривать с матерью?
— Она не возражает, — говорит Брайан.
— Ты-то откуда знаешь? — спрашивает отец.
— О, ради бога! — вмешивается мать.
* * *
Каждое утро, едва открыв глаза, Паулина соскальзывает с кровати, уворачиваясь от длинных рук и ног Брайана, ищущих ее сквозь сон. Пробуждают ее первые писки и лепет малышки Мары в детской, потом скрип колыбельки, когда Мара — ей уже год и четыре месяца, начало конца младенчества, — пытается встать, цепляясь за перильца. Она продолжает нежно ворковать с Паулиной, когда та берет ее на ручки (Кейтлин, ей почти пять, ворочается, но не просыпается в соседней кровати), и продолжает лепетать, пока ее несут на кухню, чтобы переодеть. Потом Мару усаживают в ходунки, дав печенье и бутылочку с яблочным соком, пока Паулина натягивает сарафан и сандалии, идет в туалет, расчесывает волосы — как можно быстрее и тише. Они выходят из коттеджа, минуют еще чьи-то коттеджи, направляясь к ухабистой дороге без тротуара, все еще скрытой в утренней тени, будто русло туннеля под елями и кедрами.
Дед, тоже ранняя пташка, видит их с порога своего коттеджа, и Паулина видит его. Но оба приветственно машут — и только. Им с Паулиной нечего сказать друг другу (хотя иногда они чувствуют некую общность, в разгар какой-нибудь долгоиграющей эскапады Брайана или извиняющегося, но назойливого пустячного волнения бабушки; главное — не переглядываться, а то остальные заметят мрачные эти взгляды и обидятся).
В отпуске Паулина тайком выкраивает время для себя, ведь прогулка с Марой — почти то же самое, что гулять в одиночестве. Прогулки ранним утром, а после — стирка, сушка и глажка. Она могла бы гулять одна с часок или около того — после обеда, пока Мара дремлет. Но Брайан соорудил на пляже шалашик и каждый день таскает туда детский манеж, так что Мара засыпает в нем, а Паулина больше не может быть предоставлена себе самой. Он говорит, что родители его оскорбятся, если она будет ускользать каждый раз. Впрочем, он согласен, что ей необходимо время для заучивания роли, которую она будет играть в сентябре, когда они вернутся в Викторию.
Паулина — не актриса. Постановка любительская, но Паулина даже еще не состоит в любительской труппе. Она еще не пробовалась на роль, хотя так случилось, что пьесу она прочла. «Эвридику» Жана Ануя. Правда, с тех пор она уже много чего читала.
Один человек, с которым она познакомилась на июньском пикнике, спросил Паулину, не хочет ли она сыграть в пьесе. Пикник устраивал ректорат колледжа, где преподает Брайан, и там собрались в основном преподаватели с женами или мужьями. Вдовеющая преподавательница французского привела с собой взрослого сына, приехавшего к ней на лето и работавшего ночным администратором в городской гостинице. Француженка рассказывала всем, что сын получил место преподавателя в университете Западного Вашингтона и отправляется туда осенью.
Джеффри Тум его звали. Без «ба» на конце, добавлял он, словно бородатая шутка обижала его. У них с матерью фамилии были разные, потому что она овдовела дважды, а он — сын от первого брака. О будущей работе Тум сказал так:
— Нет никакой гарантии, что надолго, договор на год.
А что он будет преподавать?
— Драму-уууу, — промычал он шутливо.
Свою нынешнюю работу он не жаловал.
— Место довольно мерзкое, — сказал он. — Может, слыхали, как прошлой зимой там какого-то шулера кокнули. И с той поры неудачники стали останавливаться у нас, чтоб перебрать с дозой или вышибить себе мозги.
Народ, не понимавший, как реагировать на такой стиль изложения, постепенно разбрелся кто куда. Кроме Паулины.
— Я подумываю о постановке, — сказал он. — Хотите участвовать?
И спросил, слыхала ли она о пьесе «Эвридика».
— Вы говорите о пьесе Ануя?[31] — уточнила Паулина.
И Джеффри был приятно удивлен. Но сразу признался, что не уверен в успехе предприятия.
— Я просто подумал, будет интересно посмотреть, можно ли сделать что-нибудь, отличное от этого мира Ноэля Кауарда[32].
Паулина не могла припомнить, чтобы в Виктории ставили пьесы Кауарда, хотя все может быть.
— Мы видели «Герцогиню Мальфи»[33] зимой в колледже, — сказала она. — И в Камерном театре шло «Оглушительное бренчание»[34], но мы не ходили.
— Ага, ладно, — отозвался он, пунцовея.
Паулина думала, что он старше ее, по крайней мере ровесник Брайана (тому исполнилось тридцать, хотя на вид ему его лет и не давали), но когда Джеффри заговорил с ней, этак запросто, бесцеремонно, избегая смотреть в глаза, она заподозрила, что он младше, чем хочет казаться. А когда он покраснел, это стало очевидным.
Оказалось, что лет ему на год меньше, чем ей. Двадцать пять. Она сообщила, что не может играть Эвридику, она вообще не умеет играть. Но тут подошел Брайан, послушать, о чем идет речь, и сразу заявил, что она должна попробовать.
— Просто ее надо подстегнуть, — сообщил Брайан Джеффри. — Она сущий ослик, поди заставь сдвинуться. Но если серьезно, она слишком застенчива, все время ей говорю. И очень умна. Вообще-то, она гораздо умнее меня.
Джеффри посмотрел Паулине прямо в глаза — дерзко и пытливо, — и тут уж пришел ее черед краснеть.
Он сразу избрал ее своей Эвридикой, потому что она напоминает Эвридику. И не потому, что красива.
— Я бы никогда не дал эту роль красивой девушке, — сказал он. — И не уверен, что дал бы красивой девушке хоть какую-нибудь роль. Это слишком. Это отвлекает.
Так что же он имел в виду, чем она похожа на Эвридику? Он сказал, что волосами, они длинные и темные и довольно пышные (не по нынешней моде), и бледностью кожи («Берегись солнца летом»), и больше всего — бровями.
— Они мне никогда не нравились, — сказала Паулина, слегка покривив душой.
Брови у нее были правильной формы, темные, густые. Они главенствовали на лице. И подобно прическе, были не в моде. Но если они ей так уж не нравились, то почему она их не выщипала до сих пор?
Казалось, Джеффри ее не услышал.
— Они придают вам угрюмый вид, и это тревожит, — сказал он. — И челюсть у вас тяжеловата, этак по-гречески. Я б вас в кино снимал, крупным планом. Обычно Эвридику изображают эфемерной, бесплотной, я не хочу бесплотную.
Везя Мару по дороге, Паулина действительно учила роль. В конце там был монолог, и он ей тяжело давался. Она толкала коляску и повторяла: «Ты страшен, пойми, страшен, как ангелы, ты считаешь, что весь мир идет прямо вперед, сильный и ясный, как ты сам, разгоняя тени, притаившиеся у обочин дороги… Но ведь много и таких, у которых нет ничего, кроме совсем крошечного огонька, слабо мерцающего под бичом ветра. А тени удлиняются, теснят нас, влекут, сбивают с ног… О, пожалуйста, любимый мой, не смотри на меня, не смотри сейчас на меня. Может быть, я не такая, какой ты хотел меня видеть. Не та, которую ты выдумал в первый день нашего счастья… Но ты ведь чувствуешь, что я рядом с тобой, не правда ли? Я здесь, совсем близко, это мое тепло, моя нежность, моя любовь. Я дам тебе все радости, какие могу тебе дать. Пока не требуй у меня большего, чем я могу, довольствуйся этим… Не смотри на меня. Позволь мне жить…»[35]
Она кое-что утаила. «Может быть, я не такая, какой ты хотел меня видеть. Не та, которую ты выдумал в первый день нашего счастья… Но ты ведь чувствуешь, что я рядом с тобой, не правда ли?.. Это мое тепло, моя нежность, моя любовь».
Она сказала Джеффри, что пьеса прекрасна.
— Правда? — спросил он.
Сказанное ею не обрадовало и не удивило его — ему казалось, что ее слова банальны и излишни. Сам Джеффри никогда бы так не отозвался о пьесе. Он говорил о ней больше как о препятствии, которое нужно преодолеть. Как о вызове, брошенном многочисленным врагам. Академическим снобам — так он их обзывал, — поставившим «Герцогиню Мальфи». Общественным олухам — так он их обзывал — из Камерного театра. Он видел себя изгоем, ополчившимся против этих людей, сующим свою постановку — он называл ее своей — в зубы их презрению и сопротивлению. Сначала Паулина думала, что у него воображение взыграло и, скорее всего, никто из этих людей о нем вообще не слышал. А потом кое-что случилось — совпадения, а может, и нет: в холле церкви, где они собирались показывать пьесу, затеяли ремонт, и теперь играть стало негде, неожиданно выросла цена на печать афиш. Паулина стала глядеть его глазами. Чтобы находиться с ним рядом, волей-неволей приходилось разделять его взгляды: возражения становились опасными, препирательства утомляли.
— Вот же суки, — процедил Джеффри, но не без некоторого удовлетворения. — Почему я не удивлен?
Репетиции проходили на верхнем этаже старого строения на Фисгард-стрит. Все могли собраться только пополудни в воскресенье, хотя эпизодические репетиции случались и среди недели. Лоцман на пенсии, игравший господина Анри, мог приходить на каждую репетицию и приобрел раздражающую осведомленность касательно реплик других актеров. А вот парикмахерша, игравшая прежде только Гилберта и Салливана[36], но тут угодившая на роль матери Эвридики, не могла надолго оставлять парикмахерскую в иные дни, кроме воскресенья. Водитель автобуса, играющий ее любовника, тоже был занят каждый день, как и официант, которому досталась роль Орфея (и он единственный среди них мечтал стать настоящим актером). Паулине первые полтора летних месяца пришлось возлагать надежды на порой весьма ненадежных приходящих нянек-старшеклассниц, пока Брайан преподавал в летней школе, да и сам Джеффри заступал на смену в восемь часов вечера. Но уж в воскресенье после полудня собирались все. Пока народ плескался в озере Тетис или запруживал аллеи парка Бикон-Хилл, гулял под деревьями и кормил уток или уезжал подальше от города на пляжи Тихого океана, Джеффри и его труппа трудились в пыльной комнате с высокими потолками на Фисгард-стрит. Закругленные вверху, как в какой-нибудь простой и величественной церкви, окна распахивались в жару и подпирались всем, что попадалось под руку, — бухгалтерскими книгами двадцатых годов из шляпной лавки, когда-то располагавшейся на первом этаже, или кусками дерева — обломками рам от картин неизвестного живописца. Полотна лежали кучей у стены, позабыты-позаброшены. Стекла покрылись копотью, но за окнами с какой-то особой праздничной яркостью солнечные зайчики отскакивали от тротуаров, от посыпанных гравием пустых парковок и приземистых оштукатуренных строений. Никто не ходил по этим улицам деловой части города. Все было закрыто, кроме случайных кафешек-забегаловок или засиженных мухами лавчонок.
Паулина единственная выходила в перерывах купить сока или кофе. Она единственная не могла ничего сказать о пьесе и о том, как она движется, — хотя единственная читала ее раньше, — просто потому, что она единственная играла впервые. Так что ей казалось уместным не вмешиваться в режиссуру. Она наслаждалась короткими прогулками по пустым улицам, ей казалось, что она становится городской жительницей, обособленной и одинокой, живущей в ореоле особенной мечты. Иногда она думала о Брайане, оставшемся дома, как он копается в саду, приглядывая за детьми. А может, ведет их по Даллас-роуд — она вспомнила его обещание — пускать кораблики на пруду. Эта жизнь казалась беспорядочной и скучной по сравнению с тем, что происходило в репетиционной, — часы трудов, концентрации, резких обменов репликами, пота и напряжения. Даже вкус кофе, его обжигающая горечь и факт, что почти все пренебрегли ради него каким-нибудь более свежим и, возможно, более полезным питьем прямо из холодильника, словно бы доставлял ей удовольствие. А еще ей нравились витрины. Улица не походила на расфуфыренные кукольные улочки у залива — здесь располагались мастерские по ремонту обуви и велосипедов, магазинчики уцененного белья и тканей, одежды и мебели. Содержимое витрин так долго там находилось, что даже новое казалось подержанным.
Некоторые окна были зашторены хрупким и сморщенным, как старый целлофан, золотистым пластиком, растянутым за стеклом во спасение товара от солнца. Все эти заведения были покинуты на один только день, но выглядели словно законсервированная пещерная живопись или мощи под слоем песка.
Когда она сообщила, что ей придется уехать в двухнедельный отпуск, Джеффри словно молния поразила, казалось, он и представить не мог, что в ее жизни возможны отпуска. Потом он помрачнел, но с долей иронии, как если бы встретил еще один удар, вполне ожидаемый. Паулина объяснила, что пропустит всего одно воскресенье — между неделями, потому что они с Брайаном уедут на остров в понедельник, а вернутся в воскресенье утром. И пообещала успеть на репетицию. Но в глубине души она сомневалась, что у нее получится, — ведь сборы и отъезд занимают уйму времени. Она подумывала, что могла бы уехать одна утренним автобусом. Но это, скорее всего, напрасные надежды, и она об этой возможности не упомянула.
Паулина не спросила, только ли о пьесе он беспокоится, только ли ее предстоящее отсутствие на репетиции нагнало грозовые тучи. В тот момент казалось, что так оно и есть. На репетициях он общался с ней, как общался всегда. Единственная разница в их отношениях заключалась в том, что он ожидал от нее, от ее игры меньше, чем от остальных. Да это и понятно. Она одна была выбрана по наитию, только за внешность, — остальные прошли отбор, пришли по объявлениям, которые он развесил в кафе и книжных магазинах по всему городу. Ей казалось, что от нее он хочет неподвижности и несуразности, угловатости, того, чего не требовал от других. Не потому ли, что в конце пьесы, в последней ее части, ей предстояло играть умершую.
Но все-таки она думала, что они знают, вся остальная труппа знает, что происходит, несмотря на бесцеремонное и резкое, и не слишком цивилизованное обхождение Джеффри. Все знали, что едва они разбредутся домой, он пройдет по комнате и наглухо закроет за ними дверь на лестницу. (Сперва Паулина притворялась, что уходит со всеми, и даже садилась в машину и кружила по кварталу, но потом этот трюк стал казаться оскорбительным, не только для них с Джеффри, но и для других, в ком она была уверена, что они не предадут ее, ибо все повязаны временным, но неодолимым колдовством пьесы.)
Джеффри проходил через комнату и запирал дверь. Всякий раз это выглядело как новое решение, которое он должен принять. Пока он запирал дверь, она не смотрела на него. Звук засова, вошедшего в паз, зловещий и фатальный лязг металла о металл повергал ее в ужас капитуляции. Но она не делала первого шага, она ждала, когда Джеффри вернется к ней и вся история опустошивших его трудов дневных, написанная на его лице, и выражение прозаического разочарования исчезнут, уступив место живой энергии, всякий раз удивляющей ее.
— А вот расскажи-ка нам, про что эта пьеса, — спросил отец Брайана. — Не из тех ли, где растелешаются прямо на сцене?
— Эй, не дразни ее, — сказала мать Брайана.
Брайан и Паулина уложили детей и пошли в коттедж его родителей выпить перед сном. За спиной заходило солнце, за лесами острова Ванкувер, но горы перед ними, ясно видные и очерченные на фоне неба, сияли розовым. И вершины гор кое-где венчал розоватый летний снег.
— Никто там не раздевается, папа, — произнес Брайан гулким учительским голосом. — И знаешь почему? Потому что они голые с самого начала. Это новый стиль. Дальше они собираются поставить голого Гамлета, потом голых Ромео и Джульетту. Боже! Эта сцена на балконе, когда Ромео карабкается по шпалерам и застревает в зарослях роз.
— Ох, Брайан, — сказала его мать.
— Сюжет там такой: Эвридика умирает, — объяснила Паулина, — и Орфей спускается в царство теней, чтобы ее вернуть. И ему ее возвращают, но при условии, что он пообещает не смотреть на нее. Не оборачиваться. Она идет за ним следом…
— Двенадцать шагов, — сказал Брайан, — только так и надо.
— Это греческий миф, но действие происходит в наши дни, — сказала Паулина. — По крайней мере, в этой версии. Более или менее. Орфей там музыкант, путешествующий с отцом, они оба музыканты, а Эвридика — актриса. Действие происходит во Франции.
— Это перевод? — спросил отец Брайана.
— Нет, — сказал Брайан, — но ты не волнуйся, там не по-французски. Пьеса написана на трансильванском.
— Так трудно хоть что-то понять, — сказала мать Брайана с обеспокоенной улыбкой. — Когда Брайн рядом, ничего не поймешь.
— Пьеса идет на английском, — сказала Паулина.
— И ты в ней… как ее там?
— Эвридика, — сказала Паулина.
— И он выведет ее?
— Нет, — сказала Паулина. — Он обернется, и я останусь мертвой.
— Ох, печальный конец, — вздохнула мать Брайана.
— Ты так великолепна? — скептически поинтересовался отец Брайана. — Он не может удержаться, чтобы не обернуться?
— Не в этом дело, — сказала Паулина.
Но в этот момент она почувствовала, что ее свекор кое-чего добился, он сделал то, чего всегда хотел, что всегда подразумевал в любом разговоре с ней. Пробиться сквозь нагромождение каких-то пояснений, которые сам же у нее просил, а она неохотно, но терпеливо давала, и небрежным пинком разбить их и отшвырнуть обломки прочь. Он уже давно представлял для нее опасность в этом смысле, но не сегодня вечером.
Однако Брайан этого не знал. Он все еще думал, как выручить ее.
— Паулина великолепна, — сказал Брайан.
— Я согласна, — сказала его мать.
— Осталось наведаться к парикмахеру, — сказал его отец.
Но длинные волосы Паулины так долго были объектом его недовольства, что это превратилось в семейную шутку. Даже Паулина смеялась.
— Как я могу себе это позволить, — возразила она, — когда у нас не на что крышу на веранде починить?
И Брайан захохотал громко и вызывающе, чувствуя ужасное облегчение оттого, что она смогла все превратить в шутку. Он все время ей так и говорил. «Отшутись, — говорил он. — Только так с ним и можно справиться».
— Ага, вот именно, нет бы купить приличный дом, — сказал его отец.
Но дом, как и прическа Паулины, тоже давно набил оскомину, и никто не велся на это ворчание. Брайан и Паулина приобрели в Виктории красивый и очень запущенный дом на той улице, где старые особняки переделали в плохо обустроенные многоквартирные дома. И дом, и улица, и беспорядочно растущие развесистые дубы, и старый фундамент ужасали Брайанова отца. Брайан всегда с ним соглашался и старался увести подальше. Если отец указывал на соседний дом, весь увешанный черными пожарными лестницами, и спрашивал, что за публика живет по соседству, Брайан отвечал:
— Сущая беднота, папа, наркоманы.
А когда отец интересовался отоплением в домах, он говорил:
— Угольные печи, папа, это теперь большая редкость, уголь нынче можно купить за бесценок. Конечно, много грязи и воняет сильно.
Так что, когда отец снова упомянул приличный дом, это можно было расценить как знак примирения. Или вообразить, что так оно и есть.
Брайан был единственным сыном. Преподавал математику. Отец его, инженер-строитель по образованию, владел на паях строительной компанией. Если бы он мог надеяться, что сын тоже станет инженером и начнет работать в его фирме, то и разговоров не было бы. Паулина спрашивала Брайана, не думает ли он, что истинной подоплекой всех придирок к дому, к ее прическе и книгам, которые она читает, является разочарование отца в сыне, но Брайан уверил ее:
— Не… В нашей семье мы жалуемся ради самого процесса. Мы не настолько утонченные, мэм.
Паулина все-таки сомневалась в этом, слушая причитания свекрови, что учителя должны считаться достойнейшими людьми в мире, но не получают и половины заслуженного уважения, и она вообще не понимает, как Брайан выдерживает все это изо дня в день. А отец Брайана отвечал:
— Это верно. — Или: — Я наверняка за это бы не взялся. Уверяю тебя. Им никаких денег не хватит заставить меня преподавать.
— Не волнуйся, папа, — говорил Брайан. — Много тебе не заплатят.
Брайан в повседневной жизни был куда большим артистом, чем Джеффри. Он держал класс в узде парадом шуток и ужимок, и там играя привычную роль, как с матерью и отцом, думала Паулина.
Он валял дурака, отбиваясь от воображаемых унижений, он обменивался колкостями. Он был задирой в хорошем смысле этого слова — докучливый, веселый, непобедимый задира.
— Парнишка-то ваш определенно у нас отметился, — заявил директор школы Паулине. — Он не просто выжил, что само по себе непросто. Он оставил след.
«Парнишка-то ваш».
Брайан называл своих учеников балбесами. Голос его звучал ласково и обреченно. Он говорил, что отец его — сущий царь филистимлян, варвар в чистом виде. А мать его — мямля, изношенная простодушная добрячка. Но сколько он ни бежал этих людей, долго без них он выдержать не мог. Он возил своих балбесов в турпоходы. И не представлял себе отпуск без родителей. Каждый год он смертельно боялся, что Паулина откажется с ними ехать. Или, согласившись поехать, впадет в тоску, будет обижаться на все сказанное отцом, жаловаться Брайану, что надо много времени проводить с его матерью, дуться на него за то, что они ничего не могут сделать сами по себе. Она может решить проводить все время в коттедже за чтением, притворившись, что обгорела.
Все это случалось в прежние отпуска. Но этим летом она смягчилась. Он так ей и сказал, и еще сказал, что благодарен ей.
— Я понимаю, как это трудно, — сказал он. — Мне легче, это мои родители, и я не воспринимаю их всерьез.
В семье Паулины все воспринималось настолько всерьез, что ее родители развелись. Мать ее уже умерла. Сама она с отцом и двумя сестрами сохраняла теплые отношения, но держалась на расстоянии. Паулина говорила, что у них нет ничего общего. Она понимала, что для Брайана это слабый довод. И видела, как он рад в этом году видеть мирное существование семьи. Раньше она думала, что им руководит лень или трусость и поэтому он не рвет связи, но теперь она стала понимать, что здесь другое — и куда более положительное. Ему необходимо, чтобы и жена, и родители, и дети поддерживали между собой близкие связи, ему необходимо было вовлечь Паулину в свою жизнь с родителями и заставить родителей признать ее. Хотя признание со стороны отца всегда будет приглушенным и неблагоприятным, а со стороны матери слишком расточительным, слишком легкодостижимым, чтобы иметь значение. Еще он хотел связать Паулину и детей со своим детством — хотел, чтобы протянулась нить от этих отпусков к отпускам его детства: с хорошей или плохой погодой, застрявшими машинами или штрафами за превышение скорости, боязнью катания на лодке, укусами пчел, бесконечной игрой в «Монополию» — всем тем, что, как заявлял он матери, нагоняет на него смертельную тоску при одной только мысли. Он хотел, чтобы они фотографировали это лето, чтобы мать хранила фотографии в альбоме, бесконечная череда фотографий, чтобы он мог страдальчески стонать, едва заслышав о них.
Единственное время, когда они могли поговорить друг с другом, — поздно ночью, в кровати. Но они действительно говорили, и чаще, чем дома, где Брайан так уставал, что сразу засыпал. А при дневном свете с ним было трудно разговаривать из-за его шутовства. Она видела, как шутка загорается в его глазах (они с Брайаном были одной масти — темные волосы и бледная кожа, серые глаза, но у нее глаза затянуты поволокой, а его — светлы, как вода над каменистым руслом). Она видела, как шутка раздвигает углы его рта, пока он рылся среди слов, чтобы выловить каламбур или рифму — все, что могло отклонить разговор в сторону, свести к абсурду. Все его тело, высокое и нескладное, по-прежнему худое, как у подростка, подергивалось пристрастием к комическому. До замужества у Паулины была подруга по имени Грейси, особа довольно сварливая, умевшая отбрить мужчину. Брайан полагал, что такую девушку нужно встряхнуть, и потому трудился усерднее, чем обычно.
И Грейси спросила у Паулины:
— Как ты выдерживаешь этот бесконечный цирк?
— Это не настоящий Брайан, — ответила Паулина. — Со мной он совсем другой.
Но, возвращаясь мыслями в то время, Паулина сомневалась, правда ли это. Может, она просто защищала свой выбор? Такое случается, когда решаешь выйти замуж.
Так что разговоры в темноте как-то были связаны с нежеланием видеть его лицо. И он понимал, что она не может смотреть ему в лицо.
Но даже сейчас, при открытых в незнакомую темноту и покой ночи окнах, он продолжал подшучивать. Он величал Джеффри не иначе как Monsieur le Directeur[37], что придавало пьесе, или тому факту, что это французская пьеса, некоторый несуразный комизм. Или, возможно, его беспокоил сам Джеффри, серьезность Джеффри по отношению к пьесе, которую надо еще проверить.
Паулине было все это безразлично. Ей доставляло удовольствие и облегчение уже само упоминание имени Джеффри.
Обычно она не упоминала его имени, она кружила вокруг желания. Вместо этого она описывала других. Парикмахершу и лоцмана, и официанта, и старика, который заявлял, что однажды участвовал в постановке на радио. Он играл отца Орфея и больше всех докучал Джеффри, ибо имел собственные несгибаемые представления об актерской игре.
Пожилого импресарио мсье Дулака играл двадцатичетырехлетний агент бюро путешествий. А Матиаса, бывшего приятеля Эвридики, по сценарию приблизительно ее возраста, играл заведующий обувным магазином, он был уже женат, и дети у него имелись.
Брайан допытывался, почему Monsieur le Directeur не поменял местами этих двоих.
— Но таково его видение, — сказала Паулина. — Он видит в нас то, что никто другой не видит.
Например, говорила она, из официанта получается очень неловкий Орфей.
— Ему всего девятнадцать, и он застенчив, и Джеффри должен его подгонять. Он объяснял ему, что не следует играть так, словно он занимается любовью со своей бабушкой. Джеффри приходится все ему объяснять. «Чуть задержи объятие, погладь ее вот тут слегка». Даже не знаю, что из этого получится.
— «Погладь ее вот тут»? — переспросил Брайан. — Может, мне следует приглядеть за этими вашими репетициями?
Когда она начинала цитировать Джеффри, то чувствовала некий спазм в животе или на дне желудка, толчок, поднимающийся странным образом и бьющий по голосовым связкам. Ей приходилось маскировать содрогания рычанием, словно изображая его речь (хотя Джеффри никогда не рычал, не разражался тирадами, он вообще не театральничал).
— Но в том-то и суть, что он должен оставаться невинным, — торопливо добавляет она. — Быть менее телесным. Быть неуклюжим.
И она начинала обсуждать Орфея из пьесы, не официанта Орфея. Орфей не ладил с любовью или с реальностью. Ему требовалось совершенство. Он хотел любви, которая не вмещается в обычную жизнь. Он хотел идеальную Эвридику.
— Но Эвридика — куда большая реалистка. У нее была плотская связь и с Матиасом, и с мсье Дулаком. Она общается со своей матерью и ее любовником. Она понимает людей. Но любит Орфея. Она любит его больше, чем он ее. Она любит его больше, потому что она не дура. Она любит его как человека.
— Но спала с этими другими ребятами, — говорит Брайан.
— Ну да, с мистером Дулаком ей пришлось, это было неизбежно. Она не хотела, но, вероятно, со временем начала получать удовольствие, потому что в какой-то момент уже не могла без этого.
Итак, Орфей виноват, говорит Паулина решительно, он специально оборачивается к Эвридике, он убивает ее и избавляется от нее, потому что она не идеальна. Именно из-за Орфея ей приходится умереть во второй раз.
Брайан лежит на спине с широко открытыми глазами (она поняла это по тону его голоса) и спрашивает:
— Но разве он сам не умирает?
— Да, таков его выбор.
— Стало быть, они вместе?
— Да, как Ромео и Джульета. Орфей соединился наконец с Эвридикой! Господин Анри так и говорит. Это последняя реплика пьесы.
Паулина перекатывается на бок и прижимается щекой к плечу Брайана, без затей, просто чтобы подчеркнуть то, что она сейчас скажет:
— С одной стороны, это прекрасная пьеса, а с другой — до того глупая. И не похоже на Ромео и Джульетту, потому что невезение или стечение обстоятельств совсем ни при чем. Там все нарочно. Им не приходится жить, жениться, рожать детей, покупать ветхий дом и ремонтировать его и…
— И заводить интрижки, — говорит Брайан, — в конце концов, они же французы. — Потом добавляет: — Быть как мои родители.
Паулина смеется:
— Они заводят интрижки? Могу себе представить.
— Да уж конечно, — говорит Брайан, — я имел в виду их жизнь. Логически я понимаю: можно покончить с собой, чтобы не стать похожим на своих родителей, просто не верится, что кто-нибудь так сделает.
— Выбор есть у всех, — сонно бормочет Паулина. — Мать и отец Эвридики — они оба, в общем, жалкие в некотором смысле, но Орфей и Эвридика не обязаны быть на них похожи. Они не испорчены. То, что она спала с другими, не значит, что она испорчена. Тогда она еще не любила. Еще не встретила Орфея. Там есть один монолог, когда он ей говорит, что все ее поступки в прошлом марают ее, и это отвратительно. Ее ложь ему. Другие мужчины. Все это с ней навсегда. И конечно, господин Анри подыгрывает. Он сообщает Орфею, что и он — Орфей — ничуть не лучше их и однажды пойдет с Эвридикой по улице и будет похож на человека с собакой, от которой он хочет избавиться.
К ее удивлению, Брайан рассмеялся.
— Нет, — сказала она. — Это дурость просто, это не неизбежно. Это совсем не неизбежно.
Они пустились в домыслы, уютно споря, не как всегда, но и не совсем непривычно. Они беседовали и раньше, в долгие периоды супружеской жизни, полночи обсуждая Бога, или страх смерти, или образование детей, или стоит ли жить ради денег. Потом они признали, что слишком устали, чтобы говорить осмысленно, улеглись рядышком, уютно, по-товарищески, и уснули.
Наконец задождило. Брайан с родителями отправились в Кэмпбелл-Ривер[38] за продуктами, джином, а еще поставить в мастерскую отцовскую машину — починить неисправность, возникшую на пути из Нанаймо[39]. Неисправность была пустяковая, но гарантия еще действовала, так что отец Брайана хотел воспользоваться ею незамедлительно. Брайану пришлось ехать в своей машине, на случай если машину отца придется оставить в мастерской. Паулина сказала, что останется дома, потому что Маре пора подремать.
Она уговорила поспать и Кейтлин, разрешив ей взять в кровать музыкальную шкатулку, если будет играть с ней тихонечко. Потом Паулина разложила пьесу на кухонном столе, и выпила кофе, и перечитала сцену, где Орфей говорит, что нетерпимо, в конце концов, когда две оболочки, две взаимно непроницаемые эпидермы разделяют нас, когда у каждого свой кислород, своя собственная кровь, каждый крепко заперт, бесконечно одинок в своей шкуре, и Эвридика просит его замолчать. Не говори больше. Не думай больше. Пусть твоя рука ласкает меня. Пусть хоть она будет счастлива.
Твоя рука — мое счастье, говорит Эвридика. Прими это. Прими свое счастье. Конечно, он отказывается.
Кейтлин постоянно зовет ее и спрашивает, который час. Она включила музыкальную шкатулку громче. Паулина бросается в спальню и шипит, чтобы прикрутила звук и не будила Мару.
— Еще раз так сделаешь, я ее у тебя заберу, поняла?
Но Мара уже шуршит в колыбельке, и следующие несколько минут слышны звуки тихой беседы, убеждающей Мару проснуться окончательно. Слышно, как музыка в шкатулке начинает звучать громче и тут же приглушается. Потом — как Мара трясет колыбель, поднимается, выкидывает бутылочку на пол, и начинается птичий гомон, все более неутешный, пока не привлекает мать.
— Я ее не будила, — говорит Кейтлин. — Она сама проснулась. Дождик прошел. Можно нам на пляж?
И она права. Дождь кончился. Паулина переодела Мару и отправила Кейтлин за купальником и ведерком для песка. И сама надела купальник и шорты поверх него, на случай если семья вернется, пока они будут на пляже. (Отцу не нравится, когда женщины выходят из коттеджей в одних купальниках, однажды заметила ей мать Брайана. Полагаю, мол, нас воспитывали в иные времена.) Она взяла текст пьесы, потом положила его на место. Она испугалась, что пьеса поглотит ее и надолго отвлечет от детей.
Мысли о Джеффри, пришедшие к ней, не были мыслями — скорее переменами в ее теле. Такое случалось, когда она сидела на пляже (стараясь оставаться в полутени куста и так защитить свою бледность, как велел Джеффри), или когда выкручивала подгузники, или когда она и Брайан навещали его родителей. В разгар игры в «Монополию», в слова, в карты. Она продолжала говорить, слушать, работать, следить за детьми, но воспоминания о ее тайной жизни волновали ее, словно излучение. Потом теплый груз приходил в равновесие, уверенность заполняла все пустоты. Но ненадолго, утешение истекало, просачивалось сквозь поры, и она ощущала себя скрягой, потерявшей негаданное богатство и уверенной, что такая удача больше никогда не придет. Томление прихватывало ее и учило прилежно подсчитывать дни. Иногда она даже делила дни, чтобы подсчитать более точно, сколько времени уже прошло.
Вот бы поехать в Кэмпбелл-Ривер, найти предлог, а там добраться до телефона и позвонить ему. В коттеджах телефонов не было — только телефон-автомат в офисе комплекса. И не было у нее номера гостиницы, где работал Джеффри. К тому же вечером ей никак не сбежать. А звонить ему домой днем она боялась — вдруг трубку возьмет его мать, учительница французского. Он упоминал, что его мать летом редко выходит из дома. Только однажды она отправилась на пароме в Ванкувер. И Джеффри сразу позвонил и попросил Паулину приехать. Брайан был на занятиях, а Кейтлин в садике. Паулина отказалась:
— Не могу. У меня Мара.
— Кто? — переспросил Джеффри. — Ой. Извини.
Потом:
— А взять ее с собой?
— Нет, — ответила она.
— Почему «нет»? Ты же можешь взять ее игрушки.
— Нет, — сказала Паулина. — Я не могу, — добавила она. — Просто не могу.
Ей казалось слишком опасным тащить малышку в такой греховный поход. В дом, где растворы для чистки не стоят на полках повыше, а все пилюли, и сиропы от кашля, и пуговицы не спрятаны в безопасных местах. И даже если бы Мара избежала ядов или удушения, то могли заложиться мины замедленного действия — воспоминания о чужом доме, где ею странным образом пренебрегли, о закрытой двери и о шумных звуках за этой дверью.
— Я просто хочу тебя, — сказал Джеффри. — Я просто хочу тебя в моей постели.
— Нет, — снова отказалась она, слабея.
Но слова возвращались к ней. «Я хочу тебя в моей постели». Полушутливая настойчивость в его голосе и в то же время решительность, практичность, как если бы «в моей постели» значило нечто большее, постель, о которой шла речь, словно принимала иные, менее материальные формы.
Совершила ли она роковую ошибку, отказав ему? Напомнив лишний раз, насколько она скована тем, что называется ее реальной жизнью?
Пляж был почти пуст — народ уже привык к дождливой погоде. Песок оказался слишком тяжелым для Кейтлин, чтобы построить замок или выкопать ирригационную систему, — задачи, которые она решала только с отцом, потому что чувствовала его чистосердечный интерес к строительству на песке и безразличие Паулины. Кейтлин побродила немного в одиночестве по кромке воды. Наверно, ей не хватало других детей, безымянных немедленных друзей и случайных соперников по бросанию плоских подпрыгивающих камешков в воду, детей, пронзительно кричащих, плещущихся и вечно падающих. Малыш побольше ее и тоже одинокий стоял в отдалении по колено в воде. Если бы их свести вместе, то можно было вернуть ей пляжный опыт. Паулине не было видно, в его ли честь Кейтлин бегает, поднимая брызги, и наблюдает ли он за ней с интересом или пренебрежением. Маре компания не нужна, по крайней мере пока. Она проковыляла к воде, попробовала ее ногой и передумала, остановилась, огляделась и заметила Паулину.
— Пау, Пау, — сказала она радостно, узнав маму. «Пау» заменяло ей и «Паулину», и «маму», и «мамулю».
Попытка оглядеться нарушила ее равновесие — она села, полпопы в воде, полпопы на песке, издала удивленный писк, ставший объявлением, что сейчас она совершит некие обдуманные и неграциозные маневры, как то: перенесет вес на руки, а потом встанет во весь рост, ликующе покачиваясь. Она ходила уже с полгода, но передвижение в песке давалось ей пока не очень легко. Сейчас она возвращалась к Паулине, высказывая некие разумные, непринужденные замечания на своем собственном языке.
— Песок, — сказала Паулина, набирая горсть. — Смотри, Мара. Песок.
Мара ее поправила, произнеся нечто, звучавшее как «пок». Объемистый подгузник под синтетическими штанишками и махровый пляжный костюмчик утолщали попку, а вместе с пухлыми щечками и плечиками и уклончивым выражением значительности на лице делали ее похожей на проказливую матрону.
Паулине послышалось, что ее зовут. Позвали два или три раза, но поскольку голос был незнаком, она не обратила на него внимания. Она встала и помахала рукой. Звала женщина, работавшая в офисе при комплексе. Она стояла на балконе и кричала:
— Миссис Китинг! Миссис Китинг! К телефону, миссис Китинг!
Паулина подхватила Мару и позвала Кейтлин. Кейтлин с мальчиком уже приметили друг друга и уже собирали голыши и пускали их по воде. Сначала Кейтлин не услышала Паулину или сделала вид, что не слышит.
— В магазин! — крикнула Паулина. — Кейтлин! Магазин!
Убедившись, что Кейтлин бежит за ней, — а все волшебное слово «магазин», в офисе был магазинчик, где продавали мороженое, конфеты, сигареты и тоник, — Паулина пошла по песку к деревянному пролету лестницы над песком и кустами салата. На половине пути она остановилась и заявила:
— Мара, ты весишь тонну, — и перебросила ее на другую руку.
Кейтлин била прутом по решетке перил.
— Можно мне эскимо? Мама! Можно?
— Поглядим.
Телефон находился за доской объявлений на дальней стене главного коридора и напротив двери в столовую. Там сейчас играли в бинго по случаю дождя.
— Надеюсь, он еще не повесил трубку! — выкрикнула продавщица магазина.
Сейчас ее не было видно за прилавком. Паулина, все еще держа Мару на руках, схватила танцующую трубку и, задохнувшись, сказала:
— Алло?
Она ожидала услышать голос Брайана, который сообщит, что они задерживаются в Кэмпбелл-Ривере, или спросит, что она поручила ему купить в аптеке. А попросила она только одно — солнцезащитный крем, так что он не записал поручение.
— Паулина, — сказал Джеффри. — Это я.
Мара дрыгалась, карабкаясь по боку Паулины, стараясь добраться до пола. Кейтлин прошла через коридор, вошла в офис, оставляя мокрые следы. Паулина сказала: «Одну минуту, одну минуту». Она позволила Маре сползти и закрыла дверь, ведущую к лестнице. Она не помнила, что сообщила Джеффри название этого места, хотя объяснила в общих словах, куда едет. Она слышала, как женщина в офисе разговаривает с Кейтлин более визгливым голосом, чем она обычно говорила с детьми в присутствии их родителей:
— Ты что, забыла вымыть ноги после пляжа?
— Я здесь, — сказал Джеффри. — Я не могу без тебя. Совсем не могу.
Мара направилась к столовой, словно мужской голос, громко сказавший оттуда: «Снизу», позвал именно ее.
— Здесь — это где? — спросила Паулина.
Она читала объявления, пришпиленные к доске:
детям до четырнадцати лет не разрешается пользоваться лодками или каноэ без сопровождения взрослых.
рыбалка-марафон.
продажа выпечки и изделий народного искусства, церковь св. варфоломея.
ваша жизнь в ваших руках. чтение по ладони и картам, недорого и точно, звонить клэр.
— В мотеле. В Кэмпбелл-Ривере.
Паулина знала, где она, еще до того, как открыла глаза. Она ничему не удивилась. Она спала, но не настолько глубоким сном, чтобы избавиться от мыслей.
Она ждала Брайана на парковке офиса вместе с детьми и сразу попросила ключи. Родители его стояли тут же, и она сказала, что ей нужно еще кое-что в Кэмпбелл-Ривере.
Он спросил, что это. И есть ли у нее деньги?
— Да просто кое-что, — сказала она, и он решил, что это тампоны или противозачаточные таблетки, и она не хочет говорить о них вслух.
— Деньги есть.
— Ладно, но тебе придется заправиться.
Позднее она поговорила с ним по телефону. Джеффри сказал ей, что это необходимо.
— Потому что мне он не поверит. Он подумает, что я тебя похитил или что-то в этом роде. Он не поверит этому.
Но самым странным в этот день оказалось то, что Брайан, видимо, немедленно поверил. Стоя там, где недавно стояла она, в общем коридоре офисного здания, — в бинго уже не играли, но люди шли мимо, и она слышала их, идущих из столовой после обеда, — он сказал:
— Ох. Ох. Ох. Ладно, — голосом, с которым необходимо было совладать немедленно, но уже, похоже, проникнутым фатализмом или предвидением, идущим значительно дальше этой необходимости. Как если бы он всегда знал все, что могло с ней случиться. — Ладно, — сказал он. — Что насчет машины?
Он сказал что-то еще, что-то несущественное, и повесил трубку, и она вышла из телефонной будки у бензоколонки в Кэмпбелл-Ривере.
— Быстро, однако, — сказал Джеффри. — Легче, чем ты ожидала.
— Не знаю, — сказала Паулина.
— Может, подсознательно он знал. Люди знают.
Она затрясла головой, умоляя больше ничего не говорить, и он сказал:
— Извини.
Они пошли по улице, не касаясь друг друга и не разговаривая.
В мотеле телефона не было, и им пришлось найти телефонную будку. Сейчас, ранним утром, на досуге — первый настоящий досуг или свобода, с того момента, как она вошла в эту комнату, — Паулина заметила, что там почти ничего нет. Просто старый комод, кровать без изголовья и обитое чем-то кресло без ручек. На окне жалюзи с поломанной перекладиной и оранжевая пластиковая шторка, которой полагалось изображать сетку и которая не нуждалась в кайме, ее просто обрезали снизу. Грохочущий кондиционер — на ночь Джеффри его отключил и оставил дверь приоткрытой, на цепочке, поскольку окно не открывалось. Сейчас дверь была закрыта. Он, наверное, встал ночью и закрыл ее.
Вот и все, чем она обладала. Ее связь с коттеджем, где спал или не спал Брайан, оборвалась, как и связь с домом, который был отражением ее жизни с Брайаном, тем, как они хотели жить. У нее больше не было мебели. Ей пришлось лишиться всех крупных и надежных удобств вроде стиральной машины и автоматической сушилки, и дубового стола, и заново отполированного гардероба, и люстры — копии той, что была на одной из картин Вермеера. И всех вещей, принадлежавших ей лично, — бокалов из прессованного стекла, всей ее коллекции, и молитвенного коврика — подделки, конечно, но красивой. Именно этих вещей. Даже книги, возможно, навсегда потеряны. Даже ее одежда. Юбка и блузка и сандалии, которые она надела, уезжая в Кэмпбелл-Ривер, — это все, что ассоциируется с ее именем. Она никогда не вернется, чтобы потребовать хоть что-то. Если Брайан свяжется с ней и спросит, что делать с ее вещами, она скажет ему, пусть делает что хочет, пусть упакует их в мешки для мусора и снесет на помойку, если пожелает. (На самом деле она знала, что, скорее всего, он упакует их в чемодан, и он так и сделал и прислал его, и там были тщательно уложены не только зимнее пальто и сапоги, но и такие безделицы, как ее поясок для чулок, который она надела на свадьбу и больше никогда не надевала, а поверх всего молитвенный коврик, как символ его великодушия, естественного и в то же время хорошо просчитанного.)
Она думала, что никогда больше не будет заботиться о том, в каких комнатах жить или какую одежду носить. Никогда не будет искать помощи, чтобы ни у кого не возникло мысли, кто она есть, кем была. И даже сама она будет сторониться этой мысли. Достаточно того, что она совершила, это все.
Ее поступок напоминал то, о чем она слышала или читала. То, что сделала Анна Каренина и что хотела сделать мадам Бовари. То, что сделал преподаватель в школе Брайана, уйдя к школьной секретарше. Он сбежал с ней. Так это называется. Сбежать с ней. Увести. Об этом говорили пренебрежительно, с насмешкой и завистью. Это было на шаг дальше прелюбодеяния. Определенно, люди, сделавшие этот шаг, уже прелюбодействовали, нарушали супружескую верность задолго до того, как отчаялись или обрели достаточную решимость, чтобы пойти дальше. Лишь одна из множества пар сможет сказать, что их любовь осталась несбывшейся, технически чистой, но этих людей сочтут, если кто-нибудь им поверит, не столько серьезными и великодушными, сколько ужасающе безрассудными, поставив на одну доску с теми, кто решился и, отдав все, отправился трудиться в какие-нибудь нищие и опасные страны.
Эти вот, другие прелюбодеи рассматривались как безответственные, незрелые, эгоистичные и даже жестокие люди. И удачливые. Удачливые потому, что все их соития — в припаркованных машинах, или в высокой траве, или на испятнанных постелях в доме каждого из них, или, скорее всего, в мотелях вроде этого — были великолепны. Иначе они бы никогда не испытывали такого желания обладать друг другом любой ценой или не верили бы так безоглядно в свое будущее, в совместную жизнь, которая будет несравненно лучше той, что осталась в прошлом.
Отличная по сути. Именно в это Паулина должна верить сейчас — что есть существенная разница между жизнями, браками, союзами. Что некоторые познали такую нужду друг в друге, такую преданность, какая иным не снилась. Конечно, она могла бы сказать то же самое и год назад. Люди так и говорят и даже верят сказанному, верят, что их случай — самый удачливый, особенный, даже если всем ясно, что это не так и что уверяющий всех в своем счастье сам не знает, о чем говорит. И Паулина может не знать, о чем говорит сейчас.
Комната слишком нагрелась. И тело Джеффри было слишком горячо. Казалось, тело его излучало убежденность и раздражение, даже во сне. Торс у него был крепче, чем у Брайана, талия пошире. Больше плоти на костях, но более упругой на ощупь. Не так уж красив, в общем-то, — она была уверена, что многие так и сказали бы. И не так уж изыскан. Брайан в постели не пах ничем.
Кожа Джеффри каждый раз, когда Паулина спала с ним, обладала устоявшимся пропеченным запахом, масляным или ореховым. Он не мылся вчера вечером, но и она не мылась. Не было времени. Взял ли он с собой зубную щетку? Она не взяла. Но она и не знала, что останется.
Встретив Джеффри здесь, в глубине души она знала, что должна состряпать какую-то грандиозную ложь и потом скормить ее домашним, когда вернется. И ей — им — следовало поторопиться. Когда Джеффри заявил, что все решил и они не должны расставаться, что она должна уехать с ним в штат Вашингтон и ради этого они забудут о пьесе, потому что им трудно придется в Виктории, она посмотрела на него пустым взглядом, как вы бы посмотрели на кого-нибудь, ощутив первые толчки землетрясения. Она уже собиралась объяснить ему, почему все это невозможно, и правда думала, что так и скажет ему, но в этот миг ее жизнь пошла вразнос. Вернуться назад — все равно что натянуть мешок на голову. Она только и спросила:
— Ты уверен?
— Уверен, — ответил он искренне. — Я никогда тебя не брошу.
Это было совсем не похоже на его обычную речь. Потом она сообразила, что он цитирует — может, с долей иронии — пьесу. Именно это сказал Орфей Эвридике, как только они встретились в станционном буфете.
И вот жизнь ее катилась под уклон, Паулина становилась одной из тех, кто бежал. Женщиной, которая ужасающе и непостижимо бросала все. Ради любви, скажут наблюдатели насмешливо. Подразумевая плотские отношения. Ничего бы не случилось, если бы не желания плоти.
И все же в чем огромная разница? Занятие это не очень разнообразное, что бы там ни говорили. Оболочки, движения, касания, результаты. Паулина не та женщина, с которой трудно добиться результатов. Брайан их добивался. Да и наверно, любой бы мог, если не совсем неумеха и не противен физически.
Но ничего подобного на самом деле. С Брайаном, особенно с Брайаном, кому она посвятила всю свою корыстную добрую волю, с кем она жила в брачном соучастии, никогда не случилось бы такого освобождения, неизбежного полета, чувств, за которые она не должна воевать, но которым могла только отдаться, как дыханию или смерти. И это, она уверена, может прийти только с кожей Джеффри, с движениями, на которые способен только Джеффри, с его весом, который придавливает ее, потому что в нем сердце Джеффри, его привычки, мысли, странности, его амбиции и одиночество (и все это, насколько ей известно, связано с его молодостью).
Насколько ей известно. Но сколько же она не знает! Она почти не ведает, что он любит есть, какую музыку слушает и какую роль в его жизни играет мать (несомненно таинственную, но важную, как и роли родителей Брайана). Но в одном она совершенно уверена, какие бы ни были у него предпочтения или запреты.
Паулина выскальзывает из-под руки Джеффри, освобождается от простыни с сильным запахом хлорки, опускает ноги на пол, где лежит кроватное покрывало, и заворачивается в эту тряпку из зеленовато-желтой шенили. Она не хочет, чтобы он открыл глаза и увидел ее сзади, отметив обвисшие ягодицы. Он и раньше видел ее нагой, но обычно в более простительные моменты.
Она полощет рот и подмывается с мылом размером в два квадратика шоколадки и твердым как камень. Там, между ног, у нее сильно натружено, все опухло и дурно пахнет. Нужно приложить усилия, чтобы пописать, и похоже, у нее запор. Прошлым вечером, когда они вышли купить гамбургеры, оказалось, что Паулина не может есть. Возможно, она снова научится всему этому, и эти важные функции вернут себе место в ее жизни. Но теперь она не может на них сосредоточиться.
В кошельке осталось немного денег. Надо бы выйти и купить зубную щетку, зубную пасту, дезодорант, шампунь. И вагинальный гель. Ночью первые два раза они пользовались презервативами, но в третий раз не предохранялись.
Она не захватила часы, и у Джеффри их не было. И конечно, в комнате часов не оказалось. Кажется, еще рано — пока можно отличить утренний свет, несмотря на жару. Магазины, видимо, еще закрыты, но наверняка найдется какое-нибудь место, где продают кофе.
Джеффри переворачивается на другой бок. Наверное, она разбудила его, всего на мгновение.
У них будет спальня. Кухня, адрес. Он пойдет на работу. Она понесет белье в прачечную. Может, она тоже начнет работать. Продавщицей, официанткой, станет давать частные уроки. Она знает французский и латынь — а учат ли латыни и французскому в американских школах? Можно ли получить работу, если ты не американец? Джеффри не американец.
Она оставляет ключ ему. Она разбудит его, когда вернется. Нечем и не на чем написать ему записку. Действительно, еще рано. Мотель стоит у шоссе в северном конце города, рядом с мостом. Еще не началось движение машин. Она плетется под тополями какое-то время, прежде чем по мосту начинают грохотать автомобили, хотя движение регулярно сотрясало их ложе далеко за полночь.
Что-то приближается. Грузовик. Но не просто грузовик — огромная мрачная истина надвигается на нее. И она появилась не из ниоткуда — она поджидала, безжалостно подталкивая ее с тех пор, как она проснулась, или даже всю ночь.
Кейтлин и Мара.
Прошлым вечером по телефону, после разговора спокойным, сдержанным и почти милым голосом, словно он гордился тем, что не потрясен, не возражает, не умоляет, Брайан взорвался. Взорвался яростью и презрением, не заботясь, что кто-то услышит его:
— И вот еще, а как насчет малышек?
Трубка затряслась у уха Паулины.
— Мы обсудим… — сказала она, но он, казалось, ее не слышал.
— Дети, — произнес он тем же дрожащим и мстительным голосом, изменив слово «малышки» на «дети» и ударив ее точно обухом по голове, — ошеломил тяжелой, формальной, праведной угрозой. — Дети останутся, — сказал Брайан. — Паулина, ты меня слышишь?
— Нет, — сказала Паулина. — Да, я тебя слышу, но…
— Отлично. Ты меня услышала. Помни. Дети останутся.
Вот и все, что он мог сделать. Показать ей, что она творит, чем это все закончится, и покарать ее, раз она сделала то, что сделала. Никто его не упрекнет. И сколько бы она потом ни юлила, сколько бы ни торговалась, ни заискивала перед ним, это было как круглый холодный камень в пищеводе, как пушечное ядро. И оно там пребудет, пока она полностью не изменит свои мысли и намерения. Дети останутся.
Их машина — ее и Брайана — все еще стояла на парковке мотеля. Брайану придется попросить отца или мать подвезти его, чтобы забрать машину. Ключи у нее в сумке. Но у него есть запасные, и он наверняка их возьмет. Она отперла машину и бросила ключи на сиденье, щелкнула замком дверцы и захлопнула ее.
Теперь ей нет пути обратно. Она не может сесть в машину, вернуться к нему и сказать, что ненадолго сошла с ума. Если она так сделает, он, может, и простит ее, но никогда не забудет, как и она сама. Впрочем, многие так и живут.
Она ушла с парковки, она ушла в город по тротуару вдоль обочины.
Вчерашняя тяжесть Мары на боку. Следы Кейтлин на полу.
Пау, Пау.
Ей не нужны ключи, чтобы добраться до них, ей не нужна машина. Можно вымолить, чтоб ее подвезли на попутной. Сдайся, сдайся, вернись к ним любыми способами, как она до сих пор не удосужилась это сделать? Мешок на голову. Жидкий выбор, выбор фантазии пролился на землю и мгновенно затвердел, принимая неотвратимую форму.
Какая острая боль. Она станет хронической. Хроническая значит долговременная, но, может, не постоянная. Может, это означает также, что от нее не умирают. Ты от нее не освободишься, но и не умрешь. Ты не чувствуешь ее каждую минуту, но без нее не проходит и дня. Ты научишься разным трюкам, чтобы ее утихомирить или прогнать, стараясь не покончить с ней, разрушив первопричину этой боли. И это не его вина. Он все еще невинен, дикарь, который не знает, что в мире существует такая долгая боль. Признайся себе, ты все равно их теряешь. Они растут. А матери все равно остается личное, чуть нелепое одиночество. Они забудут это время, так или иначе они откажутся от тебя. Или останутся с тобой так надолго, что ты не будешь знать, что с ними делать, как случилось с Брайаном. И все же как больно. Продолжать жить и привыкать, пока не останется только прошлое, которое она будет оплакивать, и никакого возможного настоящего.
Дети выросли. Они ее не ненавидят. За то, что сбежала, или за то, что отсутствовала. Но и не простили. Возможно, они не простили бы ее в любом случае, но за что-нибудь другое.
Кейтлин мало что помнит о том лете в коттедже. Мара — вообще ничего. Однажды Кейтлин вспоминает о нем, сказав Паулине: «там, где отдыхали дедушка с бабушкой».
— Там, где мы были, когда ты от нас ушла, — сказала она. — Но мы не сразу догадались, что ты сбежала с Орфеем.
— Это был не Орфей, — сказала Паулина.
— Не Орфей? Папа всегда говорил, что Орфей. Он говорил: «И тогда ваша мать сбежала с Орфеем».
— Это он шутил.
— А я думала, что Орфей. Значит, это был кто-то другой.
— Это был некто, связанный с той пьесой. И жила я с ним недолго.
— Не Орфей.
— Нет, он не был Орфеем.
Денег как грязи
Тем летним вечером 1974 года, пока к самолету подавали трап, Карин сняла с багажной полки рюкзак и кое-что из него вытащила. Черный берет, который она натянула так, что тот съехал на один глаз, красную помаду, которой она накрасила губы, глядясь в иллюминатор, как в зеркало, — в Торонто уже стемнело — и длинный черный мундштук, чтобы зажать в зубах при первой удобной возможности. Берет и мундштук Карин стащила у мачехи — они были частью образа Нежной Ирмы[40] (мачеха наряжалась Ирмой на костюмированной вечеринке, а помаду Карин сама купила).
Она прекрасно знала, что видом своим на половозрелую профуру никак не потянет. Зато хоть не похожа на ту десятилетку, что садилась в самолет на исходе прошлого лета.
Никто в толпе не приглядывался к ней, даже когда она закусила мундштук и скривила губы в зловещей ухмылке. Все были слишком озабочены, смущены, обрадованы или растерянны.
Многие тут и сами казались ряжеными. Чернокожие парни, щеголявшие в ярких балахонах и вышитых шапочках, старушки в покрывалах на головах, присевшие на свои чемоданы, хиппи — все как один в рванине и бусах, а еще на какое-то, совсем короткое время Карин затесалась в толпу мужчин в широкополых черных шляпах — угрюмые лица, обрамленные пружинистыми маленькими локонами.
Хоть и не положено, но встречающие все равно просочились в зал ожидания сквозь автоматические двери. По ту сторону багажной ленты Карин высмотрела свою маму, Розмари, которая пока что ее не заметила. На Розмари было длинное темно-синее платье в золотистых и оранжевых полумесяцах. Свежеокрашенные черные-пречерные волосы матери были начесаны и громоздились на голове шатким птичьим гнездом. Помнится, когда Карин уезжала, мать была гораздо моложе и не такая жалкая. Карин окинула взглядом пространство у матери за спиной, ища Дерека. Отыскать в толпе Дерека обычно не составляло труда благодаря его росту, сияющему лбу и светлым волнистым локонам до плеч. А еще этот его ясный решительный взгляд и насмешливый рот, и умение стоять как вкопанный. Не в пример Розмари, которая дергалась, вытягивала шею и озиралась — теперь ошеломленно и разочарованно. За спиной у Розмари Дерека не оказалось, да и нигде поблизости. Если только он не отлучился в туалет.
Карин вынула мундштук изо рта и сдвинула берет на затылок. Раз Дерека нет, то шутка потеряла всякий смысл. Шутить таким манером с Розмари — только усугублять ее смущение, на вид она и так достаточно сбита с толку, даже потеряна.
— Губы намазюкала, — сказала Розмари, глядя на дочь ослепленными влажными глазами. Она обняла дочку рукавами-крыльями и окутала Карин ароматом масла какао. — Только не рассказывай мне, что отец позволил тебе красить губы.
— Я хотела вас разыграть, — сказала Карин. — А Дерек где?
— А нет его, — ответила Розмари.
Карин углядела на транспортере свой чемодан. Она нырнула в толпу и, угрем проскользнув меж тел, стащила его с ленты. Розмари хотела ей помочь его нести, но Карин сказала:
— Ладно, ладно.
Вместе они протолкались к двери и прошли мимо всех тех встречающих, кому не хватило духу или настойчивости пробиться внутрь. Молча мать и дочь вышли наружу — в горячий ночной воздух — и направились к стоянке. Тогда Карин сказала:
— В чем дело? У вас с ним что, очередной шквал приключился?
«Шквалами» Розмари и Дерек называли ссоры и стычки, которые случались между ними в процессе весьма нелегкой совместной работы над книгой Дерека.
— Мы больше не видимся, — ужасающе безмятежно произнесла Розмари. — И больше не работаем вместе.
— Да? — сказала Карин. — Хочешь сказать, что вы разбежались?
— Да, если такие, как мы, способны «разбежаться».
По всем дорогам в город текла красная извивающаяся река тормозных огней автомобилей, а навстречу ей, из города, вытекала белая река автомобильных фар, реки переплетались в том месте, где эстакада развязки проходила прямо над потоками внизу. В машине Розмари не было кондиционера — не потому, что Розмари не могла себе его позволить, а потому, что она не доверяла кондиционерам, — все окна пришлось открыть, и шум автострады тек сквозь салон в густом загазованном воздухе.
Розмари терпеть не могла ездить по Торонто за рулем. Раз в неделю, когда нужно было приезжать в издательство, в котором она работала, она отправлялась в город на автобусе, а в другие разы ее возил Дерек. Карин благоразумно помалкивала, пока они ехали по автостраде от аэропорта и на восток по 401-му шоссе, а потом свернули, миль через восемь или девять нервно-напряженного внимания Розмари, на второстепенную трассу, ведущую туда, где Розмари обитала.
— Так, значит, Дерек ушел? — спросила Карин. — Уехал путешествовать?
— Нет, насколько я знаю, — сказала Розмари. — Правда, я бы и не узнала.
— А Энн? Она все еще там?
— Наверное, — пожала плечами Розмари. — Она никуда не выезжает.
— А вещи свои он забрал?
Дерек принес гораздо больше вещей, чем было необходимо ему для работы над кипами рукописей. Книги — разумеется, не только те, что нужны для работы, а еще книги и журналы, которые он читал в перерывах между работой, чаще всего валяясь на кровати Розмари.
Пластинки, которые он слушал. Одежда, обувь, если ему вздумается прогуляться в зарослях, таблетки от поноса или головной боли и даже инструменты и всякое барахло, чтобы строить шалаш или беседку. В ванной лежали его бритвенные принадлежности, а еще зубная щетка и специальная паста для чувствительных десен. Его кофемолка стояла на рабочем столике в кухне. (А та, что купила Энн, — поновее и покруче — осталась на столике в кухне того дома, который все еще считался его домом.)
— Все подчистую, — сказала Розмари. Она свернула к еще открытой кондитерской на окраине ближайшего городка на этой трассе. — Умру, если не выпью кофе, — сказала она.
Обычно, если они заезжали в подобные кафешки, Карин оставалась с Дереком в машине. Он не употреблял такой кофе. «Твоя мама помешана на забегаловках, потому что у нее было ужасное детство», — говорил он.
Он имел в виду не то, что Розмари все детство ходила в такие заведения, а то, что ей категорически запрещалось туда ходить, а также ей категорически запрещали все жареное и сладкое и держали ее на диете из овощей и слизистых каш. Не потому, что ее родители были бедны — они были богаты, — но потому, что они были фанатиками здорового питания, опередившими время. Дерек знал Розмари всего ничего, по сравнению, скажем, с теми годами, что знал ее отец Карин, Тед, но куда охотнее распространялся о детстве Розмари и выбалтывал такие пикантные подробности, как, например, еженедельный клизменный ритуал, который сама Розмари опускала в своих воспоминаниях.
Никогда, ни разу за все свои школьные годы, за всю ее жизнь с Тедом и Грейс, Карин не приходилось бывать в подобных местах, насквозь провонявших жженым сахаром, топленым жиром, сигаретным дымом и прогорклым кофе. Но Розмари с наслаждением разглядывала изобилие пончиков с кремом («с крэмом», как сообщала этикетка) и повидлом, с помадкой и шоколадной глазурью, эклеры, хворост, жареные пирожки с изюмом, круассаны с начинкой, миндальное и ореховое печенье с шоколадной крошкой и разноцветной посыпкой. Мама Карин не видела ни единой причины — за исключением разве что боязни растолстеть — отказываться от любого из этих лакомств и ни за что бы не поверила, что далеко не всякий сходит по ним с ума.
У стойки, за которой, согласно объявлению, вам не рекомендовали засиживаться дольше двадцати минут, восседали две необъятные толстухи с высокими кудрявыми причесонами, а между ними щуплый, похожий на морщинистого мальчика мужчина, который тарахтел без умолку — наверное, травил анекдоты. Пока толстухи хохотали, тряся головами, а Розмари выбирала себе миндальный круассан побольше, мальчик-старикан тайком блудливо подмигнул Карин. Тут она вспомнила, что не стерла помаду.
— Как тут устоять, а? — сказал он Розмари, и она засмеялась в ответ, сочтя это сельским дружелюбием.
— Невозможно, да, — ответила она. — Ты уверена, что не хочешь? — спросила она Карин. — Ничегошеньки?
— Малышка блюдет фигуру? — спросил морщинистый мужичок.
К северу от этого городишки движения вовсе не было, воздух посвежел и запах болотами. Лягушки квакали так голосисто, что перекрикивали порой звук мотора. Двухполосное шоссе прорезало черноту вечнозеленых растений и менее густую темень запятнанных можжевельником полей и ферм, отступающих в заросли. А потом, на вираже, фары выхватили из мрака первые нагромождения скал, одни были блестящими, серовато-розовыми, другие — цвета запекшейся крови. Вскоре они стали появляться все чаще и чаще, кое-где нагромождения сменяли ровные скалистые ряды, словно кто-то вручную уложил камни толстыми слоями, чередуя серые с зеленовато-белыми.
Известняк, вспомнила Карин. Известняковая порода, перемежавшаяся здесь с породами докембрийского щита. Так Дерек рассказывал. Дерек жалел, что он не геолог, потому что обожал горы. Но он ни за что не стал бы помогать горнодобывающим компаниям загребать деньгу. К тому же его привлекала история — странное сочетание интересов. «История для домоседа, а геология — для путешественника», — говорил он, и по его торжественному тону Карин догадывалась, что он смеется над самим собой.
Вот от чего Карин страшно хотелось избавиться — и немедленно, пусть бы оно просто улетучилось прямо в окно вместе с потоками ночного воздуха, — так это от чувства брезгливого презрения. К миндальному круассану и отвратительному кофе, который Розмари прихлебывала чуть ли не украдкой, к мужичку у стойки и даже к новенькому хиповому платью матери и неопрятной копне ее волос. Еще ей хотелось не скучать по Дереку, избавиться от ощущения, что стало пусто, что чего-то не хватает. И она сказала вслух:
— Ну и хорошо. Хорошо, что он ушел.
— Неужели? — удивилась Розмари.
— Без него ты будешь счастливее, — сказала Карин.
— Да, — согласилась Розмари. — Ко мне снова возвращается самоуважение. Знаешь, даже не осознаешь, как много ты теряешь вместе с самоуважением и как тебе его не хватало, ты начинаешь понимать, только когда снова потихоньку его обретаешь. Как мне хочется, чтобы мы с тобой весело провели лето. Можем даже попутешествовать. Я даже не против вести машину, только не в самую чащобу. Или пойдем в пеший поход в лес, куда тебя Дерек водил. Я бы очень даже не против.
— Ага, — сказала Карин, хотя вовсе не была уверена, что без Дерека они не заблудятся.
Мысли ее были не о пеших походах с Дереком. Перед глазами стояла прошлогодняя сцена: Розмари на кровати, сжавшись в комок под стеганым пледом, плачет, закусывая в горестном приступе отчаяния углы этого самого пледа и подушки, а Дерек сидит у стола, за которым они с Розмари обычно работали, и читает очередную страницу рукописи.
— Не могла бы ты как-нибудь утихомирить свою мать? — говорит он.
— Ей нужен ты.
— Я с ней не могу справиться, когда она такая, — говорит Дерек.
Он откладывает прочитанную страницу и берет другую. Между страницами он смотрит на Карин, скорчив страдальческую мину. Вид у него истрепанный, старый и измученный.
— Терпеть не могу такое, — говорит он. — Прости.
Так что Карин пошла в спальню и погладила Розмари по спине, и Розмари тоже сказала:
— Прости меня, — и тут же спросила: — Что делает Дерек?
— Сидит на кухне, — ответила Карин, решив не уточнять, что он читает.
— А что он сказал?
— Сказал, что я должна пойти и поговорить с тобой.
— Ох, Карин, мне так стыдно.
Из-за чего же случился весь этот скандал? Успокоившись и приведя себя в порядок, Розмари каждый раз объясняла, что всему виной работа, их рабочие разногласия.
— Почему ты не бросишь работать над его книгой? — спрашивала Карин. — Тебе же и так есть чем заняться.
Розмари редактировала рукописи — так она и познакомилась с Дереком. Не потому, что он предложил свою книгу издательству, на которое трудилась Розмари, нет, он пока еще этого не сделал, просто один ее знакомый был другом Дерека, и этот самый друг сказал ему: «Я знаю одну женщину, она может тебе очень пригодиться». И вскоре Розмари переехала в пригород и поселилась в трейлере неподалеку от его дома — так она могла быть ближе к нему, чтобы работать над книгой. Поначалу Розмари оставила за собой съемную квартиру в Торонто, но потом отказалась от нее, потому что все больше времени проводила в трейлере. Она по-прежнему редактировала и другие тексты, хотя теперь их было не так уж много, и она устроила себе один рабочий день в неделю, выезжая в Торонто в шесть утра и возвращаясь оттуда в двенадцатом часу ночи.
— А о чем его книга? — однажды спросил у Карин Тед, на что Карин ответила:
— Что-то об исследователе Ла Сале[41] и индейцах.
— Парень что — историк? Преподает в университете?
Этого Карин не знала. Дерек много чем занимался — был и фотографом, и горняком, и геодезистом, но если он и преподавал, то, скорее всего, в старшей школе, думала Карин. Энн говорила, что Дерек работает «вне системы».
Сам Тед как раз преподавал в университете. Он был экономистом.
Карин, конечно же, не посвящала ни Теда, ни Грейс в неприятности, происходившие якобы из-за споров насчет книги. Розмари во всем винила себя. Говорила, что это все давление. Иногда говорила, что все из-за климакса. Карин слышала, как мать сказала Дереку: «Прости меня» — и тот ответил: «Нечего тут прощать» — с холодным удовлетворением в голосе.
При этом Розмари покинула комнату. Они не слышали рыданий, но напряженно ждали, что она вот-вот снова расплачется. Дерек строго посмотрел Карин в глаза — на лице у него появилось смешное выражение мучительного недоумения.
Вот что я на этот раз должен сделать?
— Она очень ранима, — сказала Карин пристыженным голосом.
Чего она стыдилась? Поведения Розмари? Или того, что Дерек, похоже, делал ее — Карин — соучастницей своего довольства, своего презрения, которое простиралось далеко за пределы сиюминутности. И того, что невольно чувствовала себя польщенной.
Иногда она просто уходила. Шла по дороге прямо до дома Энн, и Энн, кажется, всегда была рада ее приходу. Она никогда не спрашивала Карин почему, но если Карин говорила: «Опять у них эта дурацкая ссора» — или, позднее, когда они придумали «особое» слово, «Снова у них шквал налетел», Энн никогда не выказывала ни удивления, ни огорчения. «Дерек такой несговорчивый», — могла она сказать, или: «Ну, я думаю, они помирятся». Но стоило Карин пойти дальше и сказать: «Розмари плачет», Энн говорила: «Давай лучше не будем это обсуждать, ладно?»
Зато с ней можно было поговорить о многом другом, она всегда была готова выслушать, но порой на ее лице появлялась недоверчивая улыбка.
Энн была миловидная пухленькая женщина. Ее светло-серые волосы свободно спадали на плечи, а на лбу у нее была выстрижена короткая челка. Энн часто-часто моргала во время разговора, так что встретиться с ней взглядом было непросто (Розмари говорила, что это нервное). А еще губы — губы у Энн были такие тонкие, что почти исчезали, когда она улыбалась, всегда закрыв рот, будто что-то утаивала.
— Знаешь, как Розмари познакомилась с Тедом? — сказала Карин. — Это было на автобусной остановке, шел дождь, и Розмари красила губы.
Затем ей пришлось сделать отступление и объяснить, что Розмари пришлось красить губы на остановке, потому что ее родители не знали, что она красится, — их религия запрещала губную помаду, как запрещала кинофильмы, высокие каблуки, танцы, сахар, кофе, не говоря уже об алкоголе и сигаретах.
Розмари тогда училась на первом курсе университета, и ей не хотелось выглядеть этакой святошей. Тед работал ассистентом профессора.
— Но они уже знали друг о друге, — рассказывала Карин и попутно объяснила, что Тед и Розмари жили на одной улице.
Тед обитал в привратницкой самого большого из богатых домов, отец его служил в этом доме водителем и садовником, а мать — экономкой. А Розмари жила в самом обычном богатом доме через дорогу (хотя образ жизни ее родителей нельзя было назвать обычной жизнью богатых людей: они не играли в карты, не ходили на приемы-вечеринки и не путешествовали, а еще по каким-то своим резонам использовали вместо холодильника ледник, пока не разорился последний поставщик льда).
У Теда была машина, купленная им за сто долларов, ему стало жалко, что Розмари промокнет под дождем, и он предложил ее подвезти.
Рассказывая эту историю, Карин вспомнила, как обычно рассказывали ее родители — хохоча и перебивая друг дружку. Тед всегда упоминал цену автомобиля, его марку и год выпуска («студебекер» 1947 года), а Розмари не забывала сообщить, что дверца со стороны пассажира не открывалась и Теду пришлось выйти и дать ей возможность перелезть через водительское сиденье. А он рассказывал, что вскоре повел ее на первый в ее жизни кинофильм — на дневной сеанс, — фильм назывался «В джазе только девушки», и когда он вышел на улицу при ярком дневном свете, все лицо у него было в помаде, ибо чего бы там прочие девушки ни делали с помадой — растирали, пудрили или еще что, Розмари об этом не ведала. «Вот это был энтузиазм!» — всегда говорил он.
А потом они поженились. Прямо у священника в доме — Тед дружил с сыном настоятеля местной общины. Их родители не знали, что они задумали. И прямо после церемонии у Розмари начались месячные, и первое, что совершил Тед в качестве женатого мужчины, — это побежал покупать коробку «Котексов».
— А твоя мама знает, что ты мне рассказываешь о таких вещах, Карин?
— Она не будет против. А потом ее мать слегла — ей стало ужасно плохо, когда она узнала, что они поженились. Если бы родители Розмари знали, что она собирается замуж за безбожника, они бы заперли ее в церковной школе в Торонто.
— За безбожника? — переспросила Энн. — В самом деле? Как жаль.
Наверное, она имела в виду, как жаль, что после всех этих волнений брак не продлился долго.
Карин свернулась калачиком на сиденье и ткнулась головой в плечо Розмари.
— Тебе не мешает? — спросила она.
— Нет.
— Я, вообще-то, не собираюсь спать. Хочется видеть, как мы повернем в долину.
Розмари запела:
— Проснись, проснись, моя Кори…[42]
Она пела протяжно, глубоким голосом, подражая Питу Сигеру на пластинке, а следующее, что Карин помнила, — машина остановилась и они взобрались по узкой, разъезженной дорожке к трейлеру и сели под деревьями позади него. Над дверью горел свет. Впрочем, Дерека внутри не было. Ни Дерека, ни его вещей. Карин не хотелось перебираться внутрь. Она барахталась и сопротивлялась, очаровательно капризничая, чего никогда бы не позволила себе, окажись рядом хоть кто-то, кроме Розмари.
— Ну же, вылезай. Еще минутка — и ляжешь в кровать, — сказала Розмари, со смехом выволакивая дочь. — Ты думаешь, я смогу тебя нести?
Наконец ей удалось извлечь Карин из машины. Ведя спотыкающуюся девочку к двери трейлера, Розмари сказала ей:
— Смотри, какие звезды! Посмотри на звезды — какие они расчудесные!
Но Карин только бурчала что-то, не поднимая головы.
— Спать, спать, — сказала Розмари.
Они были уже внутри. Едва ощутимый запах Дерековой марихуаны, кофейных зерен, старого хлама. Запах закрытого трейлера, ковриков, кухни. Не раздеваясь, Карин плюхнулась на свою узкую кровать, и Розмари метнула в дочку ее прошлогоднюю пижаму.
— Давай-ка переоденься, а то завтра будешь себя отвратительно чувствовать, когда проснешься. Утром занесем твой чемодан.
Карин совершила, как ей казалось, нечеловеческое усилие, чтобы привести себя в сидячее положение, и стащила с себя одежду, а потом натянула пижаму. Розмари ходила по трейлеру, открывая окна. Последнее, что Карин услышала: «Вот эта твоя помада, зачем она вообще?» А последнее ощущение — махровая кухонная тряпочка, по-матерински нещадно нападающая на ее лицо. Карин сплюнула вкус этой тряпки, наслаждаясь своим ребячеством, и прохладной постелью под собой, и жаждой сна.
Это была субботняя ночь. Субботняя ночь и раннее утро воскресенья. В понедельник утром Карин спросила:
— А ничего, если я схожу проведаю Энн?
— Конечно, шагай, — сказала Розмари.
В воскресенье они проспали допоздна и весь день не выходили из трейлера. Розмари удручало, что день напролет не прекращался дождь.
— Ночью сияли такие звезды. Звезды были видны, когда мы шли домой, — сказала она. — Ну вот, первый день твоих каникул — и дождик идет.
Карин пришлось утешать ее, что, мол, все в порядке, она чувствует такую лень — даже и не хочется никуда выходить. Розмари приготовила ей cafe au lait[43] и разрезала дыню, недозрелую дыню (Энн бы это заметила, а Розмари — нет). В четыре часа дня они пообедали беконом, вафлями и клубникой с фальшивыми взбитыми сливками из баллончика. Солнце село около шести вечера, но они все еще были в пижамах. День пропал.
— По крайней мере, не смотрели телевизор, — сказала Розмари. — Хоть с этим нас стоит поздравить.
— Пока не смотрели, — сказала Карин, включая телевизор.
Они сидели среди кип старых журналов, которые Розмари сняла с буфета.
Эти журналы достались матери вместе с трейлером, когда она переехала сюда, и она сказала, что вот наконец-то выбросит их, надо только пересмотреть, нет ли в них чего-то стоящего. Сортировка не очень-то продвигалась — Розмари все время находила что-нибудь и прочитывала это вслух. Поначалу Карин было скучно, но она позволила увлечь себя этой стариной с гигантской рекламой и некрасивыми прическами.
Она заметила, что поверх телефона лежит свернутое в несколько слоев одеяло, и спросила:
— Ты что, не знаешь, как отключить телефон?
На что Розмари ответила:
— Вообще-то, я не хочу его отключать. Я хочу слышать, что он звонит, и не снимать трубку. Иметь возможность игнорировать его. Просто не хочется, чтобы он звонил слишком громко, вот и все.
Но он так и не зазвонил, ни разу за весь день.
Наутро в понедельник одеяло все так же лежало на телефоне, а журналы отправились в кладовку, потому что Розмари снова не решилась их выбросить. Небо хмурилось, но дождя не было. Они опять встали очень поздно, потому что до двух часов ночи смотрели фильм.
Розмари разложила на кухонном столе какие-то отпечатанные листки. Не рукопись Дерека — та большая куча исчезла.
— А книга Дерека на самом деле была интересной? — спросила Карин.
Раньше ей бы в голову не пришло спросить Розмари об этом. Рукопись эта была вроде большого спутанного мотка проволоки, все время лежавшего на столе в кухне, клубка, который Розмари с Дереком пытались распутать.
— Ну, он все время переделывал ее, — сказала Розмари. — Она интересная, но путаная очень. Сначала его интересовал только Ла Саль, а потом он увлекся Понтиаком[44] и захотел охватить слишком многое, и ему все время чего-то не хватало.
— Значит, ты рада, что избавилась от всего этого, — сказала Карин.
— Ужасно рада. Это была какая-то бесконечная путаница.
— А ты не скучаешь по Дереку?
— Эта дружба себя исчерпала, — сказала Розмари озабоченно, склонившись над листком и делая на нем пометки.
— А как же Энн?
— Эта дружба, как мне кажется, тоже выдохлась. На самом деле я в раздумьях. — Она отложила ручку. — Я подумываю переехать отсюда. Но сначала решила тебя дождаться. Мне не хотелось, чтобы ты вернулась, а тут все шиворот-навыворот. Но я жила здесь из-за книги Дерека. Ну вообще-то, из-за Дерека. Ты же все знаешь сама.
— Дерека и Энн.
— Да, Дерека и Энн. Но теперь оставаться здесь нет никакого смысла.
Вот тут-то Карин и спросила:
— А ничего, если я схожу и проведаю Энн?
И Розмари ответила:
— Конечно, шагай. Правда, не стоит нам торопиться с решениями. Это ведь только задумка у меня такая была.
Карин шла по гравийной дороге и никак не могла понять, что же изменилось вокруг. Помимо облаков, которых на ее памяти никогда не бывало в лощине. А потом поняла. На лугах не паслись стада коров, и потому травы поднялись высоко, можжевеловые кусты разрослись и заслонили ручей, который прежде был хорошо виден от дороги.
На дальнем конце этой узкой и длинной лощины стоял белый дом, в котором жили Энн и Дерек. На дне лощины лежало пастбище, в прошлом году оно было плоским и аккуратным, посреди него вился прозрачный ручей. (Энн сдавала землю в аренду владельцу стада абердин-ангусской породы.) Поросшие лесом горные кряжи круто обрывались по обе стороны лощины и сходились на дальнем конце ее, за домом. В трейлер, который снимала теперь Розмари, раньше переезжали на зиму родители Энн, когда долину полностью засыпало снегом. Они хотели жить поближе к магазину, находившемуся в то время на развилке сельской дороги. Нынче здесь была лишь бетонная платформа с двумя отверстиями, в которых раньше стояли резервуары с горючим, и старый автобус с флагами вместо занавесок на окнах, в котором жили какие-то хиппи. Иногда они сидели на платформе и торжественно и старательно махали вслед проезжавшей мимо Розмари.
Дерек рассказывал, что у этих хиппи плантация конопли в лесу. Но у них он ничего не покупал, не доверял им.
Розмари отказывалась курить марихуану вместе с Дереком.
— С тобой у меня и так сплошные завихрения, — сказала она. — Не думаю, что от этого станет лучше.
— Как хочешь, — сказал Дерек. — Но это могло бы и помочь.
Энн тоже не курила анашу. Говорила, что становится дурочкой после этого. Она вообще не курила, даже затягиваться не умела.
Они не знали, что Дерек однажды дал Карин попробовать косячок. Она тоже не умела затягиваться, и ему пришлось ее научить. Она перестаралась — затянулась слишком сильно, и ее едва не стошнило. Они были в сарае, где Дерек хранил коллекцию камней, которые собирал в горах. Пытаясь удержать ее в сознании, он уговаривал ее посмотреть на камни.
— Просто смотри на них, — говорил он. — Рассмотри их. Видишь, какие краски. Не надо слишком вглядываться. Просто смотри и жди.
Но успокоили ее в конце концов не камни, а надписи на картонных коробках. Их была здесь целая гора, этих картонных коробок, в которые Энн упаковывала вещи, когда они с Дереком переехали сюда из Торонто несколько лет назад. На боку одной из них красовался силуэт игрушечного линкора и слово «Неустрашимый». Слово это было выведено красными буквами. Буквы эти мерцали и переливались, как будто были написаны неоновыми лампочками и посылали Карин приказ: добыть нечто большее, чем содержало в себе значение этого слова. Ей пришлось разложить слово на части и найти слова внутри его.
— Над чем это ты смеешься? — спросил Дерек, и она рассказала ему, чем занимается.
Слова каким-то чудом кувыркались и выпрыгивали сами собой.
Шустрый, мушиный, мурашиный, шина, шар, мыс, срам, марш, ус, ум, мыши, нерушимый. Нерушимый ус — подходит вполне, и буквы почти все.
— Восхитительно, — сказал Дерек. — Восхитительно, Карин. Нерушимый ус мышиный!
Ему не пришлось просить Карин не рассказывать об этом матери или Энн. Когда Розмари целовала дочку перед сном, она понюхала ее волосы и засмеялась:
— Боже, ну все провоняло, этот мне Дерек, отпетый старый анашист.
Это было в один из тех дней, когда Розмари была счастлива. Они ходили к Энн и Дереку ужинать на закрытой веранде. Энн сказала:
— Карин, пойдем со мной, поможешь мне достать мусс из формочки.
Карин пошла за ней, но вернулась, будто за мятным соусом.
Розмари и Дерек наклонились над столом и дразнили друг друга, вытягивая губы и громко чмокая.
Ее они не заметили.
Может, это было в тот самый вечер, перед отъездом, когда Розмари посмеялась над двумя стульями на заднем крыльце. Два старых, темно-красных складных стула из металлических трубок с подушечками на сиденьях. Они стояли «лицами» на запад, глядя на последние отблески заката.
— Эти старые стулья, — сказала Энн. — Да, зрелище то еще. Они остались от моих родителей.
— И ведь неудобные совершенно, — заметил Дерек.
— Нет-нет, — сказала Розмари, — они прекрасны, они — это вы. Я их люблю. Они будто говорят: Дерек и Энн. Дерек и Энн. Дерек и Энн смотрят на закат после дневных трудов.
— Если им хоть что-то видно сквозь эти заросли лозы, — сказал Дерек.
В следующий раз, когда Карин пошла в огород за овощами для Энн, она заметила, что стульев нет. Но не стала спрашивать Энн, что с ними стало.
Кухня Энн находилась в полуподвале, частично уходя под землю, — всего на четыре ступеньки спуститься. Карин сошла по лестнице и прижалась лицом к застекленной двери. В кухне стоял полумрак — окна находились высоко под потолком и перед ними густо росли кусты, Карин не приходилось бывать здесь при выключенном свете.
Но сейчас свет не горел, и сначала Карин подумала, что кухня пуста. А потом она разглядела кого-то за столом, это была Энн, но форма ее прически изменилась. Энн сидела спиной к двери.
Она подстриглась. Как у всякой седовласой матроны, ее короткие волосы курчавились на затылке. Она что-то такое делала в полумраке, двигая локтями, но Карин не могла разглядеть, что именно.
Она попробовала старый трюк — стала сверлить глазами затылок Энн, чтобы та обернулась, но не сработало. Тогда Карин легонько пробежала пальцами по стеклу. И наконец завыла: «У-ууууу!»
Энн встала и обернулась так неохотно, что у Карин промелькнуло дурацкое подозрение: видимо, Энн знала, кто стоит за дверью, видела, наверное, как Карин подходила к дому, и устроила ей засаду.
— Это я! Это я — твое потерянное дитя, — сказала Карин.
— Вот так всегда, — сказала Энн, откидывая дверной крючок. Она не обняла Карин при встрече — впрочем, они с Дереком никогда этого не делали.
Энн стала еще круглее — или это короткая стрижка создавала такое впечатление, — а на лице алели какие-то пятна, будто ее мошкара покусала. Глаза казались больными.
— У тебя болят глаза? — спросила Карин. — Поэтому ты работаешь в темноте?
— О, а я и не заметила, — сказала Энн, — не заметила, что свет не горит. Я тут чистила кое-какое серебро, и мне казалось, что я все вижу. — Тут Энн, похоже, сделала над собой усилие, чтобы оживиться, и заговорила с Карин, как будто та была маленькой девочкой: — Чистка серебра — такое нудное занятие, что я, наверное, погрузилась в транс. Какая ты умница, что пришла мне помочь, деточка.
И Карин, в качестве временной тактики, тут же стала той самой «деточкой». Она развалилась на стуле у стола и бесцеремонно спросила:
— Так где наш старикашка Дерек?
Ей казалось, такое странное поведение Энн могло свидетельствовать о том, что Дерек отправился в одну из своих экспедиций по горным хребтам и не вернулся, бросив и Энн, и Розмари. Или что он болен. Или страдает депрессией. Энн как-то сказала: «У Дерека сейчас депрессии случаются вполовину реже, чем это было до нашего отъезда из города». Интересно, думала Карин, подходит ли тут слово «депрессия». Дерек казался ей занудой и придирой, порой у него был вид человека, которому все осточертело. И это называется депрессией?
— Скорее всего, он где-то здесь, — сказала Энн.
— Они с Розмари разбежались, ты знаешь об этом?
— Ну конечно, Карин, я знаю.
— И тебе не жаль?
— Я узнала новый способ чистки серебра, — сказала Энн. — Сейчас я тебе покажу. Берешь вилку или ложку, ну или что-нибудь еще, и опускаешь в ванночку с вот этим раствором и держишь буквально минуту, а потом вынимаешь и ополаскиваешь в чистой воде и вытираешь насухо. Видишь? Сияет, как будто я ее час терла и полировала. Мне так кажется. Отлично блестит, как по мне. Я сейчас принесу нам свежей воды для полоскания.
Карин макнула вилку в ванночку и сказала:
— Вчера мы с Розмари весь день делали что хотели. Даже не одевались. Напекли вафель и читали всякую всячину в старых журналах. В старых номерах «Женского журнала».
— Это мамины журналы, — сказала Энн чуть суховато.
— Она прекрасна, — процитировала Карин. — Она обручена. Она пользуется «Нивеей».
Энн улыбнулась — какое облегчение — и сказала:
— Я помню.
— Можно ли сохранить этот брак? — спросила Карин зловещим тоном. А потом запищала подобострастно: — Беда в том, что мой муж на самом деле считает, что я не умею с ним обращаться. Начать с того, что он взял и съел всех наших деток. Вовсе не потому, что я плохо его кормлю, ведь я же хорошо готовлю. Я весь день гроблюсь у горячей плиты и готовлю ему вкуснейшие кушанья, а он приходит домой и первым делом отрывает ножку у ребенка…
— Так, стоп, — сказала Энн, уже не улыбаясь. — Хватит, Карин.
— Но я действительно хочу знать, — сказала Карин чуть мягче, но не сдаваясь, — можно ли сохранить этот брак?
Последние несколько лет, воображая себе место, где она больше всего хотела бы оказаться, Карин думала об этой кухне. Большущая комната, в углах которой даже при включенном свете прятался сумрак. Тени зеленой листвы, метущей окна. И все эти вещи вокруг, вещи, строго говоря, вовсе не кухонные. Ножная швейная машинка и большое, заваленное барахлом кресло с малиновой обивкой, вытертой до причудливой серой зелени на подлокотниках. Картина — большое полотно с изображением водопада, написанное матерью Энн давным-давно, когда она еще в невестах ходила, в свободное время, которого потом у нее никогда не было.
(«К счастью для всех нас», — сказал Дерек.)
Со двора донесся звук мотора, и Карин подумала: а вдруг это Розмари? Вдруг Розмари как раз из тех, кто в одиночестве впадает в депрессию, и она поехала вслед за Карин, чтобы не быть одной?
Услыхав стук ботинок на кухонных ступенях, она поняла, что это Дерек.
— Сюрприз, сюрприз! — крикнула она. — Посмотри, кто пришел!
Дерек вошел в кухню и сказал:
— Привет, Карин. — В голосе его не было и тени гостеприимства.
Он поставил на стол два пакета. Энн вежливо поинтересовалась:
— Ну что, ты нашел нужную пленку?
— Да, — сказал Дерек. — Что это за помои?
— Для чистки серебра, — ответила Энн и сказала Карин, словно извиняясь: — Он в город ездил, за пленкой. Чтобы фотографировать свои камни.
Карин ссутулилась над ножом, тщательно вытирая его насухо. Только бы не разреветься, вот ужас-то будет (прошлым летом такое было бы немыслимо). Энн спросила о чем-то — о каких-то купленных Дереком продуктах, и Карин решительно подняла глаза и уставилась на плиту. Таких плит больше не выпускают, как сказала Энн. Комбинация электрической и дровяной печки с парусником, выбитым на дверце духовки, и надписью «корабельная печь» над ним.
Это она тоже помнила.
— Мне кажется, Карин тебе пригодится, — сказала Энн. — Она помогла бы тебе раскладывать камни.
Повисла небольшая пауза, во время которой они, наверное, посмотрели друг на друга, а потом Дерек сказал:
— Ладно, Карин. Пойдем, поможешь мне снимать.
Множество камней валялись на полу в сарае, еще не отсортированные и без ярлыков. Другие лежали на полках, расставленные по отдельности и отмеченные печатными табличками.
Какое-то время Дерек молча сновал туда-сюда, потом игрался с фотоаппаратом, пытаясь найти самый удобный ракурс и самый лучший свет. А после начал снимать, давая краткие указания Карин — наклонить камни, подвинуть или поднять с пола камешек-другой, чтобы сфотографировать их, пусть даже без ярлыков. Карин не могла отделаться от ощущения, что ему не нужна ее помощь и что на самом деле он не хочет, чтобы Карин ему помогала. Несколько раз он набирал воздуха, будто собирался сказать ей об этом или сказать что-то еще, что-то важное и неприятное, но все, на что он сподобился, было: «Передвинь его чуть правее» или «Дай-ка я гляну с другой стороны».
Прошлым летом Карин сначала донимала и канючила, а потом на полном серьезе упрашивала, чтобы Дерек взял ее с собой в поход, и наконец он сказал, что она может пойти. Он усложнил поход настолько, насколько мог, устроив Карин настоящее испытание. Они облились спреем «Офф», но это совершенно не помешало комарам забираться им в волосы и проникать за шиворот и в рукава. Им пришлось хлюпать по болотам, где каждый след сапога немедленно заполнялся водой, взбираться по крутояру, поросшему ежевикой и диким шиповником, продираться сквозь заросли лозы. А еще карабкаться по скользким, шатким нагромождениям голых камней. На шее у каждого висел колокольчик, чтобы они могли найти друг друга по звуку и чтобы любой медведь мог услышать их и держаться на расстоянии.
Они набрели на груду свежего и блестящего медвежьего помета, в котором виднелась полупереваренная сердцевина яблока.
Дерек рассказывал ей, что тут повсюду рудники и шахты. Здесь имеются почти все известные минералы, но их недостаточно для того, чтобы добыча принесла прибыль. Он обшарил все эти заброшенные, почти забытые рудники и вырубил себе образцы породы или просто выкопал из земли.
— Когда я впервые привезла его домой, он тут же исчез в горах и отыскал рудник, — сказала Энн. — И тогда я поняла, что он, скорее всего, женится на мне.
Карин так никогда и не призналась в этом, но рудники ее разочаровали. Она-то надеялась на какую-нибудь пещеру Али-Бабы, на груды мерцающих во мгле блестящих самоцветов. А вместо этого Дерек показал ей узкий лаз, чуть ли не природную расщелину в скале, которую теперь загораживал тополь, невесть как укоренившийся в этом немыслимом месте, да так и выросший кривулей. Другой вход в шахту, по словам Дерека, во всех смыслах наиболее приемлемый, был просто дырой в горе, с гнилыми балками, валявшимися на земле или так и подпиравшими крышу, и кирпичной кладкой, сдерживающей оползающую землю и осыпающуюся породу. Дерек показал Карин колею, где некогда были проложены рельсы для вагонеток. Вокруг валялись кусочки слюды, и Карин подобрала их. Они, по крайней мере, были красивые и напоминали настоящие сокровища. Они были похожи на осколки гладкого темного хрусталя, который превращался в серебро, стоило поднести его к свету.
Дерек сказал, что она может взять только один кусочек и только для себя, не для того, чтобы кому-то показывать.
— Держи язык за зубами, — сказал он. — Я никому не хочу рассказывать про это место.
— Хочешь, чтобы я поклялась страшной клятвой?
— Просто помни, и все, — сказал он и спросил, хочет ли она увидеть замок.
Еще одно разочарование и шутка. Он привел ее к бетонным развалинам, которые раньше, по его словам, были складом для хранения руды. Он показал ей просеку между толстых деревьев, поросшую молодняком, — там, где раньше проходили рельсы. А шутка заключалась в том, что какие-то хиппи пару лет назад заблудились здесь и потом всем растрепали о замке. Дерек терпеть не мог людей, совершавших подобные ошибки, не способных увидеть то, что у них прямо перед носом, и даже не пытающихся отыскать верную информацию.
Карин ходила по самой верхушке рассыпающейся стены, и он ни словом не обмолвился, что надо смотреть под ноги, быть осторожной, чтобы не сверзиться и не сломать себе шею.
На обратном пути их застала гроза и ливень, и им пришлось переждать его в густых кедровых дебрях.
Карин не сиделось на месте — и она все не могла понять, то ли от страха, то ли от восторга. Все-таки от восторга, решила она наконец, и вскочила, и стала бегать по кругу, размахивая руками и взвизгивая при вспышках молний, которые прорывались даже в их убежище. Дерек просил ее успокоиться, сесть и просто сосчитать до пятнадцати после каждой зарницы и послушать, громыхнет ли гром.
Но она решила, что он ею доволен. Он видел, что она не боится.
Это правда, что бывают на свете люди, которым ты мучительно хочешь доставить удовольствие. Дерек был как раз из таких. Если тебе не повезет, то люди эти помещают тебя в дальний ящик своего рассудка, обрекая на пожизненное презрение. Боязнь молний, страх перед медвежьим пометом или желание верить в то, что руины — это развалины замка, и даже неспособность отличить разновидности слюды, пирита, кварца, серебра, полевого шпата — любая оплошность могла заставить Дерека махнуть на нее рукой. Как он махнул рукой однажды на Энн и на Розмари — на каждую по-своему. Но с той поры он стал серьезнее относиться к Карин, удостаивая все, что ее касалось, чести своего серьезного внимания. Когда они были вдвоем и рядом не было ни Энн, ни Розмари.
* * *
— Заметила некоторые элементы рока и мрака сегодня? — спросил Дерек.
Карин погладила обеими руками кусок кварца, похожего на льдинку со свечой внутри.
— Это из-за Розмари? — спросила она.
— Нет, — сказал Дерек. — Все серьезно. Энн получила предложение продать участок. Некая акула из «Стоко» приплыла и сказала ей, что землю хотят купить какие-то японцы. Им нужна слюда. Чтобы делать керамические моторные блоки для автомобилей. И она обдумывает предложение. А захочет продать — продаст. Участок ее.
— А с чего ей хотеть? Продавать его?
— Денежки, — сказал Дерек. — Великая сила.
— А разве Розмари мало ей платит за аренду?
— И как надолго это? Пастбище в этом году без арендаторов, земли слишком сырые. Дом требует средств, а то того гляди развалится. А я четыре года пишу книгу, и конца ей не видать. Мы на мели. Знаешь, что ей сказал чувак по недвижимости? Он сказал, что это второй Садбери[45]. И он не шутил.
Карин и не думала, что он шутит. Она понятия не имела о Садбери.
— Если бы я была богатой, я бы его купила, — сказала она. — Чтобы у тебя все было как раньше.
— Когда-нибудь ты станешь богатой, — сказал Дерек просто. — Правда, не очень скоро. — Он убрал фотокамеру в футляр. — Держись своей матери, — сказал он. — У нее денег как грязи.
Карин почувствовала, как у нее кровь прилила к лицу, эти слова ее потрясли. Она никогда ничего подобного не слыхала. «Как грязи». Сказано было с ненавистью.
— Ладно, — добавил он, — в городе увидим, когда они это все запустят.
Он не спросил ее, хочет ли она продолжать, да она все равно едва ли сподобилась бы ему ответить. Глаза ее катастрофически переполнились. Сказанное им ударило и ослепило ее.
Карин нужно было в ванную, поэтому она обошла дом. Из кухни вкусно пахло каким-то затейливым мясным блюдом.
Единственная ванная была наверху. Карин слышала, как Энн ходит у себя в комнате.
Карин не позвала Энн, не заглянула к ней, но на обратном пути, когда она спускалась по лестнице, Энн сама ее окликнула.
Она наложила крем, и красные пятна на лице были не так заметны.
Стопки одежды лежали на кровати и на полу.
— Вот, пытаюсь навести порядок, — сказала Энн. — Это вещи, о которых я даже забыла, что они у меня есть. Надо избавиться от некоторых раз и навсегда.
Это значило, что она всерьез подумывает о переезде. Избавляется от старья, чтобы не тащить на новое место. Когда Розмари собиралась уехать, она упаковала чемодан, пока Карин была в школе. Карин не видела, что именно она туда положила. Она просто заметила, как эти вещи появились позже — в квартире матери в Торонто, а теперь здесь — в трейлере. Подушка-думка, пара подсвечников, большое блюдо — такое знакомое, но вечно неуместное. Карин считала, что уж лучше бы мать вообще ничего не перевозила.
— Видишь вон тот чемодан? — спросила Энн. — На шкафу? Как думаешь, ты смогла бы встать на стул и просто его перевалить через край, чтобы я поймала? Я пробовала, но у меня голова закружилась. Просто стяни его, а я подхвачу.
Карин влезла на стул и потянула на себя чемодан, тот покачался на краю шкафа и упал в руки Энн. Она бездыханно поблагодарила Карин и шмякнула чемодан на кровать.
— Так, где мой ключ, вот он, мой ключик, — сказала она.
Замок был тугой, и застежки поддались с трудом. Карин помогала. Когда крышка откинулась, от кучи мятой ткани в нос ударил нафталиновый дух. Этот запах был хорошо знаком Карин по комиссионкам, где любила делать покупки Розмари.
— Это старые вещи твоей мамы? — спросила она.
— Карин! Это мое свадебное платье, — сказала Энн со смешком. — Просто оно завернуто в старую простыню.
Она сняла сероватую ткань и вытащила на свет ворох кружев и тафты. Карин расчистила место на кровати, и Энн начала медленно выворачивать платье налицо. Тафта шелестела, как листва.
— Тут и вуалетка, — сказала Энн, вытаскивая тонкую кисею, зацепившуюся за тафту. — Ох, надо было аккуратнее его хранить.
На юбке виднелась тонкая, длинная прорезь, будто по ней полоснули лезвием бритвы.
— Надо было его повесить, а не складывать, — сказала Энн, — завернуть в пакет из химчистки. Тафта такая хрупкая. Эта прореха оттого, что ткань долго лежала в сложенном виде. А ведь говорили мне. Никогда, никогда не складывай тафту.
Она принялась отделять слои ткани, приподнимая их один за другим с тихими вздохами воодушевления, пока наконец не вытряхнула из всего этого вороха нечто, по форме напоминавшее платье. Фата упала на пол. Карин подхватила ее.
— Сетка, — сказала она, но только для того, чтобы заглушить голос Дерека, звучавший в голове.
— Это тюль, — поправила ее Энн. — Тюль. Кружева и тюль. Какая жалость, что я его неправильно хранила. Странно, что оно еще уцелело, странно, что вообще не рассыпалось!
— Тюль, — повторила Карин. — Никогда не слышала про тюль. И про тафту тоже, кажется, впервые слышу.
— Когда-то из нее вовсю шили. Давным-давно…
— А у тебя нет фотографии, где ты в нем? Есть у вас фото с вашей свадьбы?
— У мамы с папой был альбом, но ума не приложу, куда подевался. Дерек не любитель свадебных фотографий. И вообще не любитель свадеб. И как я шла по улице в этом платье? Подумать только, ведь я была в нем в церкви в Стоко! С тремя подружками — Дороти Смит, Мюриэл Лифтон и Дон Чаллерей. Дороти играла на органе, Дон была подружкой невесты, а Мюриэл пела.
— А какого цвета платье было у подружки невесты?
— Светло-зеленого. Кружевное платье с шифоновыми вставками. Нет, наоборот, шифон с кружевной отделкой.
Энн произнесла это чуточку скептическим тоном, пристально изучая швы платья.
— А что пела девушка, которая пела?
— Мюриэл? «Хвалу любви». Хвала любви, что всей любви превыше, — но это церковный гимн. На самом деле в нем поется о божественной любви. Не знаю, кто его выбрал.
Карин потрогала тафту. Тафта была жесткой и прохладной.
— Примерь его, — попросила она.
— Я? — сказала Энн. — Да оно же в талии двадцать четыре дюйма всего. Это Дерек, что ли, поехал в город? Пленку свою повез?
Она не стала дожидаться, когда Карин ответит «да»: не могла же Энн не услышать звук мотора.
— Он считает, что должен сделать фотокаталог, — сказала Энн. — Не знаю, к чему такая спешка. Потом он собирается все разложить по коробкам и отметить ярлыками. Похоже, он считает, что никогда их больше не увидит. Он тебе не намекал, что это место уже продано?
— Еще нет, — сказала Карин.
— Нет. Еще нет. И я никогда бы этого не сделала, если бы мне не пришлось. И никогда не сделаю, если мне не придется. Но вообще-то, я думаю, что придется. Иногда приходится делать то, что необходимо. И не стоит устраивать из этого трагедию или воспринимать все как некое сведение личных счетов.
— А можно, я примерю?
Энн осмотрела ее и сказала:
— Давай, только надо очень осторожно.
Карин выскочила из туфель, стянула шорты и рубашку. Энн приподняла платье у нее над головой и опустила, на мгновение заключив девочку в белое облако. В кружевные рукава пришлось влезать очень бережно, пока их кончики не опустились на тыльные стороны ладоней Карин. Под этими рукавами руки Карин казались коричневыми, хотя она еще и не загорела даже. Пришлось застегнуть крючочки и петельки вдоль всего лифа, на воротничке сзади тоже были крючки и петли. Вокруг шеи Карин Энн туго завязала кружевную ленту. Под платьем на Карин были только трусики, и кружева кололи кожу. Эти кружева подстерегали ее, кусая тут и там, такого с Карин еще никогда не бывало. Она содрогнулась, когда кружево коснулось сосков, но, к счастью, лиф, рассчитанный на грудь Энн, был для Карин велик: ее грудки все еще были почти плоскими, правда, соски порой набухали, становились такими чувствительными, будто вот-вот лопнут.
Тафту пришлось расправить, чтобы не путалась между ног, и уложить красивым колоколом. А потом поверх нижней юбки легли оборки из кружев.
— А ты выше, чем я думала, — сказала Энн. — Можешь пройтись, только чуть приподними подол.
Она взяла с трюмо щетку и принялась расчесывать волосы Карин, укладывая их локонами на кружевных плечах.
— Каштановые волосы, — сказала Энн. — Помнится, в книжках часто описывали девушек: «у нее были каштановые волосы». Или еще говорили «цвета темного ореха» А знаешь, раньше действительно красили волосы орехом. Мама рассказывала, как девушки вываривали грецкие орехи и делали краску, а потом мазали этой краской волосы. Правда, если на руках оставались пятна, то они выдавали тебя с головой. Не так-то легко их оттереть. Постой-ка. — Она встряхнула фату, уложив ее поверх гладких волос Карин, и встала напротив нее, чтобы приколоть вуалетку шпильками. — Шляпка от нее куда-то подевалась, — сказала Энн, — наверное, я ее использовала для чего-то еще или дала кому-то надеть на свадьбу. Не помню. Все равно теперь этот убор смотрелся бы глупо. Он назывался «Мария Стюарт».
Она огляделась и вынула из вазы на трюмо шелковую ветку с яблоневым цветом. Ее осенила новая идея — использовать яблоневый цвет вместо свадебного убора, согнув в колечко проволочный стебель, так что шпильки пришлось вынуть. Стебель был тугой, но в конце концов Энн удалось-таки его согнуть. Довольная результатом, она приколола убор к волосам Карин, а потом отошла в сторону и мягко подтолкнула Карин к зеркалу.
— О! — сказала Карин. — Можно, я надену его, когда буду выходить замуж?
Она покривила душой. На самом деле Карин еще ни разу и не думала о замужестве. Она сказала это, чтобы доставить удовольствие Энн, после всех ее хлопот с этим платьем, и чтобы скрыть смущение от того, что она увидела в зеркале.
— К тому времени мода будет совсем другая, — сказала Энн. — Оно и сейчас-то уже не в моде.
Карин отвела глаза от зеркала и снова взглянула туда, уже подготовившись. Она увидела святую.
Сияющие волосы, бледные цветочки, легкие тени от фаты на щеках, иллюстрация из книги сказок, красота, настолько искренняя и безоговорочная, что в ней чувствовалась какая-то обреченность и даже нелепость. Карин скорчила рожу, чтобы уязвить этот лик, но ничего у нее не получилось. Казалось, что эта невеста, девушка, рожденная в глубине зеркала, теперь заправляет всем.
— Интересно, что бы сказал Дерек, если бы тебя увидел? — сказала Энн. — И узнает ли он вообще мое свадебное платье?
Веки ее трепетали взволнованно и застенчиво, как всегда. Она подошла вплотную, чтобы вынуть шпильки и снять цветущую веточку с головы Карин, и Карин унюхала запах мыла от ее подмышек и запах чеснока от ее пальцев.
— Он сказал бы: «Во что это ты вырядилась?» — сказала Карин, подражая высокомерному голосу Дерека, когда Энн снимала фату.
Они услышали звук автомобиля, съезжающего в долину.
— Легок на помине, — сказа Энн.
Непослушными, дрожащими пальцами она бросилась торопливо расстегивать крючки. Когда она попыталась стянуть платье с Карин, что-то зацепилось.
— Черт! — сказала Энн.
— Ничего, давай, — послышался из-под вороха кружев сдавленный голос Карин. — Ты тяни, а я помогу. Вот, нашла.
Выбравшись наружу, она увидела на лице Энн нечто похожее на горестную гримасу.
— Я пошутила про Дерека, — сказала Карин.
Но, может, на лице Энн отразилось вовсе не горе, а просто тревога, озабоченность из-за платья.
— Это ты про что? — спросила Энн. — А! Ч-ш-ш. Забудь об этом.
Карин застыла на лестнице, прислушиваясь к голосам на кухне. Энн сбежала по лестнице впереди нее.
— А это будет что-то вкусное? — спросил Дерек. — То, что ты там готовишь?
— Надеюсь, да, — сказала Энн. — Это оссобуко[46].
Голос Дерека изменился. Вся злость куда-то улетучилась. Он жаждал дружить. В голосе Энн послышалось облегчение, она как будто запыхалась, пытаясь подстроиться под внезапную перемену Дерекового настроения.
— А его хватит на всю компанию? — спросил он.
— Какую?
— Мы и Розмари. Надеюсь, что хватит, потому что я ее позвал.
— Розмари и Карин, — спокойно сказала Энн. — Еды-то хватит на всех, но вина у нас нет совсем.
— Уже есть, — сказал Дерек. — Я купил.
Послышалось бормотание, потом Дерек что-то зашептал Энн. Наверное, он подошел к ней близко-близко и шептал в самое ухо Энн сквозь прядки волос. Казалось, что шепот этот упрашивает, оправдывается, успокаивает Энн, сулит ей награду — все сразу. Карин испугалась, что слова всплывут на поверхность — слова, которые она поймет и никогда не забудет, — поэтому она загрохотала вниз по лестнице и влетела в кухню, вопя:
— Какая это Розмари? Мне кажется, я слышала «Розмари»?
— Не надо так подкрадываться к нам, enfant[47], — сказал Дерек. — Шумнула бы чуть-чуть, чтобы мы знали, что ты подходишь.
— Я слышала «Розмари»?
— Да, так зовут твою маму, — сказал он. — Клянусь тебе, это ее имя.
И куда только подевалось гнетущее недовольство? Он снова был весел, бодр и полон решимости, как прошлым летом.
Энн осмотрела бутылки и сказала:
— Чудесное вино, Дерек, оно замечательно подойдет к нашему блюду. Так, посмотрим. Карин, помоги-ка мне. Мы раздвинем стол на террасе. Возьмем голубой сервиз и наше столовое серебро — как мы вовремя его почистили. Поставим два набора свечей: длинные желтые по центру, Карин, а маленькие белые — вокруг них.
— Как маргаритку, — сказала Карин.
— Точно, — сказала Энн. — Праздничный ужин. В честь твоего приезда на лето.
— А мне что сделать? — спросил Дерек.
— Сейчас, дай подумать. О — пойди в огород и нарви зелени для салата. Немножко латука, щавель и… ты не знаешь, есть в нашем ручье кресс?
— Есть, я видел.
— Тогда его тоже неси.
Он мимоходом приобнял ее за плечи и сказал:
— Все будет хорошо.
Когда почти все было готово, Дерек включил проигрыватель. Это была одна из тех пластинок, которые он брал с собой в трейлер к Розмари, а теперь принес обратно. Она называлась «Старинные арии и танцы для лютни», на обложке водили хоровод девушки давних времен — восхитительно изящные, в платьях с завышенной талией и маленькими локонами, ниспадающими возле ушей. Музыка часто вдохновляла Дерека на величественные и смешные танцевальные па, а Карин и Розмари подхватывали. Карин годилась в партнерши для Дерека, а Розмари — нет. Розмари слишком старалась, пытаясь имитировать там, где можно было только импровизировать.
Вот и теперь Карин пустилась в пляс вокруг кухонного стола, на котором Энн разрывала салатные листки, а Дерек откупоривал вино.
— Старинные арии и танцы для лютни, — пропела она восторженно. — Моя мама придет на ужин, мама придет на ужин.
— Мама Карин непременно придет на ужин, — сказал Дерек. Он поднял руку: — Тише, тише. Не ее ли это машину я слышу?
— Боже, надо хотя бы умыться, — спохватилась Энн.
Она бросила зелень и побежала в холл и вверх по лестнице.
Дерек вышел, чтобы остановить пластинку. Он передвинул иголку на начало. А потом вышел, чтобы встретить Розмари, — чего он обычно никогда не делал. Карин хотела было сама выбежать из дому, но когда вышел Дерек, то передумала. Вместо этого она пошла наверх следом за Энн. Правда, не до конца. На лестничной площадке было маленькое оконце, возле которого никогда никто не замедлял шаг и не выглядывал в него. На нем была тюлевая занавеска, так что снаружи кто-то вряд ли мог тебя заметить.
Карин достаточно быстро взбежала по лестнице, чтобы увидеть, как Дерек пересекает лужайку и проходит сквозь прореху в живой изгороди.
Широкими, стремительными, бесшумными шагами. Он подоспеет вовремя, чтобы нарочито почтительно склониться, широким жестом открыть дверь машины и подать Розмари руку. Карин никогда не видела, чтобы он так делал, но она знала, что сегодня это входит в его планы.
Энн все еще была в ванной — Карин слышала журчание душа. У нее было несколько минут, чтобы беспрепятственно понаблюдать.
И вот она услышала, как хлопнула дверца автомобиля. Но голосов слышно не было. Музыка их заглушала, наполняя собой весь дом. И они все не показывались в прорехе изгороди. Еще нет. И еще нет. И еще нет.
Однажды, уже уйдя от Теда, Розмари вернулась. Она не пришла в дом — туда ей путь был заказан. Тед привел Карин в ресторан, а Розмари уже ждала ее там. Карин и Розмари вдвоем съели ланч. Карин пила коктейль «Ширли Темпл» и ела чипсы. Розмари рассказала ей, что собирается в Торонто, где она получила работу у одного издателя. Карин понятия не имела, кто это вообще такой — издатель.
А вот и они. Плечом к плечу протиснулись в прореху, в которую должны были бы пройти гуськом. На Розмари были ее восточные шаровары из тонкого, мягкого хлопка цвета спелой малины. Сквозь ткань просвечивали неясные контуры ее ног. Топ на ней был из более плотного хлопка с вышивкой и крохотными зеркальными пайетками. Кажется, ее беспокоила копна волос на голове — руки взлетели в очаровательном нервном порыве, высвобождая еще несколько прядок и локонов, которые рассыпались вокруг лица. (Чем-то они напоминали кудряшки, что качались над ушами у тех девушек с обложки пластинки «Старинные арии и танцы».) Ногти у Розмари были накрашены под цвет шаровар.
Дерек не прикасался к Розмари, но у него был такой вид, как будто он вот-вот ее коснется.
— Да, но ты будешь там жить? — спросила Карин в ресторане.
Рослый Дерек низко наклонился к прекрасному буйству волос Розмари, словно это было гнездышко, в которое он собрался нырнуть. Он так настойчив. Не важно, прикасается он к ней или нет, говорит или молчит. Он притягивает ее к себе, подойдя к этому делу со всем усердием. Но и сам он был во власти притяжения, искушающего, сулящего наслаждение.
Карин моментально узнала это замечательное кокетливое ощущение, когда ты говоришь: «Нет, я не хочу спать, я не сплю», — и Розмари не знает, что делать сию минуту, думая, что и не должна что-то делать. Посмотрите, как она кружит в своей розовой клетке. Клетке из сахарной ваты. Посмотрите на Розмари — щебечущую, манящую.
«Денег как грязи» — так он сказал.
Энн выходит из ванной — седые волосы потемнели от влаги, облепили голову, а лицо блестело после душа.
— Карин, что ты здесь делаешь?
— Слежу.
— Следишь? За кем?
— За парочкой — бараном да ярочкой.
— Ох, Карин, — качает головой Энн, спускаясь по лестнице.
Вскоре доносятся веселые возгласы от парадной двери (особый случай!) и из прихожей: «Что это за восхитительный аромат?» (Розмари), «Да просто Энн уваривает пару старых костей» (Дерек).
— Какая красота! — говорит Розмари, когда дружеская суматоха врывается в гостиную. Это она о букете из зеленых листьев, келерии и первых оранжевых лилий, который Энн воткнула в кремовый кувшин у входа в гостиную.
— Да это просто Энн натащила каких-то старых сорняков, — говорит Дерек, и Энн отвечает:
— Ну, мне показалось, они симпатичные.
И Розмари повторяет снова:
— Красота.
После ланча Розмари сказала, что хочет сделать Карин подарок. Не ко дню рождения, не к Рождеству — просто какой-нибудь замечательный подарок.
Они отправились в универмаг. Всякий раз, когда Карин замедляла шаг у какой-нибудь вещи, Розмари тут же изображала крайнюю заинтересованность и готовность купить это немедленно. Она бы не задумываясь купила и бархатное пальто с меховыми воротником и манжетами, и раскрашенную деревянную лошадку-качалку «под старину», и розового плюшевого слоника чуть ли не в четверть натуральной слоновьей величины. Чтобы положить конец этим горе-блужданиям, Карин схватила первую попавшуюся безделушку — дешевенькую фигурку балерины, позирующей перед зеркалом. Балерина не вращалась, и музыки не было — ничто не могло оправдать этот выбор. Вы подумаете, что Розмари должна была это понять. Должна была догадаться, что подобный выбор говорит: Карин это не утешит, не восполнит ее потерю, и о прощении не может быть и речи. Но Розмари ничего не поняла. Или решила не понимать. Таков был ее выбор. Она сказала:
— А что, мне она нравится. Такая изящная. Будет очень миленько смотреться на твоем туалетном столике. Да-да.
Карин засунула балерину подальше в ящик. Когда Грейс обнаружила ее, Карин объяснила, что школьная подружка подарила ей эту фигурку, а обижать ее и говорить, что балерина не в ее вкусе, Карин не хотелось.
Грейс тогда еще не приобрела достаточный опыт общения с детьми, чтобы усомниться в этой истории.
— Могу это понять, — сказала она. — Отнесу ее на госпитальную благотворительную ярмарку — вряд ли твоя подружка там окажется. Да и в любом случае таких балерин сотни наштамповали, наверное.
Внизу звякнули кубики льда — Дерек раскидывал их по бокалам.
— Карин где-то здесь притаилась, — сказала Энн, — наверняка вот-вот выскочит.
Карин мягкими-мягкими шажками прокралась по ступенькам, оставшимся до спальни Энн. На кровати валялся ворох одежды, а поверх него, уже снова завернутое в полотно, лежало свадебное платье. Карин сняла шорты, рубашку и туфли и принялась отчаянно втискиваться в платье, продираясь внутрь него сквозь трещавшую нижнюю юбку и кружевной корсаж. Она осторожно натянула рукавчики, стараясь не зацепить их ногтями. Вообще-то, в основном ногти у нее были слишком короткими, чтобы причинить платью какой-то вред, но все-таки осторожность не помешает.
Карин натянула мыски рукавов поверх ладоней. Потом застегнула все крючки на лифе. Труднее всего было с крючками сзади на шее. Она низко наклонила голову и чуть не вывихнула плечи, чтобы добраться до этих крючков. И все равно ее подстерегла беда — в одной пройме кружево чуть-чуть треснуло. От ужаса она даже замерла на секунду. Но она слишком далеко зашла, чтобы теперь все бросить, и уже без проволочек застегнула оставшиеся крючки. Можно потом снять и зашить незаметно. Или соврать, что так и было. Энн все равно ничего не заметит, скорее всего.
Так, теперь фата. С фатой пришлось обходиться очень аккуратно — тут малейшая дырочка будет на виду. Карин набросила фату и попыталась закрепить ее яблоневой веточкой, как это делала Энн. Но не смогла ни ветку согнуть как следует, ни найти шпильки-невидимки. Она решила, что лучше привяжет фату ленточкой или пояском, и открыла шкаф, чтобы отыскать что-нибудь подходящее.
А в шкафу была галстучная перекладина, а на ней — галстуки, галстуки. Все мужские, все Дерековы, хотя Карин ни разу его при галстуке не видела.
Она стащила с перекладины полосатый галстук и обернула его вокруг лба, крепко затянув на затылке, так чтобы фата держалась и не съезжала. Все это Карин проделывала перед зеркалом и видела, что в результате видок у нее стал выпендрежный и смешной и заметно отдавал цыганщиной. И тут в голову ей взбрело отстегнуть (не без усилий) тугие крючки, оттянуть перед платья и насовать в лиф скомканных тряпок с кровати Энн. Карин напихала, набила до отказа кружевные пустоты, выкроенные для груди Энн. Так-то получше — вот смеху-то будет! После этого ей уже не удалось снова застегнуть все крючки, но и тех, что застегнулись, было достаточно, чтобы закрепить на месте клоунские тряпичные сиськи. Она и ленту повязала на шею, под конец вспотев с ног до головы от трудов.
Энн не пользовалась ни помадой, ни тенями, но на трюмо неожиданно нашлась баночка засохших румян. Карин поплевала в баночку и пальцем намалевала на щеках розовые кружки.
* * *
Парадная дверь открывалась в холл у лестницы на второй этаж, и из этого холла одна дверь вела на веранду, а другая (с той же самой стороны) в гостиную. Можно было пройти в гостиную и непосредственно с веранды, через дверь в самом дальнем ее конце. У дома была весьма странная планировка, если это можно назвать планировкой, говаривала Энн. Складывалось впечатление, что какие-то вещи изменялись и соединялись впопыхах, на ходу, будто о них вспоминали в последнюю минуту. Длинная и узкая застекленная веранда почти не видела солнца, поскольку находилась с восточной стороны и к тому же в густой тени тополиной поросли, которая отбилась от рук и разрослась очень быстро, как и положено тополям. Когда Энн была маленькой, веранду использовали в основном для хранения яблок; впрочем, Энн и ее сестра любили ходить этим кружным путем через три двери. Теперь Энн накрывала на веранде ужин летними вечерами. Когда стол раздвигали, места для прохода между внутренней стеной и стульями оставалось совсем чуть-чуть. Но если рассадить гостей лицом к окнам и по обе стороны стола — как раз так стояли стулья сейчас, — то оставалось еще немножко места, чтобы просочился кто-то худенький, например Карин.
Карин босиком спустилась по лестнице. Никто не видел ее из гостиной, и она предпочла не входить туда через обычную дверь, а зайти с веранды, вдоль стола, и затем явиться, а еще лучше — выпрыгнуть на них через дверь с веранды, откуда ее меньше всего ожидают.
На веранду уже спустились сумерки. Энн уже зажгла две длинные желтые свечи, но маленькие, обступившие их белые свечки пока не горели. Желтые свечи пахли лимоном, и она, наверное, рассчитывала, что их аромат вытеснит затхлость с веранды. Еще она открыла окно с одной стороны стола. Даже в самый тихий вечер тополя всегда навевали легкий ветерок.
Пробираясь вдоль стола, Карин обеими руками поддерживала юбки. Ей пришлось их слегка приподнять, чтобы не наступать на подол при ходьбе. И чтобы тафта не шуршала. Она собиралась запеть песню «Невеста идет», как только появится в дверях гостиной:
Невеста идет, Жирный живот. Глянь, как вихляется Взад и вперед.Ветер налетел на нее коротким сильным порывом и дернул фату. Но фата была накрепко привязана к голове, так что можно было не бояться ее потерять. Она повернулась, чтобы зайти в гостиную, и вся фата взлетела и пронеслась сквозь языки пламени свечей. Те, кто сидел в гостиной, увидели сначала огонь, настигающий Карин, а потом и ее саму. А Карин успела только ощутить вонь паленого кружева — тошнотворное, ядовитое обрамление аромата мозговых косточек, тушившихся к обеду. А потом был немыслимый жар, и крики, и животные метания в темноте.
Розмари первая добралась до нее и принялась сбивать подушкой огонь с ее головы. Энн бросилась в холл за глиняным кувшином и выплеснула воду вместе с лилиями и травой на фату и волосы Карин. Дерек сорвал дорожку с пола, круша стулья, столы, бокалы, чтобы обернуть ею Карин и погасить остатки пламени. Куски кружев еще тлели на ее мокрых волосах, и Розмари отдирала их, обжигая пальцы.
Кожа на плечах, лопатках и с одной стороны на шее была изуродована ожогами. Галстук Дерека чуть оттягивал фату от лица Карин и таким образом спас ее от наиболее страшных увечий. Но даже когда волосы отросли снова и Карин стала зачесывать их вперед, они не могли полностью спрятать ужасный след на шее.
Ей несколько раз сделали пересадку кожи, и после этого она стала выглядеть куда лучше. Когда пришла пора поступать в колледж, Карин уже могла надевать купальник.
Впервые открыв глаза в палате Бельвильской больницы, она увидела маргаритки всех сортов и расцветок. Белые, желтые маргаритки, маргаритки розовые и сиреневые, повсюду — даже на подоконнике.
— Чудесные, правда? — сказала Энн. — Они их все шлют и шлют. Еще первые не завяли, и жалко выбрасывать. Они путешествуют и с каждой остановки присылают тебе маргаритки. Сейчас они должны быть уже на Кейп-Бретоне.
— Ты все-таки продала ферму? — спросила Карин.
— Карин, — произнесла Розмари; Карин закрыла глаза и попыталась снова открыть. — Ты думала, что я — это Энн? — сказала Розмари. — Энн с Дереком путешествуют. Я тебе как раз рассказывала. Энн продала ферму или только собирается, но в любом случае продаст. Забавно, что ты именно об этом думаешь сейчас.
— У них медовый месяц, — сказала Карин.
Это была такая хитрость, чтобы вернуть Энн, если это все-таки была она, заставить ее укоризненно вздохнуть: «Ох, Карин!»
— Это свадебное платье навело тебя на мысль, — сказала Розмари. — На самом деле они поехали, чтобы решить, где поселятся теперь.
Значит, это на самом деле Розмари. А Энн путешествует с Дереком.
— Это будет их второй медовый месяц, — сказала Розмари. — Ты слышала, чтобы у кого-нибудь был третий медовый месяц? Или восемнадцатый медовый месяц?
Все было как надо, и все были на своих местах. Карин чувствовала, что, кажется, именно она сотворила это, сделав некое изнуряющее усилие. Она знала, что должна испытывать удовлетворение. И она его испытывала. Но все это казалось не важным почему-то. Как будто и Энн, и Дерек, а может, даже и Розмари находились за живой изгородью — слишком густой и непроходимой, чтобы сквозь нее пробраться.
— Зато я здесь, — сказала Розмари. — Я все время была рядом. Но мне не разрешали даже прикоснуться к тебе.
Эту последнюю фразу она произнесла так, будто сообщала о величайшем горе.
Она и сейчас иногда повторяет это.
— Самое сильное мое воспоминание — я не могла прикоснуться к тебе, не зная, понимаешь ли ты это.
Карин говорит — да. Она понимала. Но она не дает себе труда сказать, что тогда она считала горе Розмари абсурдным. Это как если бы мать жаловалась, что не может объять материк. Потому что именно это чувствовала Карин — чувствовала, что стала чем-то необъятным, мерцающим и самодостаточным, чем-то изборожденным болью в некоторых местах и в то же время распластанным — протянувшимся в унылые, безвидные, дальние дали.
И на краю всего этого находилась Розмари, и Карин могла превратить ее, когда захочет, в черно-белые помехи. А сама Карин могла растянуться и одновременно сжаться в центре своей территории до аккуратной бисеринки или божьей коровки.
Разумеется, она вышла из этого состояния, она снова стала Карин. Все считали, что, за исключением кожи, все в ней осталось как прежде. Никто не знал, как она изменилась и каким естественным казалось ей это состояние отстраненности, учтивой и искусной самобытности.
Никто и не догадывался о спокойном торжестве, которое она испытывала порой, зная, до какой степени она сама себе хозяйка.
До перемен
Дорогой Р.!
Смотрели с отцом дебаты Кеннеди и Никсона[48]. С тех пор как ты уехал, он обзавелся телевизором. С маленьким экраном и антенной-рожками. Он стоит прямо перед буфетом в столовой, так что теперь даже если кто-то и захочет достать фамильное серебро или скатерть, это будет не так-то просто. Почему именно в столовой, где нет ни одного удобного кресла? Потому что они давным-давно забыли, что в доме имеется гостиная. Или потому, что миссис Барри хочет смотреть телевизор за ужином.
Помнишь эту комнату? Все по-прежнему, кроме телевизора. Тяжелые гардины с бордовыми листьями на бежевом фоне, а между ними тюль. Портрет сэра Галахада[49], ведущего лошадь под уздцы, и пейзаж, изображающий деревушку Гленко, но вместо резни[50] — благородный олень. Видавший виды каталожный шкаф сто лет назад переехал сюда из отцовского кабинета, да так и не прижился до сих пор, просто стоит, его даже к стене не придвинули как следует. И закрытая швейная машинка моей матери (о маме он упоминает только в таком сочетании: «швейная машинка твоей матери»), и те же самые растения, или не те же самые, но очень похожие, в глиняных горшках и жестянках, не цветущие, но и не вянущие.
Ну вот, теперь я дома. Никто не спрашивает, надолго ли. Просто я в один прекрасный день побросала в багажник «мини» свои книги, бумаги и одежду и привезла все это из Оттавы. Я сказала отцу по телефону, что покончила с диссертацией (на самом деле я ее забросила, но умолчала об этом) и считаю, что мне нужен перерыв.
— Срыв? — переспросил он, будто не расслышав. — Ну, если только это не нервный срыв.
— Что? — не поняла я.
— Нервный срыв, — сказал он, хрипло хихикнув.
Вот так он до сих пор относится к паническим атакам, тревожно-мнительным состояниям, депрессиям и деперсонализации. Наверное, велит своим пациентам «не вешать нос».
Нетушки. Скорее всего, он выпроваживает их, снабдив успокоительными пилюлями и парой-тройкой сухих утешений. К чужим изъянам он куда терпимее, чем к моим.
Не скажу, что меня приняли с распростертыми объятиями, но и в ужас не пришли. Отец обошел вокруг моего «мини», крякнул, удовлетворенный осмотром, и постучал ногой по баллонам:
— Как ты только доехала.
Я собиралась поцеловать его — больше ради бравады, чем в приступе дочерней любви, — вот, мол, глядите, как я теперь. Но едва моя нога ступила на гравий подъездной дорожки, я уже знала, что не смогу. Миссис Б. стояла на полпути к кухонной двери. И я подошла, обняла ее и ткнулась носом в причудливые черные волосы, подстриженные под китайский боб, обрамлявшие ее сморщенное личико. Я почувствовала затхлый запах ее вязаной кофты и запах отбеливателя от передника, прикосновение ее старых колючих костей. Она едва доставала мне до ключиц.
Сконфузившись, я сказала:
— Какой чудесный день, и поездка была расчудесная.
Так оно и было. Так и оставалось. Деревья еще не пожелтели, не покраснели, только чуть заржавели по краям, а скошенные поля отливали золотом. Так отчего же эта щедрость пейзажа потускнела в присутствии моего отца и на его территории (не забывай, что и в присутствии миссис Барри, и на ее территории)? Отчего мое упоминание о чудесном дне, слова, сказанные мной не походя, а от чистого сердца, вдруг стали на одну доску с тем, как я обнимала миссис Б. Второе кажется образцом наглости, а первое — напыщенными излияниями.
Когда дебаты завершились, отец встал и выключил телевизор. Он не станет смотреть рекламу, хотя миссис Б. тоже здесь и горячо «за», говорит, что хочет посмотреть на миленького младенца с торчащими передними зубками или на курицу, догоняющую этого, как его (она даже не пытается выговорить «страуса» — или действительно забыла). А потом, когда ей позволено то, что она любит, вплоть до пляшущих кукурузных палочек, отец даже говорит:
— Ну, по-своему это где-то даже остроумно.
Думаю, это своего рода предупреждение мне.
А что же он думает насчет дебатов Кеннеди с Никсоном? Я пытаюсь чуть оживить беседу.
— Ой, да просто двое американцев.
— Что ты хочешь этим сказать?
Когда предлагаешь ему углубиться в тему, которую, по его мнению, обсуждать не нужно, или оспариваешь довод, не требующий доказательств, он, по обыкновению, поднимает верхнюю губу с одной стороны, скаля пару больших прокуренных зубов.
— Просто двое американцев, — говорит он так, словно в первый раз я пропустила эти слова мимо ушей.
И вот мы сидим и не разговариваем, но не в полной тишине, потому что, как ты, наверное, помнишь, дышит отец очень шумно. Его дыхание продирается через каменные переулки и скрипучие ворота. А затем вырывается наружу с чириканьем и бульканьем, словно некий нечеловеческий агрегат заперт у него в грудной клетке. Пластиковые трубочки и радужные пузыри. Предполагается, что его никто не замечает, и я вскоре привыкну. Но агрегат занимает уйму места в комнате. Правда, отец и так бы его занимал — с таким-то объемистым тугим животом, такими длинными ногами и таким выражением лица. Что это за выражение? Словно у него имеется список проступков, явных и предполагаемых, и он доводит до сведения, как именно пациент будет судим не только за преступления, которые он совершил осознанно, но и за то, о чем даже не предполагал. Думаю, многие отцы и деды мечтают о таком выражении лица, даже те, чья власть ограничивается лишь собственным домом, но мой отец — единственный, получивший это лицо в пожизненное пользование.
Знаешь, Р., тут для меня работы непочатый край, и хандрить, как говорится, некогда. В приемной все стены обшарпанные — несколько поколений пациентов елозили по ним спинками стульев. Кипы зачитанных номеров «Ридерз дайджест» на столе. Личные дела пациентов в картотеке под смотровым столом, корзины для мусора — они из лозы — сверху ободраны, будто их крысы обглодали. И в доме не лучше. Раковина наверху вся в коричневых трещинах, словно волосами присыпана, а унитаз зарос ржавчиной, просто беда. Ну да ты сам заметил, наверное. Глупость, конечно, но больше всего меня раздражают купоны на скидку и рекламные бумажки. И в ящиках, и под блюдцами, и просто так повсюду валяются, анонсируя скидки и распродажи недельной, а то и годичной давности.
Не то чтобы отец и миссис Б. отстранились или махнули на все рукой. Но все очень запущено. Белье они сдают в прачечную — и это разумно, — вместо того чтобы миссис Б. до сих пор все стирала сама, но потом отец забывает, когда его должны доставить, и начинается несусветная суета насчет того, хватит ли ему чистых халатов и т. п. А миссис Б. уверена, что прачечная ее обжуливает, что, не жалея времени, тамошние работники перешивают метки с нашего хорошего белья на чье-то захудалое бельишко. И ругается с доставщиком, обвиняя его, что он нарочно приезжает сюда напоследок, и наверное, так оно и есть.
К тому же карнизы давно не мыты, должен был приехать и помыть племянник миссис Б., но он сорвал спину, так что ожидается племянников сын. Но племянникову сыну пришлось взвалить на себя столько работы, что он не справляется, и т. д. и т. п.
Мой отец зовет племянникова сына по имени его отца. Он со всеми так. Он величает городские лавки и конторы по имени предыдущего владельца или даже предшественника предыдущего владельца. Это не простые провалы в памяти, это особая такая заносчивость. Мол, не обязан я помнить всякую ерунду. И замечать перемены. Или отдельных людей.
Я спросила, какой цвет он предпочитает для стен в приемной. Светло-зеленый или желтоватый.
— А красить-то кто будет? — спросил он.
— Я.
— Никогда не думал, что ты малярша.
— Я сама красила стены у себя дома.
— Может, и так, но я их не видел. А куда денешь пациентов, пока будешь красить?
— Я сделаю это в воскресенье.
— Некоторым из них не понравится, когда они прознают, что ты работала в воскресенье.
— Ты шутишь? В наши дни? В нашем веке?
— Дни и век могут оказаться совсем не такими, как ты думаешь. Особенно в нашей округе.
Тогда я сказала, что могу сделать это ночью, но он возразил, что поутру от вони слишком многие желудки разболятся. Все, что мне позволено было сделать в конце концов, — это выкинуть «Ридерз дайджест», заменив их несколькими экземплярами «Маклинс», «Шатлен», «Тайм» и «Сатердей-найт». После чего он заявил, что были недовольные. Люди скучали по бородатым остротам из «Ридерз дайджест». К тому же многим не нравятся современные писаки. Вроде Пьера Бертона[51].
— Очень плохо, — сказала я и сама не поверила, что голос у меня дрожит.
Затем я взялась за картотечный шкаф в столовой. Решила, что там, наверное, горы личных дел давно умерших пациентов, и если уж я не могу выкинуть их, то хотя бы распихаю по этим ящикам личные дела из буфета, а потом отправлю картотеку туда, где ей самое место, — обратно в кабинет.
Миссис Б. глянула на мои дела и пошла звать отца. Мне ни слова не сказала.
— Кто тебе разрешил здесь рыться? — возмутился он. — Я не разрешал.
Р., в те дни, когда ты приезжал, миссис Б. отлучалась — навещала семью на Рождество (у нее есть муж, который, кажется, полжизни болеет эмфиземой, детей у них нет, зато целая орда племянников, племянниц и прочей родни). Не думаю, что ты вообще видел миссис Б. Зато она тебя видела. Вчера говорит мне:
— А где мистер Такой-то, с которым ты собиралась обручиться?
Разумеется, она заметила, что кольца на мне нет.
— В Торонто, наверное, — отвечаю.
— На Рождество я гостила у племяшки, и мы видели, как вы с ним прошвыривались мимо водокачки. Племяшка еще спросила: «Интересно, куда эти двое намылились?»
Вот такая у нее манера выражаться, и теперь это уже кажется мне почти нормальным, если только не приходится цитировать письменно. Думаю, она имела в виду, что мы идем куда-нибудь уединиться, но на улице, если помнишь, стоял трескучий мороз, и мы просто вышли, чтобы не сидеть в доме. Нет. Мы вышли, чтобы продолжить ссору, а то пришлось бы вечно держать все в себе.
Миссис Б. начала работать у моего отца приблизительно тогда же, когда я пошла в школу. До этого у нас работали молодые женщины, которые мне нравились, но они повыходили замуж или отправились работать на военные заводы. Когда мне было лет девять или десять и я уже повидала, как обстоят дела в домах у некоторых моих одноклассниц, я спросила отца:
— Почему наша служанка должна есть с нами за одним столом? У других людей служанки не едят вместе с ними.
Отец ответил:
— Называй миссис Барри «миссис Барри». И если тебе не нравится есть с ней за одним столом, отправляйся в сарай и ешь там.
Потом я взяла манеру околачиваться возле миссис Б. и пытаться заставить ее заговорить. Чаще всего безуспешно. Но если она поддавалась, результат был очень отрадным. Я от души развлекалась, изображая ее в школе.
Я:
— У вас настоящие черные волосы, миссис Барри.
Миссис Б.:
— У нас в семье все как есть чернявые. Все чернявые и нипочем не седеют. Это у меня по материной линии. И в гроб ложут черноволосыми. Когда помер мой дедушка, так они его продержали в особом месте на кладбище цельную зиму, пока не оттаяла земля, а на весну решили хоронить, дак кто-то из наших и скажи: «А давайте поглядим, какой он стал за зиму?» Мы позвали какого-то человека, чтобы крышку-то снял, а дед лежал как миленький, красавчиком — лицо не потемнело, не ввалилось, или что там еще, и волосы черные. Чернущие.
Я могла даже изобразить ее не то смешок, не то лай, который вовсе не означал что-то смешное, а был вроде знаков препинания.
К тому времени, как мы с тобой познакомились, мне уже самой от себя было тошно из-за этого обезьянничанья.
Однажды, уже после того, как миссис Б. рассказала мне все о своих черных волосах, я увидела, как она выбегает из ванной комнаты наверху. Она торопилась к трезвонящему телефону, который мне трогать не разрешалось. Голова ее была обмотана полотенцем, а из-под него по щеке текли темные струйки. Темно-багровые такие струйки, и я возомнила, что это кровь.
Словно кровь у нее вот такая же странная и темная, такая же недобрая, какой она сама казалась мне иногда.
— У вас голова в крови, — сказала я, а она ответила:
— Ах, уйди прочь с дороги!
И протиснулась к телефону. А я вошла в ванную и увидела багровые потеки в умывальнике и краску для волос на полке. Я ни словом не обмолвилась об этом случае, и она продолжала рассказывать, что все в ее родне по материнской линии лежали в гробу чернявыми и она сама тоже будет.
У отца в те годы была довольно странная манера замечать меня. Идет он, например, через комнату, где я сижу, и произносит, будто не видит меня в упор:
Король наш Генри был чудак — Шнурки глотал он натощак[52].А иногда вдруг обратится ко мне рокочущим театральным голосом:
— Привет, малышка, хочешь конфетку?
Я знаю, как надо отвечать, и пищу елейным детским голоском:
— О да, сэр.
— Не да-а-ам! — капризно растягивает он звук «а». — Не дам! Это не е-да!
И еще:
Соломон Мельник родился в понедельник, во вторник крестился, в среду женился, в четверг занедужил, в пятницу — хуже, в субботу — смерть на порог, в воскресенье в могилу лег.И затем мы вместе заканчивали раскатисто:
И нет Соломона Мельника!Ни тебе вступления, ни комментария в конце стишка. В шутку я попробовала звать отца «Соломон Мельник». На четвертый или пятый раз он возразил:
— Хватит. Меня не так зовут. Я — твой отец.
С тех пор у нас со стишками было покончено навсегда.
Когда я впервые увидела тебя на кампусе, ты был один, и я была одна, и у тебя был такой вид, будто ты меня вспомнил, но не уверен, стоит ли в этом признаваться. Ты тогда только что провел у нас одну лекцию, заменяя нашего заболевшего преподавателя, и тема лекции была «Логический позитивизм». Ты еще пошутил, что очень остроумно было пригласить преподавателя из Теологического колледжа, чтобы прочесть ее.
Видя, что ты колеблешься, поздороваться или нет, я сказала:
— Бывший король Франции — лыс как колено.
Эту фразу ты привел нам как пример высказывания, не имеющего смысла, поскольку его предмет не существует. Но ты в ответ бросил на меня по-настоящему испуганный, затравленный взгляд, а потом прикрылся профессиональной улыбкой. Что ты тогда обо мне подумал?
Нахальная всезнайка.
Р. Живот у меня все еще немного пухлый. Снаружи ничего не заметно, но я могу сжать его руками. А так со мной все в порядке, вес вернулся в норму или стал чуть меньше нормы. Однако я думаю, что выгляжу старше. Выгляжу старше двадцати четырех. Волосы у меня такие же длинные, никакой прически, по правде — вообще лохмы. Может, это памятник тебе, ведь ты не любил, когда я стриглась? Не знаю.
Как бы то ни было, я начала совершать долгие прогулки по городу, чтобы размяться. Я всегда любила летом бродить куда глаза глядят. Всю жизнь здесь я понятия не имела о том, что здесь принято и не принято или по какому принципу люди отличаются друг от друга. Видимо, потому, что никогда не ходила в городскую школу, или потому, что дом наш стоял в пригороде, где и по сей день стоит, в нашем длинном переулке. Ни к селу ни к городу. Я бегала на конюшни при ипподроме, а там все были сплошь мужчины — либо владельцы лошадей, либо платные тренеры, — а все ученики были мальчики. Я не знала ни одной фамилии, зато все знали мою. Иными словами, всем приходилось терпеть меня из-за того, чьей дочерью я была. Нам разрешали кормить лошадей и сгребать за ними навоз. Это казалось удивительным приключением. Я напяливала старую отцовскую кепку и мешковатые шорты. Мы взбирались на крышу, мальчишки тузили друг друга и старались спихнуть с крыши, но меня обходили сторонкой. Периодически мужчины приказывали нам проваливать, спрашивали меня: «А твой отец знает, что ты здесь?» И мальчишки начинали дразнить друг дружку, а один изображал, будто его рвет, и я знала — это в мой адрес. Тогда я перестала туда ходить. Бросила мечту стать «девушкой с золотого Запада»[53]. Я стала бывать в доке и смотреть на озерные корабли, но едва ли зашла так далеко, чтобы мечтать податься в палубные матросы. А еще мне не удалось никого обдурить, и для тамошних я была только девчонка. Какой-то грузчик наклонился ко мне и спросил:
— Эй, а у тебя волосы-то уже выросли на одном месте?
И я чуть не спросила: «Что, простите?»
Я была не столько испугана или унижена, сколько озадачена. Такой взрослый дядя на такой уважаемой работе — и вдруг интересуется реденькими чесучими кустиками у меня между ног. Это же противно, вон и по его голосу даже понятно, что так оно и есть.
Конюшни снесли. Дорога к причалу уже не такая отвесная. Построили новый элеватор. А новые пригороды могут быть пригородами где угодно и потому всем нравятся. Теперь никто не ходит пешком — все ездят на машинах. В пригородах нет тротуаров, а тротуары на задворках старых улиц давно нехожены, они растрескались и вздулись от морозов, провалились под землю, покрылись травой. Длинную пыльную тропку, бежавшую между сосен вдоль нашего переулка, не отыщешь теперь под наносами опавшей хвои, в зарослях молодняка-самосева и дикой малины. Люди десятилетиями спешили по этой тропинке на прием к доктору. Выходили из города по специально расширенному короткому отрезку тротуара вдоль шоссе (тротуар вот так же нарочно расширен еще только в одном месте — вдоль дороги, ведущей на кладбище), а потом между двумя рядами сосен на той стороне переулка. Ибо доктор жил в этом доме еще с конца прошлого века.
Все виды шумливых и неопрятных пациентов, детишки, мамаши, старики, всю вторую половину дня, и более тихие одиночки по вечерам. Я частенько сидела в сторонке — там, где грушу осаждали заросли сирени, — и шпионила за посетителями, ведь маленькие девчонки сами не свои до того, чтобы пошпионить. Все кусты нынче вырублены подчистую, чтобы сыну племянника миссис Б. было легче возить свою газонокосилку. Я подсматривала за женщинами, которые в то время на прием к доктору разряжались в пух и прах. Хорошо помню эти их послевоенные обновы. Длинные широкие юбки, затянутые пояски, расфуфыренные блузки, а иногда и короткие белые перчатки, ведь перчатки тогда носили и летом, и не только в церковь. И шляпки надевали не только в церковь. Пастельные соломенные шляпки, обрамлявшие лицо. Платья с легкими летними воланами, оборки по плечам, похожие на маленькие пелерины, пояс-лента вокруг талии. Ветер вздымал оборку-пелерину, и дама поднимала руку в нитяной перчатке, чтобы убрать оборку от лица. Этот жест был для меня символом недостижимого женского очарования. Нитяная паутинка рядом с прекрасными бархатистыми губами. У меня не было матери, — наверное, поэтому я так остро переживала эти ощущения. Но я не знала никого, чья мама выглядела бы как эти дамы. Я скрючивалась в три погибели под кустом, грызла пятнистые желтые груши и благоговела.
Один учитель заставил нас прочесть старинные баллады, вроде «Сэра Патрика Спенса» и «Двух воронов»[54], и школу обуяла «балладная лихорадка».
Коридором темным иду на свет, На встречу с моим дружком. Мы вместе с ним туалет найдем, Пописаем там вдвоем.Баллады буквально засасывали, и ты принимался рифмовать, не успев задуматься о смысле. Вот и я слагала, набив рот приторной грушевой мякотью:
Отправилась леди в путь без конца, Покинула город родной, Оставила дом и ярость отца Ради судьбы иной….Когда осы уж слишком донимали меня, я уходила в дом. Миссис Барри сидела на кухне, курила и слушала радио, пока мой отец ее не вызывал. Она оставалась до ухода последней пациентки и убирала все помещение. Если из кабинета слышался чей-то визг, она могла тихонько взвизгнуть со смешком и сказать:
— Давай-давай, поори громче.
Я даже не пыталась описать ей наряды и внешность женщин, которых созерцала, потому что знала: миссис Б. никогда не оценит ни красоту, ни наряды. Для нее это то же самое, как когда люди знают что-то никому не нужное, например какой-нибудь иностранный язык. Восхищали ее искусные картежники, умелицы быстро вязать на спицах — вот и все, пожалуй. Многие люди были для нее попросту бесполезными. И отец тоже так говорил. Тот-то, мол, человек бесполезный. И меня так и подмывало спросить: а какая же от них должна быть польза? Но я знала, что никто мне не объяснит. Скажут вместо этого, чтобы не умничала.
Дядя Франклина Хайда застал как-то раз, Когда тот копошился в грязи. Он сначала за шкирку племянника тряс, А потом от души оттузил[55].Если бы я решилась отправить это письмо тебе, куда мне его послать? Мысль о том, чтобы написать полный адрес на конверте, меня парализует. Так больно думать о тебе — что ты все там же, на прежнем месте, и жизнь твоя течет как прежде, но за вычетом меня. И мысль о том, что ты не там, а где-то еще, и я не знаю где, — еще хуже.
Милый Р., милый мой Робин, как ты думаешь, почему я ни о чем не догадывалась? Это же все время было у меня перед глазами. Если бы я ходила в здешнюю школу, я бы, конечно, узнала. Если бы у меня были подруги. Не было у меня ни одной знакомой старшеклассницы, ни одной девочки постарше. Даже если так, у меня была куча времени на каникулах. Если бы я не была такой замкнутой, не слонялась по городу, сочиняя баллады, я бы догадалась. Теперь я припоминаю, что знала: некоторые из тех вечерних пациенток, тех дам, приезжали на поезде. Для меня эти женщины в красивых нарядах были прочно связаны с вечерним поездом. И уезжать они должны были поздним ночным. Конечно, с таким же успехом это могла быть и машина, высаживавшая их в конце переулка.
И миссис Б. сказала мне — думаю, именно она, а не отец, — что эти женщины приезжают к нему на витаминные инъекции. Я это помню, потому что всякий раз думала, услышав женские вскрики: «Сейчас ей делают укол». И мне было немножко удивительно, что эти женщины, такие утонченные и сдержанные, не способны стоически переносить уколы.
Даже теперь на это ушли недели. Все это время привыкать к домашним устоям, до точки, в которой я и мечтать не могла о том, чтобы взять в руки малярную кисть, и не решалась поправить ящик или выбросить старые продуктовые чеки, не посоветовавшись с миссис Б. (которая все равно сама ничего не могла решить на этот счет). До точки, в которой я бросила попытки уговорить их хотя бы попробовать натуральный кофе. (Они предпочитают растворимый, потому что у растворимого всегда одинаковый вкус.)
Отец положил чек рядом с моей тарелкой. Сегодня, за воскресным ланчем. Миссис Барри никогда не бывает здесь по воскресеньям. Мы едим холодный второй завтрак, приготовленный мною: ломтики бекона, хлеб, помидоры, пикули и сыр — едим после того, как отец возвращается из церкви. Он никогда не предлагает мне выбраться с ним в церковь — наверное, думает, что, если тоже пойду, стану всю дорогу долдонить о том, о чем он и слышать не желает.
Чек был на пять тысяч долларов.
— Это тебе, — сказал он. — Пусть у тебя что-то будет. Можешь в банк положить или инвестировать куда-то, как захочешь. Посмотри, какие там ставки. Я не в курсе. Конечно, дом тоже будет твой. Со временем, как говорится.
«Взятка?» — подумала я. Деньги, чтобы начать собственное дело, отправиться в путешествие? Или чтобы сделать первый взнос за собственный маленький домик, или чтобы вернуться в университет и получить еще какую-нибудь «дремучую» степень, как он выражается. Пять тысяч долларов, чтобы избавиться от меня. Я поблагодарила его и для какого-никакого поддержания беседы спросила, а что он делал со своими деньгами. Он сказал, что это не имеет значения.
— Спроси у Билла Снайдера, если тебе нужен совет. — Тут он вспомнил, что Билл Снайдер больше не дает консультаций. Он ушел на пенсию. — Там у них теперь какой-то новый малый с чуднóй такой фамилией, — сказал он. — Похоже на Ипсиланти, но не Ипсиланти.
— Ипсиланти — это город в Мичигане, — сказала я.
— Это город в Мичигане, но это была фамилия человека еще до того, как появился город в Мичигане, — возразил отец. — Кажется, так звали греческого лидера, боровшегося против турок в начале девятнадцатого века.
— А, это во время войны Байрона, — сказала я.
— Войны Байрона? — переспросил отец. — С чего это ты так ее называешь? Байрон не воевал ни на какой войне. Он умер от тифа. И все-таки он погиб, он великий герой, пал за греков и все такое, — сказал он сварливо, словно возлагая на меня часть вины за эту ошибку, за всю эту шумиху вокруг Байрона.
Но потом он успокоился и пересказал для меня или сам себе напомнил ход войны против Османской империи. Он вспомнил Порту, и мне захотелось сказать, что я никогда не знала, то ли это вправду ворота, то ли это Константинополь, то ли султанский двор. Но всегда лучше не перебивать. Когда он заводит речь вот так, всегда возникает ощущение перемирия или передышки в некой необъявленной подпольной войне. Я сижу лицом к окну и сквозь тюлевые занавески вижу охапки желто-бурой листвы на земле в насыщенном и щедром солнечном свете (может быть, настали уже последние такие деньки, судя по вчерашнему вою ветра), и это возвращает мне мое детское чувство облегчения, мое тайное наслаждение, стоит мне подтолкнуть отца, вопросом или случайным замечанием, к разглагольствованиям вроде этого. О землетрясениях, к примеру. Они происходят на вулканических хребтах, но одно из величайших землетрясений случилось посреди континента, в округе Нью-Мадрид (произносится «Нью-Мад-рид», запомни!) в Миссури, в тысяча восемьсот одиннадцатом году. Я узнала об этом от отца. Рифтовые долины. Нестабильность, никак не проявляющаяся на поверхности. Пещеры, образовавшиеся в известняках, подземные воды, горы, которым хватило времени разрушиться до груды камней. А еще цифры. Однажды я спросила его о цифрах, и он сказал: «Ну, есть так называемые арабские цифры, любой дурак их знает, правда? Но грекам тоже удалось создать прекрасную систему, — рассказывал он. — Греки с этим справились, только у них не было понятия нуля».
Понятие нуля… Я отложила его в сознании, словно сверток на полку, чтобы однажды распаковать.
Но в присутствии миссис Б. не стоит, конечно, даже надеяться на такие разговоры с ним.
«Не бери в голову, — скажет он, — ешь».
Словно любой мой вопрос имел под собой скрытую цель, и полагаю, так оно и было: я покушалась направлять разговор в нужное мне русло. Но было бы невежливо оставлять миссис Б. в стороне. Так что именно ее отношение к причинам землетрясений или к истории цифр (не просто равнодушное, а даже презрительное) следовало уважать, она правила бал.
И вот мы снова возвращаемся к миссис Б. Уже в настоящем.
Вчера я вернулась около десяти вечера. Ходила на заседание Исторического общества, вернее, общество только собирались учредить на этой встрече. Явились пятеро, причем двое опирались на тросточки. Отворив кухонную дверь, я увидела миссис Б., показавшуюся в проеме дальнего коридора, ведущего из отцовского кабинета в уборную и в переднюю половину дома. Миссис Б. несла в руках прикрытый салфеткой таз. Она направлялась в уборную и могла совершенно спокойно пройти мимо кухни, когда я вошла. Я едва ли обратила бы на нее внимание. Однако она замерла как вкопанная, озираясь в мою сторону с переполошной гримасой на лице.
Ай! Попалась!
И прожогом ринулась к туалету.
Ну и ну! Удивление, тревога, бегство. Даже то, как она прятала таз, чтобы я не могла его не заметить. Во всем был умысел.
До меня доносился рокот отцовского голоса, отец в кабинете разговаривал с кем-то. Да я и раньше увидела свет в смотровой и припаркованную машину пациентки. Никто больше не ходит пешком.
Я сняла пальто и пошла наверх. Казалось, все мои мысли сосредоточены на том, чтобы ни за что не оправдать ожиданий миссис Б. Ни вопросов, ни страшных открытий. Никаких ей «а что это там у вас в тазу, миссис Б.?» или «а чем это вы там с моим папой занимались?». (Не помню, чтобы я когда-нибудь говорила о нем «мой папа».) Я тотчас же принялась рыться в одной из коробок с книгами, которые по сию пору так и стояли нераспакованные. Я искала дневники Анны Джеймсон[56] — пообещала дать почитать единственному мужчине моложе семидесяти, который присутствовал на заседании. Он был фотографом и кое-что знал из истории Верхней Канады. Хотел стать учителем истории, но ему помешало заикание. Он рассказывал мне все это, пока мы битых полчаса стояли на тротуаре, вместо того чтобы сделать более решительный шаг и пойти выпить кофе. Пожелав мне доброй ночи, он сказал, что хотел бы пригласить меня на кофе, но должен спешить домой и сменить жену, потому что у ребенка колики.
Я распаковала все коробки с книгами, до последней, до изнеможения своего. Я будто разглядывала реликвии ушедших веков. Я перелистывала их, пока пациентка не ушла, пока отец не отвез миссис Б. домой, потом он поднялся наверх, принял душ и лег. А я все читала и перечитывала то одно, то другое, пока меня чуть не сморило прямо на полу.
А сегодня за ланчем отец наконец изрек:
— Да и вообще, кому нынче интересны турки? Древняя история.
И мне пришлось сказать:
— Я знаю, что здесь происходит.
Он вскинул голову и фыркнул. Вот ей-богу, фыркнул, как старый конь.
— Да? Ты знаешь? И что же, по-твоему, ты знаешь?
— Я тебя не осуждаю. И я не против.
— Неужели?
— Я поддерживаю аборты, — сказала я, — и уверена, что они должны быть легализованы.
— Я прошу тебя впредь не произносить это слово в этом доме, — сказал отец.
— Почему?
— Потому что в этом доме только я имею право произносить это слово.
— Ты не понимаешь, я же…
— Я понимаю, что у тебя слишком длинный язык. Длинный язык и короткий ум. Избыток образования и недостаток обыкновенного соображения.
Я все еще не унималась.
— Люди должны знать, — сказала я.
— Даже так? Должны? Есть разница между знанием и тем, чтобы почем зря трепать языком. Заруби это себе на носу раз и навсегда.
Весь остаток дня мы не разговаривали. Я приготовила на обед обычное жаркое, и мы съели его в глубоком молчании. Мне кажется, отца это совсем не тяготит. Да и меня тоже, во всяком случае до тех пор, пока все вот так, по-дурацки, так оскорбительно, пока я злюсь, но не могу же я злиться вечно, и даже могла бы извиниться. (Тебя этим точно не удивишь.) Это было так очевидно, когда я уходила.
Тот молодой человек прошлым вечером рассказал мне, что когда он расслабляется, то почти перестает заикаться. «Вот как во время разговора с вами», — говорит. Наверное, я могла бы заставить его в меня влюбиться, ну, до определенной степени. Просто развлечения ради. Вот такая жизнь была бы мне здесь уготована.
Милый Р., я пока не уехала, мой «мини» не на ходу. Сдала машинку в капитальный ремонт. И погода тоже испортилась, ветер разъярился совсем по-осеннему, зачерпывает озеро и плещет на пляж.
Он застал миссис Барри одну у нее на парадном крыльце — ветер, разумеется, что же еще — и сбил с ног, она упала на дорожку и сломала локоть. Это был левый локоть, и она уверяла, что может работать одной правой рукой, но отец возразил, что перелом у нее сложный и он хочет, чтобы она месяцок отдохнула. Он спросил, не могу ли я перенести свой отъезд. Вот слово в слово: «перенести свой отъезд». Не спросил даже, куда я планирую поехать, он просто знает про машину.
Я и сама не знаю, куда мне ехать.
Хорошо, сказала я, останусь, пока могу быть полезна. Так что мы снова вроде как разговариваем. Вполне сносно, кстати. Я просто пытаюсь выполнять ту работу по дому, которая лежала на миссис Б. Ни попыток перестановки, ни дискуссий о ремонте. (Хоть крышу починили — когда появился родственник миссис Б., я была удивлена и признательна.) Чтобы дверца духовки не открывалась, я подпираю ее, как миссис Б.: кладу на стул стопку толстых медицинских учебников и придвигаю вплотную к плите. Готовлю мясо и овощи по ее рецептам и даже не думаю о том, чтобы принести в дом авокадо, или банку артишоков, или головку чеснока, хотя все это я вижу в продаже на полках супермаркета. Я заливаю кипятком растворимый кофе из банки. Попробовала сама пить его, чтобы проверить, смогу ли я привыкнуть, и, конечно, смогла. Я мою кабинет в конце каждого дня и отправляю белье в прачечную. Доставщик белья благоволит ко мне, потому что я никогда к нему не придираюсь.
Мне позволено отвечать на звонки, но если какая-то женщина спрашивает моего отца и не желает вдаваться в подробности, я должна записать ее номер и сказать, что доктор перезвонит. Что я и делаю, и иногда женщина просто вешает трубку. Когда я сообщаю об этом отцу, он говорит: «Скорее всего, она перезвонит снова».
Теперь совсем немного таких пациенток — тех, кого он называет «особыми». Не знаю, наверное, одна в месяц. В основном он имеет дело с болью в горле, колитами, нарывами в ушах и так далее. Перебои в сердце, камни в почках, повышенная кислотность в желудке.
Р., сегодня он постучался ко мне. Постучался, хотя я никогда не запираю двери. Я читала. Он поинтересовался — не просительным тоном, конечно, но должна заметить, довольно уважительно, — не могу ли я помочь ему в кабинете. Первая особая с тех пор, как нет миссис Б.
Я спросила, что от меня требуется.
— Просто подержать ее немного, — ответил отец. — Она молода и еще не привыкла к этому. Хорошенько обработай руки, возьми бутылку мыла в туалете внизу.
Пациентка лежала на смотровом столе, прикрытая простыней ниже пояса. До пояса она была полностью одета: темно-синий кардиган, застегнутый на все пуговицы, и белая блузка с обшитым кружевом воротничком. Одежда свободно облегала ее острые ключицы и почти плоскую грудь. Черные волосы были гладко зачесаны назад, туго заплетены в косу и заколоты на макушке в узел. Эта чопорная и строгая прическа удлиняла ей шею и подчеркивала царственный овал ее белого лица, так что издалека ей можно было дать лет сорок пять. Вблизи же становилось ясно, что она совсем юная, лет двадцать или около того. Ее плиссированная юбка висела на крючке за дверью, там же чуть выглядывала резинка трусов, предусмотрительно повешенных под юбку. Девушка дрожала как осиновый лист, хотя в кабинете было не холодно.
— А теперь, Маделин, — сказал отец, — первое, что нам нужно сделать, — это согнуть ваши колени.
Интересно, подумала я, он ее действительно знает? Или просто спросил, как ее зовут, и называет тем именем, которое она сообщила?
— Успокойтесь, — сказал он. — Тихо, тихо.
Он закрепил опоры для ног и поставил на них ее ступни. Ее голые ноги, казалось, никогда не видели солнечного света. Она была обута в мокасины.
Колени у нее тряслись так, что в этом новом положении шлепали друг о друга.
— Вы должны держать их ровнее и не двигаться, — сказал отец. — Вы же знаете, что я не смогу выполнять свою работу, если вы не выполните свою. Может, дать вам одеяло? — И обратился ко мне: — Принеси ей одеяло, оно там, на верхней полке.
Я укрыла одеялом верхнюю часть тела Маделин. Она на меня не смотрела. Зубы у нее клацали. Она судорожно стискивала губы.
— А теперь чуть подвиньтесь вниз, — сказал мой отец, а потом мне: — Возьмись за колени. Теперь разведи их. И просто придерживай.
Я положила ладони на коленные чашечки девушки и развела ей ноги в стороны так нежно, как только могла. Дыхание отца наполнило комнату деятельными, непонятными замечаниями. Мне пришлось довольно крепко держать колени Маделин, чтобы не дать им сжаться.
— А где та старуха? — спросила она.
— Дома. Она упала. Я ее заменяю.
Значит, она здесь уже бывала.
— Она грубая, — сказала девушка.
Голос у нее был обыденный, даже ворчливый, не такой нервный, как я ожидала, видя, в каком возбуждении все ее тело.
— Надеюсь, я не такая, — сказала я.
Она не ответила.
Отец взял в руку тонкий стержень, похожий на вязальную спицу.
— Теперь самое трудное, — сказал он. Отец разговаривал спокойно, таким мягким тоном, какого я от него, наверное, ни разу не слышала. — И чем сильнее вы сожметесь, тем тяжелее это будет. Так что расслабьтесь. Ну вот. Легче. Хорошая девочка. Хорошая девочка.
Я пыталась сосредоточиться на том, какими словами можно было бы расслабить ее или отвлечь. Теперь мне было видно, что мой отец делает. Рядом с ним на белой салфетке лежали наборы стержней, все одинаковой длины, но разной толщины. Вот что он будет использовать по очереди, чтобы открыть и растянуть шейку матки. Стоя за простынным барьером, натянутым между коленей девушки, я не видела сам сокровенный процесс работы этих инструментов. Но я его чувствовала по накатывающим волнам боли в ее теле, волнам, которые подавили спазмы страха и фактически заставили ее притихнуть.
Где вы родились? Где ходили в школу? Вы работаете? (Я заметила у нее на пальце обручальное кольцо.) Вы любите свою работу? У вас есть братья и сестры? С какой стати она захотела бы отвечать на эти вопросы, даже если бы не было так больно?
Она с шипением выдохнула воздух сквозь зубы и уставилась в потолок расширенными глазами.
— Я знаю, — сказала я, — знаю.
— Уже почти, — сказал мой отец. — Ты молодчина. Хорошая, тихая девочка. Теперь уже недолго.
— Я хотела перекрасить эту комнату, но так и не собралась, — сказала я. — Если бы вы перекрашивали, то какой цвет бы выбрали?
— Хох! — сказала Маделин. — Хох! — Внезапный переполошный выдох.
— Желтый, — сказала я, — я думала про нежно-желтый. Или салатовый?
К тому времени, когда мы добрались до самого толстого крючка, Маделин втиснула голову в плоскую подушку, вытянув длинную шею и оскалившись.
— Думайте о своем любимом фильме. Какой у вас любимый фильм?
Медсестра спросила это у меня как раз в тот момент, когда я достигла невероятного, бесконечного плато боли и была уверена, что облегчение уже не придет, не в этот раз. Как вообще могут, скажите на милость, существовать еще какие-то фильмы? А теперь я то же самое сказала Маделин, и глаза ее хлестнули меня холодным рассеянным взглядом, осознающим, что от человека может быть не больше пользы, чем от остановившихся ходиков.
Я рискнула и, отпустив одно ее колено, коснулась ее руки. Удивительно, как быстро и яростно она ухватилась за мою руку и сдавила мне пальцы. Хоть какая-то польза, в конце концов…
— Говорите… — просвистела она сквозь зубы. — Ссстиш. Кхи.
— Так, — сказал мой отец. — Теперь мы там, где нужно.
Стишки? Каких еще стишков она от меня ждет? «Хикори-дикори-док»?
Единственное, что пришло мне в голову, — строки, которые читал мне ты. «Песня бродяги Ангуса»[57].
Огнем пылала голова, и я в орешник убежал.Я забыла, как там дальше. И не могла думать. Но что еще должно было прийти мне в голову, как не последняя строфа:
Пусть я от странствий постарел, Тебя искать я не устал. Найду и буду целовать Твой лоб, и руки, и уста.Вот так, стою и декламирую стихи перед собственным отцом, представляешь? Не знаю, что подумала она. Она закрыла глаза.
Я думала, что буду бояться смерти, потому что моя мама умерла так, в родах. Но, достигнув того болевого плато, я осознала, что и жизнь, и смерть есть понятия незначительные, неуместные, как любимые кинокартины. Я была на пределе, убежденная, что не в силах сдвинуть то, что казалось мне громадным яйцом, пылающей планетой, а вовсе не ребенком. Мы вместе застряли в пространстве и времени, и это может длиться вечность, и нет никаких причин, по которым я когда-либо должна выбраться, любое мое сопротивление подавлено, все протесты отвергнуты.
— Теперь ты мне нужна, — сказал отец. — Ты мне нужна здесь. Возьми таз.
Я держала тот самый таз, с которым видела миссис Барри. Держала, пока он выскабливал девушке матку какой-то хитроумной кухонной ложкой. (Не думаю, что это и в самом деле была ложка, но почему-то мне эта штуковина показалась чуточку обыденной на вид.)
Даже у стройной юной девушки промежность может казаться широкой и мясистой в таком распяленном, сыром состоянии. В первые дни после родов женщины в роддоме лежали небрежно, даже вызывающе, выставляя напоказ свои разрезы или разрывы, черные стежки поверх свежих ран и убогие лоскуты, и большие беспомощные бедра. То еще зрелище.
Теперь из матки плюхались куски вишневого желе и сгустки крови, и где-то среди них прятался зародыш. Как безделушка в коробке с хлопьями или приз в попкорне. Крошечный пластмассовый пупсик, ничтожный, как ноготок. Я не стала его выискивать. Я задрала голову повыше, подальше от запаха теплой крови.
— В ванную, — скомандовал отец. — Там крышка.
Он имел в виду сложенную в несколько слоев ткань, лежавшую рядом с окровавленными стержнями.
Мне не хотелось спрашивать, выливать ли это все в унитаз, я приняла как данность, что именно это он и велел. Я отнесла таз через коридор в туалет на первом этаже и вылила содержимое в унитаз, дважды спустила воду, вымыла таз и отнесла его обратно. Отец в это время уже подвязывал девушке бандаж и давал кое-какие наставления. Он хорош в этом, он знает свое дело. Но лицо его как-то потяжелело, устало обвисло. Мне показалось, что он попросил меня быть с ним рядом во время всей процедуры на тот случай, если ему станет плохо. Миссис Б., по крайней мере в старые времена, судя по всему, до последнего отсиживалась на кухне.
Он обтер бедра Маделин и велел полежать.
— Не пытайтесь вставать, полежите несколько минут, — сказал он. — Вы договорились, чтобы вас кто-то отвез?
— Он должен был ждать поблизости все время, — сказала она, — и никуда не ехать.
Отец снял халат и подошел к окну в приемной.
— Уверены? Вы правы, — сказал он. — Да, стоит. — Он издал сдавленный стон и спросил: — Где корзина с бельем? — Вспомнил, что она осталась в сверкающей комнате, где он только что работал, вернулся, положил халат в корзину и сказал мне: — Буду очень признателен, если ты сможешь тут прибраться.
«Прибраться» означало стерилизацию и полную уборку помещения. Я сказала, что смогу.
— Хорошо, — сказал он. — Теперь мы с вами попрощаемся. Доброй ночи. Моя дочь вас проводит, когда вы будете готовы.
Было отчего-то удивительно слышать, как он говорит обо мне «моя дочь», вместо того чтобы назвать меня по имени. Конечно, он и раньше так говорил. Когда приходилось знакомить меня с кем-то, к примеру. И все-таки я удивилась.
Маделин свесила ноги со стола в ту же минуту, как он вышел из кабинета. Потом ее качнуло, и я бросилась на помощь. Она сказала:
— Ничего-ничего, просто слишком резко соскочила. Куда я подевала свою юбку? Не хочется стоять тут в таком виде.
Я взяла ее юбку и трусы с крючка за дверью, и она надела их без посторонней помощи, но ее еще сильно покачивало.
— Передохните минутку, — сказала я. — Ваш муж подождет.
— Мой муж рубит лес неподалеку от Кеноры, — сказала она. — Я собираюсь туда на будущей неделе. Теперь у него есть где остановиться. Ну вот, задевала куда-то пальто, — сказала она.
Мой любимый фильм — как тебе должно быть известно, и если бы я могла об этом подумать, когда медсестра меня спросила, — это «Земляничная поляна». Помню тот замшелый кинотеатрик, где мы с тобой пересмотрели все шведские, японские, индийские и итальянские картины, помню, что он тогда только-только переключился с показа комедийных киношоу, но название его не помню. Поскольку ты преподавал философию будущим священникам, твоим любимым фильмом явно должна была быть «Седьмая печать»[58]. Но вот была ли? Скорее это было что-то японское, осталось вспомнить, что и о чем. Ну, как бы то ни было, после сеансов мы шли домой пешком, мили две, и вели пылкие беседы о любви, о самоуважении, о Боге, о вере и об отчаянии. Когда мы подходили к пансиону, где я жила, то прикусывали языки. Нам приходилось на цыпочках тихонько красться наверх по ступенькам в мою комнату.
«А-ааа», — произносил ты благодарно и удивленно, когда оказывался внутри.
Я бы очень нервничала, везя тебя сюда на прошлое Рождество, если бы наша с тобой схватка не была уже в самом разгаре. Иначе я бы слишком опекала тебя, пытаясь защитить от отца.
— Робин? Разве это мужское имя?
И ты ответил, ну да, ведь тебя так зовут. А он сделал вид, что никогда его прежде не слыхал.
Но на самом деле вы прекрасно поладили. Вы обсуждали великое противостояние между разными монашескими орденами в семнадцатом веке, так ведь? Весь сыр-бор у этих монахов разгорелся вокруг того, как им следует брить головы.
Он называл тебя «кудрявая каланча». В его устах это звучало почти как комплимент.
Когда я сказала ему по телефону, что мы с тобой все-таки не поженимся, он сказал:
— О-хо-хо… Думаешь, тебе удастся найти кого-нибудь другого?
Если бы я стала протестовать, он бы, естественно, сказал, что пошутил. Это и была шутка. Мне не удалось найти кого-нибудь другого, но, возможно, я была еще не в лучшем состоянии, чтобы пуститься на поиски.
Миссис Барри вернулась. Вернулась через три недели, хотя предполагалось, что это будет месяц. Но рабочий день ей пришлось сократить. Она так долго одевалась и хлопоты по собственному хозяйству занимали у нее столько времени, что ей не удавалось приехать (ее привозили племянник или жена племянника) к нам раньше десяти утра.
— Ваш отец плохо выглядит, — первое, что сказала она мне по возвращении.
Я считаю, она права.
— Может, ему надо отдохнуть? — сказала я.
— Слишком много людей его беспокоят, — сказала она.
Я забрала «мини» из автомастерской, деньги лежат у меня на счете. Осталось собраться и уехать. Но я все думаю о разной чепухе. Думаю: а что, если опять придет особая? Как миссис Барри ему поможет? Левой рукой она пока не может поднять ничего мало-мальски увесистого, и уж точно ей не удержать таз одной правой.
* * *
Р. Этот день. Этот день был после первого большого снегопада. Снег шел всю ночь, а поутру небо очистилось, заголубело. Ни ветерка и сумасшедшее какое-то сияние. Я вышла на раннюю прогулку под соснами. Снег просеивался сквозь сосновые ветви, сыпался отвесно вниз, сверкая, как мишура на рождественской елке или как брильянты. И шоссе, и наш переулок уже расчистили, так что отец мог поехать на машине в больницу. Или я могла поехать, куда захочу. Мимо проследовали несколько машин, в город и из города, как и в любое другое утро.
Прежде чем вернуться в дом, я задержалась проверить, заведется ли «мини», и он завелся. На пассажирском сиденье я увидела сверток. Это была двухфунтовая коробка шоколада, из тех, что продаются в аптеке. Я не подумала о том, как она туда попала, мне было интересно, не подарок ли это от того молодого человека из Исторического общества. Мысль дурацкая, но от кого же тогда?
Потопав ногами у задней двери, я стряхнула снег с сапог и сама себе напомнила, что надо вынести сюда веник. Кухню заливали потоки дневного света.
Знаю, подумала я, что отец сейчас скажет: «Ходила созерцать природу?»
Он сидел за столом в пальто и шапке. Обычно в это время он уже осматривает пациентов в больнице.
— Ну что, дорогу-то почистили уже? — спросил он. — А переулок?
Я ответила, что и там и там отскребли дочиста. Он мог бы увидеть в окно, что переулок почищен. Я поставила чайник и спросила, не хочет ли он еще чашку кофе перед уходом.
— Хорошо, — сказал он. — Лишь бы почистили так, чтобы я мог выехать.
— Что за денек! — сказала я.
— Отличный, если только самому не приходится себя откапывать.
Я сделала две чашки растворимого кофе и поставила на стол, и села лицом к окну, к бьющемуся в кухню свету. Отец сидел на другом конце стола, отодвинув стул так, что оказался спиной к свету, и я не различала выражение его лица, но его дыхание, как обычно, составило мне компанию. Я начала рассказывать отцу о себе. Вообще-то, я даже не собиралась. У меня была мысль поговорить об отъезде. Но я открыла рот, и все, что появлялось оттуда, я слышала, испытывая разочарование пополам с удовлетворением, — так слышатся вещи, которые изрекаешь спьяну.
— Знаешь, а я ведь родила ребенка, — сказала я. — Семнадцатого июля. В Оттаве. Я все думаю: какая ирония судьбы.
Я рассказала отцу, что ребенка сразу же усыновили и я даже не знаю, мальчик это или девочка. Сама же и попросила не говорить. И не показывать мне его.
— Я жила у Джози, — сказала я. — Помнишь, я рассказывала тебе о моей подруге Джози. Теперь она в Англии, а тогда жила совершенно одна в родительском доме. Ее родители уехали по работе в Южную Африку. Это был подарок судьбы.
Я рассказала ему, кто отец ребенка. Сказала, что это ты, если ему интересно. И что раз мы были уже помолвлены, и даже помолвлены официально, то я считала, что нам нужно только пожениться. Но ты думал иначе. Ты сказал, что мы должны найти доктора. Доктора, который сделает мне аборт.
Отец не напомнил, что мне не следует употреблять это слово в его доме. Я рассказала ему, как ты заявил, что мы не можем теперь просто взять и пожениться, поскольку любой, умеющий считать, поймет, что я забеременела до свадьбы. Мы не можем пожениться, пока я совершенно определенно не перестану быть беременной.
Иначе ты можешь потерять работу в Теологическом колледже. Тебя могут вызвать на комиссию, которая признает тебя морально непригодным. Морально непригодным для этой работы — обучения будущих священников. Тебя могут осудить, испортить тебе репутацию. И даже если предположить, что этого бы не произошло, ты не потерял бы работу, а отделался бы выговором или даже не получил бы никаких взысканий, все равно тебя никогда бы не повысили, в твоем личном деле осталось бы нестираемое пятно. Даже если никто и слова не сказал бы, у них был бы на тебя компромат, а это для тебя невыносимо. Все новые студенты будут знать о тебе от студентов прежних, о тебе будут зубоскалить. Коллеги получат возможность смотреть на тебя свысока. Или сочувственно, что не намного лучше. Ты будешь человеком, которого станут тихо и не очень тихо презирать — одним словом, неудачником.
Конечно же нет, такого не будет, говорю я.
Будет. Никогда не стоит недооценивать человеческую подлость. И для меня тоже, это может иметь убийственные последствия. Жены всегда начеку, жены профессоров постарше. Они никогда не дадут мне забыть. Даже если будут добры, особенно если будут.
Но ведь мы можем взять и уехать куда-нибудь, говорю я. Где никто ничего не будет знать.
Они узнают! Кто-нибудь всегда позаботится о том, чтобы люди узнали. К тому же это значит, что ты снова должен начать все с нуля. Тебе придется начать с более низкого жалованья, ничтожного жалованья, а как же мы сможем содержать ребенка в таком случае?
Этот довод ошеломил меня, казалось, он совершенно не вяжется с мыслями человека, которого я любила. С книгами, которые он читал, с фильмами, которые он смотрел, с теми вещами, о которых он говорил, — и я спросила, неужели это для тебя ничего не значило?
Ты сказал — да, но такова жизнь. Я спросила, неужели ты тот, кто не может вынести насмешек, кто испугается кучки профессорских жен?
Ты ответил: это не так, совершенно не так.
Я швырнула брильянтовое обручальное кольцо, и оно укатилось под стоящую на обочине машину. Мы спорили, бродя по улице неподалеку от пансиона, где я жила. Была зима, как сейчас. Январь или февраль. Но битва наша на этом не закончилась. Предполагалось, что я найду врача через подругу, у которой была подруга, которая, по слухам, однажды уже делала аборт. Я сдалась. Пообещала сделать это. Ты не мог даже рискнуть и самостоятельно поспрашивать. А потом я солгала, сказала, что доктор переехал. Потом я призналась, что солгала. Я не могу это сделать, сказала я.
Думаешь, это было ради ребенка? Ничего подобного! Все потому, что я верила: я права в этом споре.
Я чувствовала глубокое презрение. Я презирала тебя, ползающего под машиной у обочины, презирала фалды твоего пальто, хлопавшие тебя по заднице. Ты рылся в снегу, отыскивая кольцо, и испытал такое облегчение, когда нашел его, что был готов обнять меня и посмеяться надо мной, думая, что я тоже успокоилась и мы тут же помиримся. Я сказала тебе, что ты никогда в жизни не совершишь ничего достойного.
— Лицемер, — сказала я. — Слюнтяй. Учителишка философии.
Но и это был не конец. Потому что мы и в самом деле помирились. Но не простили друг друга. И ничего не предпринимали. И стало уже слишком поздно, и мы поняли, что каждый из нас слишком много вложил в борьбу за свою правоту, и разошлись, и вот тогда настало облегчение. Да, в то время, я уверена, это было облегчением для нас обоих и своего рода победой.
— Ну не смешно ли? — сказала я отцу. — Если поразмыслить?
Я услышала, как миссис Барри топочет на крыльце, стряхивая снег с обуви, так что договаривала уже второпях. Отец сидел все это время неподвижно, застыв, как мне показалось, не то от смущения, не то от глубокого отвращения.
Открывая дверь, миссис Барри говорила:
— Надо обязательно выставить веник снаружи… — А потом вдруг вскрикнула: — Что это вы тут сидите? Что с тобой такое? Разве не видишь: человек умер!
Он не умер. На самом деле он дышал так же шумно, как всегда, и, пожалуй, даже громче. Она увидела, и я увидела бы, даже против света, если бы не избегала смотреть на него, пока рассказывала свою повесть, что у отца только что случился инсульт, ослепивший и парализовавший его. Он сидел чуть наклонившись, стол вдавился в его объемистый живот. Когда мы попытались поднять отца со стула, нам удалось только сдвинуть его, так что отцовская голова с величавой неохотой опустилась на стол. Шляпа осталась на нем. И чашка осталась стоять на месте, в двух-трех дюймах от его невидящих глаз. И кофе по-прежнему осталось в ней примерно до половины.
Я сказала, что мы с ним не справимся, он слишком грузный. По телефону я позвонила в больницу и попросила приехать кого-то из тамошних докторов. В городе тогда еще не было скорой помощи.
Миссис Б. не обращала никакого внимания на мои слова, она продолжала тянуть отца за одежду, дергала пальто, вырывая с мясом пуговицы, кряхтя и поскуливая от натуги. Бросив дверь открытой, я выбежала в переулок, вбежала обратно, схватила веник и выставила его за дверь. Потом вернулась, взяла миссис Б. за руку выше локтя и сказала что-то вроде «вы не сможете», а она зыркнула на меня, как ощетинившаяся кошка.
Приехал доктор. Вместе с ним нам удалось дотащить отца до машины и втиснуть на заднее сиденье. Я села с ним рядом и держала его всю дорогу, чтобы он не упал. Звук его дыхания стал еще более безапелляционным, чем обычно, казалось, он осуждает все, что мы делаем. Но то, что теперь можно обхватить его вот так, помыкать им, ворочать его тело, было для меня ужасно странно.
Миссис Б. отступила и притихла, стоило появиться другому доктору. Она даже не вышла из дома, чтобы посмотреть, как мы грузим отца в машину. К вечеру он умер. Где-то около пяти. Мне сказали, что это к лучшему для всех заинтересованных лиц.
Мне столько еще нужно было сказать отцу, когда явилась миссис Б. Я собиралась сказать ему: а что, если закон изменится? Закон может вскоре измениться — вот что собиралась я сказать. Может, и нет, но вдруг — да? Тогда он остался бы не у дел. Имело бы это для него значение?
Какого я ждала ответа?
— Ну, насчет «не у дел» — это не твое дело.
Или:
— Я все еще в состоянии заработать на жизнь.
— Нет, — сказала бы я, — я не о деньгах. Я имею в виду риск. Тайны. Власть. Измени закон, измени человеческие поступки, измени самого человека?
А может, он нашел бы еще какое-нибудь рискованное дело, чтобы усложнить себе жизнь, еще какой-нибудь тайный и противоречивый акт милосердия?
Но если может измениться закон, значит и все остальное может измениться. Я теперь думаю о тебе: как бы все было, если бы ты не стыдился женитьбы на беременной? Если бы нечего тут было стыдиться? Пройдет несколько лет, всего несколько лет, и это станет праздником. Нарядную беременную невесту поведут к алтарю, пусть даже и в церкви при Теологическом колледже.
Впрочем, если это произойдет, скорее всего, найдется что-то еще, чего нужно стыдиться или бояться, найдутся другие ошибки, которых придется избегать.
А я-то что же? Неужели мне всегда придется задирать планку? Смаковать моральное превосходство, возвышаться, чувствовать свою правоту, которая вынудит меня выставить напоказ мои утраты.
Измени человека. Все мы говорим, что надеемся на это.
Измени закон, измени человека. И все-таки нам не хочется, чтобы нами постоянно командовали извне, не всегда нам этого хочется. Мы не хотим, чтобы нас — нас всех — состряпали таким макаром.
Кто эти «мы», о ком это я?
Отцовский юрист говорит:
— Это очень необычно.
Как я понимаю, для него это очень сильное, весомое слово.
На отцовском счете денег ровно столько, чтобы покрыть похоронные расходы. Достаточно, чтобы поставить на нем крест. (Это я так говорю, не адвокат, он так не выражается.) Но больше ничего. Ни фондовых сертификатов, ни банковской ячейки. И никаких сведений об инвестициях. Ничего. Ничего не завещано ни больнице, ни церкви, ни старшей школе, дабы учредить стипендию. Самое поразительное — он ничего не оставил миссис Барри. Дом со всем имуществом — мой. И это все. И еще те мои пять тысяч долларов.
Юрист явно растерян, он ужасно обескуражен и встревожен таким поворотом. Наверное, он думает, что я его подозреваю в недобросовестном исполнении обязанностей. Пытаюсь очернить его. Он интересуется, нет ли в моем (отцовском) доме сейфа или тайника, где может храниться большая сумма наличных. Я говорю, что нет. Он пытается предположить — очень осторожно и окольным путем, — что я не совсем понимаю, о чем речь, что, наверное, у отца были причины держать свои накопления в секрете. Большая сумма наличных, спрятанная где-нибудь в укромном месте, — такое вполне вероятно.
Я сказала, что деньги меня совершенно не волнуют.
Нашла что сказать. Он не может смотреть мне в глаза.
— Вот вы придите домой и хорошенько поищите, — говорит он. — Не оставляйте без внимания очевидное. Деньги могут оказаться в банке из-под печенья. Или в коробке под кроватью. Удивительно, в какие места люди иногда прячут. Даже самые рассудительные и умные. Или в наволочке, — говорит он, когда я уже выхожу за дверь.
Женщина на том конце провода хочет поговорить с доктором.
— Мне очень жаль, — говорю я, — он умер.
— Доктор Стракен? Я ведь его номер набрала?
— Да, но он умер, мне очень жаль.
— А кто-нибудь… а у него нет, случайно, партнера, с которым я могла бы поговорить? Кто-то другой же есть?
— Нет. У него нет партнера.
— А не могли бы вы дать мне какой-нибудь другой номер? Может быть, есть какой-то другой врач, которому я могла бы…
— Нет, я не знаю другого номера. И не знаю никого другого.
— Вы, наверное, понимаете, о чем речь. Это очень срочно. Особые обстоятельства…
— Извините…
— Если дело в деньгах, то деньги — не проблема.
— Нет.
— Пожалуйста, подумайте. Если вы вспомните кого-нибудь позже, можете мне позвонить? Давайте я оставлю мой номер?
— Вам не стоит этого делать.
— Мне все равно. Я вам доверяю. Все равно это не для меня. Я знаю, что все так говорят, но это на самом деле правда. Это для моей дочери, она в очень тяжелом состоянии. В тяжелом психическом состоянии.
— Мне жаль.
— Если бы вы знали, на что я пошла, чтобы добыть этот номер, вы бы попытались мне помочь!
— Простите.
— Прошу вас!
— Мне жаль.
Маделин стала его последней «особой пациенткой». Я увидела ее на похоронах. Она не уехала в Кенору. Или уже вернулась оттуда. Сначала я не узнала ее, потому что на ней была широкополая черная шляпа с горизонтальным пером. Видимо, она взяла эту шляпу взаймы — никак не могла привыкнуть к перу, свисавшему ей на глаза. Она заговорила со мной, стоя среди пришедших на поминки в холле церкви. Я ответила ей то же, что и всем:
— Спасибо, что пришли.
А потом до меня дошло, что она сказала нечто странное:
— Я просто подумала — да не может быть, чтобы вы сладкого не любили.
— Возможно, он не всегда выписывал счета, — говорю я юристу. — Может, он иногда работал бесплатно. Некоторые так поступают, занимаясь благотворительностью.
Юрист уже потихоньку начал привыкать ко мне.
— Может быть, — говорит он.
— Или собственно пожертвования, — говорю я. — Пожертвования, которые он делал, ничего не записывая.
Юрист с минуту пристально смотрит мне в глаза.
— Пожертвования, — повторяет он.
— Ну… Вообще-то, я еще не вскрывала пол в подвале, — говорю я, и он криво улыбается моему легкомыслию.
Миссис Барри официально не увольнялась. Она просто не казала носа. Да и делать-то ничего особенного ей не нужно было, потому что похоронная служба проходила в церкви, а поминки в церковном холле. Она не пришла и на похороны. Никто из ее семейства не появился. Пришло так много людей, что я бы и не заметила, если бы кто-то мне не сказал: «Что-то я не вижу никого из семейства Барри, а вы?»
Я позвонила ей несколько дней спустя, и она сказала:
— Я не пришла на похороны, потому что у меня была очень тяжелая простуда.
Я сказала, что звоню не поэтому. Я сказала, что справилась и все прошло довольно хорошо, но хотелось бы, мол, знать, какие у нее планы.
— О, ну я не вижу необходимости возвращаться теперь.
Я сказала, что она должна прийти и взять из дома что-нибудь себе, на память. К тому времени я уже знала о деньгах и хотела сказать ей, что мне из-за этого неловко. Но не могла подобрать слов.
— Я кое-что оставила у вас, — сказала она. — Приеду и заберу, когда смогу.
И приехала на следующее утро. Оказалось, что забрать она думает швабры, щетки, ведра и бельевую корзину. Было трудно поверить, что ее заботят вполне заменяемые вещи. И трудно поверить, что она забирает их из сентиментальных побуждений, но, может, так оно и было. Этими вещами она пользовалась долгие годы — все годы в этом доме, где она провела больше дневных часов, чем в собственном.
— А еще что-нибудь? — спросила я. — На память?
Она оглядела кухню, пожевывая нижнюю губу. Наверное, так она зажевывала улыбку.
— Думаю, тут больше нет ничего, что мне пригодилось бы.
У меня был наготове чек для нее. Надо было только вписать сумму. Я не могла решить, сколько из пяти тысяч отдать ей. Тысячу? Так я думала. Теперь же сумма показалась мне позорной. Лучше две, решила я.
Я достала чековую книжку, спрятанную мной в ящик стола. Нашла ручку. Вписала четыре тысячи долларов.
— Это вам, — сказала я, — и спасибо за все.
Она взяла чек, мельком взглянула на него и положила в карман. Я подумала, что она, наверное, не смогла разобрать, сколько там. А потом я увидела темный румянец, прилив смущенной, скованной благодарности.
Она ухитрилась ухватить все свое добро одной здоровой рукой. Я открыла ей дверь. Мне очень хотелось сказать ей еще что-нибудь, и я чуть не брякнула: «Извините, что так мало».
Вместо этого я спросила:
— Ваш локоть уже лучше?
— Лучше он уже не будет никогда, — сказала она и пригнула голову, словно опасаясь очередных моих поцелуев. — Ну-большое-спасибо-до-свидания.
Я провожала ее взглядом, пока она шла к машине. Наверное, ее привезла сюда жена племянника?
Но это была не та машина, которую обычно водила племянникова жена. У меня мелькнула мысль, что у миссис Б. появился новый работодатель. Несмотря на больную руку. Новый и богатый наниматель. Вот откуда ее поспешность, ее чуднóе смущение.
Но все-таки именно жена племянника вышла из машины, чтобы помочь миссис Б. с вещами. Я помахала ей, но она была слишком увлечена укладыванием метелок и ведер.
— Шикарная машина! — крикнула я, мне казалось, что обе они оценят такой комплимент.
Я не знала, какой эта машина марки, но была она сверкающей, большой и роскошной. Серебристо-сиреневого цвета.
— О да! — отозвалась жена племянника.
И миссис Барри признательно потупилась.
Дрожа в домашней одежде, терзаясь недоумением и угрызениями совести, я стояла на крыльце и махала вслед удаляющейся машине.
После этого я ничего не могла делать, слишком распереживавшись. Сварила себе кофе и сидела на кухне. Извлекла из ящика шоколадные конфеты Маделин и съела парочку, хотя такое сладкое не больно-то и любила, с химической крашеной начинкой — желтой и оранжевой. Жаль, что я не поблагодарила Маделин. А теперь уже и не смогу — я даже фамилии ее не знала.
Я решила покататься на лыжах. Уверена, я рассказывала тебе, что у нас позади дома есть гравийные карьеры. Я надела старые деревянные лыжи, которые раньше служили отцу средством передвижения в те далекие зимы, когда проселочные дороги еще не чистили от снега. На них он отправлялся прямиком через поля, чтобы принять роды или удалить аппендикс. На лыжах было только два поперечных ремешка, державших ноги. Я покатила к карьерам, склоны которых с годами поросли травой и в придачу покрылись сейчас густым снегом. Следы собак, птичий след, едва заметные круги, оставленные бегущей стремглав полевкой, но никаких признаков человека. Я съезжала и взбиралась на гору, вниз-вверх, вниз-вверх, поначалу осторожно, по диагонали, а потом перешла к более крутым спускам. И все время падала, но падала мягко, в свежевыпавший густой снег, и вот, когда я шлепнулась в очередной раз, за миг то того, как вскочить на ноги, меня вдруг осенило, что я знаю. Знаю, куда девались деньги.
Благотворительность, наверное…
Шикарная машина…
И четыре тысячи долларов из пяти.
С той самой минуты я счастлива. Было такое ощущение, будто на моих глазах деньги швырнули с моста или просто подбросили высоко-высоко в воздух. Деньги, надежды, письма любви — все это можно подбросить высоко-высоко, а когда они упадут, то изменятся, вернутся, наполненные светом и лишенные контекста.
Я не могла себе представить только одного — чтобы отец прогнулся перед какими-то шантажистами. Особенно перед настолько глупыми и неуклюжими. Особенно в этом городе, который, казалось, весь был на его стороне или, по крайней мере, на стороне молчания. Зато я могла, вполне могла представить расточительный широкий жест. Отец будто предвосхищал претензии — или просто демонстрировал, что ему все равно. Предвкушал и потрясение юриста, и мои теперешние бесплодные попытки постичь, как же все было на самом деле.
Нет, не думаю, что этого он хотел. Не думаю, что мне удалось так уж глубоко проникнуть в его мысли. Не так глубоко, как мне хотелось бы верить.
Я стараюсь не думать о том, что он сделал это ради любви.
Ради любви, значит… Не исключено.
Я выбралась из карьера и едва выехала на поле, как на меня напал ветер. Ветер заметал следы собачьих лап на снегу, и еле заметные цепочки мышиных следов, и две дорожки, которые, наверное, в последний раз проложили отцовские лыжи.
Милый Р., Робин, что же мне сказать тебе на прощание?
До свидания, будь счастлив.
Шлю тебе мою любовь.
(А что, если бы люди и вправду так делали: прилагали любовь к письму, чтобы избавиться от нее? Что они могли бы послать? Коробку шоколадных конфет с начинкой, похожей на желтки индюшиных яиц. Чумазую куклу с пустыми глазницами. Охапку роз, благоухающих тленом. Сверток в окровавленной газете, который никто не захочет развернуть.)
Береги себя и помни:
Нынешний король Франции — лыс как колено.
Мамин сон
Всю ночь — то есть все то время, пока она спала, — валил густой снег.
Мама выглянула в большое арочное окно — из тех, какие встретишь в старинных особняках или присутственных местах прежних времен. Она смотрела на лужайки, кустарник, изгороди, цветники, деревья, сплошь укрытые снегом, лежавшим будто ворох подушек, который ветер не решился взбить или пригладить. Белизна не резала глаз, как при ярком солнце. Белизна снега под ясным небом за миг до рассвета. И все было неподвижно и спокойно, что твой «О малый город Вифлеем»[59], вот только звезды уже погасли.
Но все-таки что-то было не так. Какой-то изъян крылся в этом пейзаже. Все деревья, все кусты и ростки буяли летней листвой, а под ними, на бесснежных прогалинах, зеленела свежая трава. За одну ночь роскошь лета утонула в снегу. Смена времени года — негаданная и необъяснимая. И все ушли куда-то, хотя мама не могла припомнить, кто такие эти «все», оставившие маму одну-одинешеньку в этом богатом просторном доме, в окружении чопорных деревьев и цветочных клумб.
Мама подумала: если что-то и случилось, то ей скоро об этом сообщат. Однако никто не приходил. Телефон не звонил, и щеколда на садовой калитке была опущена. Не было слышно дорожного шума, маме было невдомек даже, что это за улица — или что это за дорога, если дом стоит за городом. Надо было выбраться наружу из этого дома, из его тяжкой, затхлой атмосферы.
А выйдя, мама вспомнила. Вспомнила, что где-то здесь она оставила младенца, оставила еще до снегопада. Прямо перед снегопадом. Это воспоминание, этот несомненный факт окатил ее волной ужаса. Она будто пробудилась ото сна. Проснулась во сне, осознав свою ответственность и оплошность. Она на всю ночь оставила свою деточку, она забыла об этом. Бросила где-то свое беззащитное дитя, забыла, словно надоевшую куклу.
А может, и не вчера это было, а неделя или месяц прошел с тех пор, как она сотворила такое. Может, минувшей весной, а может, много весен тому она забыла свое дитя. И занялась чем-то другим. Может, даже уехала в путешествие, а теперь вернулась, сама не помня зачем.
Мама прошла по саду, заглядывая под живую изгородь и под широкие листья растений. Она представляла себе ссохшееся детское тельце. Мертвое, сморщенное и коричневое, головка словно орех, а на крошечном личике застыло выражение — не страдания, нет, а лишь утраты, старческой кроткой скорби. И ни малейшего упрека ей — его матери, — лишь терпение и беззащитность ребенка, ждавшего спасения или гибели.
Горе, охватившее маму, было горем детского ожидания, горем незнания того, что дитя ждет ее, свою единственную надежду, забывшую о нем напрочь. Такое маленькое, новорожденное дитя даже не могло само отвернуться от снега. Мама задыхалась от горя. И ни для чего больше не осталось в ней места. Ни для чего, кроме осознания, что же она натворила.
И какое же облегчение она испытала, когда оказалось, что ее дитя мирно спит в колыбельке. Младенец лежал на животике, головка повернута набок, щечка бледная и нежная, как подснежник в рассветном солнце рыженьких волос. Ни с кем не спутаешь это безмятежно спящее дитя с такими же, как у матери, рыжими волосами. Какое счастье знать, что ты прощена!
И снег, и зеленый сад в листве, и странный дом — все исчезло. Единственным островком белизны осталось одеяло в колыбельке. Детское одеяльце из тонкой белой шерсти, до половины прикрывавшее спинку малышки. В такую жару — настоящую летнюю жару — на ней был только подгузник и клеенчатые штанишки, чтобы не промочить простынки. Штанишки с рисунком «в бабочку».
Мама, все еще помнящая о снеге и о холоде, который обычно ходит со снегом об руку, накрыла одеяльцем голенькую спинку и плечи, и рыжие волосики.
Все это происходит ранним утром, в реальном мире. В мире июля 1945 года. Вместо того чтобы, как обычно в это утреннее время, требовать первого кормления, дочка спит. А мама, хоть и стоит у нее в ногах с широко открытыми глазами, по-прежнему погружена в глубокий сон и не удивляется этому. Мать и дитя измотаны долгой битвой, но сейчас мать даже об этом забыла. Некие круги замкнулись, неумолимое спокойствие окутало ее сознание и сознание ее ребенка. Мать — моя мама — не чувствует, как дневной свет разрастается вокруг нее с каждым мигом. Она не понимает, что солнце восходит, пока она здесь стоит. Ни воспоминаний о вчерашнем дне, ни о том, что происходило около полуночи, — ничего, что могло бы ее встряхнуть. Мама накрывает одеяльцем дочкину головку, прикрывает ее нежный, удовлетворенный, сонный профиль. Неслышными шагами она возвращается к себе в комнату и падает на кровать, и снова мгновенно проваливается в беспамятство.
Дом, в котором это происходит, не похож на дом из маминого сна. Это белый деревянный дом с мезонином, покосившийся, но почтенный, с крыльцом, на несколько футов выступающим на дорожку, и эркером в гостиной, глядящим на дворик за живой изгородью. Дом стоит на задворках маленького городишки, неотличимого — для чужака — от множества других маленьких городишек на десять-пятнадцать миль вокруг в этой некогда густонаселенной сельской местности неподалеку от озера Гурон. В этом доме выросли мой отец и его сестры; и сестры, и мать жили в нем и тогда, когда к ним присоединилась моя мама — и я тоже присоединилась, вольготно кувыркаясь внутри нее, — после того, как мой отец погиб в Европе в последние недели войны.
Моя мама — Джилл — стоит у обеденного стола в гостиной в солнечный день после полудня. Дом полон людей, пришедших прямо с поминальной службы в церкви. Они пьют кто чай, кто кофе, умудряясь держать двумя пальцами крохотные бутерброды, ломтики бананового хлеба, ореховой булки и кусочки сдобного пирога. Рассыпчатые пирожные с заварным кремом и кексы с изюмом полагается есть десертными вилками с маленьких фарфоровых блюдец, собственноручно расписанных фиалками свекровью Джилл, когда та ходила в невестах. Джилл все ест руками. Рассыпчатое тесто крошится, изюминки сыплются, марая зеленый бархат ее платья. Слишком теплое платье, чтобы носить его днем, да и вообще это не платье для беременных — просто свободный балахон, концертный наряд, пошитый для тех случаев, когда ей нужно играть на скрипке перед публикой. Из-за меня подол платья приподнялся спереди. Но это единственная достаточно широкая вещь, которая есть у мамы, чтобы надеть на поминки по мужу.
И что за жор на нее напал? Люди не могут не заметить. «Ест за двоих», — говорит Эйлса группе гостей, так что теперь никому ее не переплюнуть, что бы кто ни сказал о ее невестке.
Джилл тошнило весь день, пока внезапно в церкви, раздумывая о том, до чего же плох оргáн, она ни с того ни с сего не ощутила волчий голод. Пока звучал гимн «Кто сердцем храбр»[60], она мечтала о пухлом гамбургере, истекающем мясным соусом и подтаявшим майонезом, а теперь пытается выяснить, как стряпня из лесных орехов, изюма и коричневого сахара, приторная сладость кокосовой стружки, от которой сводит зубы, и утешительные куски банановых хлебцев или солидные порции заварного крема справятся с тем, чтобы его заменить. Не тут-то было, конечно, но Джилл не унимается. Когда истинный голод утолен, голод воображаемый продолжает свое черное дело, более того, появляется раздражительность на грани паники, заставляющая ее запихивать в рот еду, уже почти не чувствуя вкуса. Джилл не смогла бы описать эту раздражительность, разве что сказать, что она как-то связана с ворсистостью и теснотой. Барбарисовая изгородь за окном, густая и ощетинившаяся на солнце, это бархатное платье, липнущее к потным подмышкам, эти бутоньерки из кучеряшек того же цвета, что изюм в кексах, собранные в пучки на голове ее золовки Эйлсы, и даже нарисованные фиалки, похожие на струпья, которые, не ровен час, сковырнешь с блюдца, — все это кажется ей особенно жутким и гнетущим, хотя она и знает, что эти вещи весьма обыденны. Кажется, что они шлют ей некую весть о ее новой и неожиданной жизни.
Почему неожиданной? Она уже некоторое время знает обо мне, и еще она знала, что Джорджа Киркема могут убить. Он ведь был военным летчиком. (И вокруг нее в доме Киркемов весь вечер люди говорят, хоть и не ей и не его сестрам, что Джордж был из тех, о которых всегда знаешь — он не жилец. Они так считали, потому что он был красивый, веселый и храбрый, гордость семьи, ее главная надежда.) Джилл знала это, но вела свою обычную жизнь: втискивалась со скрипкой в трамвай хмурым зимним утром, доезжала до консерватории и занималась там часами, слыша игру других, и все же в одиночестве, в неопрятном классе под аккомпанемент гудящего радиатора. Кожа на руках у нее сначала покрывалась цыпками от холода, а потом пересыхала от жаркого воздуха в классе. Она так и жила в съемной комнате с плохо пригнанными рамами, сквозь которые летом проникали мухи, а зимой подоконник припорашивало снегом, мечтая — когда ее не тошнило — о сосисках и мясных пирогах и о темных кусках шоколадного лома. Консерваторский люд относился к ее беременности с большим тактом, будто это была какая-то опухоль. Ее долго вообще не было заметно, как обычно незаметна первая беременность у крупных девушек с широким тазом. Мама выступала на публике, даже когда я уже вовсю кувыркалась у нее в животе. Дородная и величавая, с копной рыжих волос, рассыпавшихся по плечам и обрамляющих блестящее крупное лицо — лицо, на котором застыло выражение печальной сосредоточенности, — она играла соло в самом важном выступлении за всю ее консерваторскую жизнь. Мама играла скрипичный концерт Мендельсона.
Она не совсем оторвалась от мира — мама знала, что война идет к концу. И думала, что Джордж должен вернуться вскоре после моего рождения. Она знала, что не сможет остаться жить в прежней комнате, — ей придется поселиться где-то вместе с мужем. Знала, что там буду и я, но думала о моем рождении скорее как о конце чего-то, а вовсе не о начале. Конец бесконечным тычкам в одно и то же наболевшее место сбоку живота, конец боли в гениталиях, когда стоишь, конец приливам крови к ним (как будто внутрь засунули горячую припарку). Соски больше не будут набрякшими, темными и шишковатыми, и больше не придется каждое божье утро обматывать эластичными бинтами покрытые сеткой распухших вен ноги, перед тем как встать с постели. Не придется бегать по-маленькому каждые полчаса, и отекшие ступни уменьшатся до нормальных размеров и станут влезать в туфли. Стоит только мне родиться — и я перестану так сильно досаждать ей.
Узнав о том, что Джордж не вернется, она какое-то время подумывала остаться со мной в своем прежнем жилище. Запаслась книжками о младенцах. Купила самое необходимое для меня. В том же доме жила одна старушка, которая могла бы присматривать за мной, пока мама будет заниматься. Через полгода Джилл получит пенсию вдовы военнослужащего и через те же полгода закончит консерваторию.
А потом поездом приехала Эйлса и забрала ее.
— Мы не можем бросить тебя одну, — сказала Эйлса. — Все и так спрашивают, почему ты не перебралась к нам, когда Джордж ушел воевать. Так что поехали.
— Вся моя семейка чокнутая, — так Джордж сказал однажды Джилл. — У Айоны нервишки пошаливают, Эйлса — прирожденный сержант-майор. А мама впадает в маразм.
И еще он говорил:
— Эйлсе достались мозги, но ей пришлось бросить учебу и пойти работать на почту, когда умер отец. Мне досталась внешность, а для бедняжки Айоны не осталось ничего, кроме плохой кожи и раздерганных нервов.
Впервые Джилл увидела сестер Джорджа, когда те приехали в Торонто на его проводы. Они не были на свадьбе, состоявшейся за две недели до этого. Никого на ней не было, кроме Джорджа, Джилл, священника, жены священника и соседа, которого позвали вторым свидетелем. Там присутствовала и я, уже запрятанная в животе Джилл, однако не я была причиной этой свадьбы, и на то время никто не подозревал о моем существовании. После Джордж настоял на том, чтобы посидеть с каменными лицами в фотографической будке «сделай сам» и снять свадебные фото. Джордж так и лучился неуемным весельем. «Это их образумит», — сказал он, разглядывая карточки. Джилл терялась в догадках, кого же именно он собирается образумить. Эйлсу? Или тех красоток, милашек и нахалок, что ухлестывали за ним, писали ему сентиментальные письма и вязали ему носки с ромбиками? Он носил эти носки при всякой возможности, прикарманивал подарки и зачитывал письма вслух в баре — для смеха. В день свадьбы Джилл не смогла съесть ни крошки на завтрак и в самый разгар церемонии неотвязно думала о блинчиках и беконе.
Сестры выглядели куда более нормальными, чем она представляла себе. Правда, Джорджу и в самом деле досталась вся семейная красота. И волнистые светло-русые волосы, и радостный блеск в глазах, и точеные черты лица, всем на зависть. Одна беда — Джордж был весьма невысок. Росту хватало, как раз чтобы смотреть Джилл в глаза. И чтобы стать военным летчиком. «Пилот и не должен быть особо рослым, — сказал он. — Вот тут я их побил. Верзил этих. В кино полно невысоких парней. Даже на ящик взбираются, когда целуются». (В кино Джордж был не прочь похулиганить. Мог запросто освистать сцену с поцелуем. И в жизни не любил целоваться. «Давай-ка перейдем к делу», — говорил.)
Сестры тоже были невелички. Их назвали в честь тех мест в Шотландии, где мать и отец провели медовый месяц, еще до того, как семья разорилась. Эйлса была на двенадцать лет старше Джорджа, Айона — на девять. В толпе на вокзале они смотрелись как две растерянные кубышки. Обе нарядились в новые шляпки и новые костюмы, будто именно они — новобрачные. И обе ужасно расстроились, потому что Айона забыла в вагоне свои парадно-выходные перчатки. Да, кожа у Айоны и в самом деле была не ахти, но хотя бы не воспаленная, — наверное, угри как раз зажили. Лицо в старых оспинах выглядело неопрятно под слоем розовой пудры. Прядки волос выбились из-под шляпки и свисали понурыми сосульками, а глаза были на мокром месте — то ли потому, что Эйлса устроила ей нагоняй, то ли потому, что брат уходит на войну. Прическа Эйлсы представляла собой пучки тугих перманентных кудряшек, поверх которых громоздилась шляпка. Проницательные блеклые глаза смотрели из-за блестящих стекол очков в тонкой оправе. Щеки у Эйлсы были розовые, на подбородке — ямочка. Обе сестры были ладно скроены — высокая грудь, тонкая талия, широкие округлые бедра. Но казалось, что Айоне хорошая фигура досталась по недоразумению и она изо всех сил старается спрятать ее, сутулясь и скрещивая руки. Эйлса же несла свои формы с достоинством, без всякого кокетства, как будто ее сотворили из обожженной керамики. И у обеих были Джорджевы светло-русые волосы, правда, не такие сияющие, как у него. Его чувства юмора они также не разделяли, по всей видимости.
— Ну вот, ухожу я, — сказал Джордж. — Ухожу, чтобы сгинуть в битве при Пашендале.
И Айона взмолилась:
— Ой, не говори, не говори так!
А Эйлса поджала малиновые губы.
— Я вижу вывеску бюро находок, — произнесла она. — Вот только не знаю, то ли там вещи, потерянные на станции, то ли те, что забыты в поездах. Пашендаль был в Первую мировую.
— Да неужто? Ты уверена? Как же я опоздал! — сказал Джордж, бия себя кулаком в грудь.
И он сгорел два месяца спустя во время тренировочного полета над Ирландским морем.
* * *
Эйлса все время улыбалась. Она говорила так:
— Ну, я горжусь этим. Да, горжусь. Но ведь не только я потеряла близкого человека. Он исполнил свой долг.
Одних шокировал ее задор. Но другие ее жалели:
— Бедная Эйлса. Всем пожертвовала ради Джорджа, ради того, чтобы отправить его в юридический, а он все это зачеркнул, взял и записался добровольцем. Ушел и погиб. Никак не мог дождаться.
Сестры пожертвовали собственной учебой. Ради него они даже зубы не выровняли. Это тоже была их жертва. Айону взяли в школу медсестер, но оказалось, что с выпрямленными зубами она смогла бы устроиться получше. Теперь они с Эйлсой получили своего героя. Никто не усомнится в нем — в герое. Молодежь нынче думает, что это что-то да значит — герой в семье. Они думают, что важность этого момента продлится вечно, как вечно он останется с Эйлсой и Айоной. «Кто сердцем храбр» будет реять над ними вечно. Люди постарше, кто помнит прошлую войну, знают: сестрам досталось лишь имя на надгробной плите. Потому что только вдова, вон та девушка, что уплетает за обе щеки, получит пенсию.
Эйлса была на взводе отчасти еще и потому, что два вечера подряд неутомимо прибиралась. Нет, дом был достаточно чист и до этого. Но все равно ей было необходимо вымыть до блеска каждое блюдо, каждый горшок, каждую безделушку, отполировать стекло на каждой картине, отодвинуть холодильник и вымыть за ним, отдраить лестницу, ведущую в погреб, налить отбеливателя в мусорное ведро. Люстру над столом в гостиной нужно было снять, разобрать на части, каждую деталь окунуть в мыльную воду, ополоснуть, вытереть досуха и снова собрать. А из-за работы на почте Эйлса смогла заняться этим только после ужина. Теперь она заведовала почтой и могла бы взять выходной, но, будучи Эйлсой, ни за что себе этого не позволила бы.
Теперь она парится под слоем румян и в колючем темно-синем креповом платье с кружевным воротником, дергаясь то и дело. Ни минуты не может постоять спокойно. Без конца подкладывает закуски на блюда, передает их гостям, бегает за чайником и подливает горячей воды, чтобы не остыл чай в чашках. Поглощенная заботой об удобстве гостей, спрашивает, как их ревматизм или более легкие хвори, улыбаясь перед лицом собственной трагедии, повторяя без устали, что ее потеря — обычное дело, что нельзя жаловаться, когда столько народа в таком же тяжком положении, что Джордж не хотел бы, чтобы его друзья скорбели, и был бы благодарен, что все вместе мы покончили с войной. Все это она произносит тем самым громким, выразительным голосом, полным радостной убежденности голосом, который частенько слышен на почте. Так что люди остались при смутном подозрении, что, наверное, ляпнули что-то не то, — так на почте их не раз убеждали, что почерк у них — сущее испытание, а бандероль завернута кое-как.
Эйлса отдает себе отчет в том, что говорит слишком громко и улыбается слишком много и что подливает чай тем, кто сказал, что не хочет больше чаю. В кухне, пока закипает чайник, она говорит:
— Я не знаю, что это со мной. Я вся взвинчена.
Говорит она это доктору Шанцу, соседу; их задние дворы граничат.
— Я скоро уже откланяюсь, — говорит доктор. — Прописать вам брому?
В открытую дверь гостиной слышно, как его голос меняет окраску. Слово «брому» звучит твердо и профессионально. Голос Эйлсы тоже меняется: из жалостного он становится бравым.
— О нет, благодарю вас, — говорит она. — Сама постараюсь справиться.
* * *
Предполагалось, что Айона должна опекать мать, следя за тем, чтобы та не пролила чай — не из-за неуклюжести, а по забывчивости, — и немедленно увести ее, едва старушка примется шмыгать носом и плакать. Но на самом деле миссис Киркем ведет себя очень мило, по большей части с ней гостям гораздо приятнее и легче, чем с Эйлсой. Периодически, минут на пятнадцать, она, похоже, начинает понимать, что к чему, — или это так кажется — и сообщает мужественно и убедительно о том, что ей очень не хватает сына, но, по счастью, дочки по-прежнему рядом: Эйлса всегда такая надежная и расторопная, и Айона — сама доброта. Она даже упоминает свою недавно обретенную невестку, но, похоже, действительно немного не в себе, раз говорит такое, о чем большинство женщин ее возраста предпочитают не высказываться прилюдно, особенно в мужском обществе. Поглядев на нас с мамой, она говорит:
— И всем нам грядет утешение.
А потом, следуя по комнате от гостя к гостю, старушка забывает все на свете, смотрит вокруг и спрашивает:
— Зачем мы все здесь? Так много людей собралось, что мы празднуем? — И, догадавшись, что все происходящее как-то связано с Джорджем, интересуется: — Это свадьба Джорджа? — Утратив связь с действительностью, она утратила и привычную деликатность. — Это ведь не твоя свадьба? — спрашивает она у Айоны. — Нет, вряд ли. У тебя же никогда не было молодого человека, правда? — Правдорубные, каждый-сам-за-себяшные интонации прорезаются в ее голосе. Приметив Джилл, она смеется: — Уж не это ли невеста? Ого! Теперь-то все ясно! — Но вскоре истина возвращается так же внезапно, как исчезла. — Что-нибудь слышно? — спрашивает она. — Как там Джордж?
Тут начинаются рыдания, которых и боялась Эйлса. «Уведи ее, как только она начнет закатывать спектакль», — предупреждала Эйлса Айону. Но та не в состоянии увести мать — она никогда не умела быть настойчивой и властной ни с кем на свете, — и жена доктора Шанца подхватывает старушку под руку.
— Джордж умер? — испуганно спрашивает миссис Киркем, и миссис Шанц отвечает:
— Да. Но вы же знаете, что его жена ждет ребеночка.
Миссис Киркем опирается на миссис Шанц. Она съеживается и тихо просит:
— Можно мне чайку?
Маме кажется, что, куда бы она ни пошла, повсюду в этом доме ее поджидают фотографии Джорджа. Самая поздняя и официальная — Джордж в военной форме — стоит на вышитой салфетке, покрывающей стол закрытой швейной машинки в эркере гостиной. Айона украсила фото цветами, но Эйлса цветы убрала. Сказала, что из-за них он уж слишком похож на католического святого. Над лестничным пролетом висит карточка с изображением шестилетнего Джорджа на дорожке у дома, одной коленкой стоящего в коляске, а в комнате, где спит Джилл, еще одно фото — Джордж у велосипеда с сумкой для развозки газет. В комнате миссис Киркем — Джордж в золотой картонной короне: в восьмом классе он участвовал в постановке оперетты. Начисто лишенный голоса и слуха, он не мог играть ведущие роли, зато ему, конечно же, досталась наилучшая роль второго плана — роль короля.
На раскрашенной вручную карточке, сделанной в фотоателье, — трехлетний Джордж — смутно различимый белокурый карапуз, волочащий за ногу плюшевого мишку. Эйлса хотела убрать эту фотографию с глаз долой — она казалась ей чересчур «душещипательной», но решила: чем оставлять на обоях светлое пятно, пусть уж лучше висит. И никто ничего не сказал о ней, только миссис Шанц помолчала и произнесла то, что уже говорила когда-то, не слезливо, но с чуть удивленной благодарностью:
— Ах, милый Кристофер Робин!
Обычно мало кто обращал внимание на то, что говорит миссис Шанц.
На всех фотографиях Джордж сверкал, как новенький доллар. У него всегда сиял солнечный нимб над головой, если на ней не красовалась фуражка или корона. И даже там, где он был еще почти дитя, Джордж выглядел так, словно всегда знал: ему суждено стать остроумным, сметливым всеобщим любимцем. Из тех, с кем никогда не соскучишься, кто любого заставит смеяться до колик. Иногда над собой, но чаще всего — над другими. Глядя на него, Джилл вспоминает, как он пил и, похоже, совсем не пьянел и промышлял тем, что выслушивал, как пьяные собутыльники исповедовались ему в своих страхах, лжи, целомудрии или изменах, а потом превращал эти признания в насмешки или обидные прозвища, которым жертвы притворно радовались. Потому что за ним ходили толпы поклонников и приятелей, кто-то следовал за ним из опаски, а кто-то, наверное, просто потому, что, как о нем всегда говорили, рядом с ним жизнь била ключом. Где бы он ни появился, Джордж всегда становился центром внимания, и самый воздух вокруг него искрился куражом и весельем.
И с чего вдруг именно Джилл достался такой возлюбленный? Когда она встретила Джорджа, ей было девятнадцать, и до сих пор никто ею не интересовался. Она не понимала, чем привлекла его, и видела, что никто этого не понимает. Для многих сверстников она была загадкой, но загадкой довольно унылой. Девушка, вся жизнь которой посвящена занятиям на скрипке, не имевшая никаких других интересов.
Это было не совсем так. Свернувшись калачиком под своим ветхим лоскутным одеялом, она мечтала о возлюбленном. Но не об искрящемся фигляре вроде Джорджа. Она мечтала о ком-то теплом, похожем на мишку, или о музыканте лет на десять старше, уже прославленном и неудержимо страстном. У нее были оперные воззрения на любовь, хотя опера и не была ее излюбленным музыкальным жанром. А Джордж отпускал шуточки, занимаясь любовью, а кончив — гарцевал по комнате, как конь, издавая грубые и ребячливые звуки. От молниеносных соитий с ним она получала куда меньше удовольствия, чем когда ублажала себя сама, но это ее совсем не огорчало.
Ее ошеломляла стремительность событий. И ожидание счастья — благодарного счастья, когда ее разум постиг, что все происходит на самом деле. Ухаживания Джорджа, свадьба — все это сулило блестящее продолжение жизни. Ей открывались светлые чертоги, наполненные потрясающим, невиданным наслаждением. А потом, когда ничто не предвещало катастрофы, обрушилась бомба или налетел ураган, и прекрасное будущее исчезло. Взорвалось и пропало, оставив ее с чем была. Но кое-что она все-таки потеряла. И это кое-что ей никогда не принадлежало, она никогда не думала об этом как о своем реальном будущем, то был лишь набросок мечты.
Наконец-то она наелась. Ноги ноют от долгого стояния. Возле нее миссис Шанц. Она говорит:
— Вы знакомы с кем-то из здешних друзей Джорджа?
Она имела в виду молодежь, кучкующуюся в дверях гостиной. Пара симпатичных девушек, молодой человек в форме морского офицера, еще кто-то. Глядя на них, Джилл явственно понимает, что никому из них по-настоящему не жаль. Разве что Эйлсе, но у Эйлсы свои причины скорбеть. Никому на самом деле не жаль, что Джордж мертв. Даже той девушке, что прорыдала всю службу, да и сейчас у нее глаза на мокром месте. Сейчас эта девушка вспоминает, что любила Джорджа и что он любил ее, несмотря ни на что, — и не боится, что он опровергнет это. И никто из них не поинтересуется, услышав смех сгрудившихся вокруг Джорджа, над кем они смеются или что Джордж такого сказал им. Никто больше не станет увиваться за ним что есть сил или ломать голову, как привлечь его благосклонное внимание.
Ей в голову не приходит, что, останься Джордж в живых, он мог бы измениться, потому что не думала меняться сама.
— Нет, — говорит она без всякого энтузиазма, и миссис Шанц отвечает:
— Понимаю. Трудно заводить новые знакомства. На вашем месте я пошла бы и прилегла.
Джилл почти уверена, что уж она-то сказала бы: «Пошла бы и выпила». Но выбор тут невелик — только чай и кофе. Да и Джилл совсем не пьет. Зато чувствует алкоголь в чьем-то дыхании, и, кажется, это как раз дыхание миссис Шанц.
— Пойдите и лягте, — говорит миссис Шанц. — Все это очень тяжко. Я скажу Эйлсе. Давайте.
Миссис Шанц — маленькая женщина. У нее тонкие седые волосы, блестящие глаза, а лицо все в морщинках и веснушках. Каждую весну она проводит одна во Флориде. У нее водятся деньги. Дом, который они с мужем построили для себя позади дома Киркемов, — длинный, приземистый и ослепительно-белый, с закругленными углами, изобилующими стеклянными блоками. Доктор Шанц лет на двадцать — двадцать пять моложе жены — плотный, пышущий здоровьем мужчина приятной наружности с высоким гладким лбом и вьющейся шевелюрой. Детей у них нет. Говорят, что у нее дети имеются — от первого брака, но они никогда ее не навещают. Вообще, история такова: доктор Шанц в колледже дружил с ее сыном, и тот пригласил Шанца в гости. И он влюбился в мать своего друга, а она полюбила друга своего сына, последовал развод, и вот они женаты и живут в роскошном и замкнутом уединении.
Джилл действительно унюхала виски. Миссис Шанц не расстается с фляжкой, идя на сборища, которые — по ее словам — совершенно безнадежны. Выпивка не пробуждает в ней излишней веселости, язык у нее не заплетается, она не бузит и не лезет обниматься. На самом-то деле она постоянно подшофе, но никогда не «в стельку». У нее вошло в привычку потреблять алкоголь в разумных, ободряющих дозах, чтобы клетки мозга не размокали и не пересыхали. Единственное, что выдавало ее, — запах (относимый большинством жителей этого трезвого городка на счет лекарств, которые она принимает, или даже лечебных притирок для груди). Это, да еще, пожалуй, чересчур взвешенная речь — она словно бы расчищала пространство для каждого слова. Разумеется, миссис Шанц говорит такое, чего другие присутствующие здесь женщины не сказали бы. Она рассказывает о себе. Рассказывает, как ее регулярно по ошибке называют мамой ее мужа. Рассказывает, что большинство людей впадают в ступор, обнаружив свою оплошность, просто со стыда сгорают. Но некоторые женщины — официантки, наверное, — окидывают миссис Шанц довольно мерзким взглядом, который как будто говорит: «И зачем он тратит на тебя свою жизнь?»
А миссис Шанц просто отвечает им: «Я знаю, это несправедливо. Но жизнь несправедлива, и вам следует с этим смириться».
Этим вечером ей пришлось поискать укромное место, чтобы сделать добрый глоток. И в кухню, и даже в тесную кладовку позади нее в любое время может заглянуть какая-нибудь женщина. Миссис Шанц вынуждена ходить наверх в ванную, причем не слишком частить. Когда она наведывается туда под вечер, сразу после исчезновения Джилл, дверь ванной оказывается заперта. Миссис Шанц решает проскользнуть в одну из спален, раздумывая, которая может быть пуста, а в которой отдыхает Джилл. И тут из ванной доносится голос Джилл. Она говорит: «Минутку», или что-то вроде того. Что-то совсем обыкновенное, вот только голос у нее какой-то напряженный и испуганный.
Миссис Шанц делает большой глоток прямо в коридоре, ситуация-то чрезвычайная.
— Джилл, у вас все хорошо? Можно мне войти?
Джилл стоит на четвереньках, пытаясь вытереть лужу на полу. Она читала о том, как отходят воды, читала о схватках, раскрытии, промежутках между схватками, плаценте, но эта хлынувшая из нее теплая жидкость застала ее врасплох. Ей пришлось взять туалетную бумагу, потому что Эйлса убрала все простые полотенца и повесила гладкокрашеные вышитые льняные лоскуты, именуемые «полотенцами для гостей».
Джилл хватается за край ванны, чтобы подняться. Она отодвигает защелку на двери и тут же скрючивается от первого приступа боли. Это не единичная терпимая боль, не предвестники, сопровождающие первый этап родов. Это безудержный натиск схваток и разрывающие, стремительные роды.
— Спокойно, — говорит миссис Шанц, изо всех сих поддерживая ее, — только скажите, которая из спален — ваша, и мы вас сейчас уложим.
Не успев дойти до кровати, Джилл впивается пальцами в тонкую руку миссис Шанц, оставляя черные и синие отметины.
— Ох, как быстро, — говорит миссис Шанц. — Это ваш первенец торопится. Пойду позову мужа.
Вот так я и родилась — дома, дней на десять раньше предположительного срока, который высчитала Джилл. Не успела Эйлса предупредить собравшихся, как Джилл наполнила дом звуками — сперва недоверчивыми криками, а потом беззастенчивым хриплым рычанием. В те времена, даже если мать неожиданно для себя рожала дома, ее вместе с ребенком обычно после этого помещали в больницу. Но тогда по городу гулял какой-то летний грипп и больницу переполнили тяжелобольные, так что доктор Шанц решил: Джилл и мне лучше остаться дома. Айона, в конце концов, почти закончила курсы медсестер и теперь могла взять двухнедельный отпуск, чтобы ухаживать за нами.
Джилл на самом деле понятия не имела, что такое жить в семье. Она выросла в детском доме. С шести до шестнадцати лет она спала в общей комнате с другими девочками. Свет включался и выключался в строго определенное время. Печи никогда не топились до или после строго определенных дат. Застланный клеенкой длинный стол, за которым они ели или делали уроки, фабрика напротив. Джорджу нравилось рассуждать об этом. «Такие места закаляют девушку, — говорил он. — Делают ее хладнокровной, жесткой и одинокой. Лишенной глупых романтических ожиданий». Но обычаи в детдоме царили не такие бессердечные, как он думал, да и люди, заправляющие там, были не лишены великодушия. Вместе с другими детдомовцами двенадцатилетнюю Джилл отправили однажды на концерт, и там она решила, что должна учиться играть на скрипке. Она уже кое-как бренькала на приютском фортепьяно. Кто-то проникся и приобрел для нее старенькую плохонькую скрипицу, и оплатил несколько уроков, что и привело в конце концов к учебе в консерватории. Состоялся концерт для благотворителей и дирекции, с фруктовым пуншем, речами и тортами, причем все музыкантши были в нарядных платьях. Джилл тоже сказала маленькую речь, выразив благодарность кому следовало, но на самом деле она все это принимала совершенно как должное. Она была уверена, что ее единение со скрипкой продиктовано естественным ходом вещей, ее судьбой, что все неотвратимо произошло бы так же и без человеческого вмешательства.
Она дружила с соседками по общежитию, но те рано ушли работать на фабрики и в конторы, так что Джилл вскорости совсем их позабыла. Учительница в старшей школе, куда ходили детдомовские дети, провела с ней беседу. В этой беседе всплыли слова «нормальная» и «всесторонне развитая». Учительница, по-видимому, считала, что музыка — это побег откуда-то или замена чему-то. Замена сестрам, братьям, друзьям и любимым. Она предложила Джилл распределять энергию более равномерно, а не концентрироваться на чем-то одном. Занимайся гимнастикой, играй в волейбол, ну или в школьном оркестре, если музыка — именно то, чего ты хочешь в жизни.
Джилл принялась обходить эту самую учительницу десятой дорогой, взбираясь на этаж выше или прячась за углом, чтобы только не разговаривать с ней. Точно так же она прекращала читать, едва ей в каком-нибудь тексте бросались в глаза слова «всесторонне развитый» или «популярный».
В консерватории стало полегче. Там Джилл встретила других таких же, как она, — однобоко развитых и заядлых. Она завела пару-тройку рассеянных и состязательных дружб. У одной подруги был старший брат — военный летчик, и этот самый брат оказался одной из жертв-обожателей Джорджа Киркема. Перед тем как пойти куда-то и надраться, подругин брат затащил Джорджа на воскресный семейный ужин, где гостила и Джилл. Вот так Джордж встретил Джилл. Так отец встретил маму.
Кто-то все время должен был находиться дома, чтобы присматривать за миссис Киркем. Поэтому Айона работала в пекарне в ночную смену. Она украшала торты — даже самые расфуфыренные свадебные — и вынимала из печи первую партию свежеиспеченных буханок в пять утра. Руки ее, которые обычно тряслись так, что она не могла даже чашку чаю подать, не расплескав, становились сильными, ловкими, уверенными, даже вдохновенными, когда она трудилась в уединении.
Как-то утром, когда Эйлса ушла на работу, — это было незадолго до моего рождения — Айона шепотом зазвала Джилл в спальню, когда та проходила мимо. Будто по секрету. Но от кого в этом доме секретничать? Не от миссис Киркем же?
Айоне с огромным трудом удалось выдвинуть тугой ящик бюро.
— Черт, — сказала она и хихикнула, — вот черт. Смотри.
Ящик был доверху набит младенческими одежками — не заурядными распашонками и ползунками, какие Джилл купила в магазине второсортной и бракованной продукции в Торонто, но вязаными шапочками, кофточками, пинетками и мягкими трикотажными подгузниками — крошечными нарядами ручной работы. Пастельные тона всевозможных оттенков и сочетаний, никакого предпочтения голубому или розовому, с вывязанными крючком кружевами и дотошно вышитыми цветочками, птичками и овечками. Едва ли Джилл вообще знала, что такие вещи существуют на свете. Она узнала бы, порыскав в отделе для новорожденных или если бы позаглядывала в чужие детские коляски, но ей это и в голову не приходило.
— Я, конечно, не знаю, что у тебя уже есть, — сказала Айона, — может, у тебя уже и так всего полно или ты не любишь самоделки, не знаю…
Хихиканье Айоны было чем-то вроде знаков препинания и в то же время сгущало ее извиняющийся тон. Каждое ее слово, каждый взгляд, жест были как будто связаны, застопорены липким медом, гнусавой слизью оправданий, и Джилл не знала, что с этим поделать.
— Вещички правда миленькие, — сказала она безучастно.
— О нет. Я даже не знала, нужны ли они тебе вообще. Не знала, понравятся ли.
— Они замечательные.
— Я не все сама смастерила, кое-что купила, на церковном базаре и в больнице во вспомогательной службе, у них тоже был благотворительный базарчик, просто подумала, что они такие милые, но если тебе не понравится что-то или не нужно, можно отнести это в «Миссионерский тюк».
— Мне это действительно нужно, — заверила ее Джилл, — у меня вообще нет ничего похожего.
— Правда? В самом деле нет? Ну, мои-то не так уж хороши, но вот те, что женщины из церкви сделали или из госпиталя, тебе должны понравиться.
Уж не это ли имел в виду Джордж, говоря, что у Айоны «нервишки ни к черту»? (По словам Эйлсы, нервный срыв Айоны, из-за которого она не доучилась в школе медсестер, случился потому, что она слишком ранима, а руководитель на нее чересчур давил.) Думаешь, ей необходимо, чтобы ее разубедили, но сколько ни разубеждай, ненасытной Айоне всегда будет мало. Джилл чувствовала, что все эти Айонины слова, смешки, всхлипы и глаза на мокром месте (наверняка и ладони у нее вечно мокрые) — это попытки к ней, к Джилл то есть, подольститься, клещом влезть к ней под кожу.
Но со временем Джилл перестала обращать на это внимание. Или это Айона унялась. Обе чувствовали облегчение — будто ученицы, когда учитель выходит из класса, — когда по утрам за Эйлсой закрывалась входная дверь. Они наливали себе по второй чашке кофе, пока миссис Киркем мыла посуду. Она делала это очень медленно — подолгу разглядывая полки и ящики, прежде чем убрать очередной предмет, — и не без оплошностей и промашек. Но зато с неукоснительно соблюдаемыми ритуалами — вроде выливания кофейной гущи на куст у кухонной двери. «Она считает, что кофе помогает ему расти, — шептала Айона Джилл, — даже если попадает на листья, а не на почву. Приходится каждый божий день брать шланг и смывать».
Джилл ловила себя на мысли, что Айона ведет себя точь-в-точь как большинство девочек, которых вечно шпыняли в приюте. Они весьма охотно шпыняли кого-то другого. Но стоит преодолеть напряжение Айоны — продраться через ее оправдания и баррикады смиренного самоуничижения («Конечно, кто же станет советоваться со мной насчет покупок в магазине», «Конечно, Эйлса не прислушается к моему мнению», «Конечно, Джордж никогда не скрывал, насколько он презирает меня»), — и вот уже можно вовлечь ее в разговор на весьма интересные темы. Она рассказала Джилл о доме, который раньше принадлежал их деду, а теперь там главный корпус больницы, о темных делишках, которые стоили их отцу работы, и о романе, завязавшемся в пекарне между двумя семейными людьми. Еще она обмолвилась о предполагаемой предыстории Шанцев и даже о том, что Эйлса неровно дышит к доктору. Шоковая терапия, которой Айона подверглась после нервного срыва, вероятно, пробила брешь в ее благоразумии, и голос, раздавшийся из этой бреши, как только убрали весь маскирующий мусор, оказался недобрым и коварным.
Джилл тоже была не прочь провести время за сплетнями — пальцы у нее слишком распухли, на скрипке не поиграешь.
А потом родилась я, и все изменилось, особенно для Айоны. Джилл пришлось неделю провести в постели, но, даже начав вставать, она передвигалась, как окостенелая неуклюжая старуха, и всякий раз задерживала дыхание, с трудом приземляясь на стул. Швы нещадно болели, грудь и живот по тогдашнему обычаю были туго спеленуты, как у мумии. Молоко прибывало обильно и просачивалось сквозь бинты прямо на простыни. Айона ослабила перевязки и попыталась приложить меня к соску. Но я его не взяла. Я отказывалась брать мамину грудь. Я орала благим матом. Эта большая тугая грудь могла с таким же успехом быть ужасным чудовищем, которое хоботом ощупывает мне лицо. Айона взяла меня на руки и напоила теплой водой из бутылочки, и я утихла. Но я теряла вес. Я не могла жить на одной воде. Тогда Айона развела смесь и забрала меня у матери, на руках у которой я выгибалась дугой, заходясь в истерическом плаче. Айона укачала меня и успокоила, а потом коснулась моей щеки резиновой соской, и оказалось, что только этого мне и надо. Я жадно высосала смесь, но соску не выпустила. Объятья Айоны и эта соска, которой она повелевала, стали моей землей обетованной. Джилл пришлось перетянуть грудь еще туже, ограничить себя в питье (напомню, погода стояла жаркая) и терпеть боли, пока молоко не перегорело.
— Вот мартышка, сущая мартышка, — ворковала Айона. — Что ж ты, мартышка, не кушаешь мамочкино вкусное молочко?
Вскоре я потолстела и окрепла. И смогла кричать громче. Я заходилась криком, если кто-то, кроме Айоны, пытался взять меня на руки. Я отвергала и Эйлсу, и заботливо нагретые руки доктора Шанца. Но больше всего, конечно же, окружающих заботило мое неприятие Джилл.
Однажды, когда Джилл встала с кровати, Айона усадила ее в кресло, в котором обычно сидела сама, когда кормила меня, накинула ей на плечи свою блузку и дала в руки бутылочку со смесью.
Дудки — меня не проведешь! Я билась щекой о бутылочку, вытягивала ноги и мячом надувала живот. Подмены я не принимала. Я кричала. Я не сдавалась.
Мои вопли были все тем же тоненьким младенческим плачем, но они будоражили весь дом, и лишь во власти Айоны было прекратить это. Когда со мной заговаривала не Айона, когда меня касалась не Айона, я заходилась плачем. Если меня укладывала или укачивала не Айона, я орала до изнеможения, после чего забывалась на десять минут, чтобы потом проснуться и начать все заново. У меня не бывало времени, когда я в добром расположении духа, и времени капризов. Было лишь время Айоны и время ее отсутствия, грозившее стать — о! гораздо, гораздо хуже — временем кого-то еще, по большей части временем Джилл!
И как было Айоне вернуться на работу, когда истекли две недели ее отпуска? Никак. Об этом не могло быть и речи. И пришлось пекарне нанять другую работницу. И Айона, самый незначительный домочадец, вдруг оказалась наиглавнейшим человеком в доме. Она, и только она стояла между его обитателями и несмолкающим диссонансом — моими неуемными жалобами. В любое время дня и ночи она бессонно берегла домашний покой. Доктор Шанц выражал беспокойство, даже Эйлса всполошилась: «Айона, ты себя изводишь!»
А тем временем свершалось чудесное превращение. Бледная кожа Айоны вдруг засияла, как будто наконец миновала пора отрочества. Она кому угодно могла посмотреть прямо в глаза. И больше ни трепетания, ни смешков, ни подспудного раболепия в голосе, который теперь звучал начальственно, как голос Эйлсы, и гораздо веселее. (Особенно радостно этот голос журил меня за мое отвращение к Джилл.)
«Айона на седьмом небе от счастья, — сообщала Эйлса соседкам, — она обожает это дитя!» Но для обожания ухватки Айоны были слишком стремительными. Ей было все равно, сколько шума она производит, успокаивая меня. Топоча по лестнице, она взывала, задыхаясь на ходу: «Бегу, бегу! Попридержи лошадок!» Она сновала по дому, распластав меня на плече и придерживая одной рукой, а другой выполняла какую-то работу, связанную с уходом за мной же. Она главенствовала на кухне, командуя стерилизатором, столиком для приготовления смеси и ванночкой для купания. Она весело чертыхалась — даже при Эйлсе! — когда что-то теряла или роняла.
Она знала, знала, что была единственным человеком, не содрогавшимся от предчувствия надвигающейся катастрофы, когда я исторгала свой первый предупредительный клич. Наоборот! Она была единственным человеком, у которого сердце начинало колотиться вдвое быстрее, который готов был пуститься в пляс просто от сознания собственного могущества и от безмерной признательности за это.
Перетягивать грудь уже было не нужно, живот опал, и Джилл обратила внимание на свои руки. Кажется, отеки совсем прошли. Она пошла вниз, достала скрипичный футляр из кладовки и вынула оттуда скрипку. Можно было попробовать поиграть гаммы.
Это было в воскресенье пополудни. Айона прилегла вздремнуть, вполуха карауля, не заплачу ли я. Миссис Киркем тоже отдыхала. Эйлса на кухне красила ногти. Джилл принялась настраивать скрипку.
Ни отец, ни его семейство музыкой не интересовались. Они ее не понимали. Они считали, что нетерпимость, а порой даже враждебность, которую они испытывали по отношению к музыке определенного рода (это сказывалось даже в том, каким тоном они произносили слово «классическая»), есть просто проявление силы характера, цельности и нежелания быть одураченными. Как будто музыка, пошедшая дальше простой мелодии, норовит тебя каким-то образом облапошить, и все это знают в глубине души, но некоторые люди предпочитают вычурность простоте и честности и потому никогда не признаются, что так оно и есть. И вот из-за этой деланости и бесхребетной терпимости мир заполонили симфонические оркестры, оперы, балеты и всяческие концерты, вгоняющие человека в сон.
И большинство жителей этого города думали так же. Но Джилл выросла не в этом городе и не понимала всей глубины и безмерной непререкаемости этих чувств. Мой отец никогда этим не щеголял и не считал добродетелью, поскольку вообще был чужд добродетельности. Ему нравилось, что Джилл станет музыкантшей, не музыки ради, просто это, да еще странная манера одеваться, странный образ жизни и буйная шевелюра, превращало его избранницу в диковинную птицу. А он, ее избравший, тем самым показал людям, чтó он о них думает. Показал тем девицам, что лелеяли надежду его захомутать. Эйлсе показал.
Джилл притворила занавешенные стеклянные створки двери в гостиную и тихонько подстроила струны. Казалось, ни один звук не проник за дверь. А если Эйлса и слышала в кухне, то решила, что это откуда-то с улицы, может, соседское радио.
Джилл заиграла гамму. Пальцы и правда больше не были толстыми и безвольными, но оставались какими-то зажатыми. Все тело тоже как-то зажалось, и поза была не совсем естественная, и инструмент лежал на плече как не родной. Но гаммы все равно надо доиграть. Несомненно, такое случалось с Джилл и раньше — после гриппа или из-за сильного переутомления, когда она изнуряла себя занятиями, а то и вовсе без причины.
Я проснулась, не издав недовольного хныканья. Не было ни вступления, ни разворачивающегося крещендо. Один сплошной визг, водопад визга обрушился на дом, так я еще никогда не орала. Прорванная плотина, поток неожидаемой боли, отчаяния, карающего мир волнами, полными камней, град горестных стенаний, сыплющихся сквозь бойницы пыточной камеры.
Айона проснулась тут же, она всегда просыпалась при первом же моем звуке.
— Что это? Что это? — кричала она.
И Эйлса металась по дому и кричала, закрывая окна:
— Это скрипка! Скрипка! — Она распахнула двери гостиной. — Джилл! Джилл! Это ужасно! Ужасно! Ты что, не слышишь свое дитя?
Ей пришлось с силой дернуть штору над окном гостиной, чтобы опустить ее. Ногти она красила, сидя в кимоно, а теперь кимоно распахнулось, и мальчишка, проезжавший мимо на велосипеде, глянул в окно и увидел ее лифчик.
— Боже мой! — сказала она, еле владея собой от этакого безобразия. — Убери эту штуковину!
Джилл опустила скрипку, и Эйлса вылетела в коридор, крича Айоне:
— Можешь ты это прекратить? Воскресенье ведь!
Потерявшая дар речи Джилл осторожно двинулась на кухню, а там стояла босиком миссис Киркем, цепляясь за стол.
— Что там такое у Эйлсы? Что Айона натворила?
Джилл вышла на заднее крыльцо и присела на ступеньку. Она смотрела прямо перед собой на ослепительную, залитую солнцем стену белого дома Шанцев. Вокруг были раскаленные задние дворы других соседей и раскаленные стены их домов. Внутри этих домов люди хорошо знали друг друга и на вид, и по имени, и всю подноготную друг друга знали. Пройди три квартала на восток или пять кварталов на запад, шесть кварталов на юг или десять кварталов на север — и упрешься в стены летних злаков, уже высоко поднявшихся над землей, в огороженные покосы, поля пшеницы и кукурузы. Деревенское изобилие. Не продохнуть от затхлости сгрудившихся колосьев, вони скотных дворов, скученности жующей скотины. Перелески в дальнем далеке манят, будто озерца прохлады и покоя, сулят спасительное пристанище, а на самом деле кипят от мошкары.
Как мне описать, что значит музыка для Джилл? Забудем о пейзажах, видениях, диалогах. Правильнее сказать, что есть некая задача, которую Джилл приходится решать строго и неукоснительно, некая ответственность, которую она взяла на себя на всю жизнь. А теперь вообразим, что средства для решения этой задачи у нее отняли. Задача никуда не делась в своем великолепии, другие люди вовсю ее решают, но Джилл — в стороне. Ее удел — лишь заднее крыльцо, ослепительная стена и мой плач. Мой плач — это нож, отсекающий от ее жизни все бесполезное. Для меня бесполезное.
— Зайди в дом, — зовет Эйлса из-за сетки на кухонной двери. — Зайди, пожалуйста, мне не следовало орать на тебя. Зайди, а то люди увидят.
К вечеру страсти потихоньку улеглись, эпизод сошел на нет.
— Слышали, наверное, наш сегодняшний кошачий концерт? — спросила Эйлса у Шанцев. (Они зазвали ее посидеть с ними на террасе, пока Айона укладывала меня спать.) — Деточке скрипка явно не по душе. Не в маму пошла.
Даже доктор Шанц рассмеялся:
— Гурманка.
Джилл слышала их. Во всяком случае, слышала смех и догадывалась, над чем они смеются. Она лежала на кровати и читала «Мост Короля Людовика Святого»[61], который взяла с полки в книжном шкафу, даже не подумав, что надо бы спросить разрешения у Эйлсы. То и дело теряя нить повествования, она вслушивалась в эти смеющиеся голоса во дворе у Шанцев и умиленно-восторженный лепет Айоны в соседней комнате, и мрачное негодование охватывало ее. В какой-нибудь сказке Джилл как встала бы с кровати, словно могучая юная великанша, и как пошла бы по дому, круша мебель и сворачивая шеи…
Мне было уже почти полтора месяца, когда Эйлса и Айона должны были сопровождать свою мать в Гуэлф[62] — там жили ее кузины, которых она навещала каждый год, оставаясь там ночевать. Айона хотела взять меня с собой. Но Эйлса призвала на помощь доктора Шанца, дабы убедить сестру, что нельзя тащить такую малютку в такую даль, особенно в жару. Тогда Айона захотела остаться дома.
— Я не могу одновременно вести машину и присматривать за мамой, — ответила Эйлса. Она сказала, что Айона слишком уж зацикливается на мне и что полтора дня понянчить собственное дитя не такой уж большой труд. — Правда, Джилл?
— Да, — сказала Джилл.
Айона заюлила: мол, дело вовсе не в том, что она хочет остаться со мной, а в том, что если придется вести машину в такую жару, то ее укачает и стошнит.
— Ты не ведешь машину, ты просто должна в ней ехать, — возразила Эйлса. — А как же я? Я тоже не развлекаться еду. Просто нас ведь ждут.
Айоне пришлось усесться на заднее сиденье, где, по ее словам, укачивает еще сильнее. Эйлса сказала, что будет неправильно усадить туда маму. Миссис Киркем сказала, что она не против. Эйлса не согласилась. Как только Эйлса завела машину, Айона до отказа открутила стекло и вперила взгляд в окна комнаты наверху, где она уложила меня спать после утреннего купания и бутылочки. Эйлса помахала Джилл, стоявшей у входной двери.
— До свидания, мамочка! — крикнула она; голос у нее был веселый, задористый и почему-то напомнил Джилл о Джордже.
Грядущий отъезд из дому и назревающая в связи с ним новая угроза неразберихи, похоже, здорово воодушевили Эйлсу. И наверное, ей было приятно — и отрадно — снова поставить Айону на причитающееся той место.
Они уехали часов в десять утра, и дальнейшему дню суждено было стать самым длинным и тяжелым днем в жизни Джилл. Даже день моего рождения, день ее кошмарнейших родов, не шел ни в какое сравнение. Не успела еще машина доехать и до соседнего городка, как я проснулась в таком отчаянии, словно почувствовала, что Айона удаляется. Айона только-только покормила меня, и мысль, что я могу быть голодна, не пришла Джилл в голову. Зато оказалось, что я мокрая, и хотя она читала, что не обязательно менять подгузник всякий раз, как ребенок помочился, и не всегда мокрый ребенок станет плакать, Джилл все-таки решила меня переодеть. Она не впервые меняла подгузник, но это давалось ей не очень-то легко, по правде сказать, Айона чаще всего перехватывала меня у нее и доделывала все сама. Я как только могла усложняла маме работу: молотила руками и ногами, дугой выгибала спину, изо всех сил пыталась перевернуться и, конечно же, орала не переставая. Руки у Джилл тряслись, ей никак не удавалось проткнуть булавкой ткань. Она притворялась невозмутимой, она пыталась разговаривать со мной, пыталась изобразить Айонин лепет и нежное увещевание, но все без толку, ее неуверенная фальшь только раззадоривала во мне ярость. Застегнув наконец-то подгузник, мама взяла меня на руки, попыталась прижать к груди, положить мою головку к себе на плечо, но я вся задеревенела, будто тело Джилл сплошь ершилось докрасна раскаленными иглами. Она баюкала меня сидя. Она укачивала меня стоя. Она напевала мне нежные слова колыбельной, и голос ее дрожал от раздражения, гнева и чего-то еще, весьма напоминающего ненависть.
Мы были чудовищами друг для друга, Джилл и я. Наконец Джилл положила меня в кроватку, положила куда нежнее, чем ей хотелось бы, и я утихла, словно почувствовала облегчение, избавившись от ее объятий. На цыпочках она вышла из комнаты. Но очень скоро я взялась за старое. Так это и продолжалось. Я не плакала безостановочно. Я делала передышки — на две минуты, на пять, десять и даже на двадцать минут. Когда настало время дать мне бутылочку, я приняла ее и стала сосать, выгибаясь у Джилл на руках и угрожающе сопя. Высосав половину, я опять пошла на приступ. Добила бутылочку я почти в бессознательном состоянии, между криками, и провалилась в сон. Джилл уложила меня. Она крадучись сошла по лестнице, она стояла в коридоре, словно обдумывая безопасный путь к бегству. Она обливалась потом от тяжкой борьбы и от жары. В драгоценной, хрупкой тишине она прошла в кухню и осмелилась поставить кофейник на плиту.
Но прежде чем кофе вскипел, я обрушила рев ей на голову, как тесак для мяса. Джилл сообразила, что забыла кое о чем — не помогла мне отрыгнуть после кормления. Она бросилась наверх, подхватила меня и стала ходить по комнате, поглаживая и похлопывая меня по разгневанной спине, так что скоро я отрыгнула, но реветь не прекратила, тогда она сдалась и положила меня в кровать.
В чем секрет младенческого плача? Что придает ему такое могущество, способное совершенно разрушить порядок и внутри тебя, и снаружи? Этот плач, неотвратимый, как буря, такой театральный и в то же время такой неподдельный, такой искренний. В нем не мольба, в нем укоризна, он проистекает от неистовства — неистовства первородного, не знающего ни любви, ни жалости, готового расплющить мозг у тебя в черепной коробке.
Джилл только и остается — бродить по дому. Она меряет шагами ковер в гостиной, бродит вокруг обеденного стола, идет на кухню, где часы тикают ей, как медленно, мучительно медленно ползет время. Она не может остановиться, не может сделать больше глоточка кофе. Проголодавшись, она не может сделать себе бутерброд, а ест пригоршнями кукурузные хлопья, рассыпая их по всему дому. Попытка что-то съесть или выпить, да и вообще любое обычное дело, связана с таким риском, словно ты делаешь это в утлой лодчонке посреди бури или в лачуге, сотрясаемой ужасным ветром. Стоит тебе отвлечься от бури, и она сметет твое последнее прибежище. Ты пытаешься, чтобы не сойти с ума, сосредоточиться на неких спокойных деталях, тебя окружающих, но плач ветра — мой плач — способен вселиться в подушку, или в узор на ковре, или в крошечный пузырек в оконном стекле. Я не позволю сбежать.
Дом закупорен, словно коробка. Отчасти стыдливость Эйлсы сказалась и на Джилл, а может, она уже сама сподобилась вырабатывать стыд. Что может быть позорнее матери, неспособной унять собственного ребенка? Все окна и двери она держит закрытыми. И не включает переносной напольный вентилятор, потому что, видите ли, забыла о нем напрочь. Ей не приходит в голову мысль о какой-то практической помощи. Ей не приходит в голову, что на дворе один из самых жарких дней этого лета и, может быть, именно жара виновата в том, что происходит со мной. Конечно же, мать поопытнее или одаренная более сильным материнским инстинктом постаралась бы устроить мне вентиляцию, вместо того чтобы наделять меня демонической силой. Она подумала бы о жгучем зное, а не о степени своего отчаяния.
Где-то ближе к вечеру Джилл приходит в голову решение, продиктованное не то глупостью, не то безнадежностью. Нет, она не бежит из дому, не бросает меня. Запертая в созданной мною тюрьме, она раздумывает о том, чтобы обрести собственное пространство, сбежать, не выходя из дому.
Она достает скрипку, которой не касалась со времени тех злополучных гамм, попытки, которую Эйлса и Айона превратили в семейную шутку. Ее игра не может меня разбудить, потому что сна и так уже ни в одном глазу, да и разве сможет мама разозлить меня еще сильнее?
Вообще-то, она некоторым образом оказывает мне честь. Больше никаких притворных увещеваний, лживых баюканий, тревог о больном животике, всех этих слащавых «уси-пуси, сто слуцилось». Она просто сыграет скрипичный концерт Мендельсона, который уже обыгрывала на концерте и должна исполнить еще раз на выпускном экзамене, чтобы получить диплом.
Джилл выбрала Мендельсона, хотя до дрожи обожает скрипичный концерт Бетховена, потому что была уверена: за Мендельсона ей поставят более высокие оценки. Она полагает, что сможет с ним справиться — и уже справилась — гораздо лучше, сыграет его артистичнее и свободнее и произведет впечатление на комиссию без малейшего страха сбиться. Это не то произведение, на которое надо жизнь положить, решила она, не то, с чем придется сразиться ради попытки шагнуть в вечность.
Она просто сыграет его — и все.
Джилл настраивается, играет пару гамм, пытается заглушить меня. Она знает, что зажата, но на этот раз она к этому готова. Вот разыграюсь, зазвучит музыка, и проблемы уйдут, думает она.
Она вступает, играет дальше, не останавливаясь, до самого-самого конца. И игра ее ужасна. Не игра, а мука. Она упорствует, надеясь, что все должно измениться, она может это изменить, но ничего не получается. Все рассыпалось, она играет так же плохо, как Джек Бенни в одной из своих безжалостных пародий на скрипача-неумеху. Скрипка заколдована, она возненавидела Джилл. Инструмент упорно искажает любое ее намерение. Ничего нет страшнее — это страшнее даже, чем взглянуть в зеркало и вместо привычного лица увидеть перекошенную рожу, тошнотворную и плотоядную. Не в силах поверить, что над тобой так жестоко подшутили, пытаешься избавиться от наваждения: отворачиваешься, а потом снова глядишь в зеркало, а потом еще раз и еще. То же самое и с игрой, Джилл играет снова и снова, пытаясь избыть чью-то злую шутку. Но безуспешно. Все только хуже, если только может быть хуже. Пот струится по лицу, по рукам, по бокам, рука скользит, просто уму непостижимо, до чего безобразной может быть ее игра на скрипке.
Конец. Наконец-то она доиграла. Произведение, выученное месяцы тому и с тех пор доведенное до блеска, так что не осталось никаких тайн, ничего сложного или каверзного, теперь сокрушило ее наповал.
Мендельсон показал ей, что она выпотрошена, варварски изуродована. Ограблена.
Джилл не сдается. Она совершает нечто более страшное. В этой точке крайнего отчаяния она начинает играть снова. Теперь она сыграет Бетховена. И разумеется, он нехорош, он с каждым тактом все хуже и хуже, и кажется, что все внутри нее стонет и завывает. Она бросает смычок и скрипку на диван в гостиной, затем снова берет и запихивает их под диван — с глаз долой, потому что перед ней встает видение: она с размаху разбивает скрипку и смычок о спинку кресла в тошнотворном мелодраматическом раже.
Все это время я тоже не сдавалась. Еще бы, такое соревнование!
Джилл ложится на жесткую небесно-голубую жаккардовую обивку дивана, на которую никто никогда не ложится, да и садятся-то редко — только когда гости приходят, и проваливается в сон. Пробуждается она через бог знает сколько времени, уткнувшись горячим лицом в обивку, узор отпечатался у нее на щеке, слюна, вытекшая из угла рта, запятнала небесно-голубую ткань. Мой рев все еще — или опять? — возносится и опадает, словно приступы режущей головной боли. И голова у Джилл тоже болит. Она встает и бредет на кухню, словно пробиваясь сквозь густое марево раскаленного воздуха. Там в буфете Эйлса держит болеутоляющие таблетки. Спертый воздух напоминает Джилл о какашках. А что удивительного? Пока она спала, я замарала подгузник, и едкий запах постепенно заполнил весь дом.
Выпить таблетку. Помыть еще одну бутылочку. Подняться по лестнице. Джилл снимает с меня подгузник, не доставая меня из кроватки. Пеленка тоже мокрая насквозь и вся сбилась. Лекарство пока не подействовало, и голова болит еще яростнее при каждом наклоне. Перестелить пеленку, помыть мою перепревшую попу, застегнуть чистый подгузник, а грязный унести в ванную, чтобы застирать его и пеленки в раковине. Бросить белье в ведро с хлоркой, которое уже и так доверху полно, потому что никто сегодня не стирал детское. Затем вернуться ко мне с бутылочкой. Я снова утихаю, пока сосу. Удивительно, откуда только у меня силы для этого, но они есть, это факт. Кормление запоздало более чем на час, и я испытываю зверский голод, способный пополнить, а то и взорвать мой боезапас недовольства. Я высасываю бутылочку до самого донышка, а затем в изнурении засыпаю и на этот раз действительно сплю.
Головная боль Джилл притупляется. Пошатываясь, вялыми руками она застирывает мои подгузники, распашонки, ползунки и пеленки. Трет, полощет и даже кипятит подгузники, чтобы избежать опрелостей, к которым я склонна. Она выкручивает их вручную и развешивает в ванной, потому что завтра воскресенье и Эйлса не захочет по возвращении лицезреть белье, сохнущее на улице. К тому же Джилл и так-то не хочется выходить, а особенно теперь, когда вечереет и люди сидят во дворе, где наконец-то посвежело. Она боится, что ее увидят соседи, а добряки Шанцы еще и поприветствуют, после всего, что они наверняка услышали сегодня.
И как же бесконечно долго он тянется, этот сегодняшний день. Скорей бы исчезли вездесущие солнечные лучи, иссякли длинные тени и хоть чуть-чуть прохудился монументальный этот зной, дав трещины, струящиеся приятной прохладой. И вот неожиданно высыпали звезды, целыми пучками, а деревья набухли, как тучи, стряхивая с веток покой. Но ненадолго и не для Джилл. Чуть за полночь раздается тоненький плач — его не назовешь робким, он просто тонкий, пробный такой плач, словно я утратила сноровку, хоть и тренировалась весь день напролет. Или как будто мне интересно, стоит ли овчинка выделки. Затем краткий отдых, ложное чувство передышки или даже финала. Но потом бескомпромиссное, мучительное, неумолимое продолжение. Как раз когда Джилл начала варить еще кофе, чтобы справиться с остатками мигрени. Думая, что на этот раз сможет присесть и выпить кофе за столом.
Теперь она выключает горелку.
Уже почти настало время последней бутылочки на сегодня. Если бы не задержка с предыдущим кормлением, я бы уже хотела есть. Наверно, я уже хочу есть? Пока смесь греется, Джилл принимает еще пару таблеток болеутоляющего. Потом она думает о том, что это лекарство не действует, надо бы что-нибудь посильнее. В шкафчике в ванной только таблетки от поноса, слабительное и присыпка для ног да рецептурные лекарства, которые она бы не решилась тронуть. Но Джилл знает, что Эйлса принимает кое-что помощнее при менструальных болях, и идет в комнату Эйлсы, заглядывает в ящики ее стола и находит пузырек с болеутоляющим, как и следовало ожидать — поверх стопки гигиенических прокладок. Это тоже лекарство по рецепту, но на этикетке четко указано, для чего оно. Джилл достает две пилюли и идет на кухню, а там уже вовсю кипит вода в кастрюльке под бутылочкой и молоко сильно перегрелось.
Она держит бутылочку под струей холодной воды, чтобы остудить, — мой плач доносится до нее, как птичий клекот или хищный клич над бурлящей рекой, — и смотрит на пилюли, ждущие своего часа на столе, и ее осеняет: да!
Она достает нож и соскребает несколько крошек с пилюли, снимает соску с бутылки, набирает крошки кончиком ножа и стряхивает — всего-то несколько частиц белой пыльцы — в молоко. Потом одну и семь восьмых, а может, одиннадцать двенадцатых пилюли или даже пятнадцать шестнадцатых глотает сама и несет бутылочку наверх. Она берет на руки мое тотчас же напрягшееся тельце и помещает соску в мой укоризненный ротишко. Молоко все еще горячеватое для меня, и поначалу я плююсь им в Джилл. Потом, чуть погодя, я решаю, что сойдет, и высасываю бутылочку до дна.
Айона кричит. Джилл просыпается. Дом полон солнечного света и Айониного крика.
По плану Эйлса и Айона с матерью должны были оставаться у гуэлфской родни до вечера, чтобы не ехать на машине по самой жаре. Но после завтрака Айона устроила переполох. Она незамедлительно возжелала отправиться домой к деточке, твердя, что всю ночь глаз не сомкнула от беспокойства. Стыдясь дальнейших препирательств с ней при родственниках, Эйлса сдалась, и они прибыли поздним утром и открыли дверь своего совершенно беззвучного дома.
— Фу! — сказала Эйлса. — У нас всегда так воняет? Неужели мы просто принюхались?
Айона нырнула ей под руку и помчалась вверх по лестнице. А теперь она кричит:
Мертвая! Мертвая! Убийца!
Ей ничего не известно про пилюли, так почему же она кричит «убийца»? Из-за одеяльца. Она видит одеяльце, которым я накрыта с головой. Удушение. Не отравление. И полсекунды не прошло, как от слова «мертвая» она перескакивает к слову «убийца». Мгновенный летучий прыжок. Она хватает меня из кроватки вместе с обвивающим меня одеяльцем-саваном и, прижимая сверток к себе, с криком выбегает из комнаты и несется в комнату Джилл.
Джилл с усилием пытается продрать глаза после двенадцати- или тринадцатичасового сна.
— Ты убила моего ребенка! — кричит Айона ей в лицо.
Джилл не поправляет ее — не говорит: «нет, моего». Айона обвиняюще протягивает меня, чтобы показать Джилл. Но прежде чем Джилл успевает хоть мельком взглянуть, Айона меня выхватывает. Со стоном она сгибается пополам, будто ей выстрелили в живот. Не выпуская меня из рук, мчится по лестнице вниз и врезается в Эйлсу, спешащую навстречу. Эйлса чуть не падает с ног, она цепляется за перила, но Айона не замечает этого. Кажется, что свертком со мной она пытается заткнуть новую ужасную дыру в самой сердцевине своего тела. Слова вырываются наружу с новыми стонами осознания:
Деточка! Любовь моя! Миленькая! О-о-о-о-о! О-о-о-о! Она ее. Задушила. Одеялом. Деточка! Полиция!
Джилл спала, не укрываясь и не раздеваясь. На ней по-прежнему вчерашние шорты и лифчик, и она не понимает, проспала она всю ночь или только часок вздремнула. Не понимает, где она и какой нынче день. И что такое говорит Айона? Нащупывая путь из чана, обитого теплым войлоком, Джилл скорее видит Айонины выкрики, чем слышит их, они похожи на горячие красные вспышки, раскаленные вены внутри ее век. Как ни цепляется она за роскошь непонимания, понимание наступает неотвратимо. Она знает, что это обо мне. Но Джилл думает, что Айона ошиблась. Она попала в плохую часть сна. Та часть уже завершилась. С ребенком все хорошо. Джилл позаботилась о ребенке. Она вышла на улицу, отыскала дитя и накрыла его. Все хорошо. В коридоре внизу Айона делает над собой усилие и выкрикивает несколько слов подряд:
— Она натянула одеяльце ей на голову, она ее придушила.
Эйлса сползла по лестнице, цепляясь за перила.
— Положи ее, — просит она, — положи.
Айона прижимает меня к себе и воет. Потом протягивает меня Эйлсе, приговаривая:
— Смотри! Смотри!
Эйлса отворачивает голову набок.
— Не буду! Я не буду, — повторяет она.
Айона подходит вплотную и тычет мною Эйлсе в лицо. Я все еще с головой завернута в одеяльце, но Эйлса этого не знает, а Айона то ли не замечает, то ли ей все равно.
Теперь уже Эйлса кричит:
— Брось ее, брось! Я не стану смотреть на труп!
Миссис Киркем появляется из кухни, причитая:
— Девочки, ох, девочки! Что за беда между вами приключилась? Я этого не вынесу, так и знайте.
— Посмотри! — Айона забывает об Эйлсе и, обойдя кухонный стол, подходит к матери и показывает меня ей.
Эйлса в это время хватает в коридоре трубку телефона и диктует оператору номер доктора Шанца.
— О, да это же ребенок! — говорит миссис Киркем, сдернув одеяльце.
— Она его задушила! — говорит Айона.
— О нет! — говорит миссис Киркем.
Эйлса тем временем разговаривает по телефону с доктором Шанцем, дрожащим голосом она просит его немедленно прийти. Она отворачивается от телефона и смотрит на Айону, сглатывает, чтобы прийти в себя, и говорит:
— Так, а ты… Прекрати верещать!
Айона в ответ вызывающе взвизгивает на высокой ноте и убегает прочь в коридор, а потом в гостиную. Она по-прежнему прижимает меня к себе. Джилл появляется на лестничной площадке наверху. Эйлса замечает ее и велит:
— Спускайся сюда.
Эйлса просто не знает, что она сделает с Джилл, что скажет, когда та спустится. Вид у Эйлсы такой, словно она готова отхлестать Джилл по щекам.
— Поздно уже истерить, — говорит она.
Лифчик у Джилл перекосился, и одна грудь почти полностью вывалилась наружу.
— Приведи себя в порядок, — велит ей Эйлса. — Ты что, спала одетая? Ты как пьяная.
Джилл все кажется, что она бредет по белоснежной целине сна. А эти одержимые вторглись в ее сон.
Теперь Эйлса способна подумать еще кое о чем необходимом. Что бы тут ни произошло, ни о каком убийстве не может быть и речи. Да, младенцы, случается, умирают, без всякой причины, во сне. Она слыхала об этом. Ни полиции. Ни вскрытия. Просто печальные маленькие похороны. Одна загвоздка — Айона. Доктор Шанц сейчас сделает Айоне укол, и она уснет. Но он не сможет колоть ее ежедневно.
Надо отправить Айону в Моррисвиль. Сейчас это больница для душевнобольных, прежде там была богадельня, а в будущем ее назовут психиатрической лечебницей, а потом отделением психического здоровья. Но большинство местных зовут это заведение Моррисвилем — по названию окрестной деревни. «Прямой дорожкой в Моррисвиль», — говорят они. Или: «Ее поместили в Моррисвиль». Или: «Продолжай в том же духе, и кончишь свои дни в Моррисвиле».
Айона там уже бывала, и ее могут снова туда положить. Доктор Шанц даст направление и будет держать ее там до тех пор, пока не решит, что она готова вернуться. Смерть младенца вызвала у нее помутнение рассудка. Галлюцинации. Как только это будет установлено, Айона перестанет представлять опасность. Никто не станет прислушиваться к ее бредням. Это будет очередной нервный срыв. Вообще-то, похоже, так и есть на самом деле, похоже, она уже на полпути к нервному срыву: вон как визжит и мечется по дому. Это может остаться на всю жизнь. А может, и нет. Нынче столько всяких современных процедур. И успокоительное дают, и шоковую терапию проводят, если считают, что лучше стереть некоторые воспоминания, а если придется, то и операции делают тем бедолагам, кто постоянно не в себе. Не в Моррисвиле, конечно, на операции возят в город.
Во всем этом — мигом пронесшемся в мозгу Эйлсы — ей придется положиться на доктора Шанца. На его услужливое нелюбопытство и добровольное желание смотреть на вещи ее глазами. Но это не составит труда для всякого, знающего, что ей пришлось пережить. Сколько она вложила в доброе имя этой семьи, какие удары перенесла: от разрушенной карьеры отца и повредившегося рассудка матери до провала Айоны в школе медсестер и гибели Джорджа на войне. Неужели в довершение всего Эйлса заслуживает публичного скандала — сплетен в газетах, суда над невесткой, а то и заключения невестки в тюрьму? Доктор Шанц так никогда не подумает. И не только потому, что не может не вывести все эти резоны из своих добрососедских наблюдений. И не только потому, что способен понять: люди, вынужденные обходиться без уважения, рано или поздно почувствуют холод.
Все причины помогать Эйлсе выдает сейчас голос доктора Шанца, то, как он зовет ее, вбежав через заднюю дверь в кухню.
Джилл стоит на верхней площадке лестницы, она только что сказала Эйлсе, что с ребенком все в порядке, а Эйлса ответила ей:
— Ни звука, пока я не скажу тебе, что говорить.
Миссис Киркем стоит в дверном проеме из кухни в коридор, прямо на пути у доктора.
— О, как я рада вас видеть! — говорит она. — Эйлса и Айона так расстроены, так расстроены. Айона нашла под дверью ребеночка, а теперь говорит, что он мертв.
Доктор Шанц приподнимает миссис Киркем и отставляет ее в сторонку. Он снова говорит:
— Эйлса?
И протягивает руки, но решается лишь на то, чтобы крепко сжать ее плечи.
Из гостиной выходит Айона. Выходит с пустыми руками.
— Что ты сделала с ребенком? — спрашивает Джилл.
— Спрятала, — дерзко отвечает Айона и корчит ей рожу — злобную гримасу, какую способен скорчить только смертельно испуганный человек.
— Доктор Шанц сейчас сделает тебе укол, — говорит Эйлса. — И ты уймешься наконец.
Разворачивается абсурдная сцена: Айона носится по комнате, прорываясь к выходу из дома, Эйлса в прыжке преграждает ей дорогу, затем у лестницы доктор Шанц хватает Айону и удерживает, сжимая ей руки.
— Ну же, ну же, Айона. Не дергайтесь. Вам скоро полегчает.
И Айона воет, скулит и затихает. Звуки, которые она издает, ее попытки вырваться и сбежать напоминают лицедейство. Как будто, несмотря на то что она в буквальном смысле на грани безумия, Айона понимает, что противостоять Эйлсе и доктору Шанцу практически невозможно и все, что ей осталось, — вот эта пародия на сопротивление. Которая явно доказывает — и, наверное, именно этого Айона хочет на самом деле, — что она вовсе не сопротивляется им, она капитулирует. Расклеивается самым постыдным и неловким образом от Эйлсиного крика:
— Как тебе только самой от себя не противно!
Орудуя шприцем, доктор Шанц приговаривает:
— Хорошая девочка, Айона. Ну вот и все. — А через плечо обращается к Эйлсе: — Займитесь мамой. Усадите ее где-нибудь.
Миссис Киркем утирает слезы пальцами.
— Со мной все в порядке, дорогуша, — говорит она Эйлсе. — Только вот хоть бы вы, девочки, не дрались больше. Надо было сказать мне, что Айона родила ребеночка. Вы должны были позволить ей его оставить.
Миссис Шанц в халате поверх летней пижамы входит в дом через кухонную дверь.
— Все живы-здоровы? — спрашивает она громко.
Она замечает кухонный нож на столе, и ей приходит в голову, что надо спрятать его в ящик, от греха. Во время раздоров нож на самом виду — распоследнее дело.
В самый разгар всего этого Джилл кажется, что она слышит слабый плач. Она неловко перелезает через перила, чтобы обойти Айону с доктором Шанцем, пробегает половину лестничного пролета наверх и, когда Айона бросается следом, спрыгивает на пол. Она распахивает двустворчатые двери гостиной и поначалу не видит никаких признаком моего присутствия. Но приглушенный плач доносится снова, и, следуя за звуком, Джилл заглядывает под диван.
И вот она я, задвинута под диван рядом со скрипкой.
Во время недолгой своей пробежки из коридора в гостиную Джилл вспомнила все, ей кажется, дыхание ее замирает и ужас теснится у рта, а потом со вспышкой радости жизнь ее запускается заново, когда, почти как во сне, она находит живое и невредимое дитя, а не иссохший трупик с похожей на мускатный орех головкой. Она берет меня на руки. Я не цепенею, не брыкаюсь, не выгибаю спинку. Я по-прежнему сплю сладким сном из-за снотворного в молоке, свалившего меня на всю ночь и полдня, и будь этого снотворного чуточку — совсем чуточку — больше, оно могло бы и в самом деле меня прикончить.
И одеяльце тут вовсе ни при чем. Любой, кто бы трезво взглянул на одеяльце, заметил бы: оно настолько легкое и такого рыхлого плетения, что свободно пропускает столько воздуха, сколько мне нужно. Сквозь него дышать так же легко, как сквозь рыболовную сеть.
Отчасти, видимо, тут сказалась обессиленность. Целый день беспрестанного рева, этакий яростный подвиг самовыражения, наверное, вымотал меня совершенно. Это, да еще белый порошок в молоке, повергло меня в глубокий, беспробудный сон, я дышала так поверхностно, что Айона не ощутила моего дыхания вовсе. Вы, наверное, скажете, что она могла бы на ощупь почувствовать, что я не холодная, скажете, что все эти вопли, рыдания и беготня должны были непременно разбудить меня. Не знаю, почему этого не случилось. Думаю, она не заметила, потому что испугалась, а также перевозбудившись еще до того, как нашла меня, но вот почему я не заплакала позже, понятия не имею. А может, я и плакала, да в суматохе никто меня не слышал. А может, Айона и слышала, но запихнула меня под диван, потому что к тому времени все вокруг уже было вверх дном. А потом меня услышала Джилл. Именно Джилл, единственная.
Айону перенесли на тот же самый диван. Эйлса стянула с нее туфли, дабы уберечь обивку, а миссис Шанц пошла наверх за легким стеганым одеялом, чтобы укрыть им Айону.
— Знаю, чтобы согреться, оно ей не нужно, — сказала она. — Но я думаю, ей будет уютнее проснуться под одеялом.
Перед этим все, конечно же, сгрудились вокруг меня, дабы удостовериться, что я жива. Эйлса винила себя, что не убедилась в этом сразу. Она ни за что не хотела признаться, что боялась посмотреть на детский труп.
— Наверное, Айонина дурь заразна, — сказала она. — Я обязана была убедиться.
Эйлса посмотрела на Джилл и уже хотела было велеть ей пойти и надеть блузку поверх лифчика, а потом вспомнила, как грубо разговаривала с Джилл, причем, оказывается, незаслуженно, так что на этот раз Эйлса ничего не сказала и даже не попыталась убедить свою мать, что у Айоны не было никакого ребенка; впрочем, она тихонько сказала миссис Шанц:
— Это стало бы сплетней века.
— Как хорошо, что ничего страшного не случилось, — сказала миссис Киркем, — а то я на минуточку подумала, что это Айона сотворила такое. Эйлса, ты не должна обвинять сестру.
— Нет, мама, что ты, — ответила Эйлса, — пойдем на кухню, присядем.
На кухне стояла наготове бутылочка смеси, которую по праву я должна была востребовать и высосать еще рано утром. Джилл, управляясь одной рукой, поставила ее греться в горячую воду, все время держа меня на сгибе другой руки. Она поискала на кухне нож и не нашла его, к своему удивлению. Правда, она разглядела на столе мельчайшие белые пылинки — или они ей просто привиделись? Джилл стерла их свободной рукой, прежде чем открыть кран, чтобы налить воды в кастрюльку с бутылочкой.
Миссис Шанц занялась приготовлением кофе. Пока кофе закипал, она поставила стерилизатор на плиту и вымыла вчерашние бутылочки. Тактичная и сведущая, миссис Шанц ухитрилась скрыть тот факт, что находила нечто воодушевляющее во всем этом раскардаше и смятении чувств.
— Думаю, Айона слишком зациклилась на ребенке, — сказала она. — Что-то такое уже назревало.
Эти слова предназначались ее мужу и Эйлсе, и, отвернувшись от плиты, миссис Шанц увидела, как доктор тянет Эйлсу за руки, которыми та обхватила голову с обеих сторон. Как-то чересчур поспешно и виновато он отдернул свои руки от Эйлсиных. Если бы не это, все выглядело бы обыкновенным утешением. Он же доктор — это его обязанность.
— Знаете, Эйлса, я думаю, вашей маме тоже необходимо прилечь, — сказала миссис Шанц заботливо и, не делая паузы, прибавила: — Полагаю, мне следует пойти и убедить ее. Если ей удастся поспать, возможно, все это выветрится у нее из головы. И у Айоны, если повезет.
Миссис Киркем забрела в кухню, но почти сразу же удалилась куда-то. Миссис Шанц нашла ее в гостиной: склонившись над Айоной, мать подтыкала дочери одеяло. Ложиться миссис Киркем не очень-то хотела. Ей хотелось, чтобы кто-нибудь объяснил ей, что происходит, ведь она знала, что ее собственные объяснения окажутся почему-то наперекосяк. Ей так хотелось, чтобы люди разговаривали с ней как прежде, а не преувеличенно вежливо и самодовольно, как теперь. Но поскольку она была человеком воспитанным и знала, что почти ничего не значит в этом доме, она позволила миссис Шанц проводить ее наверх.
Джилл изучала инструкции приготовления детской смеси. Они были напечатаны на боку банки с кукурузным сиропом. Услышав шаги, удаляющиеся вверх по лестнице, она решила, что сейчас надо воспользоваться шансом. Она принесла меня в гостиную и положила в кресло.
— А теперь, — доверительно прошептала она мне, — полежи тихонечко.
Джилл встала на колени, осторожно поддела и вытащила скрипку из укрытия. Отыскала велюровый чехол и футляр и спрятала скрипку как положено. Я лежала неподвижно, поскольку была еще не совсем в состоянии повернуться, и молчала.
Оставшись одни, совсем одни в кухне, доктор Шанц и Эйлса, наверное, не воспользовались моментом, чтобы обняться, и просто смотрели друг на друга. Все зная, без обещаний, без отчаяния.
Айона призналась, что не пощупала пульс. И никогда не говорила, что я холодная. Она сказала, что я была застывшая. Вернее, не столько застывшая, сколько отяжелевшая. Жутко тяжелая, сказала она, и ей тут же пришло в голову, что я не могу быть живой. Неподатливый, мертвый груз.
Думаю, что-то в этом есть. Я не верю, что умерла и воскресла, но я на самом деле думаю, что находилась в некотором отдалении и могла вернуться оттуда или не вернуться. Думаю, что исход не был определен и тут была замешана воля. Моя воля — это я решала, пойти мне тем путем или этим.
А любовь Айоны — безусловно, самая искренняя любовь, которую мне когда-либо в жизни дарили, — не стала для меня решающей. Ее крики и плач, то, как она притискивала меня к себе, не подействовали, не убедили меня до конца. Потому что не Айону мне пришлось избрать в итоге. (Знала ли я, да и откуда я могла знать, что в конце концов не Айона будет для меня полезней и лучше всех?) А Джилл. Мне пришлось выбрать Джилл и то, что я смогу от нее получить, даже если это выглядело как полбуханки вместо целой.
Мне кажется, что только тогда я стала существом женского пола. Знаю, конечно, этот вопрос был решен задолго до моего рождения и для всех был ясен как день с тех пор, как я появилась на свет, но я уверена, что именно в тот миг, когда я решила вернуться, когда прекратила борьбу против своей матери (направленную, скорее всего, на ее полную капитуляцию), когда я выбрала выживание, а не победу (победой стала бы смерть), тем самым я приняла свою женскую природу.
А Джилл в какой-то степени приняла свою. Трезво и благодарно, не решаясь даже представить себе, чего она только что избежала, она приняла неизбежность любить меня, поскольку альтернативой любви была беда.
Доктор Шанц заподозрил что-то, но вида не подал. Спросил, какой я была накануне. Беспокойной, капризной? Джилл сказала, что да, очень капризной. Доктор сказал, что недоношенные, даже совсем чуточку недоношенные младенцы очень уязвимы и за ними нужен глаз да глаз. Он рекомендовал всегда укладывать меня спать на спинку.
Айона обошлась без шоковой терапии. Доктор Шанц прописал ей таблетки. Он сказал, что она переутомилась, ухаживая за мной. Женщина, заменившая Айону в пекарне, очень хотела уйти оттуда, потому что ей не нравилось работать по ночам. Так что Айона вернулась на прежнее место.
И вот что я отчетливее всего помню о своих летних побывках у теток, когда мне было лет семь или восемь. Как Айона брала меня с собой в пекарню в непривычный — обычно запретный полуночный час, как она надевала белый колпак и фартук, как месила огромное тесто, а оно шевелилось и пыхкало, словно живое. Как она вырезала фигурное печенье, скармливая мне обрезки, и как по особым случаям украшала свадебный торт. До чего яркой, белой и просторной была ее кухня, где ночь заполняла доверху каждое окно. Я соскребала остатки свадебной глазури со стенок миски — тающую, ломкую, соблазнительную сладость. Эйлса считала, что мне вредно не спать допоздна и объедаться сладким. Но на деле не препятствовала нам с Айоной. Интересно, говорила Эйлса, что сказала бы моя мама на это — как будто именно моя мама, а не она сама была мерилом всех вещей. У Эйлсы имелись определенные правила, которые я не обязана была соблюдать дома: вешать куртку, ополаскивать стакан перед тем, как вытереть, иначе на нем останутся пятна, но я никогда не видела в Эйлсе неумолимую тираншу из маминых воспоминаний.
И ни разу никто слова худого не сказал о музыке Джилл. В конце концов, она зарабатывала ею нам на жизнь. Она все же одолела Мендельсона. И получила диплом — закончила консерваторию. Она подстриглась и похудела. На свою вдовью пенсию смогла снять полдома неподалеку от Хай-парка в Торонто и нанять женщину, которая нянчила меня в ее отсутствие. А потом Джилл нашла работу в оркестре на радио. И гордилась, что всю жизнь играет на скрипке, никогда не опускаясь до преподавания. По ее словам, она знала, что она не великая скрипачка, не наделена чудесным даром или призванием, но по крайней мере она могла заниматься тем, чем хочет, и зарабатывала этим на жизнь. Даже выйдя замуж за отчима и переехав к нему в Эдмонтон (отчим работал геологом), она продолжила играть в местном симфоническом оркестре. Играла вплоть до последней недели перед рождением обеих моих сводных сестер. Она говорила, что ей повезло — муж никогда не возражал.
Айона срывалась еще пару раз, самый серьезный приступ случился, когда мне было лет двенадцать. Ее поместили в Моррисвиль на несколько недель. Думаю, там ей кололи инсулин — она вернулась пополневшей и щебетала без умолку.
Я приехала в гости, пока Айоны не было. Со мной приехали Джилл и моя первая сестричка, она только недавно родилась. Из разговоров между мамой и Эйлсой я поняла, что появление в доме младенца при Айоне нежелательно, а то она опять может «слететь с катушек». Не знаю, был ли связан с младенцем тот приступ, из-за которого она угодила в Моррисвиль.
В тот приезд я чувствовала себя совершенно заброшенной. И Джилл, и Эйлса любили покурить, они засиживались допоздна у стола на кухне за кофе и сигареткой, дожидаясь детского кормления в час ночи. (Второго ребенка мама кормила грудью — и не без радости я узнала, что была избавлена от этой сокровенной, подогретой материнским телом пищи.) Я помню, как сошла по лестнице, хмурая, потому что не могла уснуть, потом разболталась, раззадорилась не в меру и все пыталась встрять в разговор. Я прекрасно понимала, что их беседа не для моих ушей. Ни с того ни с сего они стали добрыми подругами.
Я попыталась схватить сигарету, и мама сказала:
— Ну все, хватит, прекрати сейчас же. Дай нам поговорить.
Эйлса велела мне взять что-нибудь попить из холодильника — кока-колу или имбирную газировку. Я достала бутылку, но вместо того, чтобы подняться с ней в спальню, вышла во двор.
Я села на заднем крыльце, но женские голоса сразу же стали слишком тусклыми, я слышала только интонацию — тихое сожаление или ободрение. Тогда я принялась рыскать по заднему двору за пределами прямоугольника света, сочившегося сквозь сетчатые двери.
В длинном белом доме с отделанными стеклянным кирпичом углами теперь жили другие люди. Шанцы переехали и теперь круглый год жили во Флориде. Они присылали моим теткам апельсины, которые, как говаривала Эйлса, навсегда отвратят от любых апельсинов, продающихся в Канаде.
Новые жильцы оборудовали бассейн, в котором плескались в основном две их симпатичные дочки-подростка, смотревшие сквозь меня при встрече на улице, и их кавалеры. Кусты между их двором и двором моих теток сильно разрослись, но мне по-прежнему было видно, как они бегают вокруг бассейна и толкают друг дружку в воду, громко визжа и бултыхаясь.
Я презирала их прыжки и ужимки, потому что относилась к жизни серьезно и имела более возвышенные и романтические представления о любви. Но в то же время мне хотелось привлечь их внимание. Вот бы кто-то из них заметил, как моя бледная пижама проплывает сквозь тьму, и завопил бы нешуточно, решив, что я — привидение.
Примечания
1
Ютландское сражение (1916) — крупнейшее морское сражение Первой мировой войны, в котором сошлись германский и британский флоты. Произошло в Северном море, близ датского полуострова Ютландия. (Здесь и далее примеч. перев.)
(обратно)2
Гурон — озеро в США и Канаде, одно из североамериканских Великих озер.
(обратно)3
28 мая 1934 года в городе Корбей, к северо-западу от Онтарио, женщина родила пятерых близнецов на седьмом месяце беременности, и все они выжили. С шестимесячного возраста девочек содержали в вольере и показывали за деньги.
(обратно)4
Говард Мелвин Фаст (1914–2003) — американский писатель и общественный деятель, член компартии США, лауреат Сталинской премии.
(обратно)5
Кэтрин Мэнсфилд (Кэтлин Бичем, 1888–1923) — новозеландская и английская писательница-новеллистка, самый знаменитый писатель Новой Зеландии. Дэвид Герберт Лоуренс (1885–1930) — один из ключевых английских писателей начала XX века, автор романов «Любовник леди Чаттерлей», «Радуга», «Сыновья и любовники» и др.
(обратно)6
Персонажи рассказа Кэтрин Мэнсфилд «У залива».
(обратно)7
Соня Хени (1912–1969) — норвежская фигуристка, а позже американская актриса. Самый известный фильм с ее участием — «Серенада солнечной долины» (1941).
(обратно)8
Залив Беррард — относительно мелководный фьорд на юго-западе провинции Британская Колумбия, Канада.
(обратно)9
Корейская война — конфликт между Северной и Южной Кореей, длившийся с 25 июня 1950-го по 27 июля 1953 года. Часто этот конфликт времен холодной войны рассматривается как опосредованная война между США с их союзниками и силами КНР и СССР.
(обратно)10
Джон Фостер Даллес (1888–1959) — американский политик-республиканец, занимавший пост государственного секретаря США при президенте Дуайте Эйзенхауэре.
(обратно)11
Юлиус Розенберг (1918–1953) и его жена Этель (1915–1953) — американские коммунисты, обвиненные в шпионаже в пользу Советского Союза.
(обратно)12
Джакарта — столица и крупнейший город Индонезии.
(обратно)13
Вирджиния Вулф (1882–1941) — британская писательница, литературный критик. Ведущая фигура модернистской литературы первой половины XX века.
(обратно)14
Мэри Фрэнсис «Дебби» Рейнольдс (1932–2016) — американская актриса и певица.
(обратно)15
Мэтью Арнольд. Берег Дувра. Перевод Вланеса.
(обратно)16
Юнион-Бэй — небольшое поселение в Британской Колумбии, Канада.
(обратно)17
«Обрученные» (1827) — роман Алессандро Мандзони (1785–1873), первый исторический роман в итальянской литературе.
(обратно)18
Олдос Леонард Хаксли (1894–1963) — английский писатель и философ.
(обратно)19
Генри Грин (1905–1973) — английский писатель, «последний британский модернист».
(обратно)20
«На маяк» (1927) — пятый роман Вирджинии Вулф.
(обратно)21
«Конец Шери» (1927) — роман Сидони-Габриель Колетт (1873–1954).
(обратно)22
«Смерть сердца» (1938) — роман Элизабет Боуэн (1899–1973).
(обратно)23
Эрик I Кровавая Секира (885–954) — король (конунг) Норвегии в период с 930 по 934 год.
(обратно)24
Кнут, Канут, Кнуд — имя нескольких датских и шведских королей. Здесь, вероятно, имеется в виду Кнут Великий (994/995–1035) — король Дании, Англии и Норвегии, правитель Шлезвига и Померании; согласно легенде, когда один из придворных подхалимов сказал, что король мог бы требовать покорности у моря, Кнут продемонстрировал невозможность этого.
(обратно)25
Виктория — город на крайнем западе Канады, столица провинции Британская Колумбия. Расположен на юго-восточном крае острова Ванкувер.
(обратно)26
«Мосты округа Мэдисон» (1995) — мелодрама Клинта Иствуда, снятая по одноименному роману Р. Дж. Уоллера.
(обратно)27
Сэмюэл Беккет (1906–1989) — ирландский писатель, поэт и драматург, один из основоположников театра абсурда, лауреат Нобелевской премии по литературе.
(обратно)28
«Уже светало» — популярный христианский гимн на стихи известной английской детской писательницы Элинор Фарджон (1881–1965).
(обратно)29
Гарольд Пинтер (1930–2008) — один из самых влиятельных британских драматургов своего времени.
(обратно)30
Здесь и далее поэма А. Теннисона «Волшебница Шалот» цитируется в переводе К. Бальмонта.
(обратно)31
Жан Ануй (1910–1987) — французский драматург и сценарист, видный деятель французской литературы XX века.
(обратно)32
Сэр Ноэль Пирс Кауард (1899–1973) — английский драматург, актер, композитор и режиссер. Мастер «хорошо сделанной пьесы» с остроумными диалогами.
(обратно)33
«Герцогиня Мальфи» («Трагедия герцогини Мальфи») — кровавая драма английского драматурга Джона Уэбстера, написанная в 1612–1613 годах.
(обратно)34
«Оглушительное бренчание» (1959) — сатирическая комедия английского драматурга Н. Ф. Симпсона.
(обратно)35
Ж. Ануй. Эвридика. Перевод Е. Бабун.
(обратно)36
Гилберт и Салливан — либреттист Уильям Гилберт (1836–1911) и композитор Артур Салливан (1842–1900). В период с 1871 по 1896 год они создали четырнадцать комических опер, которые часто упоминаются как оперетты.
(обратно)37
Господин постановщик (фр.).
(обратно)38
Кэмпбелл-Ривер — город на острове Ванкувер (Британская Колумбия, Канада).
(обратно)39
Нанаймо — второй по численности населения город на острове Ванкувер.
(обратно)40
«Нежная Ирма» — кинофильм, снятый в 1963 году американским режиссером Билли Уайлдером по популярному французскому музыкальному водевилю, фарсовая комедия о странностях любви в парижских «кварталах красных фонарей».
(обратно)41
Рене-Робер Кавелье де Ла Саль (1643–1687) — французский исследователь Северной Америки, первым из европейцев проплывший по реке Миссисипи и объявивший весь ее бассейн владением французского короля под названием Луизиана.
(обратно)42
«Wake up, wake up, darlin’ Corey» — первая строчка народной песни «Darlin’ Corey», особенно известной в исполнении Пита Сигера и квартета The Weavers (начало 1950-х гг.).
(обратно)43
Кофе с молоком (фр.).
(обратно)44
Понтиак (1720–1769) — вождь индейского племени оттава из группы алгонкинов в Северной Америке. В 1760-е годы возглавил подготовку восстания индейских племен против английских колонизаторов.
(обратно)45
Садбери — ударный кратер, уникальный и богатейший медно-никелевый рудный район в Канаде (штат Онтарио).
(обратно)46
Традиционное блюдо итальянской кухни, представляющее собою тушеную телячью рульку с овощами и рисом.
(обратно)47
Дитя (фр.).
(обратно)48
Джон Фицджеральд Кеннеди (1917–1963) и Ричард Милхауз Никсон (1913–1994) — кандидаты в президенты США на выборах 1960 года от демократической и республиканской партий.
(обратно)49
Имеется в виду «Сэр Галахад» — известное полотно Джорджа Фредерика Уоттса (1817–1904).
(обратно)50
Резня в Гленко 13 февраля 1692 года — эпизод шотландской истории, массовое убийство членов ветви клана Макдональд из деревни Гленко по приказу секретаря по делам Шотландии Джона Далримпла.
(обратно)51
Пьер Франси де Марини Бертон (1920–2004) — канадский писатель, автор около 50 книг по истории Канады, журналист и теледеятель.
(обратно)52
Строчки из стихотворения «Король Генри» Хилэра Беллока (1870–1953) — здесь и далее перевод стихотворений Е. Калявиной.
(обратно)53
«Девушка с золотого Запада» (1938) — кинокартина американского режиссера Роберта З. Леонарда.
(обратно)54
«Patrick Spens», «The Twa Corbies» — шотландские народные баллады, вошедшие в десятитомный сборник фольклориста Д. Ф. Чайлда «Английские и шотландские народные баллады», опубликованный в конце XIX века.
(обратно)55
Стихотворение Х. Беллока «Про Франклина Хайда».
(обратно)56
Анна Джеймсон (1794–1860) — ирландская писательница, историк и искусствовед.
(обратно)57
Стихотворение ирландского поэта Уильяма Баттлера Йейтса (1865–1939).
(обратно)58
«Земляничная поляна» и «Седьмая печать» (1957) — фильмы шведского режиссера Ингмара Бергмана.
(обратно)59
«О малый город Вифлеем!» — популярная рождественская песня, стихи Филлипса Брукса, музыка Льюиса Реднера.
(обратно)60
Гимн памяти павших в Первой мировой войне, стихи Джона Стэнхоупа Аркрайта, музыка Чарльза Харриса.
(обратно)61
«Мост Короля Людовика Святого» (1927) — роман американского прозаика Торнтона Уайлдера.
(обратно)62
Гуэлф — город в канадской провинции Онтарио.
(обратно)







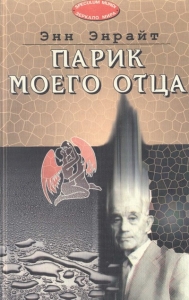



Комментарии к книге «Любовь хорошей женщины», Элис Манро
Всего 0 комментариев