Леонид Нетребо ЧЕРНЫЙ ДОКТОР
ИКЕБАНА
…Дверь в квартиру соседки Бориса, бывшей одноклассницы, пришлось взламывать. Хозяйку нашли в ванной комнате. Она, обмякшая, висела на капроновом бельевом шнуре, прижавшись грудью и щекой к кафельной плитке, как будто отдыхала после безуспешных попыток обнять стену в крупных гладких шашках. Полные большие красивые ноги, переломившись в сгибах, мирно лежали на линолеуме, коленки едва не касались пола. Видно, ей пришлось несколько долгих секунд изо всех сил неудобно поджимать под себя ноги, чтобы умереть.
За три дня, до собственно похорон, все зыбкие версии случившегося были обстоятельно пересужены. Живым, как, наверное, всегда в таких случаях, было невдомек, что заставило двадцатипятилетнюю женщину наложить на себя руки. Любящий муж, пятилетний крепыш сын. Родители — с той и другой стороны — люди в достатке, с положением. Хороший пример родительских возможностей двухкомнатная квартира, подаренная молодоженам в день свадьбы. Вектор мнений, не приладившись ни к чему конкретному, раздраженно уперся в «понятную» причину: слишком легко и сразу все в жизни досталось. Кому-то не до жиру, а кто-то с жиру бесится…
Светка была из тех, которых называют скороспелками: к пятнадцати годам это уже сформировавшиеся девушки. Формы, взгляд, манера держаться. Движения плавные, продуманные, с показной небрежностью. Несовершенство обнаруживается реакцией на внешние раздражители: детская искорка во взрослом взгляде, наивное слово, «нелогичная» слеза… Чуть более замкнутые, чем другие сверстницы, чуть более обидчивые. Светка до окончания школы ходила по коридорам с присогнутыми в локтях руками, ладони напряженными пригоршнями и вниз — наготове защита от нечаянных неосторожных прикосновений, толчков, тычков в коридорной сутолоке. Но рассеянность рано расцветающей девушки сказывалась, и Светке то и дело доставалось по мягким бокам, груди, бедрам. Некоторые из мальчишек делали это намеренно — якобы случайно.
Подружки всегда ей завидовали. Борис догадывался, что когда Светка после школы неожиданно быстро вышла замуж, почти все бывшие одноклассницы тайно облегченно вздохнули: карьера, которую предрекали преподаватели одной из лучших учениц, не начавшись завершилась. Нечего было теперь и думать о столице, об институте. Но женская логика продолжала свое поступательное развитие, и скоро бывшие подруги опять нашли почву для зависти — у других «невест» пока не было и того, чем уже обладала Светка. Муж, конечно, не Филипп Киркоров. Лет на десять старше, звезд с неба уже не схватит — птицу видно по полету, заводской технарь среднего пошиба. Песен не поет. Но зато домашний, за воротник не закладывает. И, говорят, любит… Наверное, последнее для Светки, школьной «прынцессы», было немаловажно, потому что слыла она в их небольшой школе натурой романтической. Однажды в девятом классе даже влюбилась в преподавателя-практиканта из университета.
Историк был действительно интересным малым. Преподавал всего пару месяцев, а наговорил!.. Впрочем, Борису только и запомнилась высказанная практикантом версия того, почему люди на Западе живут дольше, чем у нас. Оказывается, дело в психологическом настрое: человека делает борьба с внешней средой. Там с самого рождения «настрой на выживание» — организм в состоянии постоянной мобилизации, причем оптимистической: «Во-первых, все зависит единственно от меня; во-вторых, я все могу, только нужно приложить упорство». У нас мало что требуется от индивидуума, все накатано — детский сад, школа, институт (техникум, училище), завод, женитьба и так далее. Результат — инстинкт самосохранения ослаблен, атрофированы центры, отвечающие за волю к жизни…
Светка оставалась после уроков, их видели с молодым историком, увлеченно беседующими, в школьной библиотеке, в парке.
По окончанию практики историк зашел в свой любимый, как он уверял, класс попрощаться. Сказал небольшую речь, поблагодарил за хорошую работу. Борис, как и многие в классе, следил краем глаза за Светкой. Она сидела на первой парте и смотрела в окно. Историк был необычно напряжен, хоть и старался выглядеть как всегда веселым. Старательно смотрел поверх голов, на галерку, для чего поднимал до предела подбородок, как будто боялся, что голова случайно опустится, и взгляд невольно встретится с глазами тех, кто сидит перед ним. Слова имели второй смысл и конкретный адрес, хотя обращался он ко всем. Поблагодарил за хорошую работу, просил не судить его строго, ведь он еще не настоящий педагог, вот после окончания университета он окончательно сформируется и, кто знает, возможно, приедет преподавать в нашу школу. Если мы, конечно, захотим… А вообще-то, — закончил он неожиданно, не в тональность предыдущему, — ехать нам нужно отсюда, из окраины, куда-нибудь поближе к столице — провинция гасит человека, не дает раскрыться, наше счастье — в наших руках!.. И вышел. Светка так и не повернулась от окна.
…Как водится, каждый из мужчин должен был, хотя бы символически, поработать лопатой — дань уважения покойнице и ее близким. Борис, взяв лопату, решил кидать землю до конца, ему не трудно. К тому же, повторение нехитрого цикла — удар острием во влажную рыхлую кучу, подъем с напряжением всего тела, бросок в сырой прямоугольный зев, облегчение — удивительным образом уводило его от ощущения законченности того, что происходит. Вспоминалась живая Светка, совместное школьное десятилетие. Были периоды, когда она даже нравилась ему… Но он был так в себе неуверен всегда. Да что он! — к ней и не такие подойти боялись. Она была как звезда, как мечта. А что, действительно, будь он немного посмелее, возможно они подружились бы. Если бы, конечно, она могла тогда знать, что ее самообережение от таких вот, как Борис, простых, но добрых парней, ожидание «алых парусов» — напрасно, напрасно… Светка дождалась бы его из армии… Нет, наверное, это всегда так кажется, когда что-то безвозвратно уходит. Это от скорби, от жалости… А собственно, почему это должно быть непременно так? Ах, если бы она осталась жить, если бы все вернуть на несколько лет назад! Он бы никому ее не отдал — ни практиканту-историку, ни этому… который стал ее мужем…
Сам Борис после школы поступал в институт. Конкретной цели не было, из школьных наклонностей — только рисование (единственная пятерка в аттестате), что, естественно, серьезным достижением не считалось. Попытка была без особой уверенности, может быть поэтому оказалась неуспешной. Ушел в армию. Пока служил, надеялся, что получит высшее образование после службы. Однако не хватило духу. Пошел туда, где уже терлась добрая половина бывших одноклассников, в автобазу. Родители присматривали невесту, но Борис медлил с женитьбой. Приходил домой, ужинал, читал, телевизор почти не смотрел. Пробовал рисовать. Возил в кабине своего грузовика блокнот. Те, кто смотрел его рисунки, замечали: ну почти так, да не так, с завихрениями. Другие говорили, как некогда учитель рисования, что у него не фотографическая, а образная память, советовали серьезно заниматься, учиться живописи. Борис иногда загорался, но в результате любая вспышка заканчивалась тем, что он махал на советы рукой — кому это нужно! Все кругом жили без всяких «образов». А чем он лучше. И так, как ни старается быть как все, — белая ворона…
Чья-то ладонь крепко вцепились в черенок лопаты. Борис не сразу понял, в чем дело.
— Отдай!.. Поработал, дай другим. — Молодая женщина с уверенной улыбкой отбирала у него лопату.
Борис преодолевая сопротивление с трудом закончил бросок, нахальная рука отпустила, но как только лопата готова была вновь вонзится в кучу земли, уже две маленькие чужие ладони крепко вцепились в черенок. Не драться же. Борис отступил. Удивленный, стал наблюдать за женщиной сзади. Та резво работала отобранной лопатой, быстро перебирая длинными загорелыми жилистыми ногами, уходящими узкими бедрами под короткое тесное платье.
Борис, выходя из печального самосозерцания, откуда его с такой живой решимостью изъяли, быстро понял, что женщина, словно упавшая с неба, являлась инородным телом в этом знойном полудне, насыщенном кладбищенской мнимостью и усталой скорбью хоронивших. Она выделялась не только тем, что была единственной женщиной с лопатой, и тем, что ее одежда отличалась несезонностью: вместо летнего и, согласно случаю, однотонного сарафана, шерстяное светло-голубое платье с огромным кричащим рисунком — яркий букет цветов во всю спину и два больших иероглифа из золотых клинышков-мечей. Весь вид ее выражал не растерянность, отрешенность или хотя бы показную вежливую грусть, а хищное торжество — внезапно подвернувшуюся удачу, навар.
Оглядевшись, Борис заметил рядом еще несколько подобных женщин, правда, более потрепанных, с почти радостными лицами. Они подносили обыкновенную воду в бутылках, ловко наливали в пластмассовые стаканы всхлипывающим родственницам и вежливо скулящим подругам покойной. Забирали опорожненную посуду, убегали куда-то, быстро появлялись снова с полными бутылками. Борис понял: делали они все это так, чтобы их запомнили. Естественно, что когда процессия тронулась к автобусам, добровольные помощницы были вместе со всеми. К ним присоединились несколько кладбищенских нищих, обычно сидящих у входа, вдруг ставших довольно зрячими и «ходячими». Впереди были поминки, а значит, сытная кормежка.
За длинным поминочным столом Борис снова был неприятно поражен: ему предстояло разделить грустный стол с той самой незнакомкой в шерстяном платье. Она села напротив. С тем же японским букетом но уже на маленькой высокой груди. Борис не знал, как ее мысленно окрестить. Его художественное мышление смоделировало рисунок-образ: хищная землекопша, вид сзади. Целеустремленное вгрызание в землю — крот! Рядом с… женщиной (злобной, возмущенной решимости Бориса хватило лишь на секунду), по обе руки, расположились две одинаковые чумазые белобрысые девочки лет четырех-пяти. Женщина-Икебана (новое имя, данное Борисом, ввиду иноземности и абсолютной «невинности», еще не успело наполнится отрицательным содержанием) с аппетитом уминала угощенье, до конца выпив только первую рюмку. Не забывала про детей, неизменно добиваясь, чтобы они до «последней капельки и кусочка» поглощали свои взрослые порции. Когда одна из дочерей закапризничала, «Икебана» сделала ей замечание: «Не порть маме настроения! Вот как ты меня любишь?» Она раскраснелась, раздобрела, казалось, еще немного, и запоет.
Борис подумал: вот бы Светке при жизни немного от этой женщины. Подумал и удивился…
«Икебана» была противоположностью Светке. Такие в детстве, даже в юности, похожи на мальчишек. Худоба, но тонкая изящная угловатость, гладкая «тонированная» кожа, живые глаза на маленькой головке, венчающей шею лебеденка, быстрые резкие движения. Вечная смешинка в глазах, задор, решимость. Не в их сторону заинтересованные взгляды мальчишек, не им докучают назойливым, но таким приятным вниманием. Только опытный взрослый внимательным оком разглядит в них будущих смуглых красавиц, которых потом любят и боготворят мужчины: расцветшие к сроку они будут необычайно свежи, привлекательны. И желанны долгие годы.
Да, эта женщина, несмотря на, очевидно, нелегкую жизнь, совсем не утратила привлекательности. Хотя имелись ранние морщины — не старческие. На вид лет тридцать. Борис подумал, что через пару лет у нее появятся синие мешки под глазами, коричневые пятна на руках — верный признак бродяжьей жизни. А что будет с этими детьми?
Обычно он мало пил, сдерживался — потому что быстро пьянел. Сейчас его несколько развезло. Вырастало раздражение, адресованное всем окружающим и особенно этой «цветастой» женщине за серым столом, безмятежно сидящей напротив, и даже, ни в чем, разумеется, не виноватым детишкам, уплетающим за обе щеки домашнюю лапшу. Как стервятники. Воронье на падаль. Ни стыда не совести. Им и здесь весело. А вот Светка…
Светка, Светка!.. Тебя осуждают, ругают: «Чего ей не хватало? Не пожалела мужа, ребенка, родителей!..» И так далее, и тому подобное.
А что знаете вы о Светке? — продолжал внутренний монолог Борис, обводя жующих соседей по столу бычьим взглядом. — Ничего вы не знаете! Было, видите ли, у нее все — много и сразу. А что было-то? Кто поинтересовался: любила ли она своего мужа, любил ли он ее, — так, как она хотела, мечтала? А?… Наплевать вам на все. Вам и слова-то эти — любил, любила — чужды. При вас и произносить-то их страшно — засмеете! Никому из вас в голову не может придти, что человеку бывает невмоготу без понимания, без нормального общения, без чистой, высокой цели… Что чем жить так, лучше не жить вовсе!.. Вы говорите, что она была безвольной женщиной… Нет, уважаемые, она была сильным человеком, ибо только сильные способны на поступки, такие поступки, какой совершила она, уйдя… Вы же будете цепляться за жизнь в любой ситуации, будете прозябать, гнить заживо, продолжать никчемное тление… Потому что вы ногтя ее не стоите, потому что вы безвольная трусливая толпа. И я… Такой же, как и вы. Я — один из вас… Зачем вы живете, зачем живу я?…
Борис перешел на себя. И ему стало себя жалко. Глаза переполнились влагой, он опустил голову, приложил ладонь к переносице. Он оглох — вокруг только гул. Две росинки упали в тарелку.
Кто-то, перегнувшись через стол, трогал его за свободную руку, безвольно лежащую на скатерти. Он боялся оторвать ладонь от лица, но из-под этого козырька проявилась, из самого гула, маленькая крепкая загорелая рука, уродливо преломленная слезящимся взглядом. Шершавые пальцы гладили его, казалось, воспаленную сейчас, чувствительную как никогда, до боли от легкого прикосновения, кожу. Он постарался проморгаться. Такие знакомые пальцы! Вспомнил: это была рука, которая отбирала на кладбище лопату. Он отдернул свою ладонь, смял в кулак и прижал к груди.
— Не плачь!.. Ну же. Ничего. Все проходит. Пройдет, ну что поделаешь! Надо жить дальше. Господь терпел и нам велел. — Женщина той же рукой потрепала его, а потом погладила по голове. — Перестань, на поминках нельзя плакать. Провожать нужно… весело, — да, да!.. — она повертела головой направо и налево, обращаясь к соседям по столу: — Душе там и так тяжело!.. Пойдем отсюда, — она слегка потянула Бориса за плечо на себя, — пойдем-ка со мной, хватит!
Она вышла из-за стола, забрала детей и направилась к выходу.
Борис наскоро вытер глаза. Обратился к людям, сидящим рядом:
— Кто это?… Куда она меня позвала? Что она здесь делает, какое имеет право!.. — от слез он стал еще пьянее.
— Беженка это… С детями. — Кротко произнесла старушка по правую руку, обращаясь ко всем, кто на нее смотрел. Потом наклонилась поближе к Борису и почти зашептала на ухо: — Я почему знаю: она мне картошку копала. Нанимала я ее, у меня некому… Откуда-то с Кавказу — место забыла. Мужа убили, сама детдомовская, никому не нужна… Дом сгорел. Да. Временно здесь. Двигаются вот так — где как придется, поживут, подзаработают — и дальше. Считай пешком. Билеты нонче дорогие, я вон сколь к зятю не съезжу.
Борис тоже перешел на шепот:
— Куда двигаются? Куда здесь можно двигаться!.. Что за Броуновское движение! Чему она детей учит, а?… Что с них будет — бродяжки?
Старушка махнула на него рукой, мол, постой, сейчас объясню:
— Где-то под Читой, что ли, в деревне какой-то… Заброшенной — все разъехались, три двора живых-то. Так вот. Свекровь там ее, мужная мать, слепая почти. Туда, значит, двигаются. Домик, грит, какой, пустой — много пустых-то, разъехались кругом… Возьмут домик-то, будут жить. А что огород, скотинку. Жить можно… Руки-ноги целые. А денег на билет нет, детям есть-пить надо. Вот и перебиваются. Пешком, считай. Где что кому подмогут… Все не милостыню просить Христа ради. Нет, даром ничего не просят…
Борис вышел на улицу.
Женщина и дети, хохоча и визжа, плескались под водопроводным краном. Они долго по очереди умывались, передавая друг другу коричневый обмылок, жадно мочили головы, шеи, руки. Когда женщина совершала свой моцион, дети вдвоем висли на рычаге крана. Обувь аккуратной чередкой стояла поодаль. Женщине хотелось раздеться, она весело кричала об этом детям, обмыться хотя бы по пояс. Но оборачиваясь на прохожих, она лишь, высоко поднимала плечи, сокрушенно вздыхала, и снова и снова наклонялась к струе, омывала открытые части тела.
Борис подошел ближе.
— Куда вы меня звали? Скажите!..
Женщина, как удивленный павлин, вскинула красивую голову, затем наклонив к плечу с веткой экибаны. Мокрые длинные волосинки, отстав от русого снопа, серебрились на солнце. Борис липко моргал, загустевающая соль радужными переливами окрашивала пространство вокруг головы женщины, заполненное плавающими предметами.
— Я пойду… Я буду рисовать вас… Пойдемте вместе. Вы же меня звали. Сидел напротив. Только что…
Она рассмеялась:
— Нет, нет, ты не понял. Пойдем, говорю, из-за стола, хватит нюни распускать. Вот и все. А у меня… у нас своя дорога. Длинная!.. — Она опять засмеялась: — А нарисовать — нарисуй! — и пошла прочь, взяв детей за руки. На ходу обернулась, невероятно, волшебно вывернув шею лебеденка, улыбнулась, — дескать, запомни.
ГОСПОДА ОФИЦЕРА
Закончились военные сборы. Поезд уносил нас, недавних «курсантов» учащихся индустриального института, отслуживших положенный месяц после теоретической «военки», из знойной прибалхашской пустыни, через весь Казахстан, в милую прохладную, свободную в бесшабашном студенчестве Тюмень. Впереди был еще целый год учебы, весь пятый курс, именно после него, вместе с получением диплома, предстояло официальное присвоение нам звания лейтенантов. Но мы уже величали друг друга: «господа офицера» — со смачным ударением на последнем слоге. Конечно, дурачась. Но с тайным взаимоуважением…
В купе нас ехало четыре однокашника-«геолога».
Один держался особняком. Был он из отслуживших до института, в отличие от остальных, ставших студентами сразу после школы. На сборах ему справедливо досталось быть командиром отделения. Там его будто подменили. Истязая подопечных строевой и в нарядах, называл сынками и говорил, что покажет нам, для нашей же пользы, настоящую армию. Еще не знавшие жизни и не привыкшие к подобным перевоплощениям хорошо, казалось бы, знакомых людей, «своих в доску», мы пытались применить ко всему этому справедливую логику. И надо сказать, что, борясь с мальчишеским максимализмом, находили оправдание «товарищу сержанту» — так, а не как иначе, он требовал к нему обращаться. Одного простить не сумели — того, чего не поняли — откровенной злости и презрения по отношению к нам, недавним его товарищам. Мы знали, что после окончания «службы», не опустимся до тривиальной мести, но этого человека уже никогда в нашей среде не будет в прежнем качестве. «Товарищ сержант» днем уходил в другие купе, возвращался поздно и молча ложился на верхнюю полку, отворачивался к стенке. Его уже как бы не было — мы ехали втроем.
Шел год Московской Олимпиады, начало лета, еще был жив Высоцкий.
В Караганде вагон перецепили к другому составу, который следовал уже прямиком до нашей станции. Отправление вечером, и у нас в распоряжении было несколько прогулочных часов. Стали подбивать бабки, планировать. Сухой паек, выданный на дорогу, съеден — отличная оказалась закуска к тому, чем пару дней, пока были деньги, обмывалось окончание «войны». Вывернули карманы, набралось восемь рублей шестьдесят копеек. Толик Снежков, зубрила и маменькин сынок, не «халявщик», но занудный «экономист», отлично понимая, на что мы, двое его компаньонов, настроены, тем не менее предложил в своем духе, правда без всякой надежды:
— Давайте, возьмем бутылку, если уж так хотите, — это два с чем-то. А на остальное пообедаем — первое, второе, третье. А то уже кишка кишке рапорт пишет…
Паша Айзельман, для друзей просто Айзик, шикнул на него, как будто только что прозвучало немыслимое богохульство:
— Ты что, совсем, что ли!.. — он покрутил пальцем у виска. — Снежок, за что у тебя пятак по «вышке»? Тут же простая арифметика, как дважды два: шестьдесят копеек на обед, а остальное — на то самое плюс две пачки «Примы». А если не будет хватать, то и от курева до самой Тюмени отказываемся. — Он обернулся ко мне, уверенный в поддержке: — А?…
Конечно, я был полностью согласен с предыдущим оратором. Хотя, и жалел Снежкова, который даже дар речи потерял: к такой калькуляции в общем бюджете, даже зная аппетиты своих друзей, он готов не был. Идти с нами отказался. Когда поезд остановился, мы отправились вдвоем, пообещав Снежкову принести пару пирожков «от зайчика на сдачу».
— Не расстраивайся, — успокоил меня Айзик, когда вышли из вагона, имеется у него заначка, кожей чувствую, иначе это не Снежков. Поэтому и не пошел с нами. Сейчас натрескается в ближайшей столовой. Давай узнавать, где тут у них «винка»…
Будущее наше расписал Айзельман еще пару курсов назад: Снежков, как самый безупречный со всех ракурсов, будет начальником управления, если, конечно, его не засосет наука и он не ударится в погоню за диссертациями и научными степенями. Айзельман, гражданин с изъяном по «пятому пункту», не будет претендовать на первые должности, поэтому красная цена ему — главный инженер при Снежкове. Меня, человека без ярких способностей, но зато носителя определенного количества малоросских генов, они оставят при себе по снабженческой части. Таким образом, ввиду того, что с перспективой у нас было все ясно, студенческие годы мы проживали легко, спокойно, не докучая преподавателям особенным рвением по части учебы.
Мы вышли на залитую солнцем вокзальную площадь и сразу оказались перед чередой цветочниц. Не успели рта открыть, как весь цветочный ряд, русские и казахские женщины, обратился к нам:
— Молодые люди!.. Вы кто — олимпийцы? Вы на Олимпиаду едете?…
— Да!.. — как всегда нагло, экспромтом, на всякий случай, соврал Айзельман.
Коротко постриженные и загоревшие, в джинсах и шерстяных спортивных кофтах — «олимпийках», Айзик в кроссовках, я в кедах; худощавые, с «поставленной» во время сборов осанкой, мы, видимо, действительно смахивали на физкультурников. Цветочницы светились интересом и уважением, некоторые стали предлагать цветы — небольшие букетики. «Просто так, бесплатно!.. Выступайте там хорошо, успехов вам!» Айзик скромно отказывался, затем сжалился над поклонницами, взял розу с поломанным стеблем, перевесившуюся через край ведра. После этого спрашивать про винный магазин было стыдно, даже Айзик на такое не решился. Мы уходили с площади, купаясь в лучах несправедливой славы. Вслед нам неслось: «Олимпийцы!.. Олимпийцы!..» Ближние прохожие оборачивались, кто шепотом, кто вполголоса, подхватывали клич. Айзик оглянулся на цветочниц, помахал руками, изобразил плакатное пожатие, украшенное поникшей розой, и в качестве концовки крикнул: «Дружба!». Пора было уходить в отрыв, что мы и сделали.
Зашли в переулок. Навстречу двигалось юное создание, очевидно, местной национальности, в умопомрачительных бикини, с сумочкой на длиннющем ремне. На смуглом красивом лице с крупными раскосыми, какими-то «космическими» глазами, невероятно вздернутыми к вискам, было то же восхищение, от которого мы только что едва убежали. Айзик решил сразу выставить преграду любым сантиментам, которые, оказывается, порой мешают достижению цели. Он нахмурил брови, ссутулился, вытянул вперед рябую нижнюю губу, и без этого непомерно пухлую, преградил девушке дорогу. Заговорил грозно, хриплым голосом с кавказским акцентом, нюхая цветок:
— Гавары, гидэ у вас вынный магазэн? А, слущий?!..
Девушка остановилась. Критически осмотрела Айзельмана с ног до головы, наградила меня укоряющим взглядом, будто я должен быть в непременном ответе за глупости своего друга. И сказала, с демонстративной холодностью, преувеличенно четко, с безупречно литературным произношением — в пику прозвучавшей недавно ломанной речи:
— Пожалуйста, пойдите прямо, затем налево. Там на площади, между книжным магазином и диетическим кафе, вы найдете интересующий вас объект.
Но самое уничижительное было в том, что она не ушла сразу. После своей недлинной речи отвернулась от нас в четверть оборота, расстегнула сумочку. Вынула зеркальце и «губнушку», обстоятельно напомадилась. Повеяло пьяняще забытым за месяц ягодным ароматом. Подвела остреньким и, наверно, шершавым язычком ставшие клубничными губы. Только после этого, тряхнув презрительно вороной челкой — в сторону, противоположную от двух застывших и онемевших идиотов, — зацокала прочь.
— Ну, погодите, сладкие! — опомнившись, сказал ей вслед Айзик, — вот приедем в Тюмень, загорелые-красивые, разберемся там с вашим братом!
— С сестрой, — уточнил я.
— Да-да… — Согласился было Айзик. — А разве так говорят?
— Если говорят: «Гидэ магазэн…», то после такого все можно «гаварыт». Кстати, мне показалось, что она вполголоса сказала: «козел». Как ты думаешь, о чем это она?
— Ума не приложу, — бесстрастно ответил Айзик. — А на каком языке?…
Прошагав положенные метры и сделав необходимый поворот, мы вполне логично остановились. Площади с вожделенным магазином не наблюдалось.
— Ладно, — заявил Айзик, — если тебе за меня стыдно, спрашивай сам. Буду молчать, как рыба об лед.
Я обратился к прилично одетому мужчине, сидящему на скамейке и внимательно читающему газету:
— Можно у вас спросить?…
Мужчина кинул на нас взгляд, неожиданно быстро встал и сложил газету. Это был крупный казах в костюме, при галстуке. На лацкане пиджака я заметил депутатский значок. Он уважительно снял очки, приготовился слушать, даже наклонил голову к плечу — само внимание.
— Нет-нет, — успокоил его я, — пустяковая проблема, ничего серьезного. Где-то поблизости должен быть… книжный магазин.
Мужчина, продолжая нас внимательно рассматривать, заговорил таким тоном, будто перед ним стояли не два разгильдяя-недоросля, а члены делегации из какой-нибудь братской республики, приехавшие по обмену каким-нибудь опытом, и в данный момент знакомящиеся с достопримечательностями этого провинциального города:
— Вам необходимо выйти на центральный проспект, — он показал в сторону, откуда мы только что пришли. — Там недалеко от кинотеатра — центральный книжный магазин. Кроме того у нас имеется хорошая библиотека… Если вас интересует специальная литература, то к вашим услугам дом политпросвещения или…
— Нет-нет, — я остановил любезного гида, — извините, я не совсем точно выразился. Нас интересует диетическое кафе возле того книжного магазина, который мы разыскиваем!..
— О-о-о!.. — гид приложил руку к сердцу. — С этим у нас вообще никаких проблем! Буквально за углом ресторан… Но что ресторан!.. Вам больше подойдет национальная кухня, это чуть дальше, возле рынка. Бишбармак, кумыс!..
— Отец! — устав притворяться, оборвал его Айзельман. — Нам нужно знаете что? Вино-водочный магазин. Который на площади. Между книжным и кафе. Или любой другой! Вино-водка. Понимаете? В горле пересохло, голова болит…
Мужчина надел очки, развернул газету. Секунду постоял, постелил газету на скамейку, сел. Затем вскочил, как будто обнаружил, что только что сел на окрашенное. Таращась на нас гневно-обиженными глазами, страшно плавающими за толстыми стеклами, вытянул вперед мощную руку с развернутой ладонью, как вождь мирового пролетариата, на уровне плеча, параллельно земле (я малость сдрейфил). То ли показывая нужное направление, то ли приглашая проходить мимо… Мы пошли туда, куда указывала коричневая длань.
Довольно скоро мы оказались на окраине небольшого, почти безлюдного парка. Напротив, через асфальтированную площадь, согласно надписям на двух языках, один из которых нам был понятен, располагались продуктовый магазин и столовая.
— А где же книжный магазин? — завертел я головой.
— Дался нам этот книжный!.. — досадливо проскрипел Айзик. — Тогда уж давай дом политпросвета поищем? А?… Перегрелся, что ли? Стоп, замри!.. он выкинул руку, как шлагбаум, поперек моей груди. Затем увлек меня в тень плакучей ивы, зашептал: — Нет, ты глянь-ка! Что я говорил?
Наперерез, не замечая нас, расширив ноздри — вынюхивающий добычу зверь, целеустремленной походкой двигался… Снежков. Поравнявшись со ступеньками кафе, резко остановился, как споткнулся. Косо задрал голову. Словно любопытный турист, вчитался в надписи. Засунул руку глубоко в карман, пошерудил там. Даже по затылку было видно, что мозги заняты счетом. Посмотрел налево, направо, подобно дисциплинированному пешеходу. И со скоростью уходящего от погони исчез в дверном проеме.
Мы присели на скамейке между столовой и магазином, закурили. Через несколько минут из столовой выявился Снежков. Щеки его привычно рдели, полные размягченные губы еще несли на своей детской розовой кожице следы жира и влаги. Глаза жмурились от яркого уличного света и, наверное, от сытости.
— Снежок! — окликнул его Айзельман и, выражая неподдельное удивление, повернулся ко мне. — Смотри, — Снежок! Вот так встреча. Мир тесен. А мы тут гуляем, присели. Смотрим — ты! Ты откуда вышел-то? С такими довольными-довольными глазами. Как у подоенной коровы…
Снежков виновато развел руками, присел рядом, небрежно качнул головой в сторону столовой:
— Да вот… Решил пройтись. Что в вагоне делать! Пить захотел, зашел, несколько копеек оставалось, компоту взял.
— А-а!.. — протянул понимающе Айзик. Сочувственно спросил: — А есть-то все равно хочется?
— Конечно, — ровным голосом произнес Снежков и потупился.
— Ничего, — успокоил Айзик, — сейчас зайдем, покушаем. Деньги-то у нас. Мы еще не потратились. Спиртное пока не отпускают, одиннадцати нет. Что время зря терять.
Айзик, казалось, забыл о моем существовании и обращался только к Снежкову, который, уже поверивший, что его не разоблачили, и поэтому готовый согласиться со всем на свете, покорно кивал головой.
— Да и знаешь, — продолжал задушевно Айзик, — лучше сперва покушать, а то потом на голодный желудок… Развезти может. Помнишь, как с тобой намучились у Светки на дне рожденья? — (Снежков помнил — кивал.) — А пока, устало закончил Айзик, совсем понизив голос, — Снежок, будь другом, дыши в другую сторону. — Миролюбиво пояснил: — Компот тебе, видимо, подсунули какой-то некачественный — котлетой отдает…
— Да нет, Айзик, такое от голода бывает. Голодная отрыжка!.. — я тоже решил внести свою лепту в воспитательный процесс.
В столовой мы взяли на шестьдесят копеек три тарелки борща, полные порции, хоть Снежков и пытался протестовать — мол, ему хватит половинки. И девять кусочков хлеба. Ели не разговаривая. Молчаливой трапезой подводя черту под «всем, что было». Вышли на белый свет простившие и прощенные.
За спиртным пошел Снежков. По логике Айзельмана, некоторых опять могли принять за олимпийцев, а Снежков в этом плане выгодно от нас отличался — не в джинсовых штанах, при белой рубашке. К тому же, о нем никак нельзя было сказать, что он спортивно сложен. Даже не загоревший: кожа его лица в течение последнего, очень для нас всех жаркого месяца, не могла подружиться с солнечными лучами, не бронзовела — а краснела, пузырилась и опадала лохмотьями слой за слоем. Поэтому вид его был слегка облезлый, но мимика отличника и маменькина сынка компенсировала этот его временный недостаток. Так говорил Айзельман.
Две бутылки ярко желтели и радужно отблескивали золотистыми этикетками в руках Снежкова, который выглядел, как человек, совершивший подвиг.
— Что за херню ты купил, Снежок? — зловеще прошипел Айзик, вращая глазами.
— Это «Херес», «Хе-рес», — миролюбиво объяснил Снежков, проводя пальцем по надписи на бутылке, как будто ничего не произошло. Хотя, было заметно, он догадывался, в чем причина Айзикова гнева.
— Хер-Ес, — передразнил Айзик, по своему расставив акценты. — Ты думаешь, я читать не умею? — Он взорвался: — На что ты деньги угрохал, интеллигент! Что, водки не было, бомотухи, наконец?!.. Или опять компоту захотелось?!
— Воскресенье сегодня! — смело закричал Снежков, потому что говорил правду. — Только слабые напитки продают! Этот — самый крепкий! Все равно ведь, думаю, будете в «лигрылы» переводить — вам же по барабану в этом плане: что «Херес», что «Хер-Ес»!..
Он был прав. Для Айзика, и не только для него в нашей студенческой среде, «лигрыл» являлся зачастую решающим параметром. Особенно при дефиците финансов. Дробь: Литр помноженный на Градус, и все это поделенное на количество Лиц, то бишь Рыл. Чем больше величина «лигрыл» на данную денежную сумму, тем ценнее напиток.
— Об чем шумим, народ?
На пороге магазина стоял тщедушный мужичек довольно затрапезного вида. Рубашка навыпуск выполняла двоякую роль: скрывала то, что топорщилось из кармана брюк, а так же то безобразие, которое представлял из себя пояс на впалом животе. Впрочем, последнее трудно было утаить — нижние пуговицы на рубахе отсутствовали. Легко догадаться: чтоб не упали портки, мужику необходимо было затянуть пояс на последние, дополнительно проколотые дырки, смяв верхнюю часть брюк в гармошку.
Айзик стоял, отчаянно загнав руки в узкие карманы джинсов, поникший, казалось, не зная, как жить дальше. Сказал, борясь с раздражением:
— Отец. Дядя. Или дедушка. Не знаю, как вас лучше назвать. Вы местный житель. У нас уже было несколько небольших встреч сегодня. Но все они почему-то заканчивались примерно одинаково — мы покидали друг друга. У меня такое предчувствие, что ничего нового нас в этом смысле не ожидает. Извините.
Мужик продолжал улыбаться щербатым ртом, превращая все маленькое лицо в складки и щелки:
— Просто не могу, когда люди ругаются. По пустякам… Подумаешь! Можа, я чем помочь могу. Вот, — он приподнял край рубахи, обнажив серебристую макушку водочной бутылки, — как раз ищу… — он запнулся, обвел нас взглядом, еле уловимо кивнув на каждого, пересчитывая, — четвертого. — Он еще сильнее заулыбался, обнажив не только редкие желтые зубы, но и десна, довольный своей шутке, которая, по его мнению, ярко продемонстрировала остроумие.
Айзик оживился:
— Дядя, подскажите, где вы это купили?… — и сразу осекся. Махнул рукой: — А, все равно денег больше нет. Послушайте, может, махнем? Две наших красивых и дорогих на одну вашу прозрачную? — предложение прозвучало безнадежно, это все понимали.
— Кака разница, где купил! Главно — факт. Как ветерану и надежному клиенту завсегда отпускают. Даже в выходной, даже, быват, в долг. Ладно, он тронулся в сторону скверика, — чо на жаре-то стоять. Пойдем, скорпи… скопи…
— Скооперируемся! — в след ему радостно подсказал Айзик, чуть не подпрыгнув. — Действительно, мы вас приглашаем: две наших плюс одна ваша!
— Пойдем, пойдем!.. Приглашаем! — мужик не оглядываясь хмыкнул. Вашей мочой запивать будем.
В сквере мы расположились на одинокой скамейке, скрытой от внешнего мира большими кустарниками. «Мое место!» — гордо проговорил наш новый знакомый и извлек из соседнего куста большой граненый стакан.
— Этот для портвейну, — объяснил с сожалением, щелкая по стеклу. Водочный, аккурат сто грамм, разбили недавно. Ладно, — он протер емкость уголком рубахи, — пойдет, не баре. Точно, Абрам? — это он Айзельману. Давай, разливай, — отдал стакан Снежкову, — ты самый путевый, грамотный, вижу. А вы пока рассказывайте, — его внимание досталось и мне, — откуда и почем!..
Айзик выпил первый. Отдышался, отморщился, проморгался, закурил.
— Вообще-то я не Абрам, а Павел, — он кашлянул в кулак, явно борясь с накатывающим приступом гордости: — Вообще-то, мы спортсмены… В Москву едем. На Олимпиаду.
Снежков слегка поперхнулся.
Мужик лукаво прищурился, кивнул понимающе:
— Поболеть едете, я вижу? — он указал на Снежкова, который «заливал» только что выпитую порцию водки, запрокинув почти вертикально бутылку «Хереса», борясь с пеной.
— По всякому, — ответил Айзик, не всегда готовый к чужому остроумию. Постарался перевести разговор в другое направление: — Вы-то сами откуда и почем? Выговор у вас какой-то неместный — то ли горьковский, то ли уральский…
— Не местный… А ты что, целинный говор знаешь? — мужик отчего-то, показалось, несколько запечалился. — Я человек — главно. Понял?
— Ну, вы же сами сказали: откуда и почем? Вот я и продолжаю в этом русле.
— Да-да, — мужик примиряюще закивал, — точно. Вообще-то, я так, чтобы разговор зачать. Вижу — не здешние. Вообще-то, мне все равно. Ты человек, я человек. Скушно — выпили, будь здоров, пошли дальше. Не люблю делить: я такой — ты сякой, я рядовой — ты кудрявый… Нас так в лагере делили, с тех пор — страсть как не люблю!..
— Это интересно. А какого рода был лагерь? Ну…
— Ничего интересного, чай не пионерский, — перебил мужик. — В начале войны, под Брестом, попали в окружение, спасибо Ёське. Стрельнуть ни разу не успел — винтовку в руках не держал. Сразу — плен. Майданек, Бухенвальд, Саласпилс — бросали туда-сюда. Всю войну — там. Потом — родной, целинный, без названия. Ничего интересного. А вот что интересного — дак Власова видал.
— Это какого, того самого? Генерала армии?
— Того! Кого еще!..
…Построили нас, почитай весь лагерь — кроме женщин да детей, одни мужики. Вышел он, значит, из ихней кучи… Хрен знает, в какой форме — не наша, и не немецкая. Смесь. Я, говорит, Власов! Воюю не за немцев — за Россию! Против жидов и коммунистов!.. Кто в мое войско — выходи со строю!.. Никто не выходит… В других местах, я знаю, выходили. Мало — но было. А как же!.. Жить-то хочется… Мне, к примеру, всего девятнадцать. Моложе еще вот вас. А как я, к примеру, выйти мог, у меня ведь в Красной Армии — брат. Сроду не коммунист. Нет… Никто не вышел. Он, значит, в другой раз повторил — можа кто не понял. Тишина, никто не зашелохнется, самого себя, как дышишь, слышно. Да собаки где-то там — далеко-далеко тявкают. А еще, знаешь, чувствую, люди, каждый, друг дружку стесняются потому некоторые не выходят. Это ж надо, а?! Стыд, получается, посильнее страха!.. Никогда б не поверил. Обычно, говорят, наоборот. А вон на самом-то деле вишь как. И ведь каждый знает — смерть, смерть! Ан вот пока живой — стыдно. Друг на дружку не глядим. А он: раз так, говорит, ну и подыхайте тогда!.. Спасибо, жилы не тянул — быстро: хошь, не хошь… А сам — морда лиловая, злой и какой-то… Вроде как тоже стыдно ему — али перед немцами, али перед нами. То ли за то, что никто не вышел, то ли еще за что… — русский ведь!..
— Как же вы живой-то остались? — спросил захмелевший Айзик.
— А очередь, видно, не дошла, — мужик хохотнул. — Молодой был, для работы сгодный… — Опять запечалился. Кивнул на Айзика: — За первую очередь в расход у них ваш брат шел.
Айзик понимающе кивнул и добавил рассеянно: «И сестра…»
Воцарилось неловкое молчание. Я решил его нарушить:
— А скажите, что по телевизору показывают про то время — правда?
— Правда, сынок. Что про немецкие лагеря — правда. Верь, верь… Так и было. Хотя, вот один раз читал — на стекле, значит, битом заставляли танцевать. Дак что не видал, то не видал. Остальное — правда. Что про немецкие-то лагеря… Про наши-то молчок, а про те — правда.
— Наши, вы имеете ввиду какие, уголовные? — уточнил дотошный Снежков.
— Уголовные!.. — изменив голос, передразнивая, продребезжал мужик. Вырастешь — узнаешь, каки уголовные! А!.. — он махнул на Снежкова рукой и как-то отчаянно замолчал.
Я подумал, что сейчас опять самое подходящее перевести разговор на другой объект.
— Брат-то ваш как, который воевал, жив-здоров?
— Жив-здоров, — отозвался эхом. — В Свердловске живет. Квартиру недавно, как ветерану дали однокомнатную, когда зубы выпали. Сам-то я здесь остался… А чо, тепло. Никто не попрекает. Мне ничего не надо. — Он повернулся к нам сильно вдруг изменившийся лицом. Ноздри расширились, прямо вздулись, глаза сузились — две темные щелки. Я пытался поймать в них какой-нибудь сентиментальный блеск. Напрасно. Только звериная смелость готового на все человека. Он продолжил тихо:
— Я человек — понимаешь? Человек. Это главно. Никто меня не может заставить: где хочу, там работаю, где хочу, хожу, с кем хочу, с тем разговариваю. Ежели что — не дамся!.. Все, хватит!.. Человеком помру. Все остальное ерунда, понимаешь?
— Знаем, проходили — согласился Айзик, — «Человек — это звучит гордо!»
— Да-да!.. — мужик рассмеялся, хлопнул Айзика по плечу, превратившись опять в затрапезного забулдыжку, которого мы полчаса назад встретили возле магазина. — Тока вы проходили, а я — живу! Ладно, — он показал на пустые бутылки, — может по новой сходим, у меня еще на одну есть?
— Господа офицера!.. — Снежков встал, галантно поклонился (он преображался даже в легком хмелю): спина прямая, резкий кивок — подбородок к груди, пауза, бросок чубчика назад. — Смею вам заметить, что нам пора. В том смысле, что нам пора и честь знать.
— Дак вы еще, кроме олимпийцев, офицеры? — на этот раз мужик, казалось, засомневался: верить или нет.
— Да, — Айзик сразу же нашелся, — мы из ЦСКА.
— А, понял!.. — мужик обвел кампанию рукой, сказал напыщенно: Сборная Совармии на Карагандинском привале.
— В самоволке!.. — в тон ему воскликнул Айзик.
Я решил взять командование на себя. В полной уверенности, что, как подобное бывало ранее, друзья поддержат игру. Встал, прокашлялся.
— Господа офицеры!
Айзик стал рядом со Снежком. Поднялся и мужик.
— Товарищи лейтенанты! Слушай мою команду! На первый-второй рассчитайсь!
— Первый!
— Второй!
— Третий!.. — мужик, дурачась, выгнул грудь колесом.
— В шеренгу по двое становись!
Айзик и Снежок послушно выстроили жиденькую шеренгу.
— На вокзал! Обратной дорогой! Шаго-о-ом — марш!!!
Мы с мужиком пошли рядом, стараясь сохранять солидную походку, не отставая от марширующих.
Когда шагали мимо казаха с газетой, на лице которого при виде нас нарисовалось прежнее выражение — гневное удивление, плавающие за толстыми стеклами глаза, я несколько раз громко выкрикнул: «Левой, левой!..» Наш собутыльник гордо помахал казаху рукой — видно, они были знакомы.
Жаль, что нам не попалась девчонка в бикини с глазами инопланетянки…
Лица марширующих раскраснелись от алкоголя и быстрой ходьбы, но сил еще много. Мужик уже едва поспевает за нами, его подгоняет задор. Перед вокзалом меня как командира сменил Снежок.
…Наконец достигаем цветочных рядов. Снежок тоже ловит ногу на марш и громко подает команду: «Отделение!» — Раз! все трое вытягиваемся струнами, переходим на чеканный печатающий шаг. Ноги на подъеме прямые — почти параллельно земле. Руки по швам, с силой прижаты к телу. «Олимпийцы!.. Равнение на!.. — право!» — Раз! и лица торжественно обращены к цветочному ряду, чуть кверху. Цветочницы машут нам букетами, как чепчиками: «Счастливо!.. Успехов вам!»
«Советский Союз!..» — гордо кричит наш компаньон. Я оглядываюсь: он уже почти бежит за нами. То и дело смотрит на цветочниц и тычет пальцем в наши спины, таким образом обозначая свое непосредственное участие в компании, источнике всеобщего восторга.
Мужик, которого, оказалось, звали Иваном, провожал нас долго, до самого отправления поезда. Несколько часов. Поэтому он остался без копейки и все мы успели протрезветь и устать. Я заходил в вагон последним, когда он уже поплыл. Сказал Ивану, который еще некоторое время семенил рядом по перрону:
— Дядь Вань!.. Вы не обижайтесь, неудобно, честное слово… Шутка просто. — Мои друзья, пошатываясь в тамбурном проеме, придерживая друг друга, согласно кивали головами, пожимали плечами и виновато улыбались: мол, нехорошо, конечно, но ничего страшного, так вышло, само собой. Подурачились… Мы не олимпийцы! И не офицеры пока!.. Может, и не будем никогда. Прощайте!
— Да, да!.. Я знаю, знаю! Чай, не слепой… Какая разница!.. Познакомились — разбежались, будь здоров! — у него опять расширились ноздри, глаза сузились — на этот раз, мне показалось, в них блеснуло. — Вы люди!.. Хорошо, что стыдно. Не переживай. Хорошо!.. Это главно!..
Перрон кончился, Иван остановился, коротко махнул нам рукой. Отвернулся. Мы еще некоторое время видели его: маленькая фигурка, руки в карманах, спиной к уходящему поезду.
ВЫТРЕЗВИТЕЛЬ
На распределении в штабе ДНД я сразу предупредил: у меня радикулит. К слову сказать, я вообще против всяких общественных дружин и отрядов, которые делают (якобы) то, что должны делать вполне штатные структуры. И если бы не «добровольная» обязаловка, которой был охвачен наш завод, как, впрочем и все другие учреждения в начале восьмидесятых, и три дня к отпуску…
— Ладно, — сказал начальник штаба, угрюмый человек в штатском, — найдем и вам применение. — Он внимательно осмотрел меня с ног до головы, осуждающе обронил: — Такой молодой, а уже соли отложились… — Обстоятельно продолжил: — Да, в танцзал вам не подойдет, там не только танцевать — «махаться» иной раз необходимо. На дорожный патруль — ходить много. Вытрезвитель — самый раз. На раздевалке или на «воронке»… Сержант, — обратился он к тщедушному милиционеру с большой связкой ключей, — забирай этого тоже.
— Как больного, так мне, — пробурчал сержант.
Вторым «общественником», которого также направили в медвытрезвитель, был худой, неразговорчивый, сосредоточенный член комсомольского оперотряда, белокурый студент технического вуза. «Воронок» кружил по городу пару часов, пока мы набрали положенное по плану количество «нетрезвенников». Все это время студент молча и аккуратно выполнял команды сержанта, а в минуты относительного спокойствия смотрел маленькими глазами на скуластом лице куда-нибудь в одну точку, сжав по старушечьи губы в маленький узелок, из складок которого выступала белая слюнная пенка.
— Каратист, — объяснил мне сержант, с которым мы были почти ровесники, кивая на студента. Говорил милиционер громко, не считая необходимым быть деликатным по отношению к этому молодому бессловесному истукану. — Любит с нами работать. Сам сюда каждый раз просится. Тренируется на натуре. Аккуратный, ничего не скажешь. Я ему первый раз сказал: что, в танцзале боишься дежурить — ответить могут? Думал, трус — нет, что-то другое.
…Первым взяли юнца лет шестнадцати, который трясся всем телом, как от дикого холода, и зачем-то нюхал воротник своей несвежей рубашки. «Кайфожор-колесник, — объяснил сержант, — таблетки бормотой запивает». В будке «колесник» разошелся:
— Менты поганые, ну, бля, не попадайтесь на дороге, выйду — всем конец! — он истерически завизжал и кинулся почему-то на меня. Я забыл про радикулит и резко пригнулся. Кулак просвистел над головой. Студент привстал, молниеносно отвел ладонь назад и, коротко вскрикнув, ударил хулигана куда-то в область уха.
Юнец с закрытыми глазами откинулся на стенку будки, застонал, осел на деревянную лавку, зашарил растопыренными ладонями вокруг, ища за что бы взяться, чтобы не свалиться. Студент внимательно наблюдал за жертвой, медленно поворачивая голову на длинной шее, как длинношеий цыплак, то в одну, то в другую сторону, оглядывая объект отдельно левым, отдельно правым глазом.
— Хватит, спортсмен!.. — властно сказал сержант и посмотрел на меня: Глаз да глаз нужен. Может переборщить. — В это время хулиган, не открывая глаз, завалился набок. — Порядок.
«Ничего себе, работенка!..» — растерянно подумал я, с трудом разгибаясь, тут же зарекшись на этом закончить карьеру дружинника, несмотря на партком и завком (можно будет отказ свалить на радикулит). Черт с теми тремя днями к отпуску.
В городском саду обнаружили двух пожилых забулдыг, давивших «огнетушитель» — большую бутылку темного портвейна. Мужики не сильно расстраивались, что их забирают в «вытрезвиловку» — привычное дело, но долго причитали по вылитым в парковые кусты «чернилам»: «Только открыли, начальники!..»
Из ресторана, по вызову, забрали шумного гражданина при галстуке, грозившего всех поувольнять с работы и завтра показать всем, с кем они связались. На чем свет поносил работников ресторана: «Мафия!.. В этой точке хозяйничает мафия! По ее наитию!..» Тогда слово мафия было весьма экзотичным, и мы от души посмеялись, пока провожали гражданина до машины. «Я теперь понимаю, — он многозначительно оглядывал нас, — у этой мафии везде схвачено. Ничего…» Резких движений он не допускал, оправдывая галстук и фетровую шляпу, поэтому каратисту на этот раз не повезло.
На вокзале, в туалете, нашли спящего бича, который представлял из себя что-то наподобие промокшего грязного мешка с прокисшими арбузами. В салоне от него стало трудно дышать и тесно перемещаться, потому что он не сидел на лавках, а лежал на полу. «Выпил, наверно, еще вчера, грамм сто пятьдесят, объяснил сержант. — Внушил себе, что поллитру. И ушел в спячку, как гусеница. Силы экономит. Даже по маленькому не сходит как следует, — под себя. Пока проснется — высохнет».
Время поджимало, пора ехать в участок, а плана еще не было. «Еще парочку — кровь из носу!» — озабоченно приговаривал сержант не стесняясь задержанных. Заехали в танцевальный зал. Дружинники сдали нам чернявого парня, с ног до головы в джинсе, который абсолютно не вязал лыка — на вопросы не отвечал, но понимающе кивал и миролюбиво улыбался. «Ладно, грузите, там разберетесь, — сказал нам командир местного наряда и напоследок прокричал чернявому в ухо: — Ты, самое главное, хоть не иностранец?! В рот тебе кило… Кто ты по нации, а?» «Буль-трин-трин…» — пробулькал парень. «О!.. — обрадовался командир, — татарин! Наш человек. Давно бы так. — И опять нам: — Забирайте!»
Смеркалось. Сержант по внутреннему телефону приказал водителю подъехать к гастроному: «Давай, как обычно… за сигаретами.» Мне пояснил: «Инструкция: возле культурных центров не забирать. А куда деваться, гастроном — палочка-выручалочка. Тебе сигареты не нужны? Тогда, студент, давай!» Студент, по всей видимости, привычно, выпрыгнул из будки, вошел в магазин. Быстро вернулся, кивнул сержанту. Они оба прильнули к зарешеченному окну. Мне стало интересно, я присоединился к этим двум охотникам. Сержант нетерпеливо спросил: «Этот?» Студент утвердительно качнул головой. Сержант горячо зашептал в телефон, как будто боясь, что его услышат граждане на улице или командование в райотделе: «Давай за белым костюмом, в руках бутылка…» Машина тронулась. Остановилась, поехала опять. «Готово, стой! с облегчением выдохнул в трубку сержант. — Студент, за мной!» Они быстро выпрыгнули, подошли сзади к мужчине в белом костюме, неторопливо бредущему по тротуару. Объяснили гражданину, что ему необходимо пройти с ними. Гражданин показал на свои часы, постучал по циферблату, пожал плечами и пошел в машину.
В салоне этот мужчина, на вид которому было лет тридцать, бледного аристократического облика, миролюбиво оглядел соседей по скамейке. Начал спокойно рассказывать, растягивая слова:
— Дома гости ждут. Не хватило. Только в отпуск приехал…
В это время сержант ловко лишил аристократа бутылки, сунул ее себе под ноги.
— Эй, служба, — мужчина, казалось, совершенно не беспокоился, что случится с его напитком и с ним самим в ближайшем будущем, а замечание делал просо так, для порядка, — не разбей. А то магазин закрывается, придется у таксистов покупать втридорога. У вас тут почем у таксов?…
— Она вам сегодня уже не понадобится, гражданин, — с явным удовольствием успокоил его сержант.
— Это почему, собственно. Кстати, сержант, можешь называть меня просто: товарищ лейтенант.
— О! — сержанту стало интересно. — Офицер? Какого рода войск? Офицеров давно не брали.
— Морфлот. Мурманск. Подлодка номера и названия, которые тебя не касаются, сержант.
— Ну во-от!.. Вот мы и раскрылись, — удовлетворенно пропел сержант, грубить, значит, умеем. — Он посмотрел на меня, как бы призывая в свидетели. — А на вид такой мирный был!..
Студент опять стал производить цыплячьи движения головой, готовый клюнуть.
В это время заработала рация. Приказали подъехать к проходной кирпичного завода, забрать пьяного работника.
Сержант обрадовано скомандовал водителю, куда ехать и поделился радостью со всем угрюмо приумолкшим салоном:
— Все, ребята, покатались и будет. План — есть! Сейчас последнего заберем — и баиньки!
«Последним» оказалась пьяная женщина, застрявшая ввиду своей грубости в адрес охраны на проходной кирпичного завода. В отместку за оскорбления охрана вызвала милицию. Это была мощная работница мужикообразного вида из породы молотобойцев. Сержант был весьма недоволен. «У нас нет женского отделения!..Придется в другой конец города везти!» — кричал он охране. Главное, как я уяснил, пьяная женщина отнимала время, а в план не шла. Но эту подругу все же пришлось забирать — согласно должностной инструкции сержанта. Ее долго запихивали в салон «воронка», она упиралась, материлась и норовила попортить физиономию всем, кто ее обихаживал. Погрузка пошла легче после того как «каратист» ширнул ей куда-то в бок. «Молотобоец» ойкнула, обмякла. Прекратила сопротивляться.
В салоне тетка недобро уставилась на меня: «Это ты меня по почке ударил? Рано успокоился. Это еще не все…» Я посмотрел на ее руки-кувалды и подумал, что мне опять придется резко пригибаться со своим «радиком», будь он неладен. «Радик» тут же отозвался — в пояснице так прострелило, что я зажмурился от боли. И сразу же ощутил два удара в голову — спереди и сзади: кулак влепился мне под глаз, после чего затылок шмякнулся о металлическую обшивку салона…
Вслед за этим я услышал короткий возглас каратиста, женский стон и окрик сержанта: «Студент!..»
Боксера-молотобойца сдали в женское отделение на окраине города.
В вытрезвителе мне оказали первую помощь и усадили на стульчик у входа в «приемный покой». Успокоили: сейчас прибывших оформим, и всех помощников, вместе с дневной сменой, развезем по домам. Перед тем как усесться в позе зрителя (от дальнейшей работы, ввиду полученных повреждений «при исполнении», я был освобожден), глянул на себя в зеркало. Глаз был лилово-красный, как у белого кролика, видимо лопнул сосуд. Под глазом медленно, но верно начинал проявляться фингал. Болел затылок. Постреливал радикулит, злорадствуя: ты мной был недоволен, теперь вот узнай, что такое настоящая неприятность.
Начали разбираться с прибывшими. «Татарин», за дорогу немного протрезвев, наконец, выговорил правильно свою национальность: «Болгарин». Перед ним извинились и отправили по указанному адресу. Человек в шляпе и при галстуке оказался исполкомовским работником. Его «случайно» все же сфотографировали, но просили не беспокоится. Он вызвал машину и уехал. Сержант кивнул ему вслед, а затем на фотоаппарат: «Теперь свой человек в исполкоме. На кукане.»
Трясущийся юнец был как смиренный агнец и первым, в одних трусах, пошел в спальную камеру.
Два мирных парковых забулдыги раздели мокрого бича, разделись сами и все трое были мирно препровождены на ночлег. Немного повозились с морским офицером, который не хотел раздеваться, призывая персонал медвытрезвителя к справедливости и благоразумию. Упрямство имело результатом то, что офицеру заломили руки и стали раздевать насильно.
— Разоблачайтесь, товарищ лейтенант! — ернически восклицал сержант, расстегивая клиенту ширинку. — Не извольте дрыгаться, я же вам помогаю! А то придется вас в ласточку связывать, пол холодный… Тпр-ру, товарищ лейтенант!..
Тут я понял, что такое «ласточка»: — в конце коридора, тихо постанывая, изредка поворачиваясь с бока на бок, лежал, видимо, один из непокорных ноги и руки связаны в один узел за спиной, грудь колесом.
Морской офицер, зажатый с двух сторон, затих в полусогнутом состоянии, с красным от физического и морального напряжения лицом, и стал внимательно смотреть только на голову ловко работающего сержанта. А когда наконец поймал его взгляд, веско произнес, покряхтывая от боли:
— Да!.. И все же я лейтенант. А ты — сержант.
— Ну что хотят, то и делают с людями!.. — на пороге в приемный покой вытрезвителя, облокотившись на косяк, рука в бок, в зубах папироса, стояла… сошедшая с мультфильмовой киноленты старуха Шапокляк. — Привет, мусорам! — Она задержала взгляд на мне и, видимо, оценив кровавый глаз, добавила: — И клиентам! — Предвидя недобрую реакцию со стороны присутствующих, она шутливо-фамильярно прикрикнула на сержанта: — Нервы!..
У персонала вытрезвителя было неплохое настроение после трудного дня: план почти выполнен, «больные» рассредоточены по палатам, акты оформлены. Эта бродяжка под легкой «мухой», случайно заглянувшая в их заведение, сулила небольшое развлечение, разрядку.
Старуха рассказала несколько анекдотов на милицейскую тему. Когда ей гостеприимно предложили ночлег в теплой камере, она вдруг страшно захохотала, потом затряслась, рухнула на скамью, где фотографируют клиентов, и истошно завопила:
— У меня во время войны немецкий солдат ребенка под машину бросил!..
Естественно, было уже не до смеха. Даже видавшие виды санитары потупили взоры, присели кто где мог.
Когда старуха вышла из истерического состояния, зрители стали из вежливости задавать ей вопросы. Старуха, обессилено выкрикивая короткие фразы, поведала, что немцы проходили через их деревню, обоз: машины, подводы, конные и пешие… Подбежали два пьяных немца, один выхватил ребенка, другой замахнулся на нее прикладом… Помнит, что тельце упало прямо под колесо, тонкий вскрик, хруст… Удар по голове… Потом у нее бывали редкие проблески сознания: она обнаруживала себя на каких-то вокзалах, под мостами, в кустах, среди больших собак… Куда-то шла, ехала… Ее кто-то кормил, бил, насиловал… Когда полностью пришла в себя, война как раз кончилась, а она находилась в нашем городе. Не могла вспомнить фамилию, родителей, мужа (наверное, был), какой ребенок — мальчик или девочка. Только и помнила: свое имя — Ядвига и место — Белоруссия, деревня… И тот страшный фрагмент, который все время и стоит перед глазами.
Я, поглаживая ноющий затылок, вдруг ощутил во встряхнутой недавно голове обычно тяжелые для этой самой головы философские мысли: как это, наверно, страшно — не иметь в памяти ни детства, ни молодости, ни родины, ни какой-либо, даже бедной, истории — ничего. Только какой-то уродливый кусок дикого события, произошедший, может быть, даже и не с тобой. Представил человека, вылупившегося из гигантского яйца: он может двигаться, говорить, у него все есть, кроме прошлого. Человек-цыпленок. Бр-р-р!.. Вспомнил о каратисте, отыскал его глазами. Он сидел такой же, как и в салоне «воронка», сосредоточенно уставившись куда-то в пустоту.
— Что ж ты ему камнем, что ли, по башке не дала? — нарушил тягостное молчание сержант. — Ах, да!.. Ну, в отряд бы подалась партизанский, ну я не знаю…
Старуха резко сменила тональность и перешла на прежний фамильярно-шутливый тон:
— Да подалась бы, подалась!.. — Постучала по своей растрепанной седой голове: — Соображаловка ведь поздно вернулась, войне капут. А сейчас что, воюй с кем хочешь, хоть вон с этими американцами, с проклятыми, во Вьетнаме, — так и там, говорят все кончилось. В Афганистан — не берут. Подавайся куда хочешь, хоть в ментовку. Возьмете?
Все облегченно засмеялись.
— Возьмем! А ты стрелять-то, маршировать умеешь?
Старуха соскочила со скамьи:
— Стрелять научишь. А маршировать — смотри: раз-два, раз-два!
Она резво замаршировала на месте, высоко поднимая острые коленки, добросовестно размахивая руками. Сержант взял на себя роль командира:
— Стой! — раз-два!.. Нале-во! Напра-во! Молодец! Смирно! Вольно! А сейчас — ложись!..
«Шапокляк» под дружный хохот растянулась на широкой скамье лицом кверху, руки по швам. Сержант присел на корточки от смеха.
— Ты же не так легла, Ядвига! А, понимаю, это у тебя профессиональная поза!
Ядвига окончательно поняла, что здесь к ней хорошо относятся, и в ближайшее время ей ничего не грозит. Лежа, не меняя позы, вытащила свежую папиросу, дунула, закурила, равнодушно уставившись в потолок.
Я, сержант и студент вышли во двор медвытрезвителя к машине, «воронку», который должен был развезти нас по домам. Залезли в салон, ступеньки показались неудобными, скользкими. Сержант вытащил бутылку коньяка, отобранную у морского офицера, наполнил под самые каемки два граненых стакана, протянул один мне, кивнул на студента: «Он не пьет». Выпили, закусили конфетами. Я представил, каким сейчас явлюсь пред очи жены: пьяный, с синяком под глазом. «Откуда?» — «Из вытрезвителя!..» Улыбка озарила мое лицо. Сержант принял это в свой адрес и тоже, впервые за весь вечер как-то необычно, по-детски улыбнулся: «Еще придешь ко мне на дежурство?» Я, не переставая улыбаться, пожал плечами: «Радикулит!». Он подал команду водителю трогаться, дожевал конфету и повернулся к каратисту:
— Слушай, ты бы попросился следующий раз, для разнообразия, куда-нибудь в дом культуры, в городской сквер. Танцы, девочки — во! Или на пеший патруль… Боишься, что побьют?… Нет ведь.
ФАРТОВЫЙ ЧАРЛИ
Чарли всегда умудрялся взять стол не на отшибе, но и не в середине зала, а где ни будь у центрального окна, — дабы не задевали без необходимости снующие официанты и публика из числа танцоров, в то же время, чтобы кампанию было видно и посетителям, и музыкантам. Как правило, столик на шестерых; пятеро персон — девочки. На острие всеобщего внимания единственный мужчина шестерки — великолепный Чарли. Он в белом костюме, вместо тривиального галстука — золотистая бабочка. Наш «Чарли Чаплин» гораздо крупнее одноименной кинозвезды, осанка прямая, что делает его раза в полтора выше знаменитого американца. Лоб высокий, броский, с глубокими для двадцати двух лет пролысинами. Широко расставленные глаза настолько велики и выпуклы, что собеседнику, словно ученику на уроке биологии, предоставляется редкая возможность видеть, как происходит процесс моргания: верхние веки, отороченные кудрявыми ресницами, как шоры обволакивают глаза, смазывая глазные яблоки, а затем медленно задираются вверх. Густые брови недвижимо застыли, взметнувшиеся к небу, в вечном удивлении — дальше удивляться просто некуда, что непостижимым образом придает лицу уверенность, замешанную на равнодушии к внешней суете. Танец в исполнении Чарли собирает, кроме девушек его стола, всех резвящихся на пятачке возле оркестрового подиума. Никому и в голову не приходит, что этот супермен в белом костюме, руки в карманах брюк, — всего лишь студент технического института.
Ресторанные потасовки, которые можно сравнить с кометой или смерчем из высокотемпературных кряхтящих тел, пахнущих винегретом и водкой, сметающих все на своем пути, проносились стороной от столика фартового Чарли. Однажды было отмечено, как Чарли, видя, что надвигающийся «смерч» не минует его уютного гнездышка, и через несколько секунд сметет всего Чарли вместе с подругами и сервировкой, спокойно скомандовал девочкам «вспорхнуть» с кресел, захватил ручищами столешницу и, уронив всего пару бутылок, отнес стол в угол зала. Отдых продолжался.
Родители имели неосторожность назвать его Чарли, естественно, что с самого детства к нему прилипла кличка «Чаплин». В отличие от Чарли, его родителям не нравился этот «псевдоним», которым наградили сына сверстники. По известной логике, именно благодаря им, предкам, точнее, их отношению ко всему этому, «псевдоним» прилип намертво.
Все бы ничего, но вероятно от желания соответствовать имени, организм Чарли в подростковом возрасте взялся корректироваться согласно «благодати», заложенной в оригинальном имени. Так, ноги Чарли стали… «разъезжаться» носки ботинок «сорок последнего» размера при ходьбе расходились в стороны почти на девяносто градусов относительно направления движения. При этом непременно — «руки в брюки», по словам матери. «Что ты там в карманах делаешь, — поддевал его отец в воспитательных целях, — в бильярд играешь?» «Нет, — невозмутимо ответствовал находчивый Чарли, — фиги мну». Наблюдение за ходьбой сына-подростка не доставляло родителям приятных минут, однако и к этому они привыкли. Отказывались только смирится с излишней беспечностью Чарли, которая могла сулить многие жизненные неприятности. Сам Чарли так не считал, полагая, что никто от оптимизма не умирает. Да и как еще может считать человек, которого зовут Чарли Чаплином!
В нашей институтской группе он слыл фартовым малым. Не только потому, что сам не уставал при случае об этом сообщать. Действительно, на экзаменах везло. Впрочем, как известно, в студенческой жизни учеба — не самое главное, и образ фартового в основном складывался из иных, более значимых примеров.
Мы, однокашники Чарли, пожалуй, чаще встречали его в городском парке, на речном пляже, в ресторане. Неизменно — в окружении девчонок, числом не менее трех, как правило студенток нашего института. Это был наивесомейший показатель «фарта».
Нет, Чарли не являлся прощелыгой-халявщиком, который бессовестно доил свое природное везенье. В основе благополучия этого внешнего повесы лежал, как это ни пресно и неинтригующе, хотя и нельзя сказать, что банально, обыкновенный труд. К тому времени у Чарли оставалась одинокая мать в другом городе, которая «поднимала» младшего сына-школьника. Помощи ни коим образом не предвиделось, на стипендию не пошикуешь. Истина относительно «широких» возможностей стипендии относилась ко всем. Поэтому все мы чем-то промышляли: разгружали вагоны, сторожили детские садики, мели тротуары. Зарабатывали мелочь. Иное было у Чарли — он работал постоянным ночным грузчиком на перевалочной продуктовой базе. Того, что он совершенно легально, по разрешению и даже настоянию начальника смены, уносил с работы в сумках, вполне хватало на ежедневное питание. Зарплата же, соизмеримая с получкой высококвалифицированного токаря, шла на одежду и активный отдых. Доставалось и матери с братишкой. Как Чаплину удалось устроиться на такую выгодную работу, для всех оставалось загадкой. При этом никого не интересовало, когда Чарли спит и как он готовится к занятиям. У нищих и ленивых коллег по студенческой кагорте превалировало одно суждение: «Везет же человеку!»
Единственным заметным изъяном Чарли было следующее — он заикался. Прежде чем произнести первое слово, он закатывал глаза, сжимал губы, прерывистыми неглубокими вдохами втягивал в себя воздух, «настраивал» первый слог, далее все предложение шло нормально: «Ха-ху-хо…хо-орошая погода, пойдем пиво пить!» По возможности старался обходиться мимикой. Например, если на его предложение следовало неуверенное возражение: «А как же лекции?» — Чарли в ответ уверенно махал рукой, отметая неромантическое сомнение.
Что касается его девочек, которые менялись с быстротой метеоров, то многие из его приятелей, как говориться, облизывались. И дело не в том, что это были какие-то особые подруги — нет, самые обыкновенные студентки, наши знакомые. Завидовали же количеству и той легкости, с которой Чарли удавалось «прицепить» к себе очередную «чуву», той беспечности, с которой он с ними расставался.
«Ой, залетишь ты, когда-нибудь,» — шутили друзья, скрывая зависть. На что Чарли неизменно отвечал: «Не-ни-не… Не родилась еще такая!..» — одна рука, украшенная золотой «печаткой», вылетев из брюк, беспечно резала воздух, вторая, как борец под ковром, продолжала пузырить карман, вероятно, лепя свою миллионную фигу.
Во всем этом мнимом суперменстве было что-то ненормальное. Ну так не бывает, чтобы студент фартово жил, благодаря просто физическому «ломовому» вкалыванию: не фарцевал, не имел богатых родителей — просто работал. Ой, залетишь ты, думали друзья. Аномалия не может продолжаться долго. Где ни будь да залетишь.
Наконец, он «залетел», правда случилось это на предпоследнем курсе. От него забеременела «однокашница» Наташка. Разведенка, прожженная очаровательная Натэлла, все четыре года безуспешно скрывавшая свое деревенское происхождение толстым слоем помады и частым курением на лестничной площадке общежития. Напившись в ресторане, она висла на великолепном женихе в золотистой бабочке и громко причитала, не обращая внимания на гостей: «Чарка, а я думала ты меня обманешь, бросишь. Если бы ты бросил, это было бы в порядке вещей. Я была готова к этому, я привыкла… Может быть, ты еще бросишь, а? Ты ведь вон какой, а я…» У Натэллы уже был шестилетний сын, который рос без ее участия в деревне, что вообще-то Натэллкино очное обучение и воспитание ребенка — было подвигом ее престарелых родителей.
Гости, переглядываясь, под столом потирали руки и, уважая друг друга за проницательность, думали каждый про себя: «Ай, да Чарли, ай да залетел!» Нет, немо возражал Наташке и всем гостям Чарли, используя бодливую голову и другие мимические средства. Однажды все же, значимо обводя собравшихся своим удивленно-уверенным взглядом, выдал тираду якобы в адрес невесты: «Са-су-со…Со-обственно, а что, собственно, необычного происходит? Ты останешься такой же, великолепной Натэллой. А я всего лишь продолжаю свой род. Кто за меня это будет делать? Я еще никогда не допускал ошибок, запомните. Не дождетесь!..» — Он нежно обнимал Натэллу левой рукой, правая оставалась под скатертью — друзья, близко знающие Чарли, догадывались, что она там вытворяла в их адрес.
Они снимали домик на окраине города. Конечно, далеко и мало комфорта, удобства на улице. Зато отдельное жилье — Чарли за ценой не постоял. Он изо всех сил старался следовать тому, что продекларировал на свадьбе: ничего особенного не происходит. Они продолжали регулярно посещать рестораны, именно те, завсегдатаями которых слыли по холостому делу. Даже когда родилась дочка, приходили втроем в ресторан, поближе к вечеру: Чарли, Натэлла, дочка в ползунках. Заказывали шампанское, ужинали, уходили, не допив и не доев, давали официанту на чай. Иногда, если удавалось оставить у кого-нибудь дочку, засиживались допоздна. Мало чего осталось от великолепной Натэллы — она после родов оборотилась деревенской девахой Наташкой, сдобной и наивной. Часто в ресторане, пригнувшись к столику, пугливо озиралась по сторонам, как истинная провинциалка, будто и не было пяти лет жизни в большом городе: «Чарка, давай будем, как нормальные люди… На нас смотрят, мне кажется, завидуют. Ведь так, как мы, не живут, нам не простят.»
Чарли, совершенно неожиданно для окружающих ставший «обыкновенным» любящим и верным мужем и отцом, но в остальном — тот же Чарли, а не какой-нибудь заикающийся студент, успокаивал ее: «Ма-мо-мы… Мы-ы все делаем, как надо. Что из того, что мы везучие? Мы же не мешаем никому, не идем, так сказать, вразрез нормальному течению.» — «Идем,» — вздыхала Наташка.
Натэлла взяла академический отпуск, Чарли продолжал работать по ночам. Ближайшую перспективу Чарли уже наметил: он заканчивает институт, устраивается на хорошо оплачиваемую работу, продолжая подрабатывать грузчиком, они выкупают этот домишку, привозят из деревни сына Наташи. «Ой, ты бы не загадывал, — тихо, боясь спугнуть сказку, — говорила Наташа. — Ой, ты бы поберегся! Хоть бы по ночам меньше шастал. Нужны нам эти рестораны, пуп надрывать, кому чего доказываем!..»
На базе давали получку, плюс друзья отдали долг, получилось много. Чарли остался на разгрузку рефрижератора, закончили заполночь. Он доехал на дежурной машине до своего темного района, пошел вдоль бетонного забора к дому. Метрах в тридцати по ходу замаячили фигуры. Чарли замедлил шаг, осторожно вытащил из-за пазухи тугой бумажник и уронил под забор, стараясь запомнить место. Продолжая идти, снял часы и «печатку», проделал с ними то же самое.
— Ну что, супермен-заика, зарплату получил? — спросили, окружая.
Чарли кивнул.
— Сам отдашь, или как?
Чарли отрицательно покачал головой.
— Да ну!.. Руки бы вынул из карманов.
Чарли вытащил на свет луны две огромные дули и дал понюхать страждущему:
— Ра-ро-ра… Ра-аботать надо!..
Его долго били, повалив на землю. Выворачивали карманы, рвали в клочья куртку… Под утро он добрался домой, волоча ногу. Держась за грудь и прикашливая, сказал ахнувшей жене: «Под забором, третья и пятая плита от дороги. Бумажник, часы, перстень… Давай, пока не рассвело».
Когда Натэлла прибежала обратно, прижимая к груди пухлый бумажник, таща за собой сонную соседку-фельдшерицу, фартовый Чарли, похожий на великого клоуна с нарисованным лицом, с огромными белками вместо глаз, лежал на полу возле дочкиной кроватки — ступни разведены, изумленные брови, — чему-то в последний раз улыбался, может быть девочке, невероятно похожей на отца, которая, держась за плетеную загородку и покачиваясь, смотрела на него сверху и удивленно «гулькала».
ЧЕРНЫЙ ДОКТОР
Живу я в Сибири, а отдыхать езжу, как и полагается, на Юг. В нынешний сезон заключительный этап отпуска, обратная дорога, проходил транзитом через город, в котором проживает мой армейский друг Михаил Ряженкин. Я решил воспользоваться случаем и порадовать приятеля сюрпризом — собственной персоной. Будучи уверенным, что доставлю себе и ему немалое удовольствие. Приехав в названный город рано утром, я позвонил с вокзала. Мишка обрадовался, объяснил как к нему добраться. Признаться, в мечтаниях о первых минутах моего неожиданного появления здесь, следовали другие слова: подожди, не беспокойся, примчу за тобой на машине. Но, видно, колесами Мишка еще не обзавелся. А пора бы, ведь прошло уже семь лет со дня начала вольной самостоятельной жизни.
Сам я скопил немного денег и год назад приобрел подержанную «шестерку», которой вполне хватает для моей пока небольшой ячейки общества — мы с женой и трехлетняя дочка. С момента, как у меня появился личный автомобиль, я, к моему стыду, стал относиться к «безлошадной» части народа несколько снисходительно. Что касается Мишки, то здесь ощущения особые. Ведь я ожидал его увидеть в полной гармонии с той перспективой, которую он уверенно рисовал для себя в армии: коттедж в престижном береговом районе, катерок на речной пристани, машина-иномарка, белокурая длинноногая супруга из породы фотомодель… Крутой бизнес. Приемы, презентации и прочее. Я стал догадываться, что между теми грезами и реальностью — как между землей и небом. Но, в конце концов, это ничего не меняло: Мишка есть Мишка, и я приехал к другу, а не к супермену.
Поклажи немного — чемодан гостинцев для семьи и канистра с вином «Черный доктор», который я, соблазненный необычным названием, вез от южных виноградарей сибирским нефтяникам — моим коллегам по работе. Подарок бригаде получался весьма оригинальный. В прямом и переносном смысле сногсшибательный. И я этим заранее гордился, представляя удивленно-радостные, уставшие от плохой дешевой водки лица своих друзей. Чемодан сдал в камеру хранения. Канистру, от греха подальше, решил оставить при себе. Вес немаленький, двадцать литров плюс сама металлическая емкость, но ничего. Конечно, придется угостить Мишку. Но я полагал, что до завтрашнего утра, когда отправляется мой следующий поезд, много мы с ним не выпьем. Тем более, что прямо на вокзале, больше для гарантии сохранения «Черного доктора», нежели для презента, я на весь остаток отпускных денег прикупил ноль семь «Смирновской». Мишка до утра не даст помереть с голоду, а билет уже в кармане.
Оказалось, Мишкины апартаменты — комната в малосемейке, удобства в коридоре. Перечень остальных измеримых достоинств моего друга на данный момент — телефон, чистый паспорт… Сам Мишка — верзила двухметрового роста, параметры баскетболиста. Тронутый ранней сединой, подернутый мужественными морщинами, потасканный женщинами. Я пошутил, что если через пару десятков лет ему обзавестись стареньким дорожным велосипедом и назвать его Росинант, то из Дон Жуана получится вполне современный Дон Кихот. Сам я сошел бы для роли Санчо Пансо, но мне некогда… Правда, для полноценного рыцарства нужно еще и свихнуться на женщинах, что, впрочем, с убежденными холостяками весьма нередко приключается.
— Сам знаю, что пора жениться, — оценил мою наблюдательность и витиеватое красноречие, рожденное радостью встречи, Мишка, — да все некогда. А если серьезно — что-то я перестал разбираться в женщинах. Чем больше с ними сплю, тем больше они сливаются в одно, вернее, в одну. Знаю, на что «она» способна, чего хочет… Не смейся. Быть уверенным, это и значит — не понимать. Философия. Сам ты, небось, как встретил, так и женился? Я этот момент упустил — когда ничего не понимаешь. — Он рассмеялся, не давая себе сойти на серьезный тон, что для нашего с ним общения было нетипичным. Короче, как это, оказывается, скучно — все знать. Откупоривай!..
— …Вот так, значит, бизнес мой и не удался. Та стерва тут же отнырнула к своему первому — разбогател. И ведь знал, что не я ей нужен, а то, что у меня было. А все же держал возле себя, как красивую игрушку. Что поделаешь, друган, я не обижаюсь, это ведь соль жизни — расчет. Основа порядка в мире. Иначе — хаос. Ладно, ладно, о присутствующих не говорю. Но… не дай бог тебе обеднеть. Короче, долги отдал, купил эту клетушку. Пока ничем не занимаюсь, наелся, да и стимула нет, — закончил Мишка рассказ о послеармейских перипетиях. — Наливай!..
Я был не согласен с Мишкой. Стал рассказывать ему, что мы с моей будущей женой представляли из себя, когда решили расписаться, — голы, как соколы. Уж какой там расчет! Он перебил, довольно тонко дав понять, что мир, конечно не без дураков, встречаются «экспонаты»:
— Кстати, неделю назад на одной вечеринке познакомился с одной подругой: во!.. Все при всем. Сидим рядом. Я клинья подбиваю, она только слушает, не успевает слово сказать, — ты же меня знаешь, если я заведусь… В общем, все по нормальной схеме. Танцуем… Тут, сам понимаешь, следующая фаза, ближе к телу — ближе к делу, когда подруга обязана любым способом дать знать — да или мимо денег… Ты знаешь — ни то, ни второе! Башку задрала, в глаза смотрит, как будто стенгазету читает. Что я запомнил, — вздохнула и говорит: «Эх, Миша, вам нужен доктор…» И все, слиняла куда-то. И там, на этом сабантуе, и после у друзей моих, хозяев, спрашиваю, кто такая? А они мне, как попугаи: ты о ком? не знаем. Ты о ком?? Не знаем!!!.. Я им говорю: у вас тут что, в самом деле, в конце концов, — кто попало, что ли, заходит-выходит?… Полнейший проходной двор! Ну, это, конечно, не мое дело, что я действительно… Да по мне, конечно, и черт бы с ней, но вот чисто спортивный интерес: дура или фригидная?…
— …Такая, знаешь… Ну, словом, сам знаешь, — во! И смуглая, как мулатка. Буквально черная. А волосы… Ну ворон! Смоляные. Серафима, кажется…
Я предположил, не влюбился ли мой армейский друг Мишка?
— Да ты что!.. — он смешно замахал на меня безобразными великанскими ладонями с разбухшими в суставах пальцами, фрагмент из фильма ужасов. Хорошо, что напомнил. Сейчас к подругам поедем.
Я запротестовал, сказал, что не сдвинусь с места. А если Мишка их приведет сюда, то выпрыгну в окно. Из чего мой друг еще раз заключил, что мир не без дураков.
— Ладно. Я пошутил. Вообще-то у меня уже все запланировано с того момента, как ты позвонил. Сейчас едем к одной близкой подруге. У нее квартира как раз возле вокзала. Там и посидим по-человечески. Ванну примешь. Утром проводим к поезду. Идет?
Я обрадовался перспективе поесть по-человечески — у Мишки ничего не было, водку мы больше занюхивали, чем заедали.
Он позвонил по телефону:
— Ирэн! Все по прежнему плану. Минус подруга. Так надо, подробности письмом. Свистай ключ, и вниз. Мы идем. — Бросил трубку, пояснил: — Ирэн. Живет с родителями. Они для нее квартиру держат. Пустую. Условие: выйдешь замуж — ключи твои. Нет — сиди рядом. Из доверия вышла. Собирайся, канистру не забудь.
Еще бы я забыл канистру…
По дороге попытался уточнить относительно доверия, из которого вышла Мишкина знакомая. Мишка отмахнулся, лишь коротко охарактеризовав родителей Ирэн: держиморды.
В квартире Ирэн Мишка снял рубашку, остался в майке, надел большие комнатные тапочки. Вдруг сразу превратился в Мишку, которого я еще не видел. Стал похожим на солидного главу семьи, мужа, уставшего после работы. Может быть, даже слегка прибаливающего. Исчезла легковесность, бравада. Куда-то делся Мишка-балагур. В чем дело? Я мысленно представил его в прежней одежде — то же самое. Значит дело не в майке и тапочках. Он чувствовал себя здесь как дома. Тут ему, наверное, было спокойно и хорошо. Очевидно, пришла мне в голову рациональная мысль, скоро Мишка возьмется за ум и бросит якорь. Тогда у него появится стимул. Который родит цель… Ну и так далее.
Однокомнатная квартира на четвертом этаже. Ирэн с матерью приезжают сюда раз в неделю, делают уборку. К моему «Черному доктору» в работающем холодильнике нашлась кое-какая закуска: консервы, сыр, колбаса. Мне за время дороги такая пища изрядно надоела, но выбирать не приходилось. Вспомнилась супруга, фланелевый халат, запах борща… Однако очень скоро Ирэн отодвинула на задний план возникшие было в голодном мозгу образы, перебила знакомые запахи.
От нее вкусно пахло духами и сигаретами. Я едва удержался, чтобы не закурить, хоть никогда в жизни не курил. Скажи мне Ирэн: закури или, положим, научите меня курить, — и я, скорее всего, задымил бы. Что значит женское обаяние, подумал я, и вспомнил некогда услышанное о чарах прекрасной половины: не мы их выбираем, а это они все выстроят так, чтобы мы выбрали их.
Это была полноватая дева с мальчишеской челкой и пухлыми детскими губами. Пожалуй, на этом приметы, выдававшие почти школьный возраст, заканчивались. И вот почему… На первый взгляд, тело как тело: белое и наверняка мягкое, как сдобное тесто. Его было много для глаз наблюдателя. Даже если иметь ввиду только обнаженные руки и ноги, демократично свободные от мини-халата, больше напоминавшего набедренную повязку. К слову, казалось, халат жил своей жизнью, которая полностью гармонировала с характером хозяйки. Нижние бахромчатые полы его раздвигались и приподнимались при малейшем движении Ирэн, даже когда она просто медленно опускала тяжелые крашеные ресницы, не говоря уже о том моменте, когда эти ресницы, как два крыла, вскидывались к самой челке. В глубоком вырезе, как будто с целью не давать дремать наблюдателю, появлялись, сменяя друг друга, половинки аккуратных белых дынек. Во время отпуска на море я на многое посмотрел и, как мне кажется, имел право на определенные выводы о качестве женских телес. Так вот, при всей привлекательности, это тело, по каким-то неявным слагаемым, в результате было лишено полагающейся возрасту свежести. И глаза, точнее, все то, что под ресницами фасона «Споткнись, прохожий!», — будто по ошибке ребенку прилепили старушечьи глаза…
Мы долго сидели на кухне. Много пили и разговаривали. В общем-то, ни о чем. Мои семейные новости компаньонов не интересовали, они вполне тактично, по принципу «а вот у моего знакомого был аналогичный прикол» переводили разговор в другое русло. Мишка немного ожил, когда вспомнили совместные армейские годы, но скоро махнул рукой:
— А, два года — вон из жизни, и все… Вы как хотите, а я пойду бай. Ирэн, ты смотри, нас не перепутай!
Ирэн ухмыльнулась:
— Ха!.. Невозможно — у вас параметры разные.
Признаться, мне было не совсем лестно это услышать. Я впервые серьезно пожалел, что в свое время не вырос больше своих метр семьдесят шесть. Но возможно, Ирэн имела ввиду какой-то косвенный смысл? От предположения такого варианта стало еще неприятней. Однако нужно принять во внимание, что последние думы-комплексы рождались под праздничное благоухание паров «Черного доктора» и вряд ли были возможны в будни.
Когда Мишка ушел из кухни, Ирэн стала не то чтобы совсем серьезной, но очень усталой.
— Надоел мне твой друг Мишка. Из-за него приличные женихи не клеятся. А этот выпьет, закусит, поспит — и опять на две недели пропал. Зря хата стоит. Ни развлечься путем, ни устроиться как надо. Сама не знаю, почему все никак к черту его не пошлю. Он ведь пропащий человек — неудачник, нищета… У меня есть перспектива — возраст, извини за откровенность, все другое… Жилплощадь. А что еще женщина может предложить? И это много. Остальное дело мужчины. Да. Ну так вот, Мишка — безнадежный ноль!..
Я попытался возразить. Мол в человеке не это главное, а… Ирэн меня очень даже бесцеремонно перебила:
— Пойдем спать, Павел Корчагин. Ляжешь на полу.
Утром меня разбудили нетерпеливые длинные звонки и требовательные удары в дверь. Я открыл глаза. Мишка с Ирэн, неодетые, сидели на диване и делали мне страшные глаза, приложив напряженные указательные пальцы замком поперек губ. Я понял, что должен молчать. Ситуация из разряда непонятных, ясно было одно — дело не шуточное. Из-за двери доносилось:
— Иринка, открой! Я видела с улицы — занавеска отодвинулась. Ты здесь. Открывай!
По дальнейшему монологу из-за двери стало понятно, что мамаша — это именно она сейчас стояла за дверью — рано утром обнаружила пропажу всех трех комплектов ключей (ай да Ирэн!) от квартиры и поняла, что ее дочь не ушла ночевать к подруге, а поехала на квартиру прежними делами заниматься. Какими делами, об этом явно не говорилось, но, судя по испуганному виду Ирэн и Мишки, они, эти самые дела, были весьма серьезные.
Все бы ничего. Даже в некоторой степени интересно. Детектив. Но через полтора часа, согласно железнодорожному расписанию, уходил мой поезд, и я забеспокоился, стал показывать на часы. Друзья мои только разводили руками: мол, ничем помочь не можем.
Мать то стучала, то продолжала возмущенный монолог, в котором угрозы сменялись словами прощения. То уходила медленно вниз по лестнице, то быстро и решительно поднималась опять.
В одной из пауз, когда можно было говорить, я, уже одетый, тихо сказал: ребята, у вас, конечно свои проблемы, но у меня поезд уходит через двадцать минут. Если я прямо сейчас выйду, то еще успею добежать, несмотря на тяжесть своей ноши. В конце концов, я уже готов подарить ее, свою драгоценность, вам, только отпустите. На что Ирэн заметила, что если я выйду без канистры, то будет легче. Потому как в другом случае я непременно получу этой почти полной металлической емкостью по голове, что гораздо хуже. В любом случае, женщина, которая за дверью, ни за что не выпустит меня из своих невероятно когтистых лап, и поэтому спешка на паровоз уже совершенно напрасна. А если серьезно, вмешался Мишка, сегодня вариантов нет — сиди. Подумаешь, — уедешь завтра.
Мамаша ушла только к обеду. Ирэн сделала быструю уборку и мы покинули квартиру, ставшую для нас неожиданным и бессмысленным пленом. С Ирэн расстались. Пошли с Мишкой в его родное общежитие коротать оставшееся время до следующего поезда, который шел рано утром следующего дня.
Я был потрясен случившимся, поэтому даже не мог, не хватало возмущенных слов, спрашивать, каков, собственно, сюжет этой абсурдной Мишкиной драмы, героем которой я так некстати и неинтересно стал. Я думал о том, как семья будет встречать меня на вокзале, согласно телеграмме, у соответствующего поезда, и как я должен буду объяснять опоздание жене. Ко всему сразу прояснилось, что Мишка абсолютно на мели, и денег мне на новый билет взять совершенно негде. И тогда я впервые за все время моего пребывания в этом абсурдном городе сказал такие высокие и обидные слова:
— Миша, честное слово, так жить нельзя… Найди покупателя, я продам «Черного доктора», чтобы поскорее уехать отсюда. Потому что ты мне надоел за сутки так, как не надоел за два года совместной службы, когда наши койки стояли рядом. Только маленькая просьба. Если позволит твоя жилка бизнесмена, то сторгуйся так, чтобы у меня осталась хотя бы пустая канистра. На память о нашей встрече.
Мой друг молча взял подарок виноградарей нефтяникам и вышел.
…Утром, еще было темно, мы пошли с ним на вокзал. У нас не было денег на такси. Мишка чувствовал себя виноватым, поэтому, по детски, не уступая, нес как наказанье пустую канистру. Канистра стукалась об его выпуклые коленки, пугая гулким эхом полумрак пустых улиц. Он жестикулировал свободной рукой и, стараясь выглядеть веселым, рассказывал:
— Мы познакомились с Ирэн в КВД. Да-да, что вылупился? В кожно-венерическом диспансере. В одном корпусе лежали. Один диагноз. Ерунда, а не болезнь. Посему, не волнуйся. Мы тоже поэтому ничего не боялись ни тогда ни сейчас… По причине КВД и всего остального поведения родители ее так стерегут. Убить готовы того, кто якобы совращает их дитя. Ничего себе дитя, да? Ну, и как устережешь такую… Нам с тобой еще повезло, что папаша в командировке. Бедные. Эх, Ирэн, Ирэн!..
Он ненадолго замолчал, понурив голову.
— Ты знаешь, сейчас почему-то вспомнил. Ну, я рассказывал про ту, смуглую. Считай, черную. Серафиму, кажется… Нет, так ничего, глупости, но все-таки, спортивный интерес… — Он необычно смутился, может быть мне показалось. Неожиданно посетовал, предложил: — Так мы с тобой и не попели, как в армии, под гитару, помнишь? Давай хоть поорем на прощанье, пусть просыпаются, все равно пора уже. А, давай?
За поворотом — вокзал. Мне стало гораздо легче, почти весело, черт с ним, с «Черным доктором», и вообще…
— Давай! А что?
Мишка мечтательно закрыл глаза, задрал голову, набрал воздуху, замер не дыша и наконец, невольно потрясая канистрой, закричал зовуще и восторгаясь:
— Серафима! Се-ра-фи-ма!..
ЗЛАТОУСТ
Искусственные зубы у Бориса Матунова, а они у него почти все искусственные, — были необычны: старомодные, сейчас такие вряд ли увидишь стальные, без желтого покрытия. При разговоре они не только серебряно посверкивали, но также скрипели с переходом в разбойничий посвист и копытный цокот — от своеобразной манеры разговаривать.
Лет Борису Матунову за пятьдесят, но среди коллег по работе зовется он Борей, а за глаза — Боря Мат, Матобор, Бормотун. А то и вовсе Обормот. Работает он на одном месте так давно, что неизвестно, чему обязан за прозвища — просто фамилии или все же весьма своеобразному характеру. Несмотря на определенно почтенный возраст — тяжелые бульдожьи морщины на крупном лице, сплошная седина, протезированный рот, — Боря Мат явно не желает мириться с тем, что уже объективно перешагнул грань, безвозвратно отделяющую его от части населения, к которой применимо — иным даже с большой натяжкой — словосочетание «молодой человек». Возраст обязывает говорить умные, наполненные смыслом, основанные на личном опыте, речи. Но явный недостаток ума лишает его такой возможности. Просто же молчать — тоже не годится, ибо данное категорически противно природе этого пожилого индивида, а самое главное — избыток беззвучия, изо дня в день, в относительно замкнутом коллективе непременно выдает истинный потенциал бесславно молчащего.
Пытаясь выйти из положения, Матобор тянется, как он иногда многозначительно подчеркивает, к молодежи: его темы для разговоров молоды, хоть и вечны, а потому — как он, вероятно, полагает, — речи содержательны по сути, но «оправданно» упрощены по форме. Однако источник якобы молодого звука выдает старого фюрера-краснобая: речи кричат максимализмом, но отнюдь не юношеским, — искушенным, замешанном на всеведающим цинизме человека трижды разведенного, крупного алиментщика, а ныне просто безнадежного вынужденного, или глубоко убежденного — что на поверку, как правило, одно и то же — холостяка.
Так думает тайный оппонент Обормота, коллега по работе, сорокалетний и уже «застрявший», бесперспективный инженер средней руки Юрий Сенин, у которого Обормот работает мастером.
Завуалированное соперничество — таковым его считает Сенин, и в которое он добровольно втянулся, — определено благородными принципами тонкой души инженера, которая травмируется безобидно пошлыми и бездарными, но при этом удивительно цепляющими похабными монологами мастера.
Глыба тем для монологов, которую ежедневно, с молодым задором темпераментно, но в манере опытного волка — понемногу, Матобор обгладывает протезными зубами, — велика и на самом деле неразгрызаема: «Что нам мешает жить?» Система повествования отработана: начинает с себя, по методу индукции переходя от частного к общему, затем иезуитской петлей, изощренным бумерангом возвращается на драгоценное эго и, наконец, обрушивает весь бедовый пепельный дождь на железнозубую седую голову.
Грузный, он становится легок, воздушен телом, как толстозадый балерун. Подпрыгивает на кабинетных стульях и автобусных сиденьях. Вращает глазами, которые порой страшно лупятся мертвенно-меловыми белками. И, конечно, скрежещет зубами. Сиденья ходят ходуном, печально стонут. Голос — тоннельное гуденье, горный обвал. Цицерону явно не хватает трибуны, тоги и лаврового венка.
Это отвлекает разжалобленных наблюдателей спектакля от умственной ограниченности Матобора и заранее оправдывает его стилистические пассажи и явные орфографические проколы, — так раздраженно предполагает инженер Сенин.
…Все кругом у Матобора виновато во всех его горестях. Почти все его несчастья, строго говоря, — часть общечеловеческих бед, а так как бед этих, разумеется, много, то виноватых — пруд пруди. Они, как микробы, кишат вокруг и отравляют всем, и особенно Мату, жизнь. Неприкасаемых нет — это очень удобно. Следование такому инквизиторскому принципу расширяет до возможного диапазон диалектического скандала, а главное — избавляет от последовательности в череде философских выкладок. То есть если сегодня Матобор ругает демократов, то это вовсе не значит, что завтра от него не достанется коммунистам, чью сторону он нынче, пусть пассивно, отстаивал. И так далее. Словом, постулат «единства и борьбы противоположностей» — в реализации.
Но непременный переход на избитый-перебитый, однако любимейший финал, на «библейское», как говорит Матобор, объяснение источников всех земных бед — женщину. Она у Матобора не просто «божья лохань», рядовая нечистая сила, она синоним Сатаны, самого главного черта.
— «Лютики, незабудки!..» — простужено скрипит, ерничая, передразнивая неизвестно кого, возможно себя юного, Обормот. — Незабудка, мы ей говорим. Ля-ля, сю-сю!.. Да колючка ты верблюжья, — кричит он, задрав голову, как старый волк к лунному небу, неведомой женщине, — век бы тебя не знать, не помнить, только и думаешь, как бы зацепить человека, а потом как лиана его задушить и как глист все соки высосать!.. У-у-у, сволочи!.. Сучки!.. Да еще пасынка или падчерицу нам в придачу: корми, любимый! — Он пытается по-женски пищать, хотя трудно издать писк мартеновскому жерлу: — «Я тебе за это еще и рогов наставлю, красивый будешь, как северный олень!» Ух!.. — он бессильно отбрасывает большое тело на спинку сиденья и замокает. Моргания глаз на фиолетовом лице почти обморочные: редкие, «глубокие» — нижние и верхние веки плотно смеживаются на целую секунду. Широкая грудь высоко вздымается, внутри еще что-то булькает. Финал состоялся.
«Оргазм унитазного бачка», — очередной раз отмечает про себя Сенин и внутренне брезгливо морщится.
Иногда Сенин, выведенный из себя этими проявлениями агрессивного скудоумия, когда проблески человеческого интеллекта тонут в завалах непроходимой грубости, пытается невинной фразой защитить очередной объект словесного нападения Обормота. Например, женщину вообще: ведь женщина это не только коварная любовница-кровопийца, но и мать, жена, сестра, дочь. Результат такой попытки — новый всплеск ярости Матобора, новые «доказательства» с более бурными «оргазмами». Которые ничего не прибавляют в принципе, но возводят утверждения аморальности объекта словесной агрессии в абсурд. Так перед словом «женщина» каждый раз, со сладострастным ударением, звучит слово «все», иногда, для усиления, дуплетом: «все-все». Все-все женщины!.. И тогда слушателям постепенно становится ясно, что «все» относится не только к бывшим женам Матобора, но и к секретарше директора, и к нормировщице, и к работницам бухгалтерии, и к женам всех мужчин, которые, к своему несчастью, невольно стали свидетелями попытки одного из них встать на защиту «божьей лохани».
Все это обычно происходит в маленьком ведомственном автобусе, который возит тружеников, как на подбор — только мужского полу, — небольшого асфальтового завода, расположенного за городом, с работы и на работу. Пятнадцать минут утром, пятнадцать вечером. Итого полчаса вынужденного непроизводственного общения с Борей Матом. В рабочие часы Сенин успешно мстит Мату за эту ежедневную получасовку, в которой на интеллектуального соперника не распространяется служебная власть инженера Сенина. Так как мстить подло Сенин не может, то это сказывается лишь в стремлении как можно полнее загрузить пожилого мастера, чтобы у того не оставалось времени на праздную болтовню в рабочее время.
Надо сказать, что на работе к Матунову не придраться. Слывет он исполнительным трудягой. Работает резво: шумит на подчиненных, в меру огрызается на начальство. Боится и тех, и других. Как и полагается мастеру. Но работу тянет, уверенно доводя дело до заслуженной пенсии.
…Сенин понял, что невозможно оппонировать логикой с отсутствием таковой. Но чем человек подчинил себе природу, покоряя огонь, побеждая превосходящих по силе мамонтов, став выше человекообразных обезьян — этих задержавшихся в развитии собратьев?… Стоило однажды задать себе этот вопрос, чтобы обрадоваться — даже еще не зная буквального ответа на свою конкретную проблему. Ум — это и есть главное оружие в мире, это и есть власть. Не может безумие довлеть над умом, человекообразие — над хомо сапиенс. Если такое иногда происходит, то определенно является следствием нерешительности или лени носителей разума. Так возвышенно резюмировал сентиментальный Сенин в преддверии поиска антиматоборовского противоядия.
И Сенин нашел выход. Не в силах заткнуть рот имеющему свободу слова гражданину, он стал «заводить» Обормота в нужном направлении. Это стало его своеобразной властью над ограниченным Мотобором, успокоило ранимую душу инженера, заметно релаксировало до этого напряженные автобусные пятнадцатиминутки — он даже стал получать от них определенное удовольствие. Правда, Сенин иногда отмечал, что это удовольствие, вероятно, имеет животную, садистскую природу — наслаждение уязвленностью поверженного врага, но довольно быстро прощал своим генам эту наклонность, доставшуюся от далеких предков: «враг» заслужил такого к себе отношения.
Итак, теперь Сенину удается небольшой фразой, наивным вопросом «заводить» Мата, а затем маленькими вставками-замечаниями манипулировать сальными потоками похабного обормотского сознания. Сенин тайно потирает руки и даже успокоено закрывает глаза, упиваясь покоем и властью: стоит всего лишь сказать слово (главное — какое!) и бурная струя бульдожьего лая повернет в нужную сторону. Он отдыхает, ему уже даже немного смешно за себя прошлого, ранящегося о колючие монологи Обормота.
Коллегам Матобора однажды выдалось разделить с ним, из вежливости, счастье долговременного алиментщика — один из оплачиваемых отпрысков, к которому, наряду с двумя другими, ежемесячно уходила часть заработной платы опаленного годами и законом Дон-жуана, достиг восемнадцатилетия. Все вспомнили одну из матоборских аксиом: «Не ребенок пользуется нашими алиментами, а сучки на них жируют!» Матобор со счастливой усталостью объявил утреннему автобусу, что на «вырученные» деньги решил поменять себе зубы. Железные — на золотые. Ну, не совсем золотые, а, как принято говорить, с напылением. «Из самоварного золота», — уточнил про себя инженер Сенин.
Через три месяца после знаменательной даты объявленное свершилось — у Матобора вынули старые протезы. «Плавят новые… Через неделю…», — с трудом поняли коллеги, когда однажды утром, улыбаясь — просто растворяя пустой черный зев — и широко раскрывая глаза под лохматыми бровями, взлетевшими к седому чубу, смяв «в ничто» и без того узкий лоб, прошамкал клиент и временная жертва платного дантиста.
Первая пятнадцатиминутка: «Шам, шам!..» — недовольно, но — редко. А потом и вовсе замолчал, вполне по-людски щурясь как бы от хороших человеколюбивых мыслей, которые переполняют теплую душу. Наверное, думает о том, что скоро и остальные «спиногрызы» достигнут совершеннолетия, и тогда можно будет справить себе следующие обновы, — бранчливо и недоверчиво предположил Юрий Сенин. Впрочем, отходчивость натуры Сенина вскоре сказалась: Обормот стал смотреться дедушкой, которому не хватает мягкой седой окладистой бороды, внука (хотя бы от «прожорливого пасынка»), сладкоречивой классической сказки. Неужели так будет вечно…
К концу дня стали прорываться знакомые скрипы и хрипы, задвигались, норовя в кучу, суровеющие брови. «Идет настройка», — автобусные попутчики забеспокоились: забрали у коровы рога, так учится голым лбом бодаться. А завтра — то ли еще будет!..
…Наутро сюжетное равновесие автобусной скучной «мыльной» пьесы, и без того потревоженное внезапной беззубостью одного из главных персонажей, было окончательно нарушено. В салон, обычно абсолютно мужской, вошла молоденькая девушка. («Бабец», «мокрощелка», «двустволка» — как сказал бы в иной ситуации Бормотун.) Как выяснилось — практикантка, присланная на асфальтовый завод для сбора материалов на курсовую работу по гидроизоляционным материалам.
Практикантка — заурядной пробы, но симпатяга девушка, на взгляд Сенина: крепко сбитая — под Мону Лизу. Круглолицая, с крупными губами, с огромной русой челкой, дающей шарм большому зеленому оку, пикантно и обещающе высверкивающему как бы из-за приоткрытой чадры. При том, что второй глаз, «явный», демонстративно наивен, невинен, скромен. «Расцветет» только с молодыми, подумал Сенин, здесь будет держать марку. Сорокалетний инженер повидал практиканток на своем веку, да и сам, в общем-то еще недавно, был студентом. Чутье его не обмануло: через день Мону Лизу в коридоре заводоуправления «окучивали» два слесаря, прыщавые ровесники молоденькой двустволки, блеск интеллекта, через каждое слово — «бля». Я, бля, пошел, бля. Ты знаешь, бля… Мокрощелка, соответствуя этому самому неопределенному артиклю «бля», заливисто, запрокидывая голову смеется. «Вырождение нации», сварливо подумал проницательный Сенин, проходя мимо, и даже, пользуясь минутами свободного времени, пока шел на планерку, посвятил, пропитанный отеческим сочувствием, небольшой внутренний монолог Моне-мокрощелке: «Через пять лет ты будешь иметь пару ребятишек, и тогда, в самый неподходящий и неожиданный момент, тебя, откровенно потолстевшую, бросит какой-нибудь „обормот“ ради стройной и более внутренне интересной. Попутно украсив тебя „верблюжьей колючкой“ вместо „незабудки“. Сама виновата».
Мир автобусного салона треснул и разделился на две части: наблюдаемые и наблюдатели. Наблюдатели — ничего интересного, к этому сектору относился и инженер Сенин. Наблюдаемые — юная практикантка и пожилой Обормот.
Практикантка ездила такой же, какой и вошла: пышность, скромность, недоступность, пикантность, челка, поблескивающий глаз: Мона Лиза; иногда соответствующая улыбка.
Боря Мат стал садиться исключительно на первое сиденье — лицом к салону. Все это сразу подметили. Мат обернулся немым гоголем, скрывающим старого алиментщика. «Жених», — по-новому окрестил его Сенин, отметив для себя, что вряд ли когда нибудь в жизни наступит предел удивлениям. Бормотун молчал — с работы и на работу — даже не шамкал. Но — весь светился. Свет был неподвластен физическим приборам, но его видели все наблюдатели. Он был особенно ярок, когда Боря Мат, якобы равнодушно, окидывал взглядом салон, лишь на секунду задерживаясь на практикантке. Было такое впечатление, что он фотографировал ее всей силой своего небольшого мозга, стараясь как можно больше саккумулировать в себе от этого молодого свежего тела, губ, челки, глаз… Так казалось, потому что сразу после секундного фотографирования Боря закрывал глаза — якобы: глубоко моргал, защищаясь от света салонного фонаря, бьющего прямо в лицо, — поворачивал голову в сторону (унося запечатленный образ в заповедные углы памяти) и только там, ни на кого не глядя, медленно размыкал веки. Почему он молчал и на что надеялся? Сенин, упражняясь в психоанализе, предполагал, о чем Обормот мечтает, на что имеет виды: вот поставят мне новые зубы, почти золотые, красивые, тогда и скажу веское и красивое слово, и сражу, и покорю!.. Сенин нарочито упрощал предполагаемый ход мыслей бывшего оппонента, желая видеть эти мысли и их хозяина еще более несимпатично и карикатурно. Ему это с успехом удавалось. Соперник был повержен, пусть не Сениным, здесь нет его заслуги, но степень обнаженности Бормотуна была так велика, а неприязнь к нему — так глубока, что невозможно было не порадоваться этому беззащитному состоянию некогда грозного и громкогласного Цицерона.
…Но вот утром Матобор заходит, радостно блестя желтыми зубами. Заметно, что они ему еще не приелись, теснятся, стучат не там, где бы следовало. Все замерли в ожидании: что выйдет из этих разверзнутых золотых уст — золото, добро?… Он окидывает глазами салон и не находя девушки (практика закончилась), глубоко вздыхает. Надолго замолкает — так кажется, потому что на самом деле он еще не сказал ни слова. Все думают: вот стоило сменить корове (метафора, адресованная еще беззубому Матобору, уже устарела, но лучшего сравнения никому на ум так и не приходит), — заменить корове рога, простые на золотые, и сменился ее характер…Ведь вот нет уже той, которую Мат, обожая, стеснялся, а он — молчит.
Но все ошибались… Через пять минут (Сенин уже было прикрыл глаза, думая о том, что так все хорошо складывается — Матобор изменился, стал, как говорится, человеком) — хрип, кряк, тресь!.. Салон — подъем, как от будильника, внимание. В ненавистном жерле сверкнуло, скрипнуло на весь салон, и понеслось знакомое: «У-у-у! Незабудки!..Сволочи!.. Сучки! Все!.. Все-все!..» — тот же самый вулканный гул и бедовый пепел, но с лучшим, более красочным оформлением, прямо-таки с золотым фейерверком.
Не все то золото, — огорченно думает инженер Сенин, — что блестит…
ЛЮГРУ
Некогда я закончил автошколу ДОСААФ в провинциальном городе солнечного Узбекистана, где имел счастье родиться и прожить детские и юношеские годы.
…Группа семнадцати-восемнадцатилетних курсантов, будущих водителей-профессионалов, именовалась несколько сурово и таинственно для нашего юношеского понимания: спецконтингент. Причина была в том, что учились мы от военкомата, который готовил кадры для Советской армии. Занятия посещали вечером, хотя имелись и дневные группы. Каждый из нас где-нибудь работал на ученических должностях слесарей и строителей — это было уже хорошо для предармейского периода. Некоторые сверстники, в отличие от нас, слонялись без дела, умудряясь в эту неустойчивую пору не только стать завсегдатаями инспекций по делам несовершеннолетних, и даже конкретно КПЗ, но и вполне взросло схлопотать «статью», которая в дальнейшем открывала горизонты отнюдь не радужные.
Всем было понятно, что владение «баранкой» сулит в грядущей воинской повинности ощутимые преимущества перед остальной, преобладающей массой армейской молодежи, только и имеющей к службе аттестаты об окончании школы или свидетельства о неполном среднем образовании. Мало того, для многих шоферские «корочки», ввиду уровня приобретенных в школе образовательных способностей, а для иных и просто по причине определенного менталитета, являлись пределом мечтаний и в дальнейшем становились главным документом жизни, если не считать паспорта. Ко всему, автомобиль для парней всегда был больше, чем средство передвижения или агрегат для зарабатывания денег. Словом, мы были счастливы, что учимся на «водил». Впечатления не портила полувоенная дисциплина: контроль успеваемости со стороны кураторов из военкомата, жесткий учет посещаемости, гимнастерки, строгие короткие прически.
На переменах мы курили, обсуждали городские новости. Случалось, выясняли отношения с помощью кулаков, что, справедливости ради сказать, бывало очень редко: мы, сами того не осознавая, являлись уже пролетариатом, который, конечно же, отличался от уличной шелухи — блатяг, драчунов и анашистов. Хотя состояние это было весьма зыбким, а градация в массе недавних подростков — условной: элементы часто и вполне органично переходили из одного социального подуровня в другой.
Группа практически полностью состояла из узбекских ребят, чад многодетных малоимущих родителей, для которых автошкола была единственной возможностью дать ребенку специальность. В эту довольно однородную в национальном отношении массу затесались три крымских татарина, два корейца и один русский — я.
Через пару недель после начала занятий выявились наши способности по усвоению материала, «сильных» рассадили со «слабыми». Моим соседом по парте стал узбек Джурабай.
Джурабай был высоким парнем, у которого акселератный подъем туловища к потолку явно опережал остальное физическое развитие. Результат — узкие покатые плечи, сутулость, общая неуклюжесть. По всему замечалось, что учеба в общеобразовательной школе, восемь классов которой он с трудом осилил, была запущена с самых первых дней, поэтому знаниями и, что важно, способностями к их приобретению, мой сосед не блистал. Но в автошколе аккуратно посещал занятия, прилежно конспектировал уроки. В чем собственно должна будет заключаться моя помощь этому «слабому», я не представлял, потому что Джурабай никогда ничего у меня не спрашивал, что касалось учебы. И совсем не потому, что очень плохо говорил по-русски. Так своеобразно проявлялся его дружеский, но самолюбивый характер.
Через несколько дней совместного сидения я заметил, что Джурабай натура рассудительная, мечтательная и где-то даже философичная. Трудно сказать, по каким признакам я делал такие заключения, возможно выводы были вторичного, неявного порядка, — так как изъяснялся он скупо и до предела коротко, на грани понятного, фразами из одного-двух слов. Однако, было заметно, почти зримо: в его крупной, стриженой налысо голове, похожей на спелый гулистанский арбуз, всегда копошились какие-то мысли, которые, я был уверен, не всегда связывались с темой общего разговора, с местом нашего расположения. На его простом, однотонной смуглости лице, с неузбекскими, скорее монгольскими глазами, часто блуждала какая-то непонятная, туманная, но непременно добрая улыбка.
Для практически туземной, узбекской группы обучение велось — строго на русском языке. Как будто для усиления «несварения» учебной пищи, лекции читал преподаватель-узбек — «разумеется», не блиставший произношением… Все это тогда было вполне естественно и не вызывало удивления или, тем паче, протеста. Но можно представить, что творилось в конспектах узбекских курсантов, получивших образование в национальных школах, практически не знавших русского письма.
Если что я мог разобрать в таких конспектах, а разбирал я практически все, то благодаря, во-первых, кириллице, которая составляет основу узбекской письменности, и, во-вторых, приличным знаниям — нет, не языка, но узбекского акцента. Наверное, именно тогда я выявил для себя лингвистический секрет: мое родное слово в другом языке может изменяться сильно или слабо, но по определенным законам, присущим данному «другому» языку, или, говоря грамотнее, — закону разности двух конкретных языков. Как и миллионы русских, выросших в узбекской среде, я, к стыду моему, не знал местной речи, но хорошо ориентировался в потоках видоизмененных, коверканных хорошо знакомым с детства акцентом, — русских слов, которыми были заполнены узбекистанские заводы и улицы, базары и дворы, стадионы и кабинеты.
Обнаружилось, что чтение конспекта Джурабая, который он в перерывах оставлял на парте выходя покурить, дает мне минуты необычного удовольствия. В чем я соседу, разумеется, не признавался, боясь обидеть. Первое время я буквально катался по парте, читая «акцентировано» записанную Джурабаем предварительно уже «акцентированную» преподавателем речь. Одно дело слышать ломанный выговор на улице, к чему привыкаешь с детства. Другое — прочитать, увидеть это, «нарисованное» знакомыми буквами. Уже став регулярным поклонником джурабаевского эпистоляра, я однажды поймал себя на мысли, что наряду со смешным, чем брызгались тетрадные страницы, конспект содержит в себе нечто недосягаемое, неизвестным вирусом вживленное в чернильные каракули, которое стимулирует появление спортивного, или, вполне возможно, «айболитовского» интереса — точно «переводить» до предела изувеченные слова. Это удавалось, за ничтожным исключением. Однажды такое исключение повергло меня в глубокое смущение…
В один из будних вечеров я пошел на рыбалку, разумеется, пропустив занятия в автошколе. Сам по себе пропуск мог повлечь за собой определенные санкции со стороны военкомата. Нежелательные результаты могли нейтрализоваться только хорошей общей успеваемостью, за что я был спокоен. Оставалось не «плавать» на следующих уроках, основанных на предыдущем материале.
Назавтра я пришел в автошколу пораньше. Из однокашников в аудитории сидел только Джурабай, мечтательно блуждающий по вечерней перспективе города сквозь широкое темное окно. Я попросил у него конспект. Он добро и рассеянно улыбнулся:
— Опять смеяться хочешь? Мало?
Я смутился, торопливо подумал: откуда он знает? Вслух последовало торопливое и многофразовое объяснение, смысл которого можно было передать несколькими словами без всяких эмоций: нужно подготовиться — первого, за прогул, спросят меня. Джурабай протянул тетрадь, не спеша облокотился на парту, положил «гулистанский арбуз» на крупную ладонь, приладив ее к плечу, как метатель ядра перед броском, и с лукавой улыбкой стал наблюдать за мной.
Времени до начала урока оставалось мало, и мне было не до смеху, поэтому я на все сто был занят «переводом». А там, где все же было невыносимо смешно, мне приходилось прикашливать, пряча рот в ладони.
— Заболел? — каждый раз вежливо спрашивал Джурабай.
Я кивал: «Рыбалка!» — и облегченно давал волю улыбке, как будто она относилась к светлым воспоминаниям о причине моей простуды. Джурабай сочувственно кивал, как могут кивать только вежливые узбеки, соглашаясь с мудрыми и справедливыми словами собеседника.
Итак, в одном из предложений я наткнулся на незнакомое слово: «ЛЮГРУ». Впервые за все время моих многочисленных «переводов» рассеянно спросил у Джурабая:
— Что это за слово — «люгру»?
Он, не переставая лукаво улыбаться, предложил:
— Подумай. Очень просто.
Я махнул рукой, пропустил предложение, стал читать дальше. Прозвенел звонок.
Меня не спросили. С хорошим настроением на перемене обратился к Джурабаю:
— И все же, интересно, что за слово ты так зашифровал — «люгру»? Ума не приложу. Признайся.
Ему стало лестно, что он ввел в такое заблуждение «сильного» курсанта. Наслаждаясь, немного приослабил:
— Ладно. Подсказка. Слово — не целое. Сокращенно.
Целый вечер дома я, повинуясь какой-то внешней воле, разгадывал это сокращение — «люгру», мысленно ставя после него точку, про которую забыл Джурабай. Нет, все равно ничего не получалось. При том, что Джурабай уверял — слово распространенное. Ночью я окончательно понял, что «завелся».
Это «люгру» явно было вне закона о словах и акцентах, который я для себя открыл ранее. Из «люгру» не получалось ничего путевого. Даже приблизительно. Просто не могло получиться. Наверняка Джурабай ошибся, а теперь, из каверзности, желая себя потешить, не признаваясь, делает из этой ошибки тайну. На самом деле это его «люгру» — пшик, ноль, абсурд, блеф!
На следующее утро Джурабай был странно озарен изнутри, до необычного для него состояния прямо-таки физической красивости, которой — вдруг, но непременно — награждаются воодушевленные и одержимые люди (впрочем, обычно только на срок воодушевленности и одержимости; перерастание такой красивости в хронический статус Джурабаю вряд ли грозило). Он ждал моих дальнейших расспросов, это было заметно по блеску в его монгольских прорезях и застывшей полуулыбке полных, почти женских, коричневых губ. Я, представляя, какие вулканы начинают глухо и безотчетно скрипеть в его обычно скромной и тихо мечтающей душе, спрятанной за хилой грудной клеткой, не хотел давать ему повод для неправедного удовольствия, основанного на какой-то абстракции, абракадабре, которая у него невольно получилась. Чего доброго, ему еще придет на ум заявить об авторских правах на новое понятие, рожденное «неправильным» акцентом, так интересно сбивающее с толку добропорядочных граждан. Но в конце занятий я все же не выдержал:
— Слушай! Люгру! Скажи, а? — мне показалось, что я сам начал говорить с акцентом.
— Это из правил дорожного движения, — опять приотпустил Джурабай, позволив себе длинную фразу, и сочувственно покачал своей стриженной тыквой с гулистанских бахчей: — Я думал, ты умный. Завтра обязательно скажу. Стыдно — будет? — Неуклюже переставляя ступнями, как будто меся глину для саманных кирпичей, он повернулся ко мне спиной и, еще раз задев мой возмущенный взгляд коричневым уголком своей издевательской улыбки, пошел прочь.
Завтра он не пришел. Явился только через неделю с перевязанной рукой, поцарапанной шеей и большим синяком под глазом.
— На больничном был, — объяснил, показывая на руку. — На танцы ходил. В парк. Вечером. Первый раз… — Замолчал, полистал конспект.
Вся моя, в общем-то, беспричинная злость на него прошла. Больше того, мне стало жаль этого безобидного, миролюбивого парня, умудрившегося кому-то — себя я уже в расчет не брал — досадить. Причем, до такой степени — до мордобоя… Я был более искушенным в современной городской жизни, которая состояла не только из домашнего быта, хождения в школу, общения с друзьями на родной улочке. Поэтому имел право спросить его: чего тебе, Джурабай, нужно было в парке, на танцах? Ведь туда в нашем городе не принято ходить без «кодлы», в одиночку. Человек без друзей на наших танцах — никто. Его за это жестоко наказывают, потому что он, позволивший себе «одиночество», инородное тело, бросающий вызов неподвольной общности, а точнее, если называть вещи своими именами, — трусливой стадности, которой поражена азиатская провинция. Стадности, у которой здесь все в рабской подчиненности — и узбеки, и русские… Все! Вот, знаешь, даже сложная метафора родилась… Что такое метафора — неважно, не забивай свою, наверное, до сих пор гудящую после «бокса» голову. Просто: ты, Джурабай, на наших танцах был — как неправильное «люгру» в среде «правильно» исковерканного. Сложно?…
Так я мысленно горько шутил, раздраженно сочиняя социальную тираду, боясь эмоциональным звуком выдать свое индивидуальное бессилие и свою во внешнем мире непопулярную, если только ни в песенном, «блатном» подгитарном жанре, сопливую сентиментальность.
— Русскую музыку люблю, — тихо сказал Джурабай. — Там ансамбль. Гитары. Цветная… как ее? — цветно-музыка. Красиво.
Не вся музыка русская из того, что ты надеялся там услышать, — опять хотел просветить его я. Негритянские бит и рок, английский «Битлз» и японский «Ройолнайтз», — тоже русская музыка в твоем понимании. Впрочем, какая разница!.. — я, опять «про себя», махнул рукой.
Джурабай улыбнулся, синяк под зажмуренным в вялый мешочек глазом смешно, фиолетово с ярким отливом, сморщился:
— Я помню. Обещал — говорю. Вот: «Люгру» значит — люгруровщик!.. Явно издеваясь, пояснил «для бестолковых»: — Милиционер с полосатой палкой. — Улыбка сошла с лица, растаяли шутливые паутинки на смуглой коже, и он закончил тоном, с которого начал, грустным и усталым: — Я же говорил: из Правил. Сокращенно. Эх ты, — умный…
На экзаменах по правилам дорожного движения мы сидели вместе. Я ответил на все вопросы в его билете. Мы оба получили «отлично». Он был благодарен своему спасителю — в правилах ориентировался слабовато. Даже не собственно в правилах, а в билетах, в которых вопросы — на литературном русском языке. Обещал, что никогда меня не забудет. И если, едучи на машине, вдруг увидит пешим — непременно остановится, подвезет.
Через двадцать лет я вновь посетил свою родину, ставшую независимой «не моей» или «от меня»? — страной.
Шел по городу детства, — здороваясь или прощаясь? Наверное, и то, и другое. Вглядываясь в знакомое и близкое до боли: камни старого города, медленные воды Сыр-Дарьи, зелень ветхой акациевой рощи… Тяжело дыша воздухом родины, ставшим… Знойным, душным? Нет, в стране зноя он не был душным — таким не бывает воздух родины. Тогда — каким?…
Визг тормозов, гортанный оклик.
Джурабай выполнил давнее обещание, которое, вдруг, стало, с высоты лет и через призму обстоятельств, похожим на клятву, — остановился почти на перекрестке. Мы обнялись, хоть никогда не были более чем соседи по досаафской парте.
Долго беседовали, прямо в раскаленной кабине его «кормильца»-грузовика. В основном вспоминали молодость, общих знакомых.
— На танцы все так же ходишь? — подколол я его, отца пятерых детей.
— Нет, нет, — весело вспомнил Джурабай. — Танцев уже нет, в парке темно. Как тебе новое время — у вас и у нас? — он показал огромной ручищей на меня, а затем на себя. Опомнившись, остановил ладонь в промежуточном положении, так что ее указывающий смысл относился уже сразу к обоим, быстро поправился: — У нас…
Вопрос, при всей своей обоснованности и тривиальности, оказался неожиданным. Я непроизвольно пожал плечами, куда делось мое красноречие:
— Была страна… А теперь — «люгру»! Помнишь?
Джурабай широко заулыбался — помнил, — уважительно, осторожно приложил ладонь к моему сердцу — ладно, хорошо, не надо слов. И сказал сам:
— Мы с тобой ни в чем не виноваты. Это все там! — он ткнул пальцем вверх, в обшивку кабины.
— Люгруровщики?
Он кивнул. Мы засмеялись, долго смеялись — до слез.
ВОЗМОЖНЫ ВАРИАНТЫ
Сначала я огорчился. Меня на две недели, в числе десяти инженерно-технических работников заводоуправления, отправляли на «ударный труд». Дело обычное для последнего времени: завод строил дом для своих работников, не хватало рабочих рук. Директор периодически «надергивал» по итээровцу с каждого отдела, по возможности молодых. Составлял, как он выражался, бригаду «собственных нужд», которая сменяла аналогичную отбатрачившую смену.
…Утром на складе выдали «робу» — синий костюм с накладными карманами, серую фуражку классического пролетарского фасона, кирзовые ботинки. Бригадир, назначенный из настоящих работяг, велел во все это облачиться. Построил нас в шеренгу. Критически осмотрел строй, поцокал языком. Уверенно скомандовал, как старшина новобранцам:
— Подвигайтесь, подвигайтесь, вот так, — он показал, как нужно подвигать плечами, тазом. — Свободно? — Добавил так же уверенно и серьезно: — А теперь прищурьтесь… Так. Ну вылитые маоцзедуны! — и расхохотался.
Опасения не оправдались. Я очень быстро понял преимущества физического труда перед, так сказать, умственным.
Известно, что на большинстве промышленных предприятиях для инженерно-технических работников никакого «умственного» труда как такового не существует. Есть труд нервный. Когда с самого утра начинаешь думать, как бы не попало на утренней планерке за вчерашнее. Днем озабочен тем, чтобы выполнить то, что предначертал тебе начальник утром. Вечером оправдываешься на «летучке» за то, что недоделал днем. Дома разряжаешься на домашних за все вместе. Ночью боишься телефонных звонков. Утром… И так далее, как подневольная белка в промышленном колесе. Которое то мерно крутится, давая план, то простаивает из-за поломок или нехватки горючего, то срывается вразнос, то резко тормозит. И так без конца и пощады. Зато в костюме, при галстуке, с папкой из кожзаменителя. Или даже из кожи, что, впрочем, счастья и покоя не прибавляет.
Работая в бригаде собственных нужд, я наконец понял, что такое счастье. Счастье — это практически бездумное движение членов и такое же напряжение мускулов. Когда из тебя выходит, естественным образом сгорая, энергия, полученная из пищи, воздуха и солнечных лучей. Не образуя шлаков в клетках, язв в желудке. И — покой!.. Это естественное, почти звериное состояние жизни сказывается здоровым румянцем, хорошим аппетитом, отличным сном, прекрасным настроением.
Мы работали на погрузке и разгрузке, мешали раствор, изолировали трубы, раскапывали кабель, засыпали траншеи. Особенно не рассуждая, кому и для чего это нужно. Что касается меня, я просто наслаждался тем, что можно не вникать в то, что делают руки. И даже экспериментировал, насколько глубока может быть степень этого бездумства. Бери то, неси туда, залей сюда, отсыпь оттуда. За меня думал другой человек, бригадир, и это было хорошо! Я поделился с ним, который думал за меня, своими мыслями.
— По твоему получается, что лучше труда разнорабочего и нет, засмеялся бригадир, который был лет на двадцать старше меня. — Непонятно тогда, зачем это родители тебя в институт пихали. Стипендии-то уж точно не хватало? Опять же помогали пять лет. Знаю, сам шалопая учу. Наверное, худа мы вам желали? — встал бригадир на сторону моих родителей, на сторону своего поколения.
Далее из нравоучений «бригаденфюрера», как мы прозвали нашего непосредственного начальника, следовало, что хорошо мне сейчас потому, что работа на «собственных нуждах» — всего лишь разрядка для организма. Поставь меня перед «жизненным» выбором — и я вряд ли пожертвую своей инженерной, якобы «нервной», работой в пользу «такой пригожей, прям мечта» деятельности разнорабочего.
— Тебе хорошо сейчас… — бригадир задумался, подытоживая, — ну, не хорошо, а, скажем так, неплохо оттого, что положение твое… Как бы выразится пограмотнее… Не безысходно. Или, по научному, вариантно, — он поднял вверх прокуренный заскорузлый, весь в черных трещинах палец, символизируя жестом удачность подобранного слова, — о! — И закончил совсем, на мой взгляд, туманно: — Ты же сам учил, что движущая сила всех революций кто? То-то же! Пролетариат!.. Которому кроме цепей — сам знаешь. У него без вариантов. И это — отравляет. Так вот, хочешь обижайся или как, а умирать будешь от язвы или от инфаркта, но галстук на кирзачи до самой пенсии не променяешь.
Признаться, я действительно немного обиделся, но виду старался не показывать. На следующее утро на первом перекуре бригадир, вроде без всякой связи со вчерашним разговором и без повода, сказал мне почти на ухо:
— Сегодня будем соль грузить на очистных сооружениях. Там операторша. Магда. Заметь. Понаблюдай…
Сват, тоже мне, подумал я несколько снисходительно. Смешно стало: посмотрел на бригадира внимательнее. В нелепой робе, приземистый раздавленный годами и работой, в морщинах. Загорелые коричневые уши, оттопыренные глубоко нахлобученной на седую голову серой фуражкой. Тут я, удивившись, вспомнил, что холостой. За этой работой глаз некогда поднять. Вечером — поужинаешь и сразу спать. Спалось, как я уже заметил, последнее время без задних ног. Представил, сконструировал себе эту самую Магду-Магдалинку: невысокая стройная брюнетка, голова в белом платочке, рабочий костюм, который своей несоразмерностью и нелепостью только подчеркивает изящество молодости. Короткие кирзовые сапоги с подрезанными голенищами — ладно сидят на красивой ноге. В руках какой-нибудь уровнемер… И я уже с благодарностью смотрел на «свата».
Очистные сооружения оказались довольно сложным производством. Снаружи большие резервуары. Внутри — огромные емкости, похожие на бассейны с бурлящей бурой водой. Со всего завода приходят сюда канализационные стоки, очищаются какими-то бактериями и сливаются в отстойники, и далее на рельеф. Это все коротко объяснила нам Магда — оператор аэротенок. Реальность не совпала с мечтами — это была крупная, крашеная по седине женщина лет пятидесяти, которая, учитывая мой почти юный возраст, вряд ли могла меня интересовать в том качестве, за мечту о котором бригадир ошибочно удостоился «свата».
Следовательно, «бригаденфюрер» имел ввиду что-то другое. И я, по мере возможности, стал присматриваться…
В общем-то, ничего примечательного, если не считать несколько странной для такой небольшой должности выправки и мимики.
Когда в зале аэротенок появлялись посторонние, то есть мы, из погрузочной бригады, Магда начинала вести себя так, будто на ней фокусировались все взгляды находящихся в этом помещении. Спина выпрямлялась. Накрашенные губы сжимались в яркую плотную полоску, слегка изогнутую по краям книзу — кислая презрительность ко всему, что ее так несправедливо окружало — канализационные стоки, бактерии. Выразительные сами по себе, даже без густой туши, глаза делали резкие движения: вдруг бросались на людей вызывающе («Я понимаю, что вы видите эту мерзость, я вижу ее не меньше, чем вы…»), после чего резко опускались долу вместе с изящным, как ей, наверное, казалось, отворотом головы рыжего, почти красного колера («Я здесь случайно, внутренне я этого не касаюсь, я выше этого, мне все равно, что вы обо мне думаете, еще неизвестно, кто из нас…»).
Вот и все наблюдения. Наверное, пошутил бригадир.
Период собственных нужд, две рабочие недели, благополучно завершился. Два выходных перед уже опять итээровским понедельником я отмокал, чистил перышки.
Явился в отдел чуть ли не суперменом. Постройневший, с округлившимися плечами. Загар — лицо, шея, руки. Четко обозначенные скулы, крутой подбородок — гладко выбритые супербритвой и смягченные суперкремом. Одеколон — терпкий миндалевый аромат. Белоснежная рубашка, охваченная в вороте приослабленным галстуком с золотой булавкой… Очаровательная разведенка Лара из планового, ноги от коренных зубов, которая встает из-за стола, как джин из бутылки, изгибая змеино божественное тело, — Лара посмотрела на меня небезнадежно, вариантно…
Что такое счастье?… Чего только не надумаешь от усталости! Чушь мысли двухнедельной давности.
За рабочий день, с планеркой, «летучкой», перекурами, кофе и шутливыми комплементами, я почти забыл про период «собственных нужд» — он быстро превратился просто в какую-то тренинговую фазу, подарившую стройность, загар, прибавившую мужской уверенности.
…А вечером в центральном универсаме, куда по дороге домой зашел за небольшими покупками, — вот уж неожиданность, как будто привет из другого мира — я увидел… Магду. Какая разительная перемена! Мне стало интересно, и я, став за фикусом, задержал на ней свое праздное внимание.
Она была одета в длинное вечернее платье, похожее на мантию, скользкое, с блесками, отороченное мехом. (Конец рабочего дня!) В сравнении с людьми в очереди она смотрелась выше многих — кроме природных данных, осанка и королевское платье делали свое дело. Но самое поразительное в том, что на лице ее было то же выражение — кислой брезгливости. Впрочем, здесь, в очереди, ее этот облик просился уже на аллегорию: превосходство. И будто для усиления производимого на меня эффекта, Магда стояла в голове очереди, как лидер.
Зашли несколько женщин в заляпанных комбинезонах, попросились без очереди: «Вторая смена… „тормозок“ на работу». Некоторые в людской магазинной веренице отнеслись к просьбе без энтузиазма. «Работяги» обиженно и поэтому несколько отчаянно: «Вырядились… Совсем рабочих не уважаете… Вы думаете нам легко…»
Я был уверен, что Магда узнает в женщинах своих соратниц, улыбнется, уступит…
Магда загородила собой прилавок, степенно сделала покупки, уложила в сумку. Повернулась к женщинам в комбинезонах и сказала безжалостно, хищно, презрительно, превосходяще, торжественно, победно, как будто несколько дней ждала такого момента, и вот он настал:
— Кто на что учился!..
И покачивая широкими бедрами под сверкающим платьем и красной головой на сильной морщинистой шее, грациозно вышла.
СУРДОПЕРЕВОД
Сергей обнаружил себя перед зеркалом. Впервые за долгие недели — во весь рост. Оценил: только потери… Стал ниже и старее. Попробовал отвести туловище назад, распрямился. Бесполезное притворство. Глаза печально запали и матово, без блеска, высматривали из-под бровей — повисших крыльев больной птицы. Серые щеки казались небритыми, хотя Сергей «надраил» их электробритвой в поезде два часа назад, когда подъезжали к морю. Вместо прежнего румянца два серых пятна — впадины, в которых поселилась тень.
Он вышел из сумрака комнаты на солнечный балкон, ожидая увидеть то, к чему добирался с надеждой несколько дней, — хотя бы узкую, однако свежую синюю полоску. Но кроны эвкалиптов разрешали взгляду только белесое полуденное небо. Вместо шелеста волн — налаженная, почти сонная суета дома отдыха, сезонной середины.
Сосед по номеру прибыл вечером. Сразу и невольно: «Динозаврик». Впечатление, что блестящая, отполированная голова никогда не знала волос. Глаза навыкат. Средняя часть тела массивна, особенно живот, который активно подыгрывал носителю, угодливо подергиваясь при разговоре, смехе. Хозяин не обращал на балласт никакого внимания. Так же как и на четыре своих «беспечных» конечности, которые, похожие пара на пару, поражали тонкостью, но не хилостью, несмотря на желеобразные мешочки в тех местах, где полагается быть мускулам. Казалось, поменяй местами руки и ноги — Динозаврик не сразу это заметит.
Сосед первым делом установил на тумбочке возле кровати фотографию. В бархатной рамке на картонной ножке. Погладил глянец. С карточки улыбалась оставшаяся дома часть семейства — жена и четверо одинаковых динозавриков.
— Неприятности на службе, разгром на личном фронте, в творчестве застой — роли не дают, рукописи сожжены, краски засохли!.. Угадал? — тараторил Динозаврик, расхаживая по комнате в трусах, размахивая полотенцем и гремя мыльницей. — Ваш приезд сюда — смена декораций, попытка реанимации загубленного воодушевления!.. Угадал? Я со школы в профсоюзе и в самодеятельности… Вижу насквозь. Человек — это картинка. Внутреннее состояние — на лице, в осанке. Знаете, вам необходимо новое увлечение. Толчок извне, знаете. Декорации — статика. А вам нужна динамика, удар!.. И значит, — доносилось уже из ванной, — вы правильно сделали: курорт, курорт, курорт!.. Буль-буль… Шшшш!..
Утром Сергея разбудили шумы в ванной, те же самые, под которые он вчера неожиданно, не в характере последних месяцев, быстро уснул.
Динозаврик умывался. Фыркал. Громкое шорканье, переходящее в свист, зубная щетка трудилась вовсю.
— Привет, сосед! Подъем! Идем здороваться с морем!.. На утренний бриз — мечту и песню дельтапланов!
Освежаясь, Динозаврик наливал из большого флакона полную пригоршню, наклоняя голову, бросал пахучую влагу на розовые пухлые щеки и смачно, с наслаждением, постанывая, шлепал маленькими ладошками по мокрому лицу.
«Бреет, пока хватает топлива», — думал Сергей, лежа на песке и глядя на дельтаплан. Это было не то, что он ожидал увидеть. Так хотелось рукотворного буревестника, который бы парил, мастерством и волей подчиняя энергию стихии. Живой трепет парусиновых крыл, борьба и победа!.. Этот же шел медленно по окаемке залива, на одной высоте, ровно жужжа моторчиком.
«Как я?…» — вяло спросил неизвестно у кого Сергей. Не желая больше быть пассивным участником унылого полета, сел.
Откуда взялся этот шезлонг… Покачиваясь, как на качалке, но взглядом и позой — будто с трона, на него взирала пляжная дива. Море и небо стали фоном, солнце деталью. Расплывчатые фигурки дальних купальщиков — для усиления ближнего фокуса. Знойный ветерок, едва дыша, шевелил драгоценные завитки янтарных волос, благоговейно лизал шоколадные, с соленым седым налетом, вывернутые к загарным лучам внутренние поверхности рук и бедер. Чуть вытянутые вперед приоткрытые губы и два изумрудных озера сулили прохладными глубинами утоление всех земных печалей.
Сергей попробовал улыбнуться.
Рядом Динозаврик играл в волейбол. Он уже овладел центром внимания. Смешно комментировал свои и чужие промахи. Под дружный хохот делал бесполезные броски за уходящим мячом, плюхался пузом на песок, издавая звук падающего бурдюка.
…Она прошлась по его телу дважды или трижды, уделив всем частям равное внимание: лицо, плечи, плавки, ноги… и обратно. Ни разу не пустив в заповедные озера печально-удивленный взор. Затем плавно откинулась на спинку шезлонга и грациозным движением опустила на лицо огромные зеркальные очки.
Сергею показалось, что он застонал. Нет, только опустил голову и страдальчески закрыл глаза… Посидев так минуту, встал. Ощутил на спине уколы тысячи песчинок. Испачканный, побрел к воде.
— Ну, как успехи? — спросил Динозаврик вечером, смазывая кефиром ожоги. — Спешите! У нас не так много времени. У вас ведь тоже недельная путевка?…
За четыре дня Сергей устал отдыхать. Звуки и краски не радовали. Разноцветие купальников, панам, зонтов, лодок, летающих змеев — словно рассыпанная, некстати, в будний день конфети. Если бы не сосед…
Динозаврик, как Фигаро, мелькал там и тут. Стучал с мальчишками в бадминтон, внимательно читал объявления, меню в столовой. Катался на роликовых коньках, увлеченно разговаривал с обслуживающим персоналом. На море играл в нырялки, заплывал на катамаранах, прыгал с трамплинов, декламировал стихи одиноким женщинам. Вечером, жестикулируя, размахивая пивной баночкой или куском колбасы, живописал Сергею о дневных приключениях.
После ужина, аккуратным движением убирая семейное фото в тумбочку, Динозаврик несколько смущенно попросил:
— Вы не могли бы… Как бы это сказать? Уступить, вернее — подарить мне сегодня номер на несколько часов. Ну… на вечерок. Вы меня понимаете! — он хохотнул и этим опять вернулся в свое нормальное состояние. — Кстати, вы не были на центральной набережной? Там, знаете, высокие площадки, прямо на берегу. Открытые кафе. Музыка. Закат… Представьте: томное море, кровавый закат. В руке у вас рюмка хорошего, густого коньяку, а слева и справа от вас!.. — он игриво скосил глаза, присвистнул. — Ну, договорились — до двадцати четырех часов, до нолика, а?…
Слева за соседним столиком сидели две бледнолицые, худые, с безрельефными торсами, еще молодые дамы-близняшки, одетые вызывающе не по сезону, в белые водолазки. Не удостаивая окружающее вниманием, они, неестественно оттопырив мизинцы, презрительно поглощали дорогой шашлык из осетра, запивали пахучим игристым вином. Изредка, одновременно, бесстрастно взглядывали друг на друга, слизывая с толсто, как пластилином, накрашенных губ жир и помаду.
Справа расположилась мать с великовозрастным сыном. На их столе застыла початая бутылка крепленого вина с одиноким стаканом. Сын ел мороженное. Мать курила, смахивая пепел прямо на стол, то и дело безотчетно поправляла огромную, как наказанье, мешавшую даже при сидении, грудь. Без всякой надежды, поэтому откровенно и почти угрюмо рассматривала Сергея. Едва сын отошел за следующим вафельным стаканчиком, она налила из бутылки, стараясь демонстрировать неторопливость. Быстро выпила.
В затылок ухал набивший оскомину шлягер.
Начинался закат, — Сергей посмотрел вокруг, — на который всем было наплевать.
…Ранние закатные лучи, еще не оранжевые, травили серебром береговую рябь. Дальше, в середине, море оставалось темным, и лишь у горизонта еле зарождалась золотистая полоска. Угасающее солнце медленно катилось, снижаясь, слева. Из-за береговых гор, справа, к тому месту, куда стремилось светило, надвигалась великая лохматая туча, похожая на бульдога с разверзнутой пастью. Солнце спешило. Но собака успела, и медленно, безжалостно съела, слопала уже обессилевший шар — подрезанный линией горизонта апельсин. Еще некоторое время солнце высвечивало оранжевым огнем из собачьих глаз, оскала зубов, дырок в голове. Угасло в брюхе. Быстро темнело.
Сергей опрокинул в себя бокал хорошего, густого коньяка — весь и единственный, который цедил целый вечер. Близняшки брезгливо переглянулись. «Мать» наполнила до краев свой новый стакан.
Салон маршрутного микроавтобуса освещен чрезмерно для этого позднего часа. Сергей никого не хотел видеть. Не хотелось, чтобы видели его. Безумно надоели фальшивые лица вокруг — всегда и везде, — которые постоянно, исподволь или открыто, наблюдают друг за другом. И которые, зная, что сами всегда находятся в положении наблюдаемых, непременно одевают маску непроницаемости, бесстрастности, неприступности. Это при том, что никто никому не нужен, никто ни на кого не посягает… Туши лампочку, «шеф», улица освещена — есть на что пялиться: деревья, дома, фонари… В крайнем случае мы закроем глаза.
По мере отдаления от центра города истуканного вида пассажиры исчезали, растворялись в теплом ночном воздухе курортных окраин. Их монументальные головы и плечи переставали загораживать заоконный мир: деревья, дома, фонари…
Но… Что-то изменилось не в количестве — в качестве.
— Де-ре-во… До-о-ом… Фо-на-ри…
В дальнем углу салона ребенок, мальчик, прильнув к окну, повторял за отцом: «Тро-ту-ар… Мо-о-оре.» Изредка поворачивал голову в сторону Сергея, улыбался. Но адресатом тихой эмоции был не Сергей: рядом сидела юная женщина, мать и жена этих мужчин, которая постоянно обращалась к ним, посылая через весь салон нечто большее, чем обычные слова, знаки… Впрочем, слов и не было — Сергей не сразу это понял…
Женщина играла влажными блестящими губами, бровями, ресницами беззвучно смеялась. Жестикулировала. Пальцы одной руки быстро выводили слова, писали мысли. Чувства рисовались на веснушчатом лице — одни исчезали, другие занимали их место. Места было мало, поэтому чувства торопились, мелькали, как клипы. Под выгоревшими ресницами мерцал не отраженный искусственный свет — это было внутреннее, собственное свечение, источник… Сергей не знал языка немых, но, ему казалось, он сейчас понимал то, что беззвучно говорит женщина, чему радуется…
Радуется и говорит — через весь салон, на весь мир. Не боясь быть не понятой, смешной. Ведь — ее услышит только тот, кто хочет, умеет услышать. Поэтому она может, без притворства, открыто радоваться, как награде, всему тому, что у нее есть.
Рядом с Сергеем сидела, в простом ситцевом сарафане, загорелая рыжеволосая радость. Громкоговорящая, кричащая на языке счастья таинственном и недоступном для людей, считающих себя «нормальными»…
— О-ля-ля!..
Сергей проснулся, открыл глаза. Динозаврик, уже одетый, стоял, почти нависая, над его кроватью.
— Я вижу, вы вчера плодотворно провели вечер!..
Динозаврик выдержал паузу, наслаждаясь своей догадливостью. Пояснил:
— Вы, знаете, улыбались во сне… Такого раньше не замечалось. А?… Угадал? Ля фам? Статика перешла в динамику? — Он сделал движение, будто хлопнул по плечу стоящего перед ним невидимого собеседника. — Молодцом! Давно бы так!.. Тем более что…
Динозаврик, вспомнив о чем-то, забегал по номеру. Извлекал из разных углов комнаты собственные вещи и укладывал в чемодан. В паузах между болтовней он казался чрезмерно озабоченным и даже слегка печальным.
— Тем более что номер — на целых двое суток! — в вашем распоряжении! Я, знаете, решил пораньше покинуть вас. Страшно соскучился. Домашний человек что вы хотите! Поеду по пути куплю гостинцев и — на вокзал. Так сказать, сюрпризом — к родному очагу. Люблю, знаете, сюрпризы делать. Представляете, вас ждут через пару дней, скучают, а вы — вот он!.. Само собой гостинцы и прочее…
РЖАВЫЙ КУЛИК
Утром жена приводила в порядок мой любимый коричневый костюм, вынула из нагрудного кармана ресторанную салфетку.
— Хорош ты был вчера, Куликов, фирменный салфет со стола увел. — Она развернула жесткий накрахмаленный квадрат. — Так, попробуем разобрать письмена на кабацких скрижалях. «Сияние Севера», ну, это точно не ты вышивал, я бы заметила. А вот — чернилами… Слушай и вспоминай. Кажется, начало трактата:
«Пангоды — ржавый кулик на болоте.
Звездный штандарт над языческой речью…»
— Кулик! Я всегда тебе говорю: не запивай коньяк шампанским. Учти, завтра будет только чай с тортом. Ты успеешь?
— Успею…
— Смотри. Мы с Вовкой спать не ляжем, будем ждать. Он ведь даже друзей не пригласил, так и сказал: только семья. Как отрезал. Совсем взрослый стал «куличок» наш… Не опаздывай.
— Ну что, берем? — спросил Борька, дизельная душа, смеясь и тормозя, когда неизвестно откуда — то ли из зарослей багульника, то ли из редкого чахлого березняка — на обочине дороги появилась девичья фигура, одетая в джинсы и штормовку, обутая в низкие резиновые сапожки.
До Пангод оставалось совсем немного. Августовский день заканчивался отсутствием теней и оттенков. Наверное поэтому девушка сливалась с кустами поблекшего иван-чая, с серыми стволами лиственниц, с белесой песчаной дорогой. Две поджарые собаки, стальная и рыжая, проводили ее до кабины и, не оглядываясь, неторопливо потрусили в сторону от трассы, быстро исчезая в ягельном мареве.
— Твои собачки, что ль? — фамильярно спросил Борька, хохляцкая морда, мгновенно оценив социальный статус незнакомки.
— Нет, — не принимая тона, ровно ответила девушка, — из тундры пришли. — Она откинула капюшон выгоревшей штормовки, аккуратно убрала за плечи рассыпчатые пряди песочных волос.
— Ого!.. — не удержался Борька и долго посмотрел на девушку. Не обнаружив обратной связи, продолжил, оправдывая восклицание: — Так это ж одичавшие собаки, хуже волка бывают. И много ты с ними прошла?
— Километров пять, — так же бесстрастно сказала девушка.
— Смотри, а? — Борька хохотнул, глядя на меня и кивая на мою соседку по сиденью: — Природа-мать! Ты, вообще, откуда?
— Родом? Из Лабытнаног. Работаю в Пангодах.
Отвечая, она лишь слегка поворачивала голову в сторону собеседника, добирая до вежливости ресничным движение продолговатых глаз.
— В РСУ, наверное, работаешь, маляром?
Девушка кивнула.
— Много там ваших работают, целыми выводками. А переведи-ка ты мне, пожалуйста, что будет по-вашему, по-ненецки, что ли, само это слово Лабытнанги? — Привыкший к словоохотливым студенткам стройотрядовкам, которых множество повозил в это лето, Борис уже почти потерял интерес к попутчице. Ну что, искупаемся? — Он свернул с дороги в небольшой карьер, заполненный водой. — Посиди, красавица, мы сейчас. Всегда здесь останавливаемся. Пять минут, нырнем-вынырнем, дальше поедем. Духота…
— Семь лиственниц, — почти прошептала, прошелестела перевод девушка, ни к кому не обращаясь.
Борька лихо подъехал близко к воде, и передние колеса машины прочно увязли в мокром песке.
Борька вдоволь наматерился и ушел в сторону трассы — нужна была другая техника, чтобы вытащить нашего бедолагу.
Он долго не возвращался, быстро смеркалось, и мы с Анной — так звали девушку — развели небольшой костер.
Она рассказала, что каждую субботу ходит из Пангод к родственникам в стойбище, что здесь недалеко, километров восемь от трассы. Часть пути, если повезет, проделывает на попутках. Утром надо быть на работе, и если Борис еще долго не найдет машину, она пойдет пешком, по короткой дороге, прямо через вон тот перелесок.
Я признался, что впервые общаюсь с ненкой и очень мало знаю о ее народе — по сути только то, что иногда печатают в местных газетах и показывают по центральному телевидению, то есть практически ничего. Что-то на меня нашло, и я, как бы шутя, рассказал то, что было на самом деле, — я рассказал, что до последнего часа представлял всех женщин коренных северных народов низкорослыми, скуластенькими, с черными прямыми волосами. Что, как ни странно, типичный их образ для меня — молодая девушка в кирзовых сапогах, строительной робе, заляпанной известкой и краской.
Аня грустно улыбнулась:
— А сколько живешь здесь, в наших краях?
— Почти двадцать лет…
Она понимающе, утвердительно покачала головой, а я удивился тому чувству, которое секунду назад испытал после слов: «в наших краях». Конечно, все правильно. Но я думал, эта местная девушка, узнав, что я тоже, можно сказать, коренной житель по прожитым здесь годам, и меня, пусть с натяжкой, включит в то, что подразумевает, говоря: «наши…» Но нет — только покачала головой, не осуждающе, но как бы сочувствуя.
Мы оба надолго замолчали.
Вокруг костра становилось все темнее, потом резко обозначила себя настоящая ночь. Глаза девушки стали казаться неестественными, так сильно в них отражались желтые огни, поэтому я, уже не боясь показаться смешным в таких ненастоящих глазах, решился задать вопрос, против воли получилось немного обиженно, с вызовом:
— Анна, признайся, ты что, жалеешь нас? Ну, меня, Бориса?… За что?
Огненные узкие щелки не смутились, не отделались шуткой, промолчали, щелкнули палочкой, распушили искрами раскаленную головешку…
Она сказала — после жесткой паузы, но мягкими извиняющимися словами, которые, впрочем, уже не относились ни к чему предыдущему:
— Мне пора. Скоро на работу.
Вдруг представилось невыносимо тоскливым даже ненадолго остаться одному у ночного костра, рядом с молчаливым «Камазом», на берегу ржавого карьера с тихой безжизненной водой.
— Подожди. Побудь немного.
— Зачем?
— Ну… Расскажи что-нибудь на память мне, легенду какую-нибудь, что ли.
Анна ненадолго задумалась, потом быстро заговорила:
— Хорошо. Легенда. Но — моя. Понимаешь? Я ее, если по-вашему, придумала. Теперь будет — и твоя, если… захочешь.
Ты на вертолете часто летаешь над моей землей, видишь какая она? А теперь… Представь себя птицей — твой взор не будут ограничивать рама и стекло иллюминатора, перестанет мешать шум двигателя, суета будней…
— Можно куликом?… — неожиданно вырвалось у меня.
— Кулики высоко не летают, но — как хочешь. И — слушай…
«Кулик, поднимись повыше в небо и подольше полетай над моей землей.
…Очень давно здесь было вечное лето, и жили только большие и малые существа из твердой воды. Они были похожими на змей, черепах, пауков. Земля кишела ими. Это было то долгое время, когда Бог обустраивал землю, расселял народы. Где-то сильно не хватало тепла, Бог забрал его отсюда. Сделалась зима. Чудища замерзли, окаменели. А когда на земле установился порядок, и по окончательному закону появились четыре времени года, весной тела оттаяли и превратились в живую воду. Так образовались реки, озера, ручьи. Появилась растительность, здесь стали селиться рыбы, птицы, звери. Сюда пришел мой маленький народ и стал частью этой жизни. Не царем, не хозяином — частью.
Ничего не менялось тысячу лет…»
— Анна, подожди, можно дальше я? Вот так:
«…Ничего не менялось тысячу лет, пока не прилетел ты, Ржавый кулик…»
Когда Пангоды заснули, Кулик открыл глаза и обнаружил себя на пустыре среди кирпичных и бетонных новостроек. Он осторожно расправил ржавые крылья и тут же сложил их. Потрогал клювом застоявшиеся ноги, потоптался на месте. Присел и, почти не применяя крыльев, запрыгнул на плоскую крышу пятиэтажного дома.
Повернул голову на восток, в сторону центральной свалки. Как всегда, там маячил темный силуэт. Свалка вырастала вместе с поселком. Вместе со свалкой рос Черный ворон, он уже доставал Кулику до колена. И с каждым годом становился все наглее. Вот и сейчас — делает вид, что не замечает Хозяина, что ничего его в жизни не интересует, кроме мусора: разгребает лапами рыхлые кучи, перекладывает клювом с места на место ящики, коробки, бутылки. Но Кулик знает, что Ворон все видит, всем интересуется, ждет. Мерзкая тварь, в очередной раз заключил Кулик и мягко спрыгнул на землю.
Перешагивая через деревянные двухэтажки, дошел до старого центра поселка.
Что-то нужно делать. Уже несколько лет дует новый беспокойный ветер, сны стали тревожными, а пробуждения безрадостными.
Он вытянул клюв и склевал звезды на исполкомовском флаге, прислушался. Из-под обшарпанного общежития выскочил таракан. Кулик нагнулся к нему, таракан успел спрятаться.
Приближалось утро, глаза слипались. Кулик решил спать здесь же, никуда не уходя. Проваливаясь во мрак, он видел себя то давно сгоревшим общежитием, то зэковским бараком, то поселковым кладбищем… Он опять открыл глаза, огляделся, ища покоя.
Рядом жил парк, ровесник поселка. Деревья росли так медленно, что за двадцать лет с тех пор, как их посадили, они только перестали быть похожими на кусты. Но это обстоятельство никогда не огорчало Кулика, потому что оно было вполне согласно с природой болота, на котором жил теперь он, Ржавый кулик.
Он зашел в парк, примостился у самой высокой лиственницы и сразу же заснул. Уже через минуту большое прозрачное пространство в центре парка затянулось, заполнилось обычным утренним воздухом — смесью дизельной дымки с легким рассветным туманом.
Наш «Камаз» вытащили только на рассвете. Когда я проснулся, он уже стоял на возвышенности с работающим двигателем.
Борька, довольно урча, умывался около того места, где недавно безнадежно покоились колеса машины.
— Привет, спящая красавица! Куда девчонку девал, признавайся? — Он хитро улыбался и заговорщицки двигал мокрыми бровями. — Ничего девчонка, а? Ты чего такой кислый? Ну, ладно, уговорил, жене не расскажу. Нет, правда, случилось что? — Он перестал смеяться.
— Случилось, — я закончил умываться и пошел к машине. Представил, как Борька обиженно смотрит мне в спину, обернулся, постарался улыбнуться:
— На день рождения сына опоздал… Парню шестнадцать лет, представляешь? А я опоздал. Поехали?
ЛЕТЕЛИ ДИКИЕ ГУСИ
Нет, определенно, у мамки на старости лет поехала крыша, — в который раз говорил себе Генка, выходя во двор и оглядывая беспокойную компанию.
Хотя, конечно, насчет возраста «берегини», как он шутливо называл родительницу, это как посмотреть: Генку, которому еще нет семнадцати, она родила восемнадцатилетней. «Женщина — диво!..» — нечаянно услышанное сыном мнение о матери. Беседовали два соседа. Его слуху и взору, сквозь пахучую ветку вечерней сирени, достались только, слетевшие с махорочных губ, два слова, окрашенные страстным, уважительным сожалением. Вздохи-затяжки: «Да-а-а!..» — задумчивое молчание, дым через ноздри. Два коротких слова, наложенные на какую-то историю — известную или тайную, — сказанные с особенным настроением, могут звучать долго и говорить о многом, — подумал тогда Генка.
Пораженный открытием, он какой-то период времени пытался внимательнее всмотреться в облик матери — фигура, лицо, походка, голос… Не находя ничего особенного в каждом из этих слагаемых, вернулся к исходному, полному, как ему казалось, восприятию, но, помня себя недавнего, еще не удивленного, постарался воззреть на мать вдруг, в состоянии ошеломленной неожиданности, сквозь пахучую ветку, глазами взрослого мужчины, курящего и чужого. Когда это удалось, образ привлекательной женщины настолько сильно заслонил иконные формы матери, что Генка, потрясенный, стыдливо отпрянул от такого созерцания, как будто подглядел чье-то сокровенное… Он решил навсегда отказаться от подобных экспериментов, если они смогут хоть каким-то образом коснуться матери. Открытие все же обрадовало его, он понял, что теперь обладает тайным капиталом на всю оставшуюся жизнь: он может видеть женщину «разными» глазами, а в этом, — рассудительно и просто выводило его детское сознание, — источник счастья и, — тут на логику влияла собственная Генкина судьба, которая была производным от материнской доли, — гарантия семейного благополучия.
— Ой, летилы дыки гуси! Гой-я, гой-я-а!.. Ой, летилы дыки гуси через лис…— по-украински пела мать. Пела «всю жизнь», сколько Генка себя помнил. Сейчас мелодичная колыбельная, ставшая в свое время для Генки таковой, воспринималась не просто как одна из любимых песен, — набор трогающих душу слов в музыкальной пене. Может быть, потому, что «гусиная» была все же иноязыкой для него, хоть и понятной (он вырос старомодным, до архаичности, почему-то не любил иностранных «синглов»). И, наверное, еще и оттого, что ее исполняла не эстрадная певица в калейдоскопных клипах, отвлекающих внимание, а единственный близкий человек, хоть и не до конца понятный — чем дальше, тем боле… А сейчас и вообще говорят: «Диво»! Или «дива»? — и вправду, даже если смотреть тривиально: высокая женщина средних лет, с фигурой, которой позавидуют иные Генкины одноклассницы, умеющая очаровательно смеяться над добрыми шутками — негромко, глядя на собеседника из-под седеющей челки лукавыми блестящими сливками и при этом как-то трогательно недоверчиво покачивая в стороны головой. И вот она, такая, как запоет!.. Генке даже иногда стало сниться — мать заводит свою заунывную тягучую песнь, запрокидывает голову, вытягивает вверх руки и дымом-косой медленно уходит вверх, вкручивается в небо, пристраивается за улетающим клином: плывет, вместе с дикими гусями, над какой-то неизвестной далекой, пахнущей сиренью, землей. И уже не слова — суть, а печальное восклицание припева: «Гой-я, гой-я!..» — гортанная перекличка, плавные ритмы мягких крыл… Но что в них, в кликах и ритмах? — Генка мог только догадываться.
Мать рассказывала, что годы назад с далекой Украины приехала сюда, в среднюю полосу России, с Генкой, грудным ребенком, на руках. Купила маленький, но добротный домик на окраине города. «Стали мы с тобой жить-поживать, да добра наживать,» — смеясь, заканчивала короткую историю и, избавляясь от расспросов, весело убегала в другую комнату. А вечерами, за готовкой, стиркой, вполголоса, на неродном («Специально!» — думал в эти мгновения Генка, и обижался) — на неродном для сына языке:
«…Ой, летилы через марево ночей!..
Бережи свое кохання ты, дивчино, вид корыстлывых очей…»
Мать пела только дома. Она стеснялась на миру своего малоросского выговора, все годы жизни в России пыталась избавиться от этого, как ей казалось, изъяна, который иногда излишне привлекал к ней пустяковое, но, все равно, совершенно ненужное внимание. Правильная речь в основном удавалась, и лишь в минуты увлеченности в ее взволнованном разговоре прорывалось «шо» вместо «что» и сквозило мягкое «г»: «Хеннадий!» — могла она сердито или, наоборот, нежно обратиться к сыну. Что касается Генки, то благодаря ее самодисциплине, сын был уже начисто лишен этих украинских «меток», которые мог приобрести только в семье.
Генка еще в детстве влюбился, «по гроб», в девчонку с соседней улицы. Когда они с Риткой были маленькие, он догонял ее повсюду — в «пятнашках», в «казаках-разбойниках» — целовал в спину, плотно прикасаясь губами к одежде, и убегал. Он делал это так мастерски, быстро и незаметно, в пылу борьбы, в суматохе, что никто ни разу не заметил его в этом «взрослом» грехе. Генка был уверен, что не подозревала о поцелуях и сама куколка Ритка с кудрявыми каштановыми волосами, похожая на цирковых лилипутовых красавиц. Которая, по мотивам, не недоступным Генкиному ребячьему пониманию, внушала ему противоречивые, но, определенно, — перечащие «официальной» морали детских песочниц желания.
Когда «казаки-разбойники» подросли, догонялки прекратились, а у Генки в начале отрочества воспылал на губах сладковатый вкус от незабвенных поцелуев в цигейковый воротник Риткиного пальто, в котором она запомнилась ему больше всего. Почему именно пальто, а не, например, платья или косынки? И сладковатый вкус? Может быть, вечер был необычным… Наверное, все было так? — хрустящая белая дорога, фонари, сверху падает сверкающее. Ритка в этом волшебстве, ставшая великолепно седой — непокрытая головка, брови, ресницы маленькая фея из «Волшебника Изумрудного города». Потом — клич! Беглянка и удалой разбойник. Погоня!.. Поцелуй в шершавое, приторно пахнущее взрослыми духами и помадой пальто! Только мгновение, и Генка, как Тарзан, отпрыгивает в сторону от фонарных световых куполов, в сумрак, врезается в сугроб, на вдохе глотает снежную пыль вперемежку со сладкими волосинками, долго кашляет. Все смеются, Генка счастлив.
Когда ему не хватает памяти или знаний, он фантазирует.
Материнская колыбельная со временем стала материнским же припевом на все случаи жизни, а вскоре и Генка «полетел» над гаями и лесами, как всегда, особенно не вдаваясь в смысл — буквальный — песни. Просто хорошо парить высоко и далеко, над какой-то горной и лесистой, голубой сказочной страной, думая о приятном, оставив на время дела и заботы. Став почти взрослым, он прихватывал с собой в полеты Риту, королеву Марго, как называли ее завсегдатаи городской танцплощадки, — уже почти взрослую Маргариту, которая, казалось, совсем не обращала на него внимания и до сих пор не знала о его вечной любви. Встречаясь случайно на улице, они даже не здоровались. В таких случаях, за много шагов до объекта своих грез, от трагической безнадежности и страха выдать себя, удивить смешливую квартальную очаровашку со смелым искушенным взглядом, Генка опускал глаза и проходил мимо.
Но случилось непредвиденное…
Конечно, во все века красивые девушки скорее могут заметить безразличное к себе отношение — это их обижает и злит, — чем удосужить активным вниманием обратное (которое они чувствуют даже «кожей» — именно этим органом чувств только и возможно было обнаружить Генкину безмолвную симпатию). Но то, что «обижает и злит», порой способствует возникновению крутых зигзагов, а то и творит — чаще случайно — необыкновенные метаморфозы… К тому же, Генка никогда не смотрел на себя со стороны и не знал, что девчонки за глаза называют его Гуцулом, что отнюдь не является модным ругательством. За высокий рост, тонкий стан, черный с отливом волнистый чуб, крепкий с горбинкой нос на смуглом лице.
Генка не посещал танцплощадку, поэтому Рита окликнула его возле продуктового магазина, дерзко качнув вверх заостренным подбородком: «Эй! Привет, Гу… Геннадий, ты случайно не тот Генка, который в детстве целовал мое пальто?…» Она сказала это таким тоном, что Генка понял: его судьба решена. Его мнения никто не спрашивает, ему вторая роль, он всего лишь исполнитель, раб, зомби. «Да!..» — ответил Генка, уличенный греховодник, и чуть не задохнулся…
Его предупреждали «по-хорошему», объясняли, что Марго просто хочет досадить своему парню, который, между прочим… Но Генка, пружинистый от отчаянной бесстрашной решительности, каждый день бежал после уроков в Риткину школу…
Бессонными ночами часто думал: за что ему такая награда? За то, что любил и верил? За то, что всегда старался быть честным, чистым в помыслах? Может быть, за неудавшуюся мамину судьбу? И новый — молодой, но твердый голос Риты, с бархатным тембром часто и уверенно смеющегося человека, ее открытый, ироничный, однако с явной симпатией взгляд, — все это под утро мягкой вуалью, покоем настилалось сверху, накладывалось на настоящие сомнения и безотчетную смуту детских воспоминаний.
Начиналось чудесное лето. Каникулы, каковых еще небывало.
…И как раз в это время у матери «поехала крыша»! Она пришла в состояние одержимости, это было так неожиданно в своей непривычности — в этом вся горечь; хотя и сам объект страсти был необычен!
Ведь чем она увлекалась по жизни? Если вдуматься — ничем. Не считать же увлечением ее невинные, прикладные хобби — вязание, шитье, приготовление украинских блюд… Может быть, она была вся в нем, в Генке? Если бы дело обстояло так, то это бы оправдывало ее нынешнее состояние, которое трудно назвать иначе, чем потеря головы. Но вспоминается, как мать могла часами как бы не замечать его, смотреть «сквозь» или, в лучшем случае, оглядывать, почти как незнакомца, высматривать в нем толи потерянное, толи забытое, толи и вовсе чужое… А эта вечная недосказанность, которая с годами стала его обижать как сына, — человека, казалось бы, самого родного для нее…
А теперь об «объекте»… Если бы мать вдруг устремилась на стадион, в дом культуры, в автошколу, он бы понял ее, мало того, проникся бы к ней огромным уважением, ведь подобное могло стать воплощением и его постоянного чаяния — чтобы она стала чуть более современней, чуть более городской. Так ведь нет: ей, бывшей хуторянке, но уже пятнадцать лет как городской жительнице, вдруг захотелось завести… гусей. Впервые Генка известие из серии «блажь» пропустил мимо ушей — было не до этого, к тому же невозможно относится к таким желаниям матери серьезно. Но однажды в выходное утро, даже не разбудив сына, тайком, как будто кто-то ее мог не выпустить из дома, она выскользнула за калитку, а вечером возвратилась на такси с полной коробкой желтых, пушистых гусят. «Гуси-гуси, га-га-га, есть хотите, да-да-да!..» весело протараторил таксист, помогая выгружать шуршащий-пищащий короб и подмигивая Генке. Началась жизнь, полная кошмаров.
Нет, поначалу все было даже интересно.
Для матери это было какое-то светлое потрясение, будто жизнь, наконец, обрела полный смысл. Казалось, — вот, боже ты мой, чего весь век не хватало, вот что нужно было давным-давно сделать. «Как словно дочку себе родила,» сказала однажды Геннадию. И смутилась. «Тебе не хватает меня?» — хотел спросить Генка, но промолчал. Вряд ли мать скажет правду, в лучшем случае отшутится. Наверное, такого следовало ожидать, — подумал Генка, неожиданно оценив мать и себя со стороны, — ее сын вырос, у него появилась девушка… Удивительная, но, вероятно, нередкая в действительности катастрофа, в которой ты являешься движущей или даже управляющей силой: кажется, достаточно сбросить газ, нажать на тормоз, чтобы предотвратить крушение. Но получатся, что ты всего лишь часть стихии и тебе не позволено менять естественный — даже и губительный — ход вещей.
Во дворике двадцати маленьким питомцам соорудили что-то наподобие вольера. Мать буквально не могла надышаться желтыми комочками: брала их в ладони, подносила к лицу, прикрыв глаза, втягивала в себя воздух от пушистых телец, как будто нюхала розы. Набирала в рот воду, вставляла в свои вытянутые губы непокорные клювики и счастливо гудела — немо смеясь. Озабоченно приговаривала: «Цыплят по осени считают!» Боялась птичьего мора боролась с коварной невидимой инфекцией. Желтоносики ежевечерне подвергались купанию в марганцовой ванне. Дважды на день дворик по периметру поливался слабым раствором хлорофоса. Генка был неприятно поражен, заметив, что матери доставляло удовольствие долгими минутами смотреть, как мухи, напившись отравы, падали на цементный пол, не долетев до вольера с драгоценными питомцами, — именно туда они, по ее версии и вознамеривались лететь.
Будь воля матери, она вырыла бы для своих чад бассейн, но места во дворе уже не осталось. Гуси обрекались на сухопутную жизнь. Может, поэтому они, едва подрастя, капризно — все громче и громче — загоготали?
Проулок лишился покоя. От малейшего шума (невинный тявк дальней собаки, громкий разговор соседей — все шло в затравку гусиного скандала), «спасители Рима» начинали свои бесконечные ругательства. Уже давно исчезла причина, прошло пять минут, десять, а птичья ругань все не утихнет. Паузы были редки и ненадежны, Генка называл их затишьем перед очередным валом.
Такого не наблюдалось ранее на окраине большого города с карликовыми двориками: держали собаку, кошку, иногда — несколько флегматичных курочек, но чтобы гусей!..
Генкино снисходительное умиление детской радостью матери быстро переросло в активную неприязнь к новым жителям двора. Возвращаясь домой, он за квартал улавливал сумасшедший гвалт, который исходил от их усадебки. Было неудобно перед соседями, стало невозможно пройти по улице с Ритой — он провалится сквозь землю, умрет от стыда…
Росло раздражение поведением матери. Куда ни шло, если бы эта женщина становилась лучше, ближе по отношению к сыну, ко всему тому, что в нем сейчас происходит. Но как раз наоборот. Генка стал специально встречать мать с работы не во дворе, а на улице, прикрыв за собой калитку. Ревниво наблюдал за каждым ее жестом, словом… Но день за днем повторялось одно и то же: мать торопливо здоровалась, не глядя в Генкины глаза — ее влюбленный взор был обращен поверх его плеча (она даже приподнималась на цыпочках!), как будто с улицы могла что-то увидеть. Затем, наигранно охая от якобы усталости, быстро ныряла мимо сына в калитку, напоминая футболиста, обводящего соперника и рвущегося к воротам.
Генке стало казаться, что мать резко подурнела. Когда занималась птицами, почти ползая около вольера, у нее от усердия оттопыривалась нижняя губа, резко поседевшие за последнее время пряди наволакивались на лицо — она этого не замечала. Вновь, как, вероятно, в ее хуторской молодости, «шо» заменило «что», а правильное «г» пропало вовсе: «хуси-хуси, ха-ха-ха!..»
Да, всю жизнь пела-ныла: «Гуси, гуси!..» И вот, пожалуйста, га-га-га! Что дальше ожидать от этой свихнувшейся от счастья женщины? Чего доброго, еще и летать свою стаю будет обучать, когда вырастут эти… Генка оглядывал «этих» — неуклюжих тварей, ставших уже довольно большими и кое-где покрывшихся перьями вместо пуха (плешивые!), представлял их подпрыгивающих, падающих на бока — силятся взлететь вслед за своими дикими собратьями. Нет, рожденный ползать… Далее, распалившись, Генка все же мысленно поднимал их жирные тела в небо: яростно орудуя большим прутом, выстраивал, как нерадивых солдат-новобранцев, в шеренгу (правильный клин этим бездарям, конечно, будет недоступен) и заставлял петь… Вместо песни — гвалт, дикий, бессмысленный… Вот тебе, Генка, и «Гой, летилы дыки гусы!» — тьфу, чушь какая-то. Ничего не осталось от некогда хорошей, «мечтательной песни». Один вороний кар с гусиным акцентом.
Теперь, как только Генка слышал от матери ее любимый «припев», им завладевало желание убежать из дому, хотя бы на время пения, куда-нибудь… Нет, не куда-нибудь, а, разумеется, к Рите, единственному утешению в этом маразматическом пении на фоне чудовищного гогота…
Но Генка был дисциплинированным сыном. В его «каникулярные» обязанности входил дневной уход за домашней птицей — кормежка (приходилось ездить за город на велосипеде за «непременными витаминами» — пучком луговой травы), дезинфекция двора. Вечером приходила с работы мать, докармливала, купала в марганцовке, спать чуть ли не укладывала — с колыбельной, той самой…
«Вот так нелепо рушатся семьи,» — однажды подумал Генка и удивился такому жестокому выводу. Что их с матерью объединяло все годы? Блеклая паутина повседневных дел, какая-то инкубаторская колыбельная. Действительно, ведь эта песня — как бы из ничего, без конкретной основы, без прошлого (настолько это прошлое тщательно скрывалось). Сколько-нибудь существенное дуновение — и растерзало, развеяло паутину, остановилась безобразно, как на отказавшем проигрывателе, песня! Но вместо хотя бы тишины… Га-га-га!..
Никакой определенности. Никакой, — как, впрочем, и в отношениях с Ритой.
Отношения с Ритой стали заходить в тупик. Генка понимал, что она внутренне старше его, поэтому больше тяготеет к ясности, материальности происходящего между ними. К тому же, в силу характера, она не может долго находится в подвешенном состоянии — таков ее подвижный, рисковый и где-то взрывной характер. В ее глазах уже читается начало скуки. Он должен принять решение, сказать слово. Но какое? «Выходи за меня замуж?» — чушь, даже не смешно, в их-то годы. «Будь моей навеки?» — то же самое. Ему хотелось увидеть в ней будущую жену, мать его детей, женщину — но ничего не получалось. Выходит, в детстве он был взрослее, приземленнее — венцом погони за маленькой очаровательной беглянкой был, сейчас Геннадий это осознает, вполне мужской поцелуй, а не целомудренное касание губами объекта платонического восторга. Тогда все было ясно — мама была богиней. А сейчас Генка в Рите ищет новое живое божество — пристанище для своей теряющей привычную оболочку души, всего лишь. Это эгоистично, несправедливо к любимому человеку.
В конце концов Геннадий решил, что должен уйти от своей любимой. В создавшейся ситуации с матерью Рита не устраивала его в ином, неплатоническом, качестве. Вполне отдавая себе отчет, что разлука не будет облегчением, просто так честнее. Вряд ли что-то хорошее может его ожидать в ближайшем будущем: материализовались «гуси», их с мясом и перьями выдрали из музыки, — и ничего не осталось от песни-мечты, песни-утешения, и даже самый родной человек, мать, — материализовался, вышел из сказки. Это нестерпимо печально, но, видимо, более справедливо, чем упавшее с неба счастье. Это расплата за его нечаянную радость. Где-то он прочитал, что чрезмерная радость смертных гневит богов.
Днем Генка, вопреки заведенному порядку, ушел от голодных гусей. Он объявил Маргарите в ее спокойном полуденном доме, что пришел прощаться. Он все рассказал ей о себе — от детства до нынешнего часа, все, что мог знать. Пока Рита молчала, ее поза казалась трогательной в оконном проеме, занавешенном прозрачным тюлем, который, не мешая свету, гасил рельефность предметов. Она заперла дверь на ключ, положила руки ему на плечи.
— Платон, знаешь что?… Просто — стань Гуцулом.
— Я не Платон и не гуцул, я — Гена.
— Ты Гуцул! — она властно, как в том первом оклике возле продуктового магазина, качнула подбородком. — У тебя папа — гуцул, понятно?… — ее голос возвысился. — Думаешь, у тебя папы не было? Ты всю жизнь считал, что у тебя только мама? Нет…
Он возвратился домой довольно поздно, но мать еще не пришла с работы. Голодные гуси, видно, давно «заведенные», уже не гоготали, а лишь свирепо гыркали надсаженными голосами.
Генка, бездумно, как робот, накормил птиц, продезинфицировал двор, налил в питьевое корыто воды. Присел возле вольера на табуретку, где обычно садится мать, но спиной к чавкающим животным, и закрыл глаза. Запел, ломая язык, застонал:
«…Ой летилы дыки гусы, ой, летилы через лис у зелен гай!
Ты видкрый подрузи двэри, але сэрдце йий свое не видкрывай!..»
Он перестал петь и просто сидел с закрытыми глазами. В глазах была не тревожная голубая долина — покойная ночь; внешний мир пах не сиренью рубленной зеленью, мокрым комбикормом, хлорофосом. Сколько прошло времени? Притихли гуси. Зачарованные песней? Вот это да… Он обернулся.
Гуси лежали вповалку, как прислуги сказочного Вия, застигнутые утренним кукареком в разгар позднего шабаша. Как и полагается чудовищам. С вытянутыми шеями, с еще подвижной пенистой зеленой массой из разверзнутых плоских клювов. Геннадий медленно зашел в вольер, стал ощупывать мягкие тела. Живым оказался только один «гадкий» гусенок, слабый от рождения, с явным дефектом шеи. Ему всегда доставалось после и меньше всех. Сейчас это его спасло.
Геннадий, так же медленно, огляделся, напрягая сознание, ища причину. Наконец понял: автопилот дал сбой, робот «смазал» операции, процесс пошел в неверном направлении. Итак: положил корм, полил хлорофосом двор, подошел к крану с ведром — с тем же самым ведром из под мушиной отравы, в котором, как сейчас припоминает, уже была на дне какая-то жидкость, — открыл вентиль, наполнил, подошел к вольеру, налил в корытце…
Он им все простил.
Скоро придет мать.
Что останется ей и ему после всего этого? Слезы? Упреки? Гусенок, будущий недоразвитый селезень, — как символ, — с перекошенной шеей, убогий и ущербный?…
Когда Геннадий понял, что придушил «уродца», он отдал себе отчет в том, что нет жестокости, как нет и сожаления. Просто «до» была какая-то логика подсознания, сводившего крепкие пальцы на слабой шее, а «после» — вялое удивление: вон я, оказывается, что могу…
ИМИДЖ
1
Свеча оплывала, медленно и спокойно плача на дне большого аквариума с розовыми тюльпанами. Воск таял, время от времени перекатываясь густыми струйками через похожие на мозолины, набрякшие окаемки мраморного столбика. Чтобы увидеть это, нужно было надолго вмяться в базарную грязь, чавкающую от полуденного солнца и десятков подошв, еще утром бывшую снегом и мерзлой землей; стоять крепко, не обращая внимания на человеческие потоки, не отдавая себе отчет в нелепости картины, которой ты — главный персонаж: лохматые унты, дубленый полушубок, щедро отороченный свалявшейся в кисть овчиной, огромная собачья шапка рыжего колера, в которой теряется вся верхняя часть могучего туловища. Все это инопланетно — паче, чем тюльпановый южанин на подмосковном снегу, — не сезон, и зовут тебя Андерсон.
— Э, земляк! Выбирай любой, которая на тебя смотрит!.. — добродушно пророкотал кавказец, гортанными децибелами возвещая о…
…О, это было точно здесь и почти так же. «Дорогой! Бери гвоздики! Девушка будет рада. Это, наверное, за девушку воевал?» — пожилая шустрая торговка показала на себе, имея ввиду лиловую гематому вокруг пиратского глаза с розовой медузкой из лопнувших капилляров.
Тогда, шесть весен назад, Андерсон сбежал из нейрохирургического отделения, чтобы сделать Барби подарок. Он стоял здесь, тараща выпуклый фиолетово-красный глаз, дико озирая цветочный ряд, как небритый безумец, в длинном плаще, который час назад нашел в раздевалке санитаров, и в больничных тапочках, мокрых от весенней жидкой грязи. Плащ был без пуговиц одной рукой Андерсон сжимал вместе парусиновые борта на груди, скрывая полосатую пижаму, а другой мял бумажные деньги — словно клок газеты перед запалом. Он держал голову прямо, боясь наклониться, — недавнее сотрясение серого вещества иногда сказывалось кратковременным головокружением, птичьим клеваньем головой и предательским подгибанием коленей.
Гвоздики даме, принесенные полуживым поклонником, пострадавшим из-за этой же дамы. Это уже подвиг. Но, впрочем… Для этого совсем не обязательно быть Андерсоном.
— За девушку воевал, — подтвердил Андерсон, удивляясь собственному голосу, который он слышал только одним, здоровым ухом, и впервые после того, как первый раз Барби навестила его в больнице, ощущение сумасшедшей детской, прямо песьей радости сменилось донкихотовой гордостью: он победитель! Раненый, но победитель.
А началось все это… Когда же это все началось. А ведь, черт побери, все началось со Светланы — а он уже и думать об этом забыл, приписывая только себе все свои пороки и добродетели, от которых закрутилась эта дьявольская карусель! Бог ты мой, неужели Светлана, подруга Светка, надежная шалава Светик, с которой можно было целоваться или сидеть в баре, просто так, от скуки, без всяких последующих взаимных претензий… Неужели она, всего какой-то парой фраз! — могла так круто вывернуть его жизнь.
…Чего ему не хватало? А Светлане? Четыре курса института позади, еще бы год — и все разлетелись кто куда. Часть однокашников уже определилась, создав семьи де юре или хотя бы де факто. А он был вольная птица и искренне этому радовался: молодость впереди, не стоит стареть раньше времени. Светлана, в отличие от своих сверстниц, озабоченных к пятому курсу, как бы не улететь к черту на кулички не закольцованными, казалось, относилась к своему будущему сообразно настоящей разбитной жизни — никак. С чего вдруг она ляпнула тогда, в тот вечер…
И вечер был для них как вечер, каких уже минуло сотни: томно грустящая осень, тягучий запад необремененого заботами дня. Он взял Светлану, благо она тоже слонялась без дела, и вышел с ней в парк. Как обычно присели на открытую скамейку, спиной к умирающему солнцу. Говорить было не о чем, просто курили. Помнится, он случайно повернул голову и вдруг загляделся на закатное эхо, которое таяло за липовыми кронами. Шуршащие звуки окраинного микрорайона, поздний закат и горьковатый запах желтеющей листвы внушали такое безотчетное счастье, наверное, определенное молодостью, здоровьем и неясной перспективой — чуть сладкой и чуть тревожной, что можно было заплакать рядом с такой же, родственной Светкиной душой. Он перевел взгляд на свою подругу. И удивился, по новому выхватив ее профиль, отдавая себе отчет в том, что видел это уже много раз: прямой греческий нос над красивым, всегда красным и без помады, ртом с чуть выдающейся вперед рельефной верхней губой — при поцелуях нижнюю, якобы несмелую, приходилось отыскивать. Под детским, трогательно тяжеловатым подбородком, по белой гусиной шее, вверх и вниз, плавает нежный подкожный шарик. А какие у его подруги волосы: хлопковый пук, как будто на голову навалили белоснежной пожарной пены, — все это сейчас, в закатных волнах, играющих желтыми зайчиками в Светкиных клипсах, выглядит гигантским, пропитанным янтарным светом, одуванчиком.
Они приехали сюда из одного маленького городишки, до этого закончив одну школу, где все десять лет не обращали друг на друга никакого внимания. Однако ничего необычного в том, что в студенческом общежитии земляки стали не разлей вода. Ходили вместе в столовые, в кино, на танцы. Он научил ее красиво курить, она его — правильно целоваться. Это совершенно органично стало обыкновенным и бесстрастным их занятием — курить и целоваться. Они ни куда не спешили, поэтому, как водится, незаметно прошли годы. Только иногда, сдувая с сигареты пепел, который целеустремленно летел в выпуклый вырез кофточки, чтобы нежным комочком уютно устроиться в тесной ложбинке, Светлана усмехалась:
— Андрюша, тебе пора бы влюбиться, а то и меня замуж никто не возьмет.
— А зачем! — искренне и эгоистично набрасывался Андрей на первую часть сложного Светкиного предложения, в котором уже имелся и ответ на этот вопрос. — Куда мне спешить?
Он потом иногда думал, что, возможно, тогдашнее его чудесное открытие образа вечернего «одуванчика» могло придать иное направление жизни, согласно закону «ветвистости» судьбы — «если бы»… Однако… это могло иметь значение для «того» Андрея, но не теперешнего Андерсона. Сейчас он, осознавая сложности своего современного бытия, все же ни о чем не жалел, а если точнее, гнал от себя все сомнения.
— Какая ты, Светик, оказывается, красивая, — как принцесса!.. вырвалось у него тогда.
— Оказывается… — Светлана сдула пепел, как обычно, на себя, в этот раз он рассыпался серой пудрой по светлой, Андрею показалось, чуть дрогнувшей коже, и грустно продолжила, глядя в сторону: — Андрей, ты знаешь, как меня девчонки в комнате прозвали? Леди Холидей. Твоя, Андрей, леди выходного дня или, точнее, свободного дня. Мне обидно, Андрюша, меня это перестало устраивать… Пятый курс…
— Что ты предлагаешь? — Андрей автоматически произнес эту фразу, которая могла означать начало обороны, или, наоборот, капитуляции на каких-то взаимовыгодных условиях, но на самом деле ничего тогда не обозначала. Осознанно же, пользуясь повисшей паузой, вызревала паническая мысль, похожая на катастрофически тяжелеющую каплю: все пропало: спокойная жизнь, ощущение надежности, предсказуемости… То, что давалось целые годы легко, и поэтому, казалось, ничего не значило, — на глазах разрушаясь, обретало меркантильный, дорогой смысл. Да, Светлана порой неделями пропадала, в основном, по безразличной воле Андрея, в каких-то кампаниях, общежитиях, квартирах. Но тем не менее оставалась близко, нужно было только, не открывая от лени и уверенности глаз, пошарить рядом рукой.
Она ответила ему словами, которые не попадали в следы его мыслей, но имели то же самое направление — они были о драгоценном Андрее, единственно о нем и ни о ком больше. Эту жертвенную адресность он тогда стыдливо заметил, и ему даже стало впервые жалко Светлану.
— Тебе нужно менять имидж, Андрей, — она сказала это несколько легковесно, даже развязно, но в то же время по-матерински напутственно. Кому ты такой нужен, кроме меня идиотки? Посмотри на себя в зеркало. Трын трава — рохля!.. — Ее явно понесло, но Андрей, как оглушенный горем и при этом загипнотизированный обаянием ее многолетней, бескорыстной дружбы, внимал совершенно серьезно всеми уровнями своего молодого, еще гибкого, еще восприимчивого сознания. — Стань более решительным и отчаянным, стань орел-мужчиной. Понаблюдай за болгарами с транспортного — отбою от наших дур нет!.. Ладно, — она встала, лихо отщелкнула окурок в кусты, а потом нарисовала в воздухе аналогичный, но нежный, падающим кузнечиком, щелчок по носу Андрея, от чего он даже зажмурился, — короче, стань, к примеру… Ну, что ли, — Андерсоном: имя Андрей, имидж — Андерсон.
И она ушла тогда — не насовсем, не исчезнув. Просто резко и бесповоротно трансформировалась ее суть. Под воздействием такой метаморфозы, а также сказанных последних фраз еще «той», до превращения, Светланой, а потому значимых, как заклинание, — Андрей, подобно удачно закодированному, стал быстро превращаться в Андерсона.
2
Одна из самых дорогих фотографий в родительском альбоме: лихой офицер царской армии, с кудрявым чубом из-под форменной фуражки, усы черными кольцами, смелый, слегка ироничный взгляд, — жених; одна рука покоится на резном стуле с высокой спинкой, на которой сидит красивая грустная невеста с веером, тонкие руки в высоких белых перчатках. Это прапрадедушка и прапрабабушка Андрея по линии матери. О них почти ничего не известно. Были и все. Начало века… Какая-то нерусская фамилия… Кажется, он, этот, наверное, если судить только по запечатленному фото-мгновению, неулыбчивый поручик, ушел добровольцем в армию барона Врангеля, где сгинул в безвестности… Очень хотелось, чтобы «пра» были какими-нибудь известными людьми — дворянского происхождения или артисты… Тогда бы к Андрею, их потомку, было другое отношение, да и сам он ощущал бы себя по-иному — более уверенно, внимательнее бы относился к своим корням. А так: бабушки-дедушки, дяди-тети — ни спортсменов, ни дипломатов, ни-ни… Поэтому — что его держало в родном городе после одиннадцатого класса? Ничего: сорвался, как перекати-поле, и уехал без всякого сожаления. Кем уехал? Просто Андреем, плюс среднерусская фамилия, плюс «средний балл» в аттестате, плюс еще несколько формальных параметров…
…Он принял предложенную, возможно, в шутку, великовозрастной баловницей Светланой формулу: имя — имидж.
Нет, дело, конечно, было не в том, кому он такой нужен, посмотри на себя в зеркало и так далее. С этим, как раз таки, все обстояло нормально. После разговора со Светланой Андрей впервые серьезно задумался над своим образом, который, как показалось после недолгих размышлений, и определял его место, как и место каждого, в среде обитания: не имеет значения, что у тебя внутри — тебя принимают согласно твоему поведению, которое есть зримая форма образа. Ты можешь совершать видимое другому глазу действие легко, с большим запасом, экономя ресурсы, и наоборот — с великим напряжением сил, на грани возможностей, либо даже имитируя, всего лишь рисуя его, — но именно увиденное, или воображенное увиденным, «от и до» будут границами, очерками твоего образа. Андрей был откровенен сам с собой, поэтому понимал, что ему больше подходит английское слово «имидж» — в котором для русского человека больше маскировки, это как бы подделка под реальный образ. Что ж… Говорят, иногда способ становится сутью — посеешь привычку, пожнешь характер. Впрочем, как он уже вывел для себя, это не является важным. Главное во всей его намеченной «перековке» — добиться определенного отношения окружающих. Ведь впереди еще целая жизнь, в которой нужны острые локти, боксерский нос без костей и крепкие зубы. И он слепит, воспитает себя таким, как сказала Светка, — орел-мужчиной!.. Тем более, что кое-какая база имеется: здоровье — дай бог каждому, метр восемьдесят пять росту плюс третий, правда еще детский, со школы, разряд по вольной борьбе.
Он набросал стиль поведения: уверенный, смелый, решительный. Все поступки — наотмашь, до конца, без остатка, чего бы не стоило. Смотрел на себя со стороны — сошедший с древней пожелтевшей фотографии царский офицер. То ли немецкая, то ли французская фамилия. Но — русский. Рано или поздно гены дадут о себе знать… Он заметил, к радости, что многое стало удаваться неожиданно быстро, и, что самое приятное, ему показалось, он стал внутренне изменяться. Поначалу было жалко тех людей, которые на себе стали испытывать его крутость, которые раньше знали его другим, более мягким, более терпеливым и терпимым человеком. Его изменения до боли неожиданны для них, но Андерсон, понимая это, топил свою жалость, как топят «из гуманности» нежелательного котенка, в глубине души надеясь, что люди скоро привыкнут к новому имиджу и перестанут страдать от его проявлений, которые усугубляются предыдущими знаниями — о прежнем Андрее.
Светлана так и не прибилась ни к какому надежному острову и «доплывала» пятый курс рядом с… Андерсоном — с Андреем, осененным свежим имиджем. Для окружающих в их отношениях ничего не поменялось. Сами же они знали, что стали более чем друзья — они стали компаньонами, отношения которых зиждутся не на чувствах, ненадежных в силу своей воздушной, капризной сути, а на договорном фундаменте, трезво заложенном: мы нужны друг другу, но при этом абсолютно свободны. Светлана шутила, применяя формулу из диамата: свобода это осознанная необходимость… И грустно добавляла, что после защиты диплома придется ехать вслед за Андерсоном, куда он, туда и она, — в силу этой самой заносчивой, но порой такой беспомощной, «осознанной» мадам.
Да, все началось со Светика, все-таки чудной, необычной девчонки. Но перелом произошел в ресторане — центральном кабаке города, куда они со Светланой стали частенько наведываться, следуя настойчивым пожеланиям нового имиджа.
…Тот визит с самого начала был несколько необычен по сравнению с предыдущими. Весь зал как бы вращался вокруг двух центров, что было странно для заведения. Первый центр состоял из группы городского криминала: столик на шестерых мужчин, стрижки-ежики, втянутые в острые плечи, лица с показной угрюмостью… Официанты мелькали кометами, ансамбль оплачен на весь вечер вперед, посторонние заказы не принимаются. Бородатый электроорганист, он же сидячий конферансье, блистал, кроме потной лысины, эзоповой, как ему казалось, речью, сквозящей безвкусицей, угодливостью и елеем: «А теперь для уважаемого Шуры из нашего центрального собора, только вчера покинувшего жестокие и несправедливые места, звучит эта песня!..» Тягучий скрежет бас-струны, фоновый свист микрофона и: «Меж высоких хлебов затеряла-ася небогатое на-аше село, горе горькое по свету шлялося…» или: «Были мы карманнички, были мы домушнички, корешок мой Симочка и я!..»
Второй центр неброско, но с достоинством закрутила группа кавказцев: два стола вместе на дюжину крупных человеков, среди которых всего одна маленькая розовая дамка. Свободное, без комплексов и оглядки на «авторитетов», гортанное общение, стол ломится от жареного мяса и цветастых бутылок. Музыка заказана, говоришь, «дарагой»? Грустно, жаль, опоздали, ничего, бывает, Илларион, давай, генацвали, нашу: «Шемтвалули!..» Песня, аккуратно и грамотно разложенная на два, три голоса, рокот и эхо гор. Ансамбль безмолвствует в вынужденной паузе, не смея перебить, «авторитеты» делают вид, что это их не интересует, с великодушным видом посматривают на альтернативный центр. Им не нужны разборки, не нужен шум в людной точке, подмечает Андерсон, их авторитет в данный вечер, в данном месте держится не на прямой угрозе немедленной возможной расправы, а на имидже, который, впрочем, имеет вполне реальную основу. Вес же кавказцев — образ раскованных горцев, который является манерой их повседневного поведения, посему легко им дается. Горцы отдыхают, криминалы — напряжены. Однако суть расстановки сил это не меняет — вполне могло быть и наоборот: в том и другом случае сумма векторов равна нулю.
Они со Светланой сели за столик-малышку у окна. Чтобы не было рядом посторонних, Андерсон попросил официанта убрать два оставшихся свободными кресла: приятель, нужно с невестой поговорить, проблемы, понимаешь… Официант кивнул — скорее, кинул поклон: как прикажите. Понял, что перед ним не лох, подумал Андерсон и огляделся: с чего начать?
Нет, он сегодня не хотел играть собой и Светланой, как клиенты остальных полутора десятков столиков, роль наполнителя, среды, подставки, на которой, как шумные юлы, вращаются чужие центры. Андерсон решил стать… третьим «центром», таким образом нарушить векторную гармонию. Для этого решения ему пришлось внутренне зажмуриться и приподнять планку своей уже каждодневной наглости немного выше обычного: на величину приращения «дельта», — как он математически выражался. Этих «дельт» было уже много позади, поэтому от высоты планки порой захватывало дух. Но ни разу еще Андерсон не отступил, хоть это стоило ему уже потери нескольких друзей, обиды многих малознакомых и, еще больше, совсем незнакомых людей, сбитых в хроническое растяжение больших пальцев обеих рук, шатающегося зуба и красивого, но трудно обриваемого шрама на подбородке.
Светлана ушла танцевать со студентом-африканцем. Неплохой получился дуэт для танго, отметил Андерсон не без гордости: его роскошная женщина с гигантским сиреневым бантом на гибкой талии умеет танцевать, таскает негра только так. Да и он, видать, способный бой. Тарам-та-ра-рам!.. Раз-два!.. Черное-белое, черное-белое! Длинная белая юбка не успевает за танцующими и, как бы боясь отстать, то и дело обхватывает черный смокинг по узким брючинам, залетая то справа, то слева. Пробегающий мимо официант смотрит на Андерсона удивленно-сочувственно, Андерсон пожимает плечами: мол, я же говорил, проблемы…
Светлана подсела к интернациональному столику, оттуда донеслись английские слова. Это в ее стиле: тренинг английского — превыше всего, не упустит случая. Что ж, самый удобный момент для начала. Андерсон еще раз оценил объекты для своего возможного нападения и еще раз оправдался перед собой: дело не в симпатиях или антипатиях, просто «третий центр» нужен ему лично, Андерсону, а всякое самоутверждение быстрее всего проходит через конфликт. Итак, приоритеты. «Криминалы» — разумеется, ничего хорошего, но все же более свои, чем грузины. Хотя бы потому, что местные. Значит, решено, — грузины. И тут же выявил самое уязвимое место в кампании горцев: женщина. Он представил этот и без того говорливый улей растревоженным: вах, слушай, зачем себя так ведешь, ты мужчина — я мужчина, ладони к небу, палец в твою грудь, в свою — кулак, клянусь мамой!.. Вмешаются криминалы, вступятся за «своего», все закончится миром, но Андерсона здесь запомнят, следующий раз швейцар с орденской планкой встретит его «элитно»: поклон-поклон, ладонь к фуражке, здрасс-сь… ждем! Ждем!..
Он пригласил ее на медленный танец… Компаньоны почти не обратили на это внимания, ну ничего… Она оказалась худенькой девочкой в коротком, но пышном, под балерину, розовом платье, с незамысловатой прической из гладких темно-русых волос, в которой самой заметной деталью был непослушный пружинистый завиток на виске, словно спиралька серпантина, украшающего перламутровое маленькое ушко. По тому, как она держала голову на тонкой шее, чуть набок, можно было предположить, что волосы в обычные дни жили аккуратной мягкой косичкой, уютно мостящейся на хрупком плече и теребимой тонкими смуглыми пальцами, которые сейчас лежали, как крошечные усталые балеринки, почти без прикосновения, на предплечьях Андерсона.
— Меня зовут Андерсон. А вас, извините, наверное, величают Ниной или Тамарой. Или Наной?…
— Я Варвара, — просто ответила девушка, — очень приятно. — Глянула внимательно и добавила: — Варя.
— Ва-ря… — растягивая, повторил Андерсон, вслушиваясь, как будто оценивая на звук собственного голоса необычное слово. — Редкое имя… Тем более, для грузинки.
Варя усмехнулась:
— Так же, как и ваш «форин нейм» — для, наверное, русского. Кстати, с чего вы взяли, что я — грузинка?
— А разве нет? Вы что, не с Кавказа? — в его голосе просквозили неприязненные нотки. Он не любил, когда местные девушки ходили под руку с выходцами из Кавказа, Средней Азии, с болгарами, африканцами — которых полно училось в местных институтах. Он обернулся, нашел глазами Светку, уже, казалось, хохочущую по-английски. «Оу, йес!.. Оу, ноу!..» Нет, все-таки правильно, что он выбрал сегодня объектом для нападения иноземцев.
— С Кавказа, — подтвердила Варя, проследив направление его взгляда, — с Кавказа. Красивая у вас девушка.
— А… эта! — Андерсона застали врасплох. — Это сестра. Как сестра, друг. А вы тоже не одна? Я не имею ввиду всю вашу кампанию…
— Да, я пришла с Володей Беридзе, — она вывернула голову, указывая на свой стол. — Вон тот, он отличается от всех. Огненные волосы.
— Рыжий?
— Огненный, — без эмоций поправила Варя.
«Оу!.. Кис ми, плиз!» — завизжала Светка, барахтаясь на коленях у африканца.
Андерсон обеспокоено завертел головой:
— Варя, вы какой язык изучали? Я, например, немецкий… Что она там глаголет?
Варя лукаво улыбнулась, состроив вопросительную паузу.
— Это сестра, сестра. Это сестра! — успокоил ее Андерсон.
— Ничего особенного, мистер Андерсон. Ваша сестра говорит: «Поцелуй меня, пожалуйста».
— А!.. — Андерсон выдал хриплое междометие, смесь разочарования и облегченности. — А я то думал… А, скажите, Варвара, Барбара, Барби… можно я буду вас так называть?…
— Нет.
— Спасибо. Скажите, все-таки. Ваш этот… Володя — грузин?
— Возможно, — ответила Варя. — Спасибо.
— Что значит «возможно» и за что спасибо? — не понял Андерсон.
— За танец, — Варя мягко отделилась от него, — музыка, мистер Андерсон, умолкла шестьдесят секунд тому назад.
Воспоминания о последнем часе пребывания в ресторане зыбки и неуверенны. Не только в силу того, что природа предусмотрела автоматически вытирать из памяти болевые сектора, имеющие способность бесконечно, цикл за циклом, травмировать прошлым выздоравливающее настоящее. Скорее всего еще и оттого, что в какое-то мгновение в ресторане Андерсон ощутил себя бесконечно, непоправимо обманутым. Такое бывает с разочарованно пробудившимся человеком: только что там, за порогом сна, в руках была какая-то прохладная розовая сказка — он соприкасался с нею, слышал ее мятное дыханье, чистый ровный голос… И тогда утреннее настоящее, отрицающее сон, которое наплывает всеми обычными радостными красками и звуками, раздражающе, неприятно, вероломно…
Именно такое пробуждение стушевало, лучше коньяка, ресторанную картину, смутило ее осмысленную палитру. Куда подевалась логика (осталась одна решительность, став отчаянной), которая уверенно прописывала последовательность действий? Туда же, куда вдруг провалилась цель имидж?…
…Андерсон косвенной походкой, трогая для устойчивости все попутные предметы — кресла, спины, — подошел к столику, где смеялась Варя, окинул дерзким долгим взглядом кампанию. Заиграла какая-то идиотская музыка. Он неумело имитировал светский поклон. Варя, перестав смеяться, вопросительно посмотрела на Огненного, тот отрицательно покачал головой. Варя, кротко глянув на Андерсона, повторила движения. Андерсон молча протянул девушке руку, нетерпеливо вздрогнула напряженная кисть. За столом перестали разговаривать, Огненный освободил свои ладони от предметов и жестов и выложил их кулаками на стол перед собой. Андерсон усмехнулся. Варя, не поднимая глаз, медленно встала и пошла с ним в центр танцевального пятачка. Музыка закончилась, но он ее не выпустил из рук, отчаянно сцепленных на тонкой розовой талии борцовским замком, — боялся проснуться… Далее все произошло быстро и не так, как предполагал Андерсон. Как сквозь туман он увидел быстро встающих и гуськом устремляющихся к выходу «криминалов»… Решительно отстраняясь от причитающей Светки и жестикулирующего африканца, подошел Огненный-Рыжий-Беридзе, вырвал сказку из рук уже теряющего сознание Андерсона, левой рукой зацепил его челюсть, легко выворачивая послушную голову в нелепый вздернутый профиль, а затем правой, высоко размахнувшись, ударил…
3
…Жила-была девочка. С того самого времени, когда она начала понимать, что она — Варя, у нее было много братишек и сестренок, много теть и один дядя, — он был один на всех, он был самым главным, — его называли Директором. Позже она узнала, что у детей, которые живут за стенами этого большого дома, в котором жила она, есть не только братья и сестры, но папы и мамы — такие особые дяди и тети…
…Ему приятно слышать этот прохладный, мятный, розовый голос. Он Андрей, ему не желательно волноваться, но скоро это кончится и все будет хорошо, как прежде… Андрей — такое славное имя, зачем ему понадобилось скрываться за личиной какого-то американца или шведа? Нет-нет, не беспокойся, как хочешь, я больше не буду… Смуглые балеринки отрываются от маленьких круглых колен, вспархивают над головой, опускаются невесомыми мотыльками на горячие веки, — темнота с тающим отпечатком оконного проема, все, поспи немного — хочешь воды? — поспи…
…Они пришли к нему в палату все четверо — все такие разные по цвету. Как раз таки их разноцветие и было той задоринкой, за которую впервые после провала, зацепилось сознание, и начало пульсировать, восстанавливая обратным порядком предыдущие события, попутно сопоставляя их с больничной койкой и неприятными ощущениями — звон в голове, полуглухота и онемевшая, как деревянная, левая половина лица.
Иссиня-черный африканец, высокий и худой, словно на дипломатическом приеме, счастливо улыбался и безостановочно совершал утвердительные кивки, больше походившие на безотчетные подергивания замшевой головой. «Кис ми плиз», — вежливо проскрипел Андерсон. Африканец слегка притушил толстогубую улыбку и вопросительно повернул голову-фломастер к Светлане. Пассия, алебастровая на его фоне, ослепительно просияла мстительной веселостью, пухлая рука демонстративно нырнула в прозор локтевого изгиба африканца, повисла, как белая рыбина хвостом вниз на черной перекладине, — и с преувеличенной нежностью представила нового друга: «Фердинанд!..» И, не отводя взгляда от Андерсона, громко пояснила Фердинанду поведение «больного брата»: «Нет, Федя, у него все нормально в этом плане, просто он дубина… в английском. Хотел сказать: хау ду ю ду?…»
Огненный Беридзе — бескровная кожа, покрытая мелкими коричневыми веснушками, красные волосы, голубые глаза, — у него оказались неожиданно тонкие черты лица. Он возник перед блуждающим взглядом — точнее, до него, неподвижно стоящего, дошла очередь, — возник скромным, но гордым юношей, ровесником Андерсона, не раскаявшимся, не извиняющимся, без поправок на ситуацию — в этом было его мужское уважение к горизонтальному сопернику. Но и это являлось только первой половиной его присутствующей перед больным сути… В небесных очах с гневными, колкими агатовыми точками посредине читалось: «По делам — воздастся!» — и это относилось не только к прошлому: показалось, он почти вытолкнул вперед, к больничной койке, хрупкую девочку на самом деле только снял руку с ее плеча, и, повернувшись, вышел.
… Да, все были такие до смешного цветные: черный, белая, огненный… и розовая девочка Варя. Он улыбнулся и слабо произнес: «Барби… Можно?» Она кивнула.
Варя согласилась стать Барби. Зачем ему нужна была смена чужого имени, ведь он не собирался ее переделывать, ее, которая поразила его в одно мгновение — своим естеством. Почему — Барби? Наверное потому, что так она становилась ближе к «Андерсону», принимая правила игры, в которую Андрей уже, казалось, безвозвратно погрузился? Поначалу Андерсон отнес ее быстрое согласие в счет жалости к нему. Но, как оказалось, это было верно лишь отчасти…
Барби интересно рассказывала, как они жили в детском доме на Северном Кавказе. Все были очень разные: смуглые и белые, рыжие и вороные, но все говорили на одном языке — по-русски и считали себя, наверное, русскими. Впрочем, это не вопрос… Это вопрос-мнимость, он из ничего, — да-да, из ничего! Ведь тогда, в том детском мире об этом не задумывались — потому что это было вторично. Да, каждый из них знал, что может стать грузином, осетином, ингушом… если… Если за ним приедут какие-нибудь папа и мама. Какие-нибудь, любые. Это, наверное, самое важное — понимать, что главное в жизни не то, как называться… Барби умолкала и с грустным молчанием что-то искала в его глазах. Однажды, после такого разглядывания, она вздохнула и сказала, как будто найдя что-то: «Ты — Андрей!..» Андерсон не придал этому значения, как и многому из того, что она говорила, тогда и потом. Как порой не вслушиваются в смысл слов полюбившейся песни, полюбившейся — больше за музыку…
У нее был друг Вовка. Он часто дрался: за то, что его дразнили рыжим, за то, что Варю — еврейкой или цыганкой, почему-то ему это было неприятно, и за то, что их вдвоем вместе называли «жених и невеста». Потом его усыновила грузинская семья, — у них погиб сын в армии, говорят, был с красными волосами, а Вовка походил на него маленького, — так он сделался Беридзе. Володя, став «семейным», не забыл про Варю, как мог опекал, пока она жила в детдоме. Вообще, они с Володей, будучи еще совсем маленькими, поклялись, что когда станут взрослыми, ни за что, никогда в жизни не бросят своих детей, не допустят, чтобы они стали сиротами… После окончания школы-интерната ее направили в этот подмосковный город, она закончила училище, стала работать. Недавно приехал Володя с друзьями и сделал ей предложение. Они устроили в ресторане что-то наподобие помолвки, хотя она не давала согласие на свадьбу, ведь Володя — как брат… Правда, если быть до конца точной, то нет никакой ясности… Все перепуталось, она просила время подумать, разобраться в себе. Но друзья не могли просто уехать, поэтому все пошли в ресторан…
4
Третье или четвертое утро в больнице было необычным. Оно разбудило не привычной капелью, а уже только солнцем, теплым и стреляющим фотовспышками из-за частых, плотных, но маленьких облаков, коротко печатающим на белой стене копии приоконных предметов: занавески, цветок в горшке, березовые прутья.
Мысли скакали и путались, но логика побеждала… Хватит лежать! Пора вставать и делать поступки. Ведь чем он ее поразил? Если коротко: ее поразил «Андерсон». В этом суть и в этом ключ. К будущему в том числе. А Варя — она станет Барби, — только для того, чтобы забыть прошлое… Нельзя останавливаться. Если остановишься, Андерсон, — Светлана, вот твой удел (дело не в конкретной Светлане — это типаж…). Хотя, и она уже вроде отрезанный ломоть. Засияла ее быстрая стремительная звезда, прямо метеор, в образе принца Сахарского. Да не принц он, — раздраженно закипает Светка, папа мелкий дипломат, а Федя… Фердинанд — будущий врач. Сказал, что она, его будущая жена, может там и не работать… — скорее всего так, там у них с женским равноправием небольшие проблемы… Ладно, соглашается Андерсон, благословляю, только с фотографией оттуда не медлить, и чтобы как положено: на фоне пирамид, в парандже, в окружении старших и младших жен… Светлана дует красивые губы, не спеша встает боком, еще раз демонстрируя новый джинсовый костюм, качнув тяжелой золотой сережкой, формой и величиной колесо африканской арбы… «Фараониха», — вслед ей весело думает Андерсон. Он доволен: за себя — прояснялся смысл его дальнейшей жизни, который он не собирается терять, чего бы ему не стоило; за Светлану — экзотическая, но определенность; еще раз за себя — личная, дружеская, земляческая ответственность в образе неприкаянной Светланы — в прошлом… Все устраивается как нельзя лучше, никаких помех. Итак, вперед!..
— Это за девушку воевал!.. — гордо и радостно произнес Андерсон. Да, помнится, он дважды повторил одну и ту же фразу, наслаждаясь уважительным удивлением продавщицы гвоздик. Развернулся, под мокрыми тапочками зачавкала грязь, и пошел прочь, натыкаясь на прохожих, небрежно засовывая бумажные деньги, символ тривиальности, в глубокий карман санитарского плаща. Гвоздики, для дамы, за деньги — пресно до пошлости, не достойно Андерсона.
Он сошел на конечной остановке, где выгружали свои рюкзаки, ведра и корзины с пучками зеленой рассады пестрые дачники. Быстро, насколько позволяло здоровье, двинулся в редкий березняк.
Вечером он вновь появился на той же остановке, по колена мокрый, с грязным полиэтиленовым пакетом, полным подснежников, испугав одинокую бабулю с козой, видимо, из соседней деревни.
— Да вот, — кивая на рогатую питомицу, запричитала бабушка, таким образом беря себя в руки, — по травку ходили по свеженькую, кое-где на опушках уже повылазила. Автобус-то твой недавно полон ушел, а ты либо хвораешь, милый?… — она еще раз оглядела его с ног до головы, остановившись на пакете, из которого топорщились силосом короткие стебли и лепестки замученных белых цветов.
— Нет, мать! — устало улыбнулся Андерсон, у него кружилась голова, это у меня имидж такой.
— Что — такой?…
— Имидж.
— А это чего?
— Долго объяснять. Но это — ничего плохого, только не всегда комфортно… Когда следующий транспорт?
— Через час. Ничего плохого, говоришь?… — бабушка, недовольно дернув за веревку покорно стоящую козу, еще раз критически осмотрела Андерсона. Дай я тебе вместо пуговиц-то хоть нитками наживлю, а то полосатый… — Она вынула откуда-то из байкового платка иголку с готовой ниткой и ловко сшила в трех местах борта парусинового плаща. Подергала, проверяя на прочность: — Ну вот, красивый. А то — холодно, и в вытрезвитель могут забрать. Ты больно-то не слоняйся, сразу домой.
— Спасибо, мать, — чуть не прослезился Андерсон, клюнув головой, — вот тебе букетик на память… О нашей встрече. — Он поставил пакет на землю, осторожно, стараясь не наклонять голову, чтобы избежать сильного головокружения, запустил туда обе ладони, как фотограф, заряжающий пленку, выхватил на свет добрую половину снопа, протянул бабушке.
— Да что ты, что ты!.. — бабушка, смущаясь, прижала подарок к груди, роняя стебли. — Да зачем мне столько-то, рази только Машке, — она показала глазами на козу, — можно было небольшой букетик, два три цветочка, — она кокетливо хихикнула.
— Не могу, мать: два-три — имидж не позволяет.
— А-а… — понимающе кивая головой, — че ж не понять-то.
Вахтерша камвольно-суконного комбината не рискнула встать поперек дороги здоровенного бомжа, который рвался на второй этаж к какой-то Барби. Она отпрянула, боясь быть зарезанной или испачканной, пропустила хулигана на лестничную площадку и сразу же вызвала милицию.
Варя открыла дверь и увидела страшного грязного человека с охапкой вялых цветов, который несколько секунд молча мученически улыбался, а затем, закатив глаза, могуче рухнул к ее ногам.
Нос Светланы — как таящая сосулька: безостановочная капель. Однако, в отличие от ледяного стручка, он не сходил на влажное «нет», а увеличивался, разбухал вместе с носовым платком. Можно было подумать, что сама Светлана неиссякаемый генератор горючей влаги. Да что там, вся она дремлющий источник, носитель какой-то потенциальной энергии, тайной мощности… Андерсон не мог ясно оформить ассоциацию, которую навевала Светлана, сейчас — красиво страдающая на общежитской койке: ноги под себя, белое ресторанное платье, широко распластанное вокруг, — опрокинутая лилия; лицо — мокрое под белым… Невостребованная, нерасщепленная энергия — вот! За пять лет пристегнулись к «кому-никому» факультетские тихони, повыскакивали замуж подружки-замухрыжки, а ты, янтарный одуванчик с чувственной бомбой внутри, которая могла бы разорвать в клочья любого, наградив последней женщиной в жизни, из-за которой — если теряют — потом до самой смерти не живут и не веселятся — только похмеляются и вспоминают!..
Закатилась твоя египетская планида: что-то там у них не только с женским равноправием, но и с мужской самостоятельностью. «Федя хороший, он не виноват! Его отец сказал: прокляну!.. Фердинанд говорит: надо ждать. Он уговорит отца… Ждать, может быть полгода, может, год… Он пришлет весточку, приедет!..» Может быть, Светик… Но ведь в твоих слезах и я виноват: «Леди Холидей…» Растянулись эти «холидейзы» на пять непоправимых лет — и сам не гам, и другим не дам. А может быть, ты сама не хотела иного?! Нет, ерунда — я просто друг, ты сама всегда так говорила. Друзья не бросают, Светик, поехали с нами. Мы с Барби — на Север, я туда добился направления. Почему Север? Эх, Светка, волосы длинные — память куриная: я ведь Андерсон. А тебе — какая разница, где ждать, на западе или на востоке? Север, Светка, это место, где люди себя ищут. И находят…
5
И вот теперь, через шесть быстрых лет, он стоит, Андерсон, бравый северянин шестьдесят пятой параллели, но здесь — нелепый нордоман, режиссер и жертва трансконтинентальной драмы, по уши в подмосковной грязи, с загустевшей кровью в жилах, с раскрытым пересохшим ртом — влага ушла горячим потом в собачью и овчинную шерсть. Снежный человек: могучий и страшный в лесу, но уязвимый на площадном асфальте. Он смотрит на оплывающую свечу в стеклянном кубе, согревающую солнцелюбивые тюльпаны, и вспоминает южную девочку Барби, которой чего-то не хватило — тепла, жара или еще чего-то, недавнюю жену, розовую рыбку из его аквариума…
…Он долго не давал ей опомнится: лихие поступки, дерзкие реакции на внешнее, необычные подарки, стремительная смена декораций, неистовые проявления любви… — все быстрое, сильное, веселое, все праздник и кураж. Феерический ореол, абсолютно довлеющий, с крепкими границами, без права на отрицательные эмоции, на то, что «за» и «вне»… Подспудно понимал: пока крутится карусель, Барби прижата, притиснута, придавлена к тому, кто служит ей единственной опорой, кто может быть фокусом для зрения в беспорядочном оптическом мелькании, — к нему, Андерсону. Позже понял, что не имеет права расслабляться: чем дальше, тем опаснее, — стоит ослабнуть креплениям, и центробежные силы вытолкнут, разобьют, покалечат… Вспомнил услышанную от Светланы африканскую пословицу (память о навеки канувшем в прошлое чернокожем «принце»): «Не хватай леопарда за хвост, а если схватил, — не отпускай».
Путь к Полярному кругу был чудесным движением, сам Север стал фантастической землей, но, как показала последующая жизнь, он же оказался конечной станцией, может быть, тупиком: исчезла динамика, романтические события стали буднями, и Барби время от времени стала становится Варей, Варварой. И став окончательно прежней, она уехала.
Так думал усталый несезонный Андерсон: одежда под минус сорок, на сердце тридцать семь, вокруг — ноль…
После того, как Барби уехала от него, оставив жалкую записку: «Прости, так надо… Я должна. Не ищи, — всем будет легче…» — которая ничего не объясняла, Андерсон поймал себя на мысли — его осенило, — что, к этому моменту, он ни разу не подумал о Беридзе, как о своем неприятеле. Никогда! Наградной платой за сотрясение мозга — пустяк, обычные издержки мужественности — стала Барби. (Хотя он всегда, с мучительной отчетливостью, помнил, как Беридзе ударил его тогда, в ресторане, — не кулаком в челюсть, а обидно, с демонстративной презрительностью — раскрытой ладонью по щеке. Сотрясение мозга получилось от удара затылком об бетонный пол.) Тем более, что Огненный, сразу после ресторанной истории, отошел от своей бывшей подруги, женился. И вот, когда Барби не стало рядом, да вдобавок, она не умерла, не растворилась в огромном мире, уехала не куда-либо, а к своему детдомовскому защитнику — да, да, в тот самый город студенчества Андерсона, где теперь его нет, но где проживает с семьей эта красноволосая сволочь!.. В считанные минуты, как только Андерсону стало известно, что это так, в нем закипела великая, пожирающая, сводящую на нет покой, самообладание, планирование перспектив, логику, — ненависть, зарезервированная, неистраченная, залежавшаяся, удвоенная предательством Барби, утроенная вероломством Беридзе, удесятеренная имиджем Андерсона, который стал сутью Андрея. Этот рыжий кавказец — кто: «утешитель» Барби, ее любовник? — с синими глазами стал лютым врагом. А это ох, как не просто — быть врагом Андерсона, многие об этом знают, и ты, желтокожий «инкубаторский» горец, тоже узнаешь об этом, узнаешь, что это — не только состояние, это начало неотвратимого движения: пусть день, пусть неделя, пусть месяц — но Андерсон идет к тебе!
В один из долгих бессмысленных межвахтовых вечеров ром ухнул не как обычно для последнего времени: в ноги, в унитаз… В голову. Он сгреб документы, деньги, влез в повседневную одежду — унты, полушубок, шапку вышел на трассу, остановил машину. «Аэропорт?… — боднул головой, — я с тобой!» Утром он был уже во «Внуково», к обеду — здесь… Еще час — через адресный стол, — и он, Андерсон, станет у дверей своего врага, и он, именно он, Андерсон, поставит точку в этой истории. Тот, кто думал, что с ним можно обойтись многоточием, жестоко ошибался!..
Но почему он, зигзагом, оказался здесь, в цветочном ряду? Ноги привели сами. Точнее — воспоминания о светлых мгновениях прошлого? Которые — словно золотые блески в серой породе, которые кричат поверженному рациональными буднями из безвозвратного прошлого: жизнь — не сказка, но сказочные минуты были, были!.. Но: не возвращайтесь туда, где было хорошо. И вправду: вместо продавщицы гвоздик с уважительными, восхищенными глазами — наглый кавказец, перелетный грач, с насмешливым взглядом.
— Ну, ты что, дорогой, заснул? Бери тюльпаны. На Северный полюс повезешь, девушке подаришь. Выберу который почти бутон — там раскроется…
Андерсон очнулся, подумал: в другой раз, наверное, взял бы весь аквариум, но сейчас у него другие задачи. И все-таки он не может просто так уйти, он должен повергнуть, хотя бы на мгновение, этого нахального торгаша, помидорного рыцаря, земляка ненавистного Беридзе. Он перевел взгляд с аквариума на хозяина тюльпанов, вколол два смелых глаза в смуглый лоб, под козырь огромной, анекдотической каракулевой фуражки «аэропорт». Через минуту насмешливость и стопроцентная уверенность напротив сменилась на фрагментальное, почти неуловимое сомнение, мелькнула тень испуга, которую малоуспешно пытались скрыть небрежными словами:
— Я заплатил за место, еще утром. Спроси у Нукзара… — и опустил глаза, даже наклонился под прилавок, якобы что-то разыскивая.
Достаточно. Андерсон усмехнулся. Подошел поближе, постучал по аквариуму. Торговец вынырнул из-под прилавка.
— Я беру. Все… Нет: все — только розовые.
Каракулевая фуражка облегченно улыбнулась:
— Давно бы так!.. А то — смотрит, смотрит!.. Розовых штук тридцать будет. Денег хватит? Понял, понял — дурацкий вопрос задаю, извини…
Торговец, довольный, пересчитал купюры, новые, только что из свежей пачки — как будто из другого мира, или из-под станка, — пару бумажек посмотрел на свет. Опять радостно поцокал языком. Нашел глазами «полярника», который только что купил у него почти дневную норму. Редкая удача! Загадал на будущее везенье: надо смотреть на эту шубу, пока она не скроется за воротами рынка. «Шуба» медленно дошла до ворот, остановилась, опять долгий монументальный статус, как недавно перед аквариумом. Наконец, что-то происходит: розовый букет, провожаемый рукой, улетает от шубы и падает по-басктбольному точно в большую урну. «Полярник» скрывается за воротами, а счастливый «помидорный рыцарь» спешит к урне — две удачи за день. Еще одним человеком, до конца жизни верящим в приметы, больше.
Восьмой этаж… Он остановился, шумно прислонился к стене, чиркнул спичкой: пустой подъезд — гулкий короб, отозвался выстрелом. Закурил, затянувшись несколько раз, бросил окурок под ноги. Еще раз сверил номер на дермантиновой двери с цифрами на клочке бумаги. Осмотрел ладони, сжал в костистые кулаки, расправил. Еще раз… Глубоко вздохнул, решительно вмял красный шарик в стену.
Взгляд уперся не в напуганные лица застигнутых врасплох заговорщиков, что ожидала возбужденная мстительностью несложная фантазия, — провалился в розовый дверной просвет: бахромчатый абажур, обои…
— Вам кого?
Андерсон опустил голову — на звук. За порогом стояла красноволосая девочка и, запрокинув головку, спокойно смотрела на пришельца большими синими глазами. Он оторвал руку от кнопки, отпрянул. Приснял, откинул на плечи полушубок, поправил шапку. Горло выдало безотчетный звук, затем язык почти автоматически сложил слово:
— А-а… Бе-ридзе…
— Правильно, это квартира Беридзе.
— А из взрослых кто-нибудь есть?
Девочка медленно покачала отрицательно головой и, пристально глядя на Андрея, спросила:
— А вы кто? Вы с Севера?
Андрей рукавом дубленки с силой провел ото лба к подбородку, стирая пот, присел на корточки, сравнялся ростом с девочкой.
— С чего ты взяла?
— У вас шапка собачья. Собачья? А вы кто? Может быть, мне дверь закрыть?
— Неправильно, — Андрей устало улыбнулся. — Вообще не надо было открывать. Но ты, наверное, очень-очень смелая?
— Да. Я даже мертвых не боюсь.
— Ух ты. И давно? Тебе сколько лет?
— С тех пор, как мама-Варя приехала. После того, как у нас с папой мама умерла — под машину попала и умерла… Мне пять лет. Скоро. Она с Севера приехала. Вот в такой вот шапке. Осень, еще не холодно, а она в такой вот шапке. Смешно, да? Там всегда холодно. Мне вот столько, — она подняла ладошку на уровень лица, повернула к себе, пошевелила пальцами и выставила вперед, — пять.
— А как тебя зовут?
— Меня зовут Варя…
Андерсон почувствовал головокружение, которое несколько лет назад часто напоминало о знаменитой ресторанной баталии. Он заслонил лицо руками и борясь со слабостью, глухо, уродуя слова сдавленными губами, спросил из-за ладоней:
— А как же вы… Как вы с новой мамой… У вас же одинаковые имена…
— Да, — оживилась девочка. — Вот так случайно получилась! Папа меня в честь какой-то девочки так назвал. Но мама-Варя сразу придумала. Она сразу сказала: давай, я останусь Варя, а ты, пока маленькая, будешь Барби, это то же самое по-иностранному. — Она обратилась к Андерсону: — Смешное имя, правда? Как у куклы… Я сказала: ладно…
…Андерсон никогда не приезжал с трассы с пустыми руками. Он привозил Барби то оленьи рога, то засушенный кустик тундрового ягеля, похожего на кораллы… Весь их жилой вагончик, «балок» — так он называется на Севере, был заполнен подобными безделушками. Он не разрешал ей работать — не желал, чтобы она, хрупкая девочка, изнашивалась в работе. Так он говорил ей. На самом деле, хотел, чтобы Барби всегда, когда это возможно, была с ним ждала, встречала и находилась рядом. Так и было — Барби слыла хорошей женой. Вокруг имелись другие примеры: жены, зарабатывая почти наравне с мужчинами, становились независимыми — требовали «равноправия»; или, вовсе не работая, «портились» от безделья — подавались на сторону. И то, и другое приводило к разводам. Барби жила особой жизнью: «Святая», — иной раз с удовольствием и обожанием думал Андерсон… Однако, время показало, — тот же результат. «Все они одинаковые!..» — часто доводилось слышать подобное от отвергнутых мужиков в состоянии беспомощной пьяной сопливости. Но это — ущербное самооправдание, чушь, так примитивно Андерсон никогда не думал, ни «до», ни «после».
Отпускную неделю он «закручивал» как мог: походы за грибами, ягодами, на рыбалку, на охоту, на шашлыки… Друзья, ресторан — единственный в вахтовом поселке — через вечер. Вместе с ними развлекалась и Светлана — куда же без нее, они с Барби стали почти подружками. Светлана, «фараонова вдова» — как она себя называла, — старший диспетчер нефтеналивной станции, за эти годы разбила несколько мужских сердец, но как только дело доходило до разрушения семьи, без колебаний уходила в сторону, не позволяя себе, как она говорила, сиротить семьи. «А если правда, — часто объясняла, смеясь, — кроме Андерсона и Фердинанда мужиков не доводилось встречать!..» Барби воскресала из грусти, становилась веселой, как живая игрушка. «Завода», полагал Андерсон, хватало на всю следующую неделю, пока он был в отъезде. Значит, он ошибался. Во многом… Зачем он здесь? Можно ли так завести машину времени, чтобы воскресить прошлое? Так не бывает. Он устал…
— Извини, Барби, ошибся… — Андерсон медленно поднялся. — Мне пора. Рад был случайной встрече, малыш… До свидания, подосиновик, будь здорова. — Он улыбнулся, поясняя: — Есть такие грибы на Севере — подосиновики, их еще называют красноголовиками. Ты — красноголовик. Жаль, но мне нужны другие Беридзе. Еще раз, извини, ошибся…
Он тяжело шагнул вниз, понурив голову.
— Ничего, — успокоила девочка. — Меня во дворе рыжей называют. Я им скажу: я — красноголовик. Вы идите. Я дверь не буду закрывать.
— Почему? — спросил Андерсон не оборачиваясь.
— А вон, слышите. Это мама поднимается. С покупками. Я ее по шагам узнаю. У нас лифт не работает. Вы идите.
Андрей остановился, как будто натолкнулся на стену. Быстро вернулся, наклонился, приставил палец к губам и торопливо, горячо зашептал:
— Нет, так не пойдет. Она расстроится. Дверь открыта, ты босиком. Ты лучше, знаешь, что? Сделай сюрприз. Она подходит к двери, то-о-олько за звонок, а ты — раз! — открываешь. Давай-давай!..
Он потянул за дверную ручку, девочка с заговорщицкой улыбкой молча подчинилась.
Знакомые — может быть, немного отчужденные необычной, едва уловимой тяжестью, как, наверное, у состарившейся балерины, — шаги приближались, становились громче и отчетливей.
Андрей панически огляделся, взгляд заметался по лестничной клетке… Шаги совсем рядом… Он решился и большими бесшумными шагами в мягких унтах быстро ушел на девятый, последний этаж. Там зашатался в обморочной волне, сел на ступеньки, уронил голову на высоко задранные коленки. Шапка, лохматым рыжим зверем, мягко скатилась по бетонному маршу, улеглась на промежуточной площадке.
Разговор в приоткрытую внизу дверь: «…Ну, я же говорю, в шапке! Как у тебя! Ты его разве не встретила? А может быть, он наверх пошел? Он же ищет людей с такой же фамилией…» — «Нет, нет, ты права — действительно, кто-то прошел мимо, я не разглядела… Иди на кухню, Барби. Разбирай покупки. Я сейчас, только посмотрю почту. Я сейчас…»
Вышла на площадку. Несколько минут тишины.
Мимо сверху по ступенькам прошла женщина — Андерсон углом глаза увидел полные ноги в резиновых сапожках. Послышался ее нарочито громкий голос внизу:
— Здравствуйте, Варенька. У вас запоры крепкие? Смотрите, не открывайте кому попало. А то ходят разные, дедами Морозами прикидываются. В март-то месяц. Потом вещи пропадают… Аферисты проклятые. — И, удаляясь, совсем громко: — В наш подъезд, между прочим, сегодня участковый собирался заглянуть!.. А у меня зрительная память о-о-очень хорошая!..
Андерсон знает как Барби сейчас стоит: прислонившись спиной к стене, запрокинув голову, пальцы-балеринки трут крашеную панель… Одна из ее обычных поз. Но в настоящий момент он вспомнил конкретное — так она стояла однажды, получив раздраженный ответ: «Нет!..» — на ее очередное навязчивое предложение завести ребенка. Через секунду последовали его обычные шутки, веселые отговорки: «Рано… Вот подзаработаем, уедем с Севера на „Землю“… и т. д….», примиряющие объятия… Но это мгновение — было: глаза, наполненные сиротливой тоской, смуглые пальчики, отчаянно растирающие стенку… Если она сейчас произнесет слово, у него прострелит сердце…
Дверь закрылась медленно. С ровным скрипом. С шорохом трущейся об косяк дерматиновой обивки. С последним хрустом.
Через долгую минуту щелкнул замок. Потом еще.
6
Дверь балка оказалась открытой. Светлана, вся белая от муки и разметавшихся волос, испуганно застыла около самодельной электрической плитки. На столе лежал противень с сырыми пельменями. Из форточки залетал и таял парной морозный воздух, пахло духами и тестом.
Андерсон медленно разделся и сел на стул у входа, оглядел чистую комнату.
— Не узнаю своей норы. Я туда ли попал?
— Туда, Андрюша. Это я вот… У меня был Варин ключ, ты не знал? Она когда уезжала, занесла мне — вон я на гвоздик повесила. Я знала, что ты сегодня вернешься. Завтра ведь на вахту. Я ставлю воду, будем варить пельмешки?
Она отвернулась, примостила кастрюлю на плитку, вставила вилку в розетку. Долго стояла спиной к Андерсону, приподнимала и возвращала на место большую, не по размеру кастрюли, эмалированную крышку. Он отметил: его старая верная подруга, его «одуванчик», в последнее время перестала краситься — русые волосы, начиная от корней, медленно вытесняли хлопковый цвет. Впрочем, от этого она не становилась менее красивой.
Светлана, не оборачиваясь, заговорила:
— Георгий Иванович ушел от жены, совсем. Пришел ко мне, с чемоданом. Я как была, ключ схватила, пальто накинула, и сюда. У тебя ночевала… Что делать?
Она повернулась. Они встретились глазами.
Он опустил голову.
Она вздохнула. Медленно сняла фартук.
— Пойду, темно уже. Завтра на работу. Не провожай, ты с дороги, устал.
— Останься, рано еще…
— Нет, Андрюша. Не рано и не поздно. Просто пора.
Задребезжала крышка.
Он подошел, наклонил голову, прикоснулся щекой к упругим душистым волосам, прижался лбом к плечу и, цепляя губами пуговицы на мягком домашнем платье, опустился на колени.
— Я даже цветов тебе не привез, что ли… Прости…
Обнял, сцепил ладони за ее спиной, глубоко уткнулся сморщившимся лицом в мягкий живот, со стоном потянул в себя воздух и — загудел, забухал, затрясся в мокрых рыданиях.
«Андерсон, Андерсон, — гладя по свалявшимся волосам. — Андрей, Андрюша? Какой же ты Андерсон? Прости меня. А я — тебя…»
Потомок царского офицера, сгинувшего от нежелания менять высокий природный образ ради нового, придуманного кем-то, бытия, — Андрей, не справившийся с имиджем, изобретенным ради необычной жизни, — стоя на коленях, уже почти успокоившись и лишь изредка вздыхая и всхлипывая, еще долго не отпускал Светлану.
Пока на его лице не стянула кожу горькая сухая соль…
Пока ее горячее тело не высушило тонкую фланель…
Пока не перестала дребезжать крышка….
Пока не застреляла раскаленной эмалью притихшая было кастрюля.
И отпустил.
ГОРЬКИЙ ВИНОГРАД
I. «Н.П.»
Юсуф недавно пришел с поля и теперь не спеша работал во дворе. Стоя на коленках, лепил из пахсы — глины, круто замешанной с рубленной соломой и коровьим навозом, продолговатые саманные лепешки, складывал их ровными рядами у виноградника.
Весь день было жарко, зато вечер выдался прохладным. От реки пахло рыбой и молодым камышом. Позже потянуло пряным духом горячих лепешек и жареного мяса, это жена хлопотала у тандыра.
Первое время Юсуф не обращал внимания на появившиеся щелчки — так иногда трещит, сгорая в тандыре, прошлогодняя гузупая — ветки сухого хлопчатника, жар от которых делают лепешки и самбусу особенно душистыми и вкусными. Когда щелчки стали необычно громкими, он поднял голову, привстал и увидел за дувалом, со стороны бахчевого поля, серое облако пыли и под ним маленькие фигурки наездников. Несколько соседей-дехкан, закинув на плечи кетмени, бежали по направлению к кишлаку.
Сарбазы въехали в кишлак до захода солнца. Это были полсотни пыльных, высоких и худых воинов, бывших отборных солдат эмира, а сейчас остатков одного из отрядов курбаши Ибрагим-бека, разбитого при попытке прорыва на Термез, к границе эмирата с Афганистаном.
Угрюмые бухарцы с трудом держались на истертых спинах измученных, с иссеченными до крови крупами, лошадей. На полуразвалившейся четырехколесной рессорной арбе, сделанной под манер тачанки, яростно скрипевшей среди тревожного копытного топота и хрипа, громыхало несколько ящиков с гранатами и патронами, здесь же находился, завалившийся на бок, легкий английский пулемет с поломанным упором.
Четверо суток назад, спасаясь от красных эскадронов, они ночью обошли занятый комиссарами Самарканд и взяли направление на Худжант, к Туркестанскому хребту, в еще свободные таджикские горы. Остаться незамеченными не удалось, и последние десятки верст, держась на расстоянии чуть больше винтовочного выстрела, их весело и не спеша преследовал отряд буденновцев, которые с недавнего времени были хозяевами на предгорной равнине.
Командир буденновской сотни, бывший терский подъесаул Егор Свелодуб жалел своих хлопцев. Поэтому до сих пор не нагнал и не искрошил басмачей в капусту, плюя на возможность существенных потерь.
Уставшие от многодневного перехода и плотного преследования последних часов, рубиться басмачи уже вряд ли могли. Но как только отряд подходил к банде близко, оттуда начинал стучать пулемет, экономно, короткими очередями, прицельно. Пару раз показали, что имеют гранаты. Ближний бой добра не сулил. Свелодуб утвердился, причем скоро, в своем начальном предположении, что имеет дело с профессионалами. Понимают, бритые черти, что если и есть их спасение, то не в горячих задницах, а в холодных головах. Не разбегаются по предгорной равнине, не скачут куда зря, едут чуть не шагом, хорошей группой, соблюдая нужную для каждого момента структуру, контролируют фланги. И хоть видно, что не из этих мест, землю, свою, знают. Избегают ровных открытых участков, часто неожиданно, не увеличивая существенно скорости, меняют направление, ловко проходят между оврагами, используют другие любые, даже, кажется, незначительные задорины рельефа, чтобы сделать невозможными обходные маневры преследователей.
Утром, получив приказ догнать и уничтожить банду, Свелодуб первым делом велел снарядить обоз с легкой гарнизонной пушкой, пулеметами и сменными лошадьми. Взводные посмеивались меж собой, а в глаза говорили, батя, зачем тяжесть зря волочить, мы их шашками к обеду укончим. Как же, научите батьку с мамкой миловаться… Горячности как у коней, ума — так же. Вот, едут джигитуют, улюлюкают вслед басмачам, гикают, посвистывают. Эх, егеря-охотнички!.. Сколько уже командир ваш таких как вы, храбрых да веселых, закопал в туркестанский песок, пропади он…
Солнце зашло за горы, начинало темнеть, но кишлак на берегу Сыр-дарьи еще хорошо просматривался даже без бинокля. К красноармейцам он был расположен крепкой и неудобной для штурма стороной — сплошным глиняным дувалом с маленькими калитками из каждого двора, с прилегающим открытым пространством — большим бахчевым полем, ограниченным чередой пирамидальных тополей. С флангов кишлак оберегался густыми тугаями из арчи и тальника, к реке переходящими в топкий камыш. Куда смотрели топографы, обозначившие все побережье ровным и голым?.. Свелодуб прочел на рисованной от руки карте: «Н.п. „Беговат“, 60 дворов». Последний населенный пункт перед горами. За рекой начинаются предгорья, где убежать — плевое дело, а догонять, следовательно, — пустая трата сил. Свелодуб посмотрел в ту сторону, откуда уже должен был появиться всю дорогу отстававший версты на три обоз. Таща обоз и пушку в нем, он, однако, надеялся, что удастся реализовать наилучший вариант: покончить с басмачами быстро — у реки, когда те начнут переправляться. Предполагалось, что как только басмачи начнут входить в воду, добрым наметом сократить расстояние, на ходу разойтись, для психического подавления противника, в лаву, — здесь уже пулемет не страшен, — затем разделиться на три крупные части, налететь по центру и с флангов, шашки наголо, «сухопутных» порубать, отплывающих «перецеловать» из винтовок. Но едва стало ясно, что банда движется не прямо к реке, а на кишлак, Свелодуб понял, что лучший план его не удался.
Свелодуб знал, что басмачи, войдя в кишлак перед самой ночью, уже, почитай, спаслись. До рассвета уйдут, факт. Штурмовать в навал — без толку положить сотню, просто отпустить банду без боя — не сносить ему, Свелодубу, головы. Инспекция из Ташкента с уполномоченным командарма, согласно плана штаба, будет здесь уже завтра утром. Последние месяцы особенно жестко контролировались операции по недопущению перехода банд в горы, к приграничным районам Советской республики. Свелодуб приказал устанавливать орудие на старом оползшем кургане, в центре кишлачного кладбища. Для очистки совести, велел выехать вперед, так, чтобы басмачи могли хорошо видеть, красноармейцу с поднятым на винтовочном штыке парламентерским флагом. В ответ хрустнуло несколько выстрелов. Понятно. Всех готовы к Аллаху с собой забрать, лишь бы не сдаваться. Ну да наше дело предложить.
Свелодуб видел, как во дворах и кое-где между домами-кибитками суетятся мирные жители. Ясно разглядел женщину с заломленными за голову руками, окруженную кучей ребятишек. Заскрипел зубами, опустил бинокль, обернулся. Увидел, как взводные со старшим артиллеристом рисуют на песке и прикидывают на местности схему «распашки» н.п., сорвал бинокль с шеи, забросил в притороченную к седлу сумку.
Кишлак горел. Ночь была безветренной, поэтому каждый дом горел отдельно. Дым, вместе с криком людей, мычаньем скотины, треском горящего дерева и камыша, столбами поднимался в гигантскую черную косу, которая, длинно изогнувшись, медленно струилась в сторону Памира.
Как только взрывы ушли, переместились на другую окраину кишлака, Юсуф похоронил жену с грудным ребенком. Старший сын-подросток кетменем удлинил яму от снаряда в центре двора, еще дымящую. Быстро помолившись, они опустили туда завернутые в одеяло тела. Земли вокруг воронки почти не было, и они заложили могилу сырыми саманными валками, забросали влажной пахсой.
Обстрел начался на закате. А после того, как окончательно стемнело, сарбазы небольшими группами, вместе с подкормленными и слегка отдохнувшими лошадьми, стали покидать кишлак. Буденновцы, предполагая нормальное форсирование реки отступающим противником, периодически, от пяти один, давали выстрел из пушки не по «н.п.», а по другому берегу Сыр-дарьи, почти напротив кишлака, с поправкой на течение. Пулеметы непрерывно прострачивали едва видимую воду от берега до берега. Но сарбазы входили в реку лишь на две сажени от края земли, до начала глубокого места в русле, чтобы лошади, полностью погруженные в воду, могли вести себя спокойно, затем замирали, просто держась на плаву, течение медленно проносило людей и животных, скрытых теменью, дымом и пылью, за тугаями вдоль берега, мимо всего кишлака, за его западные пределы. Только проплыв так еще версту, они начинали двигаться к другому берегу и выходили на сушу в большой дали от разрывавшихся снарядов и пуль.
Потерявший при орудийном обстреле и на переправе около десятка своих воинов, отряд бухарцев, вместе с новыми попутчиками, весь остаток ночи продвигался предгорными тропами на юго-запад и к рассвету достиг подножья гор. Здесь, впервые за много суток, они спокойно совершили первую дневную молитву, послерассветный намаз-бадмат. Дальше их путь лежал через перевал в труднодоступное Шахристанское ущелье.
Вместе с отрядом, босой, с разбитыми в кровь ногами, неся на руках маленькую девочку, шел Юсуф. Он, спасая сына и дочь, как и несколько других жителей кишлака, в основном неженатых юношей, которых буденновцы могли принять за басмачей, переправился с сарбазами на другой берег, в надежде достигнуть горного селения Ура-тюбе, где жили таджикские родственники его покойной жены. Сын исчез на переправе, что с ним стало, Юсуф не знал. Дочка простыла от холодной воды и мокрой одежды, беспрестанно кашляла, отрывая горячую стриженную головку от отцовской груди.
…Юсуф остановился, обернулся, нашел глазами уже еле видневшийся за холмами серый дым, погрозил туда свободной рукой, хотел сказать громко, но захлебнулся, прерывисто захрипел, погладил дочку, жарко прошептал: «Мы вернемся, кызым, вернемся, дочка, вернемся!..» — Захватил сморщившееся лицо огромной грязной рукой, сдавил пальцами глаза и беззвучно заплакал. Проезжавший мимо сарбаз взял у него девочку и усадил в свое седло. Юсуф, спотыкаясь об острые камни, пошел рядом.
II. САМАННАЯ ОКРАИНА
— Ну, заходи, брат, прощайся, — Эркин толкнул калитку, пропуская меня во двор.
Дом был пуст. Мои родители окончательно съехали уже месяц назад, но Эркин, новый хозяин, один из женатых сыновей многодетной узбекской семьи, проживающей в таком же доме напротив, сюда еще не перебрался.
— Тебя ждал. Завтра начну потихоньку. Мне недалеко, — он виновато улыбнулся, — пешком перееду. Тебя ждал, братан…
Наши с Эркином отцы строили дома одновременно, это было в самом начале шестидесятых.
Участки под строительство им, начинающим работникам цементного завода, выделили на самой окраине, у реки, на месте когда-то стоявшего здесь небольшого кишлака, который, говорят, и дал название этому городу.
Две наши молодые семьи, узбекская и русская, проживали во времянках, расположенных в серединах будущих дворов, среди поросших маками и колючкой, заглаженных временем, бесформенных глиняных выступов и углублений.
Делать саманный кирпич наши отцы наняли шабашников, двух мужчин, таких же молодых, как наши родители. Звали их Дуб и Басмач. Это были клички, которыми они величали друг друга. Не помню откуда, но мы знали, что первая была производным от фамилии, а вторая образовалась благодаря родовому происхождению ее носителя. Матери шептали нам, что люди эти недавно вышли из тюрьмы, и маленьким детям не следует вертеться около них без надобности. Разумеется, это только подогревало наш интерес к веселой, добродушной паре.
Они появлялись каждое утро, обнажались до пояса, перешучиваясь, подначивая друг друга, месили глину босыми ногами. Затем приступали к формовке — процессу, который нам, тучке разномастных детских головок, интернациональной любопытной ватаге, был особенно интересен.
Басмач зачерпывал матрицей, которая представляла из себя прямоугольное дощатое корытце с перегородками, небольшое количества песка, протряхивал его во внутренних полостях, так, чтобы песчинки равномерно приклеивались к влажным стенкам. Становился на коленки, голыми руками закладывал в углубления густую глину, вскакивал, хватал груженое корытце за ручки, поднимал до живота и, сгибаясь под тяжестью, смешно по тараканьи забрасывая вперед ноги, быстро бежал к ровному сухому месту. Там опускал корытце на ребро и затем резко переворачивал дном вверх. После того, как деревянная конструкция, мелко подергиваясь, с песочным шуршанием уходила ровно вверх, на земле оставались четыре красивых сырых саманных кирпича, по величине в два раза больше обычных, жженых, которыми наши отцы уже выкладывали печки и дымоходы.
Дуб был белобрысым веснушчатым парнем, с жилистым, крученым, как виноградная лоза, телом, покрытым татуировками. На груди выделялся рубленый портрет Ленина, в полспины призывно подмигивала красивая обнаженная женщина. Кроме того — звезды, купола, змеи, кинжалы и многочисленные надписи, которые мы, дети, читать еще не умели. Когда мы утомляли его своим бессовестным разглядыванием, он, улыбаясь, кивал на своего друга:
— У Басмача тоже картинки есть. Только у него одни орнаменты — ему морды нельзя рисовать, Коран запрещает. — Он заговорщически понижал голос: Стеснительный, поэтому все наколки под шароварами. — И кричал: — Басмач, сними штаны, покажи детям орнамент!
Басмач был тощим и угловатым, с бритой головой и огромными, как вилы руками, плохо говорил по-русски, и в часы послеобеденного отдыха, под сенью тополей, у арыка, играл на рубобе, струнном музыкальном инструменте, похожем на тыкву с воткнутой в нее длинной палкой.
Иногда Дуб отбирал у Басмача инструмент, приговаривая: «Одна палка, два струна, я хозяин вся страна», перестраивал «под гитару», ритмично стучал по струнам, и они оба, к восторгу детей, пели какую-то длинную, бесконечную шутливую песню, в которой каждый куплет заканчивался утвердительным вопросом: «На кой шайтан узбек война?!»
Иногда Басмач делал из глины свистульки — птичек, собак, кошек, обжигал фигурки в хозяйской печке и раздавал их детворе. Однажды, меся глину, он наколол до крови ногу. Виной незначительного ранения оказался кусочек старой желтой кости.
Дуб не упустил случая поиздеваться:
— Басмач, я только из уборной, поссы сам себе на башмак, ты сможешь! он обернулся к нам: — Сейчас будет демонстрация орнамента!
Басмач промыл кость в арыке, внимательно ее осмотрел и задумчиво объяснил малолетним зрителям:
— Человечий…
— Ага! — тут же отозвался Дуб. — Ишачий!.. Сделай пацанам свистульку.
— Из человечий нельзя, — серьезно возразил Басмач и поцокал языком.
Обедали наемные работники в наших семьях, родниковую воду от сырдарьинских береговых ключей с большим удовольствием носили им дети, а папиросами снабжала пожилая русская женщина: маленькая, стройная, с хриплым уверенным голосом. У нее были седые, сверкающие как серебро кудрявые волосы и ярко накрашенные губы. Она разговаривала на каком-то особенном русском языке, в котором было много непонятных для нас выражений, но все слова удивительным образом сливались во что-то непрерывное, плавное и красивое. Однако порой с ее губ, вместе с крошками табака, слетало рваное и пугающее: «сука позорная», «параша»…
Было понятно, что она бескорыстно опекала этих двух парней, проведывая почти каждый день. Но почему-то называла их, правда, ласково, врагами. «Привет, враги, работа не волк, перекур!» Дуб и Басмач всегда покорно и радостно, просветляясь лицами как дети, оставляли работу, шли под тополя, и все втроем долго курили и разговаривали, казалось, никого в эти минуты не замечая. Перед уходом женщина обзывала ребятню, вертящуюся около глиняной кучи, вредителями и приказывала до завтра не обижать ее подопечных. Мы смеялись. Взрослые говорили, что у нее не все дома.
Вскоре дома наши, как и многие другие рядом, были окончательно построены. Потом стали возводится дувалы и деревянные ворота с резными звездами и полумесяцами. Дворы укрылись виноградниками. Вдоль улиц ровными рядами выстроились фруктовые деревья. Сформировалась окраинная махалля индустриального города.
В этот период на улицах стал часто появляться, как будто что-то безуспешно разыскивая, никому из наших соседей не известный, большой, страшный старик. Женщины пугали им своих детей: «Не будешь слушаться, завтра страшному бабаю отдам!» Один глаз его, казалось, не мигая, смотрел из-под лохматой черной брови, а там, где должен был быть второй, как раз заканчивался толстый коричневый шрам, пролегавший через всю щеку. Он ходил, заложив руки назад, не сгибаясь, в коротком полосатом халате, черной тюбетейке, тонко повязанной темно-зеленой чалмой, с небольшим ножиком в кожаных ножнах, заткнутым за голенище, ни с кем не здоровался и не отвечал на приветствия, что было совершенно нетипично для «нормального» узбека. Он никак не походил на других, местных стариков — благообразных аксакалов с окладистыми, белыми шелковистыми бородами, с посохами из красной вишни, зимой и летом одетых в длинные ватные халаты.
Как его дразнить, нас научили дети постарше. Мы забегали к нему вперед по ходу шествия и, остановившись в шагах десяти, на безопасном расстоянии, кричали: «Бабай! — Буденный! Буденный!..» — и тыкали ручонками в сторону гор. Мы не понимали смысла этих слов и жестов, но нам было жутко интересно, что они выводили страшного старика из свирепого равновесия. Обычно он делал два быстрых шага в сторону детей или резко наклонялся, показывая, что берет камень, мы разбегались, дрожа от страха и восторга.
Подростками мы совершали походы в ближние предгорья на земляные холмы, которые все население по неизвестной причине называло Буденновскими горами. По одной из версий, здесь находился оружейный склад Красной Армии, впоследствии взорванный басмачами. (По другому варианту, все было как раз-таки наоборот.) Копали землю, находили катышки артиллерийского пороха, делали пиропакеты и пугали взрывами учителей в смешанной, русско-узбекской, школе. Иногда везло, и мы находили проржавевшие «маузеры» и «наганы», винтовки без прикладов и сросшиеся с ножнами сабли. Днем мы играли со своими находками, а ночью, как узналось много позже, родители выкидывали наши арсеналы в глубокое место Сыр-дарьи или просто закапывали в огородах. Поэтому, когда мы стали взрослыми, ничего из трофейного оружия у нас на руках уже не было. Наверное, к счастью.
— Тебя ждал, братан, — повторил Эркин. — Хочу, чтобы ты в последний раз — с хорошим сердцем отсюда вышел. Чтобы мой новый дом был… не на беде. Он волновался, тщательно подбирал слова, прислушивался к ним, как будто боясь сказать что-нибудь непоправимое. — У нас говорят, на чужой беде… как по-русски?.. виноград посадишь — ягоды горькие будут.
Чтобы разрядить момент, я стал рассказывать Эркину, какая у меня сейчас на Ставрополье квартира, какой чернозем на даче. Взял у него щепоть насвая и, как в хулиганском детстве, лихо закинул зеленый порошок под язык и борясь с двойной горечью, выдавливающей слезы, бодро прошепелявил: «Приезжай, Эркин!»
Он притворно испугался, улыбаясь, замахал руками:
— Вай, нет! Северный Кавказ, война! А на кой шайтан узбек война?! Помнишь?..
Мы оба засмеялись, хлопая друг друга по плечам.
— Завидую тебе, — он продолжал шутить. — Много родины у русского человека. Хоть Владивосток, хоть Краснодар, — все равно Россия. А у узбека одна земля, маленькая. Другой родины нет… Здесь остаемся.
Перед тем как уйти навсегда, я подошел к старому дувалу из-под которого тянулась тонкая виноградная лоза с огромными изумрудными листьями, выщипнул из глубокой трещины кусочек твердой глины, уголок кирпича-сырца, сорвал резной лист, завернул в него саманный амулет и вложил все это в узкий кармашек дорожной сумки.
Через тридцать с небольшим лет после рождения городской саманной окраины ветер перемен быстро выхолостил отсюда все русское, что долгие годы укоренялось, казалось, навсегда на благодатной прибрежной земле.
Мои родители уехали последними.
Стариками, на этническую родину, но — на чужбину.
Никто из людей их не гнал.
Их гнало время, которое пришло, чтобы согласно своим неумолимым законам, заставить нас, со- временников, собирать кем-то давно разбросанные камни.
ЗАГОРЕЛАЯ ЗВЕЗДА
Андрей и Гуля с дочкой не пошли сегодня на пляж.
Еще вчера вечером, сидя под остывшим тентом возвышенного летнего кафе с панорамой на западную часть бухты и наблюдая за плотной чередой замерших у бордюров набережной мужчин и женщин, взрослых и детей, с очарованно устремленными к одному картинными взглядами, провожающих солнце, семья решила несколько изменить привычный режим — сходить с утра в церковь, расположенную, как вещали курортные гиды, в сердцевине старого горного погоста. Вернее, так решила Гуля и сообщила об этом мужу и восьмилетней дочери Наташе.
Андрей не выразил удивления или сомнения, он привык: раз жена решила не посоветовавшись, значит так надо и так тому и быть. В конце концов, церковь и кладбище это тоже, говорят, достопримечательность курортного городишки, в котором им выдалось этим летом провести часть отпуска. Да и от пляжа иногда нужно отдохнуть. Перемена рода впечатлений, контраст… Вообще, Андрей доверял своей обожаемой пассии и никогда не тяготился ее лидерством. Тем более, что Гуля, его мудрая, любимая Гуль, его смуглая Шехерезада, он был убежден, никогда этим не злоупотребляла.
Наутро Андрей все же проявил инициативу, предложив до похода в «серьезные» места сходить на пляж, зарядиться утренним морем. Ну, а далее все по плану Гули.
— Успокойся, — сказала Гуля, выходя из душевой и погружая махровое полотенце в пучину влажных волос, похожих в желтых утренних бликах гостиничной спальни на сноп блестящих коричневых водорослей, только что вынутых из огромного аквариума с древней водой, — валлиснерию, элодею, риччию…, - которые, Андрей это прекрасно знал, потом, высохнув на полуденном солнце, нежно, еле уловимо шуршат, соприкасаясь с упругим пепси-телом…, которые, позже, рассыпаясь на белом и становясь податливыми, близкими, пахнут терпко, горным миндалем… Которые… Гуля, Гуль, Гулька!.. Лоза виноградная, роза чайная, тюльпан дикий!..
— Успокойся, — Гуля погладила Андрея по щеке, выдыхая на свежевыбритую, смягченную лосьоном кожу подбородка обжигающий, хмелящий шепот, — я мокрая, Наташка проснулась, пусти. Никакого пляжа с утра. Не понимаешь? Очнись!.. Мы идем в такое место… Мы с Наташей повяжем косынки…
Несколько лет назад впервые попав на море, — а это случилось вскоре после свадьбы, которую Андрей и Гуля, уроженцы Узбекистана, грустно отметили в Сибири, куда, смятенно оглядываясь на горький шлейф непонимания, вязко тянущийся за двумя влюбленными, вынуждены были уехать после окончания Андреем института, — да, еще тогда, десять лет назад, Андрей сделал вывод, который с течением времени уже не менялся, — кавказские приморские городки, вытянутые каждый вдоль своего берега, если не считать собственно моря, состоят из трех основных частей: начальная полоса — безмятежная, праздная набережная, середина — суетная часть, с автодорогами, машинами, рынками, и третья — все остальное, куда попадает далеко не всякий отдыхающий, — то, что цепляется за коричневые скалы и тонет в буйной плотной зелени ближних предгорий… Приезжий человек, если ему доведется пройти пешком от городского пляжа до какой-нибудь достопримечательной сакли в горах, непременно, одно за другим, испытает три разных состояния: безотчетной, легкой удовлетворенности, прозаической озабоченности и одухотворяющего, мудрого спокойствия.
Христианское кладбище утопало в разбавленном лучами позднего утра изумруде кореженных, но, при ближайшем рассмотрении, высоких и крепких, горных деревьев. Андрей, Гуля и Наташа медленно, слегка подгибая ноги, как при подъеме по ступенькам пологой лестницы, ступали по асфальту неширокой дороги, скудно покрытой ослабленными солнечными бликами, больше напоминавшей некогда облагороженную, а ныне безлюдную, несправедливо заброшенную аллею среди горного леса, скорбно обозначенную крестами, как метками, и обиженно уползающую пятнистой лентой все выше в лесные заросли.
Встреча с первыми людьми, минут через десять после начала шествия, была неожиданной, настолько быстро печальное рукотворно-природное безмолвие завладело путниками.
Двое растрепанных мужчин неопределенного возраста в засаленных старых рубашках и пожилая женщина благообразного вида копошились у крайней могилы. Вокруг этого места дорога делала крутую петлю, резко поднимаясь вверх, поэтому идущие имели возможность хорошо рассмотреть работающих. Стало понятно, что мужчины меняли старый металлический памятник, представлявший из себя пустотелую сварную конструкцию, на основательное каменное надгробье. Женщина, по всей видимости, хозяйка могилки, с белым узелком в руках, белоснежно чистым, как и платок, которым была аккуратно повязана ее седая голова, стояла рядом. Мужчины кряхтели, ворочая ломами тяжелую плиту, вполголоса ругались. Женщина виновато улыбалась, пыталась советовать, безотчетно жестикулировала, повторяя их движения, слабо перебирая ногами…
Через полчаса дорога закончилась тихим церковным двориком.
Маленькая церквушка воспринималась настолько удаленной от оживленных улиц, что, казалось, в ней, как в охотничьей сторожке, не должно быть постоянных обитателей.
Андрей обратился к первому появившемуся человеку во дворе, им оказалась строгая полная женщина в одежде, простой, но с иголочки, напоминавшей халат главной уборщицы. Видно было, что она не последняя фигура в этом заведении. «Попадья», — про себя охарактеризовал ее Андрей.
— Ребенка окрестить? — «попадья» твердо посмотрела на каждого члена семьи, задержалась взглядом на Гуле. — Завтра в одиннадцать. Готовьте пятьдесят рублей. Крестного отца, крестную мать. Но… — Она опять сделала акцент особым взором на Гулю: — Родители ребенка должны быть православными!.. Само собой — крестные. Тоже!..
Андрей верующим себя не считал, хотя и был удостоен таинства крещения, правда, еще в глубоком детстве. Инициатором сегодняшнего мероприятия была Гуля. Она, не считая себя ни христианкой, ни мусульманкой, тем не менее полагала такое «безверное» положение дел в принципе ненормальным. Однако, следовало из ее рассуждений, — Гулю и Андрея уже не исправить, и выдавать желаемое за действительное — притворство, которое не меньший грех, чем откровенное богохульство. Давай оставаться самими собой, — сказала она ему однажды, когда, опять же, по ее инициативе, зашел разговор на тему веры, оставаться собой честнее всего, за это нам проститься. Так и сказала: «За это нам проститься…» (Андрей после этих слов, помнится, серьезно согласно кивнул и мысленно — только мысленно! — улыбнулся). Иное мнение было у Гули относительно того, какое место религия должна занимать в жизни их детей. Разумеется, и здесь не должно быть никакого принуждения, говорила она… Но если у ребенка имеется интерес к этой теме, то обязанность родителей помочь ему в этом.
Андрей не возражал: против последовательных, стройных рассуждений Гули, как всегда, не было смысла возражать. Поэтому, когда сегодня утром она повторила ему свои «теологические» выкладки, Андрей, как номинальный глава семьи, сам, поспешно, обосновал вывод в необходимости намеченного, вернее подсказанного женой мероприятия: действительно, Наташке преподавали в школе, правда, в порядке факультатива, элементы «Закона божьего», а дома она частенько мусолила «Библию для детей». Главное, недавно загундосила: «Когда вы меня покрестите? У нас полкласса уже с крестиками!» В конце концов, хуже не станет…
— А где у вас тут руководство? — спросил Андрей, вертя головой, всем видом показывая, что не придает решающего значения словам «попадьи».
— Батюшки нет. В городе. Вон, если не верите, обратитесь к дьякону, быстро проговорила «попадья», удаляясь и показывая на невысокого плотного парня в новой рясе, который, как оказалось, находился рядом и наверняка слышал весь разговор.
Парень, наверное, недавний семинарист, судя по возрасту и благополучному розовощекому облику, — если бы не его характерная одежда, вполне сошел бы за недавнего выпускника технического вуза, скоротавшего учебные годы не в «роскошных и хлебных» хоромах студенческого общежития, но в скромной, обереженной даже от тени искуса семейной келье. Во внешности молодого дьякона, — к какому-то неожиданному, безотчетному, неудовольствию Андрея, — не было ни печати принадлежности к духовной когорте, ни стремления казаться значимее. Видно было, что он уже чувствует себя участником разговора, который начался между Андреем и «попадьей». Он больше смотрел на Гулю и его открытое миролюбивое лицо имело несколько виноватое выражение.
— Слушай!.. — Андрей в манере недавнего студента, как к ровеснику, обратился к дьякону. Он демонстративно загородил собой Гулю, прежде всего для того, чтобы показать самой Гуле, что дело вовсе не в ней. Послушайте… У нас очень мало времени. В том населенном пункте, где мы постоянно проживаем, нет церкви… — он неожиданно для самого себя перешел на несвойственный ему дребезжащий, саркастический тон: — …Неужели моя дочка не может быть свободно крещенной, если я… — нехристь? Да нас, как вы прекрасно знаете, целое поколение таких! Тогда, как нашим детям приобщится… — Андрей несколько секунд подыскивал подходящее для выбранного тона слово, не найдя его, закатившимся взглядом окинул здание церкви, театрально развел руками, слегка наклонил корпус в сторону священника и закончил вполне лояльно, пытаясь показать содержанием и окраской последней фразы, что предыдущая тирада была не эмоциональным срывом, а проявлением осознанной — ну, может быть, несколько резковатой — иронии: — Подскажите выход заблудшим, отче!..
— Я сразу понял, что вы приезжие, — кивнул дьякон понимающе и примирительно, однако ему не удалось избавится от виноватого выражения на лице. Качнув красивой головой в сторону, он продолжил без всякого видимого перехода: — Анастасия Ивановна заведует формальными делами, исключений нет… Если уж что сказала!.. — Он несколько понизил голос: — Ну, в принципе, можно было сказать, что вы крещенные… — дьякон попытался заглянуть за спину собеседника, слова предназначались для его смуглой жены. Заметив, что Андрей нахмурил брови и старательно расправил плечи, торопливо продолжил: — Вы, родители, можете завтра принять обряд крещения вместе со своим ребенком. Да, да! — он радостно закивал, довольный тем, что быстро нашел приемлемый для всех выход. — Тогда будут соблюдены все формальности! Я поговорю с Анастасией Ивановной… — он скосил глаза — внезапно, так же как и появилась, улыбка сошла с его лица…
Андрей обернулся. Он увидел, что Гуля, слегка понурив повязанную косынкой голову, держа за руку Наташу в такой же косынке, направлялась в сторону выхода из церковного дворика…
Они уходили не быстрее, чем шли сюда. Так было из-за того, что Андрей старательно замедлял шаг, делая походку небрежной. Даже пытался шоркать туфлями по асфальту, как это всегда делал сланцами по набережной. Смешил Наташку. Громко объявил дочери, что следующий их культпоход будет в дельфинарий, стал увлеченно рассказывать, какие это умные животные дельфины, сколько пользы могут они принести человеку.
Гуля шла чуть впереди. Она не смотрела ни на Андрея, ни на Наташу, но, то и дело отворачивая голову, с повышенным вниманием созерцала все предметы, которые попадались на пути — деревья, памятники, кресты…
Дочь старательно подыгрывала отцу, делая вид, что ей безумно интересны буквально все сведения о друзьях человека — дельфинах.
Гуля иногда поднимала лицо вверх — на щеке, видимой Андрею, появлялась ямочка… Андрею вдруг показалось, что вот это все уже было!.. Да, да, именно так (или почти так?): церковь, солнечный день, радость от молодости, здоровья или только безотчетное ожидание радости, тревожного счастья, — все это вдруг сменившееся чувством странной, несобственной, косвенной вины, нежность, красивая Гуля, проглатывающая горечь…
…Это было лет пятнадцать назад. Нет, точно: пятнадцать лет назад. Он только что окончил школу. Гулька, соседская девчонка, приехала из Ташкента домой на каникулы. Вообще-то, настоящее ее имя было Гуль, по-узбекски цветок. Но русские соседи и одноклассники звали ее Гулей. Несколько лет они с Андреем учились в одном классе, потом Гулька перескочила один, кажется, пятый класс. Потому этим летом она считалась уже студенткой второго курса ТашГУ, а Андрей еще только выпускником средней школы.
Впрочем, тогда для Андрея это не имело никакого значения — ни Гулькино «вундеркиндство», ни сама Гулька, ни какая-либо другая из девчонок. Днями он купался в Сырдарье, вечерами дотемна сидел с парнями в старой тополиной аллее, как и все, курил дешевые сигареты «Памир», бренчал на гитаре… Остальное время, если оно оставалось, готовился к экзаменам в институт. Все равно в какой…
В один из тех летних дней он, по веселому случаю, стал крестным отцом двух своих племяшей: старший брат Андрея, уступая просьбам родителей, покрестил спиногрызов-погодков. Для этого пришлось всей карнавал-процессией съездить в «область» — в Узбекистане не в каждом городе есть православная церковь.
Андрей, будучи, как многие его сверстники, окрещенным еще в беспамятном детстве, и зная об этом, тем не менее считал, что побывал в церкви впервые. Храм не произвел на него благоговейного впечатления. После того сумбурного посещения остались воспоминания об огромных желтых куполах, высоком круглом зале с расписанными стенами, рокочущем священнике, брызгающим на детей водой. Запомнилось, как спешно его обучали креститься, перед тем как отправить в помещение, где через несколько минут предстояло участвовать в торжественной процедуре, как он потом боролся с собой, чтобы не рассмеяться в ответственный момент.
Вечером событие обмывали. Во дворе, под виноградником, стоял по-праздничному накрытый стол. Завели магнитофон. Новоиспеченных пяти-шестилетних христиан наскоро покормили и, запретив — только до конца сегодняшнего дня — снимать пластмассовые нательные крестики на шелковых нитках, выпустили играть на улицу.
Племяши периодически забегали во двор. Взрослые поправляли им крестики и они опять убегали. В один из забегов дети, слегка возбужденные, вынесли из мастерской молоток и с целеустремленным видом выскочили на улицу.
— Пойду посмотрю что они там с инструментом, — объяснил Андрей, выходя из-за стола. После выпитой очередной рюмки домашнего вина ему хотелось курить, при родителях делать это он еще стеснялся.
Он вышел за ворота, достал сигарету. Невдалеке именинники увлеченно, по очереди, стучали молотком. Интересно было смотреть на них. Они сидели на корточках с закушенными языками, сосредоточенные взгляды были устремлены под собственные ноги, куда направлялись удары, крестики покачивались на нитках в такт движениям. У одного, от усердия, крестик заскочил за плечо, упал за воротник.
Ранний вечер был уютным, светлым и теплым, играла музыка…
Внезапно из соседских ворот, тревожной кометой, вспарывающей идиллию, выскочила девчонка в огненном атласном платье и в шароварах с желто-красными продольными лучами, с развевающимися кистями волос, подбежала к детям. Андрей не сразу понял, что это была Гулька. Она вскрикнула, быстро присела около малышей, выгнув назад спину как кошка, сунула руки прямо под взлетевший вверх молоток, выхватила оттуда какой-то предмет, похожий на камень, на секунду задержала его в ладонях перед лицом, затем прижала к груди и убежала домой.
Дети заплакали: как никак именинники — и на тебе…
Андрей удивился Гульке. Конечно, девчонка еще, но не до такой же степени — с малышами связываться. Все таки студентка…
«Христиане», волоча молоток и обиженно хныча, побрели домой. Андрей успел потрепать одного по свежеостриженной головке. Покуривая, подошел к Гулькиному дому, присел на скамейку. Он и не думал разбираться что к чему. Просто, со взрослыми за столом было уже неинтересно, а здесь, если Гулька надумает еще выйти на улицу, можно будет спросить у нее, просто так, как там в Ташкенте, в университете, в общаге.
В Гулькином дворе слышалось движение, звучала непонятная речь, затем вроде все стихло. Андрей уже собрался уходить, когда услышал, что за стеной во дворе кто-то плачет. Прислушался, это была Гулька. Наверное по пальцу молотком получила, подумал Андрей и чуть не засмеялся. Да, дела. Думать нечего, придется зайти, извинится за племянников.
На их дружной улице было допустимо войти к соседям без стука с последующим громким оповещением о своем приходе: эй, соседи, есть кто дома, салям алейкум! Андрей, напустив на лицо беспечное выражение, открыл калитку. Увидел у топчана Гульку. Она стояла на коленях спиной к гостю и плакала. Что-то было такое в ее позе, в негромком плаче… Во всем этом была не просто обида. Странно… Палец не судьба, заживет, — примерно так говорила в подобных случаях мать Андрея. Но… от того, что рядом страдал человек пусть несоразмерно страдал тому, что произошло, — Андрей не мог оставаться в безмятежном состоянии. Не смея издать звука, нерешительно приблизился.
Он заметил, что волосы на голове соседки были заплетены в косички только наполовину — видно, сидела у окна, наводила марафет, а потом как была выскочила на улицу. Волосы у нее были не гладкие смоляные, как у большинства узбечек, а словно напитанные густым солнцем: объемные, темно-коричневые, точнее, цвета крепко заваренного черного чая, и — Андрей, кажется, так впервые в жизни возвышенно подумал — будто взбитые знойным феном… Несомненно, это была штучная работа (он продолжал оценивать то, что видел перед собой, в том же хмельном, и потому высоком слоге) — бога, аллаха или иного небесного парикмахера: каждый волосок закручен в тончайшую упругую спираль, а затем насильно вытянут до состояния золотой нитки от спелого кукурузного початка… Андрей подумал, что если к этим волосам сейчас прикоснуться, они окажутся колкими, но мягкими, податливыми, покорно прижмутся к телу, а когда отпустишь — опять примут первоначальную форму.
Гуля резко обернулась, забросив каштановый сноп за плечи, подняла лицо. Оно было мокрое, черные глаза гневно горели. Андрей непроизвольно втянул голову в плечи. На какое-то мгновение Гуля прикрыла веки, страдальчески сомкнула губы, на щеках сыграли ямочки, смуглый точеный подбородок качнулся вверх, — как будто проглотила что-то горькое. Ее состояние передалось Андрею: кадык непроизвольно метнулся вверх, горло обожгла колючая сухость. Он стал искать глазами ее руки, ушибленный палец, как будто надеялся, увидев причину уже их общего страдания, этим от него избавится. Подошел к Гуле близко и осторожно заглянул ей за плечо…
На коврике у топчана, куда упирались Гулины коленки, лежала средних размеров черепаха с расколотым на две половинки панцирем…
Наташа тормошила отца за руку, Андрей очнулся.
— Пап, смотри!.. — шептала дочка, делая страшные глаза и исподтишка кивая в сторону от дороги.
Оказывается, они поравнялись с теми мужчинами и женщиной, которых уже видели по пути в церковь на этом же месте. Новое надгробье было уже установлено, место прибрано, могила приняла сияющий, торжественный, Андрею даже показалось — жизнеутверждающий вид. Мужчины только что начали трапезничать после удачно завершенной работы. Узелок, который еще недавно был в руках женщины, превратился в скатерку, бутылку водки, нарезанную колбасу, несколько яиц, зелень, край белого хлеба. Все это удобно разместилось на невероятно горизонтальной, матово отсвечивающей поверхности только что установленной плиты. Мужчины, ставшие вдруг похожими на пожилых братьев-двойняшек с седыми одуванчиковыми головами, сидя лицами к дороге, плечом к плечу, прямо на земле, так что подбородки почти лежали на испачканных землей коленках, разлили водку на двоих, чокнулись, уважительно качнули полными стаканами в сторону счастливо улыбающейся женщины, продолжавшей стоять рядом, не спеша выпили. Влажно моргая, откусили от луковиц, синхронно щелкнули вареными яйцами по мрамору…
— Пап, это ведь плохие дяди? — негромко спросила Наташа, когда люди остались позади.
— Нет, Наташа, с чего ты взяла! — Андрей едва не остановился от удивления.
— Ну, ты видел, какие они?
— Какие? — Андрей заметил, что молчаливая Гуля повернула голову в их с Наташей сторону.
— Небритые, зубов нет, одежда… Мне кажется, это бомжи!
— Ну, знаешь!.. — Андрей пожал плечами. — А хотя бы и так?
— А разве не грех с их стороны — ругаться… — да-да, я слышала!.. — и распивать спиртные напитки прямо на могиле? — торжественно выложила последний козырь Наташа и, прищурясь, значительно посмотрела сначала на отца, а потом на мать.
Андрей вскинул брови, лоб покрылся мелкой гармошкой глубокомысленных морщин, набрал в легкие воздуху, готовый разразиться длинным, многовариантным объяснением, но взглянув на Гулю, понял, что это излишне: мать уже ответила дочке — покачала отрицательно головой. Упругие сухие риччии-валлиснерии-элодеи печально колыхнулись под тесным треугольником газовой косынки.
Наташа обиженно замолчала, а через несколько минут, на выходе с территории кладбища, упрямо выдохнула, ни к кому не обращаясь, — то ли спросила, то ли возразила:
— А тогда что такое грех…
«Суета,» — хотел ответить одним словом Андрей, но, удивленный этому, быстро и, главное, неожиданно появившемуся в нем ответу, промолчал.
Андрей, Гуля и Наташа так и не пошли сегодня на пляж.
Готовясь к выходу на предзакатную прогулку, Гуля, непривычно покорно, выполнила странную для последних лет просьбу Андрея — позволила мужу и дочери сотворить себе прическу, нравившуюся Андрею в пору их общего студенчества, которую искусно выполняли ташкентские парикмахеры-«шелкопряды»: конструкция из «сорока» тончайших косичек, подобная коконному плетению, висячей корзине макраме, подчеркивающая свободу и объем воздушно охваченного снопа основной массы упругих волос.
Они взяли «Полероид» и вышли на набережную. Томная набережная, пахнущая сосной, эвкалиптом и шашлыковым дымом, пела и танцевала, гуляла по аллеям, целовалась, смеялась, провожала солнце.
Этот период вечера — рай для фотографов. Профессионалы досадливо косятся на любителей: здесь и там урчат «полероиды» — с появлением «мгновенного фото» жизнь «шабашников» усложнилась, приходится улучшать сервис, снижать цены.
Фотоаппарат Андрея в этот вечер работал с двойной нагрузкой. Андрей неистовствовал, веселя жену и дочку: он, хохоча до боли в груди, снимал их на фоне всего, что было перед глазами, — пузатых мужчин, смешных карапузов, носатых барменов, щурящихся от дыма мангальщиков… Когда «апельсин» завис над мысом, Андрей стал изощряться в монтаже: Наташа встала между основным объектом заката и фотоаппаратом, сделала ладони лодочкой, подняла на уровень плеч и затем отвела ковшик-ковчег в сторону. Андрей прицелился, нажал на рычаг. Импортное чудо зажужжало, показало фотографический язык. Запечатлелось солнце в дочкиных ладонях.
Гуля не соглашалась на подобную операцию. Смеялась и не соглашалась. Она все больше и все свободнее смеялась. Андрей дурачился, становился на колени, наводил объектив. Гуля закрывала лицо ладонями, смеялась, отворачивала голову, безжалостно «разбивая» непрофессионально, непрочно сделанную прическу, уходила в сторону. А солнце быстро садилось. Наконец, Андрей, изловчившись, «поймал» Гулю взметнувшейся прямо перед оранжевым шаром, загораживающей на миг стремительно тающий закат, и радостно запустил «урчалку». Вся семья склонилась над медленно проявляющимся бумажным кадром.
— Не получилась фотка, — вздохнула Наташа.
— Получило-ось!.. — радостно закричал Андрей, привлекая внимание соседей по аллее.
Смутный Гулин силуэт, мерцающий в обмане глянца, явился летуче изогнутым в ускользающем порыве, на фоне бледно-голубого неба, — с серебряным ореолом, нимбом, омывающим вскинутые выше неясных гор огненные кисти волос.
… Августовский закат — пожалуй, единственная достопримечательность этого южного курортного городка. Ежевечерние проводы солнца превращают всех отдыхающих и коренных горожан в единоверцев-язычников, на несколько минут объединенных волнительным сакральным актом. Наступает момент, когда «загорелая звезда» зримо устремляется к краю земли, обозначенному для наблюдателей Западным мысом — правым рогом городской бухты. Быстро меняются краски моря, быстро темнеет. Еще несколько минут, секунд, и апельсиновый шар коснется зубчатых гор. Мгновения — и исчезнет само ярило, а потом и его оранжевое эхо…
ЧУБЧИК
Приятель мой и одноклассник Пашка, в отличие от меня, всегда был лысым. В семье у них, кроме Пашки, бегало еще четверо сыновей. И все они, сколько я их помнил, всегда были стриженными налысо. Этим они очень походили друг на друга, их можно было перепутать с затылков. Хотя, все были, разумеется, разного возраста и характера. Я всегда подозревал, что причина их затылочной универсальности в том, что отец Пашки, дядя Володя, родился, как он сам говорил, безволосым. Очевидно, подтверждал мой папа эту версию, дядя Володя не хотел, чтобы наследники хоть в чем-то его опережали, пока он жив, настолько ревниво относился к лидерству в семье. Наверное, думал я, развивая папину шутку, если б было возможно, сосед остриг бы и тетю Галю, Пашкину мать, под ручную машинку — его любимый инструмент, который он прятал от семьи в платяном шкафу под ключ. Но сделать такое — неудобно перед соседями. Хотя вполне приемлемо было иной раз, по пьяной лавочке, громко, на всю улицу — открытым концертом, «погонять» тетю Галю, в результате чего она, бывало, убегала к соседям и пережидала, пока дядя Володя не успокоится и не заснет.
Сосед зорко следил за прическами своих отпрысков. Обычно, периодически, пряча за спиной ручную машинку, он подкрадывался к играющей во дворе ватаге, отлавливал кого-нибудь из своих «ку» (Пашку, Мишку, Ваську…), каждый раз с удовольствием преодолевая неактивное сопротивление взрослеющего пацана. В этом, вероятно, был какой-то охотничий азарт. Ловко выстригал спереди, ото лба к затылку, дорожку. После чего сын, покорной жертвой, шел к табуретке, чтобы очередной раз быть обработанным «под Котовского». Все было со слезами, переходящими в смех, и, как будто, никто по серьезному не страдал.
Мне казалось, что дядя Володя всегда был пьяненький. Меня, соседского мальчишку, непременно с аккуратным гладким чубчиком вполовину лба, в виде равнобедренной трапеции, когда я приходил к Кольке, он встречал неравнодушно: редкозубо улыбался, слегка приседал и, переваливаясь на широко расставленных ногах, подавался навстречу. Одной рукой поглаживал свою большую, чуть приплюснутую лысую голову, а другой, похожей на раковую клешню, совершал хватательные движения, имитируя работу своей адской машинки, и в такт пальцевым жимам напевал: «Чубчик, чубчик, чубчик кучеравый!.. Разве можно чубчик не любить!.. Ах, ты, кучера-а-авый!» Именно так: через «ра». (Иногда говорил своим пацанам, тыча в меня пальцем: «Демократ с чубчиком!.. Куда его папа партейный глядит! Не-е-ет, распустились!..» Из неоправданной высокопарности следовало, что дело не в чубчике: чубчик — знак чего-то, символ.) Я улыбался и отступал. Мне было жутко от мысли оказаться пойманным и обманным путем остриженным наголо. Причем, так: когда сначала на самом видном месте коварно выстригают клок, после чего сопротивление бесполезно, и остается только, снизу вверх, в ужасе наблюдать за творящимся над тобой насилием и мечтать об одном — чтобы все это поскорее закончилось. Про себя я называл дядю Володю «Кучеравым» незримая и наивная месть за вечно оболваненных Пашкиных братьев и тетю Галю, которую было жалко также и за то, что она ежевечерне через всю улицу, горбясь под тяжестью, несла из столовой ведро котлет с гарниром и бидон сметаны, чтобы прокормить маленького, но весьма прожорливого мужа и пятерых, постоянно желающих чего-нибудь погрызть, «ку». «Не в коней корм», — иногда жаловалась она. Соседи называли эту семью «несунами» (дядя Володя, работая плотником, также носил домой, как пчелка: дощечки разных размеров, всякие деревянные поделки: табуретки, рамы, двери… Затем все это сбывал соседям за «пузырьки»). «Завидуют», — говорил про соседей Пашка, оправдывая «пчелиное» поведение родителей.
В нормальных условиях стрижка налысо являлась для меня нереальным актом. Это было невозможно в нашей семье. Отец периодически водил меня стричься «под чубчик» к одному и тому же пожилому парикмахеру корейцу, стригся сам под модный тогда «полубокс».
Для мастера единственной парикмахерской нашего рабочего микрорайона у меня сложился трудно передаваемый зрительно-морфологический синоним: без имени-отчества, но с большой буквы — Парикмахер; широкие плечи в белом халате — заглавная буква «П».
…Кореец работал по большей части молча, могло показаться, что он нелюдим или угрюм. Но с отцом, как и с другими постоянными клиентами, разговаривал, мне представлялось, с удовольствием, впрочем, в основном отвечал на вопросы. Лицо виделось строгим, но не хмурым, а просто неагрессивно серьезным — отношение ко всему окружающему с полным отсутствием легкомыслия. Несмотря на тотальную серьезность, Парикмахер довольно часто улыбался — движения губ были реакцией на шутку, окрашивали фразу, иногда заменяли слово. Но не более того, а именно — улыбка была функциональна: не блуждала по лицу, «на всякий случай», как у угодливых, хитрых или, наоборот, просто добрых людей, не зная к чему приткнуться, что разукрасить. В глазах, обычно устремленных на голову клиента, сверху, поэтому как бы прикрытых плюс к монглоидному разрезу, — скорее, в их уголках, доступных мне, как стороннему наблюдателю, в том числе через зеркало, не находилось блесток высокомерия, кичливости мастерством. Его вид как бы говорил: все что Парикмахер делал, делает и будет делать — правильно, качественно, основательно. Но декларация «звучала» именно так — отстранено, от третьего лица: перечень положительных качеств олицетворял плакатную бесспорность, претендуя только на конкретную деятельность — бритье, стрижка, — и при этом словно отмежевывался от «я»: мнилось некое подобие прозрачной, но непреодолимой границы, старательно, больше обычного, отделяющей внутреннюю суть от внешности. В такой интуитивно отчетливой и вместе с тем неуловимой, необъяснимой словами двухмерности мною предполагался корень странной таинственности, внушающей уважение и желание наблюдать за корейцем. Хотелось намазать этот стеклянный, прозрачный барьер чем-то видимым: гуашью или пластилином — строительный материал детского творчества, — чтобы преграда стала осязаема, доступна зрению.
Чем больше я наблюдал, тем сильнее утверждался в своем первичном детском, по преобладанию инстинктивном, мнении, что Парикмахер — носитель секрета, персонаж некоего приключенческого сюжета, какой-то судьбы из неведомой жизни, о которой я еще никогда не читал, не смотрел фильмов, не слышал. Взятие первой логической ступени в расшифровке неясного, но притягательного образа — промежуточный вывод, основанный на скудном багаже личного жизненного опыта: то, чем Парикмахер занимается с утра до вечера в своей маленькой мастерской, обслуживая за день несколько десятков людей, не самое главное в его жизни, оно даже не занимает его мысли… Это при том, что свое дело Парикмахер ладил хорошо. И при том также, что труд, говорили нам в школе, — самое главное для человека. А если не «самое главное», то очень плохо, — это не наш человек. В рассогласовании, которое рождалось из данного правила и личных впечатлений о Парикмахере, было нечто не совсем приятное, как колкие ворсинки за шиворотом после стрижки с «модельным» результатом, отраженном в хмуром обмане старого зеркала с матовыми углами (именно такое висело в этой старенькой цирюльне): положительное боролось с не очень хорошим, ненадежным, сомнительным; ясное — с незримым.
Все остальные мои взрослые знакомые, среди которых много родственников и соседей, были более-менее понятны. Пашкины родители — как на ладони. Мои папа и мама — передовики производства, их огромные фотографии постоянно, до привычности, висели на доске почета, длинно вытянувшейся вдоль стены хлопкового завода, где работал весь микрорайон, по дороге в школу. Или взять другого нашего соседа Освальда Генриховича, инженера конструкторского бюро, который тоже хорошо работал на этом же заводе, но просто не мог висеть на доске почета ввиду того, что был немцем, сосланным к нам в Среднюю Азию из Поволжья в начале войны. Об этом, почему-то понижая голос, как будто нас могли подслушать, говорил мне папа. Все понятно — не повезло Освальду Генриховичу: старайся не старайся, а на «доске» не висеть. Я немножко жалел его, но понимал, что так надо и что данное положение дел совершенно естественно.
Волосы мои на голове отрастали очень быстро («Оттого, что мозгов больно много», — шутил папа, с явным удовольствием намекая на мою отличную, без напряжения — порой до скуки, учебу в школе), поэтому довольно часто приходилось посещать Парикмахера.
Повторялось одно и то же. Я взгромождался на высокое кожаное кресло. Ерзал, усаживаясь поудобнее. Парикмахер туго повязывал мне салфетку, готовил инструмент. При этом только единожды за весь процесс стрижки я удостаивался его прямого умного взгляда из зеркала, когда он вполголоса спрашивал: «Как?» Я говорил: «Чубчик». Он принимался за мою голову, я разглядывал его, Парикмахера.
Лицо — толстые складки. Волосы абсолютно седые, серебряные, зачесанные назад. Интересно, кто его стрижет, всегда думалось мне. Прокуренные желтые пальцы, которые иногда мягко захватывали остригаемую голову, деликатно придавая ей нужное положение. В мой гудящий от электрической машинки затылок — тяжеловатое (оказывается!), с грудной хрипотцой дыхание, в ноздри характерный запах, смесь одеколона и табака. Только вблизи было понятно, насколько много ему лет.
Вокруг старого зеркала были наклеены несколько пожелтевших вырезок из газет на космическую тему и две черно-белые фотографии цветочных букетов (позже я узнал, что это экибана). Отрывной календарь рядом с полкой, заставленной разнокалиберными флаконами, сообщал о датах, днях недели, фазах солнца и луны. Справа, на глухой стене, висел приемник с понятным названием «Москва» — округлые формы, металлический корпус, обтянутая шелковой материей фальшпанель с темным пятном динамика, — который был всегда включен: гимны сменялись голосом дикторов, вещающих о новостях страны, следом шли прогноз погоды, музыкальные передачи по заявкам и без таковых. Трудно было даже представить саму парикмахерскую, само слово «стрижка» без звучания этого радио. Звук как из пионерского горна — направленный, сконцентрированный: он не отражался от стенок комнаты, не заполнял ее всю, а вел себя «адресно» выходил из одного отверстия — динамика, входил в другое — в мое правое ухо и там оставался. Что с ним происходило дальше внутри меня, я не знал. Наверное, он усваивался особым образом, превращаясь во что-то необходимое для организма. Как воздух, утренняя зарядка, занятия в школе, субботники, первомайские и октябрьские демонстрации… Иногда чудилось, что этот радиоприемник «Москва» и есть самый город Москва, прикинувшийся металлическим ящичком, говорящим и поющим мне в ухо необходимые вещи. Или хотя бы так: приемник — столица, громко и полезно присутствующая в этой комнате своей вполне материальной, видимой частичкой, а не какими-то прозрачными радиоволнами, о которых рассказывал папа. (Отсюда ретроспективно — можно сделать вывод, что все необъяснимое на самом деле жутко меня раздражало, хотелось определенности, а если ее не было, то этот пробел занимали изобретенные мной логические образы.)
С противоположной стороны располагалось маленькое окошко, с открытой в любое время года форточкой, в которую вплывали запахи улицы: мокрого или раскаленного асфальта, пыли хлопкового завода (душное свежее одеяло), бензина и выхлопного дыма; сюда же залетал тополиный пух, мокрые, обессилевшие среднеазиатские снежинки, мухи, которые, постукавшись по стенкам, неизменно прилипали на липкую желтую бумагу-ловушку. С запахами и звуками из окна все было более ясно, чем с приемником, — понятный мир. Хотя самого окна в оригинале мне видно не было — лишь часть его, и то в отражении зеркала: участок дороги, подвижный кусок автомобиля, пестрые дольки прохожих — обращенное, в логическом негативе.
Иногда я заставал в парикмахерской Освальда Генриховича, который бывал здесь, как он сам выражался, пожалуй, дольше меня: не только стригся, но и брился по субботам, а то и чаще. Существовала между Парикмахером и Освальдом какая-то невидимая, но пронзительная связь, в которую, будучи рядом, вступали эти внешне совершенно разные люди, — то, что было вряд ли понятно взрослым, каким-то природным, детским, звериным чутьем было доступно мне.
Освальд, полный и рыхлый, с толстыми очками на остром с горбинкой носу, заходил в парикмахерскую, кивал в сторону зеркала: там отражалась вся комната вместе с Прикмахером и посетителями, — громко говорил «здравствуйте». Кивал в ответ Парикмахер. Натягивались струны, или, используя лексику папы-инженера, между двумя телами появлялись силовые линии. Очередь доходила до Освальда, Парикмахер его «обрабатывал». Они перебрасывались несколькими фразами: о погоде, об урожае хлопка; Освальд шутил на какие-нибудь тривиальные, не запоминающиеся темы, парикмахер «функционально» улыбался — не больше и не меньше, чем с остальными. Пели струны. Освальд вставал, отряхивалась простыня, расплата, сдачи, спасибо. Шел к выходу, затем неизменно останавливался, смотрел на часы, махал рукой: ладно, выкурю папироску, еще время есть. Парикмахер, занятый следующим клиентом, не глядя кивал. Освальд выкуривал папиросу, уже практически не участвуя в разговоре, в коем ведущую роль начинал играть следующий клиент, глядя в окно с особым выражением лица, которое совершенно не вязалось с его предыдущими шутками. В это время мне казалось, что струны начинали громко звенеть — не радостно, а с каким-то трагическим достоинством. Стеклянная пепельница, часто ополаскиваемая Парикмахером в рукомойнике, оттого всегда чистая, стояла на маленьком журнальном столике, который, покорной старой коровкой среди четырех скрипучих козлов, располагался в углу перед сбитыми в две пары стульями. Освальд делал языком мокрое пятнышко в середине своей большой ладони, осторожно, с долгим пошипыванием гасил папиросу, вставал, мял уже мертвый окурок в пепельнице, говорил всем «до свидания». Парикмахер кивал, не поворачивая головы. Или слегка обозначив поворот, бросал короткий взгляд куда-то под ноги Освальду.
Дверной скрип — звяканье рвущейся струны.
Обычно когда я возвращался из школы, парикмахерская была уже открыта. Еще с конца улицы я ставил очередную промежуточную цель — парикмахерская. Это было в моей тогдашней манере, проходить любое расстояние этапами, от объекта к объекту. Тогда весь путь превращался из серой скучной череды в разноцветные динамические отрезки, по своему интересные и, что самое главное, определенным образом подвластные мне. Я шел, изменяя своей волей предметы очередной цели — с разных расстояний они приобретали для меня разные свойства. Экспериментировал: шел быстрее, предметы росли быстрее, медленнее — медленнее. Останавливался — предметы прекращали рост. Дверь парикмахерской летом отрывалась нараспашку. Все, что внутри этого помещения, хорошо фронтально просматривалось с тротуара. Итак, все, что было в парикмахерской, по мере моего приближения, увеличивалось, набирало объемы, цвет, ясность. О том, что внутри, я знал наизусть, но, отгоняя знание, каждый раз «проявлял» эти кадры по- новому, искусственно умножая череду каждодневных открытий: лоснящееся бесформенное пятно — зеркало; белая буква «г» — Парикмахер, могуче довлеющий с вытянутыми вперед руками над черной, рыжей, русой головой, издали похожий на стоячего пианиста. Иногда, если не было посетителей, Парикмахер выходил, облокачивался на косяк двери и курил, глядя куда-то в конец улицы, получалось — в мою сторону, но слишком далеко, мне за спину, сильно подняв подбородок. Я невольно оборачивался — сзади не было ничего необычного, лишь затылки моих предыдущих открытий. Это лишний раз напоминало мне, на будущее, что все мои находки, в том числе и последних минут, имеют обратную сторону. Это прибавляло уважения к Парикмахеру. Но мне никогда не везло в данный момент оказаться вблизи, чтобы «распечатать» этот взгляд, порожденный какой-то невидимой далью.
…Я чувствовал, что-то произошло в нашей семье. Причем, события, которые привели к нарушению размеренной жизни, имели, в моем представлении, какой-то внешний, возможно, всемирный, а значит — стихийный, неуправляемый характер. Однако нежелательных последствий можно было избежать, если бы мои родители успели пригнуться или хотя бы отвернуть свои лица от тех, кто нас окружает, — так я смоделировал для себя возникшую ситуацию. Причем, эта умозрительная конструкция появилась гораздо позже, когда все плохое уже произошло, — только осенью, точнее — седьмого ноября, когда выяснилось, что мой папа не идет на демонстрацию. Представить такое раньше было просто невозможно. Еще с вечера, ложась спать, я видел, как он разбудит меня утром, уже приведший себя в порядок: в костюме с бардовым галстуком, гладко выбритый, пахнущий «Шипром», веселый. От него веет свежестью и бодростью. Обращаясь ко мне, он будет напевать на какой-то ритмичный мотив то ли итальянской, то ли испанской песни: «Чина-чина!.. Слабачина!..», — с переходом на «нормальную» шутливую речь: «Вставай, слабак, вставай!.. Утро красит ясным светом — я пришел к тебе с приветом… На полтинничек, гуляй!..» Они уйдут с мамой под ручку раньше меня, в окрашенную праздником перспективу теплого осеннего утра, чтобы протечь под духовую музыку и крики «Ура!» заводской колонной мимо городской трибуны, встроенной в памятник Ленину. Чтобы затем встретится на центральной площади с друзьями, а потом «активно отдохнуть» в веселой кампании на природе за городом или в центральном парке.
…Утром отец сказал, что болен и на демонстрацию не пойдет. Он действительно плохо выглядел: похудел, лицо — как будто в тени, которую он последнее время носил вместе с собой. Ни прежнего румянца, ни привычной бодрости. Мама еще не пришла с ночной смены. Папа сказал мне, что я пойду до площади с соседом Освальдом Генриховичам, там присоединюсь к школьным колоннам. А может быть, и мне тоже остаться, чувствуя неладное, спросил я. (По правде сказать, на демонстрацию в школьных рядах мы ходить не любили. Другое дело пройти свободным образом, без транспарантов и огромных портретов в руках, которые потом, после прохода под трибунами, приходилось неинтересно и непродуктивно нести за два квартала к бортовым машинам — аксессуары увозили обратно в школу, чтобы свалить кучей в подсобках до следующего праздника. Жаль было времени, не терпелось оказаться в пестрой парковой толпе, вкусить праздничное изобилие: шашлыки, мороженное, лимонад…) «Нет, — раздраженно отреагировал папа, — надо, надо, иди!.. Ты пойдешь.»
Тут я вспомнил, что накануне, первого сентября, когда шел после каникул в школу, не обнаружил фотографий своих родителей на «стене почета». Тогда мне подумалось: все, наверное, правильно — достойных людей много, а стена ограниченна. Одни повисели — уступили место другим. Сейчас это тревожным образом связалось с нынешним поведением и обликом папы. Уже сам собой всплыл неясный эпизод, произошедший еще раньше, недели за две до моего открытия у доски почета: папа пришел сильно выпивший, чего за ним раньше не наблюдалось. Он почему-то давил ладонью грудь и приговаривал мокрыми пьяными губами: «Пражская весна!.. Э-эх!..» Мама долго укладывала его спать. Из спальни доносились сдавленные голоса: «Как мы могли?!..», «Идейный, будь как все!..», «Нет, ну как же теперь!.. Вот тебе и весна!» Надо же так напиться, — думал я, отгоняя от себя безотчетное волнение, — и перепутать времена года: сейчас лето, причем, август.
Освальд Генрихович взял меня, как маленького, за руку. Я протестовал он настоял: «Так надо. Мне надо. Сделай мне приятное! Пусть видят, сколько можно трястись, а? Давай…» Пропустив непонятые слова мимо ушей, я подчинился. У Освальда не было детей, вернее были когда-то, но во время войны жена развелась с ним и, забрав двух сыновей, уехала обратно в Россию, он их разыскивал — бесполезно. Возможно, в этом, в вынужденной, насильной бездетности, в воспоминаниях о сыновьях, причина его нежности ко мне, объяснил я его сегодняшнее суетливое поведение. Проходя мимо Пашкиного дома, мы покивали, приветствуя, вышедшему за ворота семейству «Кучеравого». Глава семьи снисходительно прижал тупой подбородок с невыбритой ямочкой к узкой высокой груди, обернулся к своему выводку, кивнул на нас, все засмеялись. Я знал, что «Кучеравый» вполголоса сказал своим «ку» — что обычно: «Иж, фашист-то, вырядился!..» Это он об Освальде Генриховиче, с нелогичным расположением «мундирных» знаков: почти на «солнечном сплетении» алела шелковая ленточка, сделанная из пионерского галстука, длинным концом для аккуратности приколотая к нагрудному карману, напоминая аксельбант с картины о декабристах, а три значка — «ВОИР», «Почетный донор», «Фидель Кастро» и «Пахтакор», — грудились у левого плеча, издали смахивая на единый карикатурный орден.
Мы пошли по направлению к центру города, где в близлежащих переулках выстраивались, готовясь к маршу, школьные колонны. Из узбекских домов выходили группы школьников: темные брюки и юбки, белые рубашки, красные галстуки. В некоторых дворах детей было так много, что семейства, каждые в отдельности, представляли из себя маленькие демонстрации. Усиливались звуки городского праздника: музыка, речевки, команды… Нарастала шумовая лавина, пропитывая густеющие людские потоки — красное на белом. В одном месте, где маленький духовой оркестр «продувал» небольшие маршевые фрагменты, Освальд Генрихович поднял свой кулак с моей взмокшей ладошкой, ткнул этой тяжелой связкой в сторону низкой зеленой калитки: «А здесь живет Алексей Иванович, наш с тобой парикмахер. Он сейчас дома, да.» Мы продолжали поход, и Освальд Генрихович говорил, не глядя на меня, как будто сам с собой. Привычная, несколько виноватая улыбка, которая обычно близоруко, светлыми тенями блуждала по его лицу — то поднимая бровь, то щуря глаз, то растягивая губы, — сменялась непривычной решительной серьезностью.
— Их привезли сюда раньше, чем меня, чем, тем более, крымских татар… В тридцать девятом, с Дальнего Востока. Сосед наш, Володя — дядя Володя — до сих пор зовет их «самураями», «собакоедами», «косоглазыми». Отца твоего, я слышал, нынче «белочехом» прозвал. Никчемный он человек, дядя Володя, да, честно тебе скажу. Нехорошо, конечно, так про взрослых… А вот среди них много умных людей, не чета некоторым… Многие пошли учителями. Физика, химия, математика. Точные предметы, аналитика — это их. А Алексей Иванович, ты знаешь, — доктор технических наук, между нами, конечно… А тоже ведь, как скотину… Ему предлагали потом, из Ташкента приезжали, из Академии Узэсэсэр… Отказался. Даже в наш кабэ не пошел. Обида. Гордыня. Я, ты знаешь, — заяц, а он!.. Уважаю, честное слово. Хоть кому скажу — уважаю!.. Чесслово… Вот и школа твоя…
Выпроставший ладошку из влажного плена, в школьной колонне я сразу же был взят в иной оборот: мне предназначалось определенное место, в передних шеренгах, и один из флагов союзных республик, которые, я знал — пятнадцать, незначительно отличались друг от друга: расположением и цветом вторичных (неглавных: зеленых, голубых, синих) полос на красном поле с особенной, но жидкой орнаментной (национальное отличие) оторочкой.
Необычайно тронутый гранями разнообразия мира, которое вдруг больно царапнуло меня некоторое время назад, на минуту выпрыгнув из взволнованной речи Освальда Генриховича, — на самом деле промежуточный результат, очередной финал постепенного набора жизненной информации одиннадцати лет, я оказался захваченным навязчивой идеей: сейчас же, немедленно увидеть объект моего теперь уже почти объяснимого интереса — Парикмахера, как воплощение жизненной реальности, парадоксально фантастической, таинственной и при этом, оказывается, вполне объяснимой и доступной — стоит внимательнее посмотреть, больше расслышать, ближе потрогать.
Затеряться — отдаться на задворки переминающихся шеренг, с переходом на суетливый многолюдный тротуар, ничего не стоило. Оставалось избавиться от флага. Я решил действовать общеизвестным, знакомым по предыдущим демонстрациям методом. «Подержи, я сейчас», — обратился к первокласснику. «Ты не обманешь?» — спросил первоклассник, беззащитно поднимая розовые бровки и выворачивая пухлую губешку. Я вспомнил где-то услышанное: когда говоришь неправду, нужно верить в то, что говоришь. Я попробовал: честно глядя в глаза, торжественно сказал «нет» и протянул крашенное древко к игрушечным доверчивым ладошкам. Получилось. Пацан взял флаг. Я быстро пошел прочь, стараясь не думать, что маленький человек смотрит мне в спину. «За все нужно платить, иногда — совестью: это очень быстро, но…», вспомнилась папина фраза.
Я остановился возле зеленой калитки. Оставалось преодолеть еще один нравственный барьер — вторгнуться в чужой мир: незвано открыть калитку или тайно заглянуть через дувал. Но я устал: день, еще по-настоящему не начавшись, уже был долог — я слишком много узнал. Присел на синюю скамейку у палисадника, подперев ладошкой голову, — маленький старичок с чубчиком.
«Процесс познания родил науки: совершенно не обязательно трогать, обжигаться — повторять длинный цикл познания. Не хватит жизни. Наука создает качественную модель, формулу: подставляешь цифру — видишь результат». Это из популярных папиных объяснений относительно пользы наук.
«Ура!.. Да здравствует!.. Хурматли уртоклар! — дорогие товарищи!.. Претворим в жизнь исторические решения!..» В центре города началась демонстрация. Мимо проходили колонны и, блок за блоком, исчезали в нереальности перпендикулярного поворота, очерченной мозаичным углом высокого здания. Получая апатичное удовлетворение от осознанного владения знанием результатом подстановки в знакомую модель: каждая колонна повторит движения и звуки предыдущей, став пронумерованной единицей масштабного действа, — я научно оправдывал свою неподвижность, параллельно напитываясь идеей будущего эксперимента, которому предстояло подтвердить или опровергнуть формулу-догадку, еще непорочную, в которую я еще ни разу не подставлял цифры. Закрыл глаза, выждал время, пока не угас красный цвет… Что возникнет сейчас — это и есть моя «субъективная реальность» (в противовес папиным «объективным реальностям» — частый фрагмент рассуждений на научные и социальные темы), мое понимание жизни.
Немного стыдясь своей «ясновидческой» власти над тем, за кем предстояло наблюдать, я представил Парикмахера на резной веранде, обвитой коричневыми лозовыми жгутиками молодого виноградника. В руках — свежая газета. Сейчас ему не шел белый халат и он был одет в полосатую пижаму — символ обычности выходного, свободного дня. Тушуя опасность громких звуков улицы, способных внести тревожную ноту в спокойствие настроечного лада, я для верности заменил газету на художественную книгу, которая скоро приняла геометрию и цвет научно-популярного журнала, а затем окончательно трансформировалась в толстый справочник на технические темы. Да, чуть не забыл: папиросы, большая чистая пепельница, крупные комочки пепла.
А вот теперь на все это я накладываю звук, прибавляю громкость.
…Из-за дувала, с улицы, долетает — через усилители, «колокола»: «Да здравствует!..Ура!» эти звуки смешиваются с аналогичными звуками из соседних дворов: от громко включенных радиоприемников, телевизоров сливаясь в единое. И не поймешь, где реальность, а где искусственное. Если по научной букве: в центре города — настоящее, в «Москве» и других радио- и телеприемниках — искусственное. И все вместе дает ощущение абсурда или тщательно спланированного притворства: в науке есть модели, но в природе не бывает копий — все разное. Пашка не похож на меня, папа — на Кучеравого, мамы между собой разные, и все всегда говорят и ведут себя по-разному. А тут все одинаково: далеко-далеко, везде-везде, и рядом — одно и то же. И универсальное объяснение (насилие, наложенное на покорность): так надо.
…Парикмахер вздрогнул, поднял седую голову от книги и увидел ряд наблюдающих за ним разных, совершенно не похожих друг на друга людей: я, папа, Освальд Генрихович, Кучеравый и сын его Пашка, обманутый мальчик с флагом… Мне стало стыдно перед Парикмахером за всех и я открыл глаза.
Я пошел домой, сэкономив полтинник, который, как всегда в день праздника, сегодня дал мне папа.
В следующую субботу прогуливаясь с Колькой в районе хлопкового завода, я спросил:
«Коль, только честно, я не обижусь: как меня твой папа называет?»
Пашка хлюпнув носом и чуть подумав, видимо, вспоминая:
— Как, да считай никак… Кто ты? — мелочь! Ну, иногда, бывает вундеркиндом паршивым, а иногда — блаженным, ну, ненормальным. Не обижаешься?… Он ведь всегда правду говорит. Смотри: ты хоть и отличник, а дружить-то с тобой больно ни кто не разбежится, кроме меня…
Нет, я не обижался. Можно ли обижаться на того, кому не доверяешь — я имел ввиду Пашкиного отца. Я решил проверить себя внешним насилием на собственную непокорность (могу ли я быть «нормальным»?) и реакцией на все это Парикмахера — уже знакомым, собственно разработанным и испытанным методом.
…Пашка сел у входа, я взгромоздился на кожаный трон перед старым зеркалом, недоверчиво, но вместе с тем равнодушно отразившем мое притворство — мнимое согласие с грядущим.
«Как?» — спросил Парикмахер, коротко взглянув. Я пошевелил губами, но поняв, что ничего не сказал, качнул головой назад. Парикмахер посмотрел на Пашку: «Как друга? Хорошо».
Авансом — сжигая мосты: высунув руку из-под салфетки, похожей на белый саван, я аккуратно положил на стол сэкономленные накануне пятьдесят копеек одной монетой.
Словно завороженный я смотрел на свое отражение, видел, как машинка подбирается к чубчику. В один из моментов Парикмахер, не в характере предыдущих стрижек, внимательно посмотрел через зеркало на меня, прямо в глаза, как бы в последний раз спрашивая: «Точно?» Возможно, мне так показалось. Он медленно слизывал дорожку за дорожкой, оставляя от чубчика все меньше и меньше. Слезы сами выкатывались и тонкими серебряными стежками сбегали по обветренным щекам. Парикмахер: что, больно? Ах, машинка старая, дергает, ножи точить надо. Ну ничего, не стоит из-за этого плакать, неужели так больно?
Мы вышли из парикмахерской. Мир померк. Я представлял себя со стороны: нелепым, униженным, как будто голым, который не в силах скрыть свою наготу. Пашка как всегда улыбался, он был счастливым человеком, хоть и лысым. Он спросил: есть три копейки? Я кивнул. Он взял монетку, купил в киоске «Союзпечати» газету (какую-то «Правду»: «Правду Востока», «Ташкентскую правду» или просто «Правду»), мы сделали из нее две пилотки, надели (я почувствовал себя несколько лучше: в конце концов, жизнь не заканчивается отрастут) и пошли домой. По дороге Пашка рассказывал о своих жизненных открытиях на заданную тему: оказывается, еще из небольших газет можно делать тюбетейки, а из больших — сомбреро.
КАПЛЯ
— Ну, хорошо, если девочка — назовешь ты. Но сразу же совет — слушай: Клава… Кла-ви-ша… Ой! Стукнул… стукнула. — Капитолина прислушалась, удивленно, словно в первый раз, затем приняла оберегающую позу: поджала коленки и положила обе ладони на огромный круглый живот. — Ну?
Роман дурашливо закатил глаза, плаксиво выдохнул:
— Наконец-то, такое доверие!
— Ну же, Роман! Согласен? Клавиша? Да?
Роман вскочил с дивана, изобразил горячий шепот:
— Нет, так просто я не соглашусь!
Капитолина почти серьезно нахмурилась. Роман примирительно улыбнулся, предложил:
— Давай помечтаем дальше, — он показал рукой на пианино, — посмотри. Вон на ту клавишу… белую, у которой черная в левом надпиле.
— Ми?..
— Это я… И на черную, которая при ней.
— Ми-бемоль, ну?
— А это ты… Что между нами?
— Полутон. Роман, нельзя мне напрягаться, прости, я быстро устаю…
— Ну, послушай, Капелька, — Роман заторопился, подошел к инструменту, стал попеременно нажимать две клавиши, — слышишь? «Ин-га!..», «Иннн-нга!..» А еще знаешь где эти звуки? — Он заметался по комнате, схватил гитару, отставил в сторону, подошел к окну, попытался быстро открыть створку.
— Роман, — слабо окликнула его Капитолина и протянула руку, чуть шевельнув повисшей кистью. — Роман, сегодня доктор сказал, что у нас могут быть проблемы…
…Серые женщины с суровыми иконными лицами суетились вокруг холодной Капы, которая упрямо не хотела закрывать глаза, и шептали: «Душа… Души…» Под левой Капиной рукой лежал плотный сверток, похожий на кокон.
Роман не доверял этим женщинам, странно похожим на соседок и родственниц, которые сейчас, не спрашивая его, мужа, примеряли к груди Капы пластмассовый крестик. Он не любил их «единого» бога, изображенного на крестике, который обращается с душами, как со своими вещами: захотел — дал, захотел — забрал. Да что там, — он, Роман, давно уже просто не верил в этого, бабушкиного, из детства, бога.
Ведь они с Капитолиной были язычниками. Да, да, так и есть: они верили в солнце, ветер, звуки, цветы… Во все сразу и в каждое по отдельности. И третью их жизнь, Ингу, они, не спрашивая ни у кого свыше, — придумали. Из туманов, радуг и дождевых аккордов. Впрочем, нет, он не совсем прав: спрашивали — у туманов, дождевых аккордов…
Все туристы язычники, улыбаясь сказала Капитолина при первой встрече, поблескивая тяжелыми смоляными локонами и отражая желтый огонь в черных, чуть навыкат, палестинских глазах. Уточнила доступно: «Природопоклонники…»
Они познакомились у привальных костров, в крымских горах. Роман был новичком в походах, Капитолина оказалась бывалым туристом. Там, от закатного пожара до рассветного тумана, она обратила его в свою дикую, первозданную веру.
Утром, от десятка потухших костров, парой счастливых отшельников, они спустились в сонный Бахчисарай.
Фонтан оказался не пенистым фейерверком, а тусклым родничком, смиренным тяжелым камнем.
— Так и должно быть, — объясняла Капа Роману и себе, — ведь это Фонтан слез. Поэтому, смотри, капли тихо появляются сверху и медленно перетекают с уровня на уровень, струятся скорбным ручейком. — Она продолжала посвящать его в суть своей веры, одухотворяя предметы: — Смотри, здесь, где струйки прерываются, видно, из чего они состоят — из живых жемчужин, слез. Каждая капля — плачущая турецкая княжна. Смотри, бежит в слезах по замку, в серебристых воздушных шальварах, натыкается на стены, выступы, колонны, падает на ступеньках, мечется в лабиринтах, всхлипывает!..
Все последующие дни их совместной жизни для Романа были умножением нежности, которая овладела им однажды, в первые часы знакомства, по отношению к Капе, Капельке и ко всему, что она, волшебница, язычница — в прекрасном, истинном понимании этого слова, — оживляла для него…
Точнее, она была языческой поклонницей и языческой богиней одновременно, потому что поклоняясь — творила.
Она рассказала, что появилась в этой очередной, не единственной, жизни из утонувшего в горах и озерах детского приюта, родившись «в никогда», без имени, фамилии, будучи — как она была уверена — южной славянкой, израильтянкой, гречанкой, крымской татаркой… Раньше, слушая Капины рассказы, Роман воспринимал историю ее происхождения как зыбкую сумму маленьких притчевых подробностей, многие из которых трудно было принять за реальность, настолько они повторяли соль мифов и легенд, книжную фантазию чьих-то снов, грез, миражей.
Позже, через несколько месяцев после свадьбы, готовый поверить в любое чудо, если только оно исходило от Капы, он уже задавался вопросом: может быть Капитолина в этих причудливых биографических полусказках озвучивала тысячелетнюю память собственных генов и нейронов?..
Теперь он уверен: она пришла из всего… Из того, чему они оба поклонялись, что всегда окружало Романа и окружает сейчас, — и никуда никогда не исчезнет.
На третью ночь, небритым бессонным безумцем бродя среди бесцветных траурных соседей и родственников, он догадался вернуться в летнее, залитое свежим сиянием утро… Нет, там, конечно, не было Капы — он спокойно осознавал: не могло быть, — но там должно было остаться то, что в череде прочей жизни ее окружало, на чем она задерживала свое чудотворное внимание, чему давала жизнь, и частью чего вследствие этого становилась.
Роман закрыл глаза и присел на корточках у стены.
…Он вошел в ханский замок.
…Он недолго ждал, притаившись за колонной. Княжна, журчаще причитая на непонятном языке, прижав маленькие смуглые ладошки к мокрому лицу, всхлипывая, простучала мимо серебряными каблучками, скрылась за поворотом замкового лабиринта…
Он впервые за трое суток устало засмеялся. Открыв глаза, заметил на себе осуждающие взгляды, прикрыл губы ладонью, борясь с предательской улыбкой. Да, формы, формы!.. нужно было соблюдать условности в мире форм. Нужно немного подождать, не проявлять радости, не торопиться. Непрошеные безликие гости скоро уйдут. Он только что понял, как и чем Капитолина вернется к нему, это главное, он подождет…
… Капитолина придет к нему из прошлого, в которое, оказывается, Роман может свободно возвращаться, из тех оживленных картин, куда, благодаря ее прижизненному волшебству, стал он вхож. Он вспомнит каждый день, от крымского закатного вечера до душной, глухой, опустошающей больничной ночи, проживет их заново, непременно находя там все счастливое, радостное, что не успел заметить в первой их с Капой жизни. А когда придет весна, Капитолина с Ингой, уже нынешние, будут окружать его ежеминутно и бесконечно, это самое важное, — они будут пробуждать его звенящим рассветом, смеяться полуденным солнцем, грустить вечерним туманом, шептать ночным тополем… Действительно, ведь это так просто: они были, значит не могут исчезнуть бесследно.
Языческие боги ничего не делают зря, у них для всего есть полезное предназначенье…
Роман, господин своей жизни, отворачивался от бытия. Настоящее уходило — но: осознанно. Оно уже только иногда проявляло себя назойливо-заботливыми родственниками с осуждающими глазами, испуганными жалеющими соседями, трамвайной суетой, магазинными прилавками, немытой посудой… Но все это, постепенно, контролируемо, как ему казалось, уходило на более дальний, менее видимый и реже появляющийся план. Это было движение, значит это была жизнь, но его, Романа, необходимая только ему, жизнь. Такая логика его успокаивала, наполняя смыслом его сознательный уход в себя — в Капитолину, в Ингу. В прекрасное прошлое и призрачное настоящее…
Правда, чем дальше, тем чаще к нему приходило… Нет, не сомнение, его навещал, появляясь откуда-то сбоку, как будто плавным эхом от сумрачных стен… вопрос… Это был вопрос-тональность, иногда даже вопрос-настроение… — и только, потому что Роман никогда не давал ему дорасти до глупого вопроса-слова, фальшивого вопроса-значения из более ранней жизни, к которой без тех, тогдашних, Капы и Инги уже не было никакого смысла обращаться.
Наконец, в самом начале одной из длинных, душных ночей, во влажном, вязком и плотном, как жирная гончарная глина, но черном, забытьи вопрос приснился. И он был словом.
…Роман испугался, подумав, что слово зазвучит или напишется, но оно, неумолимо приближаясь, против ожидания, оставалось невидимым и немым. Однако, будучи таковым, безболезненным, все же вошло в сознание Романа, и там проявило себя.
Он проснулся. Тревожный кусочек, маленький мускулистый хвостик, оторванный, но не желающий умирать, — от погибающей безобразной ящерицы настоящего колюче затрепыхался в изможденной скрипучей груди. Так-так-так!..
Роман сел на кровати, зашарил костистой рукой, мокрой, в крупную каплю, как от холодной росы, по тумбочке.
Так! Так. Так…
Совершенно ничего не случиться, если, утоляя никотиновую жажду, он спокойно поразмышляет, подведет некоторые итоги, конечно.
…Что же получилось? Прошел остаток зимы, миновали весна, лето, наступила осень…
Нет, нет, все выходило так, как он и предполагал…
Но, надо признаться, общение с женой и дочкой через прошлое и через природу доставляло ему минутные радости, но не давало успокоения.
Конечно, к чему лукавить с самим собой, действительного покоя не было, вернее, его очень скоро не стало.
Да и дело не в покое…
Проходило время, а Они не становились ближе.
В картинах былого Капа рассыпалась в сюжетных деталях, в настоящем они с Ингой растворялись в волнах красок, запахов, звуков…
…Он, наконец, понял, что они уходят от него, уходит их суть, их природное предназначение… Но что наперекор этому может сейчас сотворить он, Роман, последний оплот Капы и Инги в земной жизни, он, который, так ничего и не смог для них — всех троих — сделать, но лишь сам, последний из них, — стал бесполезной формой, пустой тенью?..
Ну, а что если бы все было не так, если бы они не так быстро отходили от Романа или даже, благодаря его бесконечным усилиям, всегда, ежеминутно оставались с ним, стояли бы перед ним живой картинкой, наделенной движением и звуком, — что тогда? Что бы изменилось — вокруг? В чем смысл призрачного движения, которое происходит внутри него, Романа — того, который неподвижен?..
… Где, в чем он допустил ошибку, отправляясь в гордое, отшельническое плавание, уверенно расправив свободный парус с надписью: «Капелька и Инга»? Почему языческие боги отвернулись от него? — Капа говорила, что они каждому дают свою роль… Да, она так и говорила, каждому — полезную роль, если не в настоящем, то в будущем, вечном. Стоп!..
Он подходил к пианино, брал аккорды, трогал гитарные струны…
В полночь пошел дождь. Он открыл окно, умылся холодными каплями. Рассмеялся.
Наконец-то он знает, что ему нужно делать. Если он стал бесполезным, ненужным Капе и Инге в этом «настоящем» мире и, тем более, — что, впрочем, совсем неважно, — самому этому миру, который, между тем, равнодушно и в то же время назойливо, жестоко окружал и никогда до конца не отпускал Романа от себя, то он должен идти к ним — к Капе с Ингой, он даже понял — как.
Он должен соединить радостное настоящее из окружающей природы — и светлое прошлое, наполненное Капелькой и Ингой, сплести это в счастливый сверкающий сноп, вихрь, в первый и последний раз испытать блаженство языческого, шаманного транса, полного единения с абсолютной природой — и во всем этом восторженном, упоительном смерче услышать, увидеть ответ на вопрос о сегодняшнем предназначении Капельки, Инги, Романа. И если языческие боги, идолы, кумиры — кто-нибудь! — не дадут ответа на этот вопрос-отчаяние, Роман должен без колебаний войти в неподвластное времени — вечность, стать, как и его любимые, — землей, светом, звуком…
Он вышел на мокрую плоскую крышу девятиэтажного дома. Дождь усиливался, ударили первые раскаты грома. Он подставил ночному дождю ладони, лицо, ловил ртом струи. Промок, засмеялся до счастливого плача, закричал, закружился радостно, разбрызгивая с тела и одежды дождевую воду. Подошел к бордюру, без страха посмотрел вниз. Нет, еще минуту. Теперь прошлое… Улыбаясь, вспомнил свадебное путешествие, которое он и Капа проделали с рюкзаками на плечах. Побережье горной Абхазии: ночное море, вечер на озере Рица, Новоафонская пещера… Прикрыл веки. И тогда
…пейзажная, нездешняя, средиземноморская юдоль шуршащим, соленым шепотом изумрудных волн прохладно пригубила горячечное ожидание, утолила безумное марево в утомленных, мокрых от дождя и слез глазах…
Среди синих, оранжевых, белых скал и гладкой воды зажила звенящая тишина-полутон, лунное эхо и зрение-суть.
Пересечения сверкающих, полированных каменных граней стали угловатым интегралом, тайным узором, языческим знаком, космическим символом, приращением мысли.
Все явилось душой, вечной, единой на бесконечное нечеловеческое пространство. Она отбирала от синтетической пыли и помещала в центр матового озера, электрического неба, туманного созвездия.
…Он вошел в низкую галерею из фиолетового льда, уходящую гулким лабиринтом, аэродинамическим туннелем в застывшую темноту. Был дух-красота, но не было тепла, не было запаха, не было слова. Прошу слова, сказал Роман, потерявший белковое тело, пластилиновым языком.
Взошла задумчивая температурная пауза, седой сталактит, оживленный озвученным бликом, иронично блеснул побежавшей слезой, и мысль- Капля, лишившись розовой талии, упала хрустальным шариком на зеркальный, подсвеченный невидимой рампой пол.
— Ин-нннннн!.. — малиново зазвенело после первого, высокого отскока, нга! — нга! — га! — га-га-а-а…
Покатившись в рокотном гуле, Капля достигла края тоннеля и упала, отсчитав девять немых этажей, вниз, на мраморные тротуарные клавиши, отчетливо пробежала по ним, издавая звуки, — звуки медленно собирались в гармонические трезвучия, аккорды. «До-мажор», — заглядывая за бордюр и вслушиваясь, считывал Роман, — «ля-мажор… Мажор…мажор!» — нечеловеческое пространство развернуло свою нижнюю плоскость и понеслось навстречу Роману. — «Все?..» — успел подумать Роман, прежде чем почувствовал удар.
Его нашли мальчишки в солнечный полдень следующего дня едва живого, с разбитой головой, девятью этажами выше земли — на той же, парящей от теплого бетона, крыше…
Роман спустился с больничного крыльца, зажмурился от слепящего утреннего солнца, остановился, запрокинул голову и потянул в себя свежий, еще морозный, но уже весенний воздух. Поводил плечами, заново примеряя родную, неказенную одежду и сделал первый, сразу же уверенный шаг. Идти было недалеко. Скоро миновав два квартала, он вошел в старый интернатовский парк и, не боясь испачкаться, сел на первую попавшуюся, заледенелую, уже местами мокрую, с прилипшими прошлогодними листьями скамейку возле качелей.
Через час, когда прозвенел звонок на обед, он встал и быстро подошел к побежавшей было рыжей егозе, поймал ее за потертый рукав драповой униформы.
Летом, в частной мастерской, расположившейся в маленьком дворике кладбищенской часовни, он заказал надгробье с короткой надписью: «Капельке (Инге) от Романа и Клавиши». Огромный бородатый мастер, весь в каменной крошке, переспросил, разглядывая эскиз: в аккурат так — псевдоним в титуле, имя в скобках и так дальше в том же духе? без дат? Ни крестика, ни звездочки? Пожал плечами: нет-нет, ничего, как скажешь, командир, твои дела. Показывая, что не имеет больше вопросов, сложил бумагу вчетверо, сунул в нагрудный карман.
— Ну, а там кто у нас прячется, — спросил мастер, вставая, широко улыбаясь и заглядывая за спину серьезного клиента, — что за рыжик? Ух ты, огненная! А глаза-то, глаза — богиня! Где у меня здесь конфета была? — И полез в карман, привычно стряхивая с фартука мраморную пыль.




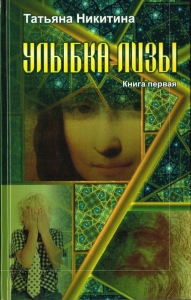


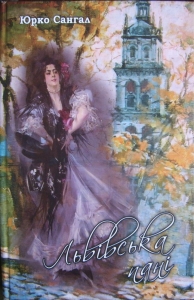
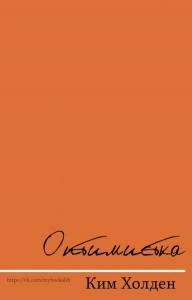


Комментарии к книге «Черный доктор», Леонид Васильевич Нетребо
Всего 0 комментариев