Леонид Нетребо БЕЛЫЙ ВАХТЁР
Автоматчик, в раме лобового окна микроавтобуса, — как супермен в экране широкоформатного кино. Решительно указывает коротким стволом в землю, — стой. Замечаю — от вагона, живым коридором, две цепи вооруженных милиционеров. Собаки на поводках. Заключенных по одному прогоняют от автобуса до вагона. Быстрей-быстрей, почти бегом. Передо мной «столыпинский» вагон — так до сих пор называют эти камеры на колесах для перевозки осужденных.
Случайная находка для будущего триллера. Будет зачином, если захотеть. Измыслить конец, — и дело почти сделано. Почти. Ведь «фарш» для меня, — уже не проблема. «Фарш!..» — Подумал и содрогнулся.
«Если захотеть!..» — но ничего не хочется.
За рулем я никогда не одеваю темных очков, стараюсь не разговаривать, не включаю радио. Меня все отвлекает, мешает следить за дорогой, реагировать на обстановку. (Жена говорит, со мной неинтересно ездить.) Но сегодня настроение отвратительное, поэтому я включил радио. Хочется, как раз-таки, отвлечься и… — врезаться в какой-нибудь столб или авторефрижератор. Или перевернуться на повороте. Сегодня я веду микроавтобус, полный мерзости, гадости… Не хватает слов.
Жена постоянно упрекала: «Вечно ты со своими синонимами! Десяток слов переберешь для любого пустяка. Говори лаконично, как в своих повестях, эссе и что у тебя там еще!..»
«Которое ты никогда не читаешь, — хотелось оборвать. — Знала бы ты, из какого мусора вырастает эта чудесная ягода — лаконика!» (Справедливости ради, — она права, я мучаюсь с синонимами, особенно в названиях своих опусов, а выбираю, как правило, какую-нибудь пошлость).
Впрочем, кому она была нужна, моя литературная ягода! Которая, большей частью, без сахара публикаций, прокисала в редакционных и издательских архивах.
«Неплохо… Местами даже очень. Заметно, что вы много уделяете стилю. Похвально, вас ни с кем не спутаешь. Порой кажется, вы пишете не прозу даже, а… где-то на границе прозы и поэзии. Что ж, ваше право. И темы, главное темы. Все о добром и вечном. „Капли на сучьях“, „Тихая река“, „Летели дикие гуси“. Хорошо. Очень, очень оригинально. Но… Вот если бы что-нибудь остренького, актуального, читабельного… Попробуете? Вы знаете, нашу направленность. Вы сможете, сможете, мы не сомневаемся! А по поводу этого — зайдите через… Или нет, лучше оставьте телефон».
За многие лета кропотливого труда — несколько журнальных публикаций, которые потом вспоминаешь к месту и не к месту, желая подчеркнуть свою авторскую значимость. Да еще несколько сюжетных, философских, стилистических находок, которые позже обнаруживаешь, почему-то, у других авторов — сотрудников редакций, куда отправлялись рукописи с находками-изюминками, или у друзей сотрудников названных редакций.
Ненавижу слово «читабельность»! Сколько бездарей эта… серая дама, скажем так, вознесла на вершину — сиюминутной, дутой, конечно, но — славы. И Бог бы с ними, бездарями. Но сколько талантов, благодаря покорному следованию ей, остались бесцветными ремесленниками, производителями добротных текстов, которые не задержались в памяти истории!
М-да. Эссе? Не смешно. Пасмурно, как в небе. Где-то сбоку сверкнула молния, рокотнул дальний гром. Капля упала на стекло и криво побежала вниз, застряв и размазавшись на середине еще сухого стекла. А с утра было ясно.
А из динамиков чуть слышно, шумовым фоном, — то новости, то музыка по заявкам.
…А рядом, на сиденье, во все свое скрипучее горло, клевещет на мир мужеподобная дама, отвлекая от руля и дороги, — как мы до сих пор не разбились!..
Сын днями напролет сидит за компьютером, яростно орудуя джойстиком, подскакивает на стуле, скрипит зубами, вскрикивает. Борется с монстрами, свергает правительства, побеждает или проигрывает глобальные войны. А когда-то, едва научившись писать, строчил «романы» — бесконечные истории о приключениях добрых героев, разумеется, похожих на персонажей книжных и мультиковых сказок. Накопилось несколько толстых папок, благодаря папиной опрятности: тетрадки и отдельные листы аккуратно сшивались и теперь хранятся в архиве рядом с моими рукописями.
Недавно я сказал ему: ты просто убиваешь время, а ведь скоро предстоит серьезный выбор — кем быть. У тебя природные задатки к эпистолярному творчеству. Давай разбудим природу, пользуйся тем, что я рядом. Литфак, журфак… Как он на меня посмотрел!.. Нет, таким «ответом» он не оборвал меня — просто убил, как очередную букашку в компьютерном боевике. А ведь только глянул — и опять ушел в киберпространство. Я пытался позже описать тот мимический выстрел: гримаса навскидку, точно наведенная оптическим прицелом чужих (чужих!) глаз. Но точно передать саму гримасу, — а для этого нужно сначала разложить ее на составляющие: презрение, осуждение, жалость, боль…, — нет, сделать это в точности так и не удалось.
Через несколько дней сын сам вернулся к разговору о будущей профессии:
— «Золотой ключик» производит набор в свой так называемый «спецконтингент». Не знаю, что это такое, но говорят, там будут готовить универсальных специалистов. От рукопашного боя и стрельбы до знания иностранных языков и компьютера. Я уже прошел первые тесты — физический и психологический…
…Всю жизнь я пытался стать ему родным. Чего-то я, несомненно, достиг в этих попытках. Хоть до сих пор не оценил, чего.
Я помню, как он, еще совсем маленький, вскакивал среди ночи: резко отрывал лицо от подушки, выгибаясь, как кошка, — проверял, на месте ли его мама, не унес ли ее чужой дядя, то есть я. В этой кошачьей гибкости, в быстроте движений, в тревожном взгляде темных глаз, — и еще во многом другом, что было не присуще моей породе, я прочитывал не только облик его отца, которого никогда не видел, не только великую разницу этого мальчика со мной, но и его глубокое недоверие ко мне. И — следственно? — к своей матери, несмотря на их взаимную любовь. Недоверие, которое никогда не исчезало, пока он взрослел, даже когда перестал поминать настоящего отца, даже когда стал называть меня папой. Я надеялся, что с появлением братика или сестренки, я окончательно породнюсь с ним, если это невозможно через нашу общую любовь к одной женщине: к его маме — к моей жене. Но… Проходили годы, а спасительный атрибут родства все не появлялся. За что мы все трое (и я в наибольшей степени) были наказаны? Уже много лет, как я гоню от себя надежду, которая только отнимает последние радости, — находя утешение в творчестве. Вот, оказывается, из таких печалей вырастают графоманы, терзая мир своими творениями (талантливыми или бесталанными — не суть важно), рабы своих кручин.
Но в одном, к моей радости (какой-то вымученной, суррогатной), сын все же удался в меня: он пытался писать. Я не верю, что любовь может нарушить законы генетики. Скорее всего, его «порок» — плод подражания мне или какое-то хромосомное «ау» творческих предков, и все же созидательные порывы питомца мне приятны. Кстати, насколько, в связи с этим (логические пути неисповедимы), на взгляд моей жены, ее первый муж присутствовал среди нас? Но на подобные разговоры в нашей семье — изначальное и полное табу.
Мне позволяется вспоминать и обсуждать только то, что касается нас троих «непосредственно», как однажды, очень давно, первый и последний раз, сказала моя жена. Хотя на самом деле нас троих касается все — и то, что было после первой нашей встречи и то, что было до нее и помимо нее. И все это, если говорить о моем восприятии нашей, так сказать, истории, поэтично. Поэпроза, проэзия…
«…Срочное сообщение! Чрезвычайное происшествие! Горит центральный офис „Золотого ключика“!.. Пожар начался после удара молнии, как утверждают очевидцы. Наша студия буквально тонет в шквале телефонных звонков… Говорят, перед молнией над офисом на несколько секунд завис какой-то неопознанный объект, похожий на самолет или дельтаплан. Здесь мнения расходятся… Пламя перебрасывается на производственные помещения, горят склады!.. Удастся ли спасти „Золотой ключик“?..»
О!.. — (это кричу я). На помощь! На помощь все словари! Все синонимы слову «радость»!.. Сюда, в этот мерзкий микроавтобус с эмблемой «Золотого ключика» — на лобовом стекле, на боках и даже на крыше!..
Последние разговоры с сыном, более чем все предыдущие намеки жены, окончательно убедили меня: я неудачник, несостоявшийся литератор с завышенным самомнением. Мне сорок. Все продуктивные годы ушли не на карьеру по «основному» месту работы, не на воспитание ребенка, а на бесплодный литературный труд: ворох рукописей — несколько вещей в журналах и ни одной изданной книги. Гора, двадцатилетней беременности, родила мышь.
Нужно, наконец, определиться: задать вопрос и получить ответ. Вопрос, в принципе, таков: что есть мое творчество — необходимость окружающих или самоудовлетворение? Если второе, то я должен сказать себе: это твое хобби, пиши и наслаждайся, но не мучай себя и мир — и в первую очередь своих близких — попытками публиковаться и быть понятым и признанным. Что-то в этом роде.
Я послал рукопись со своими лучшими, на автовзгляд, вещами, большая часть которых в разные годы прошла через горнила журнальных редактур и, соответственно, публикаций, в комиссию по издательской деятельности мэрии нашего города. В сопроводительной записке я рассказал о себе, как об авторе, все. То есть не только о том, что и когда написал, где печатался, но и о тех материальных и нравственных тупиках, в которых неизбежно оказывается каждый провинциальный писатель, не желающий «творить» под заказ или заниматься изготовлением чтива, которое не является литературой. О том, что еще немного, и от литературы, вообще от искусства, не останется ничего, — и как же тогда быть с воспитанием молодого поколения, кто будет указывать моральные ориентиры, сеять доброе, отсутствие которого со временем станет прямой угрозой государственной безопасности?.. Не забыл я написать и о том, что вполне понимаю трудности бюджета, который небезразмерен, который, конечно, в главную очередь, служит для удовлетворения первейших нужд населения, и все же… И тому подобное, как обычно. Словом, я просил денег на книгу.
Мне позвонили, но не из мэрии, а из… «Золотого ключика».
Сейчас даже смешно вспомнить: «Золотой ключик» берет свое начало с невзрачного кооператива по изготовлению дубликатов ключей, который еле сводил концы с концами ввиду наличия в городе еще нескольких подобных лавочек-конкурентов, расположенных гораздо ближе к центру. Эмблемой маленького предприятия, совершенно логично, был улыбчивый Буратино, с огромным, больше самого сказочного героя, золотым ключом наперевес от волшебной, разумелось, двери. Однако уже тогда поговаривали, что услугами ключной мастерской в городском предместье пользуются не только добропорядочные граждане, но и «явно темные» личности. Такие выводы делались на основании слухов о том, что в «Ключике» можно было заказать копию ключа не только по оригиналу, но и по восковому или пластилиновому слепку. Кто-то видел, как клиенту выдавалась связка странных крючков, похожих на отмычки. Якобы «Золотой ключик» пользовался популярностью у преступного мира, который со временем стал вкладывать в выгодное дело свои капиталы и заботливо расчищать дорогу их быстрому умножению.
Так или иначе, но предприятие быстро, прямо-таки фантастически расширялось, без видимой борьбы поглотив все действовавшие в городе частные фирмы схожего профиля. Несмотря на монополию, росли ассортимент и объемы — спрос рождал предложение.
Официальный реестр услуг, оказываемых акционерным обществом «Золотой ключик», впечатлял уже несколько лет назад: изготовление замков и металлических дверей собственной конструкции, установка систем охранной сигнализации, теленаблюдения, противоугонных устройств, страховка, адвокатские услуги и тому подобное. Со временем под цеха и офис были выкуплена престижная пригородная земля. Вырос сказочный замок, сложенный из разноцветных треугольников и трапеций, конусов и пирамид, и огороженный оранжевым пластиковым забором. Который как бы не отделял чудо от мира, а лишь добавлял тревожной таинственности архитектурному ансамблю, прозванному добродушным народом: «Кто в тереме живет?» Но при этом — классические решетки на окнах! На шпиле самого высокого из куполов, имевшего вид вздыбленного кверху серебряного засова от сказочной двери, закрасовался Золотой Ключ, выполненный под флюгер. Архитектурное излишество, на первый взгляд безвкусное или даже просто нелепое. Чрезмерная символика. Но в том, по моему мнению, дальний прицел и глубокий смысл: «Ключ» — отмычка ко всему, и он сам показывает ветру, куда дуть. Впрочем, такое толкование зодческих знаков, которые, надо признать, поначалу и не подозревались мною какими-либо скрытыми символами, появилось уже после того, как стала понятна паучья суть «Золотого ключика»…
Карта нашего города, схематично, мало чем отличается от карт других городов. Жилое тело, расчлененное большими и мелкими дорогами, каналами, речкой, — ячейки микрорайонов в сетке улиц и переулков. На фото-взгляд — кусок паутины, распластанный по стене. Именно эту «паутину» — незамысловатую контурную географию города, в качестве патриотической подложки, — использовал «Золотой ключик» для обновления своей эмблемы, после того как стал воистину вездесущ: Золотой Ключ, сам по себе (без глупого Буратино), — на лоскуте красных покорных тенет. Получилось, в свете событий последних лет, несколько высокомерно и зловеще. Впрочем, это мое частное мнение. Которое, смею утверждать, имеет вполне реальные основания и вряд ли сильно смазано моим пессимизмом, — кстати, не врожденным, а обусловленным, то есть со знаком плюс.
Обезличенное руководство «Золотого ключика», которое, по официальной версии, представляло собой десяток акционеров, каждый год выталкивало на обозрение нового генерального директора. Имя этого очередного Буратино (моя трактовка) какое-то время мелькало в телевизионных и газетных новостях. Проходил год, и все повторялось: городской мир, не привыкнув к предыдущему имени, получал для пережевывания имя следующее. Я давно уловил, что это не есть результат организационно-кадровых неувязок. Это вполне осознанная политика, постулат господства: разделяй и властвуй, — своеобразная версия. Расфокусировав внимание, можно раздвоить, растроить, раздесятерить сознание. Шизофрения общества — благодатный гумус для диктаторского ростка. Ассоциативное восприятие «Золотого ключика» — не одушевленный лидер, а всесильный Золотой Паук, попирающий живую паутину — покоренную систему ячеек, не смеющих быть самостоятельными.
Эка меня понесло! Не перегибаю ли я палку? Еще недавно я не был столь категоричен. Но сейчас, однозначно, — нет, не перегибаю. Скорее не договариваю — единственно потому, что не хочу домыслами компенсировать незнание. Но и то, что я узнал, — уже отвратительно и страшно.
Один из основных лозунгов «Золотого ключика»: «Все для человека!» В настоящее время трудно придумать вид услуги, которую не выполняет «Золотой ключик» в сфере защиты личности. Да, именно так. Теперь уже мало кто вспоминает, что коренное назначение «ключика» — открывать. Наш «Золотой ключик» — закрывает. По моему сильному убеждению, закрывает человека от человека. Защита личности, возведенная в абсурд. Разумеется, не во благо конкретного индивида, а единственно во имя процветания фирмы.
…Наш город забронировался от реальных, а больше мнимых врагов: двери, которые исторически воспринимались как изделие из дерева, за очень короткое время зажелезнели; решетки теперь ставят и на окнах третьих этажей, а недавно редкостью были на первых. «Золотой ключик» занимается частными сыском и охраной, оказывает адвокатские услуги, производит и реализует системы слежения, подслушивающие устройства… Какие мы были беспечные! Оказывается, вокруг одни воры, грабители, убийцы. На худой конец — недоброжелательные соседи и неверные супруги. Дети, спящие и думающие о том, как быстрее заполучить наследство. Родители, намеревающиеся как можно меньше наследства оставить своим потомкам… И прочее, и прочее. Спасибо «Золотому ключику»!
Какими цитатами сдабривает свою рекламу «Золотой ключик»?
«Без забора, без запора не уйдешь от вора!»
«Изба крепка запором, а двор забором!»
Ужас! — мы, горожане, стали бояться друг друга… Мне кажется, все кругом, благодаря «Ключику», сошли с ума. Мне иногда хочется выйти на центральную площадь и крикнуть во все горло: «Люди, опомнитесь, это не „Золотой“, а „Злой ключик“!»
Но… я живой человек. И, превозмогая отвращение и… страх (чего уж там!), я прибыл в указанный кабинет. Ради книги — иначе, зачем меня сюда вызвали! — я был готов потерпеть. Самая влиятельная фирма — и самый щедрый спонсор различных городских мероприятий. Этого, при всей моей антипатии, не признать было невозможно. Другое дело, что сам бы я никогда не стал просить у этого монстра, спекулирующего на недоверии людей друг к другу. Нельзя сказать, что я ликовал, но шел я… не совсем просящим (ведь просьба моя адресовалась другой, номинальной власти!) Как произошла переадресовка, уже не существенно. Важно, что мной заинтересовались. Таким образом, нежданно, я оказался диктующей стороной. Хотя, что и как бы я мог диктовать, не представлялось даже моей «авторской» фантазии. Просто я храбрился, и, скорее всего от страха, напускал на себя значимость и независимость.
Это было одно из представительств «Золотого ключика» в центре города. Заметил, что двери офиса лишь на главном входе тяжелы и основательны, видимо, для рекламы. Внутри помещения они оказались прямо-таки незаметными: прозрачные створки открывались от приближения к ним человека, — все, как положено в приличных домах. Решетки на окнах… — муляж (достоверный рисунок на стекле). Улыбчивый персонал. Тем не менее, положительность открытий портилась ощущением большого обмана, творимого давно и осознанно.
Хозяин кабинета — невзрачный лысеющий мужчина в непроницаемых очках. Его согбенность и шаркающая походка, как будто он был обут в комнатные тапочки, создавали впечатление домашности. В конце концов, мне надоела моя напряженность и подозрительность. Я немного отпустил вожжи, и почти успокоился. Хотя мои ощущения оставались все-таки далеки от ладных.
В самой беседе изначально угнетало то, что внешне вполне уютный, в преобладающей мере, человек, который со мной говорил, был, по сути, безглазым. Это его сразу охарактеризовало соответствующим образом: он с закрытым забралом. Оценивая, я понимал при этом, что мои соображения с одной стороны наивны (никто никому не обязан по части забрала), а с другой — нетактичны (очки, в данном случае, — скорее всего медицинский элемент). Но объективность — слабая сторона творческой личности! Он мне просто не нравился.
Да и кому понравиться услышать от ровесника в первых словах: «Молодой человек!..» Именно так он и обратился ко мне. Либо в этом была указка на барьер между нами и на мою нижнюю ступеньку, с которой мне предстояло внимать в данном случае хозяину положения, — либо мой «творческий» вид (каковой, например, имеют уличные художники) не согласовывался с возрастной солидностью (действительно: писатель без книги, в терминологии редакторов, — всегда молодой автор!) Оба варианта неприятны.
— …Да, молодой человек, они всего лишь поденщики, бумагомаратели, не побоюсь этих слов! Впрочем, я не хотел бы обидеть никого из ваших коллег, люди они, вероятно, добрые. Опять же, не могу без справедливой оценки: какие они вам коллеги! Да, они трудятся в газетенках. Да, они печатаются в разных, извините, «желтых», или как вы их меж себя называете, изданиях. Они пишут книжонки к юбилеям местных фирм и персон — по дешевому заказу, содрогаясь в похвалах, гиперболируя до неузнаваемости события, лица и прочее. Настрочили ли они что-нибудь значимое? Нет, серьезность у них отсутствует: не то, что в рукописях — в замыслах! Можно ли им доверить солидное дело, без сомнения в том, что оно не будет безнадежно испорчено, и принесет не прибыль, а вред? Ответ, надеюсь, понятен.
Вы — другое дело. Мы следим за Вашим творчеством. Да, да, не удивляйтесь. Мы с вами — инженеры. Вы — инженер душ, мы… — тоже. Вы думаете, я шучу? Нет, для таких пустяков мы к себе не приглашаем.
Далее он сформулировал суть «инженерии» «Золотого ключика», который лишь дополнил мои ранние выводы, вывернув наизнанку суть, генеральный принцип методов «буратин», благодаря которому им удалось закабалить город и всю прилегающую провинцию. И щупальца железного монстра уже точатся под новые масштабы!
…Итак, Буратино… Кстати, а как я еще мог его про себя наречь? В начале беседы он представился, но я не запомнил его имени. Конечно, это Буратино, наверняка, один из генеральных директоров — прошлых или будущих, серое, безликое существо среднего рода, прикрывающее лицо очковой заслонкой. (А то, что у него отсутствовал нос характерной формы и размера, показалось мне оскорбительным для известной сказки, в которой продуктивно творил носатый свободоискатель, любимый герой людей «сказочного» возраста и духа.) Итак, Буратино подошло (вот так ему!) — подошло к стеклянному шкафу, сняло с полки том, открыло его на закладке, заводило пальцем по строчкам:
— Вот: «СТРАХ — страсть, боязнь, робость, сильное опасенье, тревожное состоянье души от испуга, от грозящего или воображаемого бедствия». И поговорочки, заметьте: «У страха глаза велики, да ничего не видят», «Жить страшнее, чем умереть», «В ком есть страх, в том есть и Бог»… Ведь как верно! А вот, прошу запомнить, как концептуальное: «Черт стращает, а Бог милует». Не устаю поражаться: все же великая мудрость заключена… (заметьте — «заключена»!) в… Ну, да ладно, к чему лишние слова! Да, и вот еще из памяти, пока не забылось: «Ключника нет, так и не монастырь». Довольно. Хватит дидактичности — вы умный человек, и все прекрасно поняли. «Плата за страх» — это не мы придумали, мы не пророки, э… — попугаи, так точнее. Но попугаи-новаторы! Итак, — в больших, грубых приближениях, — вы будете Чертом, а мы, соответственно…
Куда уж Фаусту до меня! Ведь мне предстояло не просто продать душу, а стать самим… властителем испуганных душ!..
Тут я, удивляясь тому, что впервые за добрый час молвлю слово, вставил:
— А как же быть с выражением: «Не сохранит Господь града, — не сохранят ни стража, ни ограда»?
Казалось, Буратино совершенно не обратил на это никакого внимания:
— …Писатели от Бога… Извините за частое упоминание мистических атрибутов. Так вот, таковые писатели, в большей или меньшей степени, — пророки. Взять хотя бы великих писателей-фантастов… Я слишком разжевываю, вам не кажется? Даже неловко перед умным человеком. К делу. Ваша задача смоделировать ситуацию, проистекающую из человеческой беспечности, имеющую ужасный конец. Это альфа и омега фабулы, которую вы сами придумаете и набьете соответствующим фаршем. Ваша эпистолярная вещь должна потрясти читателей. Вселить в них невероятный ужас. Заметьте: невероятный, то есть, по их понятиям, на момент прочтения, еще не реальный, почти сказочный, гипотетичный. Возможный, — но где-то там, далеко, не у нас, не у них, читателей. Причем, эта вещь, я настойчиво повторяю, должна быть высокохудожественна. Именно за счет этих качеств что-то останется, и в… соответствующий момент — вспомнится: а ведь писателем сие было предсказано! Такое открытие усилит трепет. Уверен, что в вашем мозгу возник расплывчатый и затасканный образ Нострадамуса… Которого так любят псевдо-предсказатели, и все время подгоняют под событие. У нас же будет наоборот: вот текст, предшествующий событию, где черным по белому… А вот событие, которое, оказывается, совсем не сказка… Это будет честно. Что может быть сильнее высокохудожественной честности? Честности-предтече! Че-че!.. И вот после этого… Хм… Это будет двойной удар. Словом, дальше — уже технические дела, наши проблемы. Ведь в данное неспокойное время непременно что-нибудь да случается. И это совпадение будет тем, что нам нужно.
Буратино, при всей его явной проницательности и напускной рассеянности, — которая, вероятно, имела целью расслабить собеседника, вызвав к себе чувство снисходительности, — кое в чем был действительно беспечным. Начиная лишнюю фразу, которая предназначалась для смазки череды мыслей, а отнюдь не для собеседника, и при этом не договаривая, он полагал, что все непонятное от недосказанности не настораживает собеседника и забывается за ненадобностью, как словесная шелуха. Возможно, это было его слабым местом. Что касается нашего разговора, то, хотя я и не поддался на провоцируемую снисходительность, меня действительно не насторожили слова о двойных ударах, «технических делах». Однако эти фразы, осев на дно памяти, всплыли в более позднее время, когда пришел их срок, но когда было уже поздно.
А может быть, это я сейчас, намеренно, для собственного оправдания, обманываю себя тем, что тогда, якобы, ни разу тень ужасной догадки не осенила моего разума. Возможно, — ведь тогда были основания прикидываться слепым и глухим к двусмысленным недоговорам! Ведь со словами и с их интонацией, по которой можно было догадаться, что меня уже восприняли как серьезного писателя, — со всем этим открывались радужные перспективы, понять вдохновляющую сладость которых может лишь автор, не избалованный вниманием издательств и читателя.
…Бог и Черт, и Нострадамус с ними, нравственными аспектами моей временной сделки с Золотым Пауком! Я уже понимал, что от меня ждут книги — большой повести, романа, — которую «Золотой ключик» обернет в дорогую обложку. После этого я стану известен, как писатель, и богат, как писатель известный, популярный. Это будет блистательным трамплином для грядущего творчества, для реализации замыслов всей прожитой жизни. Я уже витал в небесах. Да, конечно, в тот момент я был готов на все. С каким негодованием я раньше рассуждал о продажных писаках! А в те, уже продуктивные, минуты общения с Буратино мысль о продажности если и возникала, то каким-то наивным детским воспоминанием, к которому относишься снисходительно в зрелости.
Но ведь кое с чем из выкладок Буратино трудно было не согласиться, трудно не согласиться даже сейчас.
— …Молодой человек! Что объединяет сообщество людей — страну, мегаполис, город, — любой коллектив? Самый короткий путь единения — наличие опасности. Вспомните истории возникновения великих империй!.. — здесь Буратино картинно осекся. — Я удивляюсь, почему вы не морщитесь от произносимых мной банальностей. Буду короче.
— Вы, вероятно, заметили, что за последние годы наш город буквально расцвел. Посмотрите на нашу архитектуру: новые здания и возрожденная старина, роскошный проспект, еще недавно бывший обшарпанной улицей, похожей на проезжий тракт с дешевыми забегаловками!.. Театр, имея отличную труппу, «выписанную» из художественных центров, принимает отечественных и иностранных артистов самого высокого уровня… Университет, колледжи… И так далее. Словом, инфраструктура нашего города приближается к самодостаточности! Кстати, подобного уровня жизни нет, как вы, наверное, знаете, ни у одного соседнего с нами города. Наш город стал престижным! Из каких закромов обеспечивается все это? Из средств муниципалитета? Я понял, что вам смешно, но, прошу вас, молчите, я сам произнесу то, что вертится у вас на языке: благолепие творит «Золотой ключик»! Не только плательщик огромных налогов, но и бескорыстный спонсор, меценат, генератор идей и трудяга-зодчий всех воплощений.
Он перевел дух, утер платочком губы, продолжил:
— Так, а в чем же, по большому счету, источник? Он, молодой человек, в страхе. Да, да. Слеплю образ, как ваш брат любит выражаться, — топорно, но зримо. Итак, для того, чтобы надежно запереться от всех зол, нужны крепкие двери с прочными замками. На это необходимы деньги и немалые. Для того, чтобы их получить, — нужно много зарабатывать, то есть лучше трудиться (не будем про выродков, которые становятся на противозаконный путь, — хотя это наш, увы, непременный материал). Итог: все трудятся с полной отдачей — растет общее благосостояние. Работает так называемый закон прибавочной стоимости. Мне скажут, что нет такого закона. Отмахнусь. Есть такой закон. На одном котором, замечу, далеко не уедешь. Для дальнейшего процветания и влияния (на благо основного дела) нужны внешние ресурсы, внешние источники. Они есть, но их, по терминологии добытчиков полезных ископаемых, с которыми нашему муниципалитету не повезло, нужно разрабатывать. Именно этим мы сейчас занимаемся. И вы нам в этом… Скажу точнее: вы один из нас.
Вот так. Выяснилось, что «разрабатывать» предстоит вешнюю среду — соседние города. Организационные основы для этого уже имеются, создано несколько филиалов «Золотого ключика» в местностях за сто и более километров от нашего любимого города, который жаждет дальнейшего процветания. Но спрос на «замково-ключные» услуги там пока вял. Нужна идеологическая обработка, которая уже началась, и я, как меня уверили, буду важным инструментом обрабатывающего механизма.
Все мои сомнения с поспешной готовностью спрятались за мой патриотизм. В конце концов, мне не нужно совершать никакого преступления. Я лишь должен написать литературное произведение. Постараюсь, чтобы оно не было «желтым», «бульварным» и тому подобным. В нем непременно будет светлое начало, любовь… Разумеется, — добро и зло. Увы, не обойтись без плохого конца, но плохого — в сюжетном плане, а не в плане авторской позиции. Ведь победа добра, если в этом цель художественного произведения (иного я не представляю), — в сопереживании добру, в осуждении зла. Я не иду на сделку с совестью, я остаюсь самим собой.
Так я себя заранее оправдал. И согласился в принципе. Мы договорились, что я позвоню завтра, чтобы дать окончательный ответ.
— Да, — остановил меня Буратино у самой двери, когда я собрался ретироваться, — чуть не забыл. Ваша рукопись, с прекрасными рассказами и повестями, у меня. Разумеется, это будет издано книгой, и не только. Мы сами, с вашего позволения, поработаем с издательствами. Вы ничего не хотите добавить туда, к тому, что уже написали?.. — Он многозначительно посмотрел на меня, необычно для всей нашей беседы: боком, из-за очков, так, что был виден угол его глаза, в котором не было ничего бесовского — ни пламени, ни искры. Здесь мне показалось, что он действительно близорук. Захотелось подойти и крепко пожать ему руку, от всей души.
— Конечно, хочу, — сказал я. — Слова благодарности меценату, «Золотому ключику».
Он кивнул головой:
— Будем считать, что это уже и есть начало вашего окончательного ответа.
Он не переставал кривить губы, хотя то была уже не улыбка.
Он протянул мне руку и, показалось, что при этом излишне вывернул ладонь тыльной стороной вверх, как для поцелуя, поэтому мне пришлось подхватывать ее снизу и трясти с неправдоподобным усердием. Итак, я допущен к руке.
Домашние встретили меня у порога. Надо же, даже сын вышел встречать, оторвался от своего компьютера. Последнее время он подключился к Интернету и ушел в него, как мне кажется, не только с головой, но и с ногами. Жена и сын смотрели на меня с каким-то странным ожиданием. Я расшифровал толику тревожности в их взглядах по-своему (возможно, неправильно): всякий контакт с «Золотым ключиком» не мог не веять опасностью. От этой расшифровки засосало под ложечкой. Кто его знает, возможно, вот эти глаза самых близких мне людей и окажутся той упрекающей и предупреждающей картинкой из прошлого, которая будет стоять в будущем перед глазами? Но я отогнал чувства, призвав на помощь разум. В конце концов, сколько можно полагаться на подкорку? Пора взрослеть! Вывод показался мне не убедительным, но все же я успокоился и, когда наступила ночь, быстро и крепко заснул.
…Открываю глаза. Сумерки. Оглядываюсь, — я спал сидя? Оказывается, я за что-то крепко держусь, за какую-то толстую перекладину… Но почему — ногами? Наверное, потому, что руками не за что взяться. Так и есть: едва я поднимаю ищущие руки, как теряю равновесие. Явно, что это не то место, где я заснул. Изображение плывет, потом становятся понятны очертания каких-то некомнатных, точнее, неземных вещей. Вокруг колышется пространство, какое-то марево неявных предметов. Сверху — серый купол. Это небо. Блеклые предутренние небеса. Я почти на вершине высоченного дерева, голого — без листьев и даже без коры. Мои ступни безобразно обхватывают толстый сук. Как мне удается балансировать, как я не упал во сне! Кажется, мои движения, вернее, статические усилия не принадлежат разуму, они подчинены какому-то животному инстинкту, который проснулся во мне и управляет, сохраняя мне жизнь в таком нечеловеческом состоянии. Становится невыносимо жутко на этом неживом дереве, легче пасть на землю и умереть, чем терпеть унизительный страх. Сейчас я избавлюсь от унижения.
Пружинисто встаю, расправляю руки, разжимаю ступни и подаюсь грудью вперед, земное притяжение понесло меня вниз. Я умру птицей, несколько быстрых секунд у меня не будет страха, он остался на белом суку, обглоданном смертью.
Но — странное. Руки, ставшие сильными, режут воздух, как масло. Воздушные струи осязаемы и даже видны, я выворачиваю ладони и… взмываю вверх! Пробую оттолкнуться от плотных потоков — и, опять чудо! — поднимаюсь еще выше. Я стал птицей!.. Теперь, когда я парю в вышине (на самом деле медленно, большой спиралью, плыву к земле), я могу оглядеть себя, насколько это возможно в сумеречном свете. Так и есть, у меня вместо рук — крылья; ноги — костыли с когтистыми лапами. Кто я? Орел? Чайка? Ворон? Что-то постоянно летит передо мной. Конечно, это длинный нос тонким конусом. Я — цапля, журавль, аист? Светает. Делаю несколько энергичных махов, и вот уже опять плыву над горами, лесами, реками, полями, поселениями людей. Прислушиваюсь к себе: каким будет мое наипервейшее желание, кроме удивленного любопытства к своему новому статусу? Куда я захочу приземлиться, чего возжелаю? Позовет ли меня болото, чтобы я полакомился лягушкой? Поле, — злаком или зазевавшимся грызуном? … Из этого можно будет сделать вывод, кто же я, что за птица.
И вот, наконец-то! Пролетая над поселением, я хочу сесть на крышу. И хочется мне!.. Мне хочется… ребенка. Может быть, я птица-женщина? От подобного предположения захватывает дух (справлюсь ли я, человек-мужчина, с такой сложной ролью?), — я опять теряю самообладание. Посадка, как я ни пассировал крыльями, получилась жесткой — удар лап о гребень кровли и громкий скрежет когтей по шиферу. Но вместе с этой встряской, извне, приходит успокоение: нет, твое перевоплощение не столь многозначно, просто ты — Белый Аист.
Утром, еще все спали, я сел за компьютер. Вознес пальцы над клавиатурой — и через минуту опустил их. Подобное бывает часто, — своеобразный ритуал (начало произведения: только мысли и пассы). Напишу ли сегодня хотя бы строчку? — не важно. Главное — творение началось.
Через несколько дней я уволился со своей инженерной работы и был зачислен в штат «Золотого ключика». Это было одним из технических условий нашего сотрудничества. Причем, такой вариант немедленно возник, как только я, давая принципиальное согласие, посетовал на свою занятость. Таким образом мне гарантировались условия для творчества. Меня оформили каким-то курьером, с высоким жалованьем и без конкретных обязанностей. В мое круглосуточное распоряжение отдавался грузовой микроавтобус, для этого под окнами моей квартиры был за одни сутки возведен легкий гараж. Раз-два в неделю, по вызову диспетчера, я обязан был приехать в центральный офис «Золотого ключика», получить какие-нибудь пакеты с документами, расписаться в журнале, отвезти груз в назначенное место, сдать, еще раз расписаться. В остальное время я мог использовать транспорт по своему усмотрению без ограничений. Признаться, насчет автомобиля, да еще микроавтобуса, — это было для меня, пожалуй, высшей неожиданностью. Мне напомнили известную фразу: «автомобиль — не роскошь, а средство передвижения». Конкретно для нашего случая — я, оказывается, не должен испытывать никаких бытовых (!) неудобств. Например, как мне простодушно объяснил Буратино, на микроавтобусе гораздо удобнее вывозить семью на уик-энд и прочее. Мне еще раз открылось богатство «Золотого ключика», обстоятельность подходов к рекламе и прочим атрибутам маркетинга, затратность всех, казалось бы, вторичных по отношению к основной деятельности, шагов. В частности, при всей ослепляющей меня искренней благодарности к спонсорам, я не мог не заметить следующее: то, что «популярный писатель», как меня сразу после оформления в штат прозвал Буратино, ездит на хорошей машине с эмблемой «Золотого ключика» (на боках и крыше), есть не что иное, как реклама соответствующему заведению.
Из всего следовало, что я им нужен долгосрочно, — видимо, поэтому такие траты. Причем, не в пресс-центре, где я выглядел бы придворным борзописцем, наймитом. Я должен быть номинально свободным художником, и в то же время, иметь отношение к «Золотому ключику». Значит, действующий заказ Буратин всего лишь первый, то есть не последний.
Еще одно подтверждение моим тактико-экономическим выводам относительно заведения — пример с «популярным писателем». Буквально через несколько дней после того, как нога графомана-неудачника (дань самокритике) коснулась порога «Золотого ключика», сразу несколько рассказов «провинциального таланта» (фраза в мой адрес из радиообозрения «Находки недели») были опубликованы в респектабельном центральном еженедельнике. Это было еще одной счастливой неожиданностью, еще одним сильным удивлением, после которого последовала череда событий уже ожидаемых, что ни коим образом не лишало их принадлежности к чудесному сну — как я только и мог характеризовать то, что со мной приключилось. («При-ключилось»!)
Все мои рассказы, эссе, повести из вышеназванной рукописи — буквально все, — в течение нескольких месяцев были россыпью опубликованы в региональных и центральных изданиях. Меня заметили, обо мне заговорили. Позже вышла моя отдельная книга «Озер голубые глаза», которая разошлась по близлежащим городам и попала там на полки всех книжных магазинов, во все библиотеки. В каждом из этих «окниженных» городов прошли достойные презентации, на которых главные редакторы местных журналов и газет подходили ко мне с бокалами и полуобъятиями: ну черкните и для нас чего-нибудь, не обижайте!.. У меня быстро появилось литературное имя. Разумеется, я понимал, что моя популярность, честнее, моя раскрутка, — один из этапов плана Буратино. Но именно об этом я старался не думать, внушая себе: тебя действительно признают, ты действительно литературный автор, настоящий писатель. Впрочем, до самогипноза дело не доходило за ненадобностью такового, потому как тщеславие имеет собственную убеждающую силу, рано или поздно перекрывающую всякие сомнения.
В это время я уже писал заказанную книгу.
Заказчик настаивал на привязке фабулы к нашей местности. Что ж, милости просим.
…Пожалуй, самый выдающийся из всей череды микрорайонов в нашем городе — новый микрорайон на холме. После того, как у «Золотого ключика» наладились настоящие дела, муниципалитет стал расширять пределы города. Так, была облагорожена одна из окраин — холмистый пустырь. Район, который вырос на этом месте, получил незамысловатое, но точное народное имя — Бугор. География Бугра была удачна для любителей панорамных красот. Ввиду существенной отдаленности этого нового района от более старых, с одной его стороны открывался шикарный вид сверху на старый город. Противоположная сторона имела свои преимущества, позволяя любоваться густым перелеском, четко ограниченным трассой, разбегающейся двумя клинками к другим городам.
Сбылась моя мечта — я получил возможность писать по ночам. Раньше такое могло случаться разве что в отпускной сезон. Что может быть лучше для творчества, чем свободная ночь — ночь, не утяжеленная заботами грядущего дня! Одна комната освобождена мне под кабинет, в котором установлен служебный компьютер. Здесь я нажимаю на бесшумные клавиши, бесшумно меряю шагами мою, ныне неприкосновенную, территорию. Иногда выхожу на кухню, чтобы вскипятить чаю, каждую чашку которого буду пить по часу, чуточными прихлебами между мыслей и строчек. Проходя через прихожую, в прозорах приоткрытых дверей, я вижу самых мне близких людей — жену и сына, спящих в своих комнатах.
Странное состояние моей творческой производительности — оно напрямую зависит от них, членов моей семьи. Когда они ходят где-то рядом, даже за плотно закрытой дверью, даже когда их совсем не слышно, — мне буквально не пишется, мне все мешает. Когда их нет дома, когда я абсолютно один (казалось бы, — вот оно желанное состояние!) — тот же результат: проходит время, мысли не идут, а те, которые все же приходят, не воплощаются в строчки (мне опять чего-то не хватает!). И только ночью, когда жена и сын спят, — когда я один и вместе с ними одновременно, — это и есть время моей наибольшей концентрации и подъема.
Каждый раз, когда я каким-то образом наблюдаю свою жену, особенно в минуты одухотворенного покоя или творческой активности, я непременно, поверхностно или глубоко — как позволяет ситуация, — вспоминаю нашу первую встречу. Возможно, в стиле поэпрозы, так как состояние, в котором меня посещает воспоминание, и есть подобное пограничье:
…Ее взгляд еще не ладит с обыденностью: возносится к вокзальным аркам, туманится… (Миражом? — эвкалиптовой бухтой в сиреневом закате, белым кораблем…)
…юг еще в ней: блестит кожа, местами подернутая серым пеплом, — только вчера здесь, на упругом и гладком, трудилось солнце, добывая соль из бисера морского электролита.
Полоска кожи, прикрытая золотым обручком — тайна. Несостоявшийся грех? его отсутствие? или?.. (Невинная белизна или порочный загар?) И кому позволено снять тривиальное золото с драгоценного перста — удивиться? смутиться? задохнуться? И существует ли он — раб? рогоносец? счастливчик? Временно ли, как приобретенная смуглость, это одиночество? Молодое, стройное, таящее уязвимость за ироничным прищуром раскосых глаз и уверенными движениями окольцованной ладони, отгоняющей наваждение (в образе звенящего комара).
Чудо растает — через час, когда объявят рейс.
Остановиться и забыть или, домыслив, забрать с собой — динамической картинкой, с правом бессовестного монтажа: плюсов, купюр, возвратов? В вопросе — блеф. Антитезы нет, и у тебя нет выбора. Одно в твоей власти — сделать снисходительную мину. И якобы «присвоить»: и черкать, лепить, склеивать куски, доводить до совершенства, чтобы потом выдать за свое — было, но было лень. А потому замри, но раскрой глаза. И покорно запоминай.
О, твое самолюбие задето!..
…Может быть, у тебя есть третий вариант?
Вариант пребывал в безнадежности: тогда она еще была любима своим первым и, как потом оказалось, не последним мужем. А я — последний? Один мудрствующий волокита рассказал мне в пору моей юной неопытности: бывает женщина, которая всю жизнь знает одного мужчину, но нет женщины, которая знала бы только двух. Почему я вспоминаю об этой философской мерзости пресыщенного, несчастного селадона только сейчас, когда сбываются мечты?
Повторюсь: что может быть сказочней тихой, спокойной — застывшей ночи! Мой прием прост. В картине ночной улицы я выжидаю паузу движений, и, если возможно, звуков. В конце концов, звук можно погасить усилием воли. Запоминаю, и ухожу к столу. Готова сцена. Которую теперь можно населить недостающими декорациями, героями, дать день, ночь, тепло, холод.
Смотрю на ночной город и завидую тем полуночникам, которые сейчас, возможно, взирают на аналогичные ночные красоты с домов на Бугре: там красивее, таинственнее, сказочнее. Моя зависть имеет прикладной характер. Ведь я пишу почти сказку. Во всяком случае, так история выглядит поначалу. В самом начале не хочется думать о плохом, что, согласно заказу, будет после…
…Их светлая квартира в рядовой многоэтажке окраинного микрорайона, с возвышенным названием Холм, открыта для друзей, здесь не смолкают музыка и смех. Их еще короткая совместная жизнь — продолжение скромной, но веселой свадьбы. Они — молодожены, чей медовый месяц столь долог, что уже измеряется годом. Но, в конце концов, эта астрономическая метаморфоза, которая, ввиду неиссякаемого счастья, могла продолжаться и более, все же была замечена ими. Но только тогда, когда тема рождения ребенка из беспечно-сладостной перспективы переросла в навязчиво-тревожный вопрос, ответ на который подло украден. И тогда затихла свадьба, закончился медовый срок.
Вечерами они стали уходить из дому. Бродили, как двое бездомных, по улицам, скверам, пустырям, вынужденно повторяя маршруты. Он, если это удавалось (у него плохо получалось скрывать настроение), рассказывал ей все свои детские истории. Но поскольку багаж приключений был невелик (заурядное благополучное детство!), а фантазия слаба, то истории повторялись, утрачивая и без того хилую интригу. Он чувствовал раздражение спутницы и умолкал. Иные прогулки проходили в безмолвии. Иногда, где-нибудь прямо на улице, на ее лице появлялись слезы, при этом она ссылалась то на зубную боль, то на соринку, невесть откуда взявшуюся в глазу, когда безветрие, просто мертвый штиль. Она капризно стучала каблучками по асфальту: ну откуда соринка, ведь так тихо, ну почему так тихо, — слышишь? — пошел бы дождь, что ли, гром бы загремел!.. И дальше плакала уже не таясь, навзрыд. Но пришла осень с дождями, с грозами, а слов общения не прибавилось, и не убавилось слез.
Ночи становились все длинней и душней, а ласки уже давно стали жалеющими…
…Его собратья улетали на юг. Дюжими клиньями и редкими пунктирными полосками. Иногда они кричали ему из поднебесья: пора! поднимайся к нам, не оставайся здесь, погибнешь. Холодный ветер шевелил перья, но ничего вокруг не трогало душу, кроме однажды испытанного желания, — в день, когда он стал птицей, — иметь ребенка. Это желание было единственным, что давало смысл дням и ночам. Он сидел в чужом, оставленном кем-то гнезде, и ждал. Он не может просто так куда-то лететь, только потому, что, на взгляд пернатого племени, пора. Не они, крылатые послушники традиций, укажут ему путь. Это будет не зов разума, это будет клич того естества, которое сделало его птицей. И вот тогда-то он будет великим, особым рабом, вкушающим счастье от неволи!.. Итак, раз путь не назначен, значит, его пора не настала.
В минуты любования ночными красотами все чаще посещает мысль о том, что мы просыпаем самую чудную и чудотворную часть бытия — сказку. Она, жизнь-небылица, есть, но она недоступна уставшим за день, копящим в безмятежном сопении и храпе силы на преодоление завтрашнего тривиального, схожего с предыдущим дня.
Но это вообще; точнее сказать, — в лучшем случае. А если о нашем конкретном городе, то возникает вполне существенный вопрос: что мы, дневные реалисты, свершили со своим ночным волшебством?
Недавно я сделал несколько фотоснимков ночной перспективы, струящейся от моего окна. Я использовал замедленную, с большой выдержкой, съемку, которая фиксирует только статические предметы, подсвеченные слабыми световыми источниками — фонарями, прямоугольниками окон, — и неоновые, нитеобразные следы автомобилей (как будто радугу совлекли с неба, растрепали и уложили в пазы ночных улиц, не слишком заботясь о порядке). Такие фотографии запечатлевают только оттиски человеческой деятельности — архитектурные и световые. На них, как правило, нет ни людей, ни животных, ни автомобилей. Для меня это всегда картинки в миноре. Причем, в миноре положительном, в котором я, как сказано выше, творю, — населяя картинку придуманными существами с истинными коллизиями.
Известно, что страдание побуждает к творчеству.
Не воспитанный на доктринах теологии, много лет назад я взмолился, имея адресатом мольбы своего «аморфного» бога, властителя детских радостей, страхов, надежд, — вобравшего в себя все иконные лики с пронизывающими взглядами, все многосмысленные фигуры идолов, все вычитанные образы былинных волшебников и чудотворцев. «Какое доброе дело я должен совершить, чтобы ты снял с меня свое наказание?!» Конкретный и в то же время многозначный, как вердикт метафизики, ответ, на высокопарный от отчаянья вопрос, пришел достаточно быстро: «Страдание — семя радости. От каждого по возможности». Я задумался: ведь моя первейшая творческая возможность — литература. Значит, я должен селить добро в строки своих произведений, которые, сработанные с полной душевной и мастерской отдачей, смогут нести божьи искры в души читателей. (Справедливости ради: уставший от неопределенности своей вины и способа ее искупления, я просто не придумал ничего новее давно известного; но «ответ-вывод», с момента его появления, осенялся святым перстом, крылом, жезлом — на усмотрение моей недогматической фантазии.) Итак, в своей доброте, источнике добра, я уверен, — нужно только отсеять зло…
Но… «Начни с себя» — как скучно! А ведь хочется чудес! Вот если бы я мог сотворить нечто сущее, — пожирателя, истлевателя зла!.. Это и было бы сильнейшим добром (если такой эпитет приемлем для понятия добра, неисчислимого понятия!)
…Зимой гнездо вместе с упрямым Аистом превратилось в снежную берложку, которая покачивалась на холодном воющем ветру. Он, пернатый невольник, был еще жив и иногда открывал глаза и через силу смотрел на белый колючий мир, убивающий постоянством пейзажа, в маленькую амбразурку возле дырочек клюва, самым концом вмерзшего в сугроб. В это время он чувствовал в своей груди слабые, редкие, неритмичные стуки, похожие на уроны тяжелых капель на гулкую поверхность. Наверное, это было сердце, которое, казалось, просыпалось вместе с ним и нагоняло счет назначенного времени, после которого закипит кровь, спадут оковы, и Аист белой горячей стрелой полетит к заветной цели. Если раньше не умрет.
Молодая женщина… Она имеет облик моей жены в молодом варианте, когда мы только что познакомились. Как мне назвать ее? Быть может, одарить ее и именем жены, — в чем-то главном, а не только фигурами и лицами, они похожи друг на друга. А именно, по авторскому замыслу, — в страданиях: одна в свое время прошла через унизительную нелюбовь, другая обитает в беспросветном ожидании материнства. Но мне не хочется нарекать молодую женщину именем, благодать которого, увы, небесспорна. И вот суть сомнения: счастлива ли та, чье имя я желал бы заимствовать, любимая мной, человеком страдающим (одним с литературной героиней недугом)? Впрочем, я отвлекся. Назову сюжетную приму просто — Молодая Женщина. Таким решением она избавлена от инородных провинностей, в данной, несостоявшейся версии имени, — провинностей автора и его супруги.
Итак, Молодая Женщина еще не знала за собой никакого греха. Поэтому она просто выходила к людным местам, искала неимущих, подавала им. А в подворотнях кормила голубей, бродячих собак и кошек. Это были ее добрые дела. Что еще она могла сделать?.. Ей совсем не нужно было исправляться, она была воспитана в лучших человеческих традициях. Никто не мог упрекнуть Молодую Женщину в невежливости, неучтивости, неуступчивости. И это же воспитание не позволяло ей, для достижения цели, ставить свечки в храмах, мазать жиром уста идолов или идти к колдуньям для «снятия порчи». Она трезво полагала, что чистая совесть — лучшее божество, и что одними мольбами, причитаниями, пришептываниями не задобрить святое и не унять темное.
Беда не приходит одна. Муж Молодой Женщины не справился с тяжкой ношей неопределенности и несчастливости. Он нашел себе занятие, которое позволяло не видеть мучений жены и надолго забывать о собственном несчастии и бессилии перед этим несчастьем. Дело, которым он занялся, было делом для настоящих мужчин: он уходил в дальние походы и там … Допустим, он добывал золото или иной драгоценный металл или минерал. Возможно, он был археологом. Может быть, он стал трудиться в каком-либо ведомстве по спасению людей. Важно то, что это было нелегкое и нужное для общества дело. Для этого приходилось надолго покидать дом. Ездить, летать, плавать. Молодая Женщина на долгие сроки оставалась одна. По тайному замыслу мужа, надолго устраняя себя от дома, от жены, он таким образом ликвидировал зрительную причину ее беспокойства: раз есть дом, семья — значит должны быть дети. А раз этого как бы нет…
Конечно, факт ухода в иной мир моего героя, мужа Молодой Женщины, — параллель со мной. Опять. Так нельзя. Большое число параллелей связывает мою фантазию, мостит сюжет в прокрустов станок.
…Это было необычное пробуждение, не похожее на сотни других. Струйка весенней влаги, забежав на веко, вдруг зажгла Аиста — удары сердца погнали кровь по жилам: пора! Он напрягся всем телом, потянул клюв на себя. Снег сдался и отпустил, шапка берложки со скрипом поехала вбок, поломалась на комья, которые рухнули вниз. Свобода! Повсюду чернели проталины. Солнце грело макушки деревьев, под кронами которых на холодной земле по-прежнему лежал снег. Но Аист знал, что за лесом уже бегут ручьи, и звенит капель, с шорохом съезжают с шершавых крыш пласты мокрой шуги, истаивают последние сосульки.
…Этот сказочный город заколдован черной силой. В ночи — пустой, истомленный подспудным страхом, устрашенный. Описывать его легко: это почти мой город, в котором я реально живу (вынужденная параллель).
Типичная ночная картина. Машина с проблескивающим маячком движется беззвучно, только тревожные блики. Так здесь принято. Пусто, тихо и строго. Кажется, и мышь не посмеет прошмыгнуть в этой порожней, необитаемой тишине. Но каждую неделю здесь что-нибудь случается: разбой или ограбление, чаще воровство. Обычно это происходит в домах, где отсутствуют решетки на окнах, где по-прежнему милые деревянные, одинарные двери, наивные форточки. Преступления раскрываются быстро, но своеобразно: их вешают на бомжей, оплаченную жуликоватую мелочь… — такие ходят слухи. Но разрекламированные «раскрытия» не приносят облегчения, успокоения. Наоборот! — и в этом истинная цель рекламы, — моральная травма пострадавших не заживает, а страх обывателя растет. Боязнь сковала город. Ночью он как в сказке ужасов — беззвучно мерцающий, вымерший. Спящий; но спящий — в застывшем испуге, скорее забывшийся в страхе. Световые следы ночной фотографии похожи не на растрепанную радугу, а на разноцветных змей.
Постепенно в городе все больше атрибутов монументализма. Символический штакетник меняется на символические же каменные ограды, окна зарешечиваются, двери железнеют. Город больших и малых крепостей, фортов, цитаделей. Как ни странно, в этом городе, в этом средневековом кремле, стало престижно жить. В этот город-кремль из других населенных пунктов стали съезжаться имущие люди и строить здесь замки воистину средневековых масштабов! Возвращение средневековья! Пример, когда престижность пуще опасности. Логику такого переселения можно понять, так же, как можно понять отношение наших эмигрантов к потенциальной опасности: вот уж, действительно, кому ничего не угрожает! Их, богатых, защищает архитектура стиля «протекшн», охрана — псообразные парни и умные, как люди, собаки. Страдает в основном простой народ.
…Белый Аист хотел взлететь немедля, — но слежались крылья, закаменело, занеможело тело, еще не пробудился опыт полетов. И, чтобы ускорить решение, как однажды, проснувшись на изглоданном смертью древе, еще не умея летать, — как и тогда, он расправил, что было силы, крылья и просто подался грудью вниз, увлекая за собой прилипшие к лапам прелые прутья старого гнезда. Перед самым концом падения он поймал-таки воздух — почувствовал его упругость и вывернул крылья. Его качнуло вверх, и это дало возможность сделать несколько спасительных махов. Приземление было тяжеловатым, но уже не гибельным: он пробил ногами хилый снежный покров и вместе с ударом почувствовал землю. Жив! Некоторое время он стоял в раздумье, чувствуя, как тело наполняются силой и уверенностью. Наконец, высмотрев среди деревьев самый широкий просвет, забил крыльями и, волоча по снегу длинные ноги, пошел на взлет. Аист полетел в сторону, откуда всегда восходит солнце. С каждым ударом сердца убыстрялось мелькание земных предметов.
…Замедлялось мелькание земных предметов — реки, леса, горы, моря, пустыни. Теплело. Над одной из земель, которая была тепла, зелена, сыра и пахла гарью, Аист поплыл великими спиралями. Он должен оценить ситуацию и высмотреть цель — так ему предначертано.
В медленном кружении закончился день, прошла ночь, наступило утро. К этому времени все уже было ясно. Аист понял, зачем он здесь. Впервые за долгое время Аистом овладела вполне объяснимая тревога, — она была конкретна и адресна, она определяла цель и придавала необходимые силы…
Внизу жила прекрасная природа. Большие территории занимали заросли бамбука, акаций, пальм — близкорастущих деревьев, крепко опутанных лозами лиан. Маленькие извилистые реки змеились в плотных непроходимых джунглях, затем, отороченные зарослями тростника, выбегали на сочные ковровые равнины. На равнинах, в граненых чеках колосился рис, в прямых грядках полей зеленел хлопчатник, соя, чай и арахис.
Архитектура построек органично вписывались в тропический рай: разлапистые храмы, плетеные мосты, дома на сваях — вензельные формы, знаковая вязь.
Но и в плантациях, и в постройках чувствовалось некоторое запустение, витало смятение. Во всем читалось присутствие недуга, поразившего все и вся.
Потому что здесь же внизу, в творениях натуры и человека, живучим паразитом обитала Война, одна из ипостасей Зла. Война строго смотрела на порабощенную землю своими вечно гнойными глазницами. Ее обслуживало ретивое воинство — нужда, голод, болезни. Война хвасталась перед всем миром взрывами и пожарами, радовалась женскими рыданиями, детскими плачами, стонами умирающих. Недуг войны проник в каждое тело, в каждую душу. Война отгоняла от себя соседние народы, птиц и зверей. Только мор, с его атрибутами тлена и смерти, был желанным гостем войны. Тучи его зеленых мух пировали на трупах и нечистотах.
Творцами Войны, — ее головой и руками, — согласно вечному закону Зла, были люди, которые искренне полагали, что чем больше врагов убьет каждый из них, тем меньше лиха останется, тем скорее на их землю придет Добро. И с еще большим усердием люди пытали и убивали друг друга. Война же, яркий персонаж театра абсурда, вертлявой куклой свирепо хохотала, надсмехаясь над самоуверенными жертвами-кукловодами, над людской глупостью и гордыней.
Людям, как всегда, некогда было думать о том, что все войны, рано или поздно, кончаются горьким разочарованием и бессильным раскаянием. И что пока они горды и глупы, злы и беспечны, Добро будет залетать на их пожар лишь иногда, в образе карающего ангела, и только с одной целью: чтобы отнять то, чего они не достойны, — дабы подарить его тем, которым оно, это нечто, по праву принадлежит.
Тревога Аиста вызрела в суровые тучи под ним, набухающие с каждым ударом сердца. Великая энергия загудела в тяжелых водяных парах, загораживающих землю от светлеющего неба. В темных недрах сверкнула красной медью первая молния. Аист сложил крылья и ринулся вниз. Его тело, словно плотный ворох электрических искр, пробило тучу, и скоро он вынырнул под черными куделями, уже во всю мощь источающими тропический ливень. Здесь он превратился в распятие, грозно застывшее над землей, — распластавший крылья и удерживаемый на весу, как на нитках, вонзившимися в его тело потрескивающими огненными волокнами, идущими от туч.
Ничто не вызывало страха, ничто не мешало, но только прибавляло решимости. Он еще раз всмотрелся в свою цель:
…в хижине из тростника и бамбука за низким столиком, поджав ноги, сидели несколько человек с желтой кожей, угловатыми скулами и узкими глазами. Одни жестикулировали над картой и рисовали какой-то план, другие снаряжали оружие. У плетеной колыбели сидела худая женщина с седыми клоками волос. Гримасы корежили ее лицо: она плакала без слез. В колыбели лежал ребенок — скелет, обтянутый кожей. Сухой рот его был открыт, а глаза, провалившиеся в глазницы, полузакрыты, — он стонал. Иногда люди, перекрикивая шум дождя, обменивались резкими словами, взглядами, жестами, из которых спело: Взорвать! Сжечь! Отомстить! Убить!
Белый Аист, преодолевая сопротивление электрических нитей, рванул крыльями вниз. Сноп грозовых разрядов обрушился на плантации возле хижины, одна из огненных нитей достигла высокой акации, которая рухнула, едва не задев крышу жилища. Следующим движением сам Аист такой же белой горячей стрелой устремился вниз. Мгновение — и его мощный клюв легко пробил брешь в покатой крыше хижины, его тело, врываясь внутрь, разбило непрочную конструкцию, разбросало бамбуковые жерди и тростниковые снопы. Шум разрухи смешался с воплями ужаса. Аист когтистыми лапами выхватил из колыбели ребенка и, ломая остатки крыши, с гулкими ударами мощных крыл отдался в небо, в голубую прогалину между черных туч…
Его когти не причиняли ребенку вреда — лапы превратились в нежные руки, в которых мальчик быстро успокоился. Он так и нес в небесах дитя спящим, лицом кверху, — благодаря этому имея возможность смотреть на то, как меняется маленький терпелец. Очень скоро с лика ребенка сошло страдальческое выражение. Посвежели, налились щеки, порозовели губы, он заулыбался во сне. По мере того как они летели, менялось лицо ребенка: разрез глаз, цвет кожи и волос, форма скул… Аист понимал, что каждая местность, не меняя сути, дает свою картинку. Это его забавляло, и он даже затеял игру: замедлял движение — останавливалось изменение облика ребенка; возвращался, повторяя путь, затем подавал совсем в иную сторону. Чудесным образом менялись картинки. Он почувствовал себя небесным художником, ваяющем теперь уже нужный образ. Когда заданный им лик был готов: глазки (в чуть приоткрытые щелки было видно, что они голубые), слегка вьющиеся русые волосы, бровки изогнутыми тонкими крылышками, — он несколькими короткими зигзагами добился маленькой родинки на правой щеке. Это был венец его творения. Именно здесь он должен был состояться, потому что Аист находился у цели своего пути — над устрашенным городом, боящимся самого себя. В этот момент творческого удовлетворения и осознания своей цели он почувствовал усталость. Смеркалось. Он сбавил скорость и наконец закружил малыми кругами над намеченной местностью.
Мальчик на глазах стал убавляться в размерах, что совсем не испугало Аиста. Ребенок достиг величин новорожденного, сжался в куколку, исчезли частные черты, — так выглядит новорожденный у всех народов. В конце концов, еще более уменьшившись, он покрылся матовой пленкой, став похожим на маленький розовый кокон. Пора.
Аист полетел к окраине города, расположенной на возвышенности. Он высмотрел с уже небольшой высоты единственное незарешеченное окно, которое, к тому же, было открыто, и из него ветер иногда выхватывал часть занавески, как бы сигнализируя: сюда!
Аист влетел неслышимым и невидимым ангелом в раскрытое окно с полоскающимся языком портьеры. Мягко ступая, подошел к широкой кровати, на которой спали двое — Молодая Женщина и ее муж. Мужчина спал вниз лицом, обняв подушку. Молодая Женщина лежала навзничь, разведя руки, как для объятия. Оба были свободны от одежд и одеял. Белый Аист положил розовый кокон между ними. Кокон слегка шевельнулся и стал исчезать, втаивая в брачное ложе.
Аист, любуясь картиной, отошел к окну, в которое только что влетел. Пора! Сколько раз этот внутренний клич посещал его за последнее время! Он всегда подчинялся — и многое сделал. Подчинится и сейчас. Он встал на подоконник, еще раз обернулся…
По договору с «Золотым ключиком» я должен был отдать на оценочное прочтение ту часть повести, которую осилю в назначенный промежуточный срок. И тут я несколько запаниковал, недооценивая тонкость мышления «буратин». Отправляя рукопись, я снабдил ее необходимыми, на мой взгляд, пояснениями, из которых следовало, что все идет по намеченному плану, и несколько затянутая завязка определена тонкостью фабульных ходов. И тому подобное. Признаться, оправдываясь, я с полной уверенностью представлял лицо патрона, читающего мои ремарки, — мина кислой разочарованности.
Но положительный ответ из «Золотого ключика» поразил своей молниеносностью и конкретностью: «Одобряем. В завязке ничего не менять! Концовка — согласно предварительной договоренности». И еще несколько ничего не значащих фраз с пожеланием успеха.
Только теперь я понял, насколько далеко зашел в своих поэпрозаических изысках! Что теперь делать со всем этим — с готовым законченным сюжетом, украшенным счастливым концом, который я, увлекшись, слепил себе в удовольствие? Пусть морщатся критики, которые потом определят, что как раз-таки сюжета здесь и нет, — а есть безвкусный, бесформенный пирог из аллюзорных слоев. Я тоже без всякого благоговения отношусь в их «реалистическим» канонам! Мне до глубины души важно лишь то, что я трудился — свободным! И пусть в данном случае эта свобода есть плод вседозволенности, подаренной всемогущим спонсором, — главное, что я не сковывал себя позорными для автора рамками, порожденными низкой заботой быть непременно опубликованным. В этом было неописуемое наслаждение! Впрочем, мысль отклонилась — вопрос не в моем удовольствии, не в удачности сюжета, и уж совсем не в том, вписывается ли сочинение в классические рамки…
Вопрос в следующем. Теперь, когда написана сказка со счастливым концом, я обязан сделать вид, что это никакой не конец, а только завязка, элемент контраста — счастливая его часть, — который подчеркивает несчастье развязки. Именно сейчас, когда, не побоюсь этих слов, слезы умиления омывают мою истосковавшуюся, мятущуюся душу, — от осознания того, что мне, наконец, выпало счастье написать то, о чем действительно думаю, что действительно понимаю…
О, «буратины» все просчитали, когда нанимали меня для решения своих задач! Будь они поглупее, то подрядили бы другого писаку, производителя заурядных боевиков, который, за несколько дней, без великих для них трат, накропал бы им любой сюжет. Но им нужен был я, который не может без того, чтобы не размочалить душу читателя прежде, чем завершить повествование, — ад ощутимее, когда до него побываешь в раю.
Получается, что далее, классическим продолжением, я должен изменить своим авторским принципам. (Конечно, я пытаюсь оправдать себя, — как будто бы я, берясь за заказ, не понимал, чем это все должно закончиться!) Спорить с «Золотым ключиком» бесполезно. А отказаться от продолжения, значит поставить крест на своем творческом будущем. Нет, я пойду другой дорогой. Вот она.
Я не буду бороться с собой. Я, просто и понятно, в духе современных триллеров, напишу вторую часть. Но напишу так, чтобы читатель понял, что это подделка, что это — не я. Чтобы он не поверил второй части сюжета. И тогда совсем не важно, насколько мерзким и противным моей природе будет развязка. Читатель поймет и простит. В его душе останется только первая часть — про Молодую Женщину и Аиста-ангела. Придет время, и я опишу, как все было, как ткалось произведение. Впрочем, если все мне удастся устроить так, как задумано, то никакие оправдания, ни в настоящем, ни в будущем будут совершенно не нужны.
Принимаясь за продолжение, я ругал «Золотой ключик», который поставил передо мной подобную проблему. Понимая, что мое чувство — эмоция раба, который, ненавидя господина, принимает пищу из господских рук…
…Автоматчик, которого я вижу в раме лобового окна микроавтобуса, решительно указал коротким стволом в землю. Я остановился. Этого только не хватало. Как меня угораздило наскочить на автоматчика? Неожиданней трудно придумать в этом мирном беспорядке приехавших, встречающих, уезжающих.
Минутами раньше я подъехал к вокзалу, когда только что прибывший поезд уже начал торопливо освобождаться от пассажиров и товарного груза. Через полчаса поезд пойдет дальше. «Где почтовый?» — осведомился я у первого попавшегося проводника. — «Дальше, за „столыпинским“», — проводник махнул в сторону хвоста поезда.
Вокзал небольшой, поэтому, как правило, почти вся концевая часть любого прибывающего состава имеет перед собой не перрон, а утрамбованный пустырь, по которому можно свободно подъехать прямо к вагонам. Что и делают встречающие, прибывшие на личном транспорте, создавая небольшой автохаос. Их примеру следую и я, повышая степень общего беспорядка. Лавируя между людьми и машинами, медленно продвигаюсь в указанном направлении. То и дело высовываюсь в окно, просматриваю очередной вагон, пытаясь угадать в нем «столыпинский», сразу за которым мой почтовый. В коем приехал «драгоценный» груз — трехтысячный тираж моей поганой книжонки о двух сотен страниц в твердой красочной обложке.
Итак, мне приказано остановиться. Глушу двигатель, выхожу из машины. Милиционер переключился на другой объект, жестикулирует уже не мне. Оцениваю ситуацию. Все понятно: происходит загрузка заключенных. Мой милиционер с автоматом — из оцепления, внутри которого, в контраст людской и автомобильной толчее, полный порядок. Невольников прогоняют по одному сквозь коридор вооруженных милиционеров. Режим движений регламентирован. Выкрикивают фамилию, — заключенный выкатывается из «автозака» и, пригнувшись, метров двадцать трусцой семенит к вагонной двери, где его уверенно принимает пара решительных рук и быстро втягивает в вагонное нутро. Нельзя останавливаться, нельзя разговаривать, нельзя подавать какие-либо знаки.
Кто эти люди? Уже осужденные преступники или еще только подозреваемые, которым предстоит суд? По внешнему виду трудно установить их даже приблизительный статус. Они похожи друг на друга: все коротко стрижены, одежда сера, у каждого котомка — пакет или матерчатая сумка. Они не поднимают лиц, по выражению которых можно было что-либо прочитать: растерянность новичков, или озабоченность тех, кому еще не отмерена доля, или уверенность матерых, для которых тюрьма дом родной. Ничего этого, при такой скорости мелькания согбенных фигур и почти одинаковых профилей, заметить невозможно.
И вдруг близко, буквально возле моего уха, — радостный выкрик: «Серый!..» Удивленно повернул в мою сторону тупую морду мохнатый охранный пес из оцепления, похожий на сфинкса.
Оборачиваюсь и я. Голос принадлежит приземистой даме с неженственным мускулистым лицом, которая удерживает руку стоящего рядом с ней ребенка.
— Серый! — коротко, как будто одним слогом повторяет она, резко подаваясь в сторону своего крика, при этом мальчик, пленник сильной руки, страдальчески дергается в такт ее судорожного движения. Скороговоркой, как бы причитая, она досадливо бормочет: — Не слышит? Не понимает? — Буквально визжит: — Серый!..
Бегущий сквозь строй резко оборачивается, осклабливается и исчезает в вагоне.
Ребенок — совсем маленький мальчик. По его глазам видно, что он ничего не понимает. Женщина тычет пальцем в сторону вагона: видишь? Вон тот, который пробежал, — наш папка!.. Он просто бритый, понимаешь? Волосиков нет! Уже побрили, аспиды. Узнал?
Вглядываюсь в ее лицо, пытаясь найти черточки — чего?.. Стыда? Раскаяния? Отчаяния? Боли? Каких-то особых чувств, определенных наличием невольных зрителей, близостью ребенка? Мои ожидания напрасны, я ничего не увидел. Мать и сын отвернулись от меня к вагону, запрокинули головы к непроницаемым зарешеченным окнам, и выглядят сейчас как обыкновенные провожающие, которых вокруг многие десятки.
Ребенок не по сезону тепло одет. Впрочем, осень. Пока сухо, но промозгло. В природе, на душе. Кругом и внутри. Кажется, собирается гроза.
Почему я получаю свой груз так далеко от дома? В нашем городе вокзал только строится: возводится здание, подтягивается аппендицитом от столбовых, караванных железных дорог, рельсовая нитка. Конечно, данное обстоятельство не помеха для почтовых получателей — любой груз борзые курьеры, не чета мне, доставят куда угодно: к дверям квартиры заказчика, к складам офиса, положим, «Золотого ключика», к бесу на рога. Это все о том, что я сам выбрал такой способ получения тиража, который произведен в престижном издательстве и прибыл издалека: получатель — авторская персона, единолично, на чужом маленьком вокзале, вдали от родного города. Мне стыдно. Но чего я добивался, когда принимал такое усложненное решение: рассчитывал таким образом оттянуть момент, когда первый читатель раскроет мою книгу? Или надеялся в двухчасовом пути что-то передумать, предпринять, переделать? Не знаю, все это, конечно, наивно, но факт, что со мной происходит нечто необычное. Действия мои нелогичны, где-то даже смешны, настроение скверное. А что я буду делать на презентации?..
Три тысячи экземпляров в тридцати коробках, которые, прямо с платформы, затянули в мой микроавтобус вокзальные грузчики, заняли весь салон, как и рассчитано. Кстати, тираж мог быть более крупным, что для «Золотого ключика», спонсора издания, не составило бы никаких проблем. Но ведь расчет таков, чтобы сделать книгу бестселлером, а при такой задаче, как правило, большое количество, следовательно, доступность, механически работают против популярности.
Вокзальная служащая в униформе заканчивала оформление документов, когда я был уже в машине, готовый ехать. Перед тем как подать полагающиеся мне листки, она еще раз внимательно долго смотрела в них, что-то сличая. Наконец, подошла к окошку кабины.
— Простите, вы — автор?
— Автор? Что значит автор? — задаю ответный, в данном случае глупый вопрос. Мне не удается таким образом войти в роль лгуна: ее вопрос застал меня врасплох — у меня не та интонация, не то выражение лица.
— Груз, по одним документам, — книга, — уверенно растолковывает служащая, отводя в сторону руку с бумагами. — Автор, судя по другим документам, — вы! — Тычет второй рукой, с другой частью бумаг, в меня. — Действительно вы? Ну, не может быть такого совпадения: фамилия, имя, отчество, — тут ее голос дрогнул, как у поклонницы, вдруг понявшей, что перед ней предмет обожания — известный артист, спортсмен или политический деятель.
Мой виноватый утвердительный кивок украсился разочарованным, моим же, вздохом, — все было непроизвольно и искренне, жеманство не в моей манере. Последовала обычная в такой ситуации просьба об экземпляре, на память о встрече, непременно с автографом. Знала бы она, какой неожиданный трепет охватил меня от перспективы вскрывать коробку и дарить то, что уже всей душой ненавижу. Я знаю вид книги по макету, утвержденному спонсором: красочная обложка — объятые ужасом глаза полуобнаженной женщины, мертвый ребенок — какой-то мерзкий, сексуально-садистский коллаж. Как можно такое дарить! Поколебавшись, лезу в кабинный бокс, судорожно шарю в захламленной глубине: слава богу, есть один экземпляр «старой» книги.
Подписываю, дарю.
— «Озер голубые глаза», — благоговейно читает служащая, — какое название красивое, спасибо. Девчонки лопнут от зависти. Она отходит и уже кому-то дальнему помахивает, как флажком, моим подарком.
Включаю двигатель и стараюсь быстро отдалиться от перспектив встречи с новыми поклонниками, «девчонками» и «мальчишками». Конечно, подобных встреч не избежать вовсе, но пусть они случатся как можно позднее.
Я в бессильном гневе на себя и на весь мир. Продолжение поездки — как во сне.
На дороге голосуют. Мне всегда трудно проехать мимо «автостопников», которым с дороги явно видно, что в машине есть, по крайней мере, два свободных места. Но если бы сейчас на обочине стояли не женщина с ребенком, ни за что не остановился бы.
Уверенные женские руки подали в кабину ребенка, которого я усаживаю рядом с собой. Затем в кабину юрко влезает сама женщина и сильно, к моему неудовольствию, хлопает дверью. Смело глянула на водителя, как на извозчика, — поехали.
Конечно, трудно ошибиться, моя пассажирка — это та самая дама, которая минутами раньше кричала возле «столыпинского» отцу этого самого ребенка: «Серый!»
Я не хотел разговаривать ни с кем на свете. Поэтому дама, оказавшись разговорчивой, вещала, перебивая радио, а я молчал, лишь краем глаза наблюдая своих спутников. Иногда пассажирка демонстрировала своеобразную несинхронность: обращаясь непосредственно к сыну, смотрела на меня; а когда слова носили обобщенно-философский смысл, то есть, относительно предыдущего, предназначались и мне, — демонстративно не отрывала глаз от сына. Мальчик, по всей видимости, мало что понимал, но почему-то по-стариковски страдальчески морщился, на что мать, казалось, не обращала никакого внимания. Иногда, несмотря на ее жужжание, я отвлекался в свои мысли, — это требовало больших усилий. Возможно, при этом также болезненно кривилось мое лицо. Формально она разговаривала со своим сыном, к которому обращалась так же, как и к его отцу, — Серый (выходит, рядом со мной сидел Серый Серович — неплохое начало биографии!). Однако уже с первых ее слов меня посещали сомнения относительно реального адресата ее речи. Возможно, женщина тонко следила за моей мимикой, и малейшие движения лицевых мышц подневольного слушателя стимулировали либо активное продолжение темы, либо неожиданный поворот в ней. Ее голос, ее смех, ее ужимки заполнили весь салон, все остальное было всего лишь фоном, местом действия, сценой с декорациями и статистами.
С первых минут я окрестил ее хищницей. Затем, перебрав близкие и дальние синонимы (куда денешься от авторского порока!), дал ей новое имя, которое, по моему тогдашнему настроению, больше ей соответствовало, — Алчная. Действительно: хищник — безмозглый зверь, раб инстинктов, а алчным может быть только человек!
…— В чем, ты думаешь, Серый, справедливость жизни? — продолжала Алчная, когда мы проезжали какие-то поля, на которых трудились люди. — А вот в чем: что ворам с рук сходит, за то воришек бьют. Какой вывод? Не будь воришкой, как твой папка, мокрушник позорный, на полтора червонца залетел, а если бы все доказали?.. А будь фигурой!
…— Вон, смотри, — Алчная потеребила мальчика за плечо, ткнула пальцем в окно, — видишь, люди в земле копошатся? Это крестьяне или дачники, — одна чепуха. Пусть копошатся, Серый, — она перевела взгляд на меня. — Это все — и земля, и те, кто в ней возится, — навоз. Но именно в навозе растут грибы и апельсины! — она скрипуче засмеялась, довольная своей шуткой, смех перешел в кашель. Не спрашивая разрешения, вынула из сумочки сигареты — отечественное производство: золотистая пачка со знакомым названием — «Ключик». Перед тем, как прикурить, громко чмокнула сыночка в щеку: — Ах, ты мой апельсинчик! Сделаю я из тебя человека!..
О, я много узнал от Алчной о ее с сыном будущем. Она пророчила своему «апельсинчику» достойную перспективу. Он, оказывается, унаследует от своих родителей самые лучшие черты. Черты, которые позволят ему жить на широкую ногу, никого не боясь, не таясь в реализации своих желаний. Кто сказал, что у «апельсинчика» плохие стартовые условия? Плюньте тому в глаза! Отец, конечно, в этом смысле оказался никуда не годным. Впрочем, об отце, как о трупе, или хорошо или ничего. Мать сделает все, чтобы обеспечить эти великолепные стартовые условия. Потому что Серый Серович — смысл ее жизни. Именно в нем она будет черпать радость и удовлетворение: то, чего всю жизнь не доставало его матери и отцу, получит он. У него все будет. Не он будет пахать на мир, а мир будет работать на него. Надо только позаботиться о том, чтобы его с младых ногтей воспринимали не как «навоз», а как «апельсин». Знаешь, кем ты, в конце концов станешь, Серый? Ты станешь одним из Буратин! Да, да, да! Пусть сдохнут от недоверия, а потом от зависти те, кто слышит эту фразу, этот словесный абрис будущего мальчика-апельсинчика! Хотите знать, что она, его мать, может сделать для сына? У-у! Она может очень много! Лопните от недоверия, но проект уже имеется, он готов, он витает в воздухе, осталось дождаться некоторых событий, и — вперед! Да, именно ради тебя, Серый, апельсинчик, сыночек, твоя мать идет на это труднейшее дело! Конечно, после этого сын какое-то время будет отлучен от матери, но это будет длиться совсем недолго. Заказчик, — а это очень богатый заказчик, — наймет для нее самого лучшего адвоката, а если понадобиться, то и во всю систему правосудия будут вложены необходимые средства. В этом была суть ее требований, когда она соглашалась на труднейший проект. Главное, не отойти от сюжета, Серый, не отойти далеко, хотя по ходу дела могут быть небольшие импровизации. За что могут наказать твою мать? За невинное желание присвоить чужое, а все самое страшное, «мокрое», сделает сама жертва!
— Увы, сынок, чудес не бывает: для того, чтобы у нас с тобой прибавилось, — у кого-то должно существенно убавиться! Но бог нас простит, за все наши с отцом муки, за то, что ты растешь без отца. А за то, что нечаянно согрешу (нечаянно, конечно нечаянно!), за то мне соразмерно воздастся. Со-раз-мер-но, то есть совсем немного! Мне, конечно, жалко эту сучку с ее щенком, но тебя, сынок, еще жальче, вон ты у меня какой хороший! Ты станешь одним из «буратин», я дам тебе на эти деньги самое лучшее образование, у тебя будет, помимо образования и богатства, аристократическое, а не плебейское отношение к жизни. Я приду к этим «буратинам» и скажу: помните? Он ваш! Пустите его в свой высший круг!
Меня тошнит, я включаю громче радио.
«…Срочное сообщение! Чрезвычайное происшествие! Горит центральный офис „Золотого ключика“!.. Удастся ли спасти „Золотой ключик?“» Успокойтесь, господа ретивые радио-дикторы. Я с удовольствием слышу вашу новость, но… Подумаешь, горит офис! «Золотой ключик» внедрился в плоть и кровь нашего города, он в каждом нашем доме, в каждом из нас. Он как многоголовый монстр, только крепчает в борьбе с наивными рыцарями, и потеря одной башки для него не ущерб!
В это время небо заслонил огромный предмет — чудовище, расправив великие крылья, с грозным рокотом пронеслось над моим автобусом. В салоне все содрогнулось. Я сбросил скорость и обратился к зеркалу заднего вида: это самолет, видимо, заходящий на посадку, — здесь недалеко аэропорт. Чего не покажется при ужасном настроении. Я, наверное, схожу с ума: еще раз глянув в зеркало, отметил, что самолет открыл шасси, а его колеса похожи на когтистые лапы. Вдали сверкнуло, бабахнул гром, начался дождь. Пора включать «дворники».
Я все понял.
Всматриваюсь в лицо Алчной. Нет, я прогнозировал ее не такой безобразной внешне и столь циничной. Я не пишу так грубо, моя кисть не столь небрежна. Любую мерзость я стараюсь одеть в человеческие одежды (пусть не белые), а здесь — какая-то отрицательная аллегория, карикатура. Определенно, моя воровка, влезающая, согласно сюжету, в квартиру Молодой Женщины, гораздо симпатичнее. Да что там! — ту я сотворил похожей на красивую змею, пантеру: она ввивается, вкручивается, вкрадывается в жилище, которое собирается обворовать. И главное: моя, по отношению к этой, практически невинна из-за отсутствия бесчеловечного умысла; хоть само воровство — тоже тяжкий грех. Но — по порядку.
Мне, для концовки повести, предстояло выбрать способ душегубства… Да, да, увы — заказ!..
В детстве я был невольным свидетелем убийства ребенка своим отцом. Ублюдок сбросил трехлетнего сына с четвертого этажа. До этого долго тряс визжащим тельцем с балкона и кричал милиционерам: «Не приближайтесь! Брошу!» Бросил. Тот жуткий фрагмент я всегда оставлял себе на сюжетное «потом». Неизвестно, правда, на какое «потом»? Ведь я никогда не писал ничего жареного. Хотя не исключал подобную возможность в будущем. И вот, такой момент, когда необходима леденящая душу сцена, настал. Как свидетель, я смог бы описать отца-детоубийцу и то, что он совершил, очень ярко. Но… вариант для моей повести опять оказался неприемлем. Возможно, в силу того, что мне не хотелось, чтобы «тот» ребенок еще раз страдал. Вместе с его страданием нестерпима была бы и моя боль, ведь я чувствовал бы себя уже соубийцей. Впрочем, автор, сводящий дело к лишению жизни героя, в любом варианте убийца. Так я думаю сейчас, после всего того, что произошло.
В результате я выбрал другой, более мягкий вариант сюжета, в котором, строго говоря, никто не является прямым, сознательным убийцей. Но постарался сделать этот сюжет даже ужасней того, от которого отказался. Итак, воровка, сама имеющая ребенка (так отвратительней) и пекущаяся о его благе, открывает ночью дверь квартиры, в которой проживает Молодая Женщина (муж в отъезде), — обыкновенной отмычкой. Воровка ищет драгоценности, которых нет, и деньги, которых нет. Просыпается Молодая Женщина, завязывается борьба. Воровка попавшим под руку предметом бьет хозяйку по голове, та на некоторое время теряет сознание. В ходе борьбы на пол падает обогревательный прибор, загорается скатерть, занавеска, возникает пожар. Воровка убегает, дверь за ней безнадежно захлопывается (изнутри замок открыть уже невозможно, ввиду того, что в нем поработали отмычкой). Уходя, с лестницы, воровка слышит крик проснувшегося ребенка в квартире, из которой только что бесславно ретировалась. Все равно убегает, полагая, что Молодая Женщина вместе с ребенком сумеет выбраться из горящей квартиры. Она спешит, так как знает, что скоро проснуться соседи и увидят ее, преступницу. Пожар. Приходит в себя Молодая Женщина. Они с ребенком отрезаны огнем от выхода. Молодая Женщина выбегает на балкон, языки пламени, вырывающиеся из квартиры, лижут ее тело. Молодая Женщина кричит, отчаянно пытаясь оберечь ребенка от огня, для этого одной рукой держит его за балконом, над тротуаром, до которого много этажей. Собирается толпа. Рука слабеет, ребенок падает. Женщину спасают, ребенок гибнет, воровку изобличают стражи порядка. Вот и все, — в общем-то, незамысловатая фабула.
Нет, оказывается, это еще не все! Мне, как видится, предстояла еще встреча с той, которую я, по сути, создал, — реальная исполнительница мерзкого замысла «буратин». Да что я все перекладываю на «буратин»! Это мой замысел! Не случайно, что конкретно меня они выбрали для моделирования реального сюжета, понимая, что именно я смогу сделать так, как будет наиболее жалко, наиболее ужасно! Цель в том, чтобы как можно больше слез жалости выдавить из читателей; а потом — слез ужаса из моих согорожан и из жителей других городов, куда придет моя книга, а за ней весть о реальном пожаре и реальной гибели ребенка. И все для чего? Для того чтобы сказать людям: бойтесь! Страшитесь! Ставьте бронированные двери с хитроумными замками фирмы «Золотой ключик»! Нанимайте личных детективов и охранников! Пользуйтесь адвокатскими услугами фирмы для отстаивания своих личностных и имущественных прав! Это, конечно, не будет сказано напрямую, со злорадством, с улюлюканьем, — это будет подразумеваться всем ходом событий. Я! — я убийца! Я — убийца! И уже не как автор, а как человек!
Алчная, наверное, чувствуя мою проданную душу, ничего не скрывает, разговаривает развязно, не таясь, как при сообщнике. Хотя, она, конечно, не подозревает, чьей пассажиркой является, и что сюжет, который ей предстоит реализовать, в трех тысячах экземплярах едет вместе с нами, занимая всю грузовую часть салона. Не оттого ли, не от близости ли всего этого, она так разошлась?
Да она, оказывается, пьяна!
Такая мразь имеет ребенка. А я, который за всю жизнь никому не сделал осознанного зла, — вынужден доживать свой век пустоцветом! О чем это я? — о справедливости? К какой справедливости могу взывать я, который воистину душегуб! Ведь где-то сейчас живет и беспечно радуется жизни какая-то семья, которой я предначертал стать моей жертвой. О! Я, оказывается, вовсе не человек, — демон! Раб Золотого Паука. Творец тонкого, изощренного спектакля. Спектакля, для которого уже, оказывается, готовы не только старательно выписанные мной действующие лица, но и назначенные режиссером исполнители. Один из исполнителей сидит рядом со мной, и я, сценарист и статист одновременно (что вы! никакой случайности — все закономерно) аккуратно везу его к подмосткам. Терпение, уважаемые зрители, скоро, уже очень скоро спектакль-триллер увидит рампу!
Мне хочется потянуть на себя руль и взлететь, к моей, к чертовой, матери!
Я должен спасти невинных людей… Но как? Поднять шум? — смешно, мне никто не поверит, между тем как дело все равно будет сделано. На меня же и свалят, как на «режиссера». (Тоже интересно и не менее потрясающе, как они сразу до такого не додумались?) Немедленно убить эту женщину (невеликий грех по сравнению с тем, что уже сделано) или облить бензином и сжечь весь тираж книги? А может, то и другое и… третье? Для триединства я могу сейчас врезаться в дерево, в корму какого-нибудь рефрижератора, или лучше пойти на лобовое столкновение. Жалко только сидящего рядом ребенка… Найти вариант, когда ребенок останется живым?..
Вот так! Своим беспринципным отношением к невинному, казалось бы, литературному творчеству, я привел себя к ситуации, которой уже не владею, и от отчаяния готов на все. Даже — возможно ли было такое представить! — на самое страшное по отношению к постороннему человеку и к себе! Готов, когда никакое отчаяние, никакая решимость уже никого не спасает, а может только увеличить число прямых жертв. Ведь уже ничто не предотвратит намеченного «буратинами» события. Этого не допустит «Золотой ключик», «Золотая отмычка»… Они пойдут на все: например, они могут трагически устранить меня — и торжественно оплакать, еще более увеличив на необходимое время писательскую популярность, после этого напечатать новый тираж книги (авторские права на повесть предусмотрительно присвоены ими по договору), которую тогда уже раскупят махом; могут нанять другую воровку и так далее. А я не смогу никого предупредить, потому что не знаю, кому предназначено быть жертвой. Да и поможет ли подобное предупреждение? Жертвой может стать любая семья — выбор безграничен.
— Следи за дорогой, парень! — впервые Алчная обратилась ко мне напрямую, когда мы въезжали в тоннель. На этот раз она была не столь самоуверенна, и голос ее дрожал. — Ты, наверное, самоубийца! Лучше бы я на автобусе…
В ответ я прибавил скорость. Несмотря на темень, которая нас окружала в этом рукотворном подземелье, в салоне было по-прежнему светло, и я заметил, как Алчная вжалась в сиденье, как кошка. Именно как трусливая кошка, а не как благородная пантера!
На выезде из тоннеля, когда стекла опять залило дождем, я все же увидел впереди по курсу яркую вспышку и сбросил скорость. В пределах видимости на обочине подломилось большое корявое дерево и рухнуло поперек дороги. Я, как во сне, затормозил, понимая, что тормозить нельзя (цугцванг!) Машину занесло, колеса безвольно заскользили по мокрому асфальту. Все, что было еще автобусом, мной, тысячами книг, Алчной и мальчиком, неумолимо потянуло к глубокому котловану, обрыв в который начинался через несколько метров после череды декоративных столбиков-ограничителей. Алчная, визжа, рвала все ручки и толкала дверь. Дверь не открывалась. Последние, как я понимал, мгновения мне было жалко сидящего рядом мальчика, который плакал… Впрочем, пожалуй, еще было чувство благодарности к той стихии, которая решила за меня все мои проблемы…
Чудовищный удар потряс автобус, рассыпалось стекло. Померк свет. Слышен был только крик мальчика и шум борьбы. Но это был еще не конец. Машина, не достигнув обрыва, остановила свое скольжение, будто запнувшись, но, повинуясь инерции, перевернулась. В кувырке я смог увидеть большую птицу, которая отлетала от нас, унося в лапах ребенка… Секунда, сноп пламени, хлопок…
— Долго же ты спал, — сказал мне сын, когда я открыл глаза. Я догадался, что он взволнован, но скрывает свое волнение, старается говорить как можно обыденнее. Я все-таки немного знаю своего сына.
— Где мы? — я обследовал глазами комнату, наполненную белыми и блестящими предметами.
— Мы в больнице, папа, — сын поправил одеяло. — Все нормально, страшное позади, не волнуйся. Парочка-троечка переломов. Ну, сотрясение, конечно, с потерей сознания. Смекаю, что без потери памяти. Угадал? Доктор предупредила, что сегодня ты придешь в себя. Жаль, мама не присутствует при этом торжественном моменте. Отбежала ненадолго, скоро будет. Соскучился?
В его словах, вместе с показной, подбадривающей иронией, чувствуется неподдельная теплота. Пожалуй, впервые в жизни. Действительно знаменательный момент. Эта теплота в голосе отвлекла меня от удивления всем остальным, что происходило в тот момент со мной: горизонтальное положение, невозможность пошевелить рукой или ногой, непривычная обстановка.
— Кстати, у мамы есть хорошая новость для тебя. Надеемся, это будет плюсом для твоего выздоровления. Знаешь, как в военных госпиталях, в конце войн, где лежат победители и побежденные, — первые выздоравливали гораздо быстрее вторых. Пап, что тебе нужно, говори? Пить хочешь?
— Давай.
Сын умело приподнял мне голову вместе с подушкой и аккуратно поднес носик кувшина к моим губам. Видно, делает это не в первый раз. Я обстоятельно напился. Пора узнать, в чем дело.
— Так в чем дело?
Он засмеялся. Видно было, что у него хорошее настроение. Неужели оно действительно связано с моим пробуждением?
— Это ты меня спрашиваешь? — он изобразил удивление. — А я ждал, что ты расскажешь… Ну, ладно, передам то, что я знаю, а ты вспоминай подробности. — Он посерьезнел: — Ты попал в аварию. Неудачно затормозил, перевернулся. Так? Рассказывай. Ну, ладно, сначала я, как договорились. Тебя выбросило на обочину. Вообще-то мне приказано не беспокоить тебя…
— Повествуй, я уже в норме.
Сын, оглядываясь на двери:
— Автомобиль загорелся. Все, что было в машине, сгорело. Весь твой тираж… Тебе еще повезло, тебя выбросило наружу. В принципе, это был неблагоприятный день в регионе: сгорел офис «Золотого ключика», склады и прочее.
Он перешел на скороговорку, что ему свойственно, когда он увлечен или волнуется. В данном случае, похоже, и то и другое:
— Глобиус, — ну, наш астролог, — объяснял, я точно не помню, что фазы каких-то двух планет совпали, резонанс, повышенная амплитуда, магнитный дождь, прорехи в аурах, разрывы в кармах… Муть, одним словом. Но самое неприятное для меня, — разумеется, после случая с тобой, — то, что сгорел «Золотой ключик». Весь и дотла. Информация из газет и сарафанного радио: якобы «буратины», как ты их называешь, сами подожгли здание и склады, чтобы скрыть следы злодеяний. Ими уже занимается прокуратура: махинации, организация и сокрытие преступлений, лжесвидетельства, подлоги, подкуп должностных лиц… Приехала бригада следователей из столицы. В городе шум. Что твориться! — не передать. Я ведь, ты помнишь, собирался поступать к ним на подготовительные курсы спецконтингента. После всех этих событий пришлось подать документы на журфак. Готовлюсь. Знаешь, перечитал свою детскую писанину, ты, оказывается, все сохранил, спасибо… Вроде смешно, наивно, но в ворохе нехитрых сюжетов есть интересные мысли. Которые сейчас ни за что в голову не пришли бы. Конспектирую — надо же! — себя раннего.
Я почувствовал, что у меня застучало в висках, накатила усталость, я прервал его:
— А женщина?.. А мальчик?
— Какой мальчик? — в голосе сына тревога.
— Сын женщины… Муж которой уехал в «столыпинском» вагоне. А его унес Белый Аист.
— Ну, пап, ты даешь! Я к тебе серьезно, а ты…
Зашли две женщины в белых халатах. Одна из них, что помоложе, моя жена. Вторая, наверное, доктор. Сын обернулся, вскочил, зашептал:
— Мам!.. папа уже пришел в себя. Но сейчас он немножко бредит…
Вечером, когда сын ушел, и мы с женой остались одни, она сказала мне то, что я никогда не слышал, но о чем мечтал с того дня, как мы вместе:
— Выздоравливай скорей. Ты нам нужен.
И уточнила:
— Мне. Ему — она указала на дверь, в которую только что вышел сын. — И… — она осторожно взяла мою негнущуюся ушибленную руку и приложила к своему животу. — И ему!.. Я здесь, в больнице об этом узнала.
С тех пор минуло несколько лет. Горожане все реже вспоминают о канувшем в небытие «Золотом ключике», о его благотворном влиянии на город. Дело в том, что, как я уже упоминал, в нашу провинцию в свое время хлынула волна состоятельных людей. Это не прошло даром: ввезенный капитал начал работать. Упор был сделан на развитие высоких технологий. Продукция наших заводов пользуется большим спросом в стране и за рубежом. Развился даже туристический бизнес. Характер наших достопримечательностей своеобразен. Архитектура молодого города, которому всего три десятка лет от роду, оказалась оригинальной по отношению к зодческому консерватизму окружающих городов. Местные гиды, как могут, используют этот, как они говорят, феномен, объективируя стиль «ретро-прогресс» (их условная формулировка) чуть ли не магнитными аномалиями, влияющими на мировосприятие местных жителей. Ярким примером, обросшим невероятными подробностями и трактовками, служит пожар, который несколько лет назад в одночасье поглотил градообразующее предприятие, и замеченное в то время появление над городом неопознанного летающего объекта. На этой плодородной ниве, в гигантском размахе, творит наш местный звездочет, Нострадамус во плоти, господин Глобиус. Точнее сказать, это уже не один господин, а целая процветающая фирма «Глобиус», в реестре услуг которой… Словом, ее услуги пользуются большой популярностью у местных и даже иногородних граждан. Один из главных лозунгов, которые фирма использует в своей рекламе: «Будущее — в нашей власти!» Как принято, занимаются благотворительностью, меценатством. Недавно мне от «Глобиуса» пришло электронное письмо с весьма заманчивым предложением… Или с приглашением… Склероз, забыл суть, впрочем, и не пытался вникнуть, сразу стер, отправил в «корзину».
Что касается меня, то я опять выбрал ниву инженерную. Неплохо устроился, на жизнь вполне хватает. Сын заканчивает учебу, по всему видно, что из него получится неплохой журналист. Дочка… Нет слов. Особенно много радостей она доставляет матери. Которая часто, любуясь ангелоподобным чадом, напевает слова одной очень старой песни: «На щечке родинка, а в глазах любовь!.. Ах, эта девушка меня с ума свела, разбила сердце мне, покой взяла!..» Я часто спрашиваю у моей певуньи: «Ну, причем тут какая-то девушка?» На что она отвечает: «Приходится за тебя петь твою партию, у тебя же голоса нет!» — и смеется. Это наша старая игра: у моей жены тоже на щечке родинка. Она у меня просто чудо. Раньше бы я описал ее в стиле поэпрозы… Но сейчас — коротко: «Чудо». Давно не пишу. Моей единственной в жизни книге «Озер голубые глаза» жена, при уборках, предоставляет особое место на полках (потом я ее незаметно прячу в тесноту других книг). Однажды, очень давно, перелистал «Озера…» и подумал: зачем все это было выдумывать, писать эти банальности и наивности?.. Помнится, я называл всех графоманов «рабами своих кручин». А сейчас не пытаюсь посягать даже на менее серьезные обобщения. Сын говорит, что я окончательно обленился. А еще он говорит, что все революционеры — своеобразные графоманы. Иногда я удивляюсь его проницательности. Весь в… маму.
Сегодня ночью я услышал сквозь сон голос супруги: «Милый, ляг нормально!» — «А что такое?» — как ни в чем не бывало, отозвался я, не открывая глаз. — «Ты спишь сидя». — «Конечно, я ведь сплю на дереве».
Жена тихо смеется: «И как называется… такой сон?» — «Пусть будет… „Белая вахта“, — отвечаю я». — «Ты, как всегда, оригинален. И что тебе снится, вахтёр?» — «Пока всё спокойно».
Fueled by Johannes Gensfleisch zur Laden zum Gutenberg


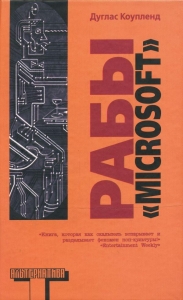



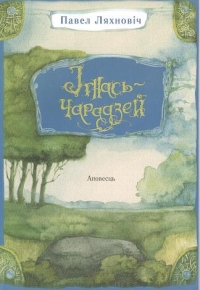


Комментарии к книге «Белый вахтёр», Леонид Васильевич Нетребо
Всего 0 комментариев