Семнадцать о Семнадцатом (сборник)
© Березин В. С., 2017
© Беседин П., 2017
© Бочков В. Б., 2017
© Брейнингер О., 2017
© Буйда Ю. В., 2017
© Ганиева А. А., 2017
© Гер Э., 2017
© Диденко Г., 2017
© Муравьева И. Л., 2017
© Панкевич М. В., 2017
© Пелевин В. О., 2017
© Погодина-Кузмина О., 2017
© Попов Е. А., 2017
© Садулаев Г. У., 2017
© Секисов А., 2017
© Славникова О. А., 2017
© ООО «Издательство «Э», 2017
Виктор Пелевин Хрустальный мир
Вот – третий на пути. О милый друг мой, ты ль В измятом картузе над взором оловянным? А. БлокКаждый, кому 24 октября 1917 года доводилось нюхать кокаин на безлюдных и бесчеловечных петроградских проспектах, знает, что человек вовсе не царь природы. Царь природы не складывал бы ладонь в подобие индийской мудры, пытаясь защитить от промозглого ветра крохотную стартовую площадку на ногте большого пальца. Царь природы не придерживал бы другой рукой норовящий упасть на глаза край башлыка. И уж до чего бы точно никогда не дошел царь природы, так это до унизительной необходимости держать зубами вонючие кожаные поводья, каждую секунду ожидая от тупой русской лошади давно уже предсказанного Дмитрием Сергеевичем Мережковским великого хамства.
– И как тебе не надоест только, Юрий? Уже пятый раз за сегодня нюхаешь, – сказал Николай, с тоской догадываясь, что товарищ и на этот раз не предложит угоститься.
Юрий спрятал перламутровую коробочку в карман шинели, секунду подумал и вдруг сильно ударил лошадь сапогами по бокам.
– Х-х-х-а! За ним повсюду всадник медный! – закричал он и с тяжело-звонким грохотом унесся вдаль по пустой и темной Шпалерной. Затем, как-то убедив свою лошадь затормозить и повернуть обратно, он поскакал к Николаю – по пути рубанул аптечную вывеску невидимой шашкой и даже попытался поднять лошадь на дыбы, но та в ответ на его усилия присела на задние ноги и стала пятиться через всю улицу к кондитерской витрине, заклеенной одинаковыми желтыми рекламами лимонада: усатый герой с Георгиевскими крестами на груди, чуть пригибаясь, чтобы не попасть под осколки только что разорвавшегося в небе шрапнельного снаряда, пьет из высокого бокала под взглядами двух приблизительно нарисованных красавиц сестер милосердия. Николай с кем-то уже обсуждал идиотизм и пошлость этого плаката, висевшего по всему городу вперемежку с эсеровскими и большевистскими листовками; сейчас он почему-то вспомнил брошюру Петра Успенского о четвертом измерении, напечатанную на паршивой газетной бумаге, и представил себе конский зад, выдвигающийся из пустоты и вышибающий лимонад из руки усталого воина.
Юрий наконец справился с лошадью и после нескольких пируэтов в середине улицы направился к Николаю.
– Причем обрати внимание, – возобновил он прерванный разговор, – любая культура является именно парадоксальной целостностью вещей, на первый взгляд не имеющих друг к другу никакого отношения. Есть, конечно, параллели: стена, кольцом окружающая античный город, и круглая монета, или – быстрое преодоление огромных расстояний с помощью поездов, гаубиц и телеграфа. И так далее. Но главное, конечно, не в этом, а в том, что каждый раз проявляется некое нерасчленимое единство, некий принцип, который сам по себе не может быть сформулирован, несмотря на крайнюю простоту…
– Мы про это уже говорили, – сухо сказал Николай, – неопределимый принцип, одинаково представленный во всех феноменах культуры.
– Ну да. И этот культурный принцип имеет некий фиксированный период существования, примерно тысячу лет. А внутри этого срока он проходит те же стадии, что и человек, – культура может быть молодой, старой и умирающей. Как раз умирание сейчас и происходит. У нас это видно особенно ясно. Ведь это, – Юрий махнул рукой на кумачовую полосу с надписью «Ура Учредительному собранию!», протянутую между двумя фонарными столбами, – уже агония. Даже начало разложения.
Некоторое время ехали молча. Николай поглядывал по сторонам – улица словно вымерла, и если бы не несколько горящих окон, можно было бы решить, что вместе со старой культурой сгинули и все ее носители. С начала дежурства пошел уже второй час, а прохожих не попадалось, из-за чего совершенно невозможно было выполнить приказ капитана Приходова.
«Не пропускать по Шпалерной в сторону Смольного ни одну штатскую блядь, – сказал капитан на разводе, значительно глядя на Юрия. – Ясно?» – «Как прикажете понимать, господин капитан, – спросил его Юрий, – в прямом смысле?» – «Во всех смыслах, юнкер Попович, во всех».
Но чтобы не пропустить кого-то к Смольному по Шпалерной, надо, чтобы кроме двух готовых выполнить приказ юнкеров существовал и этот третий, пытающийся туда пройти, – а его не было, и пока боевая вахта сводилась к довольно путаному рассказу Юрия о рукописи какого-то немца, каковую сам Николай не мог прочесть из-за плохого знания языка.
– Как его зовут? Шпуллер?
– Шпенглер, – повторил Юрий.
– А как книга называется?
– Неизвестно. Я ж говорю, она еще не вышла. Это была машинопись первых глав. Через Швейцарию провезли.
– Надо запомнить, – пробормотал Николай и тут же опять начисто забыл немецкую фамилию – зато прочно запомнил совершенно бессмысленное слово «Шпуллер». Такие вещи происходили с ним все время: когда он пытался что-то запомнить, из головы вылетало именно это что-то, а оставались разные вспомогательные конструкции, которые должны были помочь сохранить запоминаемое в памяти, причем оставались очень основательно. Пытаясь вспомнить фамилию бородатого немецкого анархиста, которым зачитывалась гимназистка-сестра, он немедленно представлял себе памятник Марку Аврелию, а вспоминая номер какого-нибудь дома, вдруг сталкивался с датой «1825» и пятью профилями – не то с коньячной бутылки, не то из теософского журнала. Он сделал еще одну попытку вспомнить немецкую фамилию, но вслед за словом «Шпуллер» выскочили слова «Зингер» и «парабеллум»; второе было вообще ни при чем, а первое не могло быть нужным именем, потому что начиналось не на «Ш». Тогда Николай решил поступить хитро и запомнить слово «Шпуллер» как похожее на вылетевшую из головы фамилию; по идее, при этом оно должно было забыться, уступив этой фамилии место.
Николай уже решил переспросить товарища, как вдруг заметил темную фигуру, крадущуюся вдоль стены со стороны Литейного проспекта, и дернул Юрия за рукав. Юрий встрепенулся, огляделся по сторонам, увидел прохожего и попытался свистнуть – получившийся звук свистом не был, но прозвучал достаточно предостерегающе.
Неизвестный господин, поняв, что замечен, отделился от стены, вошел в светлое пятно под фонарем и стал полностью виден. На первый взгляд ему было лет пятьдесят или чуть больше, одет он был в темное пальто с бархатным воротником, а на голове имел котелок. Лицо его с получеховской бородкой и широкими скулами было бы совсем неприметным, если бы не хитро прищуренные глазки, которые, казалось, только что кому-то подмигнули в обе стороны и по совершенно разным поводам. В правой руке господин имел трость, которой помахивал взад-вперед в том смысле, что просто идет себе тут, никого не трогает и не собирается трогать и вообще знать ничего не желает о творящихся вокруг безобразиях. Склонному к метафоричности Николаю он показался похожим на специализирующегося по многотысячным рысакам конокрада.
– П’гивет, ‘ебята, – развязно и даже, пожалуй, нагло сказал господин. – Как служба?
– Вы куда изволите следовать, милостивый государь? – холодно спросил Николай.
– Я-то? А я гуляю. Гуляю тут. Сегодня, ве’гите, весь день кофий пил, к вече’гу так уж се’гце заныло… Дай, думаю, воздухом подышу…
– Значит, гуляете? – спросил Николай.
– Гуляю… А что, нельзя-с?
– Да нет, отчего. Только у нас к вам просьба – не могли бы вы гулять в другую сторону? Вам ведь все равно, где воздухом дышать?
– Все ‘гавно, – ответил господин и вдруг нахмурился: – Но, однако, это безоб’газие какое-то. Я п’гивык по Шпале’гной туда-сюда, туда-сюда…
Он показал тростью как.
Юрий чуть покачнулся в седле, и господин перевел внимательные глазки на него, отчего Юрий почувствовал необходимость что-то произнести вслух.
– Но у нас приказ, – сказал он, – не пускать ни одну штатскую блядь к Смольному.
Господин как-то бойко оскорбился и задрал вверх бородку:
– Да как вы осмеливаетесь? Вы… Да я вас в газетах… В «Новом В’гемени»… – затараторил он, причем стало сразу ясно, что если он и имеет какое-то отношение к газетам, то уж, во всяком случае, не к «Новому Времени». – Наглость какая… Да вы знаете, с кем гово’гите?
Было какое-то несоответствие между его возмущенным тоном и готовностью, с которой он начал пятиться из пятна света назад, в темноту, – слова предполагали, что сейчас начнется долгий и тяжелый скандал, а движения показывали немедленную готовность даже не убежать, а именно задать стрекача.
– В городе чрезвычайное положение, – закричал ему вслед Николай, – подышите пару дней в окошко!
Молча и быстро господин уходил и вскоре полностью растворился в темноте.
– Мерзкий тип, – сказал Николай, – определенно жулик. Глазки-то как зыркают…
Юрий рассеянно кивнул. Юнкера доехали до угла Литейного проспекта и повернули назад – Юрию эта процедура стоила определенных усилий. В его обращении с лошадью проскальзывали ухватки опытного велосипедиста: он далеко разводил поводья, словно в его руках был руль, а когда надо было остановиться, подергивал ногами в стременах, как будто вращая назад педали полугоночного «Данлопа».
Начал моросить отвратительный мелкий дождь, и Николай тоже накинул на фуражку башлык, после чего они с Юрием стали совершенно неотличимы друг от друга.
– А что ты, Юра, думаешь, долго Керенский протянет? – спросил через некоторое время Николай.
– Ничего не думаю, – ответил Юрий. – Какая разница? Не один, так другой. Ты лучше скажи, как ты себя во всем этом ощущаешь?
– В каком смысле?
Николай в первый момент решил, что Юрий имеет в виду военную форму.
– Ну вот смотри, – сказал Юрий, указывая на что-то впереди жестом, похожим на движение сеятеля, – где-то война идет, люди гибнут. Свергли императора, все перевернули к чертовой матери. На каждом углу большевики гогочут, семечки жрут. Кухарки с красными бантами, матросня пьяная. Все пришло в движение, словно какую-то плотину прорвало. И вот ты, Николай Муромцев, стоишь в болотных сапогах своего духа в самой середине всей этой мути. Как ты себя понимаешь?
Николай задумался.
– Да я это как-то не формулировал. Вроде живу себе просто, и все.
– Но миссия-то у тебя есть?
– Какая там миссия, – ответил Николай и даже немного смутился: – Господь с тобой. Скажешь тоже.
Юрий потянул ремень перекосившегося карабина, и из-за его плеча выполз конец ствола, похожий на голову маленького стального индюка, внимательно слушающего разговор.
– Миссия есть у каждого, – сказал Юрий, – просто не надо понимать это слово торжественно. Вот, например, Карл Двенадцатый всю свою жизнь воевал. С нами, еще с кем-то. Чеканил всякие медали в свою честь, строил корабли, соблазнял женщин. Охотился, пил. А в это время в какой-то деревне рос, скажем, некий пастушок, у которого самая смелая мечта была о новых лаптях. Он, конечно, не думал, что у него есть какая-то миссия, – не только не думал, даже слова такого не знал. Потом попал в солдаты, получил ружье, кое-как научился стрелять. Может быть, даже не стрелять научился, а просто высовывать дуло из окопа и дергать за курок – а в это время где-то на линии полета пули скакал великолепный Карл Двенадцатый на специальной королевской лошади. И – прямо по тыкве…
Юрий повертел рукой, изображая падение убитого шведского короля с несущейся лошади.
– Самое интересное, – продолжал он, – что человек чаще всего не догадывается, в чем его миссия, и не узнает того момента, когда выполняет действие, ради которого был послан на землю. Скажем, он считал, что он композитор и его задача – писать музыку, а на самом деле единственная цель его существования – попасть под телегу на пути в консерваторию.
– Это зачем?
– Ну, например, затем, чтобы у дамы, едущей на извозчике, от страха получился выкидыш и человечество избавилось от нового Чингисхана. Или затем, чтобы кому-то, стоящему у окна, пришла в голову новая мысль. Мало ли.
– Ну если так рассуждать, – сказал Николай, – то, конечно, миссия есть у каждого. Только узнать о ней положительно невозможно.
– Да нет, есть способы, – сказал Юрий и замолчал.
– Какие?
– Да есть такой доктор Штейнер в Швейцарии… Ну да ладно.
Юрий махнул рукой, и Николай понял, что лучше сейчас не лезть с расспросами.
* * *
Темной и таинственной была Шпалерная, темной и таинственной, как слова Юрия о неведомом немецком докторе. Все закрывал туман, хотелось спать, и Николай начал клевать носом. За промежуток времени между ударами копыт он успевал заснуть и пробудиться и каждый раз видел короткий сон. Сначала эти сны были хаотичными и бессмысленными: из темноты выплывали незнакомые лица, удивленно косились на него и исчезали; мелькнули темные пагоды на заснеженной вершине горы, и Николай вспомнил, что это монастырь, и вроде бы он даже что-то про него знал, но видение исчезло. Потом пригрезилось, что они с Юрием едут по высокому берегу реки и вглядываются в черную тучу, ползущую с запада и уже закрывшую полнеба, – и даже вроде не они с Юрием, а какие-то два воина – тут Николай догадался было о чем-то, но сразу же проснулся, и вокруг опять была Шпалерная.
В домах горело только пять или шесть окон, и они походили на стены той самой темной расщелины, за которой, если верить древнему поэту, расположен вход в ад. «До чего же мрачный город, – думал Николай, прислушиваясь к свисту ветра в водосточных трубах, – и как только люди рожают здесь детей, дарят кому-то цветы, смеются… А ведь и я здесь живу…» Отчего-то его поразила эта мысль. Моросить перестало, но улица не стала уютней. Николай опять задремал в седле – на этот раз без всяких сновидений.
Разбудила долетевшая из темноты музыка, сначала неясная, а потом – когда юнкера приблизились к ее источнику (освещенному окну первого этажа в коричневом трехэтажном доме с дующим в трубу амуром над дверью) – оказавшаяся вальсом «На сопках Маньчжурии» в обычной духовой расфасовке.
Но-о-чь, тишина-а-а, лишь гаолян шуми-и-т…На глухой и негромкий звук граммофона накладывался сильный мужской голос; четкая тень его обладателя падала на крашеное стекло окна – судя по фуражке, это был офицер. Он держал на весу тарелку и махал вилкой в такт музыке – на некоторых тактах вилка расплывалась и становилась огромной нечеткой тенью какого-то сказочного насекомого.
Спите, друзья-а, страна больша-ая память о вас хранит…Николай подумал о его друзьях.
Через десяток шагов музыка стихла, и Николай опять стал размышлять о странных речах Юрия.
– И какие это способы? – спросил он.
– Ты о чем?
– Да только что говорили. Как узнать о своей миссии.
– А, ерунда, – махнул Юрий рукой.
Он остановил лошадь, осторожно взял поводья в зубы и вынул из кармана перламутровую коробочку. Николай проехал чуть вперед, остановился и выразительно посмотрел на товарища.
Юрий закрылся руками, шмыгнул носом и изумленно глянул на Николая из-под ладони. Николай усмехнулся и закатил глаза. «Неужели опять, подлец, не предложит?» – подумал он.
– Не хочешь кокаину? – спросил наконец Юрий.
– Даже не знаю, – лениво ответил Николай. – Да у тебя хороший ли?
– Хороший.
– У капитана Приходова брал?
– Не, – сказал Юрий, заправляя вторую ноздрю, – это из эсеровских кругов. Такой боевики перед терактом нюхают.
– О! Любопытно.
Николай достал из-под шинели крохотную серебряную ложечку с монограммой и протянул Юрию; тот взял ее за чашечку и опустил витой стерженек ручки в перламутровую кокаинницу.
«Жмот», – подумал Николай, далеко, словно для сабельного удара, перегибаясь с лошади и поднося левую ноздрю к чуть подрагивающей руке товарища (Юрий держал ложечку двумя пальцами, сильно сжимая, словно у него в руке был крошечный и смертельно ядовитый гад, которому он сдавливал шею).
Кокаин привычно обжег носоглотку; Николай не почувствовал никакого отличия от обычных сортов, но из благодарности изобразил на лице целую гамму запредельных ощущений. Он не спешил разгибаться, надеясь, что Юрий подумает и о его правой ноздре, но тот вдруг захлопнул коробочку, быстро спрятал в карман и кивнул в сторону Литейного.
Николай выпрямился в седле. Со стороны проспекта кто-то шел – издали было неясно кто. Николай тихо выругался по-английски и поскакал навстречу.
По тротуару медленно и осторожно, словно каждую секунду боясь обо что-то споткнуться, шла пожилая женщина в шляпе с густой вуалью. Николай чуть не сбил ее лошадью – чудом успел повернуть в последнюю минуту. Женщина испуганно прижалась к стене дома и издала тихий покорный писк, отчего Николай вспомнил свою бабушку и испытал мгновенное и острое чувство вины.
– Мадам! – заорал он, выхватывая шашку и салютуя. – Что вы здесь делаете? В городе идут бои, вам известно об этом?
– Мне-то? – просипела сорванным голосом женщина. – Еще бы!
– Так что же вы – с ума сошли? Вас ведь могут убить, ограбить… Попадетесь какому-нибудь Плеханову, он вас своим броневиком сразу переедет, не задумываясь.
– Еще кто кого пе’геедет, – с неожиданной злобой пробормотала женщина и сжала довольно крупные кулаки.
– Мадам, – успокаиваясь и пряча шашку, заговорил Николай, – бодрое расположение вашего духа заслуживает всяческих похвал, но вам следует немедленно вернуться домой, к мужу и детям. Сядьте у камина, перечтите что-нибудь легкое, выпейте наконец вина. Но не выходите на улицу, умоляю вас.
– Мне надо туда. – Женщина решительно махнула ридикюлем в сторону ведущей в ад расщелины, которой к этому времени окончательно стала дальняя часть Шпалерной улицы.
– Да зачем вам?
– Под’гуга ждет. Компаньонка.
– Ну так встретитесь потом, – подъезжая, сказал Юрий. – Ведь ясно вам сказали: вперед нельзя. Назад можно, вперед нельзя.
Женщина повела головой из стороны в сторону – под вуалью черты ее лица были совершенно неразличимы, и нельзя было определить, куда она смотрит.
– Ступайте, – ласково сказал Николай, – скоро десять часов, потом на улицах будет совсем опасно.
– Donnerwetter! – пробормотала женщина.
Где-то неподалеку завыла собака – в ее вое было столько тоски и ненависти, что Николай поежился в седле и вдруг почувствовал, до чего вокруг сыро и мерзко. Женщина как-то странно мялась под фонарем. Николай развернул лошадь и вопросительно поглядел на Юрия.
– Ну как тебе? – спросил тот.
– Не пойму. Не успел распробовать, мало было. Но вроде самый обычный.
– Да нет, – сказал Юрий, – я об этой женщине. Какая-то она странная, не понравилась мне.
– Да и мне не понравилась, – ответил Николай, оборачиваясь посмотреть, не слышит ли их старуха, но той уже след простыл.
– И обрати внимание, оба картавят. Тот, первый, и эта.
– Да ну и что. Мало ли народу грассирует. Французы вообще все. И еще, кажется, немцы. Правда, чуть по-другому.
– Штейнер говорит, что, когда какое-то событие повторяется несколько раз, это указание высших сил.
– Какой Штейнер? Который эту книгу о культурах написал?
– Нет. Книгу писал Шпенглер. Он историк, а не доктор. А доктора Штейнера я видел в Швейцарии. Ходил к нему на лекции. Удивительный человек. Он-то мне про миссию и рассказал…
Юрий замолчал и вздохнул.
* * *
Юнкера медленно поехали по Шпалерной в сторону Смольного. Улица уже давно казалась мертвой, но только в том смысле, что с каждой новой минутой все сложнее было представить себе живого человека в одном из черных окон или на склизком тротуаре. В другом, нечеловеческом, смысле она, напротив, оживала – совершенно неприметные днем кариатиды сейчас только притворялись оцепеневшими, на самом деле они провожали друзей внимательными закрашенными глазами. Орлы на фронтонах в любой миг готовы были взлететь и обрушиться с высоты на двух всадников, а бородатые лица воинов в гипсовых картушах, наоборот, виновато ухмылялись и отводили взгляды. Опять завыло в водосточных трубах – при том, что никакого ветра на самой улице не чувствовалось. Наверху, там, где днем была широкая полоса неба, сейчас не видно было ни туч, ни звезд; сырой и холодный мрак провисал между двух линий крыш, и клубы тумана сползали вниз по стенам. Из нескольких горевших до этого фонарей два или три почему-то погасли; погасло и окно первого этажа, где совсем недавно офицер пел трагический и прекрасный вальс.
* * *
– Право, Юра, дай кокаину… – не выдержал Николай.
Юрий, видимо, чувствовал то же смятение духа – он закивал, будто Николай сказал что-то замечательно верное, и полез в карман.
На этот раз он не поскупился: подняв голову, Николай изумленно заметил, что наваждение исчезло и вокруг обычная вечерняя улица, пусть темноватая и мрачноватая, пусть затянутая тяжелым туманом, но все же одна из тех, где прошло его детство и юность, с обычными скупыми украшениями на стенах домов и помигивающими тусклыми фонарями.
Вдали, у Литейного, грохнул винтовочный выстрел, потом еще один, и сразу же донеслись нарастающий стук копыт и дикие кавалерийские вскрики. Николай потянул из-за плеча карабин – прекрасной показалась ему смерть на посту, с оружием в руках и вкусом крови во рту. Но Юрий оставался спокоен.
– Это наши, – сказал он.
И точно: всадники, появившиеся из тумана, были одеты в ту же форму, что и Юрий с Николаем. Еще секунда, и их лица стали различимы.
Впереди, на молодой белой кобыле, ехал капитан Приходов – концы его черных усов загибались вверх, глаза отважно блестели, а в руке замороженной молнией сверкала кавказская шашка. За ним сомкнутым строем скакали двенадцать юнкеров.
– Ну как? Нормально?
– Отлично, господин капитан! – вытягиваясь в седлах, хором ответили Юрий с Николаем.
– На Литейном бандиты, – озабоченно сказал капитан. – Вот…
Николаю в ладонь шлепнулся тусклый металлический диск на длинной цепочке. Это были часы. Он ногтем откинул крышку и увидел глубоко врезанную готическую надпись на немецком – смысла ее он не понял и передал часы Юрию.
– «От генерального… от генерального штаба», – перевел тот, с трудом разобрав в полутьме мелкие буквы. – Видно, трофейные. Но что странно, господин капитан, цепочка – из стали. На нее дверь можно запирать.
Он вернул часы Николаю – действительно, хоть цепочка была тонкой, она казалась удивительно прочной; на стальных звеньях не было стыков, будто она была целиком выточена из куска металла.
– А еще людей можно душить, – сказал капитан. – На Литейном три трупа. Два прямо на углу – инвалид и сестра милосердия, задушены и раздеты. То ли их там выбросили, то ли там же, на месте… Скорей всего, выбросили – не могла же сестра на себе безногого тащить… Но какое зверство! На фронте такого не видел. Ясно, отнял у инвалида часы и их же цепочкой… Знаете, там такая большая лужа…
Один из юнкеров тем временем отделился от группы и подъехал к Юрию. Это был Васька Зиверс, большой энтузиаст конькобежного спорта и артиллерийского дела, – в училище его не любили за преувеличенный педантизм и плохое знание русского языка, а с Юрием, отлично знавшим немецкий, он был накоротке.
– …За сотню метров, – говорил капитан, похлопывая шашкой по сапогу, – третье тело успели в подворотню… Женщина, тоже почти голая… и след от цепочки…
Васька тронул Юрия за плечо, и тот, не отводя от капитана глаз и кивая, вывернул лодочкой ладонь. Васька быстро положил в нее крохотный сверточек. Все это происходило за спиной Юрия, но тем не менее не укрылось от капитана.
– Что такое, юнкер Зиверс? – перебил он сам себя. – Что там у вас?
– Господин капитан! Через четыре минуты меняем караул у Николаевского вокзала! – отдав честь, ответил Васька.
– Рысью – вперед! – взревел капитан. – Кр-ругом! На Литейный! У Смольного быстро не пройдем!
Юнкера развернулись и унеслись в туман; капитан Приходов задержал пляшущую кобылу и крикнул Юрию с Николаем:
– Не разъезжаться! Никого без пропуска не пускать, на Литейный не выезжать, к Смольному тоже не соваться! Ясно? Смена в десять тридцать!
И исчез вслед за юнкерами – еще несколько секунд доносился стук копыт, а потом все стихло, и уже не верилось, что на этой сырой и темной улице только что было столько народу.
– От генерального штаба… – пробормотал Николай, подбрасывая серебряную лепешку на ладони. Второпях капитан забыл о своей страшной находке.
Часы имели форму маленькой раковины; на циферблате было три стрелки, а сбоку – три рифленые головки для завода. Николай слегка нажал на верхнюю и чуть не уронил часы на мостовую – они заиграли. Это были первые несколько нот напыщенной немецкой мелодии – Николай сразу ее узнал, но названия не помнил.
– Аппассионата, – сказал Юрий, – Людвиг фон Бетховен. Брат рассказывал, что немцы ее перед атакой на губных гармошках играют. Вместо марша.
Он развернул Васькин сверток – тот, как оказалось, состоял почти из одной бумаги. Внутри было пять ампул с неровно запаянными шейками. Юрий пожал плечами.
– То-то Приходов заерзал, – сказал он, – насквозь людей видит. Только что с ними делать без шприца… Педант называется – берет кокаин, а отдает эфедрином. У тебя тоже шприца нет?
– Отчего, есть, – безрадостно ответил Николай.
Эфедрина не хотелось, хотелось вернуться в казарму, сдать шинель в сушилку, лечь на койку и уставиться на знакомое пятно от головы, которое спросонья становилось то картой города, то хищным монголоидным лицом с бородкой, то перевернутым обезглавленным орлом – Николай совершенно не помнил своих снов и сталкивался только с их эхом.
* * *
С отъездом капитана Приходова улица опять превратилась в ущелье, ведущее в ад. Происходили странные вещи: кто-то успел запереть на висячий замок подворотню в одном из домов; на самой середине мостовой появилось несколько пустых бутылок с ярко-желтыми этикетками, а поверх рекламы лимонада в окне кондитерской наискосок повисло оглушительных размеров объявление, первая строка которого, выделенная крупным шрифтом и восклицательными знаками, фамильярно предлагала искать товар, причем слова «товар» и «ищи» были набраны вместе. Погасли уже почти все фонари – остались гореть только два, друг напротив друга; Николай подумал, что какому-нибудь декаденту из «Бродячей собаки», уже не способному воспринимать вещи просто, эти фонари показались бы мистическими светящимися воротами, возле которых должен быть остановлен чудовищный зверь, в любой миг готовый выползти из мрака и поглотить весь мир. «Товарищи», – повторил он про себя первую строчку объявления.
Где-то снова завыли псы, и Николай затосковал. Налетел холодный ветер, загремел жестяным листом на крыше и умчался, но оставил после себя странный и неприятный звук, пронзительный далекий скрип где-то в стороне Литейного. Звук то исчезал, то появлялся и постепенно становился ближе – словно Шпалерная была густо посыпана битым стеклом и по ней медленно, с перерывами, вели огромным гвоздем, придвигая его к двум последним горящим фонарям.
– Что это? – глупо спросил Николай.
– Не знаю, – ответил Юрий, вглядываясь в клубы черного тумана. – Посмотрим.
Скрип стих на небольшое время, потом раздался совсем рядом, и один из клубов тумана, налившись особенной чернотой, отделился от слоившейся между домами темной мглы. Приближаясь, он постепенно приобретал контуры странного существа: сверху – до плеч – человек, а ниже – что-то странное, массивное и шевелящееся; нижняя часть и издавала отвратительный скрипящий звук. Это странное существо тихо приборматывало одновременно двумя голосами – мужской стонал, женский утешал, причем женским говорила верхняя часть, а мужским – нижняя. Существо на два голоса прокашлялось, вступило в освещенную зону и остановилось, лишь в этот момент, как показалось Николаю, приобретя окончательную форму.
Перед юнкерами в инвалидном кресле сидел мужчина, обильно покрытый бинтами и медалями. Перебинтовано было даже лицо – в просветах между лентами белой марли виднелись только бугры лысого лба и отсвечивающий красным прищуренный глаз. В руках мужчина держал старинного вида гитару, украшенную разноцветными шелковыми лентами.
За креслом, держа водянистые пальцы на его спинке, стояла пожилая седоватая женщина в дрянной вытертой кацавейке. Она была не то чтобы толстой, но какой-то оплывшей, словно мешок с крупой. Глаза женщины были круглы и безумны и видели явно не Шпалерную улицу, а что-то такое, о чем лучше даже не догадываться; на ее голове косо стоял маленький колпак с красным крестом; наверно, он был закреплен, потому что по физическим законам ему полагалось упасть.
Несколько секунд прошли в молчании, потом Юрий облизнул высохшие губы и сказал:
– Пропуск.
Инвалид заерзал в своем кресле, поднял взгляд на сестру милосердия и беспокойно замычал. Та вышла из-за кресла, наклонилась в сторону юнкеров и уперла руки в коленки – Николай отчего-то поразился, увидев стоптанные солдатские сапоги, торчащие из-под голубой юбки.
– Да стыд у вас есть али нет совсем? – тихо сказала она, ввинчиваясь взглядом в Юрия. – Он же раненный в голову, за тебя муку принял. Откуда у него пропуск?
– Раненный, значит, в голову? – задумчиво переспросил Юрий. – Но теперь как бы исцелился? Читаем. Знаем. Пропуск.
Женщина растерянно оглянулась.
Инвалид в кресле дернул струну гитары, и по улице прошел низкий вибрирующий звук – он словно подстегнул сестру, и она, снова пригнувшись, заговорила:
– Сынок, ты не серчай… Не серчай, если я не так что сказала, а только пройти нам обязательно надо. Если бы ты знал, какой это человек сидит… Герой. Поручик Преображенского полка Кривотыкин. Герой Брусиловского прорыва. У него боевой товарищ завтра на фронт отбывает, может, не вернется. Пусти, надо им повидаться, понимаешь?
– Значит, Преображенского полка?
Инвалид закивал, прижал к груди гитару и заиграл. Играл он странно, словно на раскаленной медной балалайке – с опаской ударяя по струнам и быстро отдергивая пальцы, – но мелодию Николай узнал: марш Преображенского полка. Другой странностью было то, что вырез резонатора, у всех гитар круглый, у этой имел форму пентаграммы; видимо, этим объяснялся ее тревожащий душу низкий звук.
– А ведь Преображенский полк, – без выражения сказал Юрий, когда инвалид кончил играть, – не участвовал в Брусиловском прорыве.
Инвалид что-то замычал, указывая гитарой на сестру; та обернулась к нему и, видимо, старалась понять, чего он хочет, – это никак у нее не получалось, пока инвалид вновь не извлек из своего инструмента вибрирующий звук, – тогда она спохватилась:
– Да ты что, сынок, не веришь? Господин поручик сам на фронт попросился, служил в третьей Заамурской дивизии, в конно-горном дивизионе…
Инвалид в кресле с достоинством кивнул.
– С двадцатью всадниками австрийскую батарею взял. От главнокомандующего награды имеет, – укоряюще произнесла сестра милосердия и повернулась к инвалиду: – Господин поручик, да покажите ему…
Инвалид полез в боковой карман френча, вынул что-то и сунул сестре, а та передала Юрию. Юрий, не глядя, отдал лист Николаю. Тот развернул его и прочел:
«Пор. Кривотыкин 43 Заамурского полка 4 батальона. Приказываю атаковать противника на фронте от д. Омут до перекрестка дорог, что севернее отм. 265 вкл., нанося главный удар между деревнями Омут и Черный Поток с целью овладеть высотой 235, мол. фермой и северным склоном высоты 265. П. п. командир корпуса генерал-от-артиллерии Баранцев».
– Что еще покажете? – спросил Юрий.
Инвалид полез в карман и вытащил часы, отчего Николаю на секунду стало не по себе. Сестра передала их Юрию, тот осмотрел и отдал Николаю. «Так, глядишь, часовым мастером станешь, – подумал Николай, откидывая золотую крышку, – за час вторые». На крышке была гравировка:
«Поручику Кривотыкину за бесстрашный рейд. Генерал Баранцев».
Инвалид тихо наигрывал на гитаре марш Преображенского полка и щурился на что-то вдали, задумавшись, видно, о своих боевых друзьях.
– Хорошие часы. Только мы вам лучше покажем, – сказал Юрий, вынул из кармана серебряного моллюска, покачал его на цепочке, перехватил ладонью и нажал рифленую шишечку на боку.
Часы заиграли.
Николай никогда раньше не видел, чтобы музыка – пусть даже гениальная – так сильно и, главное, быстро действовала на человека. Инвалид на секунду закрыл лицо ладонью, словно не в силах поверить, что эту музыку мог написать человек, а затем повел себя очень странно: вскочил с кресла и быстро побежал в сторону Литейного; следом, стуча солдатскими сапогами, побежала сестра милосердия. Николай сдернул с плеча карабин, повозился с шишечкой предохранителя и выстрелил вверх.
– Стоять! – крикнул он.
Сестра на бегу обернулась и дала несколько выстрелов из нагана – завизжали рикошеты, рассыпалась по асфальту выбитая витрина парикмахерской, откуда всего секунду назад на мир удивленно глядела девушка в стиле модерн, нанесенная на стекло золотой краской. Николай опустил ствол и два раза выстрелил в туман, наугад: беглецов уже не было видно.
– И чего они к Смольному так стремятся? – стараясь, чтобы голос звучал спокойно, спросил Юрий. Он не успел сделать ни одного выстрела и до сих пор держал в руке часы.
– Не знаю, – сказал Николай. – Наверное, к большевикам хотят – там можно спирт купить и кокаин. Совсем недорого.
– Что, покупал?
– Нет, – ответил Николай, закидывая карабин за плечо, – слышал. Бог с ним. Ты про свою миссию начал рассказывать, про доктора Шпуллера…
– Штейнера, – поправил Юрий; острые ощущения придали ему разговорчивости. – Это такой визионер. Я, когда в Дорнахе был, ходил к нему на лекции. Садился поближе, даже конспект вел. После лекции его сразу обступали со всех сторон и уводили, так что поговорить с ним не было никакой возможности. Да я особо и не стремился. И тут что-то стал он на меня коситься на лекциях. Поговорит, поговорит, а потом замолчит и уставится. Я уж и не знал, что думать, – а он вдруг подходит ко мне и говорит: «Нам с вами надо поговорить, молодой человек». Пошли мы с ним в ресторан, сели за столик. И стал он мне что-то странное втолковывать – про Апокалипсис говорил, про невидимый мир и так далее. А потом сказал, что я отмечен особым знаком и должен сыграть огромную роль в истории. Что чем бы я ни занимался, в духовном смысле я стою на некоем посту и защищаю мир от древнего демона, с которым уже когда-то сражался.
– Это когда ты успел? – спросил Николай.
– В прошлых воплощениях. Он – то есть не демон, а доктор Штейнер – сказал, что только я могу его остановить, но смогу ли – никому не известно. Даже ему. Штейнер мне даже гравюру показывал в одной древней книге, где будто бы про меня говорится. Там были два таких, знаешь, длинноволосых, в одной руке – копье, в другой – песочные часы, все в латах, и вроде один из них – я.
– И ты во все это веришь?
– Черт его знает, – усмехнулся Юрий, – пока, видишь, с медичками перестреливаюсь. И то не я, а ты. Ну что, вколем?
– Пожалуй, – согласился Николай и полез под шинель, в нагрудный карман гимнастерки, где в плоской никелированной коробочке лежал маленький шприц.
На улице стало совсем тихо. Ветер больше не выл в трубах; голодные псы, похоже, покинули свои подворотни и подались в другие места; на Шпалерную сошел покой – даже треск тончайших стеклянных шеек был хорошо различим.
– Два сантиграмма, – раздавался шепот.
– Конечно, – шептал другой голос в ответ.
– Откинь шинель, – говорил первый шепот, – иглу погнешь.
– Пустяки, – откликался второй.
– Ты с ума сошел, – шептал первый голос, – пожалей лошадь…
– Ничего, она привычная, – шептал второй…
* * *
…Николай поднял голову и огляделся. Трудно было поверить, что осенняя петроградская улица может быть так красива. За окном цветочного магазина в дубовых кадках росли три крошечные сосенки; улица круто шла вверх и становилась шире; окна верхних этажей отражали только что появившуюся в просвете туч луну, все это было Россией и было до того прекрасно, что у Николая на глаза навернулись слезы.
– Мы защитим тебя, хрустальный мир, – прошептал он и положил ладонь на рукоять шашки.
Юрий крепко держал ремень карабина у левого плеча и не отрываясь глядел на луну, несущуюся вдоль рваного края тучи. Когда она скрылась, он повернул вдохновенное лицо к спутнику.
– Удивительная вещь эфедрин, – сказал он.
Николай не ответил – да и что можно было ответить? Уже по-иному дышала грудь, другим казалось все вокруг и даже отвратительная изморось теперь ласкала щеки. Тысячи мелких и крупных вопросов, совсем недавно бывших мучительными и неразрешимыми, вдруг оказались не то что решенными, но совершенно несущественными; центр тяжести жизни был совершенно в другом, и когда это другое вдруг открылось, выяснилось, что оно всегда было рядом, присутствовало в любой минуте любого дня, но было незаметным, как становится невидимой долго висящая на стене картина.
– Я жалобной рукой сжимаю свой костыль, – стал нараспев читать Юрий. – Мой друг – влюблен в луну – живет ее обманом. Вот – третий на пути…
Николай уже не слышал товарища, он думал о том, как завтра же изменит свою жизнь. Мысли были бессвязные, иногда откровенно глупые, но очень приятные. Начать обязательно надо было с того, чтобы встать в пять тридцать утра и облиться холодной водой, а дальше была такая уйма вариантов, что остановиться на чем-нибудь конкретном было крайне тяжело, и Николай стал напряженно выбирать, незаметно для себя приборматывая вслух и сжимая от возбуждения кулаки.
– …Заборы – как гроба! Повсюду преет гниль! Все, все погребено в безлюдье окаянном! – читал Юрий и рукавом шинели вытирал выступающий на лбу пот.
* * *
Некоторое время ехали молча, потом Юрий стал напевать какую-то песенку, а Николай впал в странное подобие дремы. Странное – потому, что это было очень далекое от сна состояние – как после нескольких чашек крепкого кофе, но сопровождающееся подобием сновидений. Перед Николаем, накладываясь на Шпалерную, мелькали дороги его детства: гимназия и цветущие яблони за ее окном; радуга над городом; черный лед катка и стремительные конькобежцы, освещенные ярким электрическим светом; безлистные столетние липы, двумя рядами сходящиеся к старинному дому с колоннадой. Но потом стали появляться картины как будто знакомые, но на самом деле никогда не виданные, – померещился огромный белый город, увенчанный тысячами золотых церковных головок и как бы висящий внутри огромного хрустального шара, и этот город – Николай знал это совершенно точно – был Россией, а они с Юрием, который во сне был не совсем Юрием, находились за его границей и сквозь клубы тумана мчались на конях навстречу чудовищу, в котором самым страшным была полная неясность его очертаний и размеров: бесформенный клуб пустоты, источающий ледяной холод.
Николай вздрогнул и широко открыл глаза. В броне блаженства появилась крохотная трещинка, и туда просочилось несколько капель неуверенности и тоски. Трещинка росла, и скоро мысль о предстоящем завтра утром (ровно в пять тридцать) повороте всей жизни и судьбы перестала доставлять удовольствие. А еще через пару минут, когда впереди на двух сторонах улицы замигали и поплыли навстречу два фонаря, эта мысль стала несомненным и главным источником переполнившего душу страдания.
«Отходняк», – наконец вынужден был признаться себе Николай.
Странное дело – откровенная прямота этого вывода словно заделала брешь в душе, и количество страдания в ней перестало увеличиваться. Но теперь надо было очень тщательно следить за своими мыслями, потому что любая из них могла стать началом неизбежной, но пока еще, как хотелось верить, далекой полосы мучений, которых каждый раз требовал за свои услуги эфедрин.
С Юрием явно творилось то же самое, потому что он повернулся к Николаю и сказал тихо и быстро, словно экономя выходящий из легких воздух:
– Надо на кишку было кинуть.
– Не хватило бы, – так же отрывисто ответил Николай и почувствовал к товарищу ненависть за то, что тот вынудил его открыть рот.
Под копытами лошади раздался густой и противный хруст – это были осколки выбитой наганным рикошетом витрины.
«Хр-р-рус-с-стальный мир», – с отвращением к себе и всему на свете подумал Николай. Недавние видения показались вдруг настолько нелепыми и стыдными, что захотелось в ответ на хруст стекла также заскрипеть зубами.
Теперь ясно стало, что ждет впереди – отходняк. Сначала он был где-то возле фонарей, а потом, когда фонари оказались рядом, отступил в клубящийся у пересечения с Литейным туман и пока выжидал. Несомненным было то, что холодная, мокрая и грязная Шпалерная – единственное, что существует в мире, а единственным, чего можно было от нее ждать, была беспросветная тоска и мука.
По улице пробежала черная собака неопределенной породы с задранным хвостом, рявкнула на двух сгорбленных серых обезьянок в седлах и нырнула в подворотню, а вслед за ней со стороны Литейного появился и стал приближаться отходняк.
Он оказался усатым мужиком средних лет, в кожаном картузе и блестящих сапогах – типичным сознательным пролетарием. Перед собой пролетарий толкал вместительную желтую тележку с надписями «Лимонадъ» на боках, а на переднем борту тележки был тот самый рекламный плакат, который бесил Николая даже и в приподнятом состоянии духа, – сейчас же он показался всей мировой мерзостью, собранной на листе бумаги.
– Пропуск, – мучительно выдавил из себя Юрий.
– Пожалуйста, – веско сказал мужчина и подал Юрию сложенную вдвое бумагу.
– Так. Эйно Райхья… Дозволяется… Комендант… Что везете?
– Лимонад для караула. Не желаете?
В руках у пролетария блеснули две бутылки с ядовито-желтыми этикетками. Юрий слабенько махнул рукой и выронил пропуск – пролетарий ловко поймал его над самой лужей.
– Лимонад? – отупело спросил Николай. – Куда? Зачем?
– Понимаете ли, – отозвался пролетарий, – я служащий фирмы «Карл Либкнехт и сыновья», и у нас соглашение о снабжении лимонадом всех петроградских постов и караулов. На средства генерального штаба.
– Коля, – почти прошептал Юрий, – сделай одолжение, глянь, что там у него в тележке.
– Сам глянь.
– Да лимонад же! – весело отозвался пролетарий и пнул свою повозку сапогом. Внутри картаво загрохотали бутылки; повозка тронулась с места и проехала за фонари.
– Какого еще генерального штаба… А впрочем, пустое. Проходи, пои посты и караулы… Только быстрее, садист, быстрее!
– Не извольте беспокоиться, господа юнкера! Всю Россию напоим!
– Иди-и-и… – вытягиваясь в седле, провыл Николай.
– Иди-и… – сворачиваясь в серый войлочный комок, прохрипел Юрий.
Пролетарий спрятал пропуск в карман, взялся за ручки своей тележки и покатил ее вдаль. Скоро он растворился в тумане, потом долетел хруст стекла под колесами, и все стихло. Прошла еще секунда, и какие-то далекие часы стали бить десять. Где-то между седьмым и восьмым ударами в воспаленный и страдающий мозг Николая белой чайкой впорхнула надежда:
– Юра… Юра… Ведь у тебя кокаин остался?
– Боже, – облегченно забормотал Юрий, хлопая себя по карманам, – какой ты, Коля, молодец… Я ведь и забыл совсем… Вот.
– Полную… отдам, слово чести!
– Как знаешь. Подержи повод… Осторожно, дубина, высыпешь все. Вот так. Приношу извинения за дубину.
– Принимаю. Фуражкой закрой – сдует.
* * *
Шпалерная медленно ползла назад, остолбенело прислушиваясь своими черными окнами и подворотнями к громкому разговору в самом центре мостовой.
– Главное в Стриндберге – не его так называемый демократизм и даже не его искусство, хоть оно и гениально, – оживленно жестикулируя свободной рукой, говорил Юрий. – Главное – это то, что он представляет новый человеческий тип. Ведь нынешняя культура находится на грани гибели и, как любое гибнущее существо, делает отчаянные попытки выжить, порождая в алхимических лабораториях духа странных гомункулусов. Сверхчеловек – вовсе не то, что думал Ницше. Природа сама еще этого не знает и делает тысячи попыток, в разных пропорциях смешивая мужественность и женственность – заметь, не просто мужское и женское. Если хочешь, Стриндберг – просто ступень, этап. И здесь мы опять приходим к Шпенглеру…
«Вот черт, – подумал Николай, – как фамилию-то запомнить?» Но вместо фамилии он спросил другое:
– Слушай, а помнишь, ты стихотворение читал? Какие там последние строчки?
Юрий на секунду наморщил лоб:
И дальше мы идем. И видим в щели зданий Старинную игру вечерних содроганий.Юрий Буйда Священные кости контрреволюции[1]
Трофим Никитич окончил реальное училище, побывал с отцом в Европе, в Германии и Англии, работал мастером на пороховом заводе, потом в народном училище, был толстовцем, но вскоре разочаровался в «христианстве, лишившемся клыков и когтей», и организовал в Осорьине социал-демократический кружок. Участниками этого кружка были рабочие и мастера порохового завода, железнодорожных мастерских, электрической фабрики Кнудсена, ткачи, учителя, гимназисты, а также несколько молодых женщин с неудовлетворенными художественными потребностями.
Трофим Никитич часто ездил в Москву и Петербург – там он и познакомился с Плехановым, Мартовым, Лениным, Троцким и другими революционерами.
Он находился под надзором полиции, но до тюрьмы или ссылки дело не дошло – случилась Февральская революция, а затем и Октябрьская, и преподаватель народного училища стал фактическим диктатором уезда.
В 1919 году он с ополченцами успешно сдерживал на подступах к Осорьину деникинцев до подхода частей Красной армии, а в 1920-м руководил подавлением крестьянского восстания, которое возглавлял его родной брат Тимофей.
В детстве братья Черепнины, Трифон и Тимофей, были алтарниками в церкви Бориса и Глеба, и прадед до самой глубокой старости мог по памяти прочесть любой акафист, тропарь или, скажем, седален по третьей песни канона апостолу Андрею, который он особенно любил: «Радуйся, престоле огнезрачный Божий: радуйся, Отроковице, седалище царское, одре упещреннопостланный, златопорфирный чертоже, хламидо червленошарная, украшенный храме, молниеносная колеснице, светильниче многосветлый: радуйся, Богородице, двонадесятостенный граде, и дверь златокованная, и чертоже светообразный, светлопозлащенная трапезо, богоукрашенная скиние: радуйся, славная невесто солнцекаплющая: радуйся, едина души моея благолепие…»
В нашем городе проживало тогда немало участников Октябрьской революции и очень много ветеранов Великой войны. Их портреты висели в школах, клубах, домах культуры, в городском парке, а в историко-художественном музее им были посвящены два зала. Их приглашали на встречи с пионерами и комсомольцами, на мемориальные вечера и торжественные собрания. Приглашали всех, кроме Трофима Никитича и его сына Андрея Трофимовича, моего деда.
Ну, что деда не звали – понятно: он был директором секретного военного завода, не имевшего названия, а только номер, и прозванного в народе Ящиком. Но прадед не был засекреченным человеком, и о его вкладе в революцию и в послевоенное восстановление города в Осорьине знали все. Однако в музейном зале, посвященном революции, он был представлен скупо – увеличенной фотографией из личного дела с подписью «Черепнин Т. Н.», а в экспозиции, посвященной послевоенной истории города, он фигурировал лишь однажды – на групповом фото делегатов районной партийной конференции. Его не приглашали ни в школы, ни на встречи с комсомольцами. Когда я спросил – почему, прадед ответил со смешком: «Я известен в устных кругах, не в письменных».
Трофим Никитич публично обзывал секретарей райкома буржуями, ревизионистами и пораженцами, а главного осорьинского героя – легендарного революционного комиссара Ласкирева-Беспощадного – пьяницей, который погиб вовсе не в бою с деникинцами, как утверждалось в книгах, а на сеновале, где его зарезал крестьянин, застукавший комиссара со своей женой.
В школе нас заставляли записывать воспоминания родных и близких – участников Великой войны, и я, конечно, не раз подступал к прадеду с этой просьбой. Но Трофим Никитич отмахивался:
– Когда-то я воевал за идею, а тут пришлось – за родину. А какая у большевика родина? Весь мир у него родина. – И добавлял с усмешечкой: – Сталину повезло – Гитлер сделал за него всю работу, когда уничтожил тех, кто еще был способен к сопротивлению. Одних уничтожил, других – дискредитировал…
Даже мне, подростку, было ясно, что с такими воспоминаниями к учителю лучше не соваться.
Впрочем, все эти его выходки тогда воспринимались уже не как преступное покушение на святыни, а как чудачества выживающего из ума старика, помешавшегося на бабах. Неприятие же Трофима Никитича, отторжение его бюрократией и обывателями были вызваны причинами более глубокими, которые можно свести к главной: он был реликтом.
Рядом с прадедом я – и не только я – видел, слышал, чувствовал тот грандиозный мир, ту аморальную, но громадную силу, ту великую жизнь, которую он прожил и которая продолжала жить в нем. Он был беззаконным чудовищем из страшной бездны, облепленным ракушками, покрытым водорослями, существом полуокаменевшим, покрытым рубцами и шрамами, принадлежащим к вымершей породе людей, которые питались огнем и кровью, низвергали богов и правили историей, пуская ее бешеных коней вскачь. Он был чужаком в жизни, где превыше всего ценились стабильная зарплата, теплый туалет и широкий выбор обезболивающих средств.
Трофим Никитич не мог забыть, что революция начиналась под черными знаменами – знаменами отчаяния, боли и гнева, и в мире красных знамен он был чужим. Одиноким чужаком, который так и не освоил языка новых людей.
Каждый день он что-то писал в толстых тетрадях большого формата, черкал, рычал, сопел – сейчас я понимаю, что ему хотелось выговориться, поговорить с кем-нибудь, но собеседников поблизости не было…
Несколько раз в году он и уезжал в деревню Сторожево, раскиданную среди болот и озер в лесу, километрах в пятнадцати-двадцати от Осорьина. Там жил старик Столетов, его собутыльник и собеседник. Меня Трофим Никитич стал брать с собой, как только я научился плавать и отличать съедобные ягоды от ядовитых.
Хорошо помню нашу поездку в Сторожево за год до смерти прадеда.
Пока я предавался малохольным радостям и горестям полового созревания, старики, позавтракав, уходили в лес или уезжали на мотоцикле в какую-нибудь дальнюю деревню – Ахматово, Юрасово, Нехватаевку, Рубежную. Иногда в походах по окрестностям их сопровождала Слава Воронова. Когда-то она была комсомольской активисткой, участвовала в разрушении церквей, прошла всю войну, стирая и штопая солдатское белье, трижды побывала замужем, вырастила восьмерых детей, а теперь с трудом передвигалась, опираясь на костыль, и пугала детей наперстком, который навсегда прирос к среднему пальцу ее правой руки. Но ум у нее оставался ясным – она помнила все события Тимофеевского восстания, а именно оно, как я вскоре понял, и интересовало стариков.
В городском историко-художественном музее было очень мало материалов, посвященных этому восстанию, – три-четыре фотографии, на которых были запечатлены бойцы частей особого назначения и добровольцы из коммунистической роты, да схемы боев и походов – синие и красные стрелки, кружки и звездочки. Экспозиция находилась в темном углу, и экскурсоводы обычно там не задерживались.
Когда-то, на исходе Гражданской войны, Тимофеевщина полыхала почти во всех уездах нашей губернии. Крестьяне, возмущенные продотрядами, которые отнимали у них почти весь хлеб, взялись за оружие, сформировали несколько полков, возглавляемых бывшими офицерами, разгромили красноармейские гарнизоны и образовали Осорьинскую лесную республику.
На подавление восстания были брошены регулярные войска, бронемашины, авиация, артиллерия и добровольцы из партийного и советского актива. Повстанцев, прятавшихся в лесах, обстреливали снарядами с горчичным газом и бомбили с воздуха, их семьи брали в заложники, расстреливали без суда. К весне 1920 года восстание было подавлено.
В Осорьине не вспоминали о восстании. Ни слова, ни одного слова о жертвах или победителях я никогда не слышал.
Только тем летом я узнал, что Тимофеевским восстание называлось по имени командующего повстанческими силами – Тимофея Черепнина, родного брата Трофима Никитича. Его еще называли Железной Шапкой или Железной Головой: на первой германской у него осколком срезало верхушку черепа, и он прикрывал темя стальным колпаком. Тимофей был захвачен неподалеку от Сторожева, расстрелян и тайно похоронен где-то поблизости. Его могилу и искали Столетов и Трофим Никитич, опрашивая стариков из окрестных деревень и гоняя по лесам Славу Воронову.
Старуха сердилась, напоминала Трофиму Никитичу о том, что он и сам был тут, когда расстреливали Тимофея Черепнина, но прадед махал рукой: «Когда это было!»
Когда-то Трофим Никитич был одним из тех, кто приказывал расстреливать повстанцев, травить газом, никого не жалеть, а теперь хотел извлечь из могилы останки брата-контрреволюционера и захоронить их на Красной Горе, на фамильном участке.
В середине августа было наконец установлено место захоронения Тимофея Черепнина – осталось выкопать кости.
Уложив в корзину еду, брезентовые рукавицы и бутылку с квасом и утром прихватив косу и лопаты, мы отправились в лес, к Домику.
Часа через полтора добрались до места – это была поляна, окруженная старыми огромными дубами, ее огибал довольно глубокий овраг, тянувшийся до озера, которое блестело вдали за деревьями.
В давние времена тут стоял охотничий домик, низ которого был сложен из кирпича, а верх из бревен. Здесь и был расстрелян Тимофей Черепнин. Тело его сбросили в подвал, после чего домик взорвали. В траве кое-где валялись обломки кирпича, огрызки деревянных балок, высохших до твердости камня, но определить границы здания было невозможно.
Столетов взял косу и в несколько взмахов очистил центр поляны от травы.
– Неужели не помнишь? – спросил он у Трофима Никитича.
– Тут все изменилось, – сказал прадед. – Да и было это когда? Больше шестидесяти лет назад… деревьев тут этих не было… все другое…
Он воткнул лопату в землю.
– Значит, тут. – Посмотрел на меня: – Чего ждешь?
Столетов заставил меня надеть рукавицы, и я взялся за лопату.
Минут через пятнадцать я взмок, через полчаса снял рубашку, а через час понял, что копать мне тут предстоит долго, очень долго, может быть, до тех пор, пока я не наткнусь на собственный скелет.
Обломки кирпичей и деревянных конструкций, полусгнившие ветки, камни, корни толстые, тонкие и вовсе нитяные, пронизывавшие почву во всех направлениях, – все это мешало копать, превращая работу в адово испытание. Иногда приходилось выбирать камни руками, а корни – рубить с остервенением, до изнеможения. К полудню мне удалось выкопать яму примерно два на два метра, местами едва достигавшую полуметра глубины.
Старики не обращали на меня никакого внимания. Они полеживали на плащ-палатке, расстеленной в тени, болтали и покуривали, пока я вгрызался в землю.
– Для начала сойдет, – сказал наконец Трофим Никитич. – А теперь давай-ка перекусим.
После обеда мне было позволено искупаться, а потом я вернулся к яме.
Копать пришлось два дня. На третий я перерубил лопатой серую кость. Случилось это на полутораметровой глубине. Столетов определил, что кость принадлежала собаке.
Старики пытались вспомнить, была ли у Тимофея собака, а я тем временем, отбросив лопату, руками разгребал мягкую землю, пока не наткнулся на человеческий череп без верхушки. Меня выгнали из ямы.
Трофим Никитич опустился на колени и принялся бережно выбирать из земли кость за костью. Через несколько минут он протянул Столетову стальную полусферу – потемневшую от времени, но без ржавчины. Столетов кивнул.
Мы работали до наступления темноты, собирая кости в водонепроницаемый крафт-мешок, а потом забросали яму землей.
Через два дня в Юрасово отпевали раба Божия Тимофея.
Об этом договорился Столетов, и из-за этого накануне старики едва не поссорились.
Вечером они крепко выпили и заспорили.
Я слышал их голоса из кухни, но слов разобрать не мог, а когда вошел с чайником в гостиную, Трофим Никитич кричал:
– Я не собирался и не собираюсь с ним мириться! С историей невозможно поссориться или помириться! Он был падающим, и я его подтолкнул. Он только и делал, что сыпал песок в наш механизм, – вредитель, враг, тля!
– Он твой брат, – спокойно сказал Максим Ильич. – Твоя кровь. Идеи долго не живут, они меняются и умирают, а кровь – она всегда кровь…
– Революция выше крови! Несть пред ней ни эллина, ни иудея, ни брата, ни отца! Ничуть не жалею, что отдал приказ расстрелять его, ни-чуть! Мы сражались – и ты сражался – за всех людей, а не за русских или евреев, не за братьев или сестер! Мы были всемирным словом, всемирным! При слове «русский» моя рука тянется к кобуре! При слове «брат»…
– Слезь с коня, Трофим Никитич, – перебил его Столетов, по-прежнему не повышая голоса. – И конь-то давно сдох, а ты все никак не уймешься… – Помолчал. – Прошлое прошло. Сейчас ты хочешь похоронить его по-человечески… ведь что-то же заставило тебя это сделать через шестьдесят лет…
– А ты хотел бы, чтоб его кости лежали вперемешку с собачьими?
Утром Столетов заклеил горловину крафт-мешка с костями и положил его в гроб.
Этот гроб он смастерил накануне. Сколотил из хороших струганых досок и обил черной тканью. На верхней крышке белой краской изобразил крест с двумя перекладинами – прямой и косой.
Трофим Никитич отнял у него кисть и дорисовал маленькую прямую перекладину выше большой. Столетов усмехнулся, но промолчал.
Деревня еще не проснулась, когда мы уложили гроб в лодку и отчалили, держа курс на юг, мимо риги и дома Чурилихи. На крыльце курил Сергей Чурилин. Он был в майке и кепке.
Часа через два пристали к берегу – здесь нас ждал грузовик.
Мы погрузили гроб в кузов. Я и Столетов устроились на какой-то ветоши рядом с гробом, а Трофим Никитич сел в кабину.
Из солидарности с прадедом я не пошел на отпевание.
За церковью находилось старое кладбище со скамейками у входа – на них мы и сели.
Трофим Никитич курил, я глазел по сторонам. Внимание мое привлекла дверца в боковой стене храма. Эта дверь была такой маленькой, что человек мог пройти в нее только на четвереньках.
– Зачем она?
Старик усмехнулся:
– Для дьявола – он ведь тайная любовь Бога. По ночам через эту дверцу черт пролезает в церковь и молится, молится… плачет и кается…
Он, конечно, шутил, но мне почему-то стало жалко его. Не черта жалко – прадеда.
После отпевания мы снова погрузили гроб в кузов машины, которая отвезла нас на берег.
Нам предстояло отвезти в Осорьин гроб.
Старуха Изотова на прощание подарила нам икону.
Она всегда носила черное, редко вступала в разговоры, жила одиноко.
Ее первый муж был повстанцем-тимофеевцем, отсидел почти двадцать лет на Соловках и в Карлаге, умер незадолго до войны, второй муж погиб под Смоленском в сорок втором, сыновья были похоронены в братских могилах в Будапеште и Праге.
Трофим Никитич и Столетов пытались ее разговорить, расспрашивали о первом муже, но старуха отмалчивалась.
И вдруг утром, накануне нашего отъезда, она появилась в доме Столетова со свертком в руках, спросила, правда ли, что останки Тимофея были отпеты в Юрасовской церкви, а потом развернула платок и выложила на стол икону.
В центре ее был изображен черный крест, на котором было распято какое-то странное существо, похожее на собаку. Существо это было кричаще-красного цвета, как будто окровавленное, и смотреть на него долго не было сил – такой мукой веяло от него. На заднем плане виднелись уходящие за горизонт кресты поменьше. По сторонам креста и чуть ниже стояли толпой бородатые мужики в красных рубахах и черных штанах, все с топорами в руках, все с нимбами над головой, все с суровыми лицами. Среди этих людей выделся ростом и жгучим взглядом мужик в короне, державший в одной руке громадный топор, а в другой – дубину. На плечах у него была накинута какая-то шкура.
От этой иконы, выполненной на куске фанеры в красных и черных тонах, веяло ужасом, какой-то нездешней страстью.
– Это не икона, Катя, – сказал Трифон Никитич. – Это черт знает что, но только не икона. Откуда она у тебя?
– От Георгия, – сказала старуха. – От мученика Георгия…
Старики переглянулись: Георгием звали ее первого мужа.
– Сам нарисовал, что ли? – спросил Столетов.
Она кивнула.
– А этот… – Трифон Никитич ткнул пальцем в мужика с короной на голове, – небось Христос?
– Христос, – сказала старуха.
Голос у нее был тягучий, говорила она медленно, тяжело, словно с каждым словом выкладывала на стол чугунное ядро.
– Нашего Исуса хотели распять зимой на заснеженном холме в Осорьине, – сказала она, – но он вместо себя волка подсунул, того к кресту и прикололи. Оттого у нас в России закаты такие кроваво-красные, что самый хитрый мужик, Исус наш, успел перед распятием шкуру с волка содрать и тулуп себе сшить. А первым делом Христос не на небо кинулся, на небо посмотрел только, а в ад сошел, грешников выручать, а там никого, ну он назад, а земля не пускает, так в земле на всю зиму и застрял. А весной пророс, как семя: сто крестов из-под земли закустилось, и на каждом кресте по сто Исусов, и все разные: и Христосы, и Христоски, и Христенята, и все как на подбор: все золотые, и кафтаны у них бело-голубые, небесно-облачные, райские кафтаны, и у каждого в руке топор, а в другой распятье со Христом нашим Исусом, а у того тоже топор и распятье, и так все и повторяется, и повторяется, и конца не видать – все небо крестами вышили малиновым, кровью волка невиннораспятого окропленное, и крест тот множественен и бесконечен. А главный Исус стоит внизу, волчьим тулупом согревается и не то что радуется, а тихо удивляется делам сотворенным, в одной руке у него топор, на чей обух он всегда крестится, а в другой – нет, не икона, а в другой руке у него – дубина, только сунься…
– Вот, значит, какой у вас Христос, – пробормотал Трофим Никитич. – Жутковатого вы себе спасителя выбрали…
– Каков народ, таков и Христос, – сказала старуха Изотова. – Его освятить надо. Юрасовский поп отказался. А у вас там в Осорьине епископ – ему отдайте, пусть освятит…
– Да не освятит, Катя, – сказал прадед. – Я ж тебе сказал: не икона это…
Но старуха как будто не слышала – повернулась и ушла.
– Вот с этим мраком мы и воевали, – сказал прадед. – Воевали-воевали, а он все еще тут, не выветрился…
– Возьми, – сказал Столетов. – Такие подарки раз в жизни делают.
Трофим Никитич отправился на Красную Гору, в кладбищенскую контору, чтобы договориться о захоронении останков Тимофея Черепнина.
В кладбищенской конторе ему объяснили, что для этого он должен представить гербовую справку о смерти Тимофея Черепнина, которая выдается в ЗАГСе на основании медицинского свидетельства о смерти, паспорта усопшего или выписки из домовой книги и паспорта заявителя, то есть Трофима Никитича.
Разумеется, ни паспорта Тимофея, ни выписки из домовой книги по месту жительства брата старик предъявить не мог, а уж тем более – медицинского свидетельства о смерти, которое выдается в больнице или в морге после судебно-медицинской экспертизы, поскольку смерть усопшего была насильственной. А кроме того, в этом случае, то есть если смерть признана насильственной, для получения медицинского свидетельства о смерти требуется еще и милицейский протокол об осмотре трупа.
Старик объяснил, что его брат погиб более шестидесяти лет назад, точнее, был расстрелян в лесу без суда, следствия и осмотра трупа, который сбросили в подвал, а потом завалили подвал взрывом. Рассказал и о том, как мы искали и выкапывали кости.
Люся Евтюхова, начальница кладбищенской конторы, вытаращила глаза и спросила:
– Вы эксгумировали тело без официального разрешения? Сами вскрыли могилу?
– Это кости, а не тело, – попытался образумить Люсю старик. – Да и никакой могилы там нет и не было.
– И вы уверены, что это кости вашего брата? То есть вы отдавали останки на экспертизу и у вас есть акт экспертизы о принадлежности этих костей вашему брату?
Трофим Никитич покачал головой:
– Нет у меня никакого акта. И документов никаких нет. А паспортов тогда не было – первые паспорта выдали в тридцать втором, через двенадцать лет после его смерти.
Люся налила старику чаю, и за чаем Трофим Никитич рассказал ей о Тимофее и его судьбе.
– Значит, все документы уничтожены или засекречены, – подвела итог Люся, – а кости у вас. Тогда выход один – КГБ. Ну и ну, рассказать кому – не поверят!
Начальник осорьинского отдела КГБ подполковник Мраморнов, мужчина нестарый, крупный и веселый, принял Трофима Никитича без очереди, выслушал и посоветовал забыть о Тимофее Черепнине навсегда.
– Дело закрыто, – сказал он. – Может быть, лет через сто его и откроют, да и то – как знать. Вот вы только представьте, Трофим Никитич, что мы разрешим вам захоронить брата. Об этом сразу все узнают – и те, кто в те годы воевал за него, и те, кто воевал против. А ведь многие еще живы и здоровы, да еще их родственники… их больше, чем вы думаете… И что? Все начнут требовать прав для своих мертвецов – и здесь, у нас, и в Сибири, и на Урале, и в Поволжье, и в Прибалтике, и на Украине, и на Кавказе, и в Средней Азии… подумать страшно… вся страна всколыхнется от края до края… это ж новая гражданская война, Трофим Никитич, это война мертвецов, которая будет похуже иной реальной войны… все эти старые счеты, незаживающие раны… Лучше заколотить этот ящик гвоздями и забыть о нем, пока все не перемрут и все решится само собой, так сказать, биологически. – И с улыбкой добавил, провожая гостя до двери: – И помалкивать, помалкивать. Вы и я – оба будем помалкивать. Как говорится, не буди лихо. Ага? Он же не просто ваш брат, а, говоря вашим же языком, классовый враг. А нашим языком – бандит. Бандит?
– М-да, – сказал Трофим Никитич. – Недаром говорят, что демагоги страшнее убийц…
Подполковник сделал вид, что ничего не слышал.
– Ну и договорились, – сказал он, выпроваживая старика.
Тем же вечером за ужином Люся Евтюхова рассказала эту историю брату – Сергею Мартишкину, заместителю начальника милиции по политической части.
Наутро майор Мартишкин явился на прием к первому секретарю райкома партии Дворецкому и рассказал о том, что узнал от сестры. Дворецкий позвонил директору завода Черепнину, и тем же вечером Андрей Трофимович приехал к отцу.
– У меня в лаборатории стоит мощная муфельная печь, – сказал он. – Кости для нее – пустяк. Завтра же у тебя будет урна с прахом Тимофея.
– Мраморнов настучал?
– Нет.
– Значит, Мартышка?
Сын кивнул.
– И по-другому, значит, нельзя?
– Нельзя, – сказал Андрей Трофимович.
– Что ж, – сказал Трофим Никитич. – Пусть тогда здесь лежит. В Часовой.
Он отпер Часовую комнату, примыкавшую к гостиной.
Мы перенесли сюда гроб из сарая и поставили на две табуретки.
Старик снова запер комнату, в которой стояли напольные часы и чучело медведя. Теперь к ним прибавился ящик с контрреволюционными костями.
* * *
Тем же вечером, когда после ужина мы пили чай в кабинете, прадед впервые заговорил со мной о своем брате. Он заговорил о старшем брате, о юной Княжне, в которую оба брата были без памяти влюблены, о ее смерти, о черной ночи, о страшных морозах и бескрайней заснеженной равнине, о неизбывной тоске, об отчаянии и бунте, о жажде бессмертия, вдруг объединившей братьев с такой силой, которая выше крови, но сначала речь пошла о Княжне, о девушке, жившей на соседней улице и никогда не показывавшейся на людях…
Она была младшей дочерью богатого купца Урусова, православного, гордившегося родством с ногайскими аристократами. Среди пятерых его дочерей, статных усатых красавиц, Княжна была самой младшей.
– Мы никогда не видели ее и даже не знали, сколько ей лет, – сказал прадед. – Мы ее сочинили от макушки до пят. Малохольные подростки, черт бы нас побрал. И ведь мы были не какими-нибудь гимназистами с Апухтиным под мышкой – оба учились в реальном…
Взрослые говорили, что девушка страдает неизлечимой болезнью, потому и не выходит на улицу. Другие утверждали, что она уродлива – горбата и хрома, хотя это, скорее всего, были домыслы. Мальчишкам было довольно того, что Княжна живет взаперти, – в их воображении невидимка стала красавицей.
Они дежурили у особняка Урусовых – пузатого дома с белеными кирпичными колоннами у входа – и гадали, из какого окна Княжна любуется акациями, которые росли вдоль ограды. Иногда летом из окон доносилась музыка – кто-то пытался сыграть на рояле серенаду Шуберта, но никогда не доводил до конца. Наверное, это была Княжна, обессиленная болезнью…
Необъяснимым образом их тянуло к загадочной девушке, они ревновали ее друг к другу, посвящали ей стихи, и этот дурной огонь сжигал их несколько месяцев, пока она вдруг не умерла.
Старик хорошо помнил, как ее отпевали в церкви Бориса и Глеба.
Лицо девушки, лежавшей в гробу, было покрыто белым газом, ее статные сестры были в черных шляпках с вуалью, пахло ладаном и хвоей, священник тягуче выпевал: «Помилуй нас, Боже, по велицей милости Твоей», люди сморкались и кашляли, братья боялись приближаться к гробу, обитому черной парчой с золотыми узорами, и когда толпа задвигалась, готовясь к выносу тела, мальчики, не сговариваясь, бросились бежать.
Все смешалось – мороз, столбы дыма над домами, уличные фонари, пылающие диким лиловым пламенем, запах ладана, запах баранины с чесноком из харчевни на Сенном рынке, страшная парча, расшитая огненными знаками, черное небо с колкими звездами, мучительно скрипящий под ногами и свистящий под полозьями снег, обындевелые ветви деревьев за оградой духовного училища, зловещее желтое свечение, дрожавшее вдали над пороховым заводом, бескровное лицо под белым газом, розы и лилии, зияющая яма в мерзлой земле на Красной Горе, лязганье железа на станции за рекой, багровый фонарь на башне Цейлонской тюрьмы, гудок паровоза, отчаяние, пустота, смерть…
Начался снегопад. Сначала полетели редкие крупные снежинки, а когда братья вышли к будке путевого обходчика, снег уже валил вовсю, снегопад превратился в метель. В темноте не было видно ни городских огней, ни столбов вдоль железной дороги, ни даже деревьев, которые росли у будки обходчика. Снег с воем и шуршанием несся, падал, кружился, плясал, улетал во тьму, возвращался, чтобы обрушиться на землю с новой силой, и вдруг где-то вдали раздался протяжный гудок, и из кромешного хаоса – откуда-то из самой глубины невероятного русского космоса – с нарастающим грохотом, с ревом вырвался курьерский, ослепил мальчиков ярким светом, оглушил чугунным грохотом, обдал снегом и жаром, застучал на стыках – желтые вагоны, обледенелые тамбуры, занавески на окнах, роскошные женские плечи, золотые погоны, огонек папиросы, синие вагоны, зеленые – и, обжегши братьев на прощание красными огнями, умчался на юг, пропал в темноте, в заснеженной пустыне, раскинувшейся на миллиарды ледяных километров, и через минуту угасли все звуки, кроме шороха снега и бесноватого воя ветра…
Поезд прошел, исчез, стук колес затих, а братья так и стояли, держась за руки, посреди заснеженной пустыни, пораженные в самое сердце всей этой безмерностью, беспредельностью, частью которой они ощутили себя, наверное, впервые в жизни, и именно тогда, в те минуты, они скорее почувствовали, чем услышали, некий звук, голос мировой души, ее зов, напоминающий человеку, что он не один, не одинок, и пробуждающий в душе жажду бессмертия, которая – и только она – придает значимость жизни, пробуждающий неуемную похоть, которая требует от жизни всего, всей жизни без изъятия…
– Похоть. – Старик скривился. – Похоть… Другого слова не подберу. С этого все начинается, с похоти. С того, что в тебя что-то входит, и ты не понимаешь – что, но это уже неустранимо, это – навсегда… как будто заканчивается ожидание, границы падают и происходит расширение души… расширение космоса… – Помолчал. – Мы там были вместе, я и Тимофей, и вместе пережили все это… мы в первый и в последний раз держались за руки – да, черт возьми, за руки… больше ничего нас не связывало, но это – оно поверх всего… понимаешь?
Я кивнул, хотя мало что понял.
* * *
Зимой прадед погиб.
Те дни запомнились мне внезапной оттепелью, грохотом сапог и стуком каблуков.
В доме вдруг появилось множество знакомых и еще больше незнакомых людей. Они ходили по комнатам, поднимались и спускались по лестнице, хлопали дверями, гремели железом в кухне, громко разговаривали, не обращая внимания на хозяев.
Первым приехал дед. Он был хмур и деловит. Он велел мне к его возвращению собрать все тетради, в которых прадед делал записи, сложить в картонные коробки – дед привез их с собой – и перевязать веревкой.
– И вынеси их в сарай, – сказал он. – Чужим про это – ни слова.
Тетрадей оказалось не очень много – всего на три коробки.
Осорьинское начальство получило инструкции аж из Москвы – тело прадеда, старого большевика, видного деятеля революции и Гражданской войны, персонального пенсионера союзного значения, было приказано выставить для прощания в городском Доме культуры. Там уже украшали вход и зал красной и черной материей и еловыми ветками.
Утром нас разбудил подполковник Мраморнов.
С ним были трое молодых мужчин, очень энергичных и вежливых.
Меня выгнали из кабинета, где я спал на диване.
Эти люди обыскали прадедов кабинет, вынесли несколько книг, потом обшарили дом от чердака до подвала, перерыли сарай во дворе, один из них через люк в кухне спустился в бункер с углем. Увидев в Часовой гроб, стоявший на табуретках, Мраморнов усмехнулся.
То и дело приходили и приезжали новые гости. В обед прибыл из Сторожева старик Столетов с бутылью калганной в рюкзаке, бил колокол в церкви Бориса и Глеба…
Вдруг кто-то объявил, что гроб с телом Трофима Никитича везут в Дом культуры, и все стали гасить сигареты, стучать чашками, искать свои пальто и шапки, а потом вывалили во двор, снова закурили, наконец, по сигналу дяди Николая, который шел впереди, толпой – в нее тотчас влились старухи в плюшевых жакетах – двинулись в сторону Советской, скользя на мокром льду и вполголоса чертыхаясь.
За толпой медленно ехала черная «Волга» с московскими номерами.
* * *
Городской Дом культуры когда-то был особняком Черновых-Изместьевых – с колоннами и чугунными фонарями у входа, большим залом с галереей наверху, с пышной хрустальной люстрой, по форме напоминавшей пятиконечную звезду.
Открытый гроб с телом прадеда расположили в центре зала на фанерном постаменте, задрапированном красной и черной материей и обложенном венками. У гроба в почетном карауле стояли мужчины с черными повязками на рукаве – секретари райкома, председатель райисполкома, начальник милиции, старики из совета ветеранов.
Пахло хвоей, из динамиков доносилась траурная музыка.
Была суббота. У Дома культуры и в зале собралась огромная толпа. Говорили о чуде – о старике, который умудрился выбраться из разбитой машины, заваленной горящими бревнами, и даже сделал несколько шагов, прежде чем упасть и умереть.
Я побродил по залу, поднялся на галерею и сел в углу, за колонной. Свет в зале был приглушен и казался зеленоватым, и по странной ассоциации я вдруг вспомнил о пищеварительном соке.
Прадед как-то сказал: «Нам, большевикам, казалось, что у нас хватит пищеварительного сока, чтобы переварить всех этих русских и евреев, немцев и китайцев, богатых и бедных, православных и мусульман, мужчин и женщин, переварить и превратить их в новых людей, в новое человечество без крови и почвы, но с единой судьбой, общей для эллина и иудея…»
Внизу, в зале, люди плавали в зеленоватом тусклом свете, как в пищеварительном соке, не подозревая о преображении, которое их ждет, стояли в почетном карауле, бродили по залу, курили во дворе, жалели Фэфэ, судачили о чуде, постепенно превращаясь в безликую полужидкую массу, сонно вращающуюся вокруг гроба с телом доисторического ящера, покрытого наростами, ракушками и водорослями, полуокаменевшего, полумертвого, который из глубин своего древнего бытия взирал на булькающую вокруг него протоплазму, лишенный способности к радости и горю…
Я очнулся, когда во дворе заиграл духовой оркестр, люди в зале зашаркали, заговорили громче, мужчины с траурными повязками на рукавах подняли гроб на плечи и понесли к выходу.
Во дворе гроб поставили в кузов грузовика с откинутыми бортами, оркестр заиграл громче, и процессия тронулась по Советской к Красной Горе, поливаемая ледяным дождем.
Впереди, перед машиной, шли люди с венками, крышкой гроба и подушечками, на которых сверкали награды прадеда, а за машиной шагали по лужам дед, его сыновья-офицеры Сергей и Михаил, я, дядя Николай, Куба, старик Столетов, наши дальние и очень дальние родственники из Москвы, Рязани, Владимира, Бухары, Донецка, Томска, Севастополя, Риги, Норильска, Тбилиси, Хабаровска, Варшавы, Праги, Гаваны, Ханоя и бог весть откуда еще, а за ними, за оркестром, – власти партийные и советские, профсоюзные и комсомольские, полковник Азаров, командир воинской части, отвечавшей за охрану Ящика, его заместители, директора фабрик и заводов, старухи в плюшевых жакетах, старики в валенках с галошами, тысячи мужчин и женщин, дети, собаки, духи земные и небесные…
Рано утром дорогу на Красную Гору почистили бульдозерами и посыпали песком, но весь лед убрать не смогли. Машина с гробом иногда буксовала, швыряя песок из-под задних колес людям в лицо, старики падали, хватаясь за соседей и валя их наземь, оркестранты брели по обочине, балансируя при помощи инструментов, и только старушки в плюшевых жакетах уверенно косолапили вверх, весело перекликаясь и подбадривая друг дружку…
На семейном участке Черепниных были выкопаны две ямы. Вдали, за деревьями, я заметил машину с гробом отца – его предстояло похоронить позже, после прадеда.
Когда гроб с телом Трофима Никитича сняли с машины, через толпу вдруг пробился майор Мартишкин, весь красный, в сбившейся на ухо форменной фуражке. Он оттолкнул меня, опустился на колени, запустил руки в гроб и стал что-то искать.
Лицо у деда стало страшным. Он посмотрел на полковника Азарова, тот что-то шепнул своим офицерам, они подхватили Мартишкина под руки и быстро повели через толпу. Майор вырывался, шипел, но один из офицеров дал ему кулаком в ухо и Мартишкин затих, прижав свою фуражку к груди.
Городские начальники сделали вид, что ничего не произошло. Первый секретарь райкома партии Дворецкий, мужчина рослый, широкий, выступил вперед и стал по бумаге читать речь. За ним выступил председатель совета ветеранов, не выговаривавший звуки «л» и «р». Секретарь райкома комсомола от лица молодежи дал клятву верности партии и идеалам коммунизма. Под звуки оркестра мы обошли гроб по кругу, целуя мертвеца в лоб. Дед положил в гроб какой-то черный сверток. Крышку заколотили, гроб понесли к яме, когда Солодовников, самый старый ветеран, ровесник прадеда, вдруг заныл, а за ним заныли и остальные старики, и все закрутили головами, испуганно переглядываясь, не понимая, что, черт возьми, происходит, и так же внезапно до всех дошло, что старики поют «Вы жертвою пали», и на втором куплете подхватили:
Идете, усталые, цепью гремя, Закованы руки и ноги, Спокойно и гордо свой взор устремя Вперед по пустынной дороге…Впрочем, слов почти никто не знал, многие просто мычали, чуть открывая рты, другие опускали головы, отворачивались, и только дед и троюродная моя тетка из Вильнюса пели внятно, во весь голос, слово в слово.
Яму засыпали, люди потянулись с кладбища.
Поминки были устроены в том же зале Дома культуры, где стоял гроб с телом прадеда.
Я сел в конце стола, рядом с горбоносым и бровастым старичком. Рядом с его стулом стояли костыли.
Он много пил, много ел и много говорил – не повышая голоса, разборчиво и твердо:
– Мы не умеем доводить дело до конца, молодой человек, не умеем правильно финишировать, и так во всем, во всем. Сделаем точнейшие рубиновые подшипники, накладные рубиновые камни, соберем все это в бронзовую втулочку сложной формы, а потом смажем каким-нибудь медвежьим говном, а оно высохнет и будет мешать вращению оси баланса. Сделаем идеально уравновешенную анкерную вилку, отполируем ее, а к ней – отличные рубиновые камешки, но вместо шеллака зальем какими-то синтетическими соплями, которые со временем высохнут, посыплются в механизм, из-за чего камни сместятся и перекосятся в вилке…
Он приходил к нам чинить напольные часы, и прадед называл его Лазарем. Он был очень старым, этот Лазарь. Он был часовщиком еще до Октября, посещал социал-демократический кружок, которым руководил Трофим Никитич, после революции возглавлял уездную газету, а потом что-то пошло не так и он вернулся к часовому делу.
Почистив и отрегулировав наши часы, Лазарь оставался на ужин.
– Между нами сохраняются идейные разногласия, – говорил он, поднимая рюмку, – но это не мешает нам делить хлеб и вино.
– А ведь ты радовался, когда в тридцать седьмом Сталин устроил термидор и предал революцию ради абажура, – говорил прадед. – И что мы сегодня имеем? Власть абажура! То есть мелкобуржуазное болото, мещанство и пошлость – вот что мы сегодня имеем!
– Народ и сражался за абажур, – отвечал Лазарь, – а не за революцию, Трофим Никитич. За интересы, а не за идеи. Революция, идеи – это непонятно что, а абажур – это вещь, это дом и семья. И Гитлера победили, воюя за абажур. Люди-то могут мечтать о чем угодно, хоть о звездах, а народы мечтают о коровнике. А ты как был троцкистом, так и остался. Готов сено жрать ради победы мировой революции. – Делал паузу и с ехидной улыбочкой спрашивал: – Или не готов?
И при этом стучал вилкой по баночке черной икры, которую прадеду раз в месяц привозили из спецраспределителя для избранных.
Однажды этот старичок сказал, что Россия – страна непохороненных героев и в этом ее беда. Фраза запомнилась, потому что тогда слово «Россия» употреблялось довольно редко, чаще говорили – Союз.
Утром следующего дня дед сказал:
– Теперь будете жить у нас. Этот дом надо освободить.
Мне и в голову не приходило, что дом на улице Клары Цеткин принадлежит не нашей семье, а городу, и сделано это было прадедом еще в те годы, когда он был председателем Осорьинского уездного Совета: владение частной собственностью – домом предков – не совпадало с убеждениями Трофима Никитича, который любил иногда цитировать стихи: «Я рад, что в огне мирового пожара мой маленький домик горит».
Я подрался с Митькой Мартишкиным. Повод был пустячный: сосед по парте обиделся, когда я назвал его Мартышкиным. Вообще-то он всегда поправлял тех, кто произносил его фамилию неправильно: «Наши предки произошли от Мартина, а не от мартышки», но до драк дело не доходило.
Мы сцепились на большой перемене. Обычно такие школьные потасовки скоротечны и беспорядочны, но на этот раз все было по-другому. Митька выхватил из кармана кастет и бросился на меня с такой яростью, словно речь шла о жизни и смерти. Я едва успел увернуться, схватил его поперек туловища, мы упали, покатились по грязи – дело было во дворе за школой, у туалетов, куда мы бегали на переменах покурить. Митька бил безостановочно, слепо, изо всей силы, и раза два ему удалось попасть по моему лицу.
Наконец нас растащили – сделал это учитель истории Далматов. Он схватил Митьку за шкирку, встряхнул, отобрал кастет и зловещим шепотом произнес: «А за это, молодой человек, можно и срок схлопотать». Митька бился в истерике и кричал: «Убью! Убью гада!» Далматов отвел его в медпункт, а меня послал к директору школы.
Директор школы сразу позвонил Андрею Трофимовичу, но до субботы дед откладывал наказание и хранил молчание, строгим взглядом пресекая расспросы.
Вечером в субботу он позвал меня в свой кабинет, находившийся на втором этаже. Это была небольшая комната со стальной дверью и зарешеченными окнами, выходившими на речную пойму. Стол под зеленым сукном с кремлевской лампой, книжные шкафы (я знал, что в одном из них, закрытом, был сейф), журнальный столик у окна, справа от входа – шкафчик с дареным коньяком из Дагестана, Грузии, Молдавии, Армении.
Я ждал разноса, но дед велел мне сесть и положил на стол фотографию. На ней были запечатлены трое довольно молодых мужчин, плотных, широколицых, в кожаных кепках со звездами, в кожаных куртках. Двое сидели перед объективом, чуть склонив головы к тому, что в середине, они были спокойны, уверены в себе, руки их лениво свисали с подлокотников кресел. Такие фотографии, старые, полувыцветшие, я видел в нашем историко-художественном музее, в разделе, посвященном революции и Гражданской войне.
– Руки, – сказал дед. – Обрати внимание на их руки. На пальцы.
Руки как руки, пальцы как пальцы – толстые, крепкие, унизанные кольцами и перстнями.
Я взглянул на деда с недоумением.
– Посередине, кажется, Ласкирев-Беспощадный, – сказал я. – А эти…
– Эти – братья Мартишкины, – сказал дед. – Старший – Иван, младший – Петр. А на пальцах у них перстни и кольца, отнятые у буржуев. Золото и бриллианты. Иногда они отнимали эти колечки у живых, но чаще снимали с мертвых. Отрезали пальцы и снимали. Особенно отличался младший, Петр, вот этот. Он сколотил банду из дезертиров, воров, грабителей, в общем, из всякого отребья, и наводил страх на всю губернию. Это было еще до второй революции, до октября семнадцатого. Грабили, убивали, насиловали женщин, никого не щадили – ни дворян, ни мещан, ни крестьян. Уголовники. А когда Ласкирев стал председателем ревкома, братья Мартишкины примкнули к большевикам. Но занимались прежними делами. Иногда – с мандатом ЧК. Они-то и зарезали жену Тимофея…
– И он стал им мстить? – спросил я, тотчас вспомнив Роб Роя, капитана Ахава и весь тот сонм героев, которых так много в англосаксонской литературе и нет в русской.
– Ну да. – Дед усмехнулся: – И это, наверное, тоже. Восстание началось, конечно, не из-за этого, но личные обстоятельства тоже сыграли свою роль…
Дед открыл окно, присел на подоконник, закурил и продолжал рассказывать историю семьи Мартишкиных.
На подавление крестьянского восстания были брошены все силы, но Петр Мартишкин попытался отвертеться от участия в карательной операции. Не по идейным соображениям, конечно, уточнил дед, а просто потому, что грабеж и война – разные стихии. Бандит не воин. И тогда по приказу Трофима Черепнина он был арестован, в тот же день осужден и расстрелян, а его банду загнали в цейлонский овраг, забросали гранатами и добили из пулеметов. Было их человек тридцать-сорок – никто не ушел. Там же, в овраге, их и закопали.
– Тогда это называлось революционной необходимостью, – сказал дед. – Мечтали ведь не Россию изменить, а весь мир… ну и, конечно, на пути к небесному образу все позволено… так тогда считалось…
Вскоре в Осорьине стали шептаться, что Трофим Никитич руководствовался не только революционной необходимостью, а еще и мстил за брата, за его жену, которую зарезали «мартышки» – так называли бандитов.
Но тогда даже шептаться об этом было опасно – Трофим Черепнин был фактическим диктатором уезда, самым влиятельным человеком. Семья Мартишкиных была напугана до смерти и готова была на любые унижения, лишь бы не попасть в жернова. Однако Трофим Никитич не стал мстить семье. Более того, он помог старшему брата Петра, Ивану, хорошо устроиться при советской власти – руководителем государственной торговли. А его сына-комсомольца, совсем еще зеленого паренька, направил работать в ЧК. К началу сороковых этот паренек стал начальником осорьинского УНКВД. И весной 1942-го, когда немцы подошли к Осорьину вплотную, он без приказа, так, на всякий случай, расстрелял заключенных цейлонской тюрьмы, «чтобы фашистам не достались». Его сняли с должности и отправили на фронт, где он вскоре и погиб. Семья Мартишкиных до сих пор уверена, что в этом виноват все тот же Трофим Никитич – у него и тогда хватало полномочий, чтобы испортить жизнь любому.
– А он испортил? – спросил я.
– Не знаю, – сказал дед. – Может, да, может, и нет. Жестокости он не любил – говорил, что это ложный пафос, красота. – Помолчал. – В общем, дружок, ты стал участником и жертвой вражды наших семей. Старой вражды. И похоже, не кончится она никогда. Теперь вот Сергея Мартишкина в деревню загнали – он нам этого век не простит…
Сергей Мартишкин был Митькиным отцом, майором, заместителем начальника милиции по воспитательной работе, то есть замполитом. После инцидента на Красной Горе его сняли с должности, понизили в звании и отправили участковым в Юрасово.
– А что он искал-то? – спросил я. – В гробу-то – что?
– Кости Тимофея Черепнина, конечно, – сказал дед. – Видать, он думал, что мы под шумок похороним эти кости, спрятав их в гробу Трофима Никитича. И решил проявить инициативу, дурачок. До такого никто не додумался бы. Даже КГБ до такого не додумался. А он – додумался. Вот что ненависть с людьми делает, дружок, – заключил дед нравоучительным тоном.
– Дед, а ты-то что в гроб положил? Что за сверток?
– Знамя, – сказал Андрей Трофимович. – Черное знамя. Тогда красной материи было мало, а вот черной – навалом. Из нее и шили революционные знамена. Трофим Никитич хранил его, не хотел в музей сдавать. Ну и как-то попросил, чтобы я это знамя вместе с ним похоронил. Вот я и похоронил. Черное знамя с черепом и костями и надписью «За вашу и нашу свободу!».
– Шекспир, – сказал я с восхищением. – Настоящий Шекспир, дед. Слепая ненависть, месть, кровь – ну Шекспир же!
– Когда мы с Анной поженились, – сказал дед, – я думал, что весь этот Шекспир закончится. А нет, сам видишь, не закончился, черт его дери…
Я не понял, почему он вдруг заговорил о женитьбе.
Дед рассмеялся:
– Хм, да ты, оказывается, до сих пор не знаешь, что твоя бабушка из Мартишкиных? Ну да, урожденная Мартишкина, дочь того самого Федора Ивановича Мартишкина, который командовал нашим НКВД.
Ольга Славникова Статуя Командора[2]
– Ну вот, Анюта, наши места! – произнес высокий горбоносый мужчина лет тридцати пяти, откатывая дверь купе спального вагона и пропуская спутницу.
Спутница, отводя от лица сухой белокурый локон, неуверенно скользнула в полутемное пространство, душноватое и таинственное, какими всегда бывают купе перед отправлением поезда. Прежде чем сесть на диванчик, погладила его чуть дрожащей ладонью, бледной в полумраке, будто разбавленное молоко. Потрогала столик, прежде чем поставить на него маленькую лаковую сумку. Молодая женщина держалась не совсем так, как ведут себя обычные пассажиры, привыкшие к устройству и быту поездов. Она была как будто слепая или абсолютно не верила своим глазам, прозрачным и влажным, будто тающий лед. Мужчина сноровисто вынул из чемодана ее халатик, косметичку, отороченные мехом плюшевые тапки – все новое, без единой пылинки из прежней жизни, и, убрав багаж, взял ее руки обеими своими. На безымянных пальцах пары блеснули одинаковые, тоже новенькие, обручальные кольца.
– Все хорошо, Анюта, все хорошо, – заговорил мужчина, грея бескровные жилки и косточки спутницы.
– Мне не по себе, Вань, – глухо проговорила молодая женщина. – Я сейчас должна быть на кладбище…
Тут поезд дернулся, в окне, между гобеленовыми шторками, поплыли похожие на гигантские загипсованные ноги колонны вокзала. На остром лице пассажирки отразилась паника, взгляд заметался от окна к неплотно закрытым купейным дверям, где водянистое зеркало тоже показывало уплывающие прочь привокзальные копченые постройки, бетонные заборы с линялыми граффити, уступы жилых многоэтажек. Мужчина поспешно обнял спутницу и, чувствуя сопротивление, как если бы она внутри вся была прутяная, спрятал ее голову у себя на груди.
– Тш-тш-тш… Все хорошо… Мы женаты, мы едем в свадебное путешествие… – приговаривал он, поглаживая ее сухие растрепанные волосы. – Про кладбище забудь.
* * *
Кладбище, о котором шла речь, было знаменито на всю страну артефактом девяностых – так называемой Аллеей бандитской славы, все еще величественной, хотя уже немного обветшавшей. Здесь лежали герои криминальных войн, хозяева того достопамятного десятилетия, когда разновидности размножающихся рублей сменяли друг друга, будто поколения мушек-дрозофил, когда по улицам раскатывали распираемые шансоном «мерины» и «бэхи» – похожие на гигантские катушечные магнитофоны до тех пор, пока из приспущенных окон не высовывались стволы, чтобы превратить бойцов враждебных группировок в свежие трупы. В те времена все простые инженеры и школьные учителя этого славного города знали имена Кабанчика, Вована Ферзя, Саши Китайчонка. Теперь авторитеты мирно покоились в своих посмертных имениях, обнесенных античными колоннадами, с которых кое-где свисали, полные позапрошлогодних листьев и дождевых дрожащих слез, клочья паутин. В траурных вазах еще цвели жесткие рыжие настурции и рваненькие фиалки, но их уже заглушала принесенная новыми ветрами сорная трава. Памятники представляли собой главным образом глыбины черного гранита с гравированными портретами дорогих умерших – очень напоминавшими их же изображения на ментовских ориентировках. Памятники потускнели, потеки на полированном камне, оставленные дождями и покрытые пылью, напоминали брошенные сушиться женские колготки.
Главной достопримечательностью Аллеи бандитской славы были статуи. Пресса в свое время с удовольствием проехалась по дотошно вызолоченным на каменных шеях широченным голдам, по мобильникам и брелокам от «мерсаков» в тяжелых каменных руках. Но волна публикаций прошла, а мобильники и голды остались. Было что-то общее, что-то почти невинное в выражении округлых, блестящих курносыми носами, каменных лиц; было что-то ученическое в предъявляемых статуями предметах благосостояния (I have a pan, I have an apple из начальных уроков английского языка). Только один из каменных покойников казался взрослым человеком.
В свое время он ходил в большом авторитете, и, соответственно, погоняло его было Командор. Скульптор, изваявший Командора двенадцать лет назад, прежде специализировался на гранитных, бронзовых и гипсовых Ильичах, потребность в которых никогда не уменьшалась, а только росла – точно в стране буквально каждый месяц возникал новый городишко или заводик, которому требовался перед проходной или райкомом собственный вождь. Благодаря такому творческому опыту автор придал Командору характерный, устремленный с постамента в будущее, ленинский шаг; правая рука скульптуры, вскинутая указать трудящимся путь в коммунизм, как бы остановилась на полпути, потому что зажатый в ней мобильник (очень реалистично выполненный в граните лопатообразный Siemens с боковой антенной и большими, как горохи, толстенькими кнопками) как бы внезапно зазвонил. Несмотря на примесь В. И. Ленина, сходство скульптуры с оригиналом, по общему мнению пацанов, было поразительное. Скульптору удалось передать скос тяжелого лба, наплывы щек, а главное – хищную, волчью связь между крупным оскалом и положением острых, прижатых к черепу ушей. У статуи был секрет, известный только самым ближним братанам: под каменным пиджаком, искусно выточенный и скрытый заполированной полой, находился пистолет «Глок», выполненный, как и сам Командор, в две натуральные величины. Разумеется, оригиналы пистолета, мобильника и ключей от «мерсака» были положены Командору в дубовый, с дворцовой роскошью сделанный гроб.
В отличие от большинства бандитских захоронений мемориал Командора выглядел ухоженным: никакие осадки не заляпали скульптуру, никакие кладбищенские отдыхающие из числа еще живых не замусорили поставленную прямо под стопудовый взгляд Командора чугунную скамью. На этой скамье во всякое время года можно было видеть сутулую блондинку с неправильным лицом, словно нарисованным косметикой на пустом месте. Блондинка представала перед глубоко высверленными в граните глазами статуи регулярно раз в сутки.
* * *
Анечка не была официальной и законной женой Командора, хотя прожила с ним два года и восемь месяцев. Командор учился в той же школе, что и она, и закончил ее на медные тройки, когда Анечка, отличница и умничка, перешла в четвертый класс. Завалившись на Анечкин выпускной с полной спортивной сумкой бухла и с букетом кровавых роз для любимой училки, он увидел ее, тоненькую, как стрекозку, в радужном и жестком платьице, сшитом из капроновой занавески. Увидел и просто взял себе.
Поначалу Анечка была рада-радешенька переехать из продымленной заводом родительской панельки в центр, в просторную квартиру с видом на Главпочтамт и главный городской фонтан, вокруг которого гуляла принаряженная молодежь. Дом был полная чаша: невиданный высоченный холодильник кряхтел от обилия деликатесов, у Анечки едва ли не у первой в городе появилась итальянская, восхитительная и хвоистая, будто новогодняя елка, норковая шуба. Однако денег у нее не было ни копейки. Анечка таскала понемногу из карманов Командора, когда он после своих трудов и отдыха прибывал, источая страшный дух, словно перегретый грузовик, и падал поперек кровати, размазав плоскую щеку по шелковой подушке. Выходить из квартиры в город Анечке не рекомендовалось. В прихожей на низенькой, чуть ли не детской, табуретке всегда сидел здоровенный задастый охранник – Саша, либо Гоша, либо Леша: их, будто зверей в зоопарке, запрещалось кормить. Однажды в кармане кожаной куртки Командора Анечка нашла незнакомую голду, облепленную словно давленым изюмом. Потом красное с куртки и голды мазалось повсюду, никак не смывалось горячей водой; мыльная пена, падавшая с рук, была как в кастрюле во время варки мяса. Но уйти Анечка не могла: она догадывалась, что Командор просто не представляет ее свободной от себя и при этом живой.
Однако судьба распорядилась иначе. В один погожий апрельский денек, когда Командор, зевая и почихивая на солнышко, вышел из офиса и уселся в «мерсак», машина как-то несолидно подпрыгнула и вспухла огнем. Невероятным образом ключи от «мерсака», отброшенные взрывом либо последним бессознательным движением Командора на озарившийся лед, остались невредимы. Видимо, пацаны, положившие эти ключи Командору в гроб, представляли дело так, что покойный «шестисотый», превратившийся здесь в покореженный остов, там возродится, оденется прежним лаковым блеском и повезет хозяина по райским кабакам.
Командора хоронили в закрытом гробу. Для траурного кортежа перекрыли главный проспект, называвшийся, естественно, проспектом Ленина; перед катафалком тащился открытый грузовичок, откуда под колеса последнего Командорова транспорта бросали охапками белые розы – и после проползания скорбного бандитского парада вся эта роскошь оставалась на проезжей части раздавленная, напоминавшая переваренные доллары, чем и была в действительности. Зеваки стояли вдоль проспекта, будто темный лес, загадочный и недобрый. Анечка сидела в катафалке подле гроба, бессмысленно уставившись на угловую бронзовую завитушку. На кладбище порывистый ветер, задиравший пегую бороду деловито служившего батюшки, казался Анечке дуновением свободы.
Не тут-то было.
На другое утро после похорон к заспавшейся Анечке, впервые ночевавшей в квартире без охраны, явился адвокат. Был он похож одновременно на курицу и яйцо: узкоплечий, с большими женскими бедрами и яйцеобразной, совершенно лысой головой, на которой для обозначения глаз крепились очки. Разложив перед собой свои бумаги, поглаживая их короткими ручками-крылышками, адвокат объявил вдове последнюю волю покойного. Оказалось, что Анечка, не состоя с Командором в зарегистрированном браке, по закону не может претендовать ни на какое наследство. Однако, по счастью, Командор оставил завещание. По нему Анечке отходила данная квартира со всей обстановкой, автомобиль «Ауди» тысяча девятьсот девяносто первого года выпуска и ежемесячное содержание в размере пятисот долларов США. Единственное условие: вдова должна приходить к надгробному памятнику Командора каждые сутки.
– На нашу адвокатскую фирму и лично на меня возложен контроль за выполнением условия, – пояснил маленький лойер, помаргивая золотыми очочками. – Обратите внимание, уважаемая Анна Валерьевна: если вы пропустите хотя бы раз, немедленно наступают последствия, весьма для вас нежелательные. То есть придется на другой же день выселить вас отсюда на улицу. И никаких больше денег, разумеется. Сегодняшние сутки уже идут в зачет, так что собирайтесь, едем на кладбище.
* * *
Так и повелось. В тот день, скромно постояв позади озябшей Анечки перед грудой заледенелых венков, звеневших как эоловы арфы на знобком ветру, адвокат вручил ей первый плотненький конверт с долларами. Всю весну, все лето и начало осени либо маленький лойер, либо его помощник, унылый тип с длинными вялыми волосами, из которых торчали белые, как мыло, круглые уши, сопровождал Анечку к месту упокоения Командора. Вместе они наблюдали, как воздвигается мемориал, как одевается в камень могила, напоминавшая во время работ залитое дождями старое костровище. Наконец, настал момент, когда Анечка увидела каменного мужа. Гранитный Командор смотрел на нее из-под нахлобученного лба, и похолодевшей Анечке почудилось, будто в глубоко высверленных зрачках таится стеклянистая, злая, совершенно бессмертная жизнь.
– Ну вот, теперь он сам за вами присмотрит, – с облегчением объявил маленький лойер.
– Как присмотрит? – испугалась Анечка. – В нем что, видеокамера?
Адвокат пожал покатыми плечиками, что вышло похоже на выдавливание тюбика.
– Техника не стоит на месте, – произнес он туманно. – И помните, Анна Валерьевна: достаточно одного пропуска. Мы сразу будем знать.
Сперва Анечка считала, что завещание Командора дает ей спасительную передышку, прежде чем она устроит жизнь как-то по-другому. Она размышляла, идти ей на работу или поступать в университет, – и в этих необязательных мыслях незаметно прошел год. Оказалось, что найти хорошее место с приличной зарплатой без друзей и знакомых совершенно нереально. Анечка постояла пару месяцев за прилавком косметического бутика и надышалась фальшивыми парфюмами, оставляющими в ноздрях свои ингредиенты, как краска с фальшивых банкнот остается на пальцах, после чего даже запах жареной картошки долгое время казался Анечке поддельным. Чуть дольше она продержалась в секретаршах у директора типографии продувного типа с воспаленной коммерческой жилкой, печатавшего с пленок заказчика в собственную пользу левые тиражи и не выпускавшего со складов тиражи издательства, пока не сбудет свой контрафакт. Однажды, в отсутствие предусмотрительно смывшегося шефа, разгневанный издатель отхлестал Анечку по лицу стоявшим у нее уже неделю подкисшим букетом. На этом ее трудовая биография закончилась.
Куда ей было деваться? Чтобы купить квартиру, требовалось полжизни. О возвращении к родителям не могло быть и речи: там оставалась сестра и у сестры родилась двойня. Казалось бы, Анечка могла просто-напросто жить в свое удовольствие и не работать, но от ежедневной кладбищенской обязанности у нее не было отпусков. Каждый раз с наступлением лета ей страстно хотелось на море. Море снилось ей по ночам – сине-зеленое, дымчатое, мреющее в полукольце воздушных гор. Но видеть его Анечка могла только по телевизору, главным образом в рекламе шампуней и шоколадок Bounty, которые она поедала в несметных количествах, разбрасывая по кожаному дивану испачканные бумажки.
Поводок, на котором держал ее Командор, был длиной в триста километров: именно на такое расстояние Анечка, боязливый и неловкий драйвер, могла отъехать от дома, не рискуя опоздать на свидание со статуей. В радиусе трехсот километров, помимо самого областного центра с его растянутыми, будто рукава у кофты, заводскими пригородами, имелись два городишки: Каменск и Талда. Никогда в обычной жизни Анечка не отправилась бы на экскурсию в подобную дыру, а теперь ездила каждую неделю и знала наизусть достопримечательности: два почти одинаковых Дворца культуры, затейливый, точно сложенный из пряников, Каменский драматический театр, талдинский Троицкий собор, похожий на перестроенную под богослужения русскую печь. Полумиллионный Краснокурьинск, далеко распространявший специфический едкий запах цветной металлургии, был уже за границей. Иногда Анечка в каком-то отчаянном хмелю устремлялась по шоссе на краснокурьинские оранжевые дымы, вытекавшие, как фанта, из заводских медеплавильных труб, но близящаяся точка невозврата заставляла биться сердце, точно оно вот-вот взорвется, и Анечка, всхлипнув, поворачивала назад.
Таким образом, Анечкин мир сделался маленьким и плоским, вроде пиццы, с тремя городами, одним лесопильным поселком и одним озерцом, полным тины и мальков: в нем Анечка в разгар жары купалась вместе с сопливыми поселковыми мальчишками. Теперь море снилось ей в виде зеленого студня, в котором колыхалась сплошная масса водорослей, сопящая от шевеления волны; из-за них отяжелевшая морская гладь напоминала рваную сеть. Большой окружающий мир в сознании Анечки приобретал черты все более фантастические; при этом самым реальным был объект в высшей степени странный – сама статуя. Анечка так и не выяснила, есть ли в памятнике видеоаппаратура. Но ощущение собственной видимости перед гранитным Командором было настолько явственным, что Анечка первое время сидела на чугунной скамейке неестественно, будто в салоне у фотографа. И потом, когда она попривыкла и озлилась, ощущение не исчезло. Статуя словно генерировала поле – поле зрения мертвеца, накрывавшее скамью и метров пять траурной аллеи, выложенной темно-багровыми яшмовыми плитами. В этом поле свет, солнечный либо электрический, заметно тускнел, точно зрению покойника, в отличие от живых, нужно было не освещение, а, наоборот, темнота.
* * *
Если видеокамера работала, то в адвокатской фирме уполномоченные люди смотрели интересный фильм. Они видели Анечку, потупленную, стоявшую перед статуей ровно минуту и уходившую, не поднимая глаз; видели плачущую, с искаженным опухшим лицом и страдальческим оскалом, натянувшим на шее старушечьи жилы. Видели ее кривляния, высунутый язык, грозящий статуе костлявенький кулак. Адвокаты наблюдали Анечку тусклую, в бесформенном балахоне до пят, наблюдали ее же в задравшейся мини-юбке и рваных колготках в сеточку, хлопающей себя по оттопыренной заднице и пучившей в поцелуе грязно намазанный рот. Было время, когда бандитская вдова ударилась во все тяжкие. В промышленном центре как раз пооткрывались ночные клубы, обвившие бетонные строения резкими, как электросварка, бегущими огоньками. Там Анечка, нарядившись в вульгарные тряпки, хлебала коктейли и снимала себе гуманоидов, роковым образом похожих на охранников Сашу, Гошу и Лешу – иногда даже плативших ей по пятьдесят долларов за ночь. Утром, обнаружив рядом с собой чужое белое тело несколько свиных очертаний, Анечка понимала дурной и больной головой, что счастья нет и не будет. Ей удалось вовремя остановиться: чтобы выполнять условия Командора, нельзя было попадать ни в какую клинику и уж тем более в ментовку.
Теперь Анечка по-настоящему чувствовала себя женой Командора – гораздо больше, чем прежде, когда Командор был еще не каменный, а живой. Иногда она вдруг принимала отчаянное решение не ехать на кладбище: вот не ехать, и все. Плача и бормоча, она пихала вещи в чемодан, чтобы уйти куда угодно – на вокзал, на уличную скамью, в то безразмерное пространство отчаяния и обиды, которое создается воображением повздоривших влюбленных. Потом, опомнившись, бросала прямо на полу развороченные тряпки, хватала на улице немытое «Ауди», с безумными глазами, как у понесшей лошади, мчалась сквозь ночь, ловя на себе косые взгляды бомбил; успевала к половине двенадцатого, без четверти двенадцать, без пяти двенадцать.
Командор, в свою очередь, начал ей звонить. Все чаще на дисплее Анечкиного мобильника определялся знакомый номер – ЕГО номер, значившийся в списке контактов как Husband. Анечка убеждала себя, обомлев с распухающим от зуда мобильником на мятной ладони, что, скорее всего, телефон Командору в гроб положили без «симки», а теперь либо адвокаты, либо братки пугают ее, вставив сим-карту в другой аппарат. Может, хотят отобрать квартиру или просто поиздеваться. Но когда она, раскрыв телефон, орала в него «Алло!» – ответом ей была такая огромная и черная тишина, точно она приложилась ухом к дыре, ведущей в небытие. Тишина говорила «Ааааааааааа» совершенно без голоса, только бесконечно глубоким горлом, готовым проглотить человеческий разум. С каждым таким звонком Анечка словно получала инъекцию небытия, и уже в голове у нее открывались черные области, не дававшие связывать мысли.
Последний Анечкин бунт случился на девятом году ее крепостного вдовства. Подкопив денег, тщательно выверив авиарейсы, она полетела в Париж. Самолет был как сон; то и дело ныряя в жужжащую дрему, Анечка словно вываливалась из боинга и потом тяжелым хмельным усилием вновь оказывалась в салоне, будто неслась затяжными скачками над равниной ночных посеребренных облаков. В аэропорту Шарль де Голль, поражавшем огромными крытыми пространствами, Анечка почувствовала себя мухой, ползущей по потолку. Маленькое синенькое такси с табличкой на горбатой крыше повезло ее к Лувру. На все про все у Анечки было примерно пять часов. Слишком тепло одетая для иностранного февраля, Анечка тащила ноги в меховых ботинках вдоль бесконечного дворцового фасада и не могла поверить, что вот эта блеклая вода, словно исчезающая вместе с отражениями и рябью в блеске голого солнца, и есть Сена. Статуи здесь были ярко-белые, все до одной незрячие; на мраморных головах иногда торчали острой короной проволоки для защиты от птиц. Анечка очень устала, но чтобы присесть, надо было что-нибудь заказать: она не видела нигде обыкновенных бесплатных скамеек, а в многочисленных кафе, выставивших на тротуары не просто пластиковую мебель, а красивые столики, покрытые скатертями, было дорого и как-то страшно. За этими столиками сидели люди, много людей: пожилые носатые господа с газетами, стриженые старухи в веселеньких шарфиках, неопределенного пола молодежь, побросавшая в кучу свои рюкзаки. Глядя на них, глядя на толпу, Анечка чувствовала себя чужой им всем – гораздо больше чужой, чем если бы она осталась дома, чем если бы она умерла.
Она едва не прозевала время, когда надо было ехать в аэропорт. На пути в Шарль де Голль такси попало в пробку из здешних маленьких автомобилей, похожую по сравнению с российским скоплением могучих джипов и отечественного металлолома на стадо коз, – но абсолютно непрошибаемую для заклятий и молитв. Что Анечка пережила, стиснув руки на коленях и глядя перед собой сухими страшными глазами, не дай бог пережить никому. Она успела на рейс в последний момент. Во время обратного полета, замерзая в пропотевшем платье под тоненьким пледом, Анечка поняла, что ненавидит Париж. Дома мело, курились сугробы, темные сосны на кладбище качались в снежном дыму. По каменному Командору словно текло молоко, и Анечке почудилось, будто статуя вот-вот шагнет с постамента и разобьется.
Теперь жизнь начала неостановимо уходить из бандитской вдовы. Ежемесячные пятьсот долларов, бывшие когда-то очень неплохими деньгами, уже едва обеспечивали насущное. Старушка «Ауди» побарахлила и встала: на дорогой и бессмысленный ремонт у Анечки не хватало средств. Теперь и Каменск с Талдой превратились в смутную мечту. Автомобиль ржавел под Анечкиными окнами, из-под колес росли, пробивая старый асфальт, стеганые лопухи. Примерно то же самое происходило и с самой Анечкой. Так было до тех пор, пока однажды, сидя на скамейке перед обласканной солнышком статуей, она не заметила краем глаза высокого мужчину, снимавшего ее навороченным фотоаппаратом из-за куста сирени.
* * *
Иван Ветров, он же Хуан Игнасио де Уэрта, происходил из семьи потомков испанских коммунистов, бежавших в СССР от Франко, своего родного языка он почти не знал. В паспорте его стояла русская фамилия, образовавшаяся тогда, когда антифашистов тоже начали на всякий случай потихонечку сажать – особенно тех, в ком текла слишком густая и яркая, сладкая для специалистов с Лубянки, дворянская кровь. Несмотря на происхождение, Ветров был не особенно хорош собой – слишком черняв, слишком костляв, его лицо с выпирающим горбатым носом было в странных голодных ямах, точно нехватка строительного материала, испытанная и отцом, и матерью в советском детском доме, отпечаталась в генотипе. Однако Ветрова это не волновало: его настоящим лицом, его зрением и способом мыслить была фотокамера. Иван Ветров был весьма известный фотохудожник, мастер женского портрета. В его работах проступало то, чего женщина, служившая моделью, ни при каких обстоятельствах не могла увидеть в зеркале. Некий почти мираж с доминированием какой-нибудь одной реальной черты: заломленной брови, непослушной пряди, узкого, прошитого морщинками, изысканного рта – облик неожиданный и нетронутый, как если бы женщину никогда не снимали на паспорт. Виясь вокруг модели по полу, по стенам, чуть ли не по потолку, Ветров щелчками фотокамеры с невероятной точностью выхватывал драгоценные мгновения истины, обыкновенно затираемые кусками простого времени. Его фотосессии походили на обряд поклонения, на танец паука вокруг попавшейся мухи. Женщина, чувствуя себя вовлеченной в некий интимный процесс и познанной в этом процессе, испытывала желание сказать о себе еще больше. Довольно часто это заканчивалось постелью.
Известность фотохудожника Ивана Ветрова росла, выставки его проходили в Париже, Бостоне, Нью-Йорке. Но главным талантом дона Хуана было понимание женской натуры. Он знал, например, простые вещи: всякая женщина почти всегда плохо себя чувствует, всякая женщина от всякого своего собеседника что-то скрывает. Выше красоты – вернее, того, что принято считать красотой, – дон Хуан ценил в женщинах дар желать: мужчину ли, новый автомобиль, поездку на курорт – неважно. Он видел, что мужчины, несмотря на свою амбициозность, гораздо равнодушнее к жизни. И женщины желали дона Хуана – он же не видел никакого повода им отказывать. Вокруг него кипели страсти: его любовницы, как только добирались друг до друга, принимались выяснять между собой, которая лучше – по признакам, по большей части отражавшим их заблуждения; от дона Хуана прекрасные донны требовали судейства. Но дон Хуан не мог им дать именно этого: судейства и суда. Он был бы и рад выбрать наконец из всех одну, но не находил причины, почему та, а не другая. Он слишком серьезно относился к жизни и судьбе – этот выродившийся кавалер с хрустящими суставами и ранней сединой цвета холодных углей; ему действительно нужна была причина, гораздо более высокая и веская, чем молодость и красота. Среди его любовниц была пятидесятипятилетняя неудачливая актриса, носившая в растянутых мочках тяжелые сапфировые серьги в тон выцветающим глазам и гадавшая за деньги на картах; она научила его, что женщина, познавшая отчаяние, бесценна. К ней дон Хуан относился особенно трепетно, но разрыва во времени преодолеть не мог. Он ждал знака судьбы – подозревая, что дон Гуан из старинной испанской легенды, послуживший моделью для Пушкина и Байрона, был на самом деле не охотником, а дичью.
* * *
Отрешенная вдова, которую Ветров увидал, приехав поснимать Аллею бандитской славы для своего, набирающего популярность, блога, вызвала буквально бешенство верного Nikon’а – будто в фотоаппарате билась целая стая готовых вылететь птиц. Те золотые мгновения истины, которые Ветрову приходилось выцеливать из разных, иногда немыслимых физических положений, роились вокруг понурой фигурки, точно мошкара. Дон Хуан допускал, что, выскочив из кустов с фотоаппаратом наперевес, он больше всего походил на сумасшедшего. Не слушая растерянного лепета, даже толком не представившись, он утащил, увез кладбищенскую находку в студию – с чувством, будто украл надгробную статую. Эта смущенная женщина, поставившая черную сумку, почти котомку, прямо на затоптанный пол у входной двери, содержала в себе даже на первый взгляд целую, а в перспективе была неисчерпаема. Ее доминантой были глаза, что случается гораздо реже, чем думают производители туши для ресниц. Наснимав на пленку и на цифру целое богатство и мечтая остаться наконец наедине с файлами, Ветров легко отпустил осунувшуюся модель домой или куда она там собралась на ночь глядя. Однако файлы были таковы, что дону Хуану скоро стало понятно: эта женщина на самом деле не ушла и никогда не уйдет. Испугавшись, что кладбищенская находка дала ему, чтобы отвязаться, неверный телефонный номер, дон Хуан принялся ей звонить в четыре утра.
Он взял ее штурмом, каким-то безумным фламенко, занесшим их не на кровать, а на старый и тучный, астматически хрипевший под ними кожаный диван. Потом, лежа подле влажного тела, напоминающего худобой и стеклянистостью какое-то дивное насекомое, дон Хуан догадался, что крепость вовсе не взята, по-прежнему маячит фатой-морганой на горизонте, и брать ее предстоит осторожно, медленной изучающей лаской, которая, бог даст, продлится целую жизнь. Сперва дона Хуана тревожило, что ему выпало разрушить великую женскую скорбь: он краем глаза заметил даты на постаменте у статуи и поразился сроку траура по такому брутальному животному. Потом он услышал настоящую историю Анюты, и у него отлегло от сердца. Ветров знал немало трагедий, происходивших с хорошими и слабыми людьми, которых перемены девяностых заживо вычеркнули из списка живущих, – из них трагедия Анюты была самой женственной и взывала к лучшим силам недюжинной натуры дона Хуана. Это и была та самая причина, основание выбора, с которым не поспоришь. Дон Хуан объявил Анюте, что проблемы закончились. Квартиру он унаследовал, деньги зарабатывал. Он перевез Анюту к себе, разрешив собрать в черную котомку только документы и кое-что из ее усталой одежды на первое время, перевез, по иронии судьбы, наискось через проспект, с видом из окон на зеркально-синюю, цвета окалины, башню офисного центра и на угол прежнего Анютиного дома, выпиравшего из тряпичной листвы, будто старый комод.
Имя будущей жены будило у дона Хуана романтическое волнение и как бы подтверждало его идентичность. Он, однако, вздрогнул, услыхав, как в действительности зовут гранитного покойника, чьи фамилия, имя и отчество, высеченные на постаменте, были совершенно обыкновенными, ничего о владельце не говорящими. Разумеется, дон Хуан и не думал приглашать в гости эту толстоногую статую с мордой как обледенелый корнеплод. Тем не менее он понимал, что обстоятельства сошлись, сюжет запущен и вопрос только в том, когда ожидать визита Командора. При мысли об этом визите в волосах у дона Хуана шевелился песок. Это заставило его максимально поспешить со свадьбой. Бывшая актриса, дрожа серьгами и плача без слез лиловыми морщинками, его благословила.
То, как Анюта вела себя перед свадьбой, кому угодно показалось бы странным – кому угодно, только не дону Хуану. Под разными неуклюжими предлогами Анюта исчезала каждый день на два, на три часа – дон Хуан отлично знал, куда и почему ее несет. Он понимал, что переживает женщина, уходя от одного мужчины к другому. В этот опасный период всегда возникает зыбкий ренессанс прежнего чувства – вспышка воспоминаний, боли и вины, которыми бывший, если окажется умен, сумеет воспользоваться. Дону Хуану в этом смысле опасаться было нечего: его Анюта бегала к Командору на кладбище. Бегала ежедневно, как привыкла делать годами. Даже наутро перед регистрацией, тихонько выскользнув из постели, уронив на кухне заплясавшую с плоским громом сковороду, она исчезла, и исчезла надолго: приглашенный на дом стилист едва успел уложить ее растрепанные кудри, в которых застряли, будто дохлые мухи, цветки кладбищенской сирени. Дон Хуан не сердился. План был такой: после ЗАГСа и церкви неизбежный ресторан, а уже назавтра поездом в Москву, оттуда самолетом в Испанию, в Коста-Дорада, к морю.
* * *
Дон Хуан выбрал для начала поезд потому, что опасался: резкий отрыв от пятачка земли, к которому Анюта привязана как к единственной реальности, может вызвать у нее тяжелый шок. Он уповал на то, что пейзаж за вагонным окном, являя спокойную череду совершенно обыкновенных домов, полей и перелесков, поможет Анюте освоиться за пределами круга, очерченного злой посмертной волей Командора. Уже через час после отправления поезда стало понятно, что дон Хуан ошибся. Анюту жестоко ломало, она стучала зубами и скалилась, дрожа под двумя одеялами. Дон Хуан попробовал было осторожно, нежно заняться с ней любовью, но Анюта вся была болезненная, в острых мурашках, будто ощипанный заживо цыпленок. Дон Хуан попытался ее покормить, заставил пойти в вагон-ресторан, но Анюта обмирала без сил в шатких межвагонных тамбурах, где близко под ногами, задувая грохочущим ветром, бежали бурые шпалы, а в ресторане разбила тарелку и расплакалась. Дон Хуан старался ее отвлекать, развлекать, но ближе к вечеру, когда в окне на фоне черных елок и заката отразился желтый купейный светильник, он и сам поддался тягостному чувству. Что-то подсказывало дону Хуану, что Командор появится сегодня. Не имея другого оружия, дон Хуан держал под рукой расчехленный, готовый к съемке фотоаппарат.
Они уже почти заснули, когда раздался этот звук. Казалось, гигантский кузнечный молот бьет все ближе и ближе по полу вагона, прошибая хрупкую, несущуюся в ужасе коробочку до самого полотна. Анюта резко села на постели, как в фильмах садятся в гробу покойницы. Дон Хуан, встретившись с ее прозрачным электрическим взглядом, бросил ей халатик, сам запрыгнул в джинсы. И тотчас дверь купе, нестерпимо вспыхнув зеркалом, отъехала прочь.
Каменный Командор стоял в коридоре, видный по плечи, за ним, будто длинный черный ворс, шевелилась темнота. Статуя на секунду поплыла, точно ее окатили водой, показалась убеленная птичьим пометом гранитная макушка, и Командор шагнул в купе, отчего стакан в подстаканнике задребезжал, будто железный советский будильник.
– Ну, привет, че, – раздался глухой и трудный голос, звучавший словно из пещеры.
Дон Хуан вскочил ногами на предательски мягкий диванчик, пытаясь из-за каменного болвана разглядеть, как там Анюта. Его голова оказалась еле вровень с пыльным и шершавым плечом Командора.
– Что тебе надо?! Я тебя не звал! – выкрикнул он, запрокинув голову и глядя в глубоко высверленные глаза, в которых явственно блестело что-то оптическое. Не то от головокружения, не то по каким-то иным причинам, дону Хуану показалось, будто Командор носит сильные очки.
– Не звал он! А я тебя спрашивал, нет? – прогудел Командор, ухмыльнувшись рябым гранитным ртом.
Текучая мимика статуи напоминала медленное, одышливое кипение загустевшей каши: крупинки гранита шевелились, будто серая гречка. Дон Хуан трясущимися руками вскинул Nikon и щелкнул. Тотчас каменный мобильник полетел к нему в постель, будто метеорит, и в руке у статуи неведомо как возник громадный, зеркально отливающий левой плоской щекой гранитный пистолет. Бездонная черная дырка пристально смотрела дону Хуану в переносицу, и ему показалось, будто это каменное орудие может выстрелить не хуже настоящего.
– Че, не стоял никогда под стволом? Так постоишь у меня, чмо недоделанное, – гулко проговорил Командор, приближая к дону Хуану свою каменюку. – Ладно, короче: тема не к тебе, а к Аньке моей. Ты можешь сбегать пока в туалет, разрешаю.
– Анюта теперь моя жена. И никуда я не уйду! И не трогай ее! – сорванным голосом крикнул дон Хуан, явственно ощущая, как на затылке, в том месте, откуда должно было вылететь, расплескивая мозги, маленькое каменное ядрышко, шевелятся пряди волос.
– Да? Ну ладно. Уважаю… – Командор нахмурился и сунул каменную пушку себе в бочину, куда она погрузилась, вспучив гранит толстым пузырем. – Ань… Ты, это… Привет, в общем…
Тут Командор приотодвинулся, и дон Хуан увидал, что Анюта сидит в постели, прижимая к груди скомканный халатик, и улыбается жалким сощуренным лицом в ниточках морщин.
– Вася?.. Это правда ты?.. – проговорила она еле слышно.
– Ну, – подтвердил Командор. – Дура, че, не лезь под одеяло, я тебя на камеру снимаю, поняла, нет?! Ну-ка быстро вылезла, села прямо!
– Какая камера, ты, герой мультфильма?! – заорал дон Хуан, проскакивая, чуть не выронив сердце на пол, под каменным локтем и бросаясь к Анюте. – Ты зачем явился, в гроб ее загнать?
– Слышь, Ань, твой-то новый, он совсем тупой. Пушкина прочитал, а жизнь, по ходу, не понимает совсем, – пророкотал Командор, и в гулком каменном голосе прорезалась вальяжная гнусавость, которой авторитет, вероятно, обладал при жизни. – Объясняю: камера. Тут вот, – Командор повел неправдоподобно заструившейся рукой у себя перед глазами, в которых, теперь уже совершенно явственно, сверкнула оптика. – Голова у меня открывается, типа бар, прикинь. Сам я это придумал и сам за это отбашлял. Я же, Ань, хотел, чтобы было красиво: вдова на могиле каждый день и все такое. А тебе за это тоже красивая жизнь: деньги, квартира, тачка – че еще женщине надо? Кто же знал, что так повернется. Инфляция, блин, по беспределу, скоро пятьсот баксов кошке на прокорм не хватит. И еще этот твой таракан, типа муж, опустить меня решил: мол, ничего нам не надо, все свое есть. Думает, я за ним пришел, ага. Нужен он мне. И без него подсадили ко мне Ильича, знал бы, другого гения позвал статую строгать. Ильичей-то этих много, сами по себе они пустые, как бутылки. Но вот главный у них, который настоящий… Из-за него красного хочется, крови хочется, ну, или хоть флагов, на худой конец. Я из-за него, из-за падлы, очень опасный. Таракану своему разъясни, пусть не борзеет, а то поведусь. Ствол у меня теперь ни один мент не заберет.
– Можно подумать, ты крови не лил, ангел какой! – зло парировал дон Хуан, сжимая Анютину ледяную руку, чувствуя, как по ней от плеча пробегает судорога, точно у подопытной лягушки под током.
– Лил, но по понятиям. Никто из правильных людей не мог сказать, что Командор – фуфло. А сейчас хули мне в том… – Гнусавый голос Командора внезапно упал. – Совесть у меня проснулась, вот чего. Только я, типа, упокоился, как она на дыбы. Я, пока жил, и подумать ни о чем не успел. А после моей жизни трясет меня, чисто с похмелья. Ильич еще этот вроде сивухи… Короче, Анька, ты зла не держи. Мог бы, переписал завещание, но я теперь без прав, я же мертвый. Лойер этот позорный, камеру когда берет, хоть бы голову мне от говна вытер. Только обломается он квартиру у тебя забирать. В завещании написано как? Чтобы ты у памятника была раз в сутки. А памятник – это я и есть. Ладно, уезжаешь ты с тараканом своим, ну, дело твое. Сам буду приходить, я теперь не гордый. Лойер камеру возьмет, пленочку посмотрит, а там ты регулярно, дата и время, пожалуйста. И пятьсот баксов тоже тебе не лишние…
– Так ты что, каждые сутки будешь приходить со своими спецэффектами?! – воскликнул дон Хуан, чувствуя, как ужас, подлинный ужас, давит, будто пятка, на задохнувшееся сердце.
– Ну, – Командор вдруг как-то очень узнаваемо сощурился, и дону Хуану померещилось, будто из гранитной челюсти выдвинулась, вроде как пепельница из дверцы автомобиля, клиновидная бородка. – А ты сможешь мне помешать, товарищ?
С этими словами Командор простер правую руку над своим гранитным мобильником, и каменюка, валявшаяся на сбитом одеяле, булькнула и прыгнула вверх. На секунду забыв обо всем, дон Хуан опять схватился за Nikon: то, что попадало в кадр, тянуло на бурю в Интернете. Не удержавшись, он онемевшим указательным пролистал файлы. На мониторе не было никакого Командора: смутно рисовалось купе, наполненное разводами тьмы, как если бы струйки копоти тянуло в вентиляцию. Вскинув глаза, дон Хуан увидел ту же волокнистую тьму, утекавшую в дверь. Неуверенно бухнул тяжкий шаг – один, другой, точно Командор, плюща поезд, спускался по нему, будто по железной лестнице.
Потусторонний гром внезапно пропал, оборвавшись каким-то полым жалобным звуком. Тотчас как ни в чем не бывало застучали вагонные колеса, в окне поплыли желтые огни, прошла освещенная стройка, потянулся городок. Анюта сидела, стуча зубами и бессмысленно мигая, халатик, по-прежнему смятый на груди, точно вмерз в потеки льда.
Дон Хуан схватил Анюту, прижал ее к себе, прижался сам, чувствуя, как потихоньку разгоняется общий кровоток.
– Вань… Я тебе разве нужна с таким приданым? – слабым голосом проговорила Анюта.
– Нужна, и даже вопроса такого больше не задавай, – тихо ответил дон Хуан. – Мало ли что в жизни случается! Жизнь – странная штука, в ней бывают необъяснимые явления. Проживем, сколько проживем. И все равно счастливы будем. А Командор – ну, что Командор? Шум, гром, камнями кидается, так ведь и все, по существу. Совесть у него проснулась – ну и пусть побегает теперь.
Валерий Бочков Живое сердце дракона[3]
Если уж начистоту, то праздник этот с самого раннего детства пугал меня.
Утро, ноябрьское серое утро. На жести подоконника искрится седой иней, а в спальне тепло, душно. Батареи включили неделю назад, и теперь кочегары топят, как во спасение души. Утренний сон сладок, под утро снятся розовые небеса, я беспечно парю среди облаков, легко и невинно. Я еще сплю, а в мой невинный младенческий сон уже вползает темный звук – бух… бух… бух, глухой пульс огромного сердца. Сердце, величиной в дом, бьется в груди чудовищного дракона. Бух… бух… бух. Пульс растет, дракон приближается. Чудовище всегда появляется с юга, со стороны Павелецкого вокзала. Острые крылья, клыки, отливающая медью чешуя. Из-за Краснохолмского моста он выползает огромный, как гора, страшный, как грозовая туча. Я уже слышу сиплый шелест крыльев, утробный хрип, перезвон чешуи. Дракон перевалил через мост, спасенья нет, я вижу его сияющие, точно рубины, глаза и в ужасе просыпаюсь.
Дракона больше нет, но что это? Бух… бух… бух – грохот его сердца не исчез, сердце бьется громче, чем во сне.
Наш дом стоит прямо на набережной. С балкона восьмого этажа когда-то была видна даже Спасская башня, пока не построили дурацкую гостиницу, которая своим белым боком не загородила нам весь вид. Меня тащат в ванную, после наряжают, бабушка вплетает мне в косы черные ленты, мастерит пышные банты. На ней тоже черное платье и никаких украшений. Только губы подкрашены красной, как кровь, помадой.
В большой комнате, ее у нас называют то гостиной, то столовой, круглый стол раздвинут, накрыт белой скатертью с острыми крахмальными складками. Мама расставляет тарелки, звенят вилки и ножи, колокольцами поют хрустальные бокалы и рюмки. Из кухни плывут блюда с копченой колбасой и ветчиной, пузатые салатницы с нагло багровым винегретом и равнодушно бледным оливье, розоватые ломтики севрюжьего балыка и ярко коралловой семги, стеклянные плошки с икрой – осетровой и кетовой, заливная рыба в железной миске и, разумеется, холодец. Он всю ночь мерз на балконе и сейчас похож на застывший кусок янтарной реки с оранжевыми морковными рыбками внутри. Меж блюд втискивается вино, коньяк, водка в запотевшем графине с пробкой в виде хрустального яйца.
Я слышу шаги, и в гостиной появляется дед. На нем парадная форма, китель со стоячим воротником и золотыми погонами, сияющие кавалерийские сапоги и галифе с малиновыми лампасами. Даже сейчас я с удивительной точностью могу воскресить восхитительную смесь запахов – дух табака, кожи и сапожной ваксы перебивает свежая струя солдатского одеколона, аромата резкого, похожего на запах корки зеленого лимона, взрезанного морозным утром. Дед торжественно строг, он обходит стол, каблуки его сапог, подбитые стальными подковками, цокают, как настоящие шпоры. Папа Сережа, до этого лениво пялившийся в телевизор, торопливо гасит сигарету.
– С праздником, Платон Васильич! – выпрямляется он как школьник.
– С праздником, папа, – ласково улыбается мама.
Дед, не глядя на них, кивает, я знаю, что он недолюбливает Сережу, но сегодня выволочки не будет, сегодня особый день. Обычно дедушка спуска ему не дает, иногда я даже боюсь, что дед снимет ремень и начнет пороть папу – как в книжках про царское время. Когда дед сердится, глаза его светлеют и из серых становятся почти василькового цвета, а на скулах расцветает румянец. Папа Сережа потом ябедничает маме, негромко обзывает дедушку «сатрапом» и «центурионом». Мама успокаивает, что-то шепчет голубиным голосом, мне кажется, она тоже побаивается деда. Но сегодня – особый день, сегодня все пройдет мирно. Я так надеюсь.
Сильной крестьянской рукой дед берет графин с водкой. Поднимает не за горлышко, а нежно подхватив широкой ладонью за дно. Замерзшая водка тягуче наполняет хрусталь рюмок. Мне, подмигнув без улыбки, дед наливает кагор. Полную стопку, до краев.
Еще нет десяти, телевизор бубнит восторженную чушь, за окнами ползет дракон. Его сердце ухает совсем рядом. Теперь к тугому грохоту добавляется визг труб. Под нашими окнами в сторону Красной площади проходит оркестр. Музыканты играют какой-то бесконечный марш, надрывный и визгливый; бесстыже сияют медные трубы, а впереди вышагивает самый главный – тот, с колотушкой и огромным барабаном. Бух… бух… бух – грохочет барабан. Бух… бух… бух… – колотится сердце дракона. По набережной, во всю ее ширину, ползет людская толпа, это демонстранты; над ними покачиваются воздушные шары – круглые и длинные, как сардельки, красные флаги, гигантские бумажные гвоздики, толпа тащит плакаты и фанерные щиты с черно-белыми фотографиями каких-то гладких стариков. С балкона толпа похожа на черную змею с красными узорами, ее голова уже где-то на Красной площади, а хвост все еще ползет по Краснохолмскому мосту и прячется где-то в дебрях Зацепы.
– Внимание! Внимание! – демонический голос произносит из телевизора с мрачным тожеством. – Говорит и показывает Красная площадь! Говорит и показывает Красная площадь!
Мне становится жутко, взрослые тоже замолкают. Я не понимаю, как каменная площадь может говорить, а тем более что-то показывать. Громыхнув первым аккордом, телевизор начинает играть гимн. Дед встает, поправляет большими пальцами ремень, строго одергивает китель. Гремя стульями, поспешно встают и все остальные. Бабушка комкает платок, я не понимаю, почему от этой громкой музыки у нее по щекам катятся слезы. Сережа, скучая, разглядывает холодец, его тонкие пальцы наигрывают ритм гимна на штанине, мама рассеянно смотрит куда-то в стенку, там висит картина с березовой рощей. Наверное, она тоже пытается разгадать, куда все-таки убегает лесная тропинка, которую коварный художник увел в изумрудную тень таинственной чащи. На меня нападает хохотун; пытаясь проглотить смех, я тихо хрюкаю, дед слышит, он бросает грозный взгляд сверху вниз. Сжав до боли кулаки, я хмурю брови, стараюсь скроить мрачное лицо. Такое же, как у деда.
Главное – парад. Главное – танки! Танки грохочут по Красной площади, а через десять минут они уже несутся по нашей набережной. Я с мамой внизу, мы стоим на тротуаре, рядом соседи – Владик Ермаков с девятого, Женька Высоковский с седьмого. Они орут «ура» и, как психи, размахивают руками. Гремят гусеницы, ревут моторы, танки мчатся мимо, иногда мне удается разглядеть в открытом люке лицо танкиста в шлеме. Колонна бронетехники проносится точно лавина, как ураган. Грохот смолкает, в воздухе остается горький дух гари, а на мостовой – седые шрамы от гусениц. Мальчишки выходят на середину набережной, садятся на корточки и, ковыряя пальцами асфальт, начинают о чем-то серьезно рассуждать. Наверное, о том, как здорово быть танкистом.
– Чепуха, – отвечает дед, когда потом я говорю ему об этом. – Жизнь танка в современном бою равна трем минутам.
Мне не очень ясно, о чем идет речь, но я интуитивно понимаю, что в танкисты идти, скорее всего, не стоит.
* * *
Катей меня назвали в честь бабушки. На картонке старой фотографии с золотым тиснением «Фотоателье А. Шапиро» бабушке пять лет, там есть и дата – 1907 год. Ровно десять лет до катастрофы, которую потом окрестят Великой революцией и самым важным событием двадцатого века.
Мутная сепия, янтарные блики, кажется, снимок сделан сквозь толщу речной воды. У бабушки веселые глаза, чуть хитрая улыбка, точно она замышляет какую-то проказу. Ровный пробор в русых волосах, тугая коса с бантом. На ней матроска с белой юбкой и белыми гольфами, в руках какой-то обруч, похожий на хулахуп.
«Нет, не хулахуп, – смеется бабушка. – Игра называлась «погонялка», обруч катили по дороге, подгоняя палкой с загнутым концом. Кто дальше всех прокатит, тот и выиграл».
Мы с ней сидим на солнечной веранде на даче в Снегирях, разбираем старые фотографии. Конец июня, лето не кончится никогда. Жизнь не кончится никогда. Теплые лучи, покой и радость наполняют мое тело чем-то материальным, почти осязаемым. Наверное, счастьем. Тот июнь стал самым счастливым месяцем моей жизни, а бабушке оставалось жить всего полгода.
Она родилась в Питере в семье учителя, он преподавал латынь в гимназии. Жили они на Гончарной в пятикомнатной квартире, жили не бедно, не богато, все соседи жили так. Сосед сверху – мужской портной, снизу – адвокат.
Когда началась война, у портного заказов прибавилось, он начал шить мундиры и шинели; молодые мужчины, цокая подкованными каблуками, бодро шагали на пятый этаж. Курили на лестничной площадке, громко шутили. Их смех гулким эхом разносился по парадному. Бабушка (ей только исполнилось двенадцать) в щелку двери подглядывала за красивыми новобранцами. Война казалась совсем не страшной, даже наоборот, чем-то озорным и увлекательным, вроде поездки на дачу в Парголово. Добровольцем записался и отец, после и сосед-адвокат.
Бабушка тогда училась в гимназии. У многих девочек в классе отцы ушли на фронт. Жизнь быстро потемнела, стало серо и скучно, точно солнце закатилось за трубу. Начали поступать похоронки, страшные желтоватые конверты: каллиграфия полковых писарей была идеальной, будто пером водила сама смерть. Некоторым присылали письма с туманно зловещей фразой «пропал без вести». Такое же письмо получила и бабушкина семья. Мама молилась и плакала, а бабушка не могла понять, как это человек может пропасть без вести. Это же живой человек, а не носовой платок или перчатка.
Тем октябрьским днем бабушка Екатерина сидела у своей подруги Зинаиды Красовской на Невском, они часто готовили уроки вдвоем. Отец Зины тоже ушел на фронт, но он пока еще был жив и не считался пропавшим без вести. Вернулась с работы Зинина мама, из-за нехватки денег она устроилась в Гостиный двор и теперь каждый вечер приходила не раньше семи. Пили чай с абрикосовым вареньем, бабушкиным любимым, с белыми косточками, похожими на горьковатый миндаль. Болтали, шутили, вспоминали – война шла уже третий год, и довоенные истории казались неправдой. Засиделись допоздна, когда бабушка опомнилась, был уже десятый час, за окном стемнело, и зажглись желтые фонари. Зинина мама хотела проводить, но бабушка Катя отказалась – до дома всего три квартала: добегу, сказала она, надевая пальто.
Выйдя на Невский, Кате послышался странный гул, похожий на шум моря, донеслись крики и выстрелы. Со стороны Полтавской улицы на проспект выползла толпа; впереди бежал какой-то человек в длинном пальто, его догнали, повалили, стали пинать. Он кричал, а эти двое продолжали бить его ногами. Потом толпа подмяла его, покатила дальше.
Как в дурном сне, когда ноги превращаются в студень и перестают слушаться, Катя застыла, бессильно прижалась к стене. Толпа ползла, толпа приближалась. Растекаясь густой массой во всю ширину проспекта, она состояла по большей части из мужчин, одетых бедно, как одеваются люди на рабочих окраинах. Раздался звон, весело посыпалось стекло – кто-то разбил витрину в кондитерской Наумова; толпа восторженно взвыла, несколько человек полезли в магазин. До войны Катин отец покупал в этой кондитерской эклеры с шоколадной глазурью и ванильным заварным кремом внутри. Полдюжины. Шесть восхитительных эклеров. Приносил домой коробку, перевязанную красной лентой.
Грохнул выстрел, другой, третий – точно ломали сухие палки. Катя очнулась, бросилась бежать. Свернула в первый переулок, увидела вывеску «Трактир и постоялый двор». Хозяин, узнав, что Кате всего четырнадцать, хотел прогнать ее – нагрянет полиция, оправдывайся потом. «Да нет там никакой полиции! – зарыдала она. – Там толпа, они грабят магазины и убивают людей!»
Внизу, в душном подвале на деревянных нарах, копошился какой-то люд – бродяги, проститутки, нищие. Они ругались, орали, пили и хохотали; бородач, похожий на лешего, азартно бренчал на балалайке. Подвал освещали две мутных керосиновых лампы. Рыжее пламя прыгало, по сводам низкого потолка бродили тени жутких чудовищ. Хозяин сунул Кате одеяло, указал на койку в углу. Не снимая пальто, она легла, накрылась с головой. Но даже сквозь войлок одеяла до нее долетали мат, крики и хохот соседей.
Моей бабушке и в голову не могло прийти, что теперь эти люди, страшные и дикие, о существовании которых она лишь смутно подозревала, изредка видела на улице, которых ее отец презрительно называл немецким словом «люмпен», а мама «мазуриками», что теперь эти люди – рвань, ворье и попрошайки, быдло и гопота – не только накрепко войдут в ее жизнь, они станут ее жизнью, ее судьбой. И что за одного из них через пять лет она выйдет замуж. Да, я имею в виду моего деда Платона Каширского.
На улице, совсем рядом, грохнул взрыв. «Винные склады грабят! – заорал кто-то. – Братва! Айда, пока урлаки все не растащили!» Ночлежники заголосили, топая и матерясь, побежали наверх. Катя высунулась из-под одеяла – подвал был пуст. Гремя сапогами, по лестнице сбежал хозяин. Он сжимал топор, ворот его рубахи был вырван с мясом, из-под волос на лоб, оставляя тонкий след, стекала красная капля. Топор трясся, Катя никогда не видела, чтоб у человека так дрожали руки.
– Полиция? – она спрыгнула с нар.
– Какая полиция! – задыхаясь, выговорил хозяин. – Все бы отдал, чтоб она появилась… Полиция… Погром там! Погром!
– Какой погром?
– Революция!
Хозяин открыл кладовку, свалил в угол матрацы и одеяла, Катя забралась под тряпье. Слышала, как захлопнулась дверь, клацнул засов, повернулся ключ в замке. Потом ночлежники начали возвращаться, они топали, что-то таскали, гремели бутылками. Кричали и ругались. Кто-то сипло заорал:
– Где девка? Куда девку спрятал? А ну тащи сюда эту растетеню гладкую!
Катя впилась зубами в руку, чтоб не закричать от страха.
– Ушла девка! – услышала она голос хозяина. – Полчаса как драпанула.
– Ведь найдем! Тебя, пентюх, выпотрошим! На ножи поставим, как мама не балуй!
– Хорош сняголовить, тартыга! – снова хозяин. – На улице она!
– Дай ему в бубен, Лузга! – взвизгнул кто-то. – Че бакланить!
Началась драка. Послышались крики и топот; удары, точно колотили в кожаный мяч, хозяин рычал и ругался, потом все стихло. Подошли к кладовке, начали сбивать замок чем-то железным, наверное, хозяйским топором. Дверь крякнула, подалась. Катя зажмурилась, застыла под кучей тряпья.
– Нету тут! – крикнул кто-то. – Рухлядь всякая. Зазря фофана порешили. Взаправду утекла титешница.
Утром Катя выбралась из чулана. На полу лежал убитый хозяин, вместо лица у него было кровавое месиво, над которым кружили большие мухи. В углу кто-то храпел. С улицы доносился рев толпы и выстрелы. Где-то громким хором пели песню. Катя нашла кувшин с водой и кусок черствого хлеба и снова забилась под тряпье.
Погром продолжался четыре дня и четыре ночи. На пятый день начал стихать, смолкли крики и песни, прекратилась стрельба. Катя вылезла из кладовки и тут же наткнулась на пьяную проститутку. Та сидела по-турецки на нарах и пила шампанское прямо из бутылки. Грязная, без двух передних зубов, она заставила бабушку пить с ней, потом потребовала бабушкину каракулевую шубу и ее берет из шотландки. Взамен сунула драный платок и тощий салоп на вате. Этот штопаный салоп спас моей бабке жизнь.
Когда она выбралась из ночлежки и вышла на Невский, погром еще продолжался. Сновали бородатые солдаты с красными бантами, проститутки, пролетарского вида мужики. На мостовой и тротуарах валялись трупы хорошо одетых людей. Их карманы были вывернуты, тут же лежали пустые бумажники, оборванные цепочки от часов. Под ногами хрустело стекло, темнели коричневые лужи засохшей крови. Дома чернели выбитыми окнами и витринами, в галантерейном магазине Солодовникова полыхал пожар, языки рыжего пламени рвались из всех шести окон и лезли под крышу. В воздухе стоял трупный смрад и запах гари. Укутав лицо платком, по-старушечьи сгорбившись и прижимаясь к стене, Катя пошла в сторону Гончарной. На нее никто не обращал внимания.
Она добралась до своего дома. Ей показалось, что пошел снег, она подставила ладонь – нет, то был пух из вспоротых перин и подушек. На мостовой, перед подъездом лежал мертвец, она узнала дворника Насима. Двери парадного, распахнутые настежь… – Катя вошла в вестибюль: мраморная лестница в осколках стекла, разбитые зеркала и вещи, вещи, вещи… Пальто и шубы, шарфы и шали, смятые шляпы, домашняя утварь, игрушки – все это, мятое, грязное, валялось повсюду, словно мусор. Пошла вверх по лестнице, останавливаясь на каждой лестничной клетке; двери всех квартир были выбиты, одни болтались на одной петле, другие лежали тут же на полу. На трех этажах не осталось ни одной целой двери.
Их дверь тоже была выбита. Первое, что Катя увидела, был труп ее матери. Она лежала в прихожей, уткнувшись в лужу засохшей крови. По паркету коридора, среди бумаг и скомканной одежды, сиял рассыпанный жемчуг. Катя так любила играть этим маминым ожерельем! Из распахнутой кладовки торчали босые ноги: няню Варвару погромщики зарезали прямо там, в кладовке. Пятилетнего братика – он пытался спрятаться в детской – вытащили из-под кровати и тоже убили. Кололи штыками. Кровь везде – на стенах, на шторах. Кровью был забрызган даже потолок.
В квартире не осталось ни одного целого стекла, занавески рваными флагами развевались по ту сторону окон. Ящики комодов валялись на полу, шкафы и буфеты были распахнуты настежь, содержимое вывалено на пол. Казалось, каждая вещь была разбита, раздавлена, изуродована.
Катя блуждала по квартире, точно в трансе, ее память непроизвольно вбирала в себя страшные подробности: кровавые следы огромных сапог по коврам и паркету, распоротые кресла с торчащей ватой, изрезанные штыками картины и фотографии – на отцовском портрете выкололи глаза, и кто-то припечатал его лицо своей кровавой пятерней.
Катя вошла в отцовский кабинет. Среди разбросанных по полу книг, бумаг и документов (убийцы, очевидно, искали деньги и облигации) Катя увидела фото. Подняла – то была ее фотография десятилетней давности: улыбчивая девочка в белой матроске с обручем-погонялкой в руке.
Погром продолжался четыре дня и четыре ночи. С двадцать пятого до двадцать девятого октября. По городу рыскали пьяные от крови погромщики, красногвардейцы с флагами «Смерть буржуям!», матросы, перепоясанные пулеметными лентами. Весь центр Питера был разграблен – магазины, квартиры, склады, конторы. На мостовых и тротуарах лежали убитые, много убитых. Бродячие собаки ели их. Над городом повис трупный смрад.
Красногвардейцы, до этого сами участвовавшие в грабежах, начали сгонять погромщиков в похоронные команды. Недовольных расстреливали на месте. Впрочем, до похорон дело не дошло: трупы грузили на телеги, везли к Неве и там сбрасывали в реку. Трупов было так много, что они плыли вниз по течению несколько недель.
Так Петроград стал городом мертвых. Городом без горожан. Во дворе штаба ЧК на Гороховой жгли документы убитых питерцев. Жертвы погрома – мужчины, женщины, дети, семьи, дома и целые кварталы – таяли вместе с черным дымом в низком северном небе, таяла и исчезала память о них, будто люди эти никогда и не жили на белом свете.
Для моей бабушки праздник Октябрьской революции навсегда стал днем траура. Днем скорби по погибшим петроградцам, днем скорби по своей семье. Большевики, пытаясь переписать историю, переименовали город в Ленинград, стерли имена убитых горожан. Свидетели и участники Великого русского погрома держали язык за зубами, за неосторожное слово о Петроградской резне можно было поплатиться свободой. Уголовные статьи, целых четыре, входили в раздел «Контрреволюционная деятельность». Седьмое ноября, страшный день кровавого русского погрома, стал главным праздником коммунистической России.
* * *
Если уж начистоту, то праздник этот с самого раннего детства пугал меня.
Я еще сплю, а в мой невинный младенческий сон уже вползает темный звук – бух… бух… бух, глухой пульс огромного сердца. Сердце, величиной в дом, бьется в груди чудовищного дракона. Бух… бух… бух. Пульс растет, дракон приближается.
Алиса Ганиева 19–17
На входе в театр зрителям раздали красные полумаски. Главные правила представления – никаких мобильных телефонов, полнейшее молчание и невмешательство в игру. На шоу Бочкина притащил приятель, расхваливал, обещал, сулил. Инверсивный театр, это, дескать, абсолютная вовлеченность в действие, портал во вторую реальность. Спектакль назывался «19–17» и посвящался Октябрьской революции. Зарубежный режиссер, дореволюционный особняк – все как полагается. Зрителей ожидала прогулка по старинным залам и этажам, на которых разыгрывались разнообразные и, если верить рекламе, маняще зловещие сцены. Вообще, обилие шипящих в афишах зашкаливало. Представление должно было завершиться к полуночи, но разрешалось улизнуть и раньше. Бочкина это радовало. Он предвкушал, как вытащит неуемного приятеля из театра и усядется с ним в соседнем заведеньице за бокалом крафтового пива.
Ровно в 19 часов 17 минут раскрылась тяжелая входная дверь из фойе – в мир революции. В послушном молчании зрители в полумасках двинулись внутрь, в темный полумрак. Тут-то Бочкин и потерял приятеля. Его унесло куда-то вбок, чужие тела заслонили его и проглотили. Некоторое время толпа безмолвно шла по плохо освещенному пустому залу, потом показались убранные черными портьерами дверные проемы. Проемов было несколько, и поток разделился. Бочкина понесло в одну из портьер, замелькали затылки, посыпались откуда-то голоса, и через мгновение он оказался в людном зале, где проходило какое-то заседание. Если верить прицепленной над трибуной растяжке – II Всероссийский съезд Советов.
Актеры были наряжены в тулупы, матросские и солдатские формы, зипуны, суконные пиджачки – в общем, вразнобой и даже как будто анахронично. По крайней мере галстук на выступавшем эсере (Бочкин окрестил его почему-то эсером из-за кругло блистающих очков, короткой каракулевой шапки и маузера) – галстук был совсем современный, голубо-глянцевый. Полумаски рассаживались на пустующие места, скапливались в углах зала или утекали дальше, куда-то за стол президиума. Бочкин присел рядом со стариком в расстегнутом тулупе. Тот улыбнулся Бочкину беззубым ртом, хекнул и сплюнул прямо под ноги.
На трибуну вышел актер, изображавший Ленина. Зал грохнул аплодисментами.
– Советское рабоче-крестьянское правительство, товарищи, – закартавил он как-то совсем по-шаблонному, – призывает все воюющие народы и их правительства начать немедленные переговоры о справедливом демократическом мире! Без аннексий и контрибуций!
Рабочие ликующе загикали, голос фальшивого Ленина утонул в хлопках.
– А ты знаешь, браток, – обратился вдруг к Бочкину старик в тулупе, – у немцев в окопах – електричество. Шкапы стоят, кровати. В дверях – звонки.
Бочкин на всякий случай кивнул и отвернулся от деда. Народный говор у того выходил неестественно. Но дверные звонки напомнили Бочкину о совершенно ненужном факте. Перед ловлей электрических угрей жители Амазонки загоняют в реку стадо коров. Чтобы на них пришелся весь заряд тока.
– Мы немедленно приступаем, – продолжал скандировать Ленин, – к полной публикации тайных договоров, подтвержденных или заключенных правительством помещиков и капиталистов с февраля по 25 октября 1917 года. Призываем все правительства и народы всех воюющих стран немедленно заключить перемирие!
К трибуне внезапно со всех сторон, топоча, выбежали крестьянки с коромыслами и хором запели:
А я хочу перемирия! А я прошу перемирия! Кто без тебя в этом мире я? Две неравных половины спорят во мне. Выбирай себе, любимый, тьму или свет, А они ведь неделимы – выбора нет! А они ведь неделимы – выбора нет!Высоко ойкнув после финальной строчки, бабы так же шумно и спешно разбежались.
– А ты за какую половину? За большевиков или меньшевиков? – толкнул Бочкина сидевший сзади малый в грязной шинели.
Бочкин не знал, как реагировать, и оглянулся кругом. Но никто не обращал на него никакого внимания. Тогда он просто пожал плечами и стал смотреть вперед.
Тем временем во всех проходах актового зала показались габаритные телекамеры. К шинельному малому подскочила незаметная девушка в современном черном платье, с микрофоном, – вылитая ассистентка с телепередачи.
– Скажите, – раздался голос из президиума, – как вы относитесь к демаршу Мартова и его холуев?
Судя по бородке и торчавшему из головы ледорубу, говорил Троцкий. Впрочем, костюмчик на нем смотрелся абсолютно современно.
– Да, пожалуйста, вам слово! – подхватила возникшая рядом Инесса Арманд в желтоватой блузке.
В руках у Инессы Бочкин заметил карточки с надписью «С’езд», какие бывают у ведущих ток-шоу. Впрочем, была ли это Арманд, Бочкин не знал, а просто окрестил так ведущую за порочный огонек в глазах.
– Под видом свободы эти мартовы хотят превратить страну в сточную канаву, по которой текли бы нечистоты. Но бездействовать мы не будем! – проорал малый.
– Не будем, – подхватил пожилой бородач в другом конце зала. – Может быть, мы задолбали их со своей рабочей духовностью. Зато они нас со своей буржуйской гомосятиной достали еще гораздо больше. И мы не хотим за это платить! Наша духовность, она хотя бы бесплатная. А их гомосятина нам в копеечку вышла!
Инесса энергично и одобрительно кивала.
«Зал! Аплодисменты!» – раздался сверху приказ невидимого режиссера. И зал дал аплодисменты. Бочкин сам не заметил, как принялся неистово бить в ладоши. Лже-Ленин вскочил на трибуну и сипло завопил:
– Земля – крестьянам! Фабрики – рабочим!
Послышался далекий грохот артиллерии. Со всех сторон началось брожение голосов:
– У кого-то чешутся руки!
– Есть такая партия!
– Когда мы едины, мы непобедимы!
– Нет наемному труду!
– Авангард рабочих и солдатских масс…
– Фашизм не пройдет!
– Цели верны, задачи определены!
«Ну и мешанина! И кто им слова сочинял?» – подумал Бочкин и встал с места.
– Закрыть органы печати, – продолжал неистовствовать Ленин, – сеющие смуту путем явно клеветнического извращения фактов, фальсификации истории, маловерия и национал-уклонизма, паникерства и пацифизма!
«Ну все наперекосяк», – сетовал про себя Бочкин, пробираясь между гогочущими матросами вон, в другую комнату.
– Мы готовы взять всю власть целиком, – доверительно прошептал ему солдат, стоявший с винтовкой у раскрытой двери.
Бочкин вышел, пристроившись к таким же заскучавшим на заседании полумаскам. В коридоре нещадно звенели висевшие на стенах телефонные аппараты. Кто-то из зрителей снял одну из трубок. Бочкин на ходу проделал то же самое. Тревожно-ласковый голос в трубке сообщал:
– Прежде всего нужна была армия, не желавшая более сражаться. Весь ход революции, с февраля по октябрь включительно, выглядел бы совершенно иначе…
Бочкин бросил трубку на рычаг и двинулся дальше.
* * *
Навстречу ему плелись юнкера, казаки, ударницы женского батальона. Вид у них был понурый.
«Ага, значит, где-то здесь Зимний дворец», – догадался Бочкин.
И вправду, из громкоговорителей доносилось:
– Правительство может передать власть лишь Учредительному собранию, а потому постановило не сдаваться! Отдать себя под защиту народа и армии! Пускай народ и страна ответят на безумную попытку большевиков поднять восстание в тылу борющейся армии!
Стало как-то совсем темно, и Бочкин еле различал, где актеры, а где зрители. Мимо толпы медленно, с рычанием, в луче прожектора поехал картонный муляж автомобиля с американским дипломатическим флажком. В автомобиле пряталась фигура во френче, пышной женской юбке и с яркой балаклавой на голове.
– Керенский! Керенский! – зашептались актеры.
«Вранье на вранье, – уже без возмущения подумал Бочкин. – Дождусь «Авроры» и пойду на выход».
За картонным авто Керенского, в таких же лучах прожекторов, протарахтели картонные мотоциклы с байкерами в банданах, следом семенила толпа непонятных людей в современных кашемировых пальто с прижатыми к грудям мироточащими иконами Николая Второго.
Потом во тьме загорелся циферблат, запрыгали цифры: 21–39–57, 21–39–58, 21–39–59 и, наконец, 21–40–00. Хлопнул выстрел. На стенах, в лучах кинопроектора, гордо встала в водах Невы «Аврора». Через секунду все задвигались, зашумели и куда-то помчались, увлекая за собой Бочкина.
«Почему Ахиллес никогда не догонит черепаху, – замелькало у него в голове невпопад. – Догнать и перегнать. Держись корова из штата Айова. Мы видим город Петроград в семнадцатом году, бежит матрос, бежит солдат, стреляет на ходу… Смольный?! Вина и водки нет? А где есть? В Зимнем? На штурм! Ура!!!»
– Ура-а-а! – вторила толпа мыслям Бочкина.
Рядом, пыхтя, бежали молчаливые красные полумаски, красноармейцы и разный лохматый сброд со штыками наперевес. Наконец вломились в освещенную залу, из которой разветвлялся лабиринт лестниц. В зале валялись белые обломки статуй, кто-то разбил бутылки с вином, и под сапогами, в фиолетовых лужах, хрустели осколки. На лестнице какой-то пьяный матрос навалился на дебелую защитницу Зимнего и, урча, раздирал ей шаровары под юбкой защитного цвета. Другую женщину, совершенно растрепанную, с безумно вытаращенными глазами, тащили куда-то запакованные в скафандры омоновцы. Женщина зычно и неразборчиво вопила.
Бочкина прибило к перилам величественной лестницы. На ступеньках – так ему почудилось из-за сходства рубашек – топтался в своей кровавой полумаске потерявшийся приятель. Бочкин ринулся вверх, но тут же понял, что обознался. Это был совсем незнакомый зритель, жадно озиравшийся по сторонам с несмелой улыбкой.
– Идемте, идемте, – поманил их с верхней ступеньки какой-то сухопарый господин в сюртуке, – за мной, за мной, идемте за мной. Не бойтесь…
И Бочкин с улыбчивым зрителем пошли следом.
– Я такой же путешественник по времени, как и вы, – признался им господин, прижимая палец к губам. И открыл нарядную дверь.
В роскошном зале за круглым столом сутулились министры Временного правительства. Бочкин сразу узнал их по безвольным подбородкам и расставленным на столе чайным чашкам из императорской коллекции.
– Эти суммы будут суммироваться в пределах предельных сумм, – хрипло сказал один из министров.
– ВТО – это вам не морковка, а набор довольно сложных обязательств, – уныло подхватил второй.
– Все, что мы говорим, отольется в граните, – вздохнул третий.
Господин в сюртуке ходил вокруг стола и бесцеремонно заглядывал министрам в чашки.
– Они пьют заваренный чай, – пояснил он, – а между тем уже тринадцать лет как изобретен чай в пакетиках.
– Правда? – вдруг с интересом переспросил четвертый министр.
– Правда, правда, – поддакнул господин в сюртуке. – И чаю со льдом тоже уже тринадцать лет. Совпадение? Не думаю.
– Я слышал легенду, – уныло проговорил пятый министр, ворочая невыспавшимися глазами, – один китайский монах нарушил обет и заснул во время молитвы. А когда проснулся, в наказание отрезал себе веки. И там, куда он бросил их… там и вырос первый куст чая. Поэтому веки и чай – это один и тот же иероглиф.
– Как дети, право, – усмехнулся господин в сюртуке, подмигивая Бочкину, – их скоро возьмут под арест, а они чаевничают.
– Нас? Под арест? Большевики? Нонсенс! – отмахнулся министр.
Бочкин обратил внимание, что в углу комнаты, сидя на полу, невзирая на мешающие полумаски, целуется парочка зрителей. Господин в сюртуке поймал его взгляд и усмехнулся.
– Чай, поцелуи, гербовые чашки, и никто не знает, что уже приговорен, – заговорил он, потирая руки и обегая стол с министрами. – Нейропептиды, нейропептиды, нейропептиды! Между прочим, шимпанзе, собаки, лошади и канадские дикобразы тоже целуются в губы. Где же Керенский? Где Керенский?
– Он уехал, уехал. Уехал на автомобиле американского посла…
– Вы же знали, что Александра Федоровна предлагала его повесить? Как бы то ни было, у него симпатичная стрижка. Бобрик, да? Кстати, еще о цифре «тринадцать». Седые волосы появляются в среднем через тринадцать дней после стресса или шока. Так что, бьюсь об заклад, числа седьмого ноября вы, господа, обнаружите в зеркале пару лишних белых волос. Если, конечно, сможете глядеться в зеркало.
– Седьмое ноября… Мне не нравится эта дата, – похлебывая из чашки, заметил один из министров.
– Вы еще не знаете, что вы уже там. Вы уже здесь. Седьмое ноября уже настало сегодня, – путано объяснил господин в сюртуке, подмигнул, взмахнул руками, и стало темно.
Послышалась неразборчивая брань, грохот, потом по стенам заплясали лучи карманных фонариков и застыли на приоткрытой двери в нескольких шагах от Бочкина. Он начал нащупывать путь к двери, наступил кому-то на ногу, чертыхнулся, извинился и, наконец, выбрался из мрака.
* * *
Бочкин удивился, обнаружив себя в большой полуосвещенной кухне какого-то средневекового типа, с открытым огнем в печи и висящим на цепи котлом. На скамье за грубым деревянным столом смирно сидели зрители в своих полумасках, а вокруг бегала злобного вида кухарка с гигантским половником в грубой мужской руке.
«А, эта та самая кухарка, которая способна управлять государством», – подумал Бочкин и присел на скамью с краю. Кухарка вдруг звонко постучала половником по котлу, потом кинула половник в сторону и стала, рыча, метаться от шкафов к столу, бросаясь вилками, ложками, суповыми тарелками. Те падали на стол и чудом не разбивались. Бочкин на всякий случай подобрал руки, чтобы его ничем не ушибло.
– Софья Власьевна, голубчик! – послышался знакомый бодренький голосок, и на кухню вбежал Ленин с большой бархатной шляпкой гриба на голове. – Софья Власьевна, дайте мне чего-нибудь съедобного. А то ведь как говорят… Кто не работает, тот не ест.
Завидев сидящих за столом зрителей, Ленин остановился посреди кухни и, обращаясь к ним, объявил:
– Позвольте представиться, мухомор красный! Amanita muscaria! Сезон роста – с августа по октябрь. Спрашиваете, почему мухомор? А потому что якобы замочишь меня в воде, попадут в эту воду мухи и сразу помрут. Ан нет, все – брехня! Вовсе не помрут. Только заснут часов на десять-двенадцать. Переложишь их на сухое место – и снова как новенькие.
Ленин мелко захихикал, так что шляпка затряслась, норовя свалиться. Тут кухарка швырнула в него большущий, неизвестно откуда взявшийся серп. Следом полетел молот. И тот и другой грозно просвистели по воздуху, но Ленин ловко поймал оба инструмента и, все так же хихикая, затряс ими в воздухе:
– Серп и молот – всегда молод, товарищи. Только почему «молод», а не «молоды», вот это вопрос… Софья Власьевна, душенька, я что-то проголодался, – все так же весело обратился он к хлопочущей у котла кухарке и, снова не дождавшись ответа, подошел к зрителям и, бросив со стуком серп с молотом себе под ноги, оперся о стол и сынтимничал: – Мне бы сейчас грибочков отведать. Завтра Плеханову так и напишу. Дескать, вчера объелся грибов, чувствую себя изумительно… Между прочим, мухомор красный – отличнейшее средство от гельминтов, товарищи. Проверьте сами. Паразитов и всякую кровососущую шушеру как рукой снимет…
Ленин собирался что-то добавить, но тут загремела песенка «В лесу родилась елочка, в лесу она росла». На кухню вбежали актеры, одетые зайцами, лисичками и снежинками, и окружили Ленина в хороводе. Тот зажмурился от удовольствия и ласково захлопал в ладоши. Следом вплыла Надежда Константиновна Крупская и зычно произнесла:
– Владимир Ильич очень любил детей, и детишки это чувствовали!
Кухарка, не поворачиваясь, снова задубасила половником по котлу. Актеры, изображавшие детишек, запрыгали радостно и затеснились подле Ленина. А тот принялся по очереди нагибаться, задирать им верхнюю часть костюмчиков и чмокать в животы. Получив поцелуй вождя, детишки задорно смеялись и убегали.
Оставшись наедине с Лениным и кухаркой, Крупская подошла к вождю мирового пролетариата и нежно ударила его ладонью по шляпке:
– Владимир Ильич, что это вы от меня убежали?
– Рыба моя, минога, и не думал! – возразил Ленин. – Ты была с пионерами, я не хотел отвлекать.
– Я с пионерами, а ты с Арманд!
– Селедочка, – затряс Ленин своей мухоморной шляпкой, – не будь собственницей. Ведь я же ясно объявил по поводу брачного института.
Заскучавший Бочкин встал из-за стола, чтобы пройти в следующую комнату и двинуться уже к выходу из театра, но путь ему перерезали абсолютно голые женщины. Разве что между ног и на грудях у них были приклеены плакаты «Долой стыд!». Ошалев от зрелища, Бочкин вернулся на место.
– Лучше меньше, да лучше, – слащаво пробормотал Ленин, вскочил на стол и проорал во весь голос: – В области брака и половых отношений, товарищи, близится революция, созвучная пролетарской революции! Да здравствует бунт чувственности!
Голые женщины зашушукались, зашептались и начали одновременно выкрикивать:
– Постоянное владение женщиной отменяется!
– Бывшие владельцы, то есть мужья, имеют право на внеочередное пользование женщиной!
– Распределение отчужденных женщин поручается Совету рабочих, солдатских и крестьянских депутатов!
– Граждане мужчины имеют право пользоваться женщиной не чаще четырех раз и не дольше трех часов в неделю!
– Но только при предоставлении удостоверения о принадлежности к трудовому классу!
– А также при отчислении двух процентов трудового дохода в фонд народного достояния!
– Женщины – народное достояние!
– Бывшие баре, платите за право пользования отчужденной женщиной тысячу рублей в месяц!
На кухню вбежала Коллонтай (ее имя было крупно напечатано на ленте, какие бывают у выпускников школ и свадебных свидетелей). В руках Коллонтай держала большой железный поднос со стаканами воды. Она обнесла подносом всех голых женщин, и каждая залпом осушила по стакану.
– Однополая любовь не воспрещается! – проорала самая крупная из них, с некрасивым родимым пятном на мясистом пупке.
На этих словах раздался утробный вопль кухарки. Бочкин вздрогнул, нашел глазами кухарку и увидал, как та нагибается к бурлящему котлу и вытаскивает оттуда гигантского живого краба. Голые женщины завизжали и бросились врассыпную, Бочкин тоже метнулся к выходу вместе с прочими полумасками. Краб шмякнулся на пол и как будто пополз за ними, елозя мокрыми клешнями по полу. Крупской и Коллонтай не было видно, а Ленин все так же приплясывал на столе, сгибаясь от хохота:
– Я меньше всего – мрачный аскет, товарищи. Но это уж какой-то буржуазный дом терпимости!
– Краб! Краб! – все еще слышались визгливые голоса разбегавшихся голых женщин.
Бочкин выскочил в гулкий коридор вслед за остальными полумасками. «Наверняка он ненастоящий», – подумал Бочкин о крабе. Вдруг вспомнилось, что у крабов – глаза на затылке и они способны смотреть сразу во всех направлениях. «Это все-таки краб-паук. Такие длинные клешни…» Не додумав эту мысль, Бочкин оказался на широкой площадке. Сверху, с потолка, на зрителей и актеров сыпалось нечто, похожее на мокрый снег.
* * *
По стоявшим в карауле матросам и тому, что военный оркестр жал «Марсельезу», Бочкин понял, что он на Финляндском вокзале. В центре торчал броневик «Остин», а на нем дергалась знакомая фигурка.
– Временное правительство ведет преступную империалистическую политику! Народу нужен мир, народу нужен хлеб, народу нужна земля! – вещала она, характерно выбрасывая руки в стороны. – А вам дают войну, голод, бесхлебье, на земле оставляют помещика… Матросы, товарищи, нам нужно бороться за социальную революцию, бороться до конца, до полной победы пролетариата! Да здравствует всемирная социальная революция!
«Он уже здесь, – подумал Бочкин, – успел… Или у них несколько Лениных… Однояйцевый брат-близнец – не удивлюсь, если они задействуют эту легенду».
– Борьба завязывается смертельная, начинается расправа пролетариата над угнетателями и эксплуататорами. Недалек тот час, когда по призыву нашего товарища Карла Либкнехта народы обратят оружие против своих эксплуататоров-капиталистов… Заря всемирной революции уже занялась… А пока нам предстоит учиться, учиться и еще раз учиться!
Крестьянки, певшие с коромыслами на съезде, теперь протискивались к вождю сквозь толпу матросов, рабочих и зрителей с большим караваем хлеба и поваренной солью в чайном блюдечке.
– Вот это человек! – пронеслось в рядах собравшихся, когда Ленин кончил.
Оркестр грянул «Интернационал», и матросы вдруг разбились на пары. Кто-то схватил за бока крестьянку, кто-то – товарища.
– Шаг вперед, два шага назад, шаг вперед, два шага назад! – командовал Ленин, и вокзальный люд закружился в вальсе.
Бочкин двинулся дальше в поисках выхода, но когда он уже собирался юркнуть в арку, спрятавшуюся подальше от танцующих и броневика, путь ему преградили рабочие с бревнами.
– Держись-ка за толстый конец, товарищ, – скомандовал ему пожилой рабочий, и Бочкин покорно взялся за что приказано.
Бревно оказалось удивительно легким, будто сделанным из папье-маше. Наверное, так оно и было. Но спускаться с бревном по лестнице было довольно неудобно. Рабочие то и дело поминали друг друга по матушке. Наконец они спустились на пару пролетов и опустили бревно на пол. Бочкин разогнулся и увидел длинную очередь перед мавзолеем и дальше весьма правдоподобные зубцы кремлевской стены. Шел пенопластовый снег. На мавзолее под надписью «Ленин» виднелся значок выхода, и Бочкин с надеждой пристроился в хвост очереди.
«Так и выберусь!» – подумалось ему.
– Камень на камень, кирпич на кирпич, умер наш бедный Владимир Ильич… – тихо напевала очередь. – Жалко рабочему, жалко и мне, доброе сердце зарыто в земле…
– Нет, товарищи, тело Ленина живет! – возвестил кто-то впереди очереди.
Очередь протяжно, грустно, по-паровозному загудела.
– Вы знаете, как развлекались английские аристократы в викторианскую эпоху? – спросил стоявший впереди Бочкина мужчина в высокой бобровой шапке у своей соседки.
– А расскажите, расскажите, – отозвалась соседка.
– Они разворачивали мумии. Прямо на званом вечере. То есть покупает какая-нибудь графиня настоящую мумию, которую колониалисты привезли из Африки, и предлагает гостям ее развернуть.
– Ну и ну!
По всей очереди пошли голоса, накатываясь друг на друга, как волны.
– А говорят, надо мумии рот открыть, чтобы душа дорогу нашла.
– Души нет, только опиум для народа…
– В Семиречье, говорят, в Гражданскую свои банкноты были. Причем меряли не золотом, а опиумом, да-да. Хранили опиум в подвале Госбанка.
– Опиум – он из недозрелых маков, это же млечный сок.
– Полярные желтые маки выживают подо льдом, представляете?
– А сколько дней можно выжить без хлеба?
– Один хлебный чек – шестнадцать килограм хлеба.
– Диктатура деревенской бедноты… Отнимайте хлеб у кулаков…
– Придут комиссары продотряда, обдерут как липку.
– Инфляция, инфляция, а люди веселятся…
– Держатся, держатся. Денег нет, а держатся!
– Деньги скоро отомрут, товарищи. Уберите Ленина с денег.
Бочкин запереживал, что очередь совсем не движется. Он выбежал вперед и попытался пристроиться поближе к мавзолею, но чьи-то острые локти выпихнули его вон.
– Хам! Лезешь без очереди!
– Холопская фигура, дерьмо нации, не человек, а слизь и мерзость! – залаяла по-ленински очередь.
– Мазурик, архипройдоха, конченая мразь, двурушник, наймит капиталистов, комнатная шавка империализма!
– Политическая проститутка, недоносок, труположец! Повесить тебя на вонючих веревках. Будешь землю есть из горшка с цветами!
Бочкин слегка трухнул и стал отступать назад, но быстро понял, что актеры орут друг на друга, а вовсе не на него, что очередь рассыпалась, обнажая растерянные красные полумаски зрителей. Началась драка, одетые по-зимнему мужчины и женщины бросились колошматить друг друга, не жалея кулаков. Откуда-то полетели яйца, брызнула зеленка. Воспользовавшись сумятицей, Бочкин бросился к мавзолею. Туда уже со всех сторон перли зрители, внутри было душно и сумрачно. В центре вместо саркофага стоял большой грузовой лифт. Полумаски уже жали на горевшую красным цветом кнопку вызова. Дверь лифта раздвинулась, и оттуда выскочил Ленин в кепке.
– Нет, товарищи! – закартавил он. – Мы пойдем другим путем!
И указал куда-то во тьму.
Зрители, качаясь маятником в разные стороны, последовали за ним. Ленин вел их длинными коридорами. По пути им попался отряд красноармейцев, хором поющих:
По Уралу свинцовые хлещут дожди, закипает отчаянный бой. И дерется Чапай, партизанский начдив, за свободный народ трудовой…* * *
Внезапно Ленин щелкнул перочинным ножиком, оглянулся на толпу и, хитро прищурившись, протянул:
– А ведь могу и полосну-у-уть!
Зрители засмеялись.
– Прошу! – Ильич галантно отвернул висевшую рядом портьеру и пригласил всех пройти.
Их встретили бурные непрекращающиеся аплодисменты. Оказалось, портьера вела на сцену, и зрители теперь очутились перед залитым электричеством полным залом (кажется, Колонного зала Дома Союзов). В зале сидели красноармейцы и полумаски, а также комсомольцы и комсомолки с цветами. Ослепленный софитами, Бочкин оглянулся назад и увидел, что задник сцены обит алой тканью, а в центре золотой краской написано «1917».
Аплодисменты все не умолкали, но председатель постучал ключом по хрустальному графину, и постепенно улеглась тишина.
* * *
– Была коптилка да свеча, теперь лампа Ильича… Добро пожаловать, товарищи! – поприветствовал их сидевший за председательским столиком Троцкий. На голове у него вместо ледоруба теперь красовалось сомбреро. – Прошу!
Он указал Бочкину и другим оказавшимся на сцене полумаскам занять места в президиуме, и те, потолкавшись, расселись на скрипучие деревянные стулья. У Бочкина ныло под ложечкой, ему давно хотелось на свежий воздух, в круговерть нормальной уличной жизни. Лицо под полумаской прело и чесалось. Он бы с удовольствием оказался сейчас в своей однушке с высоким облупленным потолком. После того как от Бочкина ушла наконец его гражданская жена, в квартире стало просторно и таинственно тихо. Это ему нравилось. Бочкин встал бы и вышел из зала собраний прямо сейчас, но мешало то, что сидит у всех на виду, в президиуме, что с двух сторон его зажали какие-то полные женщины в полумасках. К тому же рядом что есть мочи распинался Троцкий:
– Товарищи! Старая царская Россия была скована воедино железным обручем насилия и произвола. Во время жесточайшей мировой войны этот обруч распался, и казалось, народы России уже никак не соберешь. Но вот на наших глазах совершается великое историческое чудо. Восстановление исторической справедливости. То, что было по праву нашим, возвращается к нам. Советские войска освободили Харьков и Киев. И что, разве народ украинский желает какой-то своей особой жизни? Нет! Он хочет братского союза и неразрывной связи с советской Россией. Вот увидите, скоро во всем мире раскинется единая советская республика всех народов!
Зал снова грянул аплодисментами.
– Те ренегаты и национал-предатели, не признающие историческую справедливость и великое прошлое единого советского народа, должны быть наказаны как пособники западной империалистической агентуры. Каждый из них будет посажен на острый штык нашей непобедимой Красной армии.
– Верно! Правильно! Развеем в радиоактивную пыль! – раздались голоса в зале, и все снова утонуло в оглушительных хлопках.
Вдруг на сцену, толкая вперед инвалидную коляску с болтающимся, как кукла, обездвиженным Лениным, выбежал усатый рябой мужчина в кирзовых сапогах.
– Перо! – заорал он Троцкому.
– Коба? – вопросительно уставился на усатого Троцкий.
Тогда Коба подбежал к столу, нажал на какую-то кнопку, и Троцкий, ухнув, провалился в люк. Туда же Коба сбросил коляску с куклой-Лениным.
Зал встал и зашелся в бешеных, экстатических рукоплесканиях. Воспользовавшись моментом, Бочкин отодвинул скрипучий стол, выпростал ноги под неодобрительные ужимки соседок и побежал вниз со сцены к боковому выходу.
– Вот тут товарищ военный комиссар говорил о советском народе. А что такое советский народ? Предлагаю разработать закон о советской нации. Чтобы всем было понятно…
Бочкин нашел дверь, открыл ее и с облегчением выскользнул в фойе. Стрелок и значков выхода нигде не было. «А что, если я нарушу правила и заговорю? – подумалось ему. – Тогда они меня сами выведут».
Бочкин вбежал в первую попавшуюся дверь, за которой его ждал воняющий подгоревшим супом коридор коммунальной квартиры. Он запутался в развешанных на веревках заплатанных тряпках, споткнулся о груду хлама на полу, где среди прочего успел заметить великолепный фарфоровый чайник с позолоченным узором, наверняка отхваченный у недобитков и бывших людей. Из комнаты в коридор с ревом выскочил небритый, в зюзю нализавшийся жилец с невнятной татуировкой на шее. Бочкин прошмыгнул у него под мышкой и рванул в конец коридора, направо, на кухню, где недовольная баба парила что-то в тазу на керосинке. Из кухни нырнул в маленькую дверцу и очутился в давке автобуса. Ребра сдавило так, что ни вдохнуть, ни выдохнуть в полную силу.
– Гражданин, передайте за проезд! – били его по плечу чьи-то руки с зажатой между пальцами купюрой, но Бочкин только отмахивался.
– Скажите, где выход! Выход! – надрывался он, вдруг всерьез испугавшись сомкнувшей его глухоты.
Кругом не было ни одной полумаски, ни одного зрителя. На остановке автобус качнуло, кто-то заехал ему по голове чем-то твердым и гулким, он вывалился наружу вместе с пассажирами, упал, поднялся, оглянулся вокруг.
Впереди него расстилалась снежная, в проталинах, степь. Вставало солнце. На горизонте двигались черные тени конных красноармейцев. Мимо, понукая коня грубоватым цоканьем, проскакал горец в свалявшейся темной папахе.
Но никто не откликался. Бочкин крикнул еще и еще. Он бежал и кричал довольно долго, пока не охрип. Красноармейцы тем временем, не оглядываясь, скрылись за горизонтом. Трудно было понять, сколько прошло минут или часов. Вконец обессилев, Бочкин сел на подтаявшую слякотную землю и зарыл голову в коленях. Он надеялся, что сейчас вытащит голову, откроет глаза, и злосчастный спектакль прервется, но ничего не происходило. Солнце все так же низко висело над горизонтом. И было щекотно, и мокро, и неизвестно.
Герман Садулаев Выстрел в сердце
3
Тонкий голубой ледок покрывал мелкие лужицы, натекшие от талого снега по дорожкам парка, на углах и поворотах высились сугробчики грязные, оплывшие, а над коричнево-серой землей раскорячились ветви деревьев, голые и зябкие. Еще выше, над деревьями, плыли крыши домов, купола соборов, желтая игла Адмиралтейства с ангелом на самой макушке, да только ангела этого не видно было с земли. Может, его и нет, может, и не было никогда. В парке шел молодой казак Василий Гринев. Одет казак был тепло и щеголевато, в каракулевый полушубок, а башлык красный, атласный, а под полушубком казачья черкеска бордовая, а штаны синие, с лампасом, сапоги мягкой кожи, на каблуке, а поверх одежды развешано было оружие, блестящее, как на елке игрушки: шашка в ножнах, отделанных серебром, кинжал в позолоченных, револьвер в хрустящей новенькой кобуре. Шпоры бы еще. Но шпоры снял казак. Потому что глупо носить шпоры, когда у тебя нет коня. А прибыли они в Петроград безлошадными.
Спешили с фронта на всеказачий съезд. Сам Василий не был делегатом. Но состоял в адъютантах при хорунжем, которого полк отправил в столицу. Ехали в поезде вместе с пехотной солдатней. И коней в полку оставили. Теперь Василий думал: хорошо, что так. В Петрограде по всем статьям была неустроенность. Продовольствия и для человека было трудно достать, а фуражировать коня сложнее, чем человека. Опять же, на улице холодно. Ветер. То мокрый снег, то дождь, то не пойми что, однако мерзкое и противное опускается с неба на дома, людей, лошадей. И люди прячут себя в домах, а лошади тоже нужно где-то себя спрятать. Но теперь все стало сложно, все нарушено, не было ни удобств, ни порядка.
Гринев помнил, как выглядел Петроград тому назад полтора года. Казак ехал через столицу на фронт. И получил два дня вольных, пока формировалась маршевая рота. Ох и погулял Василий в городе! А было лето, лето теплое, ласковое. И диковинно было, что солнце почти не заходит, светит чуть ли не сутками, а когда и настанет ночь, то белесая и короткая, так что и звезды не успевают вылупиться из небесной кладки, а уже снова утро. Катался казак Василий по реке Неве на теплоходиках с музыкой, гулял по проспектам, захаживал в чайные, с барышнями знакомился. Всюду казака привечали, бывало, в чайной, узнав, что едет молодой казак на войну, устраивали ему овацию и наперебой угощали водкой. Высокий был в обществе патриотизм. А уж как царя-то любили!
Василий удостоился однажды видеть особу Его Императорского Величества. Николай Второй приехал из Гельсингфорса и на вокзале царский поезд встречал ликующий русский народ. Царь вышел из вагона, махал толпам рукой, закурил, а потом окурок бросил на пути между шпал. Гринев тогда спрыгнул на рельсы, подобрал окурок и поцеловал его. И положил в нагрудный карман черкески, ближе к сердцу. Видевшая этот подвиг публика рукоплескала казаку, а когда Гринев пошел от вокзала, то подбегали хорошенькие барышни и целовали его в щечку.
С другими барышнями, которые не только в щечку поцеловать умеют, Гринев тоже встречался. И хороший, утомленный, но радостный, поехал со своей маршевой ротой казак Василий Гринев на фронт. Хотелось ему совершить что-то удивительное, заслужить славу и честь, а если Богу будет угодно, то и пострадать за други своя и умереть было не страшно. Хотя, конечно, лучше было бы не умирать. Потому что в станице ждала казака молодуха жена с малюткой доченькой.
А потом была война. Редкие удалые рейды в конном строю. Редкие, да и все равно бестолковые, встреченные пулеметами и артиллерией умного немца. И долгие, долгие месяцы окопной, блиндажной, лагерной жизни. Ведь и казаков в траншеи засунули. Василий ни разу не был убит, и даже ранения избежал. Но устал зверски от этой дурацкой, тоскливой, вшивой, тифозной длительности никуда не проходящего, не исчезающего, как ему положено исчезать, вязкого, липкого, как слякоть, времени. Словно бы солнце белых ночей постоянно висело над фронтом, все время одно и то же. Но то было плохое солнце, дурное и злое. Устали все.
Начали казаки думать и говорить. За веру, царя и отечество. Так разве трогал немец нашу веру? Верь себе сколько хочешь, молись да кланяйся. И на отечество наше никто не посягал. Сами мы полезли на запад, в чужую страну. А царь, он, конечно. За царя можно и умереть в быстром бою. Но четвертый год кормить вшей – это же ни царю, ни Богу, ни ешкиной матери. А потом и царь отрекся.
Но когда стали приходить социал-демократические агитаторы, казаки все же выгнали их плетьми. Агитаторы говорили: вот, мол, никакая война не нужна трудовому народу, а только царям и министрам и торгашам. Казаки сказали: как же без войны? Если войны не будет, тогда и казаков не будет. Если всюду будет один мир, тогда казаков сделают русскими мужиками. Но не бывать никогда такому. Всегда будет война, и всегда будут нужны казаки. Вот и вы, социалисты, когда власть возьмете, тоже небось начнете с кем-нибудь воевать. Начнете, начнете, никуда не денетесь. Не вы начнете, так с вами начнут. Наши деды воевали, отцы воевали, мы воюем, и сыны наши будут воевать. Вот только война нужна другая, не такая, чтобы с серым скотом в одних траншеях сидеть, а чтобы ярким броском на противника, а там пан или пропал.
Теперь вот приехали на съезд в Петроград, хорунжий выборным от своего полка и при нем Гринев Василий. Казачий съезд заседал в бывшем доме купцов Демидовых на Большой Морской улице. Хорунжий торчал в зале. А Гринев иногда заходил, слушал. Становилось скучно, и казак уходил. Гулял рядом по паркам и улицам, ждал вечера, чтобы сопроводить хорунжего на квартиры. Хотя хорунжий и без Гринева справлялся и часто на квартиры вообще идти не хотел, а шел с другими делегатами продолжать государственные разговоры по темным кабакам холодного Петрограда. А и шут с ним, с хорунжим – думал тогда Гринев. Чай, не дитя, а я ему не нянька. Нужен буду – найдет. И сам проводил свои дни, вечера и ночи по собственной прихоти. В Петрограде было неустроенно, но не скучно. Не так тоскливо, как на вшивом немецком фронте.
Петроград стоял пустой, почти без жителей. Выезжать начали еще с прошлого года, как начались трудности в снабжении города продовольствием и топливом. А после отречения императора хлынули потоком в губернии все, кто хоть какое-то пристанище мог себе найти там, где южнее, теплее, хлебнее и, как казалось, спокойнее. Большие красивые дома стояли пустые или полупустые, часто не топленные. От того, что соседи не топят, каждому отдельному квартирщику труднее было согреть свои комнаты, даже если его жильцы оставались. Закрылись многие магазины, ателье, ресторации. Часто можно было встретить разбитые, неделями не вставляемые стекла, болтающиеся на ветру оконные рамы, вынесенные двери. Уехали дворяне, приказчики, купцы, курсистки, студенты, мещане, банкиры, франты и франтихи, аптекари, врачи, адвокаты – все те, кто ранее составлял блистательный и бессмысленный Петербург.
И вместе с тем Петроград был полон. Забит под завязку, налит до краев людьми, но то были люди иного сорта. Солдаты выгружались целыми эшелонами с фронта. Моряки высаживались с кораблей. Казаки приезжали поездами и в конном строю. Политические деятели всех цветов и мастей. И уголовники всякой породы. Все, чистое и нечистое, повылезло на свет Божий. Но особенно много было в городе делегатов.
Казалось, в Петрограде проводят парад или фестиваль, или карнавал, на манер испанской корриды, всероссийский сбор всех и всяческих съездов. В каждом мало-мальски пригодном особняке заседал какой-нибудь съезд. Иногда собрание или учредительная конференция. Если съезд заканчивался, распылялся, то не спешил освобождать занятый фактической силой и массой своих делегатов особняк, а поселял в нем свой исполком. Исполкомов развелось, как вшей в траншеях. Съезды были весьма разнообразные: казачий, солдатский, матросский, рабочий, крестьянский, и все партии тоже съехались и разные иные общества и сословия; говорят, что в маленьких особняках на Васильевском острове проходили съезды трех толков старообрядческих христиан, четырех толков иудаизма, два мусульманских съезда, съезд портных и парикмахеров, съезд свободных проституток и съезд проституток реестровых, а также съезд в защиту прав низкорослых, сиречь лилипутов. Конечно, финны имели в Петрограде свою конференцию, свою имели горцы, свою же – уральцы, иную совсем имели украинцы, которая потом переехать в Киев была должна, и каждая тварь летела в Петроград, чтобы найти себе пару и обязательно учредить съезд, конференцию и устроить себе свой собственный комитет. Временного правительства среди всей этой демократической роскоши было мало и незаметно, оно смотрелось только как одно из многих прочих собраний, да еще и временное к тому же.
Город был полон не просто людьми, но все люди были вооружены. Раньше только городовой шел с шашкой по улице просто так. Офицеры были при оружии для сбережения своей офицерской чести. А солдаты и матросы шли или строем с командиром, или без оружия. И уж точно не ходили вооруженными рабочие и прочие непонятные люди. А теперь, сколько видел Гринев, у каждого был с собой револьвер, или винтовка, или бомба, или же увешанный винтовкой, револьвером и бомбой человек тащил еще за собой пулемет.
И люди эти не просто так передвигались. Часто они были организованы в отряды и патрули. Когда Гринев думал, что нет порядка, то он ведь думал о таком порядке, чтобы можно было кобыле добыть овса. Такого порядка было мало. Что же касается иного усилия, охранительного, то его было достаточно и даже чересчур. Городовых на улицах совсем не было видно. Слышал казак, что городовых почти всех перестреляли в первые дни после отречения императора. А живые бежали или прятались. Но и без городовых было кому проверять редких мирных прохожих.
Патрули были повсюду. Патрули были на любой вкус и цвет. Были патрули Временного правительства, были казачьи патрули, были суровые патрули из рабочих, свои патрули имела каждая партия, каждый съезд и каждая вообще сколько-нибудь значащая компания первым делом в кабаке учреждала свой собственный патруль с бомбами и обязательно с пулеметом. Патрули ходили по городу и проверяли у граждан документы. Граждане были тоже не лыком шиты, каждый гражданин был обязательно чего-нибудь делегат, а также член исполкома или иного комитета. И у каждого был по этому поводу документ. Иногда патрули встречались и проверяли документы друг у друга. Кровожадности еще было мало, и расходились мирно, довольные тем, что показали один другому свои мандаты.
Гринев увидел гуляющую в парке барышню. И только успел подумать, что это странно, как заметил направляющийся к барышне сомнительного вида, но вооруженный до зубов патруль. Василий пошел очень быстро, почти бегом и едва-едва, но успел, перед тем как патруль остановит барышню, подскочить к ней, натурально запыхавшись, взять ее руку в свою и громко выговорить:
– Ну что же вы, право, так долго! Я чуть не околел, вас дожидаясь.
Девушка все поняла и благодарно опустила глаза, не отнимая своей руки от Гринева. Чуть опоздавший патруль, половина которого была по форме матросами, а другая половина черт знает кем, видно, оделись недавно в разграбленном магазине готового платья, разочарованно, но строго обратился все же теперь к Гриневу, поскольку дама оказалась не бесхозной:
– Предъявите ваши документы, гражданин!
Василий с важностью полез за ворот своего полушубка и достал мандат, выписанный Всероссийским казачьим съездом. И, показывая рукой в сторону Большой Морской, сказал:
– Вона, недалече у нас заседание. В Демидовском. Можем пройти, если желаете.
Полуматросы пройти до казаков не желали. Но спросили на всякий случай:
– А гражданка?
– Она со мной, – ответил Гринев. – Она у нас машинисткой.
Патруль удалился, гремя прыгающим по неровностям земной поверхности пулеметом системы «Максим», который стражи тянули за собой на бельевой веревке, хотя ни ящика патронов к нему, ни снаряженных лент у них не было видно.
Барышня посмотрела на своего спасителя с интересом и поблагодарила, однако весьма сдержанно:
– Какой вы ловкий! Не стоило беспокоиться, они бы мне ничего не сделали. Но все равно – спасибо.
Гринев возмутился:
– Как же вы так одна ходите, да еще и говорите, что ничего вам не будет? Это в такое-то время?
Барышня улыбнулась:
– Время сейчас хорошее. Самое лучшее время. Может, у меня тоже есть бумажка, не хуже вашей? Впрочем, говорю вам, я искренне благодарна за вашу защиту и впечатлена вашей решительностью и находчивостью. Давайте знакомиться?
Казак тут только немного отпрянул и рассмотрел барышню. Что ж, она была красива! Она была удивительно румяна и не худа. Черты лица были изящны, брови тонки, ресницы черны, губки были пухлыми, алыми, а что скрывалось за мехами шубки, о том можно было только догадываться, видя, как вздымается дыханием укрытая воротником грудь. Василий приосанился, погладил тронутые изморозью усы, положил руку на эфес и представился, цокнув как если бы шпорами, хотя шпор не было, ну да ладно.
– Василий Гринев, казачьего полка штабной боец. Прибыл в Петроград на съезд.
Барышня продолжила идти, Гринев пристроился рядом. Барышня кивала:
– Что на съезд, это весьма понятно. Кто сейчас в Петрограде не на съезд? Съехалась вся Россия. Одна разъехалась, другая съехалась. А штабной боец – это кто? Писарь, адъютант или ординарец? Ах, вижу-вижу, простите, конечно же, адъютант. А я Лизавета. Если мы станем с вами близки, то можете называть меня Лиза. Но лучше – Вета.
Гринев испытал смущение, но решил брать быка за рога:
– Милая барышня, Лизавета, конечно, я мечтаю о том, чтобы мы с вами стались теперь как близкие друзья. Разрешите же пригласить вас в ресторацию, я знаю одну рядышком, которая работает даже в наши странные дни.
Девушка засмеялась, остановилась, взялась рукой за ворот полушубка казака, у самого горла, приблизилась так, что лицом к лицу, и сказала неожиданно низким голосом:
– Милый Василий. Зачем ресторация? Это пустое. Давайте сразу ко мне. Я одна. У меня тепло и уютно. Если вы со своей стороны можете материально помочь бедной девушке в наши трудные, голодные и, как вы говорите, странные дни.
Барышня смотрела казаку прямо в глаза. Гринев был ошарашен. Она совсем не походила на продажную девку. Гринев видел много девок в Петрограде. Даже в самом демидовском особняке, где в парадных залах заседал всеказачий съезд, в дальнем дворе работал бордель, и многие делегаты прямо после прений шли к проституткам. Проститутками был полон бывший столичный город. Это неизбежно, когда город занимают солдаты и прочие люди с оружием, другая часть города, которая не вооружена, обязательно проституируется. Если на одной стороне улицы казарма, то на другой бордель.
Но проститутки, которых видел и периодически пробовал казак Василий Гринев в революционном Петрограде, были другими. Не такими, как Лизавета. Проститутки были сплошь худые, тощие, накокаиненные или испитые, лица у них были черны, и чернота проглядывала сквозь любой толщины слой румян и белил. А Лизавета пылала огнем чистой юности. Нет, она не могла быть продажной.
Но так даже лучше, подумал про себя Василий. Ему хотелось заполучить эту барышню, поэтому он решил обмануться. Может, это у нее в первый раз? Может, она не реестровая. Может, она из курсисток, а жизнь сейчас такая, ну что ж, бывает, приходится вставать и на скользкий путь. Может, она не простая, а очень дорогая, из тех, что путаются с поэтами, артистами и купцами. Всякое может быть. Главное – это все сейчас будет мне, будет мое, такая моя казачья удача!
Гринев нащупал в кармане заготовленное на сегодняшний вечер тонкое золотое кольцо. Достал и показал на ладони. Барышня, не спросив позволения, кольцо взяла, посмотрела внимательно при свете дня, убедилась, что украшение золотое, и без стеснения заложила за отворот своей белой перчатки со стороны ладошки. И произнесла весело:
– А вы умеете соблазнить девушку, казак Василий Гринев! Пойдемте же, нам недалеко, на Мойку. Только, пожалуйста, пообещайте мне, что будете вести себя как приличный мужчина.
Гринев ответил серьезно:
– Я очень приличный. Мужчина.
– Нет, я правда прошу. Дайте слово. Что никакого насилия. Я все сама сделаю, вам будет хорошо. Вы будете довольны, это я вам со своей стороны обещаю. А вы пообещайте, что не будете делать ничего такого, чего я вам не разрешу. А будете меня слушаться, даже если это покажется вам… необычным.
Тут бы Гриневу задуматься. Все это было ни на что не похоже. Его вели непонятно куда, чтобы заняться неизвестно чем, да еще и брали слово потворствовать. Но Гринев не думал о том, что сам может быть в опасности. Он думал самонадеянно только о том, что, видно, девушка боится его. Хочет просить его быть мягким и обойтись без некоторых способов в любви, которые и сам Гринев считал противными естеству человека. И легко дал свое слово.
2
Дошли до нужного дома на набережной Мойки быстро. Гринев думал, что барышня поведет его во дворы, чтобы зайти с черной лестницы, как это обычно бывало с проститутками, да и не только с ними. Но Лизавета зашла с парадного входа, уверенно поднялась на второй этаж, открыла своим ключом дверь и пригласила Василия войти вслед за ней.
Василий зашел. Ему показалось, что какая-то тень мелькнула, какой-то шорох пробежал в глубине квартиры. Барышня явно жила здесь не одна. В квартире было тепло, ухоженно. Но прислуги не было видно. Кажется, по условиям договора прислуга пряталась и не попадалась посетителям на глаза. Лизавета сама приняла у Гринева его полушубок, повесила в прихожей и свою шубку сняла, повесила рядом. Повела казака сразу в спальную комнату.
Спальня была темная, окно занавешено непроницаемой шторой, но жаркой, в углу ярко пылал камин, весело трещали поленья. Пламя камина было единственным источником света, пока барышня не зажгла свечу, от которой поплыл в воздухе сладкий пленительный аромат. Кровать была широкой и низкой, накрыта зеленой узорчатой тканью восточной наружности. Девушка сказала Гриневу:
– Вы должны раздеться. Совсем.
Казак стал с готовностью снимать с себя оружие, сапоги, но вдруг стушевался. Он вспомнил, в каком печальном образе пребывает его исподнее. Да и то, что под ним. Хорошего мытья и стирки давно не было. Но у барышни все было предусмотрено.
– Сапоги и ножики свои оставьте здесь. И пройдите в соседнюю комнату.
Василий заметил небольшую дверцу, ведущую из спальни. За дверцей обнаружилось небольшое восьмиугольное помещение с полом, выложенным мозаикой, мозаичными стенами и мозаичным потолком. Посередине стояла большая чугунная ванна. Ванна была наполнена подогретой водой. Чтобы вода не остывала, под чугунной чашей поставлена была длинная жаровня с пылающими углями. Василий немедленно разделся догола и погрузил свое тело в воду. Ах, как это было хорошо, как приятно! Гринев подумал, что за одно только мытье можно было отдать золотое колечко. А ведь ожидалось еще кое-что большее. Я счастливый, удачливый, думал про себя казак.
Вымылся, обтерся положенным рядом чистым полотенцем и голый – чего стесняться? – Василий вернулся в спальню. Прилег на кровать, положив маленькую подушку под голову, и стал ждать. Скоро появилась она. Тоже вымытая, наверное, в другой ванной, сколько же тут ванных? Закутанная в шелковый халат. Подошла к Василию и халат скинула с плеч. Осталась совсем нагая, как мать наша Ева. И Василий лежал, как Адам, и змей уже дыбился. Ах, красива была Лизавета! Василий смотрел в оба глаза, не смея даже моргнуть. На петроградских девок Лизавета была совсем-совсем не похожа! Зато похожа была на станичных и на жену Василия телом. А еще барышня была как те статуи, что видел Гринев в Летнем саду в Петрограде. Лицо было точеное, как из мрамора. Груди небольшие, но высокие и упругие, с торчащими, как дуло у пулемета «Максим», сосками, а бедра были особенно хороши, широкие, славные бедра, такими станичницы качают перед взглядами крякающих от восхищения казаков. Василий протянул к Лизавете руки. Но та, взяв с прикроватной тумбы склянку, стала мазать себя маслом, грудь и живот. А потом велела казаку повернуться, лечь спиной кверху.
Василий нехотя подчинился, помня о данном слове. Девушка легла сверху. И начала немыслимые ласки. Она дышала казаку в ухо, кусала за мочку. Грудью скользила по спине. Руками тискала ягодицы и перебирала мошонку. А когда твердым соском проводила меж ног, Василий дрожал от сладкого и запретного. У Гринева мутилось в глазах, пару раз он впадал в беспамятство, потом выплывал и снова мучился нежной мукой. Лизавета развернула Гринева и продолжила свои пытки. Она прижималась щекой к щеке, она брала уд между грудей, а потом ложилась на него животом, она вращала бедрами, сидя на животе казака, и волосы ее, распущенные, скользили по коже, доводя Гринева до исступления. Но когда только пытался он поцеловать ее в губы или проникнуть в лоно, твердо отстраняла казака Лизавета и продолжала свою ведьмовскую игру.
Времени счет потерял Василий. Длилось это, может быть, четверть часа, а может, и целый час. Но потом вскипела мужская сила и взорвалась, исторглась из Гринева вместе с долгим стоном, длинная, обильная, окончательная. Лизавета ловко накрыла это место казака невесть откуда подхваченным вымоченным в горячей воде полотенцем, и Гринев улетел душою к мозаичному потолку, а закрыв глаза, почувствовал себя так, словно снова в утробе мамкиной очутился. Никогда прежде такого с ним не было.
Василий на несколько минут уснул. Провалился в бархатную теплоту. Пробудившись, спросил девушку с детской обидой:
– Почему же ты меня обманула? Не дала! Я ведь тебе – золотое колечко!
Лизавета не расстроилась и не оскорбилась. Стала терпеливо рассказывать:
– Разве тебе не было хорошо, милый? Разве тебе не хорошо сейчас?
Гринев ответил не сразу. Прислушался к себе, причувствовался. Вроде то, что было, – это как если сам себя полюбил, рукой. Но Василий помнил то опустошение и разочарование, ту тоску, которая накрывает мужчину после себялюбия. А теперь было совсем другое. И даже если сравнить с тем, когда девки. И даже… даже с женой не было так. Хотя все и было по-настоящему. Гринев ответил честно:
– Мне хорошо.
– Вот. Зачем же меня портить? Вы, мужчины, не семя в нас вкладываете. Вы свою грусть, боль, тоску, ненависть, обиду, все, что у вас в жизни не получилось, вот это вы в нас хотите втолкнуть. А потом говорите, что у нас лица черны. Так черны наши лица вашей же чернотой. Девушки простые, которые в борделях вас принимают, столько имеют от вас зла, что удивительно, как не помирают в неделю или две. Ты меня почему полюбил? Потому что я светом светилась. А свет мой от того, что непорченная.
Василий сказал:
– Ладно. А если бы я слово нарушил и силой тебя взял?
– У меня на случай бесчестных людей есть поправка к резолюции.
Девушка потянулась рукой под кровать и достала маленький браунинг. Василий подумал: хорошо, что я честный. Потому и счастливый.
А Лизавета продолжила:
– Время сейчас такое, казак. Хорошее время. Все меняется. И семья, и быт, и любовь. Революция – она не только в том, чтобы жить без царя. Она везде. Может, будет так, что отменят все старые предрассудки. И мужчины с женщинами, сколько захотят, смогут любить друг друга так, как я тебя любила. Никому никакого убытка. Ни болезней, ни детей убивать и выскребать из утробы не надо. Чистая радость. Я не просто так. Я этому особенным образом научилась у одной танцовщицы, а та с Индии привезла науку. Будет много любви и счастья. Не будет войны и эксплуатации. Такую новую жизнь мы теперь установим.
Гринев подумал, что это не очень ново. В станице тоже бывало так. До замужества парни с девицами целуются и обжимаются до одури. И, что уж таить, парни часто при этом спускают себе в штаны. Для того и стараются. Но ломать девичество не позволено. Девушка до свадьбы остается цела. А кто там и с кем когда обжимался – про это уговор такой, чтобы после не вспоминать. Но ничего говорить не стал. Слишком ему было тепло и сладко, чтобы говорить.
Настало время уходить. Лизавета принесла Гриневу пару не нового, но выстиранного исподнего.
– Возьми это. Должно быть тебе впору. А свое оставь. Постираю. И, может, кому другому отдам.
Гринев кивнул. Белье было впору. Пахло лавандой. Только совсем чуть-чуть, кое-где, проступали слабо бурые пятна. Видно, не отстиралась кровь.
1
Председательствовал на казачьем съезде Митрофан Богаевский, который, хотя и был родом казак и братом Африкану Петровичу, генералу и командиру Забайкальской казачьей дивизии, сам был гражданский и раньше служил учителем латыни в Новочеркасске. Он был хороший голова, вперед не лез, шашкой не махал, да и не было у него шашки, а все высказанное и решенное на съезде правильно по всей форме записывал.
Приняли резолюцию в трех частях. Первое, общая власть в государстве: нехай будет республика. Раз царь отрекся, то и дело с концом. И звать на царство более никого не надо. Табак моченый, конь леченый, девица порченая, да царь развенчанный есть одного порядка явления. Коня не вылечить, девичью честь не вернуть и снятый царский венец никуда нельзя приспособить. Второе, по казачьему управлению: чтобы была своя автономия. Мы от России отделяться не хотим, да и некуда. Но жили, живем и жить будем своим укладом и сами собой управлять, по своей обычной природе. Третье – земля. Землю кацапам, иногородним, мужикам русским не отдадим. У мужиков много своей земли в российских губерниях. Пусть там делят. У них и помещики были, и всякие графы. А у нас не было ни помещиков, ни крепостных. Казаки всегда были сами себе хозяева. И землю казачью не будем ни отдавать, ни делить.
Так объяснил решения съезда казаку Василию Гриневу делегат, при котором Гринев состоял адъютантом, хорунжий. И съезд закрылся, оставив, как положено, после себя исполком. Исполком готовил новое собрание, уже на Дону – войсковой круг. А кто поехал и в Киев, на другой съезд казачества. Гринев и хорунжий решили не возвращаться на фронт. Поехали на юг, домой. А там будет видно. Добрались вместе до Ростова и разошлись. Больше не видел Гринев своего хорунжего никогда.
Пока стоял в Петрограде, Гринев успел повидать Ленина. Ленин выступал перед солдатами. Говорил, что землю отдаст крестьянам, а заводы рабочим. Про казаков не вспомнил. Но Гриневу Ленин понравился. Он был весь живой и, в руке зажимая кепку, воздух рубил так, словно орудовал кинжалом. Гринев подумал, что революция – это для человека хорошо. Потому что и Ленин, и Лизавета. А царь, ну что царь. Был, да весь вышел. Как тот окурок, который Гринев первый год еще таскал за собой, а потом он совсем размок да расползся, и казак его выкинул.
Перед тем как отбыть на юг, Гринев хотел найти Лизавету, повидать напоследок. Он ведь и раньше часто гулял по тем же самым местам и окрестностям, надеясь девушку случайно еще раз встретить. Но не довелось. Гринев не хотел идти на квартиру, чтобы не застать Лизавету при исполнении. А в последний день решился на отчаянный шаг. Нашел тот самый дом, заскочил в парадную, поднялся на второй этаж.
Дверь была выломана, квартира пуста. Василий метался по комнатам. Не было никого, ничего. Ванна стояла, наполовину заполненная холодной грязной водой. Кровать унесли или на дрова порубили. Но в завалившейся набок тумбе Василий нашел свое исподнее, так и не постиранное, да еще и порванное, потому никто не позарился. Василий потянул лохмотья и выпало письмо. Письмо было адресовано ему.
«Милый Гринев! Я думаю, ты будешь искать меня здесь. И, может, найдешь это послание. Со мною все хорошо. Я отправлена по делу революции. Время поднимает нас с мест, как смерч, вырывающий с корнем деревья. Я тебя помню и не забуду. Если есть такая судьба, то мы с тобою еще встретимся на перепутьях великого дела, которое нам всем предстоит совершить. Твоя Вета».
Из Петрограда до Ростова добирались две недели. Ехали поездами. Составы отменялись, задерживались, переформировывались. На вокзалах царил хаос. Вся Россия снялась, завязалась в узлы и тронулась с места, и умом тоже. Особенно много было солдат. Разрозненно и целыми частями оставляли фронт и ехали в тыл. Сдвинутые солдатами прочие люди тоже решили куда-нибудь ехать. Так гунны согнали с насиженных мест готов, а готы зачали давить на остальных германцев, и понеслось великое переселение народов, слизнувшее Рим, как сель в горах слизывает пастушеский юрт.
В губерниях порядку было чуть больше, чем в Петрограде. Сохранялись управы и полиция и все, приличное ходу вещей. И не было нехватки в насущном. На время стало даже больше продовольствия и прочих товаров. Ведь заготовленное для фронта на фронт вовремя отправлено не было. И вывалено было на рынки теми, кто должен был поставить войскам, или теми, кто у них отобрал или реквизировал. Реквизиция – такое было тогда главное слово. Грабили все. Когда прибывала на вокзал часть с фронта целым составом, с оружием, амуницией и прочим складом запасов, то какие-то отряды с мандатами отнимали все. Кому отнимали, куда везли – ничего было не разобрать. Но солдаты не очень сопротивлялись. Даже когда реквизиции проводили горцы из Дикой дивизии, что не утруждали себя составлением документов.
В Ростове купил себе казак хорошую пегую кобылу по сходной цене. Кобыла была тоже из реквизированных. В станицу приехал верхом, красивый. Во дворе встречали жена, отец с матерью, веселились, плакали. Жене в хате отдал сверток с золотом. Она раскрыла, а там кольца, цепи, серьги.
– Ох! Как же я это все на себя надену?
– Дура ты. Зачем надевать? Сбереги где посекретней. Меняй на деньги, которые деньгами будут. Да не зараз, а понемногу. И в городе, у разных менял. И каждый раз будто последнее принесла. Мало ли какие ждут времена.
– А что я? Что я? А ты-то куда денешься?
– Да никуда, тута я пока, тута останусь. Пока.
– Где же ты набрал такого добра, Василий? Не душегубством ли?
– Не вой. Хорошо взял, трофеями. У немцев.
Если по правде, то золото было не трофейным. От немцев больше отступать приходилось. Золото было, если так сказать, реквизировано. Когда Гринев с хорунжим ехали в Петроград, состав сделал большую стоянку в одном малороссийском городе. Казаки пошли гулять. Да и набрели на ювелирную лавку, которую держал еврей. Ну и что же? Повалили, избили приказчиков, взяли жида за бороду, все, что нашли, забрали и поделили поровну. Хорошо получилось. Спрашивая, чтобы выдал еще, хорунжий бил хозяина лавки ногами. Гринев смутился: что же мы так с человеком? Хорунжий сказал: разве это человек? Это жид.
Гринев потом думал, что казаку нужен царь. Когда нет царя, то и закона нет. Если, например, мужик, то у него есть страх Божий. А у казака нет. Для казака страх Божий только в царе, а без царя казак сразу первый вор и злодей. Поэтому, когда победили в Петрограде Советы и вести докатились до казачьих станиц, Гринев обрадовался. Советы – это была настоящая власть. А что Ленин будет новый российский царь, казак в этом даже и не сомневался. Временное правительство было все не то, какой-то бордель с проститутками, а не власть. Советы – это серьезно.
Отец тоже одобрительно говорил о большевиках. Гриневы были середняки. Не беднота, не какие-нибудь иногородние, а настоящие казаки, но не богатые. Отца, когда был молодой, заедала казачья старшина, не давала ходу вверх или в сторону. Отец думал: должно прийти такое время, когда все поменяется наоборот. Оно и пришло. Советы скоро установились и на казачьей земле. Вышел бунтом Каледин, донской атаман, но смяли Каледина. И в конце января 1918 года атаман кончил себя выстрелом в сердце. Но война не закончилась. Война только начиналась. Давили с запада немцы, которые и не думали идти домой, не закончив войну победой. Поднялись противники советской власти со всех сторон. И советская власть тоже поднимала себя, как дрожжи поднимают себя в кастрюле, поставленной на скамью у печи. Росла армия Советов.
Красный атаман, главком Воронов, проходил гриневской станицей, набирал войско. И Василий, испросив благословения у отца, пошел воевать. Он ведь тосковал сильно. И зачем тосковал, непонятно. Жена под боком, дочь, родители. Было что съесть и выпить. А душа не пела. Да и снилась часто барышня из Петрограда, Вета-Лизавета, запала в душу. Было раз, Василий попросил супругу свою:
– Ты бы, голубка моя, разделась донага. Помазала груди маслом. И поласкала бы меня со спины.
Молодуха вытаращила на мужа глаза:
– Ты что, казак, рехнулся? Каким маслом? Лампадным? Постным? Масло переводить? Это так тебя ласкали в твоем Петрограде блядины продажные? И ты решил жену свою законную перед Богом бесовской мерзости научить?
Василию пришлось пойти на попятную и больше про волшебные ласки не поминать. Но не думать не мог. И сны запретить. Вот ведь. Всего разок виделись. А так покорежило молодое сердце.
Воронов заметил новобранца при выезде из станицы, подъехал на своем кауром, спросил:
– Воевал, казак? Кем был на фронте?
– Воевал, атаман. Адъютантом был у хорунжего.
– Да разве положен хорунжему адъютант?
– Так-то не положен, атаман. Но наш хорунжий, как царь отрекся, стал выборным в полку. И делегатом от полка поехал на съезд в Петроград. И я при нем. А до того был как все, казаком.
– Добро, добро. А мне как раз адъютант нужен. Ты, я вижу, ловкий. Иди ко мне адъютантом.
Так стал Василий Гринев адъютантом красного атамана, главкома кубанских казачьих войск Петра Воронова. Пошли воевать, и воевали красиво. Это была новая война, нужная и веселая. Все сбывалось по слову отца, с которым тот провожал сына Василия:
– Ты, казак, иди, повоюй. Мы всегда воевали. Только воевали мы бестолково. За кого и с кем воевали? То с турками, то с немцами, то с японцами. А главный турок, он всегда был у нас внутри. Вот сейчас хорошая будет война, правильная. Чтобы провеять на ветру шелуху от зерна, чтобы самим на своей земле хозяином встать, без чужого начальства. Совсем без начальника человеку нельзя. Но российскому человеку нужен свой начальник. Вот как Ленин, если правда, что о нем говорят. А цари наши, генералы и губернаторы, они все кто? Они российскому человеку турки, еще и хуже. Иди, Василий. Храни тебя Бог.
Повоевав и отбив во все стороны белых бунтовщиков, засели в городе Пятигорске. И то было веселое время. Реквизировали вино и закуску, граммофон в штабе играл, девицы плясали. Девиц пользовали, даже тех, которые артачились. Жалобы кто-то куда-то писал. Письмо напечатали в местной советской газете. И приехал к батьке Воронову сам председатель крайкома Крайний, он же Моисей Израилевич Шнейдерман. Тогда и увидел Гринев снова свою барышню из Петрограда.
Прошло всего чуть более года, а девушку было трудно узнать. Похудела, но не отощав, а заострившись мослами. Носила кожанку и галифе и высокие сапоги. Портупея на ней была с револьвером. Приехала она в автомобиле вместе с товарищем Крайним и называли ее все товарищ Вета. Улучив минутку, Василий к ней подскочил. Она узнала, но виду не подала, шепнула одними губами: «Потом».
Ждал Василий несколько дней, пока Вета нашла его сама. Взяла в автомобиль и отвезла на свою квартиру. Отпустила шофера и сказала:
– У нас час, милый Василий. Пока Моисей Израилевич не вернулся.
Ох, не мылись, не раздевались. Бросились друг на дружку, как тоскливые собачонки. А потом лежали и курили табак. Лизавета шептала:
– Ты мне, Василий, запомнился. Полюбила я тебя. Уж и не знаю почему. Наверное, этому есть какое-то научное объяснение.
– Да и ты мне люба, Вета. Снилась ночами. Иди жить со мной!
– Так у тебя есть своя баба в станице. И детишки небось… да если бы ты и бобылем был. Зачем мне? Я вон с Моисеем Израилевичем теперь.
– Что же ты ему, жена?
– Не жена. Зачем жениться? Теперь время другое. Может, церковный брак и вовсе отменят. А за ним и гражданский. Будет свободное сожительство и кооперация людей разных полов. Или если даже и одного. Я Крайнему официальная боевая подруга. И помощник. С окладом в шестьсот рублей, между прочим.
– Вон оно как!
– Да ты не злись. Ты сам подумай. Сейчас время такое, когда можно все. Когда любой может стать верховным комиссаром или головой целой губернии, а то и Россией управлять. А ты у нас кто? Опять ординарец? Ах, извини. Адъютант, конечно. Какие твои возможности? А Крайний – он целого края начальник. И по партийной линии, и по советской. А мне это нужно, нужно, Василий, милый мой. Не чтобы шляпки и сумочки, это все вздор. А чтобы жизнь изменить. Чтобы влиять. Чтобы начать новое. Для этого нужна власть. И к тому же я – женщина. Женщины любят силу и положение.
– Так, значит, ты Крайнего любишь? Он для тебя сила и власть? А я что же, мальчишка, посыльный? Ни на что не пригоден? Разве что побаловаться разок. Э-э-э-эх!..
Гринев наспех оделся и выбежал из квартиры. И, не дожидаясь вечера, напился вдрабадан. А с утра сидел у главкома. Главком был опухший после ночных кутежей. Главком был невесел. Между Вороновым и Крайним пробежала черная кошка. Воронов жаловался своему адъютанту:
– Вишь, цыпу привез. Для личного пользования. Говорю, дай в штаб, с товарищем познакомиться. Нет, говорит, товарищ Вета – исключительно мой помощник. Знаем мы этого товарища Вету. Слышали. За товарища Вету и за весь ихний жидовский крайком. И меня, казака, атамана, главкома, он поучает. Грозит отстранить. Говорит – он тут власть от Советов. А я тогда кто? Кто я, Василий? Мешок с говном?
– Никак нет, атаман. Вы есть красный боевой командир и советская власть, а мешок с говном – это натурально сам Шнейдерман.
– Вот! Шнейдерман! За что же мы, казаки и русские люди, делали революцию и войну? Неужто за то, чтобы снять с шеи немцев, Романовых этих и прочих баронов и посадить себе на шею жидов?
– Никак нет, атаман. Не за тем мы революцию делали и проливали белую кровь.
– Вот ты скажи, Василий, ты Ленина видел?
– Видел, атаман.
– Ленин – казак?
– Похож на казака, атаман. Говорит так и рукой машет. Чисто казак.
– Вот! Ленин – казак! Из уральских, яицких казаков, древнего корня. Того же, что и Емельян Пугачев.
– Говорят, у Ленина дед – башкир.
– Правильно. А башкиры они кто? Они казаки! Они не немцы и не евреи. Мне бы только добраться. Мне бы к Ленину попасть. Поеду, Василий, в Петроград, к Ленину. Только бы прорваться, ведь стоят кольцом Бронштейны и Шнейдерманы, не пускают казака к своему атаману!
Принесли бутыль самогона, и атаман с адъютантом снова начали пить. Плохо было, что рассорились Крайний и Воронов. Еще хуже было то, что Крайний расстрелял героического командарма Таманской армии Матвеева, а таманцам поднес так, что виноват в казни Матвеева Воронов и что Воронов его расстрелял.
0
С руками, связанными лошадиной веревкой, скрученными за спиной, с побитым лицом и телом в кровоподтеках, с чубом, заскорузлым от ссохшейся крови, в рваной клочьями вишневой черкеске кинули Гринева на колени в пыль, посереди майдана, а кругом стояли таманские красноармейцы.
– Скажи, предатель, как ты убивал советскую власть и самых честных большевиков? Скажи при народе. Посмотри людям в глаза!
Василий поднял голову. Глаза от побоев заплыли, видно было плохо. Но различил казак в толпе коричневую кожанку и короткие льняные волосы товарища Веты. Сделал над собой усилие, рванулся и встал. И сказал свою последнюю речь:
– Товарищи мои дорогие. Так получилось, что я, честный казак, стал убийцей своего же товарища и брата. Теперь не воротить, а как все было, я уже рассказывал и еще при всех расскажу. Главком Воронов позвал меня и троих еще из штаба бойцов, и велел везти в тюрьму председателя крайкома Крайнего, членов крайкома Рубина и Савина, которые уже были в штабе главкома арестованы и разоружены. Однако не связаны и не биты. Перед штабом нам поставили два автомобиля, в них шофера. Главком сказал мне: вези их. А куда везти? – я спросил. Вези на подвал. Пора с ними кончать. И мы повезли. А крайком волновался, особенно товарищ Крайний. Я с ним в одной машине ехал. Крайний мне говорит: ты кто такой и куда ты меня везешь? Я говорю, везу тебя в тюрьму по приказу главкома Воронова. А он стал кричать и ругаться. Говорил мне, что я враг революции, что меня самого посадят в тюрьму и расстреляют и чтобы я немедленно вез его в крайком. Я молчал. А он говорит: знаю я тебя, собачий сын, ты на товарища Вету глаз положил и хочешь меня сгубить. А ведь это было неправдой. Но и тут я стерпел. Тогда товарищ Крайний рванул меня за ворот и хотел забрать револьвер. Я револьвер выхватил из кобуры и разрядил в товарища Крайнего, в живот и в грудь. Сзади нас ехали товарищи мои, везли Рубина и Савина. Они как увидели, что я Крайнего кончил, решили, что такой приказ, и своих крайкомовцев тоже перестреляли. Ехали мы подножием горы Машук. Тут мы на обочине мертвецов свалили, а сами вернулись в штаб. Вот и все. А теперь я хочу просить у вас чести. Мой отец послал меня с Богом воевать за советскую власть. Так вы уж не говорите семье, какой был мой конец. Скажите, мол, погиб за народное дело, сражаясь с врагами. И еще, позвольте мне самому привести в исполнение. Подскажите только, как это сподручнее сделать. Дайте с одною пулею револьвер. И пусть священное оружие трудового народа свершит судьбу мою и остановит мою дорогу. А вы идите дальше, идите вперед, будьте верны советской власти и революции и принесите победу красным знаменам, а отцу моему передайте, что сын был честным казаком, а тело мое отдайте жене, отвезите, пусть похоронит. И доченьке моей скажите, что папаня ее любил. И, даст бог, свидимся. Только пусть не торопятся. Пусть живут. Когда еще и жить то, как не сейчас, при полной советской власти и счастье для людей, которое вот-вот повсеместно настанет. Прощайте!
Круг затих. Потом раздались возгласы: пущай! Дайте ему револьвер! Худа не будет! Вышел вперед таманский доктор в серебряных очках и сказал:
– По моему глубочайшему убеждению, самый лучший выстрел – это поражение сердца. Некоторые считают, что убивать лучше в голову, так как этим уничтожается мозг. И правда, мозг – место сосредоточения наших мыслей. Никакой души нет. Как говорил товарищ Маркс – религия есть душа бездушного общества, сердце бессердечного мира, опиум для народа. Вместо поповской души у человека имеется индивидуальное сознание, и запрятано оно где-то в голове. Но вот где именно? Этого пока наука не знает. Может, в темечке, а может, в лобных долях или ближе к вискам? И пока мы точно ни в чем не уверены, можно предположить, что частичное разрушение мозга, притом что сердце продолжает качать кровь в оставшуюся неповрежденной мозговую ткань, не является бесстрадательным. По опыту полевых сражений, самая добрая смерть наступает от пули в сердце. Сердце перестает работать, кровь не поступает в мозг, и человек словно бы засыпает. Конечно, от пули в сердце бывает некоторая боль в груди. Но она затухает быстро, вместе с сознанием, когда прекращается кровопоток. А совсем без боли нельзя. Человек с болью рождается на этот свет и на тот свет выходит с болью, и так в каждую новую жизнь.
Кто-то из круга спросил доктора:
– А какой есть другой свет, какая новая жизнь, если нет поповской души и поповского Бога нет?
Доктор ответил:
– Бога нет. Но есть всемирный закон сохранения. И сознание, которое светилось в этом куске материи, не может пропасть. Или потом ему будет неоткуда взяться. Товарищ Маркс говорил, что есть сознание единоличное, а есть сознание масс, есть классовое сознание. И вот, оставив единоличное тело, сознание соединяется со своим классом. И встречает там своих прадедов, казаков и крестьян. Товарищ Маркс говорил, что нам нужно разбудить классовое сознание. Оно ведь дремало в могилах. А мы теперь пойдем к пращурам и расскажем им, что время пришло. Хорошее, новое время. Когда все возможно. Теперь не только короли и императоры с их герцогами будут жить в балладах и в классовом сознании своего дворянского сословия. А и любой простой человек становится вечен в общем классовом бытии. Такова, товарищи, революция! Поднимутся не только живые, поднимутся мертвые и своим сознанием наполнят живых. И никто уже не умрет навсегда, не сгинет. Дайте же казаку револьвер. Чтобы он с честью ушел, с оружием в сильной руке. И тогда на пороге он узрит свет своего класса и не ошибется, и встретят его товарищи и возьмут в братство и вечный бой.
Зарядили револьвер одним патроном и вручили Гриневу. Гринев посмотрел на круг. Пропала товарищ Вета. Ушла. Не смогла досмотреть. А может, и не было ее вовсе. Привиделась. А что было, так было синее-синее небо над головой, без единого облачка, как запрокинул казак голову и вдохнул его в себя все без остатка.
14 октября 2016 года, ПетроградЭргали Гер О погоде за городом (Лето 1984 года)
На другой день после того, как младшую сестру Зинаиду со всеми почестями похоронили на Воинском кладбище, Веру Яковлевну навестили близкие: внук, жена внука Наталья и пятилетняя правнучка, лукавое и грациозное создание по имени Оленька. На даче покойной, где Вера Яковлевна с незапамятных времен занимала крохотную, однако уютную комнатушку на втором этаже, было людно, полы в прихожей осклизли от занесенной грязи – третий день все шли и шли соболезнователи, телефон трещал не переставая, взрослые дочери покойной и их мужья уже устали заваривать чай, подходить к телефону, ополаскивать посуду, и это все чаще и все смелее делали за них другие люди. Из обитателей дачи одна только восьмидесятидвухлетняя Вера Яковлевна казалась выспавшейся; ее комнатушка под крышей приятно удивляла чистотой и покоем, сама же хозяйка просматривала свежие газеты, когда пришла семья внука.
Приласкав Оленьку, своего идола, старуха бодро приветствовала гостей, ни словом не обмолвясь о вчерашних похоронах, зато похвалила новые желтые, с красной перевязью сапожки правнучки и много охотно говорила о своем самочувствии. По ее словам, она чувствовала себя неплохо, утром сделала себе массаж и в остальном тоже не отступала от обычного распорядка. Удивленная Наталья не сразу, но похвалила старуху, сказав, что та держится молодцом; обрадованная Вера Яковлевна показала ей статью о евроракетах, помещенную в утренней «Правде», и несколько заторможенно, однако здраво и вполне складно стала излагать основные выкладки статьи, при этом выцветшие глазки Веры Яковлевны поблескивали, как у больного ребенка, и смотрели с поволокой, а пальцы беспокойней обыкновенного теребили клетчатый плед. Внук, угрюмо понаблюдав за нею, прошел на балкон, сел в кресло-качалку и, пока женщины рассуждали о политике, курил одну сигарету за другой, бросая окурки в сад, в густо заросшую чем-то зеленым и мокрым клумбу.
Дождь то накрапывал, то переставал, скучно прыская дозированными пятиминутными порциями. Ветер ерошил вершины сосен, временами прокатываясь по ним с нарастающим гулом, зато под соснами было тихо, безветренно, и шорох дождя в саду звучал с особой проникновенностью. Внуку было за тридцать, звали его Митей, и он с жалостью, а порой с неприязнью узнавал себя в бабке (а бабку – в себе), в первую очередь подмечая в ней замкнутость, педантизм и какое-то особое, неврастеническое угрюмство души, печать которого проступала и в его, Митиной, унылой физиономии, и в высохшем личике Веры Яковлевны. Приглядываясь к дочери, Митя находил в ней больше Натальиного, материнского, и был искренне рад. Оленька между тем то выбегала на балкон и карабкалась к отцу на колени, то возвращалась в комнату и блуждала среди знакомых предметов по каким-то своим, ей одной известным маршрутам. Она была легка на ногу и создавала не шум, а шелестящее кружевное движение. Взрослые, объединенные благодарным любовным чувством, с удовольствием следили за девочкой, и нежно посипывал носиком электрический чайник.
Наталья уже выставила на стол чашки, когда в дверь постучали и вошла Роза, пышная, перетянутая в талии широким поясом надвое сорокалетняя женщина, младшая из дочерей покойной Зинаиды Яковлевны.
– Можно? – спросила она, прикрывая за собой дверь. – Привет, Нат. Я там кручусь, ничего не слышу, хорошо хоть сказали, что вы пришли.
– Привет, – повеселев, откликнулась Наталья. – Как вы там, ничего?
– Не то слово, – сказала Роза, скорчив гримаску. Лицо у нее было серое, скомканное, выглядела она неважно и, похоже, отдавала себе в этом отчет. – Идут и идут, сидят и сидят, у меня уже нет сил. Как будто не понимают, что людям нужно по крайней мере прийти в себя, я уж не говорю выспаться. Чует сердце, пора закрывать эту лавочку. Я покурю у вас, хорошо, тетя Вера?
– Пожалуйста, Розочка! – возмущенно прохрипела Вера Яковлевна.
Рассеянно чмокнув Оленьку, Роза прошла на балкон, закурила и отмахнулась от Мити, неловко привставшего в своем кресле.
– Сиди, слабый пол! – приказала она, свирепо затягиваясь дымком; Наталья, посмеиваясь, смотрела на них из комнаты.
– А вы еще не были на пляже? – спросила Роза, оборачиваясь к Наталье. – Значит, столовую после ремонта не видели? Ну, доложу вам! Понавесили бордовые шторы, финские фотообои, оборудовали бар с музыкой, так что теперь можно принять как следует, потанцевать и прямо из бара в реку, с обрыва вниз головой. Митенька, слышишь?
– Безобразие! – прохрипела старуха. – Была такая приличная столовая…
– А мы сегодня заглянем, – пообещал Митя. – Посмотрим, как там распоясались ваши торгаши.
– Ты кого имеешь в виду? – оскорбилась Роза, муж которой был крупной шишкой в горторге.
– Зину знало очень много людей, – вдруг раздался неожиданно торжественный голос Веры Яковлевны, – и в том, что они идут, нет ничего удивительного. Надо, Розочка, перетерпеть эти дни. Если вы с Кларой устали, я возьму это на себя.
– Хорошо, – подумав, согласилась Роза, посмотрела на сигарету и швырнула ее под дождь. – Пожалуйста, тетя Вера. Там, внизу, третий день сидят одни и те же, черт их знает, откуда повыползли, я их только на похоронах и вижу, – пожалуйста, спуститесь к ним, они будут рады. Для них это большая честь. Можете еще неделю поить их чаем.
Старуха растерянно посмотрела на Розу, то ли не расслышав сказанного, то ли припомнив, кстати, что Роза с сестрой – отныне полноправные хозяйки на даче. Помолчав, она уже менее уверенно возразила:
– Но там же разные люди, Розочка, нельзя же всех под одну гребенку…
– А мы и не будем под одну, – заверила Роза. – Мы их разными гребенками, тетя Вера.
Она шепнула что-то Наталье на ухо, потом ушла; по уходу ее все как-то задумались. Наталья, посмотрев на мужа, выразительно постучала кулаком по голове. Митя пожал плечами.
– Ну, ладно, давайте пить чай, – вздохнув, сказала Наталья.
* * *
После чая семейство собралось на прогулку, которая по дачному распорядку заканчивалась обедом в пляжной столовой. Стоило, однако, Вере Яковлевне спуститься в прихожую, как из гостиной один за другим густо пошли соболезнователи, все чрезвычайно обеспокоенные ее здоровьем; пробиться из их нестройного хора в солисты смогла только Ханна, худая желтолицая женщина, крикливая и настойчивая, как голодная птица, с таким же страстным и настойчивым блеском глаз. Покойная сестра, вообще-то чрезвычайно щепетильная в подборе своего окружения, почему-то терпела подле себя эту женщину, хотя обходилась с ней до неприличия бесцеремонно; Вера Яковлевна, которой и самой доставалось от Зиночки в последние года два, терпеть не могла эту Ханну – тем не менее именно этой Ханне удалось выцарапать старуху и залучить на крыльцо, до того та терялась от многолюдства и усиленного внимания к своей персоне. Митя с женой прогуливались по склизкому, поросшему редкой озябшей травкой проселку, пока Ханна, страшно картавя и улыбаясь Вере Яковлевне своей безобразной обольстительной улыбкой, разматывала какую-то длинную, мстительную, укоризненную ябеду, суть которой сводилась к тому, что ее, Ханну, отдавшую всю себя служению Зинаиде Яковлевне, не допустили на похоронах в первые ряды, где, разумеется, все было ложь и чиновность, где Веру Яковлевну держал под ручку NN, в свое время попортивший столько крови Зиночке, теперь она может себе позволить так ее называть, – зато только ей, Ханне, оттертой в задние ряды, дано было видеть «эти слезы, эту иск’еннюю ско’бь п’остых людей»… Ну, и так далее. Вера Яковлевна нервничала, моргала, одергивала на себе плащ и безнадежно таращилась в помятый малинник за дорогой, в блеклой листве которого мелькала курточка правнучки.
– Может, ты все-таки шуганешь эту Ханну? – спросила Наталья, озабоченно поглядывая в сторону дома.
– У тебя это лучше получится, – ответил Митя. – Хотя, похоже, она свернулась в куколку, и никакой Ханне ее теперь не пронять. Когда хоронили маму, она так же замкнулась. Это железные люди, по ним такими катками прошлись, что никакой Ханне…
Наталья, вздохнув, сердито крикнула Оленьке, чтобы та встала с колен, и пошла к дому.
– Вера Яковлевна, мы идем гулять или нет? – весело спросила она. – Извините, Ханна, нам пора. Вера Яковлевна приняла лекарство и должна отобедать вовремя. Всего хорошего.
Ханна, царапнув Наталью внимательным взглядом, с готовностью закивала.
– Какая болтунья, какая сплетница эта Ханна! – с возмущением объявила Вера Яковлевна, спустившись с крыльца. – Вы такая умница, Наташенька, вы так вовремя подоспели…
Наталья смущенно дернулась, старуха невольно оглянулась и в трех шагах от себя обнаружила крыльцо и Ханну, которая с неприятной улыбкой смотрела с крыльца им вслед. Зачем-то кивнув ей, Вера Яковлевна беззвучно пожевала губами и заковыляла прочь, опираясь на руку невестки.
– Она еще на крыльце, – шепотом сообщила старуха, досадуя на свою оплошность. – Думаете, услышала?
– Не знаю, Вера Яковлевна, – дипломатично отвечала Наталья.
– Будем считать, что нет, – решила Вера Яковлевна, потом хихикнула: – Она же глухая. Я прямо в лицо говорю, что меня ждут, а она не слышит…
Потихоньку они ушли вперед. Митя отстал и торопил Оленьку. Дождя как будто бы не было, только ветер порывами налетал на сосны, и тогда крупные капли дробным косым наметом пробегали по молодым дубкам, по бледной, вздрагивающей листве подлеска. Оленька, млея от восторга и страха, паслась в малиннике; за малиной пошла черника, вся, как в завивке, в жестких лакированных листочках, присыпанных порыжевшими сосновыми иглами, и все это росло просто так, под открытым небом, для всех и совершенно бесплатно.
Митя радовался, наблюдая за тем, как Оленька выпутывает из листвы чернику, потому что где-то читал, что работа пальцев способствует развитию речи ребенка. Он смотрел на Оленьку и удивлялся тому, что любит ее ничуть не меньше, чем год или два назад, хотя пора праздника, пора первых, самых неожиданных радостей и поразительных перемен в ребенке вроде прошла. В нынешней его любви было больше инстинкта, наработанного рефлекса, она больше походила на намертво вызубренный урок, но это отнюдь не обесценивало ее – она была глубже, выстраданнее, прочнее прежней восторженной любви, легко переходившей в усталость и раздражение. Эта азбука была ему внове; оглядываясь назад, он понимал, что мог бы быть более счастлив в жизни, окажись его первым, самым настойчивым и терпеливым учителем любви не Оленька, а мама, при жизни целиком поглощенная работой, или бабушка Вера Яковлевна, или еще кто-нибудь…
Между тем Наталья и Вера Яковлевна ушли далеко вперед, беседуя на разные нейтральные темы, без труда изыскиваемые Натальей по ходу самой беседы. Тропинка вывела их к шоссе; в ожидании Мити с Оленькой они потоптались на обочине, затем, не дождавшись, пересекли дорогу и широким пойменным лугом, лежавшим в излучине между двумя пляжами, вышли к реке. Здесь, на виду заречного костела, утопавшего в густой и темной зелени другого берега, они сели на лавку, на которой Вера Яковлевна всегда отдыхала перед тем, как свернуть к павильону летней столовой; река, потемневшая и даже как будто съежившаяся от холода, текла в десяти шагах перед ними.
– Какая вы умница, Наташенька, и откуда вы все это знаете? – говорила старуха, разглядывая гибкий, трепещущий в руке росток чистотела. – Я ведь знала, что чистотел – лекарственное растение, но никогда не думала, что эта травка и есть чистотел. Ой, да он пачкается!
Она с удивлением уставилась на перепачканную желтым ладонь.
– Это сок, – с улыбкой пояснила Наталья. – Осторожней, Вера Яковлевна, он не смывается.
– А помните, вы показывали мне соловья? С тех пор я часто прихожу сюда специально, чтобы послушать соловьиное пение. Как они поют, Наташенька, – это же чудо, настоящее земное чудо!
– Неужто они до сих пор поют, Вера Яковлевна? – слегка удивилась Наталья. – Помнится, когда мы слушали соловья, дело было в мае…
– По-моему, поют, – неуверенно отвечала старуха. – По-моему, это они… И знаете, Наташенька, ведь это благодаря вам я стала вслушиваться и всматриваться… Вы уж не удивляйтесь, но я всю жизнь, как прочла в детстве про поющего соловья у Андерсена, так и пребывала в уверенности, что они действительно поют. По-настоящему поют, как Белла Руденко, как флейта, такой чистый певучий звук. И поначалу разочаровалась: это щелканье, которое я так часто слышала, – вот и все пение! И только вслушавшись – я стала слушать, Наташенька! – я почувствовала, какая в нем сила, какая страсть, какая это земная правда, Наташенька. И как мне недоставало этого раньше! Жизнь надо знать, иначе уходишь в сухое теоретизирование, отчуждение, а знание жизни начинается вот с этих маленьких, очень жизненных мелочей. Вы такая умница, Наташенька. Я просто любуюсь вами и многому, очень многому у вас учусь…
– Ну что вы, Вера Яковлевна, – отвечала Наталья. – Я практичная женщина, только и всего.
Старуха, кивнув, уставилась на нее в некотором замешательстве.
– По-моему, вы не правы, – пожевав губами, сказала она. – Хотя, конечно, это палка о двух концах. Недаром говорят: «Жизнь заела». Зиночку вот она заела, а меня нет. – Вера Яковлевна рассмеялась и немедленно зашлась надсадным грудным кашлем; пришлось доставать платочек. – Нас так упорно пугали идеализмом, Наташенька, так настойчиво вдалбливали, что в белых перчатках социализма не построить, что в поколении нашем, увы, остались одни прагматики. А ведь во времена, когда все начиналось, все мы были в той или иной мере идеалистами. И Зиночка, представьте себе, тоже… Пока на моем примере не убедилась, что это смертельно опасно. Вот так.
Потом женщины сидели молча, думая о своем. Лавка, как в пещере, стояла под сенью холодной, взъерошенной, многоствольной сирени, и в пещере этой изумительно пахло свежестью, сырой зеленью, подгнивающим речным берегом. Мимо скользила река, скольжение ее бесконечного мускулистого тела вызывало у Веры Яковлевну тошноту и головокружение. Она посидела с закрытыми глазами, потом коснулась колена Натальи своими негнущимися, изуродованными старостью пальцами и сказала:
– А знаете, Наташенька, мне стало гораздо веселее жить, когда появились вы с Оленькой. И даже сегодня, в такой, знаете, день, могу вам сказать, что жизнь – удивительная штука. Можно так сказать про жизнь – штука?
– Можно, – растроганно и с облегчением отвечала Наталья. – Вам все можно, Вера Яковлевна.
Вечером, проводив семью внука до троллейбусной остановки, Вера Яковлевна возвращалась на дачу, про себя все еще улыбаясь Оленьке, которая скакала, что-то кричала и махала ей ручкой за окном отъезжающего троллейбуса. Предстояло пройти четыреста метров лесом, и постепенно лицо Веры Яковлевны приняло обычное задумчивое, с виду даже угрюмое выражение. Она все еще находилась под впечатлением предобеденного разговора с Натальей. Редко она говорила так много и так легко, однако и на этот раз сокровенное, самое главное, о чем хотелось сказать, не высказалось. Уже не в первый раз, любуясь с заветной лавочки видом на костел и паромную переправу перед костелом, ей хотелось рассказать спутнице о послевоенной, имея в виду Первую мировую, маевке, проводившейся неподалеку от этих мест, чуть выше по реке, и даже не о самой маевке, сколько о Зиночке тогдашней, Зиночке, какой ее любила Вера Яковлевна и какой помнила… За последние годы память Веры Яковлевны ожила, что-то стронулось с места, вовлекая в необратимый, сладостный, порой мучительный процесс – обвал запахов, звука, цвета; временами казалось, что реальная жизнь прожита в черно-белом варианте, что воспоминания живей и насыщеннее подлинных событий и что теперь-то она могла бы остановить их бег, извлечь из волшебного мешка памяти, рассказать… Как они с Зиночкой нанимали на городской пристани лодки для пикника, как весело, с достоинством и непринужденно отвечала сестра на незамысловатые шутки лодочников – сама Вера Яковлевна так и не выучилась этому искусству; как два плосколицых мальчика – посыльные от магазина Блюма – принесли прямо на пристань гору коробок и свертков с припасами, и Зина сверх положенных чаевых вручила каждому по бутылке ситро и горсти конфет; как с песнями плыли вверх по реке и какая неведомая, чужая страна открылась по берегам реки сразу за городом. Вспоминались бурые, запекшиеся на солнце лица крестьян, провожавших лодки долгими застывшими взглядами; Вере Яковлевне, как раз в то время штудировавшей историю Французской революции, окрестные хуторяне казались загадочней и древнее вандейских крестьян времен Конвента. Поглядывая на костел за рекой, почти съеденный окружающей его зеленью, она с удивлением вспоминала, какой громадной, неприступной твердыней казался он в те незапамятные времена, как притихли в своих лодчонках молодые кожевенники, пивовары, курсистки, когда выплыл из-за поворота этот сияющий золотом и белизной замок, к которому по обоим берегам брели паломники с обувкой через плечо или на палках – крестьяне, крестьянки в черных суконных юбках, повязанные белыми платочками, в нарядных блузках, а на пристани у паромной переправы сидели калеки – господи, сколько в те годы всюду было калек! – и пахло от пристани пылью, конскими яблоками и рекой, совсем как в городе…
Но ничего, ничего не получалось извлечь из этого волшебного мешка наружу. Ни-че-го.
Вечер был темный, августовский, с ветром и запахами дождя. Лес, продуваемый насквозь, вздыхал и летел куда-то в ночь; устав ковылять по склизкой тропке, Вера Яковлевна остановилась. Все качалось и плыло перед глазами, у ближнего поворота метался на ветру шелестящий, обсыпанный крупными белыми ягодами куст неизвестного Вере Яковлевне растения; все вздыхало, шелестело, трещало, источало холодные свежие запахи, и старуха с каким-то отстраненным и тоскливым чувством смотрела на это разбойное ночное пиршество. Она не чуяла под собой ног, в теле была неприятная тошнотворная невесомость – казалось, сырой ночной ветер вот-вот подскочит, дохнет и понесет ее иссохшее тельце над лесом и над полями, унося от людей все дальше и выше, все дальше, выше и выше… Задыхаясь, она прислонилась к толстому сосновому стволу, пережидая головокружение и прилегая к сосне как к надежнейшей земной вертикали.
Этот приступ тошнотворной легкости повторился у дома, она даже не успела затворить за собой калитку. Свет из гостиной красиво ложился на зелень в саду, входная дверь была распахнута настежь, и, глядя из палисадника на Розу, домывающую полы в прихожей, на старшую племянницу Клару, сидящую за столом в пустой и светлой гостиной, Вера Яковлевна вновь почувствовала, что земное притяжение над ней не властно и она вот-вот поплывет над землей.
Клара, уже совсем увядшая, протирала приборы и раскладывала их по коробкам. Звяканье падающих в коробку ложек летело в сад. Вцепившись в калитку, Вера Яковлевна с грустью смотрела на обеих племянниц, потом приступ прошел, и она подумала, что для той новой жизни, которая начнется с завтрашнего дня на даче, у нее совсем не осталось сил.
С этим отстраненным чувством она и легла, перед сном перебрав и спрятав в стол республиканские газеты с траурным портретом сестры. Снимок, сделанный лет десять назад, был хорошо знаком Вере Яковлевне и никогда ей не нравился. Сестра смотрелась на нем очень уж официально и чинно. Это была сановная маска без каких-либо временны́х примет, и, вспоминая ту Зиночку, что сидела с ней в одной лодке, вспоминая ее прекрасное молодое лицо, дышавшее верой, надеждой, нравственной силой, да и просто свежестью чувств, Вера Яковлевна всякий раз искренне жалела сестру и находила в этом сравнении лица и маски свое какое-то объяснение ноткам горечи и усталости, появившимся под старость в голосе Зинаиды, ее внезапным приступам бесцеремонности и раздражительности.
Ровно в одиннадцать, ни на минуту не отступая от обычного своего распорядка, Вера Яковлевна легла спать. К этому времени стихла музыка в новом баре между первым и вторым пляжами, отрясавшая вечернюю росу с окрестной сирени. В волглой, оглушенной ночи не сразу стал слышен шорох тумана, потом робко щелкнул, послушал тишину и еще раз щелкнул шальной соловей, то ли перепутавший август с маем, то ли не успевший спеть свое по весне.
1985Евгений Попов Революция (Политизированный рассказ о любви 18+)
Посвящается грядущему столетию Великого Октябрьского Большевистского Переворота
Кто не верит в победу сознательных смелых рабочих,
Тот играет в бесчестно-двойную игру.
К. БальмонтЕсли бы чеховским интеллигентам, все гадавшим, что будет через двадцать—тридцать—сорок лет, ответили бы, что через сорок лет на Руси будет пыточное следствие, будут сжимать череп железным кольцом, спускать человека в ванну с кислотами, голого и привязанного пытать муравьями, клопами, загонять раскаленный на примусе шомпол в анальное отверстие («секретное тавро»), медленно раздавливать сапогом половые части, а в виде самого легкого – пытать по неделе бессонницей, жаждой и избивать в кровавое мясо, – ни одна бы чеховская пьеса не дошла до конца, все герои пошли бы в сумасшедший дом.
А. Солженицын А на бульваре Гуляют баре, Глядят на Пушкина в очки: – Скажи нам, Саша, Ты – гордость наша, Когда ж уйдут большевики? Советский фольклор…Он неповинен, русский народ, трудовой народ, в бесчестии России. И еще помните: он – великая сила, он – страшная сила, которая все может! …Глядите: подспудно, жива Россия!.. Народ заживит царапины. Для него, ибо он смотрит в века, и время считает по-своему, по вечной земле своей, для него все это – только царапины. Он не знает былого, он слишком богат внутри, и потому нам видимое, нами оплакиваемое, для него, считающего на крупные, – это все страшное – лишь царапины… С ним строить, с ним верить надо! …И он – покажет себя, он горы сдвинет… он все воздвигнет, и воскресит, и подарит, воротит России гениев! Вы увидите: сбросит ярмо народ и быстро залечит язвы.
И. Шмелев И вновь продолжается бой, И сердцу тревожно в груди, И Ленин такой молодой, И юный Октябрь впереди. Н. ДобронравовГлавное действующее лицо этого текста – Гдов, старый русский писатель с некогда мировым именем, а теперь простой пенсионер, персонаж, хорошо известный всем симпатизантам моих скромных трудов, «опоздавший шестидесятник» 1946 года рождения. Он на старости лет, вместо того чтобы лежать в могиле, стоит на протяжении всего этого рассказа в непосредственной близости от гранитных ступенек Центрального телеграфа города Москвы и ждет знаменитую актрису нового поколения, умную красавицу, взошедшую кинозвезду по имени Люция Батудолаевна (фамилию для конспирации опустим).
Гдову в непосредственной близости от ступенек Центрального телеграфа города Москвы очень нравится. Ведь оттуда, если чуточку прищурить глаза, как в песне романтиков «Бригантина поднимает паруса», можно увидеть Кремль, где работает Путин, а если глаза вообще закрыть, то появляется далекая Америка во главе с Бараком Обамой, Германия вырисовывается. Италия, Франция, Великобритания, другие европейские страны тоже тут, как живые, включая Польшу, Белоруссию и воюющую неизвестно с кем Украину.
Зачем ждет-то? А затем, что Люция Батудолаевна лично ему позвонила и лично попросила о консультации. Она снимается в одной из главных ролей сериала о 60-х по последнему роману безвременно покинувшего вещный мир писателя А., старшего друга, товарища и брата нашего Гдова, кумира нескольких поколений русско-советских читателей. Ей нужны уникальные детали и яркие подробности канувшей жизни. Резонно. И разумный достойный гонорар «от продюсеров» консультанту обещан. Голос ее показался Гдову волшебным, Люция Батудолаевна заинтриговала Гдова. «Откуда вы узнали о моем существовании?» – хотел было спросить он в конце телефонного разговора, но не успел. Гудки, короткие гудки…
Вот и стоит заинтригованный Гдов в непосредственной близости от гранитных ступенек Центрального телеграфа города Москвы. Ждет. Сейчас уже XXI век. Люция Батудолаевна опаздывает. «Дамы всегда опаздывают, если они действительно дамы. Особенно знаменитые актрисы и умные красавицы», – вспомнил Гдов.
Хорошо в столице. Воздух в Москве свежий. Градоначальник Собянин реконструирует улицы, мостит их плиткой, расширяя тротуары, сужая проезжую часть дороги. Привыкший ко всему Гдов не матерится. Годы жизни в родной стране, откуда он ни разу не эмигрировал, не гнетут его, способствуют толерантности. Пенсии мало, но хватает. Гдов размышляет о высоком и мысленно бормочет себе под нос всякую политизированную чушь. А может, и не чушь. Почему он это делает, мне, автору, непонятно. Мне многое непонятно. Мой любимый персонаж вообще каким-то неожиданным и таинственным стал. Неужели таким непостижимым образом реализуется в нем старость?
– …врет этот американский друг Ленина и Троцкого Джон Рид в своей книге про всего лишь «десять дней, которые потрясли мир», брешет как сивый мерин. Осознанно врет или по глупости – вопрос нерешенный, скорей всего истина, как обычно, лежит посередине. Да и кто ж тогда мог предвидеть поздней осенью семнадцатого года, когда еще существовала какая-никакая, а все же цивилизация, что десятидневкой это безобразие не ограничится?
И ведь до сих пор трясет весь мир, да все сильнее и сильнее, от содеянного в России 25 октября (7 ноября) 1917 года.
Конвергенция свершилась. «Капиталисты» и «советские» взаимно обучили друг друга самому дурному, что имелось и в том и ином общественном строе. Проходимцы всех стран наконец-то объединились и теперь правят миром. Все бьют себя в грудь, завывая «эти глаза не солгут», а мир тем временем бесшумно скользит в пропасть.
Гдов поежился.
Нет, это же нужно такое представить, чтобы горстка негодяев в мгновение ока раскачала сначала страну, а потом и весь мир! Большевики ведь ловкие в этом смысле ребята были, умели пообещать кому угодно все, что угодно, хоть черта лысого. В медицине этот называется «вовлечение в бред».
Молодому писателю Гдову, проживавшему в начале 70-х годов ХХ века на окраине подмосковного города Дмитрове, в поселке Завода фрезерных станков, носившего неофициальное название «негритянский поселок», старый рабочий с искривленным в советских концлагерях позвоночником рассказывал в бане, что подростком был принят на одну из фабрик Морозовской мануфактуры. Там существовало нечто вроде профессионально-технического училища, где он получил специальность наладчика ткацких станков и приспособился играть в футбол, потому что при фабрике была команда, обучаемая тренером-англичанином, специально выписанным для спортивных целей из этой далекой островной страны, которая на днях вышла из Евросоюза. Ездили даже на соревнования в город, который до Первой мировой войны именовался Санкт-Петербургом и сейчас так же называется. Рабочие жили в сухом и теплом общежитии со всеми удобствами, включая ватерклозет и даже, кажется, душ. Рассказчик завел себе гармонь, галоши и шляпу-котелок. Тем не менее началась октябрьская ЗАВОРОШКА, он вместе со всеми улюлюкал и свистел в два пальца, когда толстопузого управляющего-инженера бунтующий коллектив посадил в тачку и торжественно вывез за ворота мануфактуры, наказав никогда больше на нее не возвращаться, если хочет дальше жить, как «цыпленок жареный» из входившей тогда в моду песни.
– …начальниками большевиков после смерти Ленина оказались два главных коммунистических негодяя – Сталин и Троцкий. Со Сталиным все понятно, а Троцкого западные «леваки» любят до сих пор, хотя и неизвестно за что. Ну не из жалости же, что Сталин его ухлопал, дотянувшись ледорубом по голове до далекой Мексики, где его «оппонент» нашел пристанище у добрых людей, не за то же, что Троцкий был еврей, а Сталин вообще непонятно какой национальности.
Ленин к Троцкому пришел, Я мешок муки нашел. Мне – кулич, тебе – маца. Ламца-дрица оп-ца-ца.Так пел русский народ, освобожденный от оков самодержавия, прежде чем загреметь за подобное «народное творчество» на новые нары. Так что если бы Троцкий Сталину голову скусил, а не наоборот, то непонятно, что было бы в дальнейшем. Как при Сталине или еще хуже?
Увы, история не имеет сослагательного наклонения, в чем каждый может убедиться, выглянув в окно, включив телевизор или выйдя в Интернет.
Поломали, исковеркали жизнь почти каждой семьи, и тот, кто утверждает: «А вот нас, например, репрессии не коснулись», заблуждается, как отпрыск барана, случайно уцелевшего на скотобойне или внучок доброй бабушки, которая всю жизнь провела в борделе, но, по ее утверждению, осталась целкой.
Вот взять хотя бы историю семьи Гдова, который был твердо уверен, что его дедушка Федосеев основал пединститут в городе К., стоящем на великой реке Е., впадающей в Ледовитый океан.
Хрен бы, какой пединститут основал РОДНОЙ дедушка Гдова! Потому что он был служителем культа и его красные расстреляли в восемнадцатом году, не дожидаясь окончательной победы мировой революции, о чем Гдову-юноше случайно проговорился еще при Советах его партийный дядя Ваня.
А бабушку кто осудит, что она вышла замуж за коммуниста Федосеева, чтобы деточек поднять? Коммунист Федосеев и основал пединститут, повезло, не шлепнули, в 1937-м от чахотки помер. И папаша Гдова, сын священника, «попович», в юности все в хоккей да футбол профессионально играл, а как расстался с «большим спортом» в составе ментовской команды «Динамо», так и пошел служить чертям в организацию их ВНУТРЕННИХ дел.
И помер папаша в одночасье, спившись на такой работе, когда Гдову было всего лишь пятнадцать лет, и живет он с той поры на свои деньги, так и будет жить, пока не помрет, как помер (без исключения) всякий, кто жил до него и будет жить после.
Гдову взгрустнулось. Умирать-то никому неохота.
– …да, выиграли войну, но нужно быть свиньей, чтобы не помнить, чего стоило это простым людям, а вовсе не фюрерам советской империи, дожившим до старости и «оттепели», устроенной ими после того, как покепчился их главный пахан и партийные мыши пустились в пляс.
Ну, а то, что «научно-технический прогресс» возник вследствие революции, что мы в космос шагнули благодаря революции, – это вообще бред.
Во-первых, в космосе нам делать нечего, пока в Сибири еще существуют уличные сортиры, где люди до сих пор сидят орлами на сорокаградусном морозе.
Во-вторых, если прогресс неизбежен, как смерть, неизбежными были бы и космические исследования. Однако Сергею Королеву при таком варианте развития событий не сломали бы во время допросов на Лубянке челюсть.
Зворыкин создал бы первый в мире телевизор в Муроме (Россия), а не в Принстоне (США).
Андрей Туполев самолет ТУ-104 построил бы вовсе не в «шарашке».
Вавилов накормил бы весь мир, а не закончил свои дни в саратовской тюрьме.
Лишь один Сергей Михалков при любом развитии событий все равно сочинил бы какой-нибудь гимн. Молодец!
Да знаю я, знаю, еще раз повторяю, что история не имеет сослагательного наклонения, но на кой черт нужны были бы тогда нэп, «оттепель» и так называемая перестройка, если бы эволюция в России свершилась, а не проклятая революция!
XXI век! В правительстве – жонглеры, в Думе – фокусники, в оппозиции – клоуны. Куда зрителю податься из этого цирка?
Так бормотал Гдов, мой персонаж, старый русский писатель с некогда мировым именем, а теперь простой пенсионер, хорошо известный всем симпатизантам моих скромных трудов «опоздавший шестидесятник» 1946 года рождения. Сам-то я неполитизированный, товарищи!
– …опаздывает уже на двадцать пять минут. Что делать? Повернуться и уйти, ну ее?..
С другой стороны, если рассуждать разумно, все могло бы быть у нас значительно хуже. Как в Донбассе, например, где уж столько «неполитизированных» поубивали со всех сторон. И еще утешение, что, если бы ее не было, этой революции, она рано или поздно все равно была бы. Так что чего уж там после драки кулаками махать?
Но что же случилось со всем этим миром, который действительно, как и предсказывали, стал одной маленькой деревней?
И как правильно ответить на вопрос, поставленный перед смертью Василием Макаровичем Шукшиным: ЧТО С НАМИ ПРОИСХОДИТ?
Как нащупать в сумерках гаснущей цивилизации ХХ века путь к свету, все-таки к свету, а не к окончательному погружению во мрак?
Как избавиться от навязанных и благоприобретенных мифов, глупостей, передержек, преувеличений и откровенного вранья, что загоняют в наши уши со всех сторон – востока, запада, севера, юга, Белого дома американского и Белого дома московского?
И можно ль прожить без дипломатических уверток и двойных стандартов, опираясь лишь на насущное, говоря лишь о том, что действительно касается всех нас – бедных и богатых, «космополитов» и «патриотов», власть имущих и ничтожных мира сего, «левых» и «правых», стариков и юнцов, красных, белых, синих, зеленых, голубых?
…в непосредственной близости от гранитных ступенек Центрального телеграфа города Москвы ждет Гдов знаменитую актрису нового поколения, умную красавицу, взошедшую кинозвезду Люцию Батудалаевну. Звезда опаздывает. Гдов раздражен. Возможно, он сходит с ума. Он слышит голоса каких-то совсем-совсем чужих, чуждых Гдову людей, тоже стоящих в непосредственной близости от гранитных ступенек Центрального телеграфа города Москвы:
– …По телевизору один юморист по фамилии Отпетых сказал: «Стоит только выпить водки, сразу жизнь становится иной». Пошли в «Рюмочную»? Трахнем маленькую на двоих…
– Это такой анекдот есть. Школьница домой приходит и говорит: «Мама, меня два дяди изнасиловать хотели. Они у меня за спиной говорили: «Давай трахнем маленькую на двоих?»
– Не смешно…
– Не хотелось бы, чтобы ты меня принял за поручика Ржевского, но каждая женщина хранит в себе тайну своих половых органов…
– Нет, ты мне скажи, ты ипотеку будешь брать?
– Я своей падле так и сказал – а не хочешь в Крым, так и я никуда не хочу. Редиску еще не поздно посадить, укропчик, лучок, кинзу, руколу новомодную.
– Работа все, работа. Выспаться некогда. Сегодня обязательно лягу в девять…
– …минут третьего ночи?..
– …ну что ты сделаешь с этим народом? – в отчаянии думает Гдов. Он какой есть, такой и есть. Не хуже и не лучше, чем был и будет. Не хуже и не лучше, чем в тех странах, где вовсе не было революции, раскулачивания, колхозов, ГУЛАГа, первомайских демонстраций, Джона Рида, Ленина, Троцкого, Сталина, Хрущева, Брежнева, Андропова, Черненки, Горбачева, Ельцина, Путина. Под дружное стенание о гибели России одна простая тетка написала в просвещенном Интернете без знаков препинания:
«ДА ВСЕ У НАС ХОРОШО В РОССИИ И БЕЖЕНЦЕВ С БЛИЖНЕГО ВОСТОКА НЕТ И ВОЙНЫ НЕТ КАК НА УКРАИНЕ И САНКЦИИ НЕ ПОЧУВСТВОВАЛИ В МАГАЗИНЕ И ХОЛОДИЛЬНИКЕ ВСЕ ЕСТЬ ОДЕТЬ ОБУТЬ ЕСТЬ ЧТО КОММУНАЛКУ ПОВЫСИЛИ ТАК ЕЕ КАЖДЫЙ ГОД ПОВЫШАЮТ ПАРАЛЛЕЛЬНО И СУБСИДИИ ПОВЫСИЛИ МРОТ И ПРОЖИТОЧНЫЙ НАСЛАЖДАЙТЕСЬ И ПОСЫЛАЙТЕ ВСЯКИХ НЫТИКОВ КУДА ПОДАЛЬШЕ ВСЕ БУДЕТ ХОРОШО И ЖИТЬ БУДЕМ ХОРОШО СМОТРЕЛА ВЗАХЛЕБ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ФОРУМ В ПИТЕРЕ И ИНТЕРВЬЮ НАШИХ ПОЛИТИКОВ КОММЕРСАНТОВ ИНОСТРАННЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ГОСТЕЙ ИНТЕРЕСНО ВКЛЮЧАЮ ТВ КАНАЛ РОССИЯ ВСЁ НАЛАДИТЬСЯ И ЗАЧЕМ ВООБЩЕ НАГНЕТАТЬ ЧЕРНУХУ ПРОСТО Я ПРОТИВ ТАКИХ СТАТЕЙ ГДЕ ОНИ НАПИСАЛИ ЧТО У НАС 24 МИЛЛИОНА НИЩИХ Я НАШЛА СТАТИСТИКУ И ПОСЛАЛА ИМ ЧТО УЖЕ КАК ПОЛГОДА УРОВЕНЬ РОССИЯН НАЧАЛ МЕДЛЕННО НО РАСТИ И ЗА ЧЕРТОЙ БЕДНОСТИ НАМНОГО МЕНЬШЕ ЛЮДЕЙ И ТО Я ДУМАЮ ЧТО У НАС ЕСТЬ СЕМЬИ ГДЕ ПЬЮТ НАРКОМАНЯТ И НЕ ХОТЯТ РАБОТАТЬ ВОТ ИЗ-ЗА НИХ ТОЖЕ ЭТА ЦИФРА ВЫРОСЛА НАГНЕТАЮТ ОБСТАНОВКУ Я ВОТ ВЫШЛА ВО ДВОР ОГЛЯНУЛАСЬ 64 КВ. В ДОМЕ ВСЕ КАК ЖИЛИ ТАК И ЖИВУТ ВСПОМНИЛА ВСЕХ СВОИХ ДРУЗЕЙ И ЗНАКОМЫХ ВСЕ КАК ЖИЛИ ТАК И ЖИВУТ ВСПОМНИЛА РОДСТВЕННИКОВ ТО ЖЕ САМОЕ НИКОГО НЕ НАШЛА ЧТОБ НИЩИЕ БЫЛИ НИКТО МИЛОСТЫНУ НЕ ПРОСИТ ЛЮДЕЙ ПУГАЮТ А МЫ ПЕРЕЖИВАЕМ».
И я, Гдов, старый-старый русский писатель с некогда мировым именем, даже за голову схватился – бога не гневите, дураки, забывшие все-все-все, что с вами сделали большевики и чего не могут, а может, и не хотят делать необольшевики, несмотря на мерзости блуда их. Я ведь, как эта тетка, тоже все вижу и слышу.
…Как кроют средь бела дня, будто ни в чем не бывало «кровавый режим», «кровавого карлика», но этих храбрецов вовсе не тащат на Лубянку, не заковывают в железы, не этапируют в Магадан мыть золото в горах или в Воркуту «давать стране угля». Как партии всякие развели и организации, которые властвующий режим притесняет – да, притесняет, а где-то в мире есть места, где никого не притесняют? Где нет коррупции. Где человек человеку исключительно друг, товарищ и брат. Где все честно, все по совести и у государств нет никаких скелетов в шкафу? Скажите, где есть такие государства, я туда поеду хотя бы одним глазком взглянуть на них. Сейчас ведь это пока еще можно – ездить!
И еще самое главное – да-да, это правда, этот мир действительно сошел с ума, однако с чего бы это «рукопожатые» призывают чуму не на оба наших дома, а исключительно на один мой дом!
Поэтому я, перекрестившись, присоединяюсь к этой тетке да вдобавок еще и интерполирую ее простые слова:
– Пожалуй, никогда за сто лет, что прошли со дня этой проклятой революции, наша страна так нормально, как сейчас, не жила, храни ее Господь, если это Ему еще не надоело!
Снова голоса:
– Да как ты смеешь, Гдов, с детства босоногого обитающий у себя на родине, не бояться «либеральной жандармерии», перед которой все порядочные люди просто обязаны благоговейно дрожать, потому что она справедливая и хорошая, знает все лучше и точнее, чем восемьдесят процентов этого так называемого народа?
– Ты, не верящий в победу «сознательных, смелых рабочих», которыми на данном историческом этапе являются лучшие представители «прогрессивной общественности», имена которых известны всему Интернету?»
Гдов рассмеялся.
– Да пошли бы вы все на три знаменитых русских буквы, – хотел ответить он голосам. Но тут, как Афродита из пены, вдруг неизвестно откуда соткалась Люция Батудолаевна вся в белом, как невеста.
Гдов обомлел. Действительно красавица! Тонкий изгиб сочных губ. Олененок! Рысьи раскосые невозможные глаза! Татуировка на обнаженном предплечье и надгрудье. Слева – молот, справа – серп, посредине буквы:
«MADE IN USSR»
«ТАК ПОБЕДИМ»
«КОММУНИЗМ НЕИЗБЕЖЕН»
«ИСКУССТВО ПРИНАДЛЕЖИТ НАРОДУ».
Молодость вернулась к пенсионеру.
– Извините за опоздание, – сказала Люция Батудолаевна. – Черт бы их всех побрал вместе со всеми, кто устроил в Москве пробки, кто нашу жизнь превратил в ад. Ненавижу власть. Любую власть.
– А коммунистическую? – спросил Гдов.
– Тоже ненавижу.
– Тогда зачем такие татуировки? – улыбнулся писатель.
– По приколу, – объяснила она.
– Вы сибирячка? – вдруг спросил Гдов.
– Да, – загадочно улыбнулась Люция Батудолаевна.
Прельстительная!
– Бурятка? Я правильно угадал?
– Нет, я ваша землячка. Вы родились в городе К., стоящем на великой сибирской реке Е., впадающей в Ледовитый океан. А я в городе М., стоящем все на той же реке. Я метиска. Я читала все ваши книги. А имя моего отца в переводе означает «сильный, как океан». В Сибири все метисы.
– В России тоже, – подумал Гдов.
– …И отца моего отца тоже звали Батудолай. У нас в семье все мужчины носят это имя, начиная с прадедушки Батудолая, которого расстрелял ваш Аркадий Гайдар, дедушка другого вашего Гайдара, прогрессивного.
– Спасибо деду за победу, – не удержался от ерничества Гдов.
С печалью докладываю вам: дальше произошло нечто совсем неожиданное. Хотите – верьте, хотите – не верьте. Хотите дальше читать – читайте, хотите – не читайте. Мне и самому хочется, чтобы этого неожиданного не было, но оно было.
Гдов вдруг ни с того ни с сего оглушительно пернул.
То есть не пукнул тихонечко и интеллигентно, как это вполне могло бы быть в его возрасте, а именно что пернул на весь Центральный телеграф, на всю Москву, на всю Россию, на весь мир.
Оглушительно. Как в юности.
Боялся смотреть ей в лицо, опустив очи долу.
Впервые задумался о самоубийстве.
– Ерунда, не обращайте внимания, – вдруг сказала Люция Батудолаевна.
И крепко взяла старика под руку.
Любимая!
Били часы на Спасской башне. Из Кремля высунулся Путин. Стыдно стало в далекой Америке Бараку Обаме. Задумалась о своем поведении немецкая Ангела Меркель. Англичанин Дэвид Кэмерон цыкнул зубом. Разинул рот Берлускони. Франсуа Олланд, естественно, сказал: «О-ла-ла». Лукашенко подкрутил ус. Порошенко и тот скрывал за напускной строгостью неизвестно что. Нежность, что ли? Такова была сила подлинной любви, товарищи!
– Идем? – предложила-продолжила Люция Батудолаевна.
И они оба шагнули в наше общее будущее.
Светлое? Темное?
Да кто ж это знает, кроме Бога?
9 апреля – 24 августа 2016 годаИрина Муравьева Как мой дед взял Зимний
Оле
Я пошла в первый класс. Жизнь наступила ужасная. На одном уроке учительница Вера Васильна, рыжая и огромная, с ярко начерненными бровями, ударила меня кулаком по руке, и на ней осталось большое красное пятно. На другом я тихо описалась, но звук оказался таким беспощадным, как будто скатился какой-нибудь Терек. Это было не в самый первый день, то есть не первого сентября, а может быть, пятого или шестого, но ужасная жизнь началась сразу же, как только дети сложили свои астры и георгины, завернутые в газеты, на стол посреди вестибюля. Меня оторвало от бабули, прижало лицом в чей-то круглый затылок, и, ставши вдруг частью испуганной гусеницы из маленьких ног и бантов, я взобралась на второй этаж, где очень приятно пахло масляной краской, которая напомнила то, как в начале лета красили пол на даче. Я обрадовалась этому запаху, как, наверное, какие-нибудь узники в своих крепостях радуются, если на их зарешеченное окошко вспорхнет вдруг случайная птичка.
Тогда я, впрочем, ничего не знала ни о крепостях, ни об узниках. Я, если честно признаться, мало что знала о жизни, кроме того, что есть зима, когда волокнисто вздымается снег и каждая снежинка вспыхивает под светом уличного фонаря, и есть еще лето, когда мы гуляем в лесу и рвем в нем ромашки. В моей прежней жизни тоже были, конечно, сильные переживания и громкие восторги, но меня не били кулаками по руке, и я ни разу не слышала слова «строимся». Тем более я знать не знала о том, что была революция. О царе я, правда, слышала, но только из сказок, и не успела обратить на него должного внимания, потому что женственное с самого младенчества сознание мое было целиком поглощено царицами и царевнами. Первого сентября выяснилось, что был царь, который так издевался над простыми людьми, что все эти люди собрались вместе, схватили в руки красные флаги (и ружья, конечно, схватили!) и свергли царя. Что такое «свергли», я сразу поняла: он спал на перине, и тут его «свергли».
К ноябрьским праздникам моя беспечная душа окончательно омрачилась. Каждая вспыхивающая под светом уличного фонаря снежинка покраснела, потому что в школе постоянно говорили о крови. Кровь эта, как выяснилось, бурлила буквально повсюду: солдаты проливали кровь за Родину, революционеры боролись до последней капли крови, буржуи и помещики пили кровь из народа, и все, что я по своей наивности прежде принимала за летние цветы и ягоды, было результатом все той же невиданной крови: «Не зря мы кровью нашей окрасили поля: цветет – что день, то краше – Советская земля!»
То, что дома от меня скрывали самую главную правду и я ничего не знала о том, что царя «свергли», а целых семь лет все каталась на санках да в темном лесу собирала букеты, вызвало во мне испуг. Нужно было срочно исправлять жизнь. Менять ее так, как теченье реки меняют строительством грозной плотины. Мы жили в деревянном доме. Квартира была коммунальной. У нас было две смежных комнаты, а в двух других, тоже смежных, жила очень высокая, с огромною грудью и темным венком из косы тетя Катя, «отбившая», как говорили, себе дядю Сашу, который ей был по плечо и к тому же татарин. Я тогда не знала, что есть разные народы и национальности, а думала, что «татарин» – это то же самое, что дворник. Дядя Саша был дворником и, пока тетя Катя не «отбила» его, скреб своей лопатой наш тихий переулок. Потом она его «отбила», и он стал работать на заводе. В доме напротив, тоже деревянном, жила моя подруга Алка Воронина. У Алки Ворониной была мать, работник торговли, и бабушка-пьяница. До школы мы не очень знали друг друга, потому что меня растили неправильно и, как говорила учительница Вера Васильна, «не готовили к жизни», но теперь, оказавшись в одном и том же первом «А», мы с Алкой сдружились, и она торчала у нас до самого вечера. К тому же и к маме ее ходил «хахаль», которому Алка мешала. Я думала, что «хахаль» – это клоун с рыжими волосами, и не понимала, зачем он к ней ходит, но Алка сказала, что «хахаль» – мужик, и я успокоилась. Перед самыми каникулами Вера Васильна наконец подробно объяснила, как было дело: царь и его слуги спрятались в Зимнем, огромном дворце в Ленинграде, где их охраняла вся царская армия, но, как только с крейсера «Аврора» раздался залп, революционные солдаты и матросы ворвались в огромный дворец, и Зимний был «взят». В доказательство того, что в ее словах – все правда, Вера Васильна, смаргивая ресницами слезы, показала нам картину «Штурм Зимнего». Картина произвела на меня оглушительное впечатление. Люди с винтовками бежали прямо в огонь. Орали при этом так громко, что даже и мне было слышно. Картина дымилась, сверкала: на ней брали Зимний.
Ночью я проснулась. Мирный ноябрьский снежок шелушился на крыше высокого каменного дома, который было хорошо видно из моего окна. Свет ночника мягко золотил старинную акварель, где в нежных кудрях молодая красотка смеялась смущенно, лукаво, испуганно. Еще был ковер над кроватью: лиса, несущая в горы какую-то курицу. А если бы Зимний не взяли так вовремя, то нас никого бы здесь не было. Слезы подступили к моему горлу, и горячая соленая вода залила лицо. Я с трудом удержалась от рыданий, но что-то сверкнуло в моей голове. Такое прекрасное, светлое, сильное, что я моментально заснула от счастья.
Назавтра наступили каникулы. Алка Воронина пришла к нам обедать и с гордостью сообщила, что у них гости: к хахалю приехали брат с женой и друг, с которым хахаль служил в армии. Теперь все «гуляют». У нас было тихо. Красотка в кудрях, тетя Катя в переднике. Тетя Катя была строга, «гулять» не любила сама и дяде Саше не позволяла. Однако пекла пироги и варила холодец, поглядывая на портрет Сталина, украсивший общую кухню. Мы с Алкой сидели на подоконнике, поджав под себя ноги, и смотрели на улицу. Внутри ослепительно ясного снега шатались какие-то пьяные.
– Мне главное, чтобы мать снова пить не начала, – рассуждала Алка. – Тетя Таня говорит: «Если мать снова пить начнет, я тебя к себе заберу, не дам тебе помереть».
Алкина жизнь была полна опасностей, дни ее, в отличие от моих, были яркими и свежими: то хахаль, то гости, то пьют, то гуляют. Теперь: «помереть не дадут».
Тогда я решилась.
– Пойдем, – прошептала я Алке, спрыгивая с подоконника. – Я тебе одну вещь расскажу.
В маленькой комнате спала домработница, в большой лежала на диване бабуля и читала. Папы дома не было. Фотографии умерших мамы и деда висели на стенах.
– Куда пойдем?
– Пойдем на кухню, – приказала я. – Здесь не могу.
На кухне сидел дядя Саша и парил в ведре ярко-красные ноги. Обычно он делал это по вечерам, но сегодня, по случаю наступившего праздника, начал прямо днем, не дождавшись, пока закатится солнце. В руках у дяди Саши была газета, которую он громко читал вслух по слогам. Мы с Алкой попили воды из-под крана.
– Пошли в уборную, – сказала я. – Там никого нет.
Уборная была самым теплым в квартире и очень уютным местом. Стены ее, выкрашенные в темно-зеленую краску, располагали к задумчивости.
– Алка! – прошептала я. – Мой дедушка взял Зимний дворец!
Алка открыла рот и ахнула:
– Когда?
– Как – когда? В октябре!
– Откуда ты знаешь?
– Он сам мне сказал. Перед смертью.
Алка горячо заплакала и обняла меня. Я тоже заплакала.
– Чего ж ты молчала? Сказала бы Вере Васильне!
Я всей душой верила, что мой дед взял Зимний, и это его я узнала в одном из бегущих вчера на картине. Конечно, тот, слева. А может быть, справа.
– Он был героем-революционером, – дрожащими губами уточнила я, и сердце ударило в самое горло. – Он жизнь свою отдал борьбе.
Мощная ладонь тети Кати хлопнула по двери:
– Чего там заперлись?
– Сейчас! Погодите! – и я отмахнулась.
– Гони их, Катюша, – солидно сказал дядя Саша. – Они уже час там сидят.
– Перед самой смертью, – задыхаясь и торопливо сглатывая слезы, продолжала я, – он подозвал меня к себе и сказал, что взял тогда Зимний дворец.
– А бабушка знает?
– Наверное, нет. Он сказал: «никому».
– Да что вы там? Ай обоссались? – спросила сквозь дверь тетя Катя.
Она любила меня и терпеть не могла Алку, которая, будучи дочкой «гулящей», могла научить меня ужас чему.
– Катюша, я тоже хочу в туалет, – сказал дядя Саша, любивший слова покрасивей. – Гони их оттуда взашей.
Мы вышли. Тетя Катя всплеснула голыми руками в муке:
– Так что ж вы тут делали?
Ночью я не могла заснуть. Тело пылало под одеялом, а память восстанавливала минуту, как дед (тут перед глазами возникала некоторая путаница между моим настоящим дедом, высоким, худым, серебристо-небритым, и этим матросом, который был слева!) подозвал меня к своей кровати и повторил все, что вчера рассказала чернобровая Вера Васильна, тыкая указкой в картину. Утром оказалось, что у меня температура, и я проболела не только каникулы, но целых три дня после этих каникул.
Когда я за руку с бабулей вошла в школьный вестибюль, оба наших класса, «А» и «Б», были уже построены и развернуты лицами к лестнице. Бабуля приготовилась извиняться, но Вера Васильна, вся разрумянившись, шагнула навстречу, как будто бы мы принесли ей подарки.
– Иди скорей, стройся! – сказала она и расправила брови.
На перемене Вера Васильна подошла ко мне:
– Панкратова!
Мы с Алкой гуляли по коридору.
– Воронина, погуляй одна! – сказала Вера Васильна. – Панкратова, иди за мной!
В пустом классе были открыты форточки: помещение проветривали, и пахло немного бензином и снегом.
– Твой дедушка был революционером? – волнуясь, спросила она.
Я покраснела так, что школьное платье прилипло к спине.
– Да, был. Он взял Зимний дворец.
Большое лицо Веры Васильны пошло пятнами, похожими на гроздья рябины.
– Панкратова! Что же ты раньше молчала? Твой дед был героем. Теперь весь наш класс будет этим гордиться.
Глаза ее увлажнились, и она быстро погладила меня по голове.
После уроков Вера Васильна, расталкивая учеников и родителей, протиснулась к бабуле, ждущей на лавочке в вестибюле с моей шубой и валенками на коленях. Бабуля испуганно приподнялась.
– Мы узнали, что ваш муж принимал участие в штурме Зимнего дворца, – сказала Вера Васильна, схватив сильными пальцами ее руку.
Бабуля выронила валенки.
– Ваша внучка рассказала об этом своей подруге Ворониной, а Воронина рассказала мне.
Тот страх, который сковал бабулю, был вряд ли подвластен словам. Но опыт всей прожитой жизни был равен наставшему страху. Она усмехнулась:
– Болтушка какая! Вот хвастаться любит!
– Какое же тут хвастовство? Ведь этим же нужно гордиться!
– А мы ей всегда говорим, – не чувствуя губ, языка, неба, рук и мелко дрожа, отвечала бабуля, – что каждый лишь сам за себя отвечает и нужно своими заслугами жить. За спину другого не прятаться.
– Но если в семье есть герой?
– Ах, что тут такого? У нас вокруг много героев.
– Так я расскажу на линейке ребятам? – полувопросительно сказала Вера Васильна.
– Вы знаете, лучше не нужно! Когда это было! Воды утекло! – Бабуля махнула рукой. – А ей привыкать к хвастовству! Она вон и так ни уроки не учит, ни книг не читает. Скажу ей: «Посуду помой» – не желает! А тут и вообще ведь от рук отобьется! Нет, очень прошу вас, не нужно!
Бабуля повела меня домой, ухватив за воротник и даже не взяв у меня портфеля, который волочился за нами по снегу. Дома она села на стул и расплакалась.
– Господи! – заговорила она сквозь слезы, глядя на висевшие по стенам фотографии. – Господи! Ты меня слышишь? Набитая дура растет! Взяли Зимний!
Владимир Березин День революции (Нежность)
Они лежали на холодной ноябрьской земле и ждали сигнала. Солнце, казалось, раздумывало – показаться из-за кромки леса или не вставать вовсе.
Володя смотрел на ту сторону канала, за границу Заповедника, через панорамный прицел, снятый много лет назад с подбитого транспортера. Карл лежал рядом на спине, тыкая палочкой в нутро старинного коммуникатора.
Наконец по тропинке между холмов показался усиленный наряд пограничников. Один шел впереди, а двое, тащившие пулемет и контейнеры с пайком, шагали, отстав на три шага. Пограничники ходко миновали распадок и, лишь немного снизив скорость, начали подниматься на сопку.
Граница охранялась людьми только днем, ночью же здесь было царство роботов. Но этой ночью китаец и индус пробили защиту, поэтому наряд уже ждали на вершине сопки.
Еще пятнадцать минут, и спутник снова глянет сюда равнодушным глазом, пятнадцать минут – вот что у них есть. Они ползли к этому часу не три километра, как кому-то показалось бы, а три года.
* * *
Все началось с Карла. Он попал в Заповедник не так давно.
Тогда все сбежались смотреть на немцев, которых пригнали большой партией, – одни мальчишки, девочек не было. И вот товарищ Викентий, Вика Железнов, привел к ним в барак Карла. Сначала на него смотрели свысока – новососланных не любили, у них было превосходство людей, выросших в обществе технологий. Такие мальчики часто были не приспособлены к простому труду и искали кнопки управления на обычных предметах вроде ножа или лопаты. Однако Карл сразу стал наравне с другими заготавливать топливо и безропотно носил воду в пластиковых канистрах. Тогда Володе было, впрочем, не до него – в тот день он познакомился с Таней-англичанкой и через час после знакомства пошел за ней в рощу. У него ничего не получилось – и этот позор казался важнее всей революционной борьбы.
Только через несколько месяцев, внимательно присмотревшись к соседу, Володя понял, какая горит в глазах Карла священная ненависть.
Однажды немец запел в бараке – причем задолго до подъема. Товарищи ворочались во сне, а Карл тихо выводил:
Dann ziehn die Moorsoldaten Nicht mehr mit dem Spaten ins Moor!– Что это значит? – спросил Володя, и Карл стал пересказывать слова. Это была песня про Заповедник, про эти места, где, куда ни кинешь взгляд, топь и пустошь вокруг, где птицы не поют, а деревья не растут и где они копают торф лопатами. Где периметр закрыт и колонна по утру выйдет на развод, а потом потянется хвостом, и каждый будет думать о родителях и теплом куске хлеба, и не обнять никого, и шаг за периметр – смерть, но надежда горит красным огнем целеуказателя, и однажды они шагнут за периметр и скажут «Здравствуй!» тому, другому, миру.
– Только мы можем переплавить ненависть в любовь, и этот процесс называется «нежность». Нежность – вот что спасет мир, – шепотом сказал Карл. Рядом кашляли во сне другие мальчики, и слова звучали странно.
– Нежность? – Володя не верил в нежность. Он уже знал, во что превращается человек после нескольких лет Заповедника.
Во время Большого Восстания они поймали охранника. Несколько товарищей опознали его – хотя охранник переоделся и номер на груди был подлинным.
Его опознала Таня, которую он водил в казарму, и еще двое – те, кто видел, как он убивал. Охранника били по очереди, и, умирая, он вдруг стал страшно улыбаться разбитым ртом с черными провалами вместо зубов. Володя встретился с ним взглядом и понял, чему рад умирающий. «Вы такие же, как мы, – шептали разбитые губы. – Значит, все правильно, вы такие же, и, значит, моей вины ни в чем нет».
Потом пришли каратели, и уже сами восставшие в своих оранжевых комбинезонах корчились на бетонных полах.
Володе тогда повезло – он бы погиб со всеми, кто пошел на казармы «Аркада», лег бы у этих арок, выщербленных пулями. Ему было одиннадцать лет, но брали и таких – все дело в том, что он заболел и остался в бараке. Именно поэтому он остался в живых, и его даже не подвергли санации. Но зависть к тем, кто участвовал, не оставляла его. Штурм казарм «Аркада» помнили все в Заповеднике. После этого упростили режим, оранжевый цвет формы сменился коричневым, и теперь порядок поддерживали они сами. Торфяная масса уходила по транспортеру, а раз в неделю периметр пересекал состав с продовольствием.
Осталось главное правило – Заповедник был свободен от сетевых коммуникаций. Ни одного устройства с кнопками, ни одного процессора на его территории не было – так, по крайней мере, считалось.
* * *
Наутро Володя собрал друзей, и они выучили слова немецкой песни. Коричневая колонна жителей Заповедника теперь уходила на работу под ее скрытую ярость. Не вдумываясь особо в смысл, они горланили:
Auf und nieder gehn die Posten, Keiner, keiner, kann hindurch. Flucht wird nur das Leben kosten, Vierfach ist umzäunt die Burg.Песня клокотала в каждом горле, и движения сами собой делались плавными и сильными, как во сне.
Как во сне или в детстве.
Володя плохо помнил свое детство – горячий бок домашнего водогрейного агрегата, какие-то консервы удивительного вкуса… И темная улица, по которой уходил отец на завод. Он доводил его до угла, а дальше их дороги разделялись. Володя торопился в школу, а отца подбирал заводской автобус. Потом все кончилось.
Они не попрощались тогда – только мигнул и погас фонарь, отразившись в витрине аптеки.
Наверное, это был такой же стылый ноябрьский день, когда пришел сигнал.
Детские сны о прошлом давно стали в Заповеднике валютой – их воровали, ими обменивались. И кое-кто начинал рассказывать чужую историю, уже веря, что это случилось с ним. Каждый помнил что-то свое, и у всех воспоминания были детские, рваные, многие и вовсе сами придумывали себе прошлое в Большом Мире, хотя родились в Заповеднике.
А пока по ночам у них шла учеба – все только дивились, как поставили дело сосланные немцы. Занятия часто превращались в споры – вплоть до мордобоя, – чтобы наутро все снова встретились друзьями. Вернее – товарищами.
Карл, как судья, обычно сидел молча. Меньше его говорил только напарник Дуна индус Мохандас. Мохандас держался особняком. Первый компьютер он увидел в пятнадцать лет, два года назад. Но жизнь всегда твердила ему: «Нет, ты индус, и оттого компьютер – твой ручной зверек». Тогда Мохандас начал учиться и с помощью странных мнемонических правил запоминал команды и коды. Напарника-китайца Мохандас не любил, находя в нем излишнюю жестокость. Китайцы, о которых он знал и которых он видел, делились на жестоких и не очень. Вторых Мохандас считал конфуцианцами, а вот первые его просто пугали. Он помнил истории о том, как китайские императоры отдавали осужденных детям. И не было мучительнее казни, потому что дети еще не знают разницы между добром и злом.
Когда Мохандас увидел Большое Восстание и то, как подростки ловят своих охранников, он перестал верить в существование конфуцианцев. А вот дети были тут везде. Но его дело было укромное, машинное – и именно его извращенная логика помогала решить неразрешимые, казалось, тайные задачи Заповедника.
Из старожилов Заповедника в спорах задавали тон два брата. Ося и Лева были близнецами, но при этом совершенно непохожими.
Лева яростно сверкал очками:
– Можно прожить еще четверть века – и ничего не изменится. Ничего, кроме того, что мы потеряем силу. Мы протухнем, сопреем и сами превратимся в торф.
– А не протухнет ли сама идея?
Тогда Володя отшутился, сострил, но толку от этого было мало. Сомнения оставались. Особенно тревожны они были ночью: все было понятно до того момента, пока не будет взят контроль над Сетью. Но что потом? Одно было ясно: Большой Мир должен быть спасен, даже если он будет сопротивляться.
– Буржуа превращались в придатки своих компьютеров, – кричал в ночном сумраке Лева, а Карл молчаливо кивал. – Буржуа редко выходят из дома. Они, по сути, труба, соединяющая линию доставки и канализацию. Гражданский мир убивает человека. – Нервно ходил на горле кадык, и Лева хватал себя ладонями за шею, чтобы не дать ему вырваться на волю. – Когда у настоящего гражданина, подлинного гражданина, рождается ребенок, то он убит уже в первую минуту своей жизни, потому что он станет таким же придатком, как и родители.
Высший акт любви – это убить убийцу. Спасти идущих нам вслед, и тогда… тогда наступит эра нежности. Нашим ровесникам мы не нужны – они уже отравлены. А вот те, кто родится сегодня или через месяц, еще испытают нежную заботу революции.
– А победив дракона, не превратимся ли мы сами в зверя в чешуе? – мрачно спрашивал Володя, но Ося обычно в этот момент показывал ему кулак.
– Граждане не сделают ничего: они привязаны к своей виртуальной реальности. Вот если им вырубить Сеть, то они выйдут на улицы, – говорил Лева.
– А зачем нам эта масса люмпенов?
– Люмпены вымостят нам дорогу своими телами.
– А зачем нам дорога? – возражал Железнов. – Пусть сидят по домам. Пока они не выходят из своих квартир, мы их можем просто сократить в нашем политическом уравнении. Они не нужны нам и не могут нам помешать.
– Но потом мы все равно лишим их этого замкнутого уютного мира, и они выйдут на улицы… – В воздухе, как гроза, вызревало какое-то решение, компромисс, но Володя все равно не до конца понимал его.
– Мы перехватим контроль над Сетью и погасим их медленно, – вступила Таня. – Это будет нежное насилие – ведь они должны умереть просто для того, чтобы не отравить будущие поколения.
– Новая революция – это движение электронов. Они – власть, – сурово говорил Вика Железнов, которого Карл уже называл просто Викжель.
– Не электроны… Автоматический стрелковый комплекс рождает власть! – Это был уже китаец Дун.
– Да, но сумеем ли мы ее удержать?
– Это не наша забота, поверь, Володя, – отвечал Викжель. – Мы останемся навеки восемнадцатилетними.
Викжелю Володя верил, потому что и он и Володя были среди пятерых, знавших тайну. Только пять человек в Заповеднике знали, что аппаратура из казарм «Аркада» вовсе не превратилась в горелый пластик и что спутниковая станция связи ждала своего часа.
А накануне этого ноябрьского утра, посередине ночи, этот час пробил, электрический петух клюнул в темечко старый мир и разнес его вдребезги.
Теперь это все кончится – кончится холод торфяных болот, и кончится старый мир, убивающий души. Зима не бывает вечной.
Главной в их деле была одновременность – и она проявилась в ночном писке почтовой программы. Китаец Дун вылез из своей норы – в глазах у него еще мерцал свет компьютерных экранов – и сказал, что их ждут за периметром.
Они отрыли ружья и выдвинулись к каналу. За ним, в Большом Мире, тоже начиналась эра возвращения нежности, но именно они станут главной деталью в этом, взрывателем в бомбе, пружиной в часах революции. Они выходят в Большой Мир, о котором так много спорили по ночам в бараках.
* * *
Старший пограничного наряда вдруг остановился. Володя в свой панорамный прицел хорошо видел, как он взмахнул руками, а потом беззвучно упали его подчиненные. Володя оторвался от прицела:
– Пора, товарищи…
За ним начали подниматься ожившие кусты – отряхивался от веток передовой отряд. Они были на острие атаки, и Володя бежал впереди всех – молча, экономя дыхание. Лодки, брошенные в ледяную рябь канала, стремительно надувались, и вот первый боец ступил на другой берег. Чужие машины уносили их по трассе – туда, откуда уже невозможно вернуться в Заповедник.
Отряды разошлись веером, принимая город, что стоял на болотах, в мягкие и нежные лапы. Сервера, подстанции, антенны – вот что нужно контролировать. Вчера было рано, завтра будет поздно.
Володя представлял себе, как это было сто лет назад, – тогда революцию здесь делали такие же, как он, и тоже, наверное, тряслись по этой улице в своих танках. Интересно, сколько у них было вертолетов?
Он помнил наизусть страницы учебников по тактике, которые попадали в Заповедник, но теперь все было по-настоящему – и неожиданно.
Скоротечный бой у самой цели привел к тому, что они потеряли транспорт и остаток пути проделали пешком.
Снега не было. Только холодный колючий ветер вдоль улицы парусил куртки и рвал заледеневшее оружие из рук. В их группе осталась всего дюжина бойцов, но выбирать задание не приходилось.
Викжель развел мосты, и пути в центр города у полицейской Дивизии особого назначения уже не было. Серверный центр ждал их, как огромный мрачный зверь, притаившийся в засаде. И они быстро шли по пустой улице, и наконец тепловизор показал, что спецназ впереди, прямо у входа. План казарм с точками – огневыми постами. Точки вспыхивали, пульсировали, по голограмме ползли буковки сообщений.
Революция начиналась – в эфирном треске, щелчках и писке электроники.
Отряд на мгновение сбавил ход, но тогда Карл вдруг вытащил коммуникатор, воткнул шнур в динамик и запел на своем языке. Язык знал не всякий, но всякий знал слова этой песни, наполнившей улицу:
Wacht auf, Verdammte dieser Erde, die stets man noch zum Hungern zwingt! Das Recht wie Glut im Kraterherde nun mit Macht zum Durchbruch dringt. Reinen Tisch macht mit dem Bedraenger! Heer der Sklaven, wache auf! Ein nichts zu sein, tragt es nicht laenger Alles zu werden, stroemt zuhauf!Динамик, болтавшийся на шее, хрипел и дребезжал, но слова подхватили, каждый на своем языке: «Это есть наш последний», – вторил им Володя. Они пробежали по обледеневшему асфальту перекресток и рванулись ко входу в Серверный центр. Осталось совсем немного, но тут на улицу выкатился полицейский броневик и хлестнул пулями по отряду.
Карл споткнулся и, зажав слова Эжена Потье в зубах, как край бинта, рухнул с полного шага на асфальт.
«Главное – не останавливаться, – кося глазом, подумал Володя. – Власти нет, есть воля к нежности и счастью других». Цель – ничто, движение – все, и он видел, как разбегаются полицейские, будто чуя их ярость.
Кто-то сзади еще закончил последний куплет, и они с разбегу вломились в здание. Теперь их было одиннадцать. Хрустя битым стеклом, они разбежались по залам, выставили в окна стволы, а индуса с китайцем отправили в недра компьютерного подвала, в царство проводов и кристаллической памяти.
Володя и Таня устроились в комнате неизвестного отдела, постелив на пол какие-то плакаты со счастливыми семьями. Матери и дети тупо глядели в потолок, предъявляя кому-то сберегательные сертификаты на счастливое будущее. Бумажным людям было невдомек, что счастливое будущее рождалось сейчас, среди бетонной крошки и осколков оконного стекла.
Наступила неожиданная тишина, и даже – неожиданно долгая тишина. Старый мир не торопился воевать с ними, а может, Дун и его индийский друг уже сделали свое дело.
Володя задремал и проснулся оттого, что его гладила по плечу Таня.
– Что, началось?
– Нет, пока все спокойно. Я о другом: как ты думаешь, мы продержимся две недели?
– Если мы даже продержимся один день, то все равно войдем в историю.
– Это будет история новой любви. Любви, очищенной от прагматики и технологии, – настоящей, а не электронной. – Она дышала ему в ухо, и было немного смешно и щекотно.
Володя взял ее за руку и потянул к себе, но только Таня склонилась над ним, стены дрогнули.
По пустой улице к ним катилось прогнившее буржуазное государство. Полицейский броневик плюнул огнем, повертел зеленой головой и снова спрятался за углом.
Что-то было знакомым в пейзаже. Ах да – на углу была аптека, и зеленый крест светился в сумерках.
«Надо было послать ребят, чтобы запаслись там чем-нибудь… – запоздало подумал Володя. – Но врача у нас все равно нет, придется выбирать самое простое».
Цепочка полицейских приближалась. Вдруг сверкнуло белым, и Володю отбросило к стене. Это в соседней комнате разорвалась ракета.
Когда Володя разлепил глаза, тонкая пыль висела в комнате и окружающее плыло перед глазами в совершенной тишине. Таня лежала рядом, смотря в потолок и улыбаясь – точь-в-точь как девушки на рекламных плакатах. Только у Тани на лице застыла улыбка, а куртка набухла кровью.
Таня ушла куда-то, и лежащее рядом тело уже не было ею. Настоящая Таня ушла, ушла и унесла с собой всю нежность.
Запищал коммуникатор. Это Дун торопился сказать, что Сеть под контролем и теперь можно уходить. Но как раз в этот момент Володя понял, что можно не торопиться. Коммуникатор попискивал, сообщая о том, что революция живет и город охвачен огнем. Они взяли электронную власть в свои руки, а значит, через несколько дней им подчинится и любая другая.
Торфяная жижа поднялась, и болота неотвратимо наступают на бездушный старый мир. Володя представлял, как тысячи таких же, как он, ловят сейчас в прицел полицейский спецназ. И каждый выстрел приближает тот час, когда нежность затопит землю.
– Уходи, Дун, уходите все. Мы сделали свое дело. Все как тогда, сто лет назад. Мы взяли коммуникации и терминалы, и теперь революцию не остановить.
Володя раздвинул сошки стрелкового комплекса и посмотрел через прицел на наступавших. Те залегли за припаркованным автомобилем. Запустив баллистическую программу, он открыл огонь. Сначала он убил офицера, а потом зажег броневик. Зеленый крест аптеки давно разлетелся вдребезги.
Теперь и фонарь, освещавший внутренность комнаты, брызнул осколками.
Его накрыла темнота, но было поздно. Полицейский снайпер попал ему в бок, стало нестерпимо холодно. Очень хотелось, чтобы кто-то приласкал, погладил по голове, прощаясь, как давным-давно прощался с ним отец, стыдившийся своих чувств.
Но это можно было перетерпеть, ведь революция продолжалась.
Она и была – вместо всего несбывшегося – высшая точка нежности.
Ольга Брейнингер Deep Communism Time[4]
06:59
Обычно, когда Троцкий просыпался, он чувствовал себя полным сил, собранным и готовым к новым делам. Но сегодня ему показалось, будто он и во сне всю ночь продолжал прокручивать вчерашнее собрание: как товарищ Сталин шла по проходу между потрепанными синими креслами из дешевого бархата и плотное васильковое сукно ее костюма сияло на фоне одних и тех же, одних и тех же стертых лиц, которые старели, пока их идеи оставались вечно молодыми. Он вспомнил изгиб ее бедра, когда она прошла мимо него, обдавая запахом будущего, и мимолетное, но сбивающее с ног, сбивчивое и задыхающееся чувство того, что, может быть, не все потеряно, может быть, они всю жизнь были на верном пути, может быть…
Товарищу Сталину было тридцать пять. У нее были ровные, блестящие белые зубы – Троцкий сразу это разглядел, когда она читала доклад, потому что сам, со своими желтыми корешками, прежде всего всегда глядел собеседнику на зубы. Он отметил породистую осанку, крупные плечи и очень сложное лицо, которое нельзя было растолковать с одного взгляда. Большие синие глаза, наивные, как у типичной Машеньки, но при этом – жесткие скулы и высокий лоб в темной рамке волос. И самое главное – четкая, как скобка в машинописи, складка у губ и взгляд – такой высокомерный, что им всем здесь сразу стало не по себе. Здесь сидели те, кто боролся за коммунизм десятки лет; присутствовали те, кто жил им сотню и больше; и вот она, наглая молодая женщина, а для них – вообще девчонка, соплюха, стояла на сцене, и от нее веяло всем тем, что они сделать не смогли. «Тогда, – подумал Троцкий, – тогда не смогли, а сейчас сможем». Ему стало интересно, как вышло так, что ей распределили имя Сталина. Скорее всего, случайно. А может, от такой же, как сейчас в зале, злобы к молодым, и комитет имен просто хотел посмотреть, как она справится с наследием Кобы. В партии, и он это знал, и ничего не мог с этим поделать, все меньше и меньше любили молодых. Хотя он и сам их недолюбливал в последнее время. Они были чужие, они были опасные, они все хотели делать иначе. И эта была одной из них. «Товарищ Сталин, надо же», – повторил про себя Троцкий. Впрочем, что девчонке не досталась память Сталина, он был уверен. Их, вместе с ним, было всего пятеро, и он знал каждого.
07:00
It is deep communism, deep communism, deep communism time. It is deep communism, just go for it, just go baby, be mine Deep communism, I wanna rock’n’squeeze it I wanna sing it all night/I am so high Deep communism, deep communism, deep communism Big time!Вождь взял в руки телефон и, впервые за всю жизнь отключив будильник, не сел рывком на кровати, не ткнул ноги в теплые тапочки, не схватился жадно за новости, которые на его веку ему доставляли газетами, записками, шепотом, письмами, телеграммами, звонками в ноль семь ноль один, имейлами или сообщениями по вотсаппу. Они становились быстрее и эффективнее день ото дня, они умели найти его, где бы он ни был, они проникали в его жизнь быстрее, чем он просыпался, и сейчас на его телефоне уже горело тридцать шесть срочных строчек. Троцкий целую минуту вертел телефон и рассматривал свои руки, пытаясь понять, как это работает. Не так уж он и любил утренние новости. Потом, спохватившись, нащупал нить привычных жестов. Мысль о том, что делать со Сталиным, все еще тревожила его. Вчера он почувствовал вызов, а Троцкий был уже слишком стар, чтобы любить вызовы. Он хотел вывести коммунизм из подполья и спокойно уйти на трансмиссию. Но сначала надо было завершить дело, на которое был способен только он.
Троцкий вспомнил, ради чего он год за годом делает зарубки на спрятанном в верхнем правом ящике его стола ледорубе, и ослабевшие руки дернулись в поисках былой жесткости и прочности. Ему было чем гордиться в жизни, и даже наедине с собой он не собирался об этом забывать. Надо от нее избавиться, подумал он.
07:01
В последние годы российские газеты заставляли его хмуриться. Не то чтобы то, что происходило там, дома, каким-то образом их касалось, но вся эта кутерьма могла привлечь случайное внимание к их делу, а это было бы лишним. Троцкий так и не понял до конца, что такое глубокий интернет, но ему нравилось думать о глубоком коммунизме – запрятанном в недра людского невежества и веры в свободу, прикрытом тщательно сымитированным поражением и никогда не дремлющем. Интернет же больше вызывал опасения: ему казалось, и Шмель никак не мог его переубедить, что кто угодно может однажды наткнуться на их тайную жизнь – пусть даже случайно, как путник, заблудившийся в лесу и вышедший попутной тропинкой к скелету пустой деревни, населенной призраками. Он понимал, что такая махина – по сути, целая страна – не может существовать в безвоздушном пространстве и что они волей-неволей оставляют, как мухи следы на зеркале, свои контуры, как на рентгене, в этой неосязаемой реальности, которая для них в чем-то была и важнее, и реальнее настоящей. Но все-таки он был человеком старой закалки, и он знал, что нельзя разоблачить только то, что не существует. Троцкий любил их коммунизм и ничего на свете не боялся так, как случайной ошибки. За долгие годы работы у них было немного проколов, но каждый из них стоил дорого. Один раз его разбудил тревожный ночной звонок от Шмеля, и с тех пор Троцкий так и не научился переживать и отпускать мгновенную страшную мысль при звонке: все пропало. Эти невидимые поиски, глаза, глаза, глаза повсюду – так Троцкий жил в последний год, и в припадках страха ему все время казалось, что их видят все и что все, что они так тщательно строили, больше не работает.
Шмель продолжал говорить, что не нужно беспокоиться, но Троцкий не знал наверняка, доверяет ли Шмелю. У того было очень асимметричное лицо, и Троцкий никогда не знал, какая половина его улыбки настоящая.
07:02
Наглющая девчонка, опять подумал Троцкий, надо же, отчитываясь по своему сектору, ввернула про Припять, Саудовскую Аравию и сброс цен на нефть. Упоминание «саудовского броска», величайшего момента в жизни Кобы, на секунду заставило его, как и всегда, вспыхнуть от гордости за прошлое и странного чувства, которое, как он считал, можно было расценивать как счастье. Но Троцкий даже перед самим собой стеснялся быть счастливым и ненавидел это учащенное сердцебиение слабаков и мямлей. Доблесть, сострадание, гордость и удовлетворение чувством выполненного долга – вот набор благородных чувств, которые он принимал и которыми объяснял все, за что мог хвалить себя и других. Счастье в их число не входило, и Троцкий ненавидел счастливых людей. Счастье было эгоистичным, низким переживанием индивидуалистов и людей с недостаточным интеллектом, не способных на высокие чувства.
Тем не менее вспышка приятных чувств при воспоминаниях о восемьдесят пятом чуть не отвлекла его от главного: девчонка явно зарывалась, хотя он и не мог понять, как именно она это делает. Старики в президиуме переглядывались, а Хрущев с Дауге яростно шептались и рубили друг другу воздух ладонями в лицо. Ну конечно, они вывели все и спрятали в Припяти – самое подходящее для этого место, черт побери. Они не планировали этого, они не хотели Чернобыля, они были ни при чем. Если кто-то это знал наверняка, то это был именно он, Троцкий. Так она и говорила. Но внутри него зудел червячок сомнения – ему казалось, что она все это читает, посматривая на него, как бы спрашивая: вы видите, что я вижу, где вранье? Вы видите, как я улыбаюсь прямо здесь и сейчас, когда читаю это?
Да нет же, дура, Чернобыль и правда был случайностью, покрылся по́том Троцкий. Больше того, что их разоблачат, он боялся только, что люди ошибочно свяжут очевидное с очевидным и будут считать, что они на самом деле устроили Чернобыль. Да они такого даже представить не могли, краешком глаза! Захватить чужую микространу – да. Просочиться в ее структуры, «посадить» ее на свои нужды, изображать чужую жизнь – да. Так они жили уже двадцать пять лет, имитируя бывшую жизнь мелкого европейского королевства Лонтадо и продолжая под этим прикрытием работать на свое великое дело. Разыграть гамбит с Саудовской Аравией – могли. Отдать на съедение страну, которая предала их идеи, – могли. Бежать, сделать вид, что исчезли, вывести все золотовалютные запасы, наблюдать спокойно за тем, как гибнет их бывшая родина, – могли. Но Чернобыль – нет, не могли. А товарищ Сталин все как будто намекала на это. Или ему это только казалось?
Сейчас он был склонен думать, что все-таки показалось. Но вчера он был возмущен, и параноидальный страх снова начал душить его. Если все пропадет, винить будет некого. Хотя их было много тогда, в девяносто первом, все знали, что именно он, Троцкий, все спас. Долгие годы насмешек и издевок, тянувшиеся за ним, остались за захлопнутыми дверями, когда они отказались от России, как от чужого ребенка, и бросили ее выбираться из этого шторма самостоятельно. А сами – выжили. И все это время глубокого коммунизма они, идея, дело – все держалось, как на железном штыре, на нем и его дерзкой и абсолютно гениальной идее.
07:03
Троцкий знал, что он и такие, как он – в глубине души, – все равно что религиозные фанатики. Про себя он знал это, еще когда был ребенком и зачитывался книгами о пророках и мучениках и о революционерах – потому что, в сущности, это было одно и то же. Когда мама, устало накручивая на бигуди выскользнувший локон, заходила к нему и гнала спать, он послушно отворачивался к стенке и делал вид, что засыпает, долго-долго лежал, то и дело щипая себя, чтобы не заснуть, а потом под одеялом, при свете карманного фонарика, который он купил в киоске около школы, погружался в настоящие миры, которые совсем не были похожи на женщин, похожих на одуванчики, с пушистыми от химический завивки короткими волосами, герань на подоконнике, которой он стыдился, и плетеные крючком кружевные салфетки на полках, которые воплощали в себе, как сгущенное молоко, все, что он в жизни знал и видел. В настоящих мирах люди страдали и умирали, боролись, держались до конца, и иногда все-таки побеждали, но так, что эта победа стоила ста поражений.
Когда Троцкий вошел в тот возраст, когда отчаянно хотелось казаться старше, он задался было вопросом: любили ли эти люди кого-то, кроме своих идей, ну и своего народа? По книгам, казалось ему, они должны были уметь любить, но вроде, как всегда, на втором месте, – и Троцкий понял, что, значит, так делают великие люди. С того момента и всегда, когда Троцкий любил женщин, он старался не любить их всем сердцем, а если вдруг в одну секунду ему казалось, что вот он сейчас забудется, он представлял себя окровавленные, изуродованные тела посреди поля битвы и неживые уже руки, продолжающие сжимать древко знамени в посмертном завещании, – видения, почерпнутые когда-то из глав про французскую буржуазную революцию в учебнике истории. Так хотел жить и он. В ночи, засыпая, он трогал свернутый узким рулоном кончик одеяла, представляя и свои руки на древке под кровавым куском тяжелой ткани.
Временами это казалось сложнее, чем он хотел. Почти во все моменты жизни он чувствовал себя одиноким. Отчаянно, страшно одиноким. Он не знал, оттого ли это, что он рожден был таким, или оттого, что человек в принципе обречен на пожизненное одиночество. Когда он видел товарищей, которые находили партнеров и объединялись, чтобы быть вместе, он одновременно и завидовал им, и не доверял. Снаружи такие пары иногда смотрелись как слаженный механизм, и Троцкий завидовал тому, как они были вместе днем, и тому, как они, должно быть, были вместе ночью. Но он все время спрашивал себя: а так ли это? Так ли им хорошо, как он представляет, или им просто однажды понравилось быть вместе, а теперь они не знают, как с этим покончить?
У него самого проблем с этим не бывало. Троцкий пользовался двумя фразами – «извини, но этого было достаточно» для одного типа женщин и «извини, но мне больше с тобой неинтересно» для тех, с кем он оставался дольше, но потом отчаянно начинал скучать. Проблема с женщинами была в том, что они как бы хотели оплести его, замедлить его, принудительно занять его собой – а он был слишком занят, чтобы считать это сколько-нибудь важным и нужным.
Та, одна, с которой было расстаться сложнее всего, очень долго была рядом, вплоть до самого переворота, когда неожиданно и она стала как все. Товарищ Куравлева (она всю жизнь оставалась просто Куравлева: особые имена выдавались за достижения, и к партийцам низшего ранга обращались по фамилиям) была очень умной, да и вообще из всех женщин лучше всего подходила, чтобы иногда проводить с ней дни в совместной работе и периодически и ночи как дополнение, или наоборот. Иногда он ловил себя на мысли, что ему нравится, очнувшись ночью, наугад ткнуться губами в ее шею перед тем, как снова провалиться в теплую тьму сна.
Они были вместе нечасто, но долго, и многое из того, что она ему нашептывала, помогало становиться тем, кем он хотел стать. Он ненавидел об этом думать, но на самом деле он многим был обязан товарищу Галине Куравлевой. Потому что тогда, в самом начале, он четко понимал, что тысячи других – лучше его, умнее и бойче. В юные годы он ничем не выделялся среди однопартийцев и вообще не выделялся ничем. Только его терпение и абсолютная преданность делу понемногу продвигали его, как пешку среди комбинаций других фигур, то вперед, то вроде бы не туда, куда хотелось, но на важные позиции, и всегда – туда, где нужны были надежные люди.
Смешно сказать, но вначале, еще до знакомства с Куравлевой, он больше всего боялся, что основным препятствием на пути к величию будут его кривые зубы. Поэтому, когда они начали разворачивать будущее дело глубокого коммунизма и он приезжал говорить в полупустые комнаты на несуществующие засекреченные объекты, вкладывая всю душу в слова, которые ему казались такими важными, и всегда улыбаясь, он специально вытягивал губы в ровную полосочку, такую, что уголки даже не поднимались и от нее по коже не пробегали полукружия морщинок. Он понимал, что эта улыбка выглядит неискренней, но это было лучшее, что он мог себе позволить. И Троцкий утешал себя тем, что и сам он человек серьезный и шутить не любил; он как бы давал понять, что улыбается только из вежливости. И проигрывал. Они любили тех, которые были на экране и которым было наплевать на них, а спокойного невысокого мужчину с плохими зубами, который говорил им, что всех продали и предали и что нужно все спасать, пока не поздно, любить было сложно. И еще они смеялись над ним. Троцкий хорошо помнил то время. Потом у него появилась Куравлева, и он понял, что если его зубы не смущают такую умную женщину, то, значит, он все-таки способен на большее.
Еще в самом начале Куравлева подарила ему ледоруб и сказала: отмечай на нем каждый год своего восхождения. И он начал это делать, и продолжал до сих пор.
Потом Троцкий обнаружил, что между ним и великим делом стоит гораздо более серьезное препятствие. Оказалось, что у него не было обаяния. Харизмы, как стали говорить много позже. Начисто, ноль. Он был незаменим, он умел просчитать самые сложные комбинации, он умел все то, о чем другие даже не могли мечтать, потому что они не представляли, что это возможно, но за его словами никто не хотел идти: он был настолько плоским, что Брежневу на экране готовы были верить больше, чем ему. А он не умел убеждать, потому что совершенно не умел понимать людей. Люди, даже самые близкие к нему, представлялись ему единой массой, делившейся на тела, лица, рты и идеи. Почему одни выбирали одни идеи, а другие – другие, было для него загадкой. И тогда Галина тоже очень пригодилась ему. Она советовала, когда подождать, а когда не останавливаться. По его рассказам она как-то умела угадывать намерения и слабости других людей, а дальше он делал нужные расчеты и, находя правильные ходы, продолжал подниматься выше и выше. Именно тогда он потерял имя и фамилию и стал просто Троцким. На тот момент это было главным его достижением и гордостью – но когда он получил великое имя, он понял: будет больше. Он сделает больше. В тот вечер он углубил зарубку, которую поставил на древке ледоруба в свой последний день рождения. Этот год он решил считать началом истории вождя.
Годы с восемьдесят пятого по девяносто первый были периодом его непрекращающегося, блистательного триумфа. Он был никем в семидесятые, когда сгруппировавшиеся недовольные, начинающие формировать свою фракцию внутри проевших свои мечты и свою честь псевдокоммунистов, посылали на передовую интриг других людей. Почти никем в начале восьмидесятых, потому что все, что он придумывал, продолжали разыгрывать за него другие, вечно оставляя его на скамейке запасных.
Но Троцкий был упрям, и когда огромный корабль пошел на дно со всем, во что он и его фракция еще верили, он единственный нашел способ, как его спасти. И те, кто не захотел идти за его словами, пошли за его идеями. Это Троцкий придумал, как вывести деньги. Это Троцкий создал несуществующую страну. Это Троцкий ждал годами нужного шанса. Это Троцкий оказался тем, кто способен возглавить глубокий коммунизм: человеком, который умеет молча и терпеливо подпиливать опоры системы изнутри, чтобы, когда все рухнет, увести свой народ в другое место.
Когда они уходили в девяносто первом, он не чувствовал ни горести, ни разочарования, ни тоски. Страна, в которой прошло его счастливое, ничем не замутненное среднеазиатское детство; страна, которая отправила его учиться в остроносое здание на Воробьевых горах; страна, земля которой впитала и поглотила без остатка кровь погибших братьев, сестер, детей, родителей и мечтаний, была для него теперь сродни аппендиксу, от которого надо срочно избавиться на хирургическом столе, чтобы идти дальше. Он улетал последним самолетом, и когда все заняли свои места и пристегнулись ремнями под хлюпанье и прячущиеся под большими клетчатыми носовыми платками рыдания, ни рядом с ним, ни на соседних рядах никого не было. Он летел во главе самолета, а вся остальная группа сбилась в хвосте, как стая испуганных щенят. За несколько часов полета, когда они постепенно перестали дрожать и хрипеть слезами, они понемногу подобрались к нему, и когда самолет приземлился в Лонтадо, Троцкий вышел из него, снова окруженный группой верных партийцев в серых костюмах. Каждого из тех, кто хлюпал тогда в самолете, он помнил поименно и в лицо. У него была очень хорошая память.
За время полета он только один раз подумал про Куравлеву – он звал ее с собой, ожидая, что она пойдет за ним, как это должно было быть. Но она вдруг заупрямилась и проявила себя глупой женщиной.
За два дня до отъезда она прорвалась к нему в кабинет. Он давно ее не видел и отметил, что она подурнела. У нее был землистый цвет лица и нездоровый румянец. Наверное, она запыхалась, поднимаясь по лестнице, и прядка распушившихся волос упала ей на лоб. Она резко выдохнула, чтобы сдуть прядку с лица – она так часто делала, и эта привычка раньше не раздражала его, а теперь показалась глупой. Троцкий уже знал, что она зачем-то хочет остаться в России. Галина подошла к его столу и протянула своей пухлой рукой, с кольцом на безымянном пальце, которое однажды купила и надела сама, измятый лист бумаги.
– Товарищ Троцкий, я остаюсь в России.
– Товарищ Куравлева, – ответил он, – документы для этого составлять не обязательно. Хотите – оставайтесь.
– Троцкий, я хотела объясниться, – вспыхнула она, – я думаю, что…
– Объяснимся в другой раз, – сказал он ей тогда, потому что не хотел говорить ничего другого.
Они уже объяснялись, и он решительно не мог понять, зачем она оперирует такими словами, как «родина» или «дом». Дело не в земле, пытался объяснить ей Троцкий, а в идее. Идея коммунизма – это и есть наш дом. Общество, которое у нас не получилось создать, но которое мы создадим, – это наш дом. А это – гиблая страна, крыса, обратившаяся против своего хозяина. Галине не хватило чего-то, что нужно было, чтобы это понять, и она выглядела разочарованной. Троцкий тоже был разочарован.
Товарищ Куравлева оставила документ и ушла. Они провели вместе больше десяти лет, и Троцкий нередко – потом и сейчас – вспоминал о ней, но больше с ноткой разочарования и удивления, что так долго считал ее подобной себе. Впрочем, он помнил все, что она для него сделала, и считал себя благодарным.
Прошло больше года, пока они окончательно освоились на новом месте, и Лонтадо, оставшийся прежним снаружи, стал похож на их бывший дом изнутри. Троцкий многое оставил неизменным, чтобы не забывать, что эта крохотная, блестящая, как музыкальная шкатулка, страна – временное пристанище. Он так же спал на железной односпальной кровати, так же проводил все переговоры за столом с зеленым сукном и так же держал в верхнем правом ящике стола старый ледоруб, израненный счетом лет. Одни зарубки на нем были глубже, другие – совсем поверхностные. Так Троцкий отмечал годы, когда он сделал для глубокого коммунизма то, что был должен, и годы, когда он подвел себя и свой народ.
Вождь так и не поправил себе зубы. В несуществующей стране ему не нужно было мельтешить на экране; те, кто его видел, видели в нем только великого лидера; а он сам, смотря на свое отражение в зеркале, видел в своей невыдающейся внешности признаки выдающегося и всепобеждающего духа.
07:04
Он опять отвлекся, сбился и сам поймал себя на этой мысли. Ему нужно было решить, что делать со Сталиным, а он мешкал и со вчерашнего дня так и не принял решение; и он был недоволен собой. Потому что в последнее время он чувствовал, что начинает терять связь с реальностью, со временем, с верой в то, в чем он и представить не мог засомневаться. Он поймал себя на том, что стал испытывать брезгливое чувство осторожности. Он боялся ошибиться, боялся не попасть, не распознать с полувзгляда. Может быть, именно поэтому, протягивая руку за газетами, он временами начинал паниковать, не зная, обострится ли сегодня его чувство неполноценности или успокоится. Троцкий больше не готов был решать дела мира в три счета и всегда знать, как не дать всему пойти на дно. Иногда ему становилось легче, а иногда он снова остро ощущал, что время уходит из его рук, а он не успевает за ним.
И самое страшное – в нем стала появляться жалость, жалость к другим и, что еще хуже, к себе – чувство, которого он никогда не знал. А цену себе Троцкий знал хорошо, всегда, с самого начала. Это помогло ему не зазнаться, не сломаться и терпеливо ждать долгие годы, пока не придет момент взять всю ответственность на себя.
Он знал, что нужно делать. Нужно было еще вчера набрать Луну, поговорить с ним о результатах собрания и небрежно бросить:
– Ты знаешь, вчера мне очень не понравилось выступление товарища Сталина.
Но он медлил. В конце концов, стал он себя убеждать, их слишком мало, чтобы разбрасываться людьми, а задачи слишком велики, особенно велики сейчас, чтобы выбирать так придирчиво. До тех пор, пока никто не может проболтаться – а проболтаться не может никто, об этом они позаботились, – все было хорошо. Но в глубине души Троцкий знал, кто она такая. Он не мог объяснить как, но он чувствовал, чувствовал тем самым математическим, сверхъестественным, гениальным чутьем, которое сделало его тем, чем он был: что она может погубить их всех.
В маленьком герметичном сообществе, объединенном целью построить настоящий коммунизм, не могло быть ни одного человека, в ком он мог серьезно сомневаться. Конечно, среди них были глупцы, попутчики и прочая шантрапа, но на эту мелочь было плевать. Все они делали только то, что можно было делать, и общий поток, набирая вес и силу и за счет этих бессмысленных людей, продолжал нести их к нужному финалу. Но Сталин не была из их числа.
Он снова взялся за телефон и вспомнил, как она выглядела вчера. Он знал, что такие плечи, как у Сталина, у них, у русских, принято сравнивать с Элен Безуховой, и хмыкнул. Элен Безухова была избалованной аристократической идиоткой, исключительно точно придуманной Толстым, а товарищ Сталин – совершенным результатом генетического отбора и трансмиссии памяти коммунистов нескольких поколений. Он мог посмотреть ее файлы и узнать, чья память была перенесена в ее угловатую, упрямую голову, – но не стал. В конце концов, все их дети были неумершими, воскресшими героями, и каждый из них благодаря трансмиссии памяти нес в себе лучших людей, что коммунизм дал миру за целое столетие. Никто не был потерян, никто не был забыт. Это было великое общество, о котором никто не знал и которое готовилось вот-вот появиться на мировой арене. Он спас его, разжег полузатухшее пламя и превратил, как ему казалось, в непобедимое оружие.
07:05
Он переставил будильник на десять минут и снова опустился на подушку. «Еще десять минут», – подумал он. Такое с ним было впервые. Троцкий очень сильно устал, и в его голове было слишком много мыслей.
07:15
Через десять минут он сел на кровати, вызвал Луну и прямо и четко сказал, что нужно сделать.
07:15
Луна сидел в своем кабинете, который несильно отличался от того, к чему он привык десятки лет назад. Маленькая серая комната с несколькими столами, больше похожими на школьные парты, где в обеденный перерыв вечно толклись лишние люди, а он сам иногда оставался спать на продавленном диване в углу, потому что дома его никто не ждал. Кроме того, он привык быть на службе и в семь утра, и в одиннадцать вечера, и хотя он был доступен в любое время ночи, по утрам, готовясь начать рабочий день, он садился за свой огромный стол и любовно протирал от пыли трубку старого, уже не работающего кнопочного телефона. По сравнению с огромным зданием, напичканным стальной и белоснежной техникой, где днем и ночью его подчиненные, собиравшие информацию, гудели в опенспейсе, как огромной улей, кабинет Луны был больше похож на сторожку или на заброшенную проходную, которой перестали пользоваться с тех пор, как всю корпорацию перевели на карточки с чипами. Луна это знал, и это его нисколько не смущало. Наоборот, ему нравилось, что всех этих продвинутых и модных умников, которые даже мир видели сквозь пиксельную призму, он заставлял приходить, садиться перед ним на старый кожаный стул и смотреть, как он наливает себе чай и доливает в него коньяк из фляжки. Они с Троцким были из одного теста.
Луна ждал звонка и, дождавшись, вздохнул с облегчением. Наконец-то. Вчера, когда вождь никак не отреагировал на выходки той деревенской девчонки, Луна был готов подумать, что… но он не успел подумать что, потому что достаточно долго это оттягивал, чтобы дождаться звонка.
Отличие их коммунизма от старого коммунизма было в том, что они никогда не причиняли людям зла, как бы те ни мешали общему будущему. Они не убивали, не изгоняли, не ссылали и не убирали в подполье. Единственное, что они могли сделать, – забрать у заблудившегося и поэтому опасного товарища то, что ему и не принадлежало по праву, превратив снова в обычного, рядового человека, – память, которую каждый партиец получал после процедуры трансмиссии от деятелей прошлого. Так и Сталина нужно было превратить в обычную попутчицу, изъяв у нее память. Луна открыл ее досье, чтобы посмотреть, чья память была передана этой женщине. Как и Троцкого, его еще накануне заинтересовало ее имя: гордое имя Сталин не доставалось людям случайно. Обычно это было или наградой за большие достижения, или запланированным экспериментом.
Но, как он и ожидал, память у нее была от какого-то малоизвестного третьестепенного деятеля. Примечательного в девчонке было только то, что она была из последнего поколения подростков, спешно переведенных в Лонтадо в девяносто первом из последней подпольной советской шарашки, о которой не знал даже сам Горбачев. Некоторым из них тогда дали громкие имена, чтобы поощрить в разлуке с родителями. Кстати, Луна открыл детские файлы, может, он знал ее родителей?
Когда Луна прочитал, как ее звали до трансмиссии, у него затряслись руки.
* * *
В любую минуту теперь он мог потерять все, что у него было, потерять память и сам стать простейшей амебой-попутчиком. Потому что в детстве девчонку звали Елена Куравлева. Дочь вождя от той пухлой женщины, которая не захотела уехать с ним и осталась в России.
Луна не глядя налил и опрокинул граненый. На секунду он было подумал, что вождь проверяет его, – но тотчас отказался от этой мысли. Ведь он всегда был правой рукой Троцкого, подумал Луна, самым приближенным, самым верным членом партии, и он решительно не мог поверить, что вождь может сомневаться в нем. Они пережили вместе многое, но Луне никогда не было страшно, он никогда не боялся репрессий: в любой момент жизни, заглянув себе в душу, он мог с удовлетворением признать, что чист как стеклышко.
Успокоившись немного, он подумал: Троцкий не может знать, что это его дочь. Откуда бы ему было знать? Если бы девчонке в свое время действительно хотели вживить память Сталина, то тогда бы ее дело попало к вождю на утверждение и он бы узнал, что в Лонтадо привезли девочку по имени Елена Куравлева. Но, кроме звучного имени, она была всего лишь одной из – одной из тех детей, которых в спешке утащили в мир глубокого коммунизма, забрав их из семей ненадежных людей, разочаровавших партию. И ни вождю, ни кому другому до нее не было ровным счетом никакого дела.
* * *
А может, это вообще не дочь Троцкого. И уж совершенно точно это не его, Луны, дело. Правильнее всего было бы сейчас поднять трубку, отрапортовать вождю и сделать так, как он решит.
Но именно сейчас, впервые в своей кристально честной жизни, человек, которого когда-то звали Дмитрий Королев, узнал, что такое сомнение. Потому что он помнил, что прождал звонка вождя весь вечер и всю ночь. Потому что вождь должен был отдать приказ сразу после собрания, но почему-то медлил. Луна не хотел этого признавать, но он хорошо видел: вождь старел. Троцкий сопротивлялся и отрицал это, он каждый день и каждую минуту делал вид, что он – все тот же человек, что спасал дело коммунизма в тысяча девятьсот девяносто первом. И все-таки за столько лет даже его титанические плечи дрогнули, и Луна видел, что последние месяцы даются последнему атланту коммунизма с трудом. А его, Луны, главной задачей было помочь Троцкому завершить общее дело, к которому они стремились столько лет. Поэтому он аккуратно вывел свою резолюцию в деле товарища Сталина и бросил ее папку в коробку с надписью «Исходящие документы».
12:00
В начале обеденного перерыва Троцкий всегда выходил на балкон. Ему безразличны были миленькие кукольные виды, открывавшиеся с террасы, и почти так же безразличны крохотные люди, которые скользили внизу, нарезая траектории своих малозначительных жизней. Он выходил на балкон, чтобы прохладный воздух, обдав его свежестью, помог ему выстроить в уме все, что он успел сделать за прошедшие полдня, мысленно выровнять в столбик принятые решения и подвести под ними черту. То же самое он делал ровно в семь часов вечера, изо дня в день последнюю четверть века.
Сегодня он принял только правильные решения. Глаза Троцкого, когда он отчеркивал для себя полуденную черту дня, горели неугасаемым, яростным пламенем. Глубокий коммунизм готовился восстать ото сна.
Ольга Погодина-Кузмина Гибель Надежды
Проснувшись однажды утром после беспокойного сна, писатель Мухобойников обнаружил, что он у себя в постели превратился в Надежду Константиновну Крупскую. На его груди появились две гигантские выпуклости, обтянутые несвежей трикотажной майкой, а между ног разверзлась зияющая бездна. Но неизмеримо ужаснейшая пропасть леденила смертным сквозняком из той части сознания, где поселился фантом мыслящей вдовы коммунистического вождя.
Мухобойников видел комнату, оклеенную желтыми обоями, служившую ему спальней и рабочим кабинетом. Стол, заваленный черновиками незаконченного романа – в Союзе писателей Мухобойников проходил по секции прозы, – занимал свое привычное место у окна. Из кухни слышались звуки и голоса. Дочь и жена о чем-то спорили, подвывала резиновая прокладка в старом кране, в железной мойке клацали ложки. Очевидно, весь мир оставался прежним, а необъяснимым изменениям подверглась только личность самого Мухобойникова.
Чтобы отогнать наваждение, он прибегнул к испытанному способу: закрыл глаза и постарался задремать, чтобы заново очнуться в образе самого себя. За сорок семь лет более-менее творческой деятельности он успел привыкнуть к своему естеству. Конечно, он бы не отказался, подобно Фаусту, променять себя нынешнего на кипящую страстями и подверженную соблазнам обновленную версию. В целях писательского эксперимента мог рассмотреть и возможность обмена телами с рыжеволосой вакханкой в тесной суконной юбке, в очках и в упругом бюстгальтере модели «Анжелика» – этот тип женщин до сих пор казался ему притягательным. Но очутиться в облике базедовой старухи со спутанным революционным сознанием – это было слишком даже для производителя фантастики, что уж говорить о Мухобойникове, имевшем негромкую славу психолога и вдумчивого описателя внутренней жизни.
Он и в самом деле задремал, проснулся же от мысли, что сказки Чуковского архивредны для детей и подлежат запрету. Перебирая список дел на утро, он напомнил себе записать несколько важных пунктов о недостатках педагогической системы Антона Макаренко для журнала «Красная новь», и на лбу его выступил холодный пот.
Ощупывая свое тело тонкими и слабыми руками, Мухобойников натыкался на складки жира, внезапные провалы и утолщения в самых неожиданных местах. Это не было сном. Надежда Крупская с удобством разместилась в его теле с явным намерением потеснить, а то и выкинуть хозяина вон.
В комнату кто-то вошел, спертый воздух спальни наполнился кухонными запахами. Мухобойников скорчился под одеялом, обеими руками обнимая тестообразные груди. Прошелестели шаги. Со скрипом отворилась дверца шкафа. Дочь тихо выругалась, вытягивая из кома одежды какой-то необходимый ей предмет.
«Интересно, что она скажет, когда узнает?» – подумал Мухобойников о своем новом состоянии. Возможно, ощутит брезгливость и даже стыд за бывшего отца. Ведь если он превратился в Крупскую, значит, его уже нельзя считать отцом даже формально, и это в какой-то мере отменяет связывающие их обстоятельства кровного родства. Впрочем, вероятнее всего, после первого недоумения на лице дочери изобразится обыкновенная скука.
Когда, захлопнув шкаф, дочь вышла из комнаты, Мухобойников приподнял одеяло и попытался оглядеть вновь обретенное естество. Ничего, кроме бесконечного отвращения, это зрелище не вызывало. А ведь когда-то, меланхолично вспомнил он, находилось немало ценителей ее неброской, зеленоглазой, «петербуржской» красоты. Владимир поначалу ухаживал за ее подругой Аполлинарией Якубовой, но обвенчался с ней, с Надеждой. В ссылке, в Сибири, вдруг обнаружил в своей жене – молчаливой, бесцветной, всем обликом напоминающей белесую рыбу – кипящий огонь.
Она жила воспоминаниями, лелеяла и питала их, как детей, так и не родившихся в этом огненном союзе. Пробуждением самых бытовых подробностей молодой жизни в Шушенском, в Женеве, в Лонжюмо начинался теперь каждый ее божий день.
«И все же нужно вставать, – подумал Мухобойников. – Нужно работать. Утро – на разгром ошибочных теорий Макаренко. После обеда – выступление в коммуне ВСЕКОХУДОЖНИКА. Нужно ехать. Посмотреть, чем живет новая молодежь».
Захотелось в ванную, но Мухобойников-Крупская частью своего сознания еще помнил, что женат и что жена его как раз собирается на работу и лучше дождаться ее ухода. Ее всегдашняя раздражительность по утрам вскипала мощней и чаще, чем вечерами, после утомительного дня в редакции корпоративной газеты железнодорожной компании.
Продолжая ощупывать себя под одеялом, Мухобойников думал: «Да, но ведь должен же быть в этом превращении какой-то смысл? Высшая цель?» Что, если сознание Крупской дано ему, писателю, для разумного освещения потемок противоположной души? Как поэт Евтушенко ездил дорогами БАМа до Чарских песков или действующий глава страны в батискафе «Мир» погружался на дно мистического озера Байкал, так и Мухобойников теперь совершал экспедицию в дебри женской природы. Не пробуждение ли это доселе неизведанного писательского метода?
«Гоголь сражался с чертом. Бабель воевал с Конной армией. Шаламов мучился в ГУЛАГе. А я отныне обречен на муки жизни в несвежем, раздутом болезнью женском теле. Вот так, в простых вещах, проявляется высший замысел. Вдруг этот опыт послужит созданию поколенческой поэмы в прозе, о чем мечталось в юности?»
Мысль о страданиях в чужой телесной оболочке невольно повлекла за собой и размышления о преимуществах женского естества над мужским. Мухобойников знал, что женщины живут дольше, им не страшны импотенция и рак предстательной железы. Он думал о том, как податливо и отзывчиво женское тело, вспоминая молоденькую полногрудую поэтессу, с которой у него восемь лет назад случился однодневный головокружительный роман. Одновременно с этим он видел постель в крестьянской избе, укрытую вышитым подзором. На кровати лежал и улыбался ему рано, чуть не в двадцать лет полысевший Владимир, к которому так и приклеилась партийная кличка «Старик». Как же естественно сочетались в нем гениальность и детская ребячливость! Надежде почему-то вспомнилось и то, как по приезде в Шушенское, убрав хозяйские иконы, она расставляла на деревянной полке томики Пушкина, Лермонтова, Некрасова, привезенные с собою в Сибирь.
Те молодые годы рядом с мужем проходили перед глазами как один светлый и радостный день, хотя они были полны опасностей, лишений, самоотверженного труда. Сейчас и не представить, какой огромный объем работы она вела, вникая в проблематику каждой статьи, каждого письма, поступавшего от товарищей и оппонентов. Одновременно успевала править его рукописи, публиковать собственные статьи по женскому вопросу и политэкономии. «Вы, Наденька, фантастически работоспособны», – говорили ей еще в марксистском кружке. Днем давала уроки, вечером слушала лекции по марксизму. Ночами, переодевшись ткачихой, раздавала партийную газету в рабочем общежитии.
А что теперь? Болезнь обезобразила ее, старость и одиночество душили ночными слезами, и собственная смерть, как и гибель великого замысла, была неотвратима, а в голове мешались назойливые мысли какого-то заштатного писаки. Надежда Константиновна мысленно прихлопнула Мухобойникова томиком Гегеля, всегда лежащим под рукой, и усилием воли усадила свое грузное тело, а затем и поднялась с кровати.
Ноздри щекотал уютный деревенский запах – в кухне готовились говяжьи почки. Проскочив мимо кухни, Мухобойников шмыгнул в ванную комнату и быстро защелкнул замок.
Встав перед зеркалом, он распахнул халат.
Безобразие Крупской все же не было лишено некоей царственной значительности. В чертах одутловатого лица проступало явное сходство с престарелой королевой Викторией. Обвислые щеки и выпученные глаза Надежды заставляли вспомнить партийные клички: Рыба, Минога. Волосы, цветом и видом напоминающие осадок на дне стакана с зубными щетками, наводили на мысли о тайных пороках – разумеется, безосновательно. На глупости у нее никогда не было времени. Ежегодно пишется более сотни статей и заметок, принимаются и отправляются мешки почтовых писем, идут заседания и выступления. Архитектурные концепции школ и детских садов, учебные программы и методички для педагогов, диктовка секретарям воспоминаний – ни минуты для себя, все для будущего, для потомков. Фантастическая работоспособность.
В дверь ванной стукнули кулаком.
– Опять он читает на горшке! – Жена, по обыкновению, обращалась к Мухобойникову в третьем лице. – Конечно, куда ему спешить? Ему на работу не надо!
– Я работаю дома! – так же привычно возмутился Мухобойников.
Звук собственного голоса, резкий и пронзительный, словно крик неизвестной птицы, удивил его и напугал.
Жена продолжала требовательно колотить кулаком в дверь:
– Ты выйдешь, наконец? Мне нужна моя косметичка!
Мухобойников вспомнил, что вчера они рассорились из-за пустяка – зашел спор о применении нового глагола «опедагогаживать». Сегодняшний повод для ссоры представлялся более весомым, но выхода не было. Виновато вжав голову в плечи и запахнув обеими руками ворот махрового халата, Мухобойников выскочил в коридор. Жена даже не взглянула в его сторону, зашла в ванную и закрыла дверь.
Мухобойников юркнул в кухню. Заглянул под крышку сковороды. Жареная почка, похожая на размокший войлочный тапок, булькала в серой подливе. Пятнадцать лет назад в отпуске по уходу за ребенком жена защитила диссертацию по теме «Прагматика английских поговорок в романе Джеймса Джойса «Улисс» и с тех пор имела пристрастие к требухе и ливерным колбасам.
Для самого Мухобойникова готовили рыбные блюда. И теперь в эмалированной кастрюле, облепленная хлопьями пены, как древняя богиня Афродита, плавала большая рыбья голова. Белесым глазом она смотрела на Мухобойникова. В который раз за это утро он ощутил приступ безысходной тоски. «Что, если я так и останусь Крупской до скончания дней?»
Жена в прихожей надевала плащ. Она крикнула Мухобойникову:
– Довари суп! И сними мой лифчик, совсем стал как баба.
Мухобойников не раз слышал этот упрек, но почему-то сегодня почувствовал себя задетым. Он вышел в коридор и встал перед женой, уперев мощные руки в округлые бока.
– Гражданка, необходимо понимать, что баба, то есть женщина, такой же равноправный член советского общества, в чем-то даже более полезный, чем мужчина. Есть сферы деятельности, в которых женщины находятся в авангарде социалистического строительства. Первичная медицина, педагогика, бухгалтерское дело.
Мухобойников тут же спохватился:
– Конечно, не в литературе. Возможно, в поэзии есть исключения, но в прозе – никогда! Писательство – сугубо мужское занятие, среди великих писателей нет и никогда не будет женщин. Я это всегда повторял и буду повторять, сколько вы меня не убеждайте.
– Я все думаю, на кого ты стал похож? – Жена сплевывала слова задумчиво и брезгливо, как налезших в рот дождевых червей. – На Крупскую. Хоть по телевизору показывай!
Она вышла из квартиры, хлопнув дверью.
Мухобойников отчасти удивился тому, сколь малое впечатление произвело на жену его превращение. Но ум его уже пронзала другая ужасающая мысль. Что, если он прав и женщина не может быть писателем в глубинном, истинном значении этого труда? И он, став женщиной, то есть Крупской, лишается священной привилегии, которая дана ему от рождения и служит оправданием всей жизни – вечному безденежью, отсутствию житейских навыков и стройных перспектив? Ведь это же черт знает что, если задуманная в юности поколенческая поэма в прозе будет написана не им, Юркой Мухобойниковым, а безобразной бабой с толстой жопой и обвислыми сиськами!
Страх был животный, липкий. Как в тот раз, когда ей передали угрозу Сталина: не будешь сидеть тихо, партия назначит вдовой Ильича большевичку Елену Стасову. «Партия все может», – добавил узурпатор.
От страха Мухобойникову захотелось выпить, хотя он неважно переносил спиртное и обычно воздерживался от водки даже на писательских банкетах. В аптечном шкафчике жена, не доверяя импортным лекарствам, держала целебную настойку, изготовленную путем смешивания водки «Московской» с медом и мелко нарезанными зубчиками чеснока. Недавно была заготовлена новая поллитровка взамен истраченной на компрессы и гомеопатическое употребление внутрь.
С бутылкой Мухобойников направился к соседу Францеву, служившему охранником в супермаркете сутки через трое и многократно описанному Мухобойниковым в виде народного типажа.
– Ты, что ли, Мухобой? – уточнил Францев, осторожно приоткрывая дверь. – А я смотрю и не узнаю. Случилось что?
– Случилось, – кивнул Мухобойников и молча показал бутылку.
Сухощавый, долговязый, Францев носил усы подковой, отчего его добродушное лицо казалось унылым даже в минуты искреннего веселья. Они сели за стол в тесной кухне, разлили настойку. Выпили, зажимая носы от крепкого запаха чеснока.
– Францев, я пришел к тебе, чтобы сообщить о неожиданном происшествии, – с долей торжественности произнес писатель Мухобойников, как всякий интеллигент, стремящийся переложить камень со своей души на простую и выносливую народную. – Этой ночью я превратился в Надежду Константиновну Крупскую. Прошу, не нужно шуток, это может случиться с каждым. Хотя до сих пор, кажется, не случалось.
Народный Францев разлил по второй, выпил и хлопнул Мухобойникова по плечу:
– Это ничего. В жизни все бывает! Крупская – тоже человек. Живут же негры, китайцы. А Крупская даже лучше, все же от китайцев нас отделяет разница культур.
Выпили еще. Небогатый Францев достал из холодильника перловую кашу в кастрюльке. Мухобойников не закусывал и быстро пьянел.
– Я писатель! Инженер человеческих душ! Я учился в литературном институте как подающий надежды мальчик из провинции с копной непокорных волос! Тянулся к знаниям, как стройный тополек, талант мой зрел на зависть товарищам! Я опубликовал восемнадцать рассказов, четыре крупных эссе, три эротических романа, взбаламутивших трясину нашего творческого безвременья. А что теперь? Как начинать жизнь заново в сорок шесть лет?
Вместе с тем Мухобойников почему-то представлял, как в женском облике он обворожит престарелых издателей и главредов толстых журналов. Как через их постели внедрится в редакции. История его превращения в Крупскую разлетится в желтой прессе и по федеральным каналам. Он даже начал придумывать броские заголовки к будущим статьям о себе: «Свидетель прошлого», «Возвращение Надежды», «Новый человек». Мухобойников видел себя выступающим с телеэкрана в передаче «Пусть говорят» и «Модный приговор». Да, он не смог добиться славы как писатель, но этот уникальный случай восстановит справедливость. Его романы и сборники рассказов рядами выстроятся на полках книжных магазинов!..
Тщеславные помыслы уже переполняли его мозг, как туберкулезные микобактерии размножаются в питательной среде человеческих легких. Он размышлял:
«Крупный публицист и стихотворец N прикурил папиросу у сторожа на шлюзах Беломорканала и вот – родился памфлет о сталинских репрессиях. А прозаик D выпил пива в ресторане «Жигули» с шофером майора КГБ и наворочал пудовую сагу о советском быте. Сосед по даче антрополог Z напросился к полярникам на ледокол и написал исследование о половой жизни эскимосов с подробными иллюстрациями в частушках. Даже мой друг детства, малоталантливый поэт K, пытался залезть в шасси самолета и улететь без билета в Израиль, о чем и рассказали в передаче «Человек и закон». Издатели раньше бегали от него, а теперь сами бегают за каждой новой книжкой. И в Тель-Авив он уже летает с лекциями за счет Министерства культуры с питанием и проживанием в лучших гостиницах. Какой же триумф ждет меня, человека, который ради литературы решился на доселе невиданный эксперимент?»
Францев жевал холодную кашу. В кухню вошел рыжий кот Лямур. Он уставился на Мухобойникова, понюхал воздух, ощетинился. На его полосатой морде изобразилось крайнее недоумение.
– Чеснок не любит, – в оправдание невежливости кота произнес Францев.
– Можно купить чистой водки, – предложил Мухобойников.
Ему вдруг захотелось напиться допьяна, как в студенческие годы, когда еще застолье не отравляла горечь во рту, давление, колики в печени и мысли о будущем похмелье.
Францев взял на руки кота, отвел глаза.
– Это, Мухобой… без обид. Но я чего-то больше не хочу.
– Ты не думай, у меня заначка есть, пятьсот рублей!
Мухобойников достал из кармана халата деньги, Францев поглядел на сиреневую купюру, пожевал углом рта обвислый ус.
– Понимаешь, как с мужиком я бы с тобой, конечно, выпил. Но как Надежда Крупская ты меня не привлекаешь. А вдруг я захмелею и не смогу контролировать ситуацию? Так что извини.
При взгляде на собутыльника Надежда вспомнила рабочее общежитие на ткацкой фабрике, обращенные к ней измученные народные лица. Лица сливались в толпу – ей вспомнились стачки девятьсот пятого года, толпа у Финляндского вокзала, солдаты, жующие сухой черный хлеб возле печки в особняке балерины Кшесинской.
– Вы, товарищ, рабочий или служащий? – на всякий случай уточнила она.
– Охранник, – убитым голосом ответил Францев.
«Вот оно что! – в сознании Крупской вспыхнула ужасная догадка. – Ко мне приставили НКВД. Что ж, в лагерь? Или сразу расстрел? Нет, он не решится тронуть вдову вождя революции! Или для чудовища нет пределов?»
– Вы не испугаете меня, – проговорила бодро. – Я проходила допросы царской охранки, была казначеем организации в Уфе. В эмиграции вела всю черновую работу – конспиративные сношения, шифровки, транспорт. Организация съездов и конференций партии, редактура печатных изданий! Я сделала для революции не меньше, чем Ильич! Ваш НКВД не посмеет предъявить мне обвинений!
– Я охранник в супермаркете, Надежда Константиновна, – уточнил Францев. – Это такой большой магазин, где продается все подряд. Носки, помидоры, телевизоры, мороженая рыба.
– Я не знаю такого магазина в советской Москве. – Крупская оглядывала Францева с подозрением.
– Так ведь мы и не в советской Москве, – вздохнул сосед, поглаживая кота. – Советский Союз распался в тысяча девятьсот девяносто первом году.
Повисла пауза. Мухобойников предпринял попытку возвратиться в собственное сознание и втемяшить сумасшедшей старухе, что на дворе не тридцать девятый, а две тысячи семнадцатый год и пролетариат со своим вождем, и Макаренко, и пионерская организация, и весь СССР давно ухнули в тартарары.
– Который нынче год? – уточнила старуха.
– Две тысячи семнадцатый, – ответил Францев.
– Коммунизм победил во всем мире?
Охранник вздохнул сокрушенно:
– Нет, Надежда Константиновна. Победил мировой капитализм.
Кот взвыл, выдергивая хвост, придавленный желтой заскорузлой пяткой старухи. Крупская выскочила на улицу. Вокруг нее высились безобразные бетонные коробки – убогая пародия на социалистический рай, на смелые росчерки гениев конструктивизма. Толпа мужчин и женщин, одетых с отвратительным бесстыдством, спешила к стеклянным дверям приземистого здания. Да, это был капитализм!
Надежда ощутила его зловонное дыхание из закусочной, над которой светились латинские буквы. Жуткое иностранное слово иглой вонзилось в уставшее сердце. Оглянувшись, она увидела повсюду чужие, исковерканные буквы на светящихся вывесках. На ухом раздался зловещий хохот. Невидимый голос зазвал ее в хрустальную пещеру под названием «Деньга».
Ради чего же они боролись, истощая силы? В голодном, холодном Кремле, над гробами убитых соратников? Для чего надрывала она нервы и зрение, исполняя роль целого секретариата при муже, ведя переписку, переговоры и переводы? И неужели же это повсюду – деньга, магазины и лавочки, жующие рты, слепящая реклама? И весь этот зловонный ад – на костях миллионов погибших в Гражданской, на трупах голодающих Поволжья и Украины?
Человек будущего, назойливый Мухобойников, как жухлый тепличный росток рядом с мощными секвойями, гигантами прошлых дней, ввинчивался в висок своими скудными мыслишками. Надежда изгнала его.
О боги, боги мои – Маркс, Энгельс, Гегель и Фейербах! Как измельчал человек! Как стали пошлы и глупы его мечты, желания и цели.
Ей вспомнилось самое больное, трепетное – последние недели жизни Ильича. Как она сидела у постели больного и читала вслух Щедрина, читала «Мои университеты» Горького. Стихи.
Особенно вот эти, от которых на глаза наворачивались слезы: «Никогда, никогда коммунары не станут рабами!»
Словно клятва Ильичу, что мы, идущие следом, никогда не отдадим ни одного завоевания революции…
Надежда побежала к приземистому зданию, из дверей которого вытекала толпа бесстыдных женщин и мужчин. «Что у них там? Молельный дом? Храм Мамоны?»
В этом тайном здании, как чувствовала она, находится центр управления оболваненной рабской толпой. Там из людей высасывают кровь и жизненную силу.
Расталкивая выходящих, Надежда вбежала в стеклянный вестибюль под надписью «МЕТРО». Только в метро Мухобойников вспомнил, что на нем домашний махровый халат и тапочки, что он пьян и безумен.
Но в груди его пылал неутолимый жар, как после кремового торта, который был подан ему в санатории на семидесятилетний юбилей. Обострение, перитонит, беспамятство – Надежда Константиновна вернулась в ту минуту, когда в ее сознании зазвучал тоненький жалобный голос: «Надя, дай мне яду! Надя! Мне…»
Мухобойников выставил вперед голое отечное колено, завершавшееся слоновьей голенью, поднял лицо к потолку и всей силой еще мощных ораторских легких выкрикнул в черную массу рабов, проходящих от эскалаторов к дверям:
Нас не сломит нужда, Не согнет нас беда, Рок капризный не властен над нами. Никогда! Никогда! Никогда! Никогда! Коммунары не станут грибами!Наутро на пересечении Ленинского проспекта и улицы Крупской полицейский патруль обнаружил труп человека в домашнем халате. Он лежал на коленях памятника Ильичу, положив голову на бронзовые страницы газеты «Искра».
Молодой полицейский Абдукаххор Ассомиддинов в этот день впервые вышел на дежурство и впервые же увидел памятник Ленину и Крупской. Эти русские имена не говорили ему ровным счетом ничего, но скромно одетая молодая женщина, изображенная в скульптуре, вызвала волнение в его душе. Он подумал о том, что хотел бы взять такую женщину в жены. И с ней, а не с курящими, размалеванными блядями в обтягивающих штанах, которые бесстыдно разгуливали по Москве, он продолжил бы свой род, о древности которого и о своем прямом родстве с династией персидских царей Сасанидов Ассомиддинов даже не догадывался. Через четыре года он привыкнет к московским девушкам и женится на дочери Мухобойникова, которая будет изменять ему с его будущим напарником.
Нынешний же его напарник Бобокул Бободжонов вызвал труповозку и, заметив, как молодой Ассомиддинов разглядывает Крупскую, сказал по-таджикски: «Знаешь, кто это? Урну с ее прахом нес лично товарищ Сталин. А кто понесет урну с нашим прахом?» И Бободжонов тяжело вздохнул.
А душа Мухобойникова, уничтожаясь на лету в ледяном космическом пространстве, посылала далеким планетам последний салют.
Никогда! Никогда!
Никогда! Никогда!
Октябрь 2016 годаГлеб Диденко Братское
За год холерное кладбище выросло вдвое. Много лет оно упиралось в городские поля для выпаса, не смея покуситься на территорию живых, а потом, с городским разрешением, нахлынуло и дотянулось одним из свежих холмов до самой железной дороги.
В первый же год существования его назвали Братским: покойников ссыпали в глубокие рвы, засыпали живой известью. Болезнь пришла с востока, по реке и железной дороге, вспыхнула мгновенно, пронеслась по городу загулявшим в степи смерчем и так же внезапно стихла.
С того времени Федор копал здесь могилы – и с ним другие, переброшенные из-за свалившейся беды с городских кладбищ крепкие пьющие мужики. В общие рвы бросали и тех, кто не мог себе позволить отдельного пристанища: бедняков из Окаянки, Полтавцевки, Гаврюшки. В этих рвах Федор видел и свое будущее.
Первый раз в город двадцатипятилетнего Федора за деньгами с насиженного места погнал неурожай. Семья крестьянина погибла в тот год на пожаре, и он, не выдержав вида пепелища, уехал и прибился к городскому кладбищу. Годы шли, стирали из памяти лица близких, пока вся его прошлая жизнь не стала сплошным слепым пятном.
Квадрат кладбища Федор покидал редко, жил в каморке около покойницкой. Мужик не любил городской, заоградный мир. Как ни выйдешь – каждый норовит обмануть. И обманывали: бывший крестьянин всегда держал в уме случившееся, как притчу. Как-то, в толкотне и давке Нового базара, купил Федор сапоги у хитрого цыгана. Только снял свои, прохудившиеся, надел обновку, прошел квартал – дождь пошел. Наступил в лужу, и на обоих сапогах слетели каблуки. Присмотрелся: бумажные, только слегка кожей сверху обтянуты.
– Да и зачем выходить, – шутил Федор. – Что в городе происходит, то мужики расскажут, а если с кем встретиться хочется – так рано или поздно он все равно тут окажется. Чем важнее событие произойдет – тем больше принесут покойников. И несут все по осени.
И верно думал могильщик. Во втором году на кладбище доставляли рабочих. Перед этим пришел косоглазый Иван, сказал: «Безурядица, бастуют!»
Восемь могил копали до глубокой ночи. В городе объявили военное положение.
* * *
Федор привык к порядку. Длинные ряды холмиков, убери кресты, казались ему похожими на продолговатые линии перепаханного поля. Горечь по крестьянству принесла новую привычку. С магометанской части кладбища были видны сенные ипподрома, и, закидав землей очередную могилу, Федор припадал к ограде, вдыхая запах лошадей и свежего покоса.
Через три года хоронили разом сорок покойников; длинная процессия прошла вдоль христианского кладбища к еврейскому, пристроенному впритык. Слышно было, как кричат неподалеку: «Жидов громят!»
По слухам, которые пересказывали могильщики, евреи напали на русского, избили, разорвали портрет государя, что тот нес. Был сожжен дотла Новый базар, где стояло много еврейских лавочек. Сильный ветер доносил до могил пепел и запах гари.
* * *
В шестом году, в самом начале, на кладбище поступил бывший студент, Максим Прокофьев, отчисленный, как сам он говорил, за неуспешность. Когда мужики начали задирать его, щуплого, Федор вступился. Прокофьев не бравировал грамотностью, вел себя с почтением к возрасту бывалых могильщиков, был хорошо осведомлен о происходящем в городе, приносил газеты, читал неграмотным вслух.
Той же осенью на кладбище состоялась первая казнь. Федор наблюдал за конвоем из-за ограды. Шестерых заключенных вела казачья сотня – несколько всадников впереди, несколько позади. Остановились за кладбищем, поставили столбы, привязали преступников. Федор слышал, как один из привязанных что-то крикнул, но ветер донес до него одно слово – «точнее…». Прогремел выстрел, и за ним долетела, поглотила Федора тишина. На обратном пути к мужику подъехал казак, позвал:
– Хлопец, подмоги закопать кичку. Там один вашенский есть, да не справится он.
Федор дошел до телеги, на которую уже уложили трупы, рядом с ней стоял Прокофьев. Вывезли тела за железную дорогу, к степи.
– Чаво сделали-то оне? – спросил Федор у казака, разминая мышцы.
– Чаво-чаво… Ражбойники. Хлебный обкрали, кашшу унешли, – прожужжал казак, не вынимая трубку изо рта.
– Эскпорприировали, – сказал Максим, до этого молчавший. – Революционеры это.
– А, бунтовщики… – Федор перехватил лопату поудобнее. – Шо не на погост? – снова обратился к сотнику.
Тот был настроен благожелательно, залыбился, вынул трубку.
– Расстрели твою душу! Так чего их, на христианском хоронить? То ж анархисты, они в Бога вовзят не верят. От исповеди отказались. Што неймется людям, приладили бы жисть…
За три часа управились с могилой, спустили трупы. Федор было начал сооружать аккуратный холмик земли, но сотник его остановил:
– Ровняй давай, я тебе не за почести плачу.
Могильщик решил не спорить, грамотей тихо выругался. Казак подвел жеребца, тот потоптался копытами, утрамбовал почву.
Казни стали для окраины порядком вещей. Максим в том же месяце с кладбища ушел.
* * *
Долгие десять лет тянулись с редкими происшествиями. Зимы выдавались все холоднее, лета все жарче. Федора начало мучить здоровье: после долгого рабочего дня кололо в груди, ныли виски. Однако тяжелее копать от этого не становилось. После объявления войны Федор решил, что работы станет больше. Но панихиду по первым жертвам служили в воинской части только через год, весной пятнадцатого. То были эвакуированные с фронта раненые, которых не удалось выходить в госпиталях. В небольшую Вознесенскую церковь набились чиновники, включая городского голову, и военные – выжившие, искалеченные. Федор наблюдал за происходящим издалека, крестясь. Рядом с кладбищем прошел парад. Могилы убрали цветами.
Вскоре после этого на кладбище вернулся Прокофьев – переменившийся. От тонкошеего студента не осталось и следа, в волосах пробивалась седина. Помнили его только Федор да пара старожилов, остальных могильщиков растащило кого куда. Некоторых забрали в армию при мобилизации, некоторые, не выдержав, сами ушли подальше от могил – грузчиками в порт и на железную дорогу. Так что приняли Максима хорошо: старики расспрашивали знакомого, молодые присматривались и проникались уважением. Прокофьев подробно выспрашивал копателей, довольны ли они заработком, не хотят ли перемен. Старожилы молчали, молодые жаловались на тяжесть труда, и под конец беседы Максим почти убедил их создать профсоюз. Федор, почуяв неладное, уточнил:
– Так где ты обретался-то столько времени, молодняк?
– В ссылке, по ложному навету, – строго проговорил Прокофьев.
Федор и косой Иван переглянулись, все понявшие, и выгнали баламута взашей.
* * *
Часто хоронили рабочих после демонстраций, забитых дубинками, закиданных камнями, растоптанных копытами, но особенно запомнился Федору один случай. В шестнадцатом году в городе начался дефицит гвоздей. Торговали ими втридорога, запасы бригады подошли к концу. Тогда-то им и принесли очередного убитого рабочего из профсоюзных. Копали Иван, Федор и пара молодых могильщиков, Степан и Ованес.
– Гвоздей нет, – сказал Степан, – чем крышку прилаживать?
Федор задумался.
– Он же не убежит у тебя никуда. Мотом перехватишь – и хорош. – Могильщик хмуро полез в ящик с инструментами и достал веревку. – На, держи.
Перевязали гроб, опустили. Пока опускали, ходил ходуном, съезжала крышка, через просветы мелькало тело. Жена рабочего билась в рыданиях, причитала:
– Гвоздя, гвоздя не хватило…
Как объяснил потом один из друзей покойника, расплачиваясь с копателями, умерший работал на заводе Самохина, выпускавшем скобяные изделия.
* * *
В первый день марта, только отгуляли февральские морозы, как поползли по кладбищу слухи, что в Петрограде произошла революция. Второго числа на кладбище пришел Прокофьев. Копатели как раз заканчивали свежий крупный ров на два десятка покойников.
– Царизм пал! – прокричал он, пьяно взбежав на холм рыхлой земли, утонув в ней рыжими сапогами по щиколотку. – Да здравствует республика!
Федор и Иван не верили своим ушам.
– Несколько дней назад произошла революция в Петрограде! – гремел Прокофьев. – Местный контрреволюционный элемент скрывает это известие от рабочего народа, но радостная песня уже разлетается по профсоюзам и заводам, сегодня намечены народные гуляния! – Он нахмурился и строго посмотрел на Ивана: – Советую прийти.
Степан в сердцах сорвал фуражку и бросил под ноги.
– Давно пора!
– Что теперича будет… – вздохнул Федор.
– Теперь, товарищи, – Прокофьев обвел взглядом присутствующих, – будете трудиться по восемь часов…
«Работы прибавится», – подумал Федор, но сдержался, промолчал.
* * *
Периодически Прокофьев наведывался на кладбище и проводил с могильщиками беседы. К июню все они уже отличали эсеров от кадетов, большевиков от меньшевиков и буржуев от пролетариев. Главным требованием большевиков агитатор называл прекращение войны. Копатели, насмотревшиеся на похоронный поток раненых – а если столько умирало в госпиталях, сколько осталось безвестными лежать на полях? – это требование поддерживали.
На Дон, по рассказам революционера, вернулся атаман Каледин, воспротивившийся перевороту, собирающий казаков для выступления против новой власти. Города Дона были против, но по станицам его влияние росло.
На антивоенную демонстрацию восемнадцатого пошли все могильщики. Большая Садовая была заполнена народом с красными знаменами и транспарантами. Прокофьев, сопровождавший кладбищенскую группу, объяснил, что написано на них «Долой войну!». В потоке народа Федор потерялся и забылся, а через несколько минут пришел в себя уже выкрикивающим лозунги вместе со всеми. Захваченный криками и веселой злостью, он закрыл глаза и вспомнил, как пела вереница людей, отправляясь со станицы на поле. Но тогда выбивались из общего гула отдельные голоса, басили стройно мужики, бабы выводили канон, а теперь – тряслась мостовая от хорового крика единого человека. И Федору захотелось быть его частью.
Под ногами разлетались сорванные со стен домов плакаты. Извернувшись, Федор поднял один. На бумаге через плечо улыбался солдат с красным знаменем. Шедший рядом с Федором казак выхватил у него лист, затряс перед лицом: «Война до победного, гутарьте-гутарьте, суки…» – потом затушил о бумагу папиросу, продырявив ее на месте улыбающегося лица.
Банки, собиравшие государственный займ, были закрыты, большевики становились около них караулом.
* * *
Следующим утром Федор проснулся как с похмелья, хотя его – крепкого, закаленного – горькая давно не брала. Вспомнив вчерашний день, улыбнулся и испугался своей улыбки. Мир за оградой менялся и ломался, и только здесь, среди ровных рядов могил, все оставалось по-прежнему.
Пытаться разбираться в этих переменах Федор не хотел, уверенный, что пришли они ненадолго. Разве не было в России уже пугачевского казачьего бунта, о котором так подробно рассказывали старики? Разве стачки пятнадцатилетней давности увенчались успехом?
Федор думал об этом, прогуливаясь поутру по погосту. Под землей рядами, строем, лежали рабочие и казаки, солдаты и чиновники, крестьяне и воры. А дальше, глубже, закопанные до рождения Федора и деда Федора и деда деда Федора – вся земля в крови и костях. Что же они за порядок устраивают там, под землей?
* * *
Новый петроградский переворот Федор воспринял как должное. Он привык к этому, как горцы привыкают к землетрясениям. Через месяц снова понесли политических покойников, погибающих в драках, грабежах, под революционными пулями и казачьими нагайками. В декабре на кладбище забежал Прокофьев и сообщил, что большевики отступают из города, с ним ушли несколько молодых копателей. Власть в городе менялась быстрее, чем погода. Месяц держался в городе Каледин, три дня – большевики, месяц – снова атаман, до февраля, после – социалистическая армия Сиверса.
* * *
В одну из холодных февральских ночей восемнадцатого года Федора разбудили приглушенные голоса и шорох. Полежав немного для успокоения и убедившись, что никто из могильщиков не проснулся, он взял лопату и выглянул за дверь. Луна выхватывала на аллеях тени, которые спросонья копатель принял за собак, но приглядевшись, увидел, что это были люди. Спрятавшись за кустом сирени, мужик начал слушать.
– Пуговицы режь, дурак. Опознают. Погоны срезал, а пуговицы оставил. Оружие спрячь, – бормотал кто-то деловито.
– Пр-р-рятаться, как собаке! – рычал второй. – Мне, русскому офицеру, от этой мрази. Скрываться в склепе… Мы напор германцев держали-держали, а дом, Россию, не удержали!
– Жизнь себе спаси, а Россию не спасти уже, – шептал деловитый, как молитву, – жизнь себе спаси.
Прошелестели по краю аллеи до склепа и скрылись в темноте. Федор вернулся в каморку. Из угла на него глядел косой Иван:
– Что там?
– Собак погнал, разбурдюжились, – соврал могильщик и, улегшись на настил, сыграл спящего.
С тех пор кладбище начало оживать. Окрестные жители приносили к склепам еду; по ночам она исчезала. В лунную пору Федор проходил по аллеям с обходом, движимый любопытством, то тут, то там замечая человеческие силуэты. Иногда, редко, обезумевшие от холода бывшие солдаты выбегали, чтобы согреться, – их затаскивали обратно. Тех, двоих, видели однажды – кричавшего пристрелил деловитый друг, боявшийся быть выданным. После стрельбы на кладбище нагрянули красногвардейцы, проверяли склепы, но они были уже пусты.
И Братское снова заполонила тишина, как казалось, навсегда.
* * *
Лишь однажды она была нарушена. Кончились холода, распушилась и промокла почва. Вдоль аллей пробилась трава, задышала зелень, поменялся ветер. Тем утром Федор, не высыпающийся после ночных прогулок, прикорнул у камня на окраине. Он дремал без сновидений, пока не почувствовал на лбу прикосновение ледяной руки. Очнувшись, могильщик увидел бледную женщину в обносках, с грудой ветоши у груди. Толкнув сверток ему в руки, она потеряла сознание, упала навзничь. Федор дрожащими руками развернул пыльные тряпки, обнажив круглый синий комок, едва обтертый, в запекшейся крови. Среди неровных бугорков распахнулся черный провал, заблестели глаза, и истошно, что есть сил, закричала в глаза Федору новая жизнь.
Антон Секисов Север
У Маргелова темное и блестящее, как фольга, лицо, запрятанные глубоко глаза, круглая серебряная серьга в ухе. Волосы, рано начавшие седеть крупными далматинскими пятнами, острижены под машинку. Раньше, длинноволосый, Маргелов напоминал поизносившегося по морям пирата. Сейчас он напоминал пирата, давно сошедшего на берег и цивилизовавшегося здесь. Уже дожив до средних лет, он впервые вышел на постоянную работу. До этого получалось прожить случайными заработками.
Он работал системным администратором и посменно дежурил в офисе – как правило, с раннего утра, а днем уже был свободен. Так случилось и в этот раз. Рабочее время истекло, но Маргелов никогда не торопился – прежде чем уйти, внимательно дочитывал все недочитанные за день вкладки в браузере. Сегодня он изучил рынок развивающих ковриков. Маргелов выяснил, что такие коврики очень помогают, и в воспитании без них не обойтись. Больше всего ему рекомендовали коврики фирмы «Лукоморье», но оказалось, цены на них выше среднего. Затем Маргелов проверил, не создал ли лишних документов и папок, все удалил, вышел из всех аккаунтов в соцсетях, нажал на кнопку питания и, не сказав никому ни слова, направился к выходу.
Был солнечный день, и, проходя мимо бюста Кирова, спрятанного во дворах, Маргелов подумал о том, чтобы сесть возле него и выпить бутылку недорого светлого пива. Он иногда поступал таким образом, и всегда в одиночестве. Компании он не очень любил. Впрочем, ему и не предлагали ее составить – достаточно было бросить взгляд на его ломаный острый профиль, перекинуться парой фраз, и становилось понятно, что если хочешь с кем-то поболтать и расслабиться, то Маргелов будет последним человеком на Земле, к которому стоит идти за этим.
Маргелов постоял возле бюста пару-тройку секунд, раздумывая. Ему хотелось домой, но в то же время он чувствовал, как его, как облако пыли, обволокла лень и в ногах появилась легкая слабость. Нужно было посидеть немного в тени, перевести дух, но в расписании электричек надвигался полуторачасовой перерыв и Маргелов задался целью успеть до его начала.
В электричке кофейного цвета мальчик встал с ногами на сиденье и несколько раз прокричал нечленораздельное, что-то типа «ы-а». От этого странное ленивое чувство, посетившее Маргелова возле бюста, слегка усилилось. Что это было за чувство, Маргелов не мог понять, но, привалившись к окну, не отводя взгляда от залитых солнцем заводских руин, мелькавших по ходу поезда, он совсем разнежился. Кофейный мальчик что-то опять провыл, и, посмотрев на него, Маргелов подумал, что загар мальчика выглядел неестественно, в точности как из солярия. Хотя все-таки было трудно поверить, что его родители, бедно одетые, сгорбленные и утомленные, отводили его в солярий.
Маргелов смотрел на них, на мальчика, что-то притягивало его в этих лицах, а потом внезапно наскучило и он отвернулся к окну, но теперь и там продолжал видеть их отражения. Когда он на пару секунд прикрыл глаза и открыл опять, никого на их месте уже не было.
Выйдя из вагона последним, Маргелов немного постоял, любуясь видами. Солнце плыло через разорванные темно-серые облака, и купола за известковой монастырской стеной то сияли ослепительно, то переставали сиять, внезапно, как будто включаясь и выключаясь, а вот серая дуга трассы над соснами никогда не менялась в зависимости от освещения.
По дороге Маргелов зашел в магазин возле дома. Жена должна была вернуться с работы поздно и попросила взять несколько банок морковно-яблочного сока, гречневых хлопьев и джема. Маргелов решил, что заодно все же возьмет и бутылку холодного пива и выпьет ее до того, как начнется закат. Почему-то очень хотелось пива в этот солнечный, хотя и нетеплый день. И только одну бутылку.
Первым в очереди был его сосед Анатолий – невысокий крепкий мужчина с заросшими, налитыми кровью ушами. Анатолий был неудачливым военным, застрявшим на нижнем чине, – служил он здесь же, неподалеку, в Нахабино. Выпив хотя бы немного, он терял всякий контроль над собой. Несколько раз Маргелов находил его валявшимся на земле и на полу – у подъезда, в подъезде, на этажах, с первого по четвертый. Как-то Маргелов застал его у почтовых ящиков рвущим в клочья и разбрасывающим листовки из коробки для мусора. Выглядел он просто жутко. В конце концов Анатолий изорвал и саму коробку.
– Ты зачем это делаешь? – равнодушно спросил Маргелов.
Анатолий по-черепашьи вытянул маленькую облетевшую голову на длинной шее и, посмотрев искоса, проскрипел: «Слишком чисто». Раньше бы Анатолию это не сошло с рук. Маргелов бы сперва дружески попинал его, понадавал оплеух не в полную силу, а если бы история повторилась, мобилизовал бы управдома и все другие местные институции и устроил бы Анатолию непростую жизнь. Но теперь Маргелову эта война была неинтересна и не нужна – только привлекать к себе дополнительное внимание.
Отходя от кассы, Анатолий дружески кивнул Маргелову, а Маргелов никак не ответил ему.
Маргелов спустился по очень прямой и длинной тропинке к новенькому кирпичному дому, куда переехал с женой полгода тому назад. Звонили колокола, и возле дома пахло застоявшейся водой и лесом и еще немного удобрениями – соседка с первого этажа недавно завела огород под окном и по чьему-то безжалостному совету выращивала зелень и овощи на человеческих экскрементах.
За исключением запаха и пары безумных соседей, Маргелову здесь очень нравилось. И к ежедневным большим расстояниям он привык. Маргелову по душе была мысль, что когда у него появится сын, то он увидит козу или корову не на картинке, а здесь же, под окнами. Рядом с их домом стояли покосившиеся деревенские дома. Ниже был резкий обрыв, за которым виднелось поле с беспорядочно разбросанными по нему деревцами и равнодушными большими животными, отщипывавшими траву.
Возле дома опять было безлюдно – с тех пор как поломали скамейки. Одной ночью Маргелов сам их поломал, соблюдая предосторожности. Но с тех пор прошло уже много времени, можно было бы и починить.
Дождавшись, пока сосед-алкоголик, бесцельно суетившийся в дверях, наконец зашел и поднялся на пару пролетов, Маргелов зашел сам.
Не включая свет и не раздеваясь, сразу отнес продукты на кухню, вернулся, чтобы разуться, и тут прямо над ухом раздался звонок. Он вспомнил, что не закрыл дверь. Ключ торчал в скважине. Маргелов подумал, что прежде, чем что-либо спрашивать, нужно закрыть дверь на ключ. Но теперь это было бы странно. Маргелов замешкался. В последнее время в дверь часто звонили Свидетели Иеговы, которых было особенно много именно здесь, в окрестностях Нового Иерусалима. Еще это могли быть продавцы картошки, но Маргелов знал, что это ни те ни другие. Он потянулся и приоткрыл дверь. Увидев тени на лестничном марше, тут же попытался захлопнуть, но ничего не вышло. Длинная рука вытянулась из темноты и толкнула его в грудь – вроде несильно, но Маргелов буквально взлетел, как будто не было в нем ни костей, ни мяса, и приземлился затылком в стену. Дверь оставили незакрытой, и черные тени стали вноситься с грохотом, растекаясь из коридора по комнатам, как вода из прорвавшейся плотины. Маргелов все сразу понял, но на всякий случай решил попротестовать и даже закричал: «Вы кто вообще! Покажите бумагу», – но через пару секунд уже лежал лицом в пол, в наручниках, удивляясь тому, как легко и почти что весело его скрутили. Маргелов подумал, что сейчас его ударят еще пару раз, так уж полагается, но его не били.
– Сегодня хороший день, – сказал человек в кепке с логотипом испанской сборной, полупрозрачной футболке, липшей к телу, и светлых и мятых шортах ниже колена. Слабый загар коснулся его лица, как будто он только принялся отдыхать, но пришлось сразу вернуться из отпуска. Театрально застыв в дверях и слегка покачнувшись, он проник в квартиру. Сорвал кепку с костлявой головы, бросил ее на вешалку, и стали видны его очень светлые тонкие брови, отчего казалось, что у него вообще нет бровей. Это был Кравцов. Маргелов сразу узнал Кравцова.
– А бумага у вас есть? – все же спросил Маргелов.
– Есть, – сказал Кравцов. От этого вопроса у него на лице установилось скучающее выражение.
Омоновцы, пролетев по всей квартире и распахнув все двери и дверцы, какие только могли, быстро ушли, и остались трое в штатском и двое в форме, среди которых была женщина, брюнетка с серым лицом и сероватыми волосами, которую Маргелов опознал как следователя.
– Сдавайте оружие, наркотики, все запрещенное. В протоколе будет отмечено, что это сделано добровольно, – сказала следовательница то, что говорила всем и всегда. Возможно, она говорила это даже детям, вернувшимся с вечерней прогулки.
Маргелова не преследовали уже четыре года, жил он не по прописке, менял телефоны, и казалось, что его не возьмут уже никогда. Что он уже вычеркнут из всех неблагонадежных списков.
Маргелов прекрасно помнил, как все это началось, еще лет семь или восемь назад, когда он был почти еще юношей. Маргелов стал замечать, что за ним ходят одни и те же мужчины. Сначала следили только за ним, а потом и за родственниками. Просто ходили следом, не пытаясь скрываться. Если к ним подойти и заговорить, слегка терялись, но и не думали ретироваться. Для Маргелова слежка сюрпризом не оказалась. Его партию тогда принялись разгонять, несколько приятелей были под следствием, а сам Маргелов стал правой рукой вождя и был в курсе всего, что затевали партийцы в Москве и регионах.
Вождь как раз пытался выдвинуться в президенты, а Маргелов ездил по всей России, налаживая работу по сбору подписей. Налаживал он ее с большим успехом: вялые провинциальные маргиналы как бумага от спичек загорались от его речей и сразу же начинали работать с двойным усердием. Однажды его пустили в телевизор, всего на пару минут, и после этого сотни новобранцев в течение ближайших дней прибывали в партию – только чтобы пожать руку, постоять рядом с Маргеловым. Казалось, Маргелов скоро подвинет вождя – седовласого старца с тонкими крабьими усами и высоким, как будто разбитым вдребезги, голосом. Маргелов быстро стал профессиональным революционером – в отличие от студентов, приходивших в партию, чтобы сделать революцию в ту же секунду, и уходивших при первых серьезных трудностях, он научился контролировать свою вспыльчивость – на митингах доводя эмоции до высочайшего градуса, а в бюрократических делах стал холодным, внимательным и терпеливым. За спиной у вождя уже говорили открыто, что возглавить партию должен Маргелов, особенно сейчас, в кризисный для нее момент, и в то же время, когда положение власти стало казаться особенно хрупким.
В те дни Маргелова задержали и подвели к безбровому человеку, который был одет в точности, как Глеб Жеглов, и выглядел в этом образе слегка нелепо. С Маргеловым он заговорил с той задушевной дружеской интонацией, о которой Маргелов был наслышан.
– А, Сережа, ну как дела? – и даже потрепал по плечу совсем ласково. Маргелов молчал, смотря на носки кедов.
– Ты знаешь, кто я такой? Я Кравцов.
– Ни разу не слышал.
Кравцов, как показалось, слегка расстроился, но через секунду заулыбался и стал слово в слово цитировать его же, Маргелова, речь на последнем митинге. Он делал это негромко и вдумчиво, как хороший чтец. Маргелов стоял, не в силах понять, как к этому относиться. Настала неловкая тишина. Кравцов смотрел на него, как будто ожидая аплодисментов. Маргелов молчал. Через какое-то время его отпустили.
После той встречи за ним стали следить все время. Бритые головы, барсетки с вмонтированными камерами, бутылки пива, к которым опера постоянно прикладывались, но жидкость в них не убавлялась. Маргелов все же не мог относиться к такой слежке со всей серьезностью. Несколько раз после собраний и митингов его пытались ловить – уходил. Когда единственный раз поймали, отпустили сейчас же, без обыска. Как будто взрослые люди решили с ним поиграть в казаков-разбойников.
Опера провожали его с работы и на работу, и особенно в выходные – на встречу с друзьями или в магазин. При этом уйти от этой примитивной и странной слежки не получалось. В один из дней Маргелов ехал на встречу во временный штаб партии, к которому никак нельзя было привести хвост. И, увидев неторопливо бредущего за собой человека в кожанке, он решил, что запросто оторвется. Очень вовремя на другой стороне дороги показалась маршрутка. Маргелов рванул на красный, чуть не попал под грузовик, замахал обеими руками уже проехавшей остановку маршрутке и успел влезть. Опер остался стоять на другой стороне, растерянно озираясь – вроде здоровый лоб, а вид у него был как у потерявшегося ребенка. Маргелов хотел показать ему средний палец, но все-таки удержался – только самодовольно улыбнулся в усы и стал глядеть на проносившиеся одна за другой серые сталинские высотки. Но уже через пару остановок маршрутку подрезала машина со спецномерами. В салон зашел тот самый опер, расплатился без сдачи и спокойно сел прямо напротив Маргелова – его лицо ничего не выражало. Все пассажиры сделали вид, что ничего не произошло, или просто не обратили внимания.
Маргелов остолбенел. Возникло чувство, что весь мир затеял с ним абсурдную игру и что дальше произойдет что-то совсем фантастическое – маршрутка превратится в звездолет, а опер сорвет маску и обернется большой ящерицей. Но дальше все происходило ровно так, как происходило всегда, люди входили и выходили на остановках, и Маргелов постепенно взял себя в руки. Он вышел на конечной и тут же зашел опять, поехав обратно к дому. В этот раз опер сидел не напротив него, а у самого выхода.
Через несколько дней родительскую квартиру заблокировали. В небольшой квартирке были мать, отец, сестра с двумя подругами, четыре собаки, кошки. Им отключили электричество, а в подъезде ввели паспортный контроль. Ленивые тяжелые омоновцы торчали на лестничной клетке, здесь же справляли нужду и ели. Поняв, что в квартире девушки, они кричали: «Эй, суки, идите подмойтесь». Ночами, судя по разговорам, звонили в «Секс по телефону». Но так и не решились ломать дверь. Семья не пережила бы все это без поддержки соседей – сосед снизу перекинул электрический кабель, соседка сверху по веревке спускала еду. В общем, трехдневная осада ничем не кончилась, а скоро и перестала слежка.
К этому времени Маргелов стал постепенно отдаляться от партии. Точнее, это партия стала уходить у него из-под ног, как болотистая земля. Не то чтобы ее репрессировали, а как будто выкачали весь воздух, и чтобы дышать, партийцам пришлось лезть на берег. Съезды окончательно превратились в переливание из пустого в порожнее, за год численность сократилась раза в три. При этом старец с разбитым голосом по-прежнему оставался вождем, в то время как Маргелов уже сам поседел наполовину. Тогда Маргелов и решил для себя, что нужно уйти на дно – пересидеть, чтобы дождаться лучшего времени. Бороться с властью сейчас – все равно что прыгать на кирпичную стену – так он метафорически определил для себя текущий момент.
Да и теперь у него была семья. Маргелов уже знал, что у него будет мальчик, и эта мысль наполняла его смутными надеждами. А теперь он смотрел на лиловатое лицо опера, срывавшего с полок книги. Книги падали страшно шумно, как будто доски, и взбудораженные соседи стали стучать по трубе.
Посередине комнаты формировалась отдельная куча – туда сбрасывалось все, что представляло какой-нибудь следственный интерес. Один из оперов с почти эротическим чувством совал длинные пальцы туда, где лежали диски, исписанные помятые блокноты и разрозненные листки, скопившиеся за последнее время. Маргелов с досадой подумал о том, что не успел испортить диски, хотя знал, что ничего запрещенного ни на них, ни где-то еще нет.
В центре осело собрание альбомов «Гражданской обороны», обрывки бумаг, «Моя жизнь» Троцкого с множеством разноцветных закладок, книга Майн Рида. Маргелов, несмотря ни на что, все же слегка улыбнулся, поняв, что опера перепутали Майн Рида с «Майн кампф». Дальше взгляд скользнул по пожелтевшим машинописным листам, которые Маргелов опознал моментально, – к щекам прилила кровь, и сделалось так неприятно, как будто опер своими длинными и корнеобразными пальцами полез ему во внутренности. Первым порывом Маргелова было броситься в кучу, схватить листы и прорваться мимо двух оперов в туалет. Пока дверь ломали бы, он наверняка успел бы испортить листы. Но, конечно, Маргелов этого делать не стал, это было бы неразумно. Он не понимал, зачем эти бумаги нужны следствию. Разве что они попали в кучу по недоразумению. Или их смутило, что это были машинописные листы, и они даже не стали вчитываться.
В кухне кто-то плюнул и громко выругался. Видимо, опер решил попробовать оставленные в пиале мелкие садовые помидоры. Мама жены привезла килограммов пять с дачи. Они были то ли синеватого, то ли зеленоватого оттенка – и даже по запаху было понятно, что есть их не стоит – слишком кислые. Но и выбросить так уж сразу было неудобно.
Когда жена вернется, то, скорее всего, застанет пустую разгромленную квартиру, а у Маргелова будет отключен телефон. Он попытался представить первую мысль, которая придет жене в голову, как только она обо всем догадается. В глубине души она должна была ожидать чего-то подобного. Конечно, к такому готовым быть просто нельзя, но по крайней мере, может быть, и не станет большим шоком. Она должна понимать, что сейчас ей нельзя волноваться.
Опера разгуливали по квартире, пиная побросанные на пол вещи и разнося грязь. От того, как широко и легко они крушили тщательно организованный, налаженный, как большой скрипичный оркестр, быт, сводило скулы. Пнули и наступили на ночнушку его жены. Маргелов знал, что это делается нарочно. Опер с лицом настолько невыразительным, что даже Маргелов не смог бы его опознать уже через секунду, наклонился к нему и спросил:
– Ты что, цыган?
Другой опер, заходя с маленькой чашкой для эспрессо, из которой он пил «Эрл Грей», сказал:
– Альбертович у него отчество.
Похоже, этот ответ вполне удовлетворил первого – он понимающе покивал.
Второй опер остановился, как будто не зная, что делать с собой – привалиться к стене, сесть на корточки, взять стул или уйти обратно, и смотрел белыми злыми глазами куда-то мимо лица Маргелова. Маргелов отметил, что лицо у него треугольной формы – узкий подбородок, широкий лоб. Очень нетипично.
– Что же ты в Лондон не уехал, к своему хозяину? – сказал белоглазый, небрежно копнув ногой кучу с наваленными посередине вещами.
Маргелов молчал. В тишине было слышно, как скрипит ручка следовательницы. Она сидела в пол-оборота, чуть склонив голову, как усердная ученица в разгар контрольной. Маргелов заметил, что она пользовалась его ручкой, и почему-то подумал, что это хороший знак. На глаза снова попался край машинописного листа, и сердце сжалось. Опять мучительно захотелось вырвать эти листы и с ними куда-нибудь броситься.
– А когда начнется Олимпиада? – спросил опер со стершимися чертами лица у белоглазого, но так, как будто вопрос был обращен ко всем. Тот отозвался, что уже началась.
Вскоре привели понятых. Маргелов не удивился, когда увидел среди них Анатолия. Был и второй – как и Маргелов, поседевший раньше времени парень, с густыми вихрами, очень худой. Маргелов видел его нечасто, но сильно недолюбливал за блудливо-застенчивую улыбочку мелкого жулика и праздный вид.
Они молча, смущаясь, пугаясь, толкались у самой двери, не решаясь сделать и шага внутрь. Но тут между ними как смерч ворвалась управдом.
С криками «Сталинские упыри! Шьют дело!» она беспрепятственно пробежалась по всей квартире, вбежала в комнату, где сидел Маргелов, схватила его за шкирку и, подхватив, как пустой чемодан, поволокла за собой к выходу. В дверях их все же остановили. Белоглазый опер удивленно таращился на управдома – он даже расплескал немного чая из чашки для эспрессо от неожиданности.
Маргелова вернули на место, женщину старались мягко утихомирить, но та вырывалась.
– Не переживайте. Ничего плохого парню не сделают, – говорили ей.
– Упыри, сатрапы, – уже несколько тише повторяла она.
– Зря беспокоитесь. Его не даст в обиду кагал.
– Кагал?! – снова взвилась женщина. – Вы антисемит, получается?
– А Ленин, вы думаете, какой был национальности? – сказал белоглазый.
Опер без каких-либо определенных черт угрюмо проговорил что-то совсем невнятное.
– Вы что, евреи умнейшие люди, куда умнее, чем вы! – прокричала ему прямо в лицо управдом.
– А я не буду в этом участвовать, – по-пионерски тонким и бойким голосом сказал сосед-алкоголик и открыл дверь.
– Куда? – окликнул его белоглазый.
– Я уйду! – сказал Анатолий с мольбой в голосе.
– А если пятнадцать суток?
Анатолий бесшумно опустился на корточки и так и остался сидеть, обхватив выпуклые колени. Маргелов привалился к косяку двери, чтобы видеть соседа. Теперь присутствие всегда раздражавшего Анатолия успокаивало. Улучив момент, тот наклонился вперед и тихо проговорил: «По закону понятой не может быть пьяным, а я пьяный», – после чего вытащил и показал пустую бутылку. Только теперь Маргелов заметил, что седого парня нигде нет. Когда опера подошли подписывать протоколы, выяснилось, что ему удалось пропасть бесследно.
Через какое-то время опера опять разбрелись пить чай. Маргелову стало жарко, и он отер лоб бледной рукой, которую почти перестал чувствовать. Вроде бы он не нервничал, но тело подчинялось довольно плохо, и он насквозь вспотел.
Скосив взгляд на книги, наваленные в кучу посередине, он заметил торчавшую из биографии Троцкого свернутую бумажку. Полчаса назад никакой бумажки там не было – Маргелов это твердо знал. Бесшумно придвинувшись, Маргелов разглядел ее край – это была листовка. Выглядывала черная литера – одна из трех букв, обозначавших название запрещенной партии. Решили подставить. Он это предполагал.
Книжка была рядом. За компьютерным столом сидела следовательница и записывала номера дисков, и белоглазый опер, как назло, уселся на стуле в дверях. Преодолев слабость, Маргелов встал и стал неторопливо ходить по комнате.
– Не маячьте, – сказала следовательница.
Маргелов сел на диван, совсем близко к книге, стал перебирать вещи, которые опера уже отсеяли, как будто бы наводя порядок. Следовательница потянулась к чему-то из кучи, и книга с листовкой сама скатилась к Маргелову. Белоглазый смотрел в это время в стену с тупым, но сосредоточенным выражением любознательного животного.
Маргелов осторожно прижал ее ногой и медленно вытянул пачку, а потом резко засунул себе под ремень.
– Мне нужно в туалет, – сказал Маргелов.
Следовательница медленно подняла голову, которую как будто раздуло от накопившейся информации, и опустила опять к записям.
– Туалет вы проверяли? – спросила она.
Они вышли в коридор вдвоем с белоглазым, и тот приоткрыл дверь туалета и остановился, как будто в нерешительности. Он смотрел то на Маргелова, то в туалет и чесал затылок. Маргелов не выдержал и сделал движение в сторону двери, но рука с раскрытой ладонью вытянулась шлагбаумом.
– Давай сюда, – сказал белоглазый вкрадчиво и совсем без издевки.
Маргелов чуть покачнулся вперед, как от толчка в спину – коридор перед глазами расплылся. Треугольная голова опера на мгновение стала квадратной. «Теперь-то уж точно все», – меланхолично подумал Маргелов. Было понятно, что играть в наивность здесь не было смысла, и Маргелов молча протянул ему скомканную листовку, зашел в туалет, закрыл крышку и долго сидел в темноте, обхватив голову, пока в дверь не постучали.
Они вернулись в комнату, в которой по-прежнему усердно скрипела ручкой следовательница. В этот раз она даже не подняла головы. Листовки нигде не было. Похоже, она так и осталась у белоглазого – непонятно, зачем она ему понадобилась, и Маргелов даже не попытался понять, как это произошло. Он лег на пол и опустил голову. Пот на коже остыл, и кожа теперь слегка чесалась. Маргелов хотел было почесаться, но решил, что в этом нет никакого смысла. Любое движение могло вернуть его в реальность, а он только отгородился от нее. Теперь он был весь во власти того странного чувства, дававшего о себе знать весь день. Им завладела раньше незнакомая ему, какая-то сентиментальная апатия. Он думал о бюсте Кирова, о кофейном мальчике, о его родителях и своем пиве. Бутылка так и лежала в пакете, не тронутая никем.
За окном стемнело, и из-за занавески проглядывало облачное серо-фиолетовое небо, сквозь которое проступали звезды. Маргелов отчетливо видел их сквозь стекло – так хорошо оно было вымыто. Следовательница пропала, и остались трое человек без формы. К этому времени Маргелову было уже глубоко безразлично, сумеет ли он поесть и где уснет, дома или в камере, главное, чтобы можно было сделать это как можно скорее.
В коридоре опять появился Кравцов – все это время он где-то пропадал, а теперь вернулся, переодетый в легкий светлый костюм, очень чистый, но немного поизносившийся. Он улыбнулся Маргелову вежливо-безразличной улыбкой, как малознакомому соседу, и сказал операм, что машина ждет. Маргелова вывели под руки, ему казалось, что он может идти и сам, но ноги его почти не слушались.
У подъезда стоял полицейский уазик с включенным мотором, а чуть дальше – ухоженная «Тойота» старой модели, – в нее-то и усадили Маргелова. «Тойота» была без спецномеров, ослепительно-белая – печальный вечерний дворик весь целиком отразился в ее вымытом заднем стекле.
В голове у Маргелова равномерно тикало, как будто это были часы, вот только часов нигде поблизости не находилось. Кровь равномерно приливала к вискам и отливала, как будто море. Кравцов и все остальные о чем-то размеренно говорили, отойдя от машины на приличное расстояние. Кто-то из них – Маргелов не мог разглядеть кто – все время посмеивался. Только один из них.
Маргелову было хорошо ясно, что такое машина без спецномеров – на ней могли отвезти куда угодно. Привезут, к примеру, на кладбище, бросят в полуразрытую могилу с мешком на голове и приставят пистолет к черепу. Кравцов наверняка покуражится в свое удовольствие – поцитирует ему всяких речей, расскажет пару не очень смешных анекдотов. Возможно, песню споет. Кто-то один, вот как сейчас, будет посмеиваться.
Вдруг из-за угла вынырнул полицейский – тяжелый и низенький, с лицом, скрывавшимся под фуражкой. Он направлялся к уазику. Увидев его, Маргелов оживился, припал к окну, которое было не до конца закрыто.
– Товарищ полицейский! – сказал он негромко, но внятно. Голос его звучал на удивление чисто, хотя он долго молчал.
Никто из компании в штатском не обернулся. Кравцов неторопливо курил. Дым от незатушенных дачных костров вился над головами. Полицейский, немного подумав, неторопливо приблизился к машине. Под фуражкой у него оказались мелкие выпуклые глаза и усы, свисающие на рот.
– Товарищ полицейский, я не понимаю, куда меня везут, – сказал Маргелов.
Полицейский остановился, смотря на Маргелова с интересом.
– Везут для продолжения следственных действий. В Истринское отделение.
– А вы это точно знаете?
Полицейский постоял, покачался, посмотрел еще раз на папку – вряд ли он видел хоть что-нибудь в темноте сквозь плотную фиолетовую поверхность.
– Послушайте, товарищ… старший лейтенант, – разглядев погоны, Маргелов, насколько мог, высунул голову из окна машины и попытался взглянуть в глаза полицейского. Они были неуловимы. Напрягая последние силы, Маргелов старался говорить как можно короче и убедительнее: – Я не знаю, куда меня везут, и может, не доживу до утра. Вы знаете этих людей? А ведь по документам меня принимали вы. И спрашивать будут с вас. Журналисты, общественность. Я должен быть у вас в отделении.
Полицейский мигнул глазами, покачался еще на носках. Ноги у него были совсем маленькие, почти детские. Маргелов с надеждой смотрел на них, как будто взывая к чистой детской душе внутри мента, которую выдавали эти крошечные ножки.
Мент почесал под фуражкой, еще раз посмотрел на Маргелова, на стоявших и переговаривавшихся в отдалении людей в штатском, достал мобильный:
– Тут это… этого… задержанного, короче… куда везти?
В трубке ответили, по-видимому, что-то односложное, потому что полицейский сразу же проговорил:
– А эти… ну, эти… его куда-то собираются везти… Вроде не к нам.
Начальник отвечал долго и, похоже, эмоционально и, судя по всему, разъединился, не дослушав ответа и не попрощавшись, потому что полицейский рассеянно и как будто для самого себя проговорил: «Хорошо, я его не того… не отдам» – и остановился возле машины.
К этому времени люди в штатском уже подошли к ней и дослушивали разговор полицейского, встав возле него полукругом. Кравцов смотрел равнодушно. Среди все больше темневшего неба стал проглядывать серп луны.
– Вы куда его это… самое? – спросил полицейский.
– На север, – сказал Кравцов.
– На какой север?
– Мы его к себе забираем, чего непонятного?
– Но это куда – к себе?
Трое тем временем уже сели в машину, мягко хлопнув дверьми. Двигатель заработал.
– А я вам его не отдам, – вдруг внятным уверенным голосом сказал полицейский, смотря на Кравцова бесстрашно. – По документам он наш. Истринский. И я его увезу к себе.
Никто не пошевелился. Люди в штатском слегка улыбались – одинаковой, чуть заметной улыбкой.
– Документы свои покажи, – дрогнувшим голосом сказал полицейский Кравцову.
– Не покажу, – сказал Кравцов почти с сожалением. – Не твое это дело.
– Ну кто вы такие! – сказал, почти выкрикнул полицейский, вставая на цыпочки.
«Соберись, тряпка», – мысленно призывал Маргелов.
– Сигарету хочешь? – спросил Кравцов и, не дождавшись ответа, добавил участливо: – Чего распереживался так? Давай позвоним твоему начальнику.
Они отошли куда-то в сторону, стали тихо говорить с голосом в телефоне, передавая его друг другу. От этой интимной и вполне дружелюбной на вид беседы у Маргелова кольнуло сердце – как будто от ревности.
Маргелов с трудом разглядел во тьме, как полицейский резко двинулся в сторону уазика.
– Эй, ты куда? – крикнул Маргелов. – Эй!
Но полицейский шел быстро и не оглядывался. Кравцов сел на переднее сиденье, чуть повернувшись к Маргелову. Вблизи лицо Кравцова оказалось не таким уж молодым и гладким, как представлялось Маргелову, а в пигментных пятнах, прыщах, осунувшимся, покрытым тонкой, но непрерывной сеткой морщин.
– В какое отделение меня везут? – глухо спросил Маргелов.
Кравцов, как будто не слыша вопроса, стал копаться в кейсе и вскоре достал тонкую папку. Неторопливо вынул из нее машинописные листы. Маргелов мгновенно узнал их и в темноте, увидев только загнутый краешек. Он почему-то знал, что так и произойдет. Он ждал чего-то подобного. И когда Кравцов заговорил откуда-то издалека, как из колодца: «У меня к тебе вопрос, Маргелов. Почему у твоего персонажа такое странное имя – Гиба?» – Маргелова не удивило и это. Кравцов аккуратно перелистывал страницы.
– Почему Гиба? – повторил Кравцов.
Он держал в руках сказку, набранную Маргеловым еще в детстве на печатной машинке «Роботрон». Отец каждый вечер рассказывал ему сказку про злодея Гибу, но всякий раз делал это не до конца, всегда что-то забывая и путая. Приходя из НИИ поздно вечером и уставший, он сдавался на уговоры Маргелова и говорил: «Хорошо, расскажу тебе сказку, но – тезисно». Маргелов долго не понимал, что это значит. Постепенно Маргелов восстановил полный текст сказки и напечатал его сам. Это было первое, что он напечатал. Печатать Маргелов научился раньше, чем писать. Человек несентиментальный, он сам не понимал, для чего хранит эту сказку, но никак не мог от нее избавиться.
В салоне машины было тихо, запахов не было, кроме едва уловимого запаха сосны, вероятно, от автомобильного дезодоранта. Маргелов переводил взгляд с бритых затылков на машинописные листы сказки. Кравцов, шевеля губами, читал. Вдруг он поднял голову.
– Хорошее имя для злодея, – сказал Кравцов. – Гиба.
Аккуратно сложив страницы в папку, он перегнулся и протянул листы Маргелову. Листы были теплыми, почти горячими, как будто их спасли из печки.
Машина медленно тронулась. Маргелов закрыл глаза и вспомнил, как начал писать и другие сказки – про храбрых пионеров, которые сражаются с колдунами и ведьмами, с Кощеем, с вампирами и пришельцами, словом, с нечистью всех мастей – фантазия у Маргелова была богатая.
В старших классах, сбежав из дома и ночуя по чердакам на Старом Арбате, он познакомился с девушкой по кличке Собака и с Парнем с Гниющей Рукой. Собака была коротковолосой и крепкой, любила подраться и в драках вгрызалась кривыми зубами в шею противникам – здоровые мужики обходили ее стороной. А Парень С Гниющей Рукой пил спирт из горла и ходил в лохмотьях, с довольным видом показывая всем свою распухшую синюю руку, от которой тянуло плесенью, – казалось, парень был при смерти, но не торопился к врачу. В этот странный и неприглядный реальный мир Собаки и Парня С Гниющей Рукой подростка Маргелова потянуло сильнее, чем в мир сказок. Они-то и привели его в партию.
За последние двадцать лет Маргелов безжалостно вычеркнул из своей жизни столько вещей и людей, столько раз переехал с места на место, что сосчитать невозможно. Но машинописная сказка, совсем истрепавшись, все это время была с ним.
Держась за страницы, Маргелов вдруг понял, что не боится совсем ничего. Что с ним ничего не случится. Что там, куда они направляются, ему будет не то чтобы хорошо, но, во всяком случае, нормально. Мысли разлетались из его головы, как птицы. Машина медленно подъезжала к развилке. Маргелов не стал открывать глаза, чтоб посмотреть, куда она повернет. Он уже твердо знал, что она повернет на север.
Сказка, рассказанная отцом Маргелова, в его тезисном пересказе
Долгие годы в северном царстве под названием Мунюма царила смута – злой колдун Гиба грабил и убивал его жителей и держал всех в страхе, пока царь не призвал храброго богатыря Воротилу. Воротила убил колдуна и похоронил в дупле дуба. За это царь Мунюмы выдал за него свою дочь, созвал добрых магов со всех земель, и те установили вокруг дворца силовое поле, чтобы больше ни один злодей не смел к нему подойти. Гиба же на самом деле не умер, а все это время спал в дупле и копил силы. И вот он пробудился и стал снова творить злодеяния вдали от дворца. Царь прознал о том, что Гиба вернулся, и послал войско, чтобы его разыскать, но оно не вернулось. Гиба превратил их всех в статуи. Постепенно всякий житель, кто выходил за территорию замка, стал пропадать. Пришел черед действовать Воротиле. Но того не отпускала жена. Гиба не терял времени и между тем заколдовал воду – и все мужчины замка ослепли, а женщины онемели. Царь в ужасе бегал по дворцу. Гиба послал ему говорящего кота, который передал требование: выдать всю казну, тогда он снимет чары и не будет никого трогать. Воротила убедил царя не отдавать сокровища и тайком от жены сбежал. Он понимал, что Гибу ему теперь не победить так просто. Он долго следил за ним и понял, что Гиба каждую ночь забирается в дупло и это придает ему сил. Он спит в нем днем, а творит злодеяния ночью, вылетая из дуба коршуном. Он дождался, когда тот улетит, и стал рубить дуб, и когда дуб был уже почти срублен, с небес спустился Гиба и всадил ему нож в сердце. Но дуб был срублен, и заклятье с жителей замка спало – они стали жить-поживать и добра наживать.
Спокойной ночи, Сережа.
Платон Беседин Ремни
I
Вечером пошел то ли снег, то ли дождь. Крупин мыкался по квартире с полудня. Голод душил. Крупин открывал комнатное окно, дымил папиросами, вглядывался в волглую улицу. Двор был пуст. Тополи стояли голые, с ветками, похожими на сушеных кальмаров в пивных. Решившись, Крупин собрался: натянул рыжеватые сапоги, рваный бушлат. Вышел из квартиры, как на экзекуцию.
По лестнице старался идти тихо, даже опасливо, но в высоченных пустотах шаги все равно звучали гулко. Крупин знал, что они привлекут консьержа. От ожидания досадной встречи он зябко ежился. Тело чесалось и жгло, и, поддавливая, нарастала желчная тошнота. Крупин чувствовал, как бурлит и сводит желудок.
Консьерж не появился. Но у дверей агентства «Ева» встретились две тощие девицы с вампирическими губами. Они взглянули на Крупина одновременно удивленно и брезгливо – так, что высосали последние капли достоинства.
Выйдя в хлябкую непогоду, Крупин натянул на лохматую голову капюшон. Осмотрелся, застыл, вспоминая, где покупал водку в последний раз и когда ел. В разворачивающемся ненастье сумерки казались темнее, гуще. Крупин порадовался тому, что в грязно-серой унылости его будут замечать меньше. Он давно избегал людей, окрысившись, будто неупокоенный призрак.
Подумав, Крупин решил идти на Майдан – со вчерашнего дня он ничего не ел, а там кормили. Он мог взять любимые бутерброды с чесночным шпиком и горячий сладкий чай. Может, сегодня, будучи достаточно зол, он бы даже покричал, для развлечения.
Последний раз Крупин ел там же – на Майдане, и людей на площади стало до неудобства много. Сначала грудились лишь студенты с флажками и бабки с иконками, но после разгона площадная скудность приросла людьми. Образовалась жужжащая, гримасничающая толпа. Приходилось выдерживать очереди за едой. Крупина это бесило. В очередях его терзало удушье, и он еще больше дрожал, путался.
– Добрый вечер.
От приветствия Крупин вздрогнул. Поздоровавшийся человек прошел дальше, в подъезд. Крупин не сразу понял, что встретил холеного армянина с четвертого этажа. Его черная, сияющая, как и он сам, «Тундра» стояла перед подъездом. Армянин был единственным из соседей, кто еще здоровался с Крупиным. Остальные брезговали.
Улица Горького, прореженная липовой аллеей, уходила вправо. Левее начинался парк Шевченко, разбитый напротив красного здания университета. Там магазинов было меньше. И Крупину казалось, что в последние дни он покупал алкоголь именно в них. Но косолапить по Горького не хотелось – там негде было приткнуться: лавочки, впаянные между двумя автомобильными полосами, были у всех на виду. А в парке Шевченко можно было расположиться в самом дальнем углу.
Мысли перекатывались медленно, тяжело, как забитая бочкотара. Чесотка и голод становились невыносимыми. К ним добавился мелкий озноб. Крупин впервые за долгое время решил купить водку рядом с домом.
Пройдя сотню метров, стесняясь, он сунул конопатой продавщице мятые гривны. Она долго не могла сосчитать сдачу. Наконец, сочла – сунула золотистые копейки, поставила на прилавок бутылку водки и «Зимневский» хлеб. Потемневший бок с хрустящей корочкой торчал из пакета – аппетитный в своей неприкрытости. Хлеб и водка перекочевали в бушлат, поближе к кислому огурцу, захваченному из дома. Комплект успокаивал. Озноб чуть унялся.
Крупин вышел на Горького. Валил снег, слюнявый и влажный. Движение машин унялось. Сумерки стягивались, как нагретый рыбий пузырь. В них Крупин чувствовал себя даже уютнее. На дальней скамейке, ближе к музею Шевченко, его ждал покой. Первый глоток отдался желчным взрывом, второй заневолил изжогой, однако потом стало легче. Крупин выпивал привычно: отхлебывая из горла, заедая хлебом. Огурец по-прежнему лежал в бушлате. Как обещание счастья, убогого, мелкого.
Но и огурец не помог, когда Крупина после короткого облегчения скрутило изжогой. Она подступала к горлу, взрывалась и лопалась крохотными едкими пузырьками. Крупин подумал о язве, о раке желудка. Он всегда думал о самом страшном, когда становилось плохо. В последнее время мысли его были густы и черны, как гудрон.
– Погуляю с собакой – и на Майдан. А ты?
– Нет, я дома.
– Зря! Сейчас надо всем поддержать…
Мимо прошелестели собачницы. Крупин увидел их яркие дутые куртки и поводки. Рядом семенили пекинесы в теплых манишках. «Правильно – на Майдан! – услышав, согласился Крупин. – Изжога, это потому что не жрал. Надо пожрать – и все пройдет». Он спрятал водку и хлеб в карман, поплелся в сторону революции.
II
Крупин долго не мог отыскать палатки с едой. Люди облипали суетливыми мухами. Напротив Главпочтамта двое хмурых, заросших щетиной мужиков предложили Крупину винчика. Узнали своего, так им показалось. Один держал растрепанную книжку. Крупин отшатнулся, устремился прочь.
Он боялся таких, и страх его был отрицанием – того, что он сам такой: сдавшийся, падший. Крупин пил, но всегда один. По жизни он всегда был один. Внутри его червился образ, вдолбленный в детстве, – человека, который начинает пить и водить к себе собутыльников, заводит дрянную бабу, остается без всего, а дальше начинается другая жизнь, почти загробная – бродяжническая, подбитая, волочащаяся, как контуженая нога. И Крупин держался один, потому что к жизни привязывали люди. Он гордился тем, что до сих пор, за шесть лет одинокой, хромой жизни, так и не привел никого к себе домой.
Палатка с едой нашлась ближе к метро. Закусок в ней было мало, а вот людей в очереди омерзительно много. Крупин заставил себя стоять, но держался чуть в стороне.
– Боротьба…[5]
– Слава нації…[6]
– Банду геть…[7]
– Воля або смерть…[8]
Обрывки шипящих, точно пламя сырых дров, разговоров доносились до Крупина. Он терпел, смирялся. И, дождавшись, потянулся к еде.
– Не всі відразу, ти не один![9] – прикрикнула бледная девушка на раздаче, когда он попытался взять слишком много.
– Дура! – прошипел Крупин, не отпустив бутерброда с бледной, как лицо девушки, колбасой.
Отошел в сторону, сосредоточенно зажевал, хотя проглотить еду хотелось сразу. Но он берег, он растягивал. Опасливо достал из кармана бутылку, хлебнул. На Крупина никто не смотрел. Он растворился в раздраженной толпе. Грубая еда не уняла изжоги, но едкие пузырьки больше не лопались во рту. Крупин заметил, что людские потоки текут не к Майдану, как всегда, а в начало Крещатика. Люди несли жовто-блакитные флаги, пели, скандировали. Крупин дожевал бутерброд, поплелся за ними.
На подходе к Бессарабскому рынку люди застревали, вязли, наполняли, как в стоке, и без того немаленькую толпу. Крупин помнил, что здесь стоит памятник Ленину. К нему, школьником, он носил красные гвоздики 22 апреля, 1 мая и 7 ноября. Дед Крупина по отцу был коммунистом, прадед – большевиком. Благодаря им Крупин жил в центре Киева.
Подойдя ближе, он увидел с детства знакомый памятник. Но теперь он был пленен – стянут тросами и ремнями. Они тянулись от кварцитового Ленина как щупальца. Люди вокруг кричали, матерились. Крупин растерялся, не понимая, куда попал. Вдруг кто-то заорал:
– Дай!
И щупальца натянулись. Крупин не видел, кто управляет ими. Он терялся в пальто, шапках, куртках. Даже открыл рот, чтобы крикнуть, но звук вышел хилый, глухой. Крупин достал из бушлата водку, уже не слишком думая, как выглядит со стороны.
– Дай, а!
К нему обращались. Мутным взглядом Крупин выхватил из темно-серой толпы говорившего. Это был низкий мужик, обмотанный украинским флагом. Его длинные казацкие усы, мокрые от снега, тающими сосульками оплывали книзу. Не в силах возражать, Крупин протянул бутылку. Мужик в украинском флаге взглянул на этикетку – перекосился:
– Гадость…
Но все равно глотнул. Потом еще раз.
– Эй! – наконец смог возразить Крупин.
Болезненная судорога пробрала левую сторону тела. Крупин выхватил бутылку. Сунул ее в бушлат. Мужик в украинском флаге ухмыльнулся. И в этот момент кварцитовый Ленин покачнулся. Толпа закричала, уже оглушая. Крупин подался вперед, протиснулся сквозь людей, не ожидав, что способен на такое.
Теперь он видел памятник близко. На его основании было написано «ЛЕНІН». Крупин вспомнил себя маленьким. Вспомнил, как возлагал к памятнику гвоздики и дед в широкополой шляпе одобрительно гладил его по голове. А потом они ехали в кафе «Пингвин», почти через весь Киев, – есть мороженое из металлических вазочек. Это воспоминание полоснуло, сделало больно. Ленин рухнул.
– Слава Украине!
– Героям слава!
Раздалось со всех сторон. Вороньем заклевало. Крупин крикнул вместе с остальными, то ли поддавшись рефлексу, то ли побоявшись, что не примут за своего. Ленин грохнулся на мокрый асфальт. Девушка рядом с Крупиным снимала происходящее на телефон. Снег казался воском, расчертившим экран. К Ленину тут же подскочили люди с криками и кувалдами. Принялись бить по кварциту. Толпа затянула украинский гимн. Крупин пел вместе с остальными.
Ему стало почти хорошо. Боль улеглась, изжога прошла. Осталась только чесотка. Он давно не чувствовал себя так хорошо. Для полноты отхлебнул из горла. На этот раз никто не обратил на него внимания. Панк в косухе перехватил у здорового молодчика кувалду. Несколько раз хрястнул по сломленному памятнику. Отлетели куски. Панк бросил кувалду, схватил кварцит.
– На сувениры! – крикнул в толпу.
Люди засуетились, принялись подбирать ленинские осколки. Крупин ухватил один, крохотный. Он провалился в карман рядом с надкусанным огурцом. Снег повалил сильнее. Украинский гимн, нарастая, тянулся к небу. Крупин голосил вместе с остальными. Слова разливались по холодной улице и горячим сердцам.
III
Крупин не помнил, как вернулся домой. Но бушлат и сапоги валялись рядом с тряпьем, на котором он спал. Проснувшись, Крупин смотрел на них, вспоминая. За окном растеклась ночь, в комнате горел свет. Крупин видел голые стены и ничего более. Он продал все, что мог, и теперь спал на тряпье из затхлых одеял. Их он продать не смог. Тряпье было свалено на вспухший паркет. Он достался Крупину вместе с квартирой.
Хотелось пить. Крупин пошарил рукой вокруг. Не нашел тары – лишь сигаретную пачку. Задрожал. Он боялся пьяным курить в постели. Это был еще один страх. Крупин помнил истории о том, как алкоголики сгорали в своих квартирах, уснув, не погасив сигареты. Он боялся этого. До патологии. Но когда-то, Крупин знал это, он сам станет таким. И начнет водить алкашей домой. И будет спать на тряпье вместе с зачуханной бабой. Тогда его выселят из дома на улице Горького. Или Крупин спалит его.
Здесь он был лишним. Смердящим, мозолящим, гадким. Словно пакостный инженер впаял в прибор чужую деталь. Прибор работал, но деталь мешала – правильнее было бы избавиться от нее.
Крупин цеплялся за свое жилье – последнее, что связывало его с какой-никакой жизнью. Нить, которая еще не оборвалась. Но она истончалась, пропаленная дешевыми сигаретами и водкой. Сколько раз пытались отнять ее! Сколько раз приходили те, что называли себя риелторами, а на деле были бандитами. Из-за них на первом этаже лишилась жилья Семеновна. Теперь там располагалось агентство «Ева». Возле него толклись шалавистые девицы. Раньше, когда еще мог, Крупин тайком разглядывал их, чтобы потом, лежа на тряпье, фантазировать. Однако со временем, согнувшись, он уже не мог делать этого.
И все же – вопреки многому – квартира оставалась у Крупина. Он получил ее в наследство семь лет назад. Через год после развода с женой. Бабка передала ее в наследство. Бабка, которая всегда презирала Крупина-младшего. Бабка, которая в детстве била его швейной линейкой. Но дед завещал квартиру внуку, хоть Крупин до сих пор не мог в это поверить.
Дед никогда не был милосерден. Крупин помнил только его стальные команды и грубое, будто на гранитном обелиске, лицо. Что подвигло его завещать квартиру? Ведь он всегда считал Крупина хилым, никчемным. Дед не одобрял его мальчишеской замкнутости, юношеской женитьбы, профессионального выбора. Крупин не оправдал надежд. С детства ему твердили, что он должен, но никогда не говорили, что он может, – разлом, который Крупин так и не преодолел. Застрял в нем: сначала одной ногой, после второй, а затем провалился весь – и уже не смог выбраться.
Но в определенный момент высеченный из красного гранита дед иссяк, кончился. Крупин прикидывал, когда это случилось. И вспоминал, как дед пришел домой после поражения Симоненко от Кучмы, раздраженный, поддатый, хотя никогда не пил.
– Страну просрали, а он радуется процентам – мудак! – бушевал дед.
Тогда же он вышел из Коммунистической партии Украины, сдал партбилет, и близким навсегда было запрещено вспоминать об этом. Через несколько месяцев дед умер, и в квартире на Горького осталась одна бабушка. Крупин приносил ей продукты, и она все время жаловалась на сердце и легкие. На дежурный вопрос «Как дела?» отвечала: «Да какие дела? Стариковские». И тяжело, до обнищания духа, вздыхала.
Крупин перестал спрашивать и тогда бабушка начала обижаться, что внук не интересуется, как у нее дела. Она жаловалась и боялась умереть. Никогда Крупин не видел, чтобы люди так боялись смерти. А смерть преследовала Крупиных. Отец, победив рак, через полтора года погиб в авиакатастрофе. Погиб в тот же день, когда на «Москвиче» разбился Цой. И все вокруг говорили только о гибели лидера группы «Кино», а у Крупина было свое, личное, горе.
Теперь он жил один. В новой стране, в новом времени. Спал на тряпье, пил дешевую водку и не помнил, что было вчера.
Крупин притянул к себе бушлат. Залез в карманы. Водки, огурца не было. Осталась горбушка серого хлеба. И что-то еще. Небольшое, острое. Дрожащими пальцами Крупин достал красный камешек. Провел по его острым краям. И вспомнил. Как валили памятник Ленину тросами и ремнями. Как били его кувалдами. И как разлетались осколки кварцита. Один из них теперь был у Крупина. Он повертел его, жалея, что не может продать или обменять на чекушку. «На сувениры», – вспомнились слова панка.
Голод поддавливал. Скоро он станет невыносимым. Крупин помнил, как это – переживать голод. До круглосуточного надо было идти по Горького минут тридцать, но в таком состоянии – не меньше сорока пяти. Крупин все труднее преодолевал адово расстояние. И это был еще один его навязчивый страх.
Он помнил старуху, похожую на водяного, жившую где-то рядом с домом его матери. Периодически Крупин встречал ее в магазинчике «Влада». Она доползала туда: всегда в растоптанных, рваных калошах и незастегнутом, засаленном ватнике. Смердело от нее омерзительно, и продавщицы, даже в мороз, распахивали настежь двери. Старуха-водяной понимала это, но все равно доковыливала. Крючковатые, шишкастые пальцы ее не слушались, работали так же медленно, как и ноги. Она медленно копошилась в пакетике, где хранила деньги. Пальцы косно ощупывали лица князей на гривнах. Продавщицы зажимали нос, прикрикивали. А Крупин стоял рядом – задыхался.
«Не стать таким», – с этой мыслью он заставлял себя идти в магазин ровно. Но все равно горбился и не всегда видел дорогу. Натыкался на переполненные урны и пустых людей. Думал о старухе-водяном, подгонял себя ею. Шел в страхе, жил в страхе. Фобии обволакивали его. Сейчас, прежде чем совладать с ними, Крупин должен был найти средства. Деньги он хранил в пожелтевших книгах. Тех, что еще не сдал в «Букинист». Но Крупин помнил, что вчера он вытряхнул из них последние гривны.
Крупин подрабатывал русско-немецкими переводами. Сначала его находили по объявлениям, затем – по знакомствам. Крупину более или менее нравилась эта работа. Она не могла не нравиться ему после той, что была у него раньше. Когда он трудился в «толстом» литературном журнале на неопределенной должности: то подбирал авторов, то занимался редактурой и корректурой, но в итоге главред отправил его на реализацию книг, которые выпускало издательство при журнале. Книги издавались за счет авторов, и большую часть тиража отдавали им, но меньшая оставалась на складе – ее «вешали» на Крупина. «Сбыт» – он ненавидел это слово-инспекцию, навязанное, прилипшее.
Год Крупин таскался с клетчатыми баулами, набитыми чужими книгами. Торговал ими на чужих творческих вечерах. Покупали редко. На вечера приходили в основном пожилые люди – денег у них никогда не было. Чаще всего Крупин продавал одну-две книги. Приходил на вечера первым – уходил последним, собирая то, что принес, обратно, в клетчатые баулы.
Дорога, метро. Два-три стакана на ночь, чтобы уснуть. Потом их стало больше, но бессонница, наоборот, озверела.
А после умерла мама. В своей общаге на Виноградаре. И Крупина долго, неприлично долго не могли отыскать. Домашний телефон в его квартире на Горького отключили за неуплату. Мобильного никто не знал; Крупин часто терял аппараты. Но в дверь постучались. Раз, два, три, четыре – настойчиво. Крупин лежал, не поднимаясь; тогда у него еще была кровать. Приходить было некому. Каждый стук, каждый звонок приносил лишь неприятности, прогорклый запах которых Крупин всегда таскал с собой. Однако стуки не умолкали. Крупин решил, что пришли из коммунальной службы. Так настойчиво могли колотить в дверь лишь они.
– Кто?
– Вячеслав Игоревич? – раздался сухой голос.
На пороге стояла седая женщина, почти старуха. Крупин не пригласил ее зайти. Постеснялся своей нищеты. А седая женщина без предисловий сообщила о смерти матери. Известие ее было скупым, ломким. Крупин пошатнулся и ударился о косяк. Зашарил в поисках сигарет, чувствуя себя так, словно вот-вот обмочится. Женщина была беспощадна. На роль вестника смерти внешне она подходила идеально.
Крупин хоронил мать пьяным. Он не помнил ничего из похорон. Не хотел ничего помнить. Ни на гроб, ни на венок, ни на поминки денег не отыскалось. Мать была не из тех, кто откладывает на похороны. В ее тесной, с кислым запахом комнатке Крупин не нашел даже чистого белья. Только под драной кушеткой валялись пустые бутылочки из-под одеколона. Крупин с отвращением подумал, что мать глушила его. Но потом – не сразу, через мучительный приступ омерзения, – вспомнил, что одеколоном, смешанным с анальгином, она растирала больные ноги. Вспомнил и зарыдал.
На похороны Крупину одолжили денег в журнале. Он так и не отдал их. Ему сперва намекали, а после требовали. Крупин ушел из журнала, не захотел, не смог оставаться. Не из-за денег, конечно, а в совокупности. Крупин бежал от книжных баулов, от творческих вечеров, от полусумасшедших поэтов. Слишком много больных, несчастных людей встречалось ему на работе, и он не хотел приносить еще одну порцию несчастья.
Первое время после увольнения из журнала Крупин жил впроголодь, не платил по счетам, перебиваясь тем, что распродавал вещи из своей и материнской квартиры. А после его пришли выселять. Он отбивался, и ему пообещали для начала отключить электричество, воду. Тогда Крупин решил продать комнату мамы в общаге, но, не имея опыта в таких делах, отдал ее за гроши. Расплатившись, Крупин жил на них все это время, попутно подрабатывая переводами.
Однако в последние месяцы, пьяный, он все чаще стал допускать ошибки. Ему сделали предупреждение, а после от его услуг отказались. Он потерял одного заказчика, второго, третьего. Оставался последний. И Крупин заставлял себя не подвести его, выполнить работу в срок. Он почти не пил. Он засаливал русско-немецкий словарь.
Но несколько дней назад сломался его старенький ноутбук, неказистый, треснувший, как и сам Крупин. Чинить его денег не было. Крупин позвонил заказчику, попросил забрать вторую половину оплаты, чтобы отремонтировать ноутбук. Пожалуй, не надо было звонить с похмелья. Заказчик вскинулся, напрягся. И дал срок – три дня. Срок кончался сегодня.
«Черт, господи, черт!» – бессвязно шептал Крупин, мыкаясь по опустевшей квартире. Голод уже не щадил – душил. Крупина бил озноб. В голове вспыхивало и пульсировало. Хотелось убить кого-то, он бы убил, если б смог. Шальные, растрепанные мысли вертелись в голове. Врывались и исчезали, оставляя рваные борозды.
«…а что, если правда убить? Тогда ведь в тюрьму, а там кормят… какая глупость!»
«…что со мной? С тем, кто читал в этой квартире книги?..»
«…ордена, может быть, в коробке остались ордена…»
– За этот много не дам, – жестко сказал нахмуренный человек в красной бандане. Один глаз у него, кажется, был стеклянный. Крупин старался не всматриваться.
– П-почему? Это… эт-то очень дорогие.
– Для кого дорогие? Может, для тебя – да, а так – тю. – Человек, скупавший ордена, закурил сигариллу. – Хотя и ты распродаешь, значит, и для тебя – не дорогие…
Крупин сглотнул оскорбление. Не впервой. И дедовы ордена продал, как и материну квартиру – за гроши. Не следовало идти к покупателю пьяным.
Теперь коробка, в которой дед хранил ордена, лежала в чулане полупустой. Там остались лишь записи, тетради и фотографии. Иногда, в приступах отчаянного, пьяного бешенства, Крупин потрошил ее – искал то, что можно было продать. Однажды он нашел красный червонец – безуспешно пробовал его сбыть. Как-то ему повезло больше – Крупину попалась монета. Продав ее, он смог купить ящик водки и мешок картошки. Он волок их домой, как гигантского мамонта, оглядываясь, точно дикое, затравленное животное.
Но этой пыточной ночью в коробке не нашлось ничего. С остервенением Крупин выпотрошил ее. И, не найдя ничего, в ярости разорвал старую пожелтевшую тетрадь, исписанную дедовым почерком. Он не интересовался тем, что нельзя было продать, обменять на алкоголь.
Из пыльной папки выпала черно-белая фотография. С нее строго взирал человек в фуражке – прадед Крупина. Лицо у него было скуластое, заостренное, с большим хрящеватым носом, над верхней губой темнела родинка. У Крупина была точно такая же – он дотронулся до нее, – передалась через поколения. И те же скулы, и тот же взгляд, но прадед жил иначе.
Впрочем, сейчас Крупин не хотел думать об этом. Он искал деньги – не находил. И швырял бы мебель, если было бы что швырять. Но в одной комнате не осталось ничего, а в другой – лишь тряпье. Только на кухне сохранилась пара покосившихся шкафчиков и заляпанная жиром печка, которой Крупин почти не пользовался. Пустой человек в пустой квартире, обремененный лишь голодом. Он прожил эту жизнь один и остался один, а жизнь не текла, не двигалась, не делилась на вчера, сегодня, завтра, но сконцентрировалась в сердцевине выпотрошенной коробки.
Крупин вдруг ясно осознал это и проклял, закатив глаза к небу, загороженному облупившимся потолком. Свет лился с него. Теплый желтый электрический свет. Крупин пробился сквозь него и увидел люстру с одной раскаленной лампочкой. Люстра по-прежнему оставалась с ним, в этом вынесенном до основания жилье. Он, наверное, мог бы продать ее. Крупин приволок ящики, служившие табуретами. Взобрался на них. Хотел разобраться, как снять люстру. Посмотрел на крепления. Но ничего не понял. Измотанный человек, цепляющийся за последнее, шаткое. И тут Крупин вспомнил картинку. Еще одну, из детства. На люстре болтался человек.
Череда странных образов навалилась на Крупина. Повесился человек. В центре Киева. Скажет ли кто об этом? Промелькнувшая мысль показалась недостойной, мелкой. Но Крупин думал так не потому, что презирал мир, а потому, что презирал себя. Глубоко, беспощадно, как чернобыльская радиация. Дед часто говорил о ней, потому что жестоко переживал смерть Щербицкого – это был его первый надлом. Возможно, Крупин точно не знал, дед выводил людей на киевский Первомай 1986 года.
– Никогда не осуждай того, на чьем месте ты не был, – так дед любил поучать отца Крупина.
– Кто бы говорил! – огрызался тот.
Кто бы осудил Крупина? Завтра, послезавтра, через неделю – когда найдут труп. Что бы они подумали, увидев тело, болтающееся под облупившимся потолком? Опорожнившееся, еще более пустое, чем при жизни. Но не чистое. Малодушная мысль захватила Крупина. Точно дьявольская крупа, рассыпалась по квартире.
Лампочка вспыхнула и погасла. Прямо перед носом стоявшего на ящиках Крупина. Он обомлел, будто увидел знак. Тьма наполнила комнату. За окном кто-то вскрикнул. Крупин не мог сойти с ящиков, закольцованный в бессильном отчаянии. И глупая, шальная мысль стала вполне состоятельной.
IV
Крупин не нашел денег. То немногое, что осталось в квартире, валялось выпотрошенное, перевернутое. Когда-то давно Крупин читал о наркомане, который долбил стены, чтобы отыскать наркоту. Крупин был готов повторить это, но, совершенно обессилев, лежал на тряпье. Сломанный ноутбук валялся у дальней стены. Крупин не видел его, но понимал, что теперь отремонтировать его вряд ли получится. В отчаянии он швырнул его о стену, отрезав пути, уничтожив себя.
Оставалось только жилье, которым Крупин так дорожил. Оно пленяло, будто каменная тюрьма, сужалось, поддавливало. Крупин гадал, как люди зарабатывают деньги. К своим почти сорока он так и не выучил эту науку. Что-то подбрасывали родители, что-то бабушки, дедушки, а потом были дурные работы, нужные лишь как прикрытие – я при деле. А зарплата? Ну, не срослось. Трудное время.
Крупин давно скинул амбиции в глубокую яму. Они сгнили там. И даже дочь, жившая с матерью, не вдохновляла. Он больше полугода не разговаривал с ней – ни вживую, ни по телефону. Последний раз Крупин видел ее, бледную, испуганную, когда поздравлял с днем рождения. Он забыл вовремя сделать это. Утром его, похмельного, набрала бывшая жена.
– У твоей дочери вчера был день рождения. Ты забыл? – Голос ее был спокоен. Он разглаживал ненависть и презрение, как утюг.
– П-помню. – Крупин ответил не сразу, допил остатки.
– Почему не поздравил? – Пауза должна была измотать, но Крупин остался равнодушным. – Она ждала…
Когда Крупин опохмелился, стыд резанул больно. Он вспомнил дочь – общение с ней, неровное, рваное, как и вся его бестолковая жизнь. Наскреб какие-то бумажки, купил плюшевого медведя. Уже в метро сообразил, что для ее возраста медведь в качестве подарка был не слишком хорош. Но выкидывать было поздно. Ненавидящим взглядом Крупин смотрел на розоватого мишку. С этим настроением он и приехал к дочке.
Она не понимала, не принимала его. Бывшая жена стояла рядом, подталкивала ее к Крупину. Он протянул дочке медведя. Она неуверенно подошла – уже взрослая, но сейчас такая маленькая, невинная. «Несчастное дите!» – пронеслось в мозгу. Крупин ненавидел себя за то, что дал ей жизнь, за то, что привел ее в мир клетчатых баулов и пустых квартир.
Ему все больше казалось – теперь он уверовал в это окончательно, – что семьи отжили свое, что жизнь изменилась, а женятся, заводят детей исключительно по привычке. Перед дочкой Крупин испытывал стыд, гадливость. И в то же время теплую, словно утренний хлеб, любовь. Два враждующих чувства сидели в нем, раздирая, как на дыбе.
– Лучше бы не приходил, – буркнул он, уходя.
– Ну, с таким подарком, конечно, – саркастически ухмыльнулась бывшая жена.
Крупин вышел, ненавидя ее, но, дойдя до метро, понял, что злится он на себя. На того, кем он стал. С ним произошло чудовищное, обрекающее – Крупин ложно смирился.
Загибаясь в пустой, зачищенной от всякого присутствия жизни квартире, он не понимал, как сможет заработать хоть немного денег. Не знал, как показаться дочери. Она была не его; стала чужой, оторванной – той, которой без него лучше. Сможет ли она, указав на него, сказать «Мой отец»? Сможет ли идти рядом с ним? То, в кого – во что – он превратился, больше не имело права ходить рядом с людьми и тем более привязывать их к себе.
У Крупина никого не осталось. Все умерли, или он умер для них. Крупин не жалел себя. Но если существовал Бог, то Крупин жалел близких. Они смотрели на него с другого берега и страдали лишь от вида того, во что он превратился. Он скорбел по ним – не живым, но мертвым. И опять же, если бы существовал Бог, а вместе с ним нечто вроде загробной жизни, то Крупин бы встретился там со своими близкими. А он не хотел этого. Ему было стыдно. И стыд оставался единственным доказательством его жизни.
В темноте, думая о самоубийстве, Крупин снял с брюк ремень и теперь, успокаиваясь, наматывал его на ледяную руку. Крупин приобрел этот ремень на первую премию еще тогда, когда работал в институте. То тихое время запомнилось чтением книг и бесконечными перекурами. Ремень служил напоминанием о нем – добротный, прочный, сделанный из настоящей кожи. Крупину захотелось рассмотреть, изучить его, но в комнате по-прежнему не горел свет.
Крупин встал, пощелкал выключателем. Лампочка не пожелтела. Волнуясь, Крупин вышел на кухню. Поднес ремень к глазам. Взгляд туманился, но еще можно было рассмотреть то, что сопровождало так долго. Отверстия под язычок с белесой вытертостью вокруг воскрешали память.
Помимо фабричных дырок, были еще те, которые Крупин проделывал сам, дополнительно. Когда худел или толстел. И перемены внешние становились реакцией на события жизненные. Эту дырку Крупин проделал, когда растолстел после того, как, напившись, сломал ногу и пролежал в больнице несколько месяцев. Другую, когда, наоборот, исхудал во время беременности жены. Еще одну сделал, когда перебрался в квартиру на Горького.
Ремень был старый, но еще годный. Он был как сам Крупин – в дырах, истертый, но главное, еще был – его не потеряли, не пропили. Ремень выдержал многое. И Крупин должен был выдержать, сколько бы дыр в нем ни сделали, как бы его ни истерли. Жизнь требовала продолжения.
Крупин сжал ремень, вышел из кухни. На полу в коридоре валялась черно-белая фотография. С нее сурово взирал человек в фуражке. Крупин поднял фотографию, всмотрелся в лицо прадеда. Он почти ничего не знал о нем. Никогда не интересовался им. Дед говорил что-то вскользь, но Крупин не слушал. В памяти остались лишь случайно схваченные обрывки.
Прадеда звали Самсон. Он родился в селе под Саратовом. Участвовал в Первой мировой войне. Окончил шесть классов, по тем временам он считался образованным человеком. Его отрядили командовать пулеметным расчетом. А генералом у них был немец. Он сдал весь полк австро-венграм. Прадед ничего об этом не знал. Потому, когда австро-венгры замаршировали к легкой победе, думая, что все решено, пулемет излился свинцом, и австро-венгры – Крупин почему-то видел их в голубых мундирах – погибли. Полк все равно пленили, а прадеда долго пытали, но жизнь сохранили. Так он попал в плен. Его швыряли по лагерям, он застрял у мадьяр – от них и сбежал. Вернулся в Саратов.
Знал ли Крупин это? Или фантазировал? Но точно была революция, и точно прадед воевал у Чапаева, командовал пулеметным расчетом. Отличился, стреляя по своим.
Как это – стрелять по своим? Крупин не представлял. Но разве люди, что перед подъездом, не здороваясь, ставили машины в ряд, как лакированные туфли в прихожей, не стреляют в своих? Крупин видел деда, кричавшего на Майдане: «Будьте вы прокляты!» Его увели куда-то. И верзила с детским лицом сунул ему кулаком под ребра. «И это тоже война! Начало войны! Своих со своими!» – вдруг полыхнуло в мозгу.
Крупин вернулся в темную комнату, зашарил свободной рукой по паркету. Отыскал кварцит – до боли сжал его в руке.
Прадед был добрым. Когда его назначили главным по раскулачиванию в родном селе, он заранее приходил к жертвам и говорил: «Прячьте что можете! Мы придем завтра!» Возможно, это была только легенда. Возможно даже, Крупин придумал ее прямо сейчас. Но так хотел в нее верить – в живое, сильное.
Хотя мог ли быть добрым тот, кто отличился в Гражданской войне? Кто убивал людей из пулемета? Кто раскулачивал? Кто отбирал скотину, зерно? На это Крупин не мог ответить, но он знал, что кровь прадеда – его кровь, судьба прадеда – фрагмент судьбы всей страны; вынь кусок – и посыплется, замени – и утратится правда. Так делали – и разрушали целое. Сам Крупин был из таких. Неспособность вместить жизнь как процесс, как непрерывность мучила его последние годы, ломала, выкорчевывала из жизни. Настолько, что двадцать минут назад он хотел повеситься. Не впервые. И он ли один?
Но думал ли об этом дед, думал ли прадед? В той жизни, которая была не легче.
Крупин помнил, чем отличился дед. На Великой Отечественной войне он спас корабль, затушив пожар. Крупин помнил, чем отличился прадед. Он зачищал волжские степи от бандформирований. И наткнулся на хутор, где квартировались бандиты. Их, по легенде, было не менее десяти. Напарника прадеда убили сразу, а он выжил. И уничтожил бандитов. Стал героем. Отец Крупина уже не был таким – он слишком часто миндальничал, сомневался, но зато смог победить рак. Да, пожалуй, он тоже стал героем.
А что случилось с самим Крупиным? Почему на нем род героев прервался? Что стало с ним, подыхающим в пустой квартирке на куче тряпья? Он питался из рук тех, кто валил памятник Ленину. Ленину, за которого бились прадед и дед. И когда Крупин вспомнил панка, кувалдой разносившего памятник «на сувениры», а сам он, бездействуя, терся рядом, подтявкивая, подвывая, то понял, что сердцевина Крупиных извлечена – утоплена в бессилии и водке.
Вспоминая ту сцену, вульгарно-болезненную, Крупин презирал уже не только себя, но и тех, частью кого он стал. Порочное смирение, давно превратившееся в самоуничижение, обагрилось, прорвалось, точно плевра, и из него родилось новое – ненавидящее, требующее мести, способное на поступок.
V
Владимирский собор, чей вид раздражал обычно, в этот раз заставил остановиться. Крупин засмотрелся на купола, на золото на темно-синем. Когда он склонил голову, не способный в должной мере принять новое чувство, ливанул дождь. Влажно вскипел асфальт. Крупин дернулся, чтобы уйти. Мысль о пустотах квартиры, злоба, оглушившая там, потянули к Крещатику. Через тополиную аллею, через ночной дождь.
Люди Крупину не встречались, но на спуске Хмельницкого его облаяли две кудлатые псины. Шарахнувшись, Крупин почему-то вспомнил «Голубой огонек». Почуяв страх, псины залаяли громче. Но, сперва дернувшись, Крупин уже радовался, что рядом появились те, на ком можно было выместить злобу. Он схватил камень, швырнул его. Раздался вой, лай подугас. Вдохновленный, как охотник, пустивший кровь, Крупин схватил еще камень. Швырнул. Псины, завыв, убрались прочь. Крупин захохотал.
Внутри у него взрывалось и клокотало. Голод, терзавший Крупина, почти отступил. Он освободил место для ярости. Она рвалась наружу, искала выход. Крупин оглянулся. Улица стояла мертвая, в колком дожде. Тополиная аллея ползла вверх – к станции метро «Университет», к саду магнолий. Когда Крупин еще жил, он любил гулять там. Но слишком давно в саду не был.
Не найдя жертвы, промокнув, Крупин добрался до «пятачка», где еще вчера стоял памятник Ленину. Теперь от него осталось лишь основание, одно слово на нем – «ЛЕНІН». Куски, осколки – все разобрали. Бесхозными валялись только ошметки ремней, тросов. Крупин помнил, как тянули ими кварцитового Ленина вниз. Шел мокрый снег, похожий на вал жирных гусениц. Сейчас дождь замывал следы.
Крупин полез в бушлат. Достал фотографию прадеда. Она тут же намокла под декабрьским дождем. Крупин убрал ее, запомнив лицо: суровый взгляд, широкие скулы, родинка над верхней губой.
От разобранной пустоты, от стояния в одиночестве Крупин закричал. Он и не знал, что может голосить так, что в легких еще осталось столько воздуха. Размазанная по улице сырость лезла в нутро. Крупин видел себя вчерашнего, пьяного, замученного, певшего украинский гимн. И если жил Бог, то прадед и дед смотрели на Крупина тогда – и сейчас, когда он пришел на оскверненное капище отдать долги.
Дождь не прекращался. Стоять под ним было по-киношному глупо. Усилием Крупин оборвал крик, пошел в сторону Майдана. Движение уняло разрывное желание. Крупин побрел по Крещатику, мимо голых зимних каштанов, украшенных разноцветными лентами. Здесь уже встречались редкие люди. При виде их Крупин зло бормотал: «Суки!» Но бездействовал. Каждый шаг отбирал силы. Крестовый поход так и не повзрослевшего старика превратился в брожение.
Майдан перегородили мусорные баки, соединенные арматурой. Из закопченных бочек маслянисто чадили костры. Возле них грелись люди. На нескольких были надеты кислотно-салатовые манишки с надписью «Народний депутат України». Крупин желчно ухмыльнулся. Люди у бочек говорили о Ленине. Крупин захотел вмешаться, но за последние месяцы разучился говорить, общаться с людьми. Смог лишь подползти, выдавить:
– Мой дед… был к-коммунякой.
Высокий мужик с отливающим красным в свете костра шрамом на правой щеке покосился на Крупина.
– И прадед… б-большевиком.
Кто-то засмеялся. Дым из ближайшей бочки повалил еще гуще. Мужик со шрамом сказал:
– Ну и?
Крупин застыл, как на торос, наткнувшись на ровный, спокойный ответ.
– Тебе чего? – встрял в каличный разговор другой мужик, мордато-щетинистый. – Если ничего, то иди!
Крупин рефлекторно кивнул. Отошел от чадивших бочек, поплелся на Майдан дальше. Слонялся, блуждал меж людей и палаток. В одной пьяная девушка с венком в растрепанных волосах предложила ему печенья. То ли из-за внешности, то ли из-за алкоголя у нее вышло это почти интимно. От одного ее взгляда Крупин испытал забытое сексуальное возбуждение. Но, запнувшись, от всего отказался.
У «Глобуса», сев на ступени, Крупин кончился. Усталость растащила его. То сильное чувство, что он испытал в пустой квартире, сжав ремень, ушло окончательно. Крупин ощутил, как тяжело и неудобно его тело. Оно вновь чесалось, ломило, ныло. Озноб пробил его. Но гаже всего были мокрые от испарины и дождя волосы. Слизкими змеями они облепили голову, ледяными струйками от них ползли гаденькие змееныши. Крупин ерошил волосы, сдавливал голову, но все равно умирал в жерле ледяного вулкана.
– Эй, что с тобой? Эй!
Крупин не сразу понял, что к нему обращались.
– Все добре?[10]
Голосов было два, оба молодых, бойких, но один – мужской, другой – женский. Крупин поднял голову. На него внимательно смотрели две пары глаз. Больше Крупин ничего не заметил. Только глаза.
– У тебя все хорошо?
Змеи и змееныши ползли, шевелились, липли. Крупин мучился от брезгливости к самому себе. Ему сунули в руку горячий пластиковый стаканчик.
– В-вы что… делаете?
– Мы? – удивился женский голос, но мужской среагировал сразу:
– Революцию!
Крупин поднес стаканчик к губам. Даже сейчас он стеснялся своих грязных, заскорузлых рук. Отхлебнул. Горячее алкогольное провалилось в желудок.
– Надо согреться.
Голоса были добры.
– В-вы знаете, ч-что душа каждого… христианка? – вдруг сказал Крупин.
– Чого?[11]
– Христианка, – потянулся губами Крупин, отхлебнул из стаканчика, уже большим, сочным глотком. – А я не понимаю, что происходит. И в-вы… н-не поймете. Херня – твоя революция!
Он допил, смял стаканчик. Швырнул его туда, откуда шли голоса. И вместе с ним бросил крик:
– Мой прадед делал революцию. За Л-Ленина, слышишь?
– Слушай, ты! – мужской голос взвинтился.
Крупин наконец увидел, кто перед ним. Парень в дутой куртке и арафатке стоял, а коротко стриженная блондинка тянула его за руку. Крупин попытался встать, но не смог. Ноги затекли, не слушались. Тело больше не подчинялось ему. Крупин захотел, чтобы его ударили. Это был последний шанс – призыв к жизни. Для этого он был готов ударить сам. Пустить кровь – так поступали в старину. Но вместо этого Крупин выхватил черно-белую фотографию. Сунул ее куда-то в область арафатки.
– Это м-мой дед, а вы, – Крупин не мог отыскать слов, – п-пидорасы!
– Підемо, підемо![12] – потянула парня блондинка.
Но тот, разозлившись, выбил фотографию из рук Крупина. Она упала в талую лужу. Крупин захрипел:
– П-пидорасы, вы в-все п-пидорасы…
Блондинка вскочила, потянула парня в сторону, но тот уже не сдерживал себя. Толкнул Крупина ногой – быстро, резко. Блондинка вскрикнула. Крупин тюком повалился на бок. Сил не нашлось даже, чтобы выставить руку. Тупое, твердое, похожее на бетон, ударило Крупина в висок. Он тускло, на издыхании всхрипнул.
– Не треба було![13] – заскулила девушка.
– Задолбал! – не поддался парень.
Крупин успел заметить, как, удаляясь, переступают их ноги, упакованные в одинаковые желтые ботинки. Боль, прострелившая от виска по всей голове, затуманила взгляд. Натужно зажмурившись, Крупин попытался совладать с ней. Боль стала только сильнее. Крупин импульсивно дернулся, чтобы встать, но желание это тут же исчезло. Он ощутил сырой холод бетона, отдался ему. Где-то внизу, на ступенях, валялась фотография прадеда. Он погиб геройски.
Не сопротивляясь, Крупин пустил в себя тьму. Она задрожала и стала ровной. Слизкие змеи стянули череп, сырой холод проник внутрь. Ночную тьму разрезали утренние лучи. Над Киевом расцветала заря.
Мария Панкевич Нина
Сто лет назад я был привязан к одной странной девушке. На всех языках мира ее имя звучит одинаково. Черные волосы острижены, губы обкусаны, щечки румяные, длиннющие ресницы… А еще она курила втихаря папиросы, как ты сейчас куришь какую-то дрянь – думаешь, дед не только слепой, но и глупый? Ментол, ишь ты! Большевики тебе б задали ментолу… Это сейчас мы на краю света, ходим вверх ногами, а тогда всю страну вверх дном перевернули; мне просто повезло.
Ты что, играешь в компьютер? Да, я не вижу, но слышу, как ты барабанишь по клавишам, как по печатной машинке. А, ты стенографируешь… Ну, напиши своему милому, что все о’кей. Шутка ли – прилетела в такую даль за интервью к старику!
Пусть это будет моей последней встречей с прессой. Я все равно болтать с журналистами не люблю, а тебе в карьере поможет. Миллионер, долгожитель, сумасброд, да еще и русский. Ты когда-нибудь была в России? И слава богу. Хотя сейчас там, говорят, все иначе стало, огни реклам и ресторанов в больших городах, фильмы ваши по всем каналам крутят. Многие горюют по Советскому Союзу, значит, все равно несладко приходится.
Мне уже Родину не увидеть, да и не тянуло меня туда никогда. Хотя раньше снилось – гранитные набережные, купола соборов, толстые селезни в темной воде, белоснежные мраморные статуи в саду. Мы с милой моей часто гуляли, и шарф колол мне горло, но она все равно заматывала его на мне так, будто с прогулки мы возвращаться не собирались. Я видел во снах вечно серое небо своего родного города, а потом начинался дождь, он капал и капал мне на лицо, и когда я просыпался, мои щеки были мокрыми. Может, люди во снах и вправду путешествуют во времени и пространстве, а?
Мое путешествие в страну Снов не за горами. Поэтому я буду говорить о том, что важно для меня, а не для вашей газетки. И не задавай мне вопросов, я этого не люблю. Кажется, с третьей женой, Лилиан, мы из-за этого и расстались – что, где, когда да почему. Так любого человека с ума свести можно. Или это была Элен, четвертая? Балерина, красотка, но мозгов – пффф… Сначала это забавляет, потом начинает бесить. До этого я никогда не доводил. Сейчас они наперебой рвутся сюда, ко мне в имение – хорошее слово, правда? – но слугам приказано их не пускать. У меня есть Мэй, ей всего двадцать три – невинная душа, мы познакомились с ней на Филиппинах лет восемь назад, и я забрал ее с собой в Австралию. Тогда я еще немного видел – и даже кое-что почувствовал, когда велел ей раздеться и делать, что я говорю. Конечно, это было эстетическое удовольствие – нежная, тонкая, маленькие грудки, такая покорная… Нищета там страшная, конечно. Что значит – редактор не пропустит? Я тебе про жизнь говорю, деточка. Будь у вашего редактора столько денег, сколько у меня, неизвестно, чем бы он занимался. Да и Мэй от меня ни на шаг. Заботливая девочка.
Это самые длинные мои отношения – на старости лет, так сказать, повезло. Все дело в языковом барьере. Когда я умру, то ей кое-что останется, она сможет выучить английский, французский, хоть хинди. Будет жить в этом доме или продаст его, если захочет – тут заблудиться можно, согласна? А пока мне нравится, что она ничего не понимает, кроме того, что ей понимать нужно. Завидной невестой будет, вот увидишь! Барские, конечно, замашки, куда от них.
Да, семья моя была небедной – у нас был большой дом в центре города, прислуга, предметы искусства, много книг. Маман устраивала вечера, папа́ служил офицером. А потом дела пошли на спад. Взрослые все чаще стали разговаривать негромко, тревожные интонации, заплаканные глаза маман, кухаркин бунт и необходимость искать новую хозяюшку, что готовила бы не хуже, – все это вносило в нашу размеренную жизнь сумятицу, беспокойство. Потом у взрослых в глазах появился страх…
Да, это было целый век назад – Великая Октябрьская революция, которая исковеркала жизнь моей семьи. Много написано и сказано о тех годах. Я не историк. Ну, дожил до ста с лишним лет, так моей заслуги в этом нет. Климат тут у нас хороший. Давай лучше расскажу тебе сказку, ты мне во внучки годишься. А ты потом расскажешь ее своим читателям.
Бесконечные войны сотрясали огромное государство с начала прошлого столетия, и правитель не смог удержать свой жестокий нищий народ в узде. Его называли «царь» или «император», ему верили, но он подписал отречение от престола, чем предал и себя, и тех, кто его любил. Это было незнамо где – город, в котором жила наша семья, назвали иначе, даже страны потом такой не осталось. Кстати, а ты тоже с короткой стрижкой ходишь? Ну, тут у нас жара. А там, где я родился, было зимой морозно и темно, летом прохладно, и солнца я почти не видел, как не вижу его и сейчас. Страшно быть беспомощным, как дитя!
Нина была моей гувернанткой. Несмотря на небольшой рост, ума и смелости ей было не занимать. Следов ее уже не разыскать, хотя я посвятил этому немало времени и сил. Сколько в той державе безымянных могил, да и кто тогда вел счет потерям? Но Нина, моя Нина, вытащила меня из этой топки, и чего ей это стоило, я могу только догадываться.
Знаешь, дорогая, семилетнему ребенку, потерявшему все – солдатиков, в которых я никогда больше не играл после, любимую комнату, которая была для меня целым миром, ласковую maman, вечно озабоченного чем-то papá, которого мы видели редко, вредную старшую сестру Леночку, что тиранила меня, пока не видела Нина, – во французской провинции у дальних родственников было несладко. Но я остался жив, а вся моя семья попала в мясорубку… Слушайте, ну у вас же не «желтое», а солидное издание. Почитайте документалистов. Я же не свидетель эпохи, так, небольшой очевидец.
Пылал рояль, за которым Лена разучивала этюды, и как я жалел, что ненавидел эти гаммы! Казалось, что мой мир разлетается на маленькие кусочки. Еще несколько часов назад мы все пили чай из блестящего самовара, было уютно, тепло, привычно, а сейчас Нина зажимала мне уши. Maman жалобно кричала из дальней комнаты под гогот солдат, но я все равно слышал эти душераздирающие дикие вопли. Знаешь, давай я буду называть тебя Ниной – я соскучился по ней, кроме того, мне все равно, как тебя зовут – Флорида или Эдельвайс… Прости, Иллинойс. Значит, ты помнишь, откуда ты родом. А я вечный бродяга, и только Господь даст мне покой. Большевики не верили в Бога, а я верю и пережил проклятый строй! Папа бы тогда застрелил красноармейцев, но его последнее время никогда не было дома, сестра моя просто исчезла, и больше я ее не видел. Какая была разница у нас в возрасте… Да какая разница. Боюсь, на ее судьбу это не повлияло.
В тот вечер, мой последний вечер в родном доме, Нина впервые заговорила со мной грубо. Сиди смирно, сказала она, не то я тебя сама убью. Я не поверил, но она приблизилась к человеку, что охранял нас, и заглянула ему прямо в глаза. Он был рябой, низкий, в драной одежде, но с винтовкой. «Пойдем, приодену тебя?» – сказала она ему негромко. Я задрожал от страха и ненависти, вцепился в юбку Нины, но она отшвырнула меня ногой. Вскочив на четвереньки, я замер. Пока грабили наш красивый, с безупречным вкусом оформленный дом, Нина увела парня в комнату мамы. Выстрелов я не слышал, но она выскочила оттуда как ошпаренная, прижала палец к губам, затащила за руку. Враг не шевелился, а Нина ледяными руками засовывала нам в карманы деньги и мамины драгоценности. Она, похоже, всегда знала о тайнике, и лучше бы она оставила всё себе, но она поделилась со мной.
На домах висели красные тряпки, у людей были красные щеки, многие шатались без цели по кровавому городу. Мы с Ниной не спеша вышли из парадной. «Смотри под ноги!» – приказала она. Я хотел спросить про маму, но испугался, что Нина меня бросит, и шел молча, замотанный, как девчонка, в старый платок, завязанный узлом под подбородком. Она оттерла руки снегом и перекрестилась на купол, это я помню.
Потом она меня, наверное, несла, потому что очнулся я среди незнакомых людей уже в поезде. Денег при мне не было, но я и не знал им толку. Главное, что Нина написала торопливым почерком адрес моих французских родственников на картонке и наспех зашила мне её в курточку вместе с небольшим, почти плоским колечком, которое мать ни разу при мне не надевала. От вокзала в новый дом меня довезли какие-то добрые молодые парни – много было охов и ахов, расспросов, но я как будто онемел, сумел только назвать свое имя. Воспитывали меня строго, не то что дома. Я понял, что чужой ребенок на самом деле никому не нужен, что я все же обуза, поэтому хватал знания, учился жадно и старался не расстраивать тетю Катрин и дядю Матье. Больше всего мне нравилось заниматься математикой. Сложные задачи порождали во мне азарт, я мог думать только о них, когда занимался, и не размышлял обо всем остальном. И хотя я начинал с малого, нашлись люди, что помогли мне реализовать амбиции и вложились в меня. В будущем я никогда не гнался за процентными ставками. Мой банк славился стабильностью, мои работники – честностью и тем, что идут навстречу клиентам. Людская молва расходится быстро. С хорошей репутацией мне несложно было расшириться – филиалы работают по всему миру уже много лет.
Знаете, что мне помогло сколотить состояние? У меня нет чувства юмора. Ни одна женщина не ужилась со мной, потому что мне никто не нужен. Наследников у меня нет. И хотя казалось, что времени у меня впереди еще много, старость все же наступила. Я не чувствую себя одиноким – Мэй вывозит мою коляску к океану, я слушаю его шум, дышу им, и удивительное спокойствие наполняет меня. Вокруг играют дети. Они дразнят меня Ноем за седую бороду. Почему Ноем? «Ной спас свой народ, а кого могу спасти я?» – вот о чем я думал, пока решение само не пришло ко мне.
Я решил, что мое состояние останется не современным проповедникам беззаботной жизни и не хитрым сектантам, а дельфинам. Вряд ли они устроят в океане гражданскую войну. Пусть экологи исследуют их, борются со злодеями, что их убивают, в общем, занимаются своим делом на мои деньги. Я беседовал с ученым, который уверяет, что цивилизация дельфинов многократно совершеннее нашей. Помочь им остаться на этой планете – дело благородное, столько об этом пишут и говорят. Даже если на Земле останутся только дельфины – и слава богу! Может, этим завещанием я искуплю свой эгоизм и помогу беспомощным перед человеческой злобой и глупостью существам – как когда-то помогла мне юная Нина.
Примечания
1
Фрагмент из романа Ю. Буйды «Цейлон» (М.: Эксмо, 2015).
(обратно)2
Из книги Ольги Славниковой «Любовь в седьмом вагоне» (М.: АСТ; Астрель, 2008).
(обратно)3
Фрагмент из романа В. Бочкова «Брат мой Каин».
(обратно)4
Фрагмент из романа О. Брейнингер «Theprankempire».
(обратно)5
Борьба (укр.).
(обратно)6
Слава нации (укр.).
(обратно)7
Банду прочь (укр.).
(обратно)8
Свобода или смерть (укр.).
(обратно)9
Не все сразу, ты не один! (укр.).
(обратно)10
Все хорошо? (укр.)
(обратно)11
Чего? (укр.)
(обратно)12
Пойдем, пойдем! (укр.)
(обратно)13
Не надо было! (укр.)
(обратно)

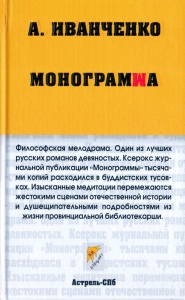



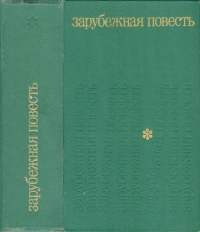



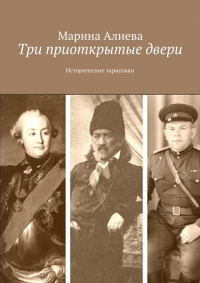

Комментарии к книге «Семнадцать о Семнадцатом», Евгений Анатольевич Попов
Всего 0 комментариев