Александр МЕЛИХОВ
СВИДАНИЕ
С КВАЗИМОДО
Роман
СУДЕБКА
Когда от их стука слегка задребезжало оконное стекло, она ничуть не испугалась: к Кольке такие и ходили — не сильно бритые, но и не сказать, чтобы очень уж небритые, брезентовые плащи подзамызганные, но все ж таки не до бомжатины, — стройка есть стройка, сто первый километр есть сто первый километр. Колька с утра уехал в город и скоро вроде должен был вернуться. Она вполне культурно предложила им подождать, накрыла лишь вчера отскобленный стол с красивыми темными прожилками, — из-за годами впитывающегося масла дерево немножко просвечивало и казалось очень дорогим. У гостей с собой было, и она поставила им хорошие граненые стопки, нарезала селедки, лучку, но сама пить отказалась, чтоб видели, что она не такая.
Но когда они после похвал и заигрываний перешли к поглаживаниям, она сразу дала по рукам — одному, другому…
А третий, самый неразговорчивый, вдруг повалил ее прямо на стол, на пустые тарелки и стопки. Это было до того по-дурацки, что она даже не испугалась, а попыталась его сбросить с себя, словно невесть откуда свалившийся мешок. Но мешок пиявкой всосался в ее рот, а его дружки с двух сторон схватили ее за ноги и стали тянуть в разные стороны. А она с утра всего и накинула халат поверх ночнушки…
Она и сама не знала, что так лихорадочно пытается нашарить, наверно, чтонибудь твердое, не больше, но когда почувствовала в руке деревянную рукоятку, уже действовала, как машина: изо всей силы, докуда дотянулась, всадила навалившемуся нож в задницу. Он с воплем подскочил, и она, взлетев за ним пружиной, вбила лезвие в клетчатый жирный бок. Он охнул и осел. Она такой же пружиной
развернулась к правому (он медленно распрямлялся, а нижняя челюсть еще медленнее отъезжала книзу) и без промаха ударила его в ямку возле шеи, — тот хекнул, будто колол дрова, и она успела выдернуть нож раньше, чем тот успел схватиться за раненое место. Он сразу и схватился, и отшатнулся, и загремел через табуретку. Третий бросился бежать, но споткнулся о порог, и она ударила его в спину — раз, другой, третий, четвертый, пятый…
Вернулась в комнату. Корчился и матерился на полу один только первый, — держась за бок, задирал рубаху, пытался заглянуть, чего там делается, — она добила его с одного удара. Затем поставила табурет на ножки и, не двигаясь, просидела до темноты. Темнело уже рано, но она не шевелилась, пока не поняла, что Колька не приедет. А потом до нее дошло, что эту шатию, наверно, никто не видел, а и видел, так не обратил внимания, по поселку много шарится таких.
Черная зубчатая стена елей начиналась сразу за бараком, опушку заменяла свалка — стаскивали туда кто во что горазд. Она, надрываясь и задыхаясь, среди непроглядной мокрой тьмы поочередно отволокла всех трех на их же плащах к ржавым ведрам и прогнившему тряпью, не чувствуя ни малейшей брезгливости, разгребла помойку руками, бесконечно долго на ощупь рыла яму, потом на ощупь же стянула туда все три тела и, хрипя уже не горлом, а грудью, то лопатой, то руками засыпала их мокрой землей; притаптывать не стала, побоялась топтаться на людях, лишь, ползая на четвереньках, постаралась нагрести туда побольше всякой дряни.
Потом бесконечно рвала на тряпки старые платья и отмывала загустевшую кровь; кровавыми тряпками набила два полиэтиленовых мешка и сволокла уже на нормальную помойку, сложенную из шпал. Обычно она стучала по люку, чтобы отогнать крыс, но на этот раз все сделала тихо и даже не побоялась задвинуть мешки поглубже. А потом заснула как убитая, не раздеваясь и не разобрав постель.
Колька приехал лишь к обеду, злой (угодил в вытрезвиловку), рук ее ободранных не заметил, спросил только: «Ты чего как пыльным мешком шандарахнутая?» Знал бы он, что это был за мешок…
А потом пошла обычная жизнь. Этих сволочей если кто и разыскивал, до нее их розыски не дошли. Зато где-то через полгода она начала слышать голоса. Слов было не разобрать, но они на что-то жаловались, даже плакали. Сначала она думала — ветер, но они не умолкали и в подполе. Колька их не слышал, только злился, а голоса становились с каждым днем все громче и жалобнее, так что в конце концов она почти совсем перестала спать, исхудала, кожа под глазами ссохлась и пожелтела, как урюк, понемногу переходивший в чернослив…
В милиции ей не поверили, но, когда раскопали свалку, поверить пришлось.
*
*
*
Он гордился, что как его в детдоме перекрестили из Киры в Кирюху, так он и в свои сорок два оставался тем же Кирюхой — бывалым, тертым, умеющим и срубить бабки, и завалить бабу, и, если надо, толково отсидеть: настоящий мужик, на всех забивший, в любой момент готовый бросить хату, бабу, работу и вербануться хоть в пустыню на газопровод, хоть в тайгу на лесоповал. Потому его и разозлил этот ленинградский пацан, когда начал брать судью на слезу: по наклонной плоскости, мелкая кража, нуждался в снисхождении…
Да ни в каком он снисхождении не нуждался! Взял на спор с витрины пачку печенья и спокойно пошел, руки в брюки, и кивале тоже так прямо и врезал: ты-то чего подмахиваешь? А то мелкая кража, мелкое хулиганство, мелкая кража, мелкое
хулиганство — все у этого сосунка мелкое, он сам только шибко крупный, житухи не нюхал, а туда же: бессмысленная, пустая жизнь… У него, видать, шибко полная! Да он, Кирюха, больше перетрахал баб, чем этот сопляк с Дунькой Кулаковой кончил! Еще бороду отпустил… Под геолога, что ли, косит? Поглядели бы на него в разведке где-нибудь на Таймыре или на Колыме!
Когда он про них с Азимкой стал вкручивать (почему-то, как бы с намеком, напирал, что она Ахматова, — нормальная татарская фамилия), так Кирюха чуть не блеванул: встретились ночью на пригородном вокзале, сразу же вступили в половую связь… А что, он должен был, как ты, полгода по театрам ее водить, когда он полгода те самые живой бабы не видел? Распили «агдамчику» под лестницей, — от него кровь густеет и х… толстеет, — да он ей и засадил на ее же ватнике. И хорошо потом погуляли, а не так, как этот бородатый пидор нудил: передвигались в ночных электричках, ночевали на вокзалах, пьянствовали, перебивались случайными заработками…
Это что, плохо? А лучше запрячься в один хомут и на всю жисть-жестянку?
На зиму они на пару устроились в лесхоз, и все было бы ништячок, если бы Азимка не оказалась с начинкой. Само собой, не от него, по месяцам не выходило. Ну и чего он, дурней трактора — кормить чужого спиногрыза? Тем более и на хате хозяин сказал, что сдавал угол бездетной паре, а хныканье с пеленками ему и свои остоборзели. Так и что, он, Кирюха, не имел права в лоб объявить Азимке, что, если не избавится от ссыкуна, он с ней жить не будет? Все было по чесноку, все мужики всем бабам так говорят — кто согласится тянуть на себе чужого выб…ка?
Ему и во сне не могло присниться, что эта дура безмозглая возьмет и бросит ребенка в лесу! Они ж, татарки, он считал, за детишек держатся. Сто же раз долбил этой дуре косорылой: оставь в роддоме, оставь в роддоме — только бабе такое могло прийти в башку: раз с ней с Виталиком в больничке все так носятся, значит, оставить его западло. А в лесу бросить возле муравьиной кучи не западло. Еще и покормила напоследок, лахудра. Хотя, если разобраться, в лесу ж никто не видит, выеживаться не перед кем. Грибник через неделю набрел, так тоже думал, просто куча тряпья, кое-как закиданная ветками. А тряпье вдруг запищало.
Потом врачи говорили, что все дело было в муравьиной кислоте, чем-то там она полезная. А в зале, вместо чтобы обрадоваться, опять завопили: звери, звери!.. Он-то тут при каких делах? Но, правда, и болезни прокурор полчаса зачитывал: и пневмония, и воспаление среднего уха, всего не упомнишь. Бабы в зале на этом месте прямо завыли: расстрелять обоих — если б не усиленный конвой, точно бы разорвали. Хотя никто их с Азимкой там знать не знал, их в райцентр привезли судить. Но подумали бы своими бошками: да, Азимка и правда хотела Виталика убить. Но не убила же! А ему и вообще, получается, надо зеленкой лоб намазать только за то, что не хотел кормить да слушать визг чужого спиногрыза.
В детдоме зеленка — это было главное лекарство… И ничего, выросли покрепче маменькиных чмошников. Но этот бородатый пацан, надо отдать, не зассал. Его б тоже разорвали, дай им волю, его в воронке вывозили на соседнюю станцию, — так его и в электричке мог бы опознать какой-нибудь доброхот, а он все равно трендел, как по бумажке, — Кирюха даже приглядывался, не подглядывает ли он куда — нет, не видать. Он правильно ухватился: Азимка Виталика выбросила, на Кирюхино счастье, аккурат в тот единственный день, когда он не гудел, а приполз-таки на вырубку, и получалось, он за полтора обеденных часа должен был встретиться с Азимкой, оттащить пацаненка в лес и опять добежать до участка. Ленинградский шапира на этом и оттоптался: за такой срок туда-сюда мог бы смотаться олимпийский чемпион, а не ведущий антиобщественный образ жизни гражданин сорока двух лет без
определенного места жительства. Но, похоже, Кирюху тоже можно было бы запустить на олимпиаду, если б его всю дорогу два мента подгоняли пинками и грозились завалить при попытке, если будет тормозить. Они его тоже ненавидели, и за Виталика, и просто так, открыто говорили: когда вы только все, мрази, передохнете…
Но ленинградский докторишка правильно трендел: у преступления должен быть мотив, а у него мотива не было, он за Азимку не держался, он и в больничку к ней приходил уже с Нелькой (на суде не сразу понял, кого тут называют Нелли Веретенниковой). Да только этому лошью без разницы — из-за него же Азимка ребенка выбросила? Из-за него. Значит, по-ихнему он тоже виноват. Правда, и питерский докторишка талдычил в одну точку: почему на следствии Азимка базарила, что все сама задумала, а на суде стала орать, что это он ее заставил? Ежу понятно, а этим баланам не понятно: сто процентов ревность! Она как увидела Нельку, сразу и забазлала: это он, это он меня подучил! Прокурор Иваныч сразу подсуетился: может быть, он вас заставлял, угрожал? «Да, да, угрожал, пусть посидит без бабы!!!» Ну — ревность же, сто процентов! «Так вы, может быть, вместе и ребенка в лес относили?» — «Вместе, вместе!»
И все ж таки ленинградский умник дожал этого залупинского Иван Иваныча, на минутах дожал. Выяснил, откуда и когда Азимка выходила с Виталиком, и получилось, что у нее до встречи с Кирюхой должно было пройти еще самое маленькое сорок минут. А после этого и чемпион бы не успел. Тем более Азимка после родов.
Да еще покормить, да еще ветками забросать!
Все, сто процентов не виновен, освободить из-под стражи в зале суда. А Азимке заделали пятнаху за покушение с особой жестокостью, с попыткой оговора и много еще чего. И тут надо бы все сделать по-умному, втихаря, он и сам, ну его на х…, не хотел освобождаться среди этих волчар, а Нелька-дура — ну, баба есть баба, да еще поддатая — заорала: Кирка, поехали ко мне, обмоем новую жизнь! Зачем было Азимку так при всех опускать? Он только начал оглядываться на конвоиров, проводят они его к заднему выходу или так тут и бросят на съедение, и вдруг шею как обожгло. Схватился — а там не просто кровь, а прямо по пальцам бьет, будто шланг прорвало…
Он так ничего и понять не успел: в глазах почернело, и тут же сквозь черноту близко-близко чьи-то сапоги.
Потом, естественно, проводилось служебное расследование, где Азима Саидовна Ахматова раздобыла кинжально острый осколок оконного стекла, да как пронесла его в здание суда, да как сумела так точно попасть в сонную артерию… Что обыскивали ее тяп-ляп, это было понятно: отупевшая пришибленная деградантка — никто от нее такой лихости ждать не ждал. Но вот кто ее снабдил орудием убийства, кто настрополил — подозревали немолодую лесбиянку-рецидивистку Марину Игнатовну Федорову по кличке Федька, но никакого доказательного материала на нее собрать не удалось.
*
*
*
Лиля всегда пребывала где-то выше: он в полуподвальном этаже, она в полуторном, а когда ее мать начала время от времени зазывать его что-нибудь подремонтировать по электрической части, он понял, что обретается ее семейство на вышине совсем уж недосягаемой. Лилина мать, похоже, считала, что сын электрика должен тоже разбираться в электричестве, и он из кожи лез, чтобы оказаться достойным ее доверия. Так что, развинчивая розетки, лампы и утюги, он
умудрился ни разу не оконфузиться да еще и вороватыми косыми взглядами изучить весь Лилин чертог, исключая лишь ее спальню – у нее была своя спальня!
Самое большее, на чем он решался задерживать взгляд, это были столики и кресла со звериными лапами, выточенные как будто из камня, а не из дерева, проросшие черными цветами шкафы, до того огромные, что казалось, их не могли втащить в двери, а они сами тут выросли и разрослись. Он был счастлив, что чем-то может ей послужить, но не любил, когда она заводила с ним какой-нибудь разговор из вежливости: он и так-то понимал, что он недостаточно для нее культурный, а тут уже превращался в окончательного дурака. Зато заходившие к ней молодые люди ни перед кем не робели, да и она с ними сразу веселела, и тогда он спешил ускользнуть особенно быстро, пока не заметили на его лице выражения мертвой тоски.
Потом она поступила в университет, а он нанялся на ЛМЗ учеником расточника и очень быстро выдвинулся в передовики. Щедрее всего платили за ночные смены, а ему они лучше всего и подходили: после смены как раз успевал издали, чтоб не заметила, сопроводить Лилю с их Четвертой линии до Университетской набережной. Но однажды февральской оттепелью она вдруг повернула от Невы и как-то насмешливо двинулась ему навстречу. Он, мертвея, ей кивнул, кося в сторону, но она совершенно по-свойски придержала его за рукав: «Слушай, я же знаю, что ты с осени за мной ходишь. Пойдем лучше ко мне».
По дороге она весело болтала, но он только гымкал и угукал. Она же привела его в свой чертог, с шуточками, помогла стащить куртку, потом, насмешливо подталкивая в поясницу, препроводила в свою спальню, где он, не понимая, что это такое, обнаружил несусветный бардак, и начала помогать ему и дальше стянуть хороший венгерский пиджак, затем румынскую рубашку (близкий к кончине, он все же порадовался, что ради нее не жалел денег на одежду), затем…
Она вела себя как настоящий друг: видя, что он ни жив ни мертв, она выпустила его брючный ремень и нежно прошептала: «Успокойся, мы просто полежим! Ты же хотел меня поцеловать? Вот и целуй, пока не надоест».
Ему не надоело, надоело ей. Он уже снял для них комнату на углу Среднего и Шестой, вступил в кооператив, записался на подготовительные курсы во втуз при заводе, хотя и так получал больше профессора и прилежнейшим образом изучил «Песнь о нибелунгах», которую нашел на прикроватном Лилином столике. Но в один солнечный, весенний и, как все они теперь, счастливый день, когда он после утренней смены пошел встречать ее на набережной, она в какой-то особенно дружески-небрежной манере пригласила его посидеть в зазеленевшемся Румянцевском садике и так же дружелюбно сообщила ему, что между ними все кончено.
Как, почему, что он сделал?.. Нипочему, ничего не сделал, просто ей надоело. Маменькины сынки, которые ее окружают, такие ординарные, а он, по крайней мере, на них не похож. А оказалось, что он тоже ординарный, только по-другому.
Он был уже мертв, но язык продолжал трепыхаться, как хлопает крыльями курица с отрубленной головой: но это же как посмотреть… что значит ординарный…
И она так же дружелюбно принялась разъяснять ему, что значит ординарный. Он и без нее знал, что он такой и есть, но она все говорила и говорила, а он все сходил и сходил с ума. И наконец схватил ее за горло и принялся трясти с криком «Замолчи! Замолчи! Замолчи! Замолчи!..».
Когда он наконец пришел в себя, она тоже была мертва. И если бы он сразу это понял, он бы как-нибудь сумел убить себя. Но он сначала пытался делать ей искусственное дыхание, о котором не имел ни малейшего понятия, только сгибал и разгибал ей бессильные руки, потом бегал искал телефон, чтобы позвонить
в «Скорую» — короче, когда до него наконец дошло, что ничего поправить невозможно, он уже находился под неотступным наблюдением.
*
*
*
Этот василеостровский Мартин Иден заставил Юлю собрать в кулак не «научную объективность», разумеется, ибо психология не наука, поскольку ее изучают при помощи ее же самой, определяют точность весов на тех же самых весах, но — все, чему ее выучила жизнь. Она давно поняла, что эксперт не должен изучать следственное дело: одни только фотографии удушенных-застреленных-зарезанных-зарубленных разом настроят видеть в убийцах чудовищ, — вмиг вылетит из головы, что джентльмен, пропускающий даму в ресторан, ровно та же личность, что и хам, отшвыривающий ее же от двери, — только потому, что начался пожар. Не говоря уже, что всяческие брызги мозгового вещества да разинутые беззубые рты, мутные полуприкрытые зрачки (это еще самое невинное!) потом месяц будут стоять перед глазами.
И на судах ей тоже бывать не надо, а то всех станет жалко. А от нее требуется не клеймить и не оправдывать, а оценить, насколько обвиняемый способен понимать, что происходит, предвидеть, что получится, следовать принятым правилам…
Даже человеческих слов она должна избегать — добрый, злой, умный, глупый: пока пользуешься словами интеллект и эмпатия, меньше шансов расчувствоваться. То есть подыграть тому, кого выслушаешь последним. Или тому, кто тебе кого-то напомнит. И в итоге начнешь благородно подыгрывать себе самой.
Но Мартин Иден с Четвертой линии сочувствия избегал вполне сознательно. Понимал ли он, что своими действиями мог причинить смерть потерпевшей?
— Какая разница, понимал не понимал… Убил — значит, должен отвечать. Говорит непримиримо, но без аффектированной ненависти к себе.
Знает ли он, что убийство, совершенное в состоянии внезапно возникшего сильного душевного волнения, карается несравненно мягче?
— А что, бывает, убивают и не волнуются?
— Нет. Но не все теряют способность понимать, что делают.
— Ничего не понимают, а все ж таки за нож хватаются? Не за зубную щетку? Я тоже не себя за горло схватил…
Напряженная мимика на мгновение обмякла, в глазах мелькнула смертная тоска, но тут же вновь сменилась непримиримостью. Так почему же тяжкое оскорбление со стороны потерпевшей могло ввергнуть в беспамятство этого Штирлица?
Говорить больше было не о чем, пришлось вызывать конвойного.
Двери не позволил закрыться капитан Чижов, местный Анатоль Курагин. Им со следователями общаться не полагалось, но Чижову инструкции не писаны.
— Ты заметила, он, когда говорит, немного морщится? Он где-то вычитал, что самураи в плену прокусывают себе язык и пьют свою кровь, пока всю не выпьют. Это же все сказки, а он, дурак, поверил.
Так вот оно что! ДОВЕРЧИВОСТЬ, вот та личностная особенность, из-за которой он утратил контроль над собой!
На следующий день язык у него, видимо, воспалился — ей даже думать об этом было больно… Но этот Муций Сцевола виду не подавал, только говорил очень медленно.
— Знаете, мне кажется, я поняла, почему ее оскорбление вас так потрясло: она была для вас не просто любимой девушкой, но еще и знаком какого-то прекрасного мира. И вместе с ней рухнул весь мир.
Он помолчал, словно бы прислушиваясь к чему-то очень важному в себе.
— Не знаком. Пропуском. Я на нее, грубо говоря, запал, когда увидел, как ее мать с отцом общаются. Через слово «пожалуйста», «если не трудно»… И я понял, что тоже хочу так. Туда. Думал, мы тоже всегда будем друг другу так говорить: «пожалуйста», «если не трудно»...
Он выговаривал все это очень медленно и равнодушно, как не про себя, и вдруг на словах «если не трудно» у него вырвалось страшное рыдание, — конвоир тут же влетел пулей. Она сделала поспешный умиротворяющий жест, но и без того сразу было видно, что подэкспертный не опасен: сложившись вдвое, он почти беззвучно трясся и грыз кулаки. При виде конвоира он сник, вспомнил, где находится. А она с чистой совестью тут же настучала на машинке заключение о его идеалистической ценностной ориентации, следствием которой явилась утрата самоконтроля и прочая ограниченная вменяемость.
Лишь через несколько дней вдруг стукнуло: настоящий-то Мартин Иден не захотел жить в мире без любимой сказки!.. Может, этого парня тюрьма-то с ее надзором как раз и спасла бы?..
*
*
*
К моменту встречи с романтическим расточником ее уже не удивляло, что самые простые люди способны творить дела, о которых когда-то слагали легенды и создавали трагедии. Но какого Шекспира вдохновила бы необесчещенная Лукреция со сто первого километра — ему подавай римлян, патрициев, царей…
Какой же она была юной дурочкой, когда потихоньку печалилась, что в наши дни уже не убивают из-за оскорбленной чести, из-за поруганной любви… Судебная экспертиза, судебка, с первого же погружения ей открыла, что еще как убивают, и этим романтическим убийцам, чтоб войти в легенды, не хватает лишь красоты, а люди хотят видеть и запоминать только красивое.
*
*
*
Медея из лесхоза — вот кто ее заставил резко поумнеть. Она пыталась примерить на Азимкину привязанность к мерзкому Кирюхе сверхценную идею: как можно было пожертвовать ребенком ради того, чей портрет Юле оставил ее предшественник: «Ценности вульгарно гедонистичны. Интеллектуальное развитие полностью сосредоточено на элементарных житейских ситуациях и не выходит за пределы примитивной хитрости». Она много раз старалась вглядеться и в Кирюхину фотографию. Смерть возвышает всякого, но она так и не сумела разглядеть в этом опухшем, нечесаном, наглом алкаше хоть искорку мужского обаяния. Пришлось решать эту загадку на пару с Азимой Ахматовой. Высоким интеллектом она никогда не отличалась, а после всех этих ужасов казалась окончательно раздавленной. Оживить ее удалось только Кирюхой, да и то лишь тогда, когда Юля начала прощупывать причины ее патологической привязанности к нему. Юля ссылалась только на реакцию зала: вы же сами видели, какую ненависть он вызывал у других женщин.
— Конечно, будет ненависть, когда такого красавца мимо носа проносят! Обвисшие веки приподнялись, желтые глаза зажглись недобрым рысьим огнем.
— По-вашему, он красивый?
— Был бы некрасивый, бабы бы так не вешались. Нелька-подлючка, надо отдать, в мужиках разбирается.
После этого у Кирюхи не удалось нащупать ни единого изъяна, это был идеальный возлюбленный. Слезинки, бегущие по ее желтым отечным щекам, становились все более горячими и просветленными, а когда она дошла до самого главного, то зарделась как девочка: на День милиции ее Ромео подарил ей духи. Да такие красивые, все переливаются!
— И пошутил еще так смешно… Мочалку побрызгай.
И стрельнула глазками уже с нескрываемым торжеством.
*
*
*
Сниженный культурный уровень не позволил Азиме Саидовне Ахматовой отнестись критически к влияниям и нормам криминализированной микросреды, а потому ее аморальные и неправомерные действия представлялись ей эстетически привлекательными. Но суд на эстетику не купился и закатал бедную Азимку по максимуму. Не расстреляли только потому, что женщин вообще старались не расстреливать. Как-то неизящно.
Юля тогда еще по глупости старалась узнать, что с ее подэкспертными будет дальше, но довольно быстро запретила себе этим интересоваться. Судьбами должен вершить суд, а не судебка, и даже хорошо, что ее кабинетик — обычный канцелярский закуток вроде бухгалтерии с решеткой на окне, а то еще развоображалась бы о себе. И она извлекла из дела Ахматовой главное: границу между нормой и патологией проводит не знание, а красота.
Но что бы мы сказали о физиологе, который бы объявил слезы нормой, а мочу патологией? А мы-то поступаем еще хуже, одни и те же дела то воспеваем в трагедиях, то объявляем патологией, когда они подаются в других костюмах и декорациях. Расширенный подростковый суицид — патология, самоубийство Ромео и Джульетты — высокая трагедия. Расточник с ЛМЗ — патология, рыцарь Тогенбург — высокая трагедия. Азимка Ахматова — патология, царица и волшебница Медея — высокая трагедия. Да если бы мы увидели Медею живьем — потную, распатланную, да уже и потасканную к ее-то годам, мы бы тут же и ее отправили к Азимке!
Сначала Юле по глупости же показалось, что своими еретическими параллелями она стаскивает Медею к Азимке, потом стало казаться, что, наоборот, поднимает Азимку к Медее, но постепенно до нее дошло, что ее дело никого не поднимать и никого не опускать, а помнить, что Медея и Азимка существуют в одной и той же вселенной и что мерить их нужно одним и тем же аршином, взвешивать на одних и тех же весах.
Вот тогда-то она и вгляделась в Медеины дела глазами эксперта из судебки. Ведь Медея-то еще за много лет до ее прославленного пароксизма ревности в свой побег с Ясоном прихватила, как выражаются блатные, «корову» — родного брата. А когда погоня начала их настигать, разрубила брата на куски и разбросала их в разные стороны, — пока преследователи их собирали, влюбленным удалось ускользнуть. До судебки она была уверена, что это просто страшная сказка, а наглядевшись на настоящих Медей и Ясонов, поняла: да именно так люди и поступали! Тысячу раз когда-то перечитанные мифы Древней Греции вовсе не страшилки, придуманные спинного холоду ради, а просто-напросто правда о человеке, каков он есть изначально. Что хочется, то и твори. Выдумывай, пробуй. Разрывай на части наследников неугодного рода, подбрасывай змей в колыбель неугодному младенцу, подбей к преда-
тельству и столкни со скалы, сжигай, вари в котле и угощай гостей, хватай, до чего дотянешься, и наслаждайся, наслаждайся! Мешает мать, брат, отец — убей мать, брата, отца. Не можешь справиться — любовник поможет. Чтоб не оставить пятен на одежде, разденется догола, как на ложе любви. Тело упакуете в мешок из-под мусора, пудовую гирю купите в спортивном магазине, а каналов в Ленинграде хватает. И можно спокойно трахаться на освободившейся тахте.
Многие люди так и живут с утра до вечера в состоянии аффекта. А когда-то в состоянии аффекта жили все. И снова впадают в него, чуть исчезнет нужда притворяться. А мы на полном серьезе объявили нормой тонюсенькую маску, выражающую нашу суть не больше, чем тончайшая пленка лесов и морей — планету Земля. Поскреби пленку — хоть ту, хоть эту, — и рванет раскаленная магма. Те, кого мы честим извергами, моральными уродами, — они-то и раскрывают глубинную правду о нас. Это они норма, а не мы. Нас больше? Так и лавы из вулканических жерл изливается какая-нибудь пара десертных ложечек. Все безобразное мы закапываем поглубже с глаз долой — а в нем-то как раз и таится главная правда.
Но мы ни за что на свете не хотим поглядеться в это страшное зеркало. Мы ни за что на свете не хотим знать главное о себе — в чем мы похожи на извергов и уродов, мы выискиваем только то, в чем мы красивее.
ПОД
«КУРСКОЙ
ДУГОЙ»
Как изобильны были дни в Изобильном! Каждый новый день — это каждый раз оказывалась чуть ли не целая жизнь. А сохранились в памяти только вспышки.
Первой была именно что вспышка: крошечная Юля в тот раз впервые расхрабрилась добежать до «папиной работы», и после солнца ей показалось, будто из тьмы ударила огненная метель — кузнечный горн, как потом она узнала. Так что все будущие извержения вулканов, которые ей впоследствии открывались с киноэкранов, были только жалкими подражаниями. А страшный свист и гром, от которого она присела и пулей вылетела вон, — наверняка никакие бомбежки не показались бы ей ужаснее папиного пресса. То-то его все почтительно звали Степанычем, хотя годами он был, как Юля потом поняла, сущий мальчишка. Но как еще называть волшебника, который может сам сделать почти любую запчасть.
О запчастях Юля знала только то, что их всегда не хватает и из-за этого во всех колхозах-совхозах всегда ржавеют два-три комбайна да пара-тройка косилок, оскалившихся кривыми ржавыми когтями-расческами. В Изобильном это железное кладбище было самое маленькое, но и его называли «Курской дугой». Под «Курской дугой» она пережила и самое большое потрясение. Она любила, набравшись храбрости, на четвереньках пробежаться под тракторными граблями, вонзившими в землю свои огромные когти. Но однажды, уже вынырнув и радостно задохнувшись, она вдруг узрела перед собою сверкающее существо неописуемой красоты. Его шея то золотилась, как бронзовые стружки, то переливалась всеми цветами радуги, хвост бил струями перекаленной синевы, как стружки обычные, высокая пилотка набекрень алела пупырчатой кровью, сверкающий круглый глаз гневно таращился, а костяной клюв вдруг разинулся взбесившимися ножницами и завопил так ужасно, что она полетела прочь и очнулась лишь от страшного удара оземь. Только тут она и поняла: конец!..
Однако конец все не наступал, и через несколько веков она решилась-таки приподнять голову. Ослепительное чудовище гордо прохаживалось рядом, тараща свой гневный, совершенно круглый сверкающий глаз куда-то мимо и выше нее. И много
лет спустя она поняла, что в те первые полузабытые годы она испытала ВСЁ, что только бывает в человеческой жизни: все будущие страхи, радости, отчаяния и чудесные избавления были только повторениями этих первых вспышек. На третьем курсе она даже включила эту догадку в свой курсовик: мы переживаем как открытие лишь то, что создает новую рубрику. Первый петух может быть только один, потом идут повторения: понятно, петух, а вот еще петух, и еще, и еще...
Однако и десятый петух нашел чем поразить. Вдруг все уличные ребятишки побежали к соседям с криком что-то там про «петуха! Петуха!». И она тоже побежала радостная, думала, будут показывать какой-нибудь фокус с петухом. И фокусник не подкачал: петух без головы летал по двору, а кровь била из шеи, как из новогоднего шампанского...
Ночью у нее поднялась температура, она плакала, что-то кричала про петуха, и утром мама очень строго ей выговорила, что свои истерики надо держать при себе, а папе сказала, как будто он был в этом виноват, что Юля растет слишком нервная.
И первый ужас, и первое избавление, и первая любовь, и первое разочарование — только они и могут быть настоящими потрясениями, до дна пробирает только еще не бывалое.
Репродуктор — торчавшая на шкафу ребром черная китайская шляпа (она уже видела такие в киножурнале) — начинал свой болбочущий день с того, что запевал притворным квакающим голоском: «Мне хорошо, колосья раздвигая, сюда ходить вечернею порой, стеной стоит пшеница золотая по сторонам тропинки полевой». И однажды до нее дошло, что квакающий голосок поет про то самое поле, которое начинается сразу за ее домом, но без песни Юля не догадывалась, как хорошо туда забраться, раздвигая колосья. Она раздвигала и пробиралась, раздвигала и пробиралась, так что когда она наконец насладилась жизнью в песне и решила вернуться, то оказалось, что она совершенно не представляет, в какой стороне остался дом. Пшеница стояла именно что стеной. Она пыталась подпрыгивать, но эту сухую пахучую стену было не перепрыгнуть. Уже начиная похныкивать, она металась то в одну, то в другую сторону, но когда пытаешься бежать, пшеница перестает расступаться, а прямо-таки отпихивает тебя обратно. Она уже в отчаянии кричала: «Папа, папа!!!», потом садилась на горячую землю и плакала навзрыд, потом снова кричала, и когда папа над нею через несколько тысячелетий наконец навис, она была так счастлива, что даже не удивлялась, почему он так сердито волочет ее за руку. Но когда он дома начал стегать ее по попке ее же собственной скакалочкой, тут она удивилась: он никогда ее раньше пальцем не трогал, иногда только любил потискать, ущипнуть за щечку, иной раз даже и больновато. Они довольно долго кружились — она убегала от скакалочки, а скакалочка догоняла.
Так она познала предательство, коварство мира. Только что была пшеница золотая, дышащая вкусной пылью, и вдруг она же оборачивается готовой проглотить тебя пастью…
А когда папа уже работал в Акдалинске на мелькомбинате, один хулиганистый парень по фамилии Гольц любил кататься на ленте транспортера вместе с намолоченной пшеницей, в последнюю минуту спрыгивая. И вдруг почему-то замешкался. И свалился в бункер. И когда его сумели наконец оттуда извлечь, он был весь синий, а рот и нос были забиты золотым зерном.
И все-таки ей на всю жизнь запомнился второй квакающий куплет: «Всю ночь поют в пшенице перепелки о том, что будет урожайный год, еще о том, что за рекой в поселке моя любовь, моя судьба живет». Песня открыла ей, что любовь такая же важная вещь, как и урожай, раз их поминают рядом.
Любовь была как-то связана и с танцами, которые летними вечерами устраивали на зерновом току. Мама ей там бывать не разрешала, и Юля уже понимала почему — чтобы она не видела, как дяденьки и тетеньки обнимаются и кружатся или бегают взад-вперед коротенькими шажочками под музыку. С ярко освещенного тока долетали звуки музыки, смех, но она не завидовала, потому что с танцев папа и мама всегда возвращались сердитые. Обычно оправдывался папа: «Что я могу сделать, они сами на меня вешаются!..», — а мама прямо отпихивала его своим голосом, как пшеница в поле: «Знаю я, как они сами».
Заметив ее, они обрывали разговор, папа брал гармошку, уходил на кухню и, свесив свой чуб, черный и блестящий, как перекаленные стружки, запевал:
«До встречи с тобою под сенью заката был парень я просто огонь», — и голос у него был такой нежный и печальный, почти как у певиц из репродуктора, что ей хотелось плакать. А мама в спальне пела так же красиво и грозно, как из репродуктора выводил какой-то дяденька: «Слава борцам, что за правду вставали», — только пела она за дверью совсем другое: «Если я тебя придумала, стань таким, как я хочу». Юля, замирая от страха, слушала из гостиной два этих совершенно чужих голоса (только у них одних во всем Изобильном были гостиная и спальня) и умоляла неизвестно кого, чтобы папа поскорее допел: «За быстрой рекою гуляют ребята, веселье идет на лугу, и только одна ты, одна виновата, что с ними гулять не могу» — и отправился в спальню просить прощения. Мама быстро прощала, но однажды из-за неприкрытой двери она услышала, как мама с трудом выговорила насморочным голосом: «По-твоему, это любовь?..» — и ей снова захотелось плакать.
Через много лет она поняла, что и любовь ей открылась под той же «Курской дугой». Мир озарялся счастьем, когда в нем возникал механизатор Васька. Васька всегда был чумазый, и оттого его улыбка сверкала еще ослепительнее, а волосы золотились не хуже латунных стружек. Ваську все так и называли — Васька, и Юля тоже, и даже мама, постоянно учившая ее хорошим манерам, не препятствовала: Васька — это было как будто бы такое имя.
Во время уборочной Юля иногда бегала по короткой пшеничной стрижке издали посмотреть на Ваську и однажды увидела, как он сначала неподвижно стоял спиной к ней, а потом повернулся и помахал маленькой полоской, которая на мазутной спецовке белелась еще ярче, чем его улыбка. К счастью, Васька ее не видел, и она улепетывала прочь еще стремительнее, чем от петушиного клюва. Как ни мала была она, но у нее уже успело образоваться маленькое отделеньице в том бесконечном подвале, куда мир упрятывает все, что мешает ему гордиться собой: ушлая соседская девчонка лет восьми успела ей растолковать, что у мальчишек в трусах совсем не то, что у них, и, подозвав несмышленыша с соской во рту, стянула с него трусики и показала… Она говорила еще и какие-то бессмысленности про ее маму с папой, однако эти ужасы, не успев родиться, немедленно погружались во тьму. Куда еще раньше были упрятаны воспоминания о том, как она в постели по нескольку раз сжимала и разжимала бедра, вызывая какое-то сладостное — она еще не знала этих слов — томление. Но Васькина полоска что-то осветила и в этой тьме. К счастью, ненадолго. От Васьки исходил такой свет, что в его сиянии никаких светящихся поло-
сок было не разглядеть.
При этом она совершенно не ревновала, когда мама говорила папе, что Марина морочит Ваське голову, и папа соглашался, что Маринка допрыгается. Тетя
Марина вообще все время модничала, завела теплицу, от которой, ясное дело, Изобильному не будет никакого толку И тетя Марина таки допрыгалась — однажды на месте теплицы Юля увидела длинную сверкающую площадку, которая во все стороны брызгала солнечными искрами так празднично, что сверкающая ранним утром морская гладь ее впоследствии не очень-то и впечатлила. Но взрослые были очень мрачные и повторяли, что Ваську теперь обязательно посадят. Васькин «Беларусь», которым он размолол теплицу, стоял тут же рядом. За Ваську она ужасно испугалась, но все кончилось хорошо, и в конце концов все радостно заговорили: годусловно, годусловно, годусловно...
Правда, в Изобильный Васька больше не вернулся, однако жизнь по-прежнему оставалась прекрасной, только стало меньше света. Но его в целинной степи все равно оставалось хоть залейся. А когда папа подобрал на развалинах теплицы большой осколок стекла, стеклорезом вырезал из него три стеклянные линейки и завернул их в трубку от свернутой картонки, — это да, это была вспышка! Мелкие тусклые стекляшки, стоило посмотреть на них через трубку, складывались в неописуемо-сказочные разноцветные узоры, а повернешь — еще более неописуемые и прекрасные. Она немножко даже помешалась на этой неземной красотище — сидела, направив волшебную трубку в сторону окна, и вертела, вертела, вертела, вертела, вертела…
Какое смешное и милое слово — калейдоскоп!
Зимы в Изобильном, конечно, тоже были, да еще какие — то бураны, валившие столбы вместе с проволоками, то морозная тишь, все заборы одевавшая в иней, обжигавшая щеки и холодившая даже глаза, были и маленькие лыжи с брезентовыми петлями, куда нужно было вбивать круглые носики валенок, были и пещеры в сугробах, было все, но вспышек почему-то не осталось. Может, оттого что ее зимой старались держать дома: постоянно всплывали разговоры, что кто-то где-то замерз.
Зимы больше всего запомнились тем, что, сидя дома, она без конца перечитывала книгу НА КУН, «Легенды и мифы Древней Греции». Начиналось совершенно непонятно, но тем удивительнее и среди непонятностей вспыхивало это слово:
«Из Хаоса, источника жизни, родилась и могучая сила, все оживляющая Любовь». Маленькую Юлю все равно околдовывали эти слова, которые нигде больше услышать было невозможно: «Могучая, благодатная Земля породила беспредельное голубое Небо, и раскинулось Небо над Землей, гордо поднялись к нему высокие Горы, рожденные Землей, и широко разлилось вечно шумящее Море».
К счастью, и у НА КУНА все эти слова с больших букв — Вечный Мрак — Эреб, Ночь — Нюкта, Эфир, Танат, Гипнос, Немесида — длились недолго, а потом начиналась нормальная жизнь. Крон проглатывал своих детей, боги запрятывали титанов в вечную тьму, Тифон с Ехидной порождали в Тартаре назло победителямбогам адского пса Кербера, но боги все равно вечно пировали на Олимпе, между делом решая судьбы людей, хотя еще раньше ее решили мойры, которые вообще не глядя вытягивали человеческие жребии. Жребии пожирали людей и ржали при этом, как жеребцы.
От богов лучше было держаться подальше, хотя все равно не угадаешь, какую пакость они подстроят. Афина, например, придумала флейту, но потом заметила, что она портит ее красоту, бросила ее и прокляла того, кто ее поднимет, хотя знать не знала, кому эта несчастная флейта попадется.
Актеон же и вовсе ни в чем не был виноват — подумаешь, случайно заглянул в пещеру, где купалась Артемида! Так она его превратила в оленя. И это бы даже
интересно, но его тут же разорвали собственные собаки! Юля представляла, как это ужасно больно — не просто кусают, но еще и вырывают куски! Нетнетнетнетнет, она улепетывала на другие страницы, но оторваться совсем не могла.
Несчастья своими неслышными шагами так и крались следом за красотой. Прокна попросила своего мужа Терея привезти в гости ее сестру Филомелу. Поразила Терея красота Филомелы, и он воспылал к ней страстной любовью. Вот и окончен путь, но не ведет в свой дворец Филомелу царь Фракии, он уводит ее насильно в темный лес, в хижину пастуха и держит там в неволе. Зачем?! Жили бы лучше вместе с Прокной в одной квартире, как тетя Ира и тетя Клава, две сестры с одним мужем дядей Гошей. А в хижине она, конечно, начнет жаловаться богам и какому-то небесному Эфиру. А Терей нет чтобы просто взять и забрать ее к себе домой, схватил ее за волосы, связал и вырезал язык…
Получалось, что из-за красоты и любви и творятся все эти ужасы.
В распадающихся на большие твердые страницы русских сказках, где букв было меньше, чем картинок, тоже не переводились красавицы писаные, и хорошие, и пригожие, но на картинках они всегда оказывались совсем не такими красивыми, как на словах. Да и чудище безобразное в ее любимом «Аленьком цветочке» было не такое уж и безобразное, ей и самой случалось подружиться с парой-тройкой примерно таких же пёсов-барбосов. Ну а если бы кто-то из них бездыханен, мертв лежал, уж конечно, она тоже завопила бы истошным голосом: «Ты встань, пробудись, мой сердечный друг, я люблю тебя как жениха желанного!» Ей уже и в изобильнейшем Изобильном открылось, что такое смерть.
Это был мертвый скворец, чьи черные перья красиво переливались не хуже папиного чуба, а клюв торчал остреньким шильцем. Их детская компашка похоронила его с воинскими почестями, в холмик воткнули связанный суровыми нитками крестик, все по высшему разряду. Но через несколько дней они нашли для скворца какое-то еще более достойное место. Радуясь за него, они раскопали могилку, но скворец был уже весь в земле и кишел червями…
Смерть — это был не просто ужас, это была неописуемая мерзость. Тут завопишь истошным голосом…
Она почуяла, что с Изобильным покончено, когда на уборочную прислали студентов. Они хоть и спали в амбаре на соломе, но как-то было видно, что Изобильный они принимают не всерьез. И мама, она видела, со студентами держится как-то поособенному культурно. Акдалинск звал. Ей было ужасно грустно расставаться с подружками и механизаторами, но она давно уже знала, что Изобильный — это только на время. Зато небо! Такого огромного неба она нигде больше не видела.
Правда, нигде она не видела и такого лазурного солнечного неба, как на акдалинском вокзале. Под этим небом гудел и кипел необозримый зал ожидания, а по небу бежали солнечные физкультурники и физкультурницы, мчались счастливые велосипедисты и велосипедистки, зеленела трава, сверкали цветы, и весь этот счастливый солнечный мир охватывало бесконечное ожерелье из золотых дынь, арбузов, виноградов, пшеничных колосьев, до того роскошных, что собор Святого Петра в Риме через много-много лет тоже показался ей только эхом.
ОТ
ВЫТРЕЗВИТЕЛЯ
ДО
«ЕНБЕКА»
Зато ни Эйфелева башня, ни Эмпайр Стейт Билдинг не дотянулись бы акдалинскому Элеватору и до плеча: недаром весь город знал, что по росту их Элеватор второй в мире. Вершина Элеватора доставала до звезд, а у его подножия почти уже первоклассница Юля вместе с папой и мамой поселилась в общежитии мелькомбината. В общежитии Юле ужасно понравилось: в Изобильном тоже все были друг с другом знакомы, но тут еще и на ночь почти не приходилось расставаться, а папа и мама даже и ночью теперь были рядом. А Центр, куда отправлялись «в город», вообще поражал величием — цвета ненастных туч могучий обком с белыми колоннами, перед ним широко шагающий Ленин в штанинах с тяжелыми складками, крупными, будто на оконных шторах, за Лениным Парк культуры и отдыха с исполинским велосипедным колесом обозрения, уносящим неизвестных храбрецов выше яркожелтого кинотеатра «40 лет Казахстана», который и сам был размером с три зерновых тока. Маленьких домов в Центре вообще не было, все пятиэтажные, ну а про асфальт и говорить нечего — им все было залито до самого Элеватора.
В общежитии, где всегда было весело, папа моментально превратился из Степаныча в Серегу, и Юля очень обижалась за папу, когда мама начинала его ругать, будто он пришел пьяный: пьяные шатаются, а от папы только пахнет! Как же мог папа не выпивать с бригадой, если на него и так косились из-за того, что он ничего не выносил с работы, — по общежитию постоянно гуляла шутка: народ пошел мелкий, но выносливый. На гулкой общей кухне все варили вермишель, макароны, рожки, ракушки, звездочки, буквочки, и все восхищались, что Юля любую из них может прочитать, и все хвастались друг перед другом, кто и через какую хитрость эти звездочки и буквочки вынес через проходную. В общежитии и смерть казалась не очень страшной, да что там смерть — гробы! Когда с Гольцем случился этот кошмар, в каком-то тарном цеху ему сделали гроб. Потом насыпали полный гроб риса и вынесли через проходную, — кто же станет гроб обыскивать! А гроб при этом нарочно сделали короткий и потом вернулись обратно, ругая ящичников и так и разэтак: да как они мерили, да им бы руки поотрубать и всякое такое. А потом сделали еще один гроб, уже правильный, и опять засыпали рисом. Гольцу ведь уже не поможешь. А рис всегда пригодится. Но Гольца долго жалели, прибавляя сокрушенно: докатался дурак!
И в Изобильном, и в мелькомбинатском общежитии, разумеется, были и мальчишки-хулиганишки, и девчонки сплетницы и ябеды, но она их никогда не боялась, потому что они были свои. А в школе все были чужие, и так ей холодно среди них сделалось!..
Нет, училась она хорошо, ибо сразу же поняла, что если не будешь слушаться, то тебе устроят жизнь еще куда потягостней. Это, собственно, и был главный урок взрослого мира: ты не развлекаться сюда пришла. Хотя только работая в судебке, она поняла, какого главного витамина ей не хватало в школе — красоты.
Всё, как и на пшеничном поле, началось с радости: им дали квартиру. И дал не кто-нибудь, а Бородин, чье имя поминали без разъяснений, — Бородин, и всё. Бородин нагрянул в больницу как раз на мамино дежурство, и мама так ему глянулась, что уже и после квартиры он маму продолжал продвигать. Удивительно только, что в новом доме папа сделался немножко чересчур притихшим, хотя теперь у них с мамой снова была спальня. Правда, четырехместный сортир здесь был на улице, вообще, дом не очень тянул на такое городское слово — квартира: у него только низ был кирпичный, а верх бревенчатый.
Зато после долгого перерыва папа опять взялся за гармошку и пел на кухне невыносимо красивые и грустные песни таким низким женским голосом, что слезы наворачивались на глаза. Иногда даже у мамы. Правда, она почему-то все равно казалась недовольной и тоже уходила в спальню петь высоким мужским голосом, как будто папа с мамой в чем-то упрекали друг друга: «Ты только одна, ты одна виновата, что вдруг загрустила гармонь» — «Зачем вы, девочки, красивых любите, одни страдания от той любви».
А вскорости на грязно побеленной афише кинотеатра «Спутник» — бывшая мечеть — она прочла намазанное коричневой малярной кистью: «СИЛЬНЕЕ УРАГАНА». Сначала все шло хорошо: ветер весело шумит, судно весело бежит, учебное судно с приятными молодыми матросиками и добрыми наставниками, в кино других не бывает. А потом мерзкий капиталист липовой радиограммой направил наших ребят в самый центр подступающего урагана. И ураган не подкачал! Он обрушивал на парусник пенящиеся горы взбесившейся воды, валял судно сбоку набок, будто игрушечный кораблик, ломал мачты, рвал канаты — и вдруг над всем этим сумасшедшим домом загремела та самая музыка, которую до этого на концерте помешал доиграть прислужник капиталиста. И эта музыка действительно была сильнее урагана!
Так Юля впервые услышала бетховенскую «Аппассионату».
В музыке и правда скрывалась какая-то тайна! Почему к ней людей так тянет? Что она им дает? Запевать пытались даже пьяные, которых привозили в вытрезвитель. Юлин дом располагался между милицией и вытрезвителем, причем половину дома занимала ГАИ, так что шоферюги, занятые борьбой за права, постоянно всовывались из общего коридора к ним на кухню, покуда во дворе втаскивали в вытрезвитель перепившихся. Их привозили и в «воронках», и в патрульных машинах с мигалками, прозванных луноходами, и в мотоциклетных колясках, а в праздники возили даже самосвалами: поднимали кузов, и они ссыпались на землю. Случалось, доставленные клиенты пребывали в отключке; тогда водитель в форме со знанием дела давил им куда-то за ухо, и те немедленно оживали и брели, куда ведут, как миленькие — лишь изредка им приходилось выворачивать руку, заставляя чуть ли не чертить носом по земле. Иногда, правда, попадались и героические личности — вывалившись из «воронка», они норовили заехать кому-то из милиционеров по зубам. Те, конечно, могли оформить герою срок за сопротивление при исполнении, но, добрейшие люди, вместо того чтобы сломать человеку жизнь и лишить детей отца, сшибали его наземь и, хорошенько отпинав сапогами, волокли под руки во тьму гостеприимно распахнутой двери. А если он их очень рассердил, то и за ноги.
Юля уже давно поняла, как нужно относиться к таким вещам: поскорее пробегать мимо и не позволять им задерживаться в голове. Как дохлым собакам, как всяческим сортирным делам. Даже баня относилась примерно туда же. Тем более и кровавые «женские дела» (мамина инструкция на этот счет ничуть не отличалась от «мойте руки перед едой»). К сортирным делам тем более относилось и все то, что она видела в толстенной маминой книге «Акушерство», — головка ребенка, выдавливающаяся откуда-то между ног, — такого просто и быть не могло. То, что она видела в учебнике анатомии, быть могло, только про это не нужно думать. Зато пьяные женщины, которых изредка привозили в их двор, — те много месяцев продолжали стоять перед глазами. Или в полуотключке бродить по двору, волоча на иссохлой ноге трусы, измызганные в половую тряпку. Половую — какое мерзкое слово!.. «Половой акт — единственное физиологическое отправление, для которого требуются двое», — так об этом писали в мамином журнале «Здоровье». Это был, судя по всему, тяжелый труд, поскольку то же самое «Здоровье» советовало отводить для половой жизни вечер или утро «свободного от работы дня».
Однако соседские мальчишки явно стремились к этому труду. Когда привозили бабу пьяную в мясо, даже милиционеры ею брезговали, волокли в зияющую пасть вытрезвителя не под руки, а за ноги. И все окрестные пацаны забегали вперед, отталкивая друг друга и стараясь заглянуть туда. Что они там хотели увидеть хорошего?.. Они даже в сортире постоянно сверлили все новые и новые дырки в соседнюю кабинку, — приходилось ходить туда с пластилином.
И об этих существах можно было шушукаться, хвастаться их вниманием?.. Да полумертвая синюшная баба своими раздвинутыми венозными ляжками собрала бы в сто раз больше любой красавицы!
Но потом маме дали в желтом «сталинском» доме рядом с обкомом еще одну квартиру с видом на Ленина и колесо обозрения, и, кажется, только в желтом доме она по-настоящему осознала, что люди, и особенно женщины, бывают не только веселыми-скучными, добрыми-злыми, умными-глупыми, щедрыми-жадными, но еще и красивыми и некрасивыми. До этого красивыми бывали только куклы.
Тогда-то она впервые и задумалась над тайной Спящей Красавицы, — где-то к девятому классу она поняла, что Спящая Красавица спит как-то по-особенному: вроде бы она и на физике спит, и на физре спит, зато вокруг нее постоянно завиваются какие-то вихри — то мальчишки подрались из-за того, кто будет нести ее портфель, то физик получает выговор за то, что исправлял формулы в ее контрольной, то жена физрука дает ему пощечину за то, что он слишком долго ее подсаживал на брусья…
Физручка Тамара пригласила Юлю на секцию гимнастики в «Енбек» (кажется, труд), и было за что. Но она же пригласила туда и Спящую Красавицу, уже непонятно за какие заслуги. В разных концах длинного спортзала боролись с силой тяжести и друг с другом юные гимнастки и юные борцы, и борьба друг с другом была жалкой и некрасивой, а борьба с тяжестью — прекрасной, когда в ней удавалось одержать победу. Юля иногда и себя чувствовала прекрасной, когда, совершенно невесомая, она вылетала, прогнувшись над нижней перекладиной, с двухуровневых брусьев. А борцы — ловкие мускулистые ребята, стройные, а издали даже красивые в своих борцовках, обнажающих руки и плечи и обтягивающих холмики под короткими трикотажными штанишками,— они пыхтели, мычали, дико вскрикивали, елозили на карачках, открывая сзади меж голыми ляжками уже не холмики, а мешочки…
Фу! Эти сортирные дела не надо выставлять напоказ. А вот то, что гимнастические купальники у девочек оставляли ноги обнаженными, это было правильно: ноги были светящиеся, стройные, — у кого они, конечно, были стройные. Зато скрюченные пальцы на ногах — их и нужно было прятать в «чешки», а кто хотел лучше чувствовать бревно — в самопальные тапочки из плотной ткани, «пике», что ли.
Юлина мама считала, что одежда должна быть опрятной и приличной, то есть не выделяющейся, и Юлины глаза невольно задерживались на тех, кто мог себе позволить выделяться. Феликс Скворцов по кличке, естественно, Скворец, их школьный Ален Делон, томный и пресыщенный без малого в осьмнадцать лет, носил какие-то невиданные пиджаки, но он так суетился во время контрольных —
«По какой формуле решать?..», — так уныло мямлил у доски, что свободой там и не пахло. Зато Мурат Мендыгалиев, самый умный у них в классе, а может, и в школе, постукивал мелом по доске прямо-таки снисходительно, и прищуренные подзапухшие глазки, пухлые щеки и толстые губы лишь придавали ему дополнительное добродушное обаяние. Но обаяние — ведь это еще не красота?
У казахов отчетливо различались две, что ли, породы. Одни, поджарые, узколицые, остроскулые, горбоносые, назывались вроде бы «воины», другие — пухлые и широколицые — вроде бы «судьи», и тренер юных борцов был воином из воинов. И звали его очень воинственно: Аскер. Лицо Аскера напоминало Юле какую-то стремительную индейскую пирогу — узкое, резное, предназначенное что-то рассекать, какую-то враждебную стихию. И длинные разрезы глаз казались тоже растянутыми скоростью. Готовый демон битвы.
Он тоже был в борцовке, но в алой, с гербом Советского Союза на груди. Говорили, он был в шаге от вершины, но в какой-то решительный миг его сняли с чемпионата за оскорбление дружбы народов. Грузинский борец пошел вокруг него, полутанцуя — у них вроде бы есть такая борьба под барабан, — Аскер же, улучив момент, сделал ему подсечку и с возгласом «Асса!» бросил прямо на лопатки. Аскер был прекрасен. В талии изящный, как девушка, к плечам он разворачивался в атлета, руки в полтора раза мощнее, чем у самого сильного из его учеников, хотя и те были ребята далеко не слабые, по всему телу под смуглой атласной кожей играют мускулы, словно там возятся сильные гладкие змеи, и даже холмик внизу заметно покрупнее прочих. А стройности ног позавидовал бы и Аполлон, только у Аскера и они были куда мощнее, без единого мазочка жира.
В конце тренировки Аскер в виде особой милости позволял трем-четырем особо отличившимся провести схватку «Все на одного». Счастливчики понимали, что одолеть Аскера они могут, только кинувшись все разом, однако это им никак не удавалось, — или кто-то чуть опережал других и тут же за это катился кувырком, или Аскер сам молниеносным броском кого-то подсекал и тут же перебрасывал через голову еще одного, пытавшегося броситься на него сзади. Он побеждал БЕЗ УСИЛИЙ — вот от чего захватывало дух.
Тамара тоже была красавица и тоже в прошлом чемпионка Казахстана, хотя подняться еще выше ей вроде бы уже не светило. Но она все равно была прекрасна в своем сливочном тренировочном костюме; правда, обнажалась до гимнастического купальника она редко, только когда было очень уж необходимо что-то показать на снарядах. Зато могла так шагнуть, так показать простое движение рукой, что у Юли замирало сердце от восхищения и печали, что ей никогда не повторить этого с такой грацией. И когда, оставив подопечных отрабатывать какие-то броскисоскоки, Аскер с Тамарой останавливались в центре зала поболтать, Юле вспоминались истории НА КУНА о богах и богинях, сходивших с Олимпа поразвлечься среди смертных.
Или нет, это были Тамара и Демон. Помнившие, что они небожители.
Но в спортзале время от времени появлялся еще и падший ангел, элегантный, как Скворец, и даже таинственный благодаря темной резной палке, на которую он припадал. Однако, оставив в раздевалке для тренеров свой тяжелый протез, он выходил в зал уже на костылях в такой же борцовке с гербом, как у Аскера, сложенный более изящно, но не менее совершенно, только без правой ноги, отсеченной выше колена. Изуродованное божество, уверенно выбрасывая костылиногу, костыли-ногу, костыли-ногу, огромными бросками приближалось к гимнастическим кольцам и толчком одной левой взлетало выше, чем другой выпрыгнул бы на двух, однако обрубок при этом нелепо и беспомощно дергался. Затем, казалось, одним лишь усилием мысли невесомое тело возносилось в стойку на руках, устремленное в небо, подобно ракете (но обрубок, обрубок!..), потом опускалось в крест, а после, явно неподвластное законам тяжести, начинало творить уже совершенные чудеса, но обрубок издевательски приговаривал при каждом волшебном взлете: да, красота, да, грация, да, изящество, да, сила, а поезд, топор, кувалда,
станок все равно сильнее, они в один миг отрубят, раздробят, перемелют, разжуют и выплюнут…
И чем прекрасней, тем больнее.
Подобным глумлением занималась и старость, и правильно люди делали, что прятали свои возрастные увечья под юбки, брюки, блузы и пиджаки. Юля давно уже в раздевалке как бы ненароком поглядывала на обнаженных гимнасток и видела, что все они ничего, но до богинь им далеко, даже Спящей Красавице, хотя в ней как будто нарочно собрались все красивости: золотые волосы, жемчужные зубы, мраморная кожа… Даже не понять, чего ей не хватало.
В «Енбеке» был длинный балкон для публики, и там время от времени появлялся Скворец с небольшой свитой прихлебателей, тоже пытавшихся косить под «золотую молодежь». Тамара не препятствовала зрителям наблюдать за тренировками, считала, девочки станут больше стараться, да и вообще пусть привыкают к публике. И Юля как-то спросила у Скворца, кто им больше нравится — Вера на бревне или Клава на брусьях? Она втайне надеялась, что он отметит ее соскок, но Скворец пресыщенно усмехнулся и сказал, что ходит посмотреть на Спящую Красавицу.
— Но она же все делает на шестерку! — возмутилась Юля. — На нее только в вольных упражнениях еще можно посмотреть.
На что Скворец усмехнулся еще более пресыщенно:
— Я бы посмотрел на нее в раздевалке…
— Я не понимаю, как вам не унизительно! Вы за ней бегаете, а она на вас ноль внимания!
— С чего ты это взяла? Совсем не ноль. Сигналы с подлодки идут постоянно, нужно только уметь их ловить.
Юле это показалось обычным скворцовским бахвальством, но, приглядевшись, она с изумлением обнаружила, что Скворец прав: оказывается, Спящая Красавица прикрывает голубые и эмалевые, как у куклы, глаза соболиными ресницами или поправляет золотую прядку именно тогда, когда нужно и перед кем нужно. Когда нужно, она слегка оживет, а когда нужно, слегка угаснет, а иной раз и припадет на колено, якобы что-то поправить в туфельке, которая ни в каких поправках не нуждалась…
Как-то после тренировки начинающие барышни зашли в кафе-автомат, именуемый попросту «Кофе» («пошли в кофе?»). Столики там были пластиковые с рас топыренными трубчатыми ножками, автомат за спиной по латунным жетонам разливал в граненые стаканы стограммовые порции «винища», но девочки возбужденно щебетали, воображая себя где-то в Париже, и даже Спящая Красавица спала менее блаженно, чем всегда. Кое-кто изображал искушенность, и за сдвинутыми столиками запорхало тоже не лишенное элегантности слово «секс». Секс, даже словесный, не остался без материальных последствий: откуда ни возьмись по рукам пошла новенькая колода карт с голыми девицами. Юля стала смотреть, чтобы не прослыть отсталой, но загляделась на их божественные талии — как же им не жалко так их унижать?..
— ТААААААК!.......................................................................
Огромная ледяная рука стиснула ее запястье.
Она сидела одна над голыми девицами, и ее держал за запястье багровый одутловатый милиционер с заиндевевшими снизу усами.
— Собери! — грозно указал он на карты.
Она, ни жива ни мертва, чужими руками собрала карты в колоду, которую чудовище сунуло в прореху полушубка.
— Где мать работает?
— В «Енбеке», — сам собой отрапортовал чужой язык.
— Пошли в «Енбек».
Тамара еще не успела переодеться, так и встретила их неправдоподобно прекрасная и невозмутимая во всем сливочном.
— Это ваша дочь? Надменное «да».
— Видали, чем она занимается в общественном месте?
Тамара умело развернула карты веером, и ее прекрасные резные губы тронула усмешка.
— Ты же тут в раздевалке видишь получше. Зачем они тебе? Приходи хоть каждый день и смотри, — обратившись к Юле, она проделала исполненный грации гостеприимный жест.
— Да это не мои, — прошлепал чужой и пересохший Юлин язык. — Кто-то из девочек принес, а потом все разбежались.
— Понятно, — с насмешливым состраданием покивала Тамара и обратилась к милиционеру как к союзнику: — Эти картинки — они же для мужчин.
«Для мужчин» она произнесла с легким вздохом, в котором прозвучало любовное осуждение, неспособное, однако, справиться с невольным восхищением.
И слегка оттаявший мент, и без того осекшийся при виде сливочной Тамариной красоты, окончательно растекся, когда эта красавица позволила ему ощутить себя мужчиной, а ее, стало быть, женщиной.
— Возьмите, пусть ваши подчиненные поразвлекаются, — Тамара не сразу отняла дарующую руку, и окончательно сраженный мент, не сводя с нее влюбленных глаз, прежде чем проститься, несколько раз сунул колоду мимо кармана (упоминание несуществующих подчиненных было, по-видимому, уже архитектурным излишеством).
Тамара никогда про этот случай с Юлей не заговаривала, но здороваться они начали с неуловимым оттенком участия в общем заговоре. А на соревнованиях Тамара и вовсе обращалась с Юлей с материнской заботой без материнской строгости. Когда же после особенно удачного соскока Юля чуть не со слезами воззвала к ней: ну почему, почему ей (Спящей Красавице) больше хлопают, у меня же и соскок, и носок, — Тамара превратилась прямо-таки в добрую маму у постели заболевшей дочери:
— Да кому это нужно — соскок, носок… Народу надо, чтоб было красиво. Я и сама такая. Вот говорят, он великий балерун, Нуреев, что ли. А я видела по телику — маленький, коротконогий, на козла похож… И что тут может быть красивого — козел по сцене скачет? Брось ты это, ты девочка умная, порядочная, поступишь в институт, найдешь себе хорошего надежного парня и будешь жить за ним как за каменной стеной. А может, и сама карьеру сделаешь. Вот твоя мама, например, — везде успела. И начальница, и мужика-красавца отхватила. А в молодости, наверно, страдала, что такая некрасивая…
После этих невозможных слов случилась вещь еще более невозможная: лицо богини сделалось алым.
— А что, мама у меня некрасивая? — прошлепал чужой, пересохший, прилипающий к нёбу язык.
— Да нет, нормальная, мама как мама, ты меня не слушай, я иногда как сказану, — заторопилась алая богиня, но Юля уже поняла, что сказанного не воротишь.
Больше Юля в «Енбек» не возвращалась. Теперь она беспрестанно себя с кемто сравнивала и рядом с миниатюрными девочками казалась себе дылдой, рядом
с высокими — коротышкой, рядом с толстыми — «шкилетом», рядом с тощими — жиртрестом. В лице своем она, правда, не находила ничего особенно безобразного, но зато и ничего красивого не находила тоже. Но это ладно, кто она такая, чтобы на что-то красивое претендовать. Ужасно было то, что теперь она не находила ничего красивого у мамы. И это было бы еще полбеды, но у нее не было ничего, что не было бы некрасивым: слишком широкие и слишком костлявые плечи, слишком длинное лицо, слишком бесцветные, слишком близко и глубоко посаженные глаза, слишком жидкие и линялые волосы, — даже уши у нее были слишком длинные, как у охотничьей собаки.
Временами она начинала казаться себе злобным чудовищем из-за того, что ее бесстыжие глаза все это видят, но потом она говорила себе, что видит же не со злорадством, а, наоборот, с мукой — именно из-за того, что хочет видеть в маме совершенство! Именно поэтому она не может не замечать, что короткая стрижка только подчеркивает блеклость маминых волос, но когда мама отпускает их подлиннее и на ночь заплетает в тощие косички, то становится еще хуже, невольно напрашивается сравнение с настоящими косами…
Да хоть бы и с косами Зои Космодемьянской, которую Юля считала самой умной в классе после себя. У Зои, правда, был такой взгляд из-под высокого выпуклого лба, как будто она готовится бросить слова презрения в лицо своим палачам. Хотя она носила грубую немецкую фамилию Грубер и была при этом круглой отличницей и комсоргом, так что никакая виселица ей вроде бы не угрожала, да и отец ее был одной из правых рук Бородина, — по крайней мере, во время демонстраций стоял на трибуне вплотную справа (мама стояла далеко слева), такой же мрачный и каменный, только более красивый, похожий на Зою. Бородин-то сбоку был вылитый идол с острова Пасхи, по утрам Юля частенько видела его из окна, когда он медленно брел на работу, а за ним в отдалении тоскливо влачились два милиционера.
Наводя на Юлю с недавних пор уже сделавшиеся привычными мысли, что если бы, призванный во дворец государственными делами, мимо проскакал какойнибудь герцог со свитой, — сколько бы тут просверкало китайских шелков и соколиных перьев, прозвенело узорчатых миланских панцирей и толедских клинков… Люди тогда понимали, что гнаться нужно за красотой, а иначе для чего и богатство? Да и ее еще недавно любимый мелькомбинат — это же не собор и не замок. В таких декорациях и неоткуда взяться той любви, из-за которой дрались на шпагах и бросали на ветер все свое достояние.
У ПОЛКИ ЮНОГО РОМАНТИКА
Когда Юля читала про Акдалинск в ветхом энциклопедическом словаре, вызывающем уважение древними ятями и оттиснутыми осыпающимся золотом буквами на иссохшем коричневом корешке, — только тогда ее оставляло незаметно выросшее и утвердившееся чувство, что она живет в захолустье. За пределами истории, поняла она гораздо позднее.
В ее время Убаган уже был превращен в широко разлившийся ручей перерубившей его выше по течению Сарыкамышской ГЭС, — купаться было можно лишь благодаря скользкой деревянной плотине, под которой гнездились терпеливые налимы. Когда-то и она туда забиралась с мальчишками с мелькомбината, а потом стала вообще побаиваться ходить на Убаган, потому что приходилось пересекать опасную зону, где жили «колесники». Когда-то их предки вроде бы действитель-
но гнули колеса, однако ни на один приличный дом не заработали: в низине под обрывом — бывшим берегом Убагана — были в полном беспорядке рассыпаны слепленные черт знает из чего халупы с плоскими глиняными крышами, под которыми набивалась под завязку гопота всех возрастов.
Но там же как-то выросли и гордый Ченец, и печальный Витя Котов… Однако жизнь, которая ее окружала, — уж до того она была неказистая... Может, Юля и сама выглядела не лучше, но она хорошо запомнила, как из местной радиоточки как будто прямо для нее раздались слова московского режиссера, вскорости уволенного из акдалинского драмтеатра за формализм: события и люди воспринимаются совершенно по-разному в зависимости от того, в каких декорациях мы их видим. И когда тоска по красоте становилась невыносимой, она, словно сомнамбула, брела к стремившемуся, казалось, одолеть всю пойму бесконечному мосту через измельчавший Убаган.
Сначала над осыпающимся обрывом, бывшим берегом, продолжала лезть в голову всякая дребедень, но понемногу пойма — одна из обширнейших в мире! — брала свое. Она шла полого вверх на десятки верст, куда только хватал глаз. Но ковылей там уже не было — все покрывали разноцветные квадраты полей. Там было не сыскать и кибиток, про которые рассказывал ветхий энциклопедический словарь, — кочевников уже давно распределили по колхозам и совхозам. Но они чего-то там до сих пор шурудили на конезаводе за Убаганом. С обрыва конезавод маячил обычной унылой скотофермой, но за жеребцов акдалинской породы на международных аукционах отваливали сотни тысяч. Во время демонстраций невольно обомлеешь, когда на тебя, играя лоснящейся грудью, помчится, надменно выбрасывая точеные копыта, высоченный вороной красавец, как бы не замечающий позади себя двуколки, на которой умостился, поджав под себя ногу, зачуханный конюх-казах в потрепанном ватнике.
Ну что бы его не нарядить хоть в чапан?..
Во что бы только ей самой нарядиться? И как бы так научиться строить декорации хотя бы для себя самой?..
Она могла долго вбирать в себя распах грандиозного неба, даже если из-под обрыва потягивало дохлятиной, а в пустые бутылки и мумифицированные объедки она уже научилась не всматриваться, как и в сортирные дыры. Лишь бы только из-под обрыва кто-то не выбрался или сзади не подошел — взирать выше людей оказалось труднее всего.
Да и что есть выше?
Раз у них условлено, что если никто из мальчишек с тобой не гуляет, значит, ты неполноценная — никак их не заставить поверить, что ты сама этого не хочешь. Из-за этого она ходила на нудные школьные вечера, где, казалось ей, все только притворяются, что им весело, что кто-то в кого-то там влюблен: да разве можно радоваться, влюбляться, если все вокруг не то чтобы совсем безобразное, но и не очень-то и красивое. Да и сами мы не лучше. Одна только Спящая Красавица млеет в неге всеобщего интереса, посылая невидимые сигналы своими эмалевыми, лишенными глубины глазами. Но Юля шла на эту тягомотину, чтобы видели, что ее тоже приглашают, провожают, а однажды, чтобы отметиться, она даже позволила одному мальчику по фамилии Хомяк поцеловать себя в губы, — как будто собака лизнула, она даже подивилась, зачем люди вообще это делают. Он, бедняжка, еще чего-то плодово-ягодного выпил для храбрости, а закусил луком…
И что, и вся любовь? Но какая же может быть любовь без красоты?
Вот мама везде успела. И что? На приемах у Бородина папа был нарасхват, а за мамой ухаживали только подчиненные. С ней даже танцевали с почтительным видом и тоже только подчиненные. А вот в папиных объятиях самые суровые начальницы и тем более начальнические жены начинали прямо-таки светиться, — и у Юли таяли последние слабые сомнения: красоту люди действительно любят, а чины только почитают. С красотой соперничать не могло ничто. А уж папа был что красив, то красив. Поэтической хрупкой красотой, которую в Акдалинске вроде бы и оценить было некому, а пробивало-таки и этих теток с лакированными укладками, именовавшимися «вшивый домик», — какой он, к черту, был Серега, какой Степаныч — это был лорд Байрон из кинофильма «Леди Каролина Лэм». Когда в танце его смоляные кудри рассыпались или, еще лучше, разлетались, Юля сама была готова в него влюбиться.
На приемах у Бородина танцевали примерно то же, что и на школьных вечерах, больше импортное, не «Слава борцам, что за правду вставали», и даже сам Бородин старался быть веселым и любезным, насколько это возможно для каменного идола. Танцевать он, правда, никогда не танцевал, но когда, видимо, по-настоящему освобождался от своей вечной озабоченности, просил поставить Лидию Русланову. Вот тут-то, под барыню, барыню, сударыню-барыню и разлетались папины смоляные кудри и полы навязанного мамой гэдээровского пиджака, загорались цыганские глаза, и проплыть перед ним с платочком слеталась половина женской половины, и даже в унылых толстухах проступало что-то крылатое, и Юля заранее знала, что мама сегодня будет запевать в спальне «Называют меня некрасивою, так зачем же он ходит за мной?», а папа на кухне станет грустить под гармошку: «За быстрой рекою гуляют ребята, веселье идет на лугу, и только одна ты, одна виновата, что с ними гулять не могу».
И Юле представлялась быстрая, но совершенно гладкая, как стекло, река, без всякого берега переходящая в бесконечную, даже без горизонта, равнину, удивительно ровно, будто стол зеленым сукном, покрытую нежной зеленой травкой, по которой с мечтательными улыбками на лице вечно гуляют ребята и девчата в чем-то светлом и легком, и сами они такие легкие, что и травка под ними не шевелится.
Юля уже готовилась в университет и знала, что черные глаза определяются доминантным геном. Почему же так получилось, что она унаследовала мамины глаза цвета «ни рыба ни мясо»? Раньше бы подумали, что это из-за того, что мама доминирует дома: с тех пор, как они переехали из полусказочного Изобильного, папа сделался немножко… ну, пришибленным это слишком сильно сказано, но, в общем, что-то в эту сторону. Зато по мелькомбинату он ходил хозяином, у него теперь и должность так называлась: мастер. И тамошние бабы в рабочих халатах водили вокруг него настоящие хороводы, и папа среди них делался совсем не такой, как дома: одну приобнимет, другую приподнимет, в его черных глазах зажигался огонек, а уж тетки прямо таяли. И тем не менее во время демонстраций мама стоит хоть и далеко слева от Бородина, но все-таки на трибуне, а папа марширует в общей колонне. Да, мама депутат горсовета, главврач, ее возят на работу на «Волге», ее портрет висит среди окружающего Ленина портретного хоровода «Лучшие люди нашего города», но вот захочет народ отвести душу в сказке, и про кого он ее сочинит? Когда лягушка сбрасывает с себя лягушачью кожу, она превращается не в депутата горсовета и не в главврача, а в такую КРАСАВИЦУ, что ни в сказке сказать, ни пером описать. Да, еще и Премудрую, но с одной только премудростью будешь сидеть дома или висеть в немом портретном хоре, без красоты в сказку не попадешь. Однажды Юля, размечтавшись о чем-то, засиделась в темноте в родительской комнате, а мама, вернувшаяся с какого-то приема, не заметив ее, включила свет и,
подойдя к зеркалу на комоде, вдруг с ненавистью сказала своему отражению: «Уродина» — и — и ударила себя по лицу!
Иногда от всей этой безысходности Юлю охватывала такая тоска, что, казалось, вот прямо сейчас взяла бы и умерла, не будь гробы такими мерзкими. Но если бы даже ее положили на ложе из цветов и все вокруг рыдали и раскаивались, что были к ней так черствы, — что бы это изменило? Все равно бы никто не стал изумляться ее мраморной красоте: нет таких декораций, которые бы делали некрасивых красивыми. Такие декорации она находила разве что в книгах. Дома у них книгами, как и всем прочим, заведовала мама, и книг было довольно много, а главных авторов целые собрания сочинений: Горький, Фадеев, Георгий Марков… И неизвестно откуда залетевший Шоротчондро Чоттопаддхай «Шриканто».
Были там и книжки про любовь — любовь в них проверялась трудом: если влюбленные начинали от этого лучше работать, значит, это была правильная любовь, а если противопоставляли себя коллективу, то мещанская. И больше всех на мещанскую любовь были падки красавицы и красавцы, им доверять не следовало. В библиотеке же водились книги и ни к чему особенно не звавшие, и понемногу она начала любить скучные книги: приходится себя подгонять, как за уроками, но в отличие от уроков через некоторое время опять тянет. Так она одолела «Войну и мир»,
«Анну Каренину», «Идиота», «Братьев Карамазовых»…
Нет, Достоевский захватывал, после «Идиота» она вообще не могла усидеть дома, принялась лихорадочно, будто в клетеке, ходить взад-вперед по пятачку над Убаганом, но время от времени достоевские герои вдруг пускались в длиннейшие разговоры, в которых было не понять ни слова: «буди, буди!», «то Рим!»… При чем тут Рим, если разговор идет про Христа? Вот Шекспира она бы глотала не отрываясь, если бы там не разговаривали стихами, ведь так же не бывает.
У нее даже походка, даже осанка делалась другая, когда она направлялась в библиотеку. Пускай себе кричат: «Девушка, у вас пятки сзади!» — им до нее не достать. Может, она не такая красивая, зато умная. Серьезная. Однако библиотекарша Клавдия Ивановна считала, что Юля слишком уж серьезничает:
— В твоем возрасте нужно читать больше романтического.
Было даже странно слышать такие слова из ее хотя и несколько поблекших, но все равно наивных губок, сложенных так, будто она только что скушала что-то вкусное: с ее круглой катающейся подвижностью и носиком бульбочкой она казалась милой поселковой бабусей, хотя они с мужем приехали из белогвардейского Харбина. И фамилия ее по мужу была совсем не белогвардейская — Куксюк. Однако в ее лачуге по неровным беленым стенкам были развешаны в старинных рамках темные фотографии дам и господ, исполненных совершенно неправдоподобного достоинства. Да и муж Клавдии Ивановны при такой фамилии и глинобитной крыше над головой был самый настоящий белогвардеец: тонкое надменное лицо, орлиный нос, розовый пробор в белоснежных волосах, статность, походка, какую тоже приходилось видеть только в кино, — он как будто не замечал вокруг никаких колесников, да и они его почему-то тоже не задевали. Но попробовал бы кто-нибудь из акдалинцев прошествовать по бывшим Колесным рядам такой походкой…
Нет, какую-то красоту и достоинство признавали и колесники. Они уважали не только Ченца, но и Витю Котова. К Ченцу Юля прикипела взглядом, когда еще не брезговала убаганским пляжем, где нечистый песок был перемешан с черной пылью, окурками, звездочками пивных крышек и бумажными кружочками от мороженого. Юля старалась загорать поближе к мамашам с детьми, а возле самодельного трамплина, сложенного из обломков бетонных плит, постоянно кучковалась одна и та же компашка колесников, не сильно ее постарше, но далеко продвинувшаяся в том,
чтобы сделать себя как можно более отвратительными: развалившимися, криворотыми, разрисованными словно бы неумелым химическим карандашом…
И Ченец привлек ее тем, что никогда не матерился, не разваливался и вообще почти не разговаривал, а с выражением непримиримости на узком индейском лице смотрел на бескрайнюю абаганскую пойму. А потом легко вставал — мускулистый, шоколадный, как юный князь, изящный, — разбегался и с кусочно-бетонного трамплина взлетал божественной ласточкой над замусоренной абаганской водой. Он нигде этому не учился, но откуда-то знал, что такое красота, и отдавался полету с такой страстью, как будто и впрямь желал улететь от этих помоек. И даже до его корешей что-то такое доходило: сначала они умолкали и смотрели, как их приятель и сосед взлетает все выше, вытягивается все стройнее, а потом самый мерзкий из них — жирный, белый, как свиное сало — вперевалку разбегался и с воплем «Вьется, вьется, в рот она гребется!» тоже прыгал с тех же бетонных обломков, нарочно раскорячившись, как лягушка. После этого Юля немедленно собиралась и шла на автобус. А потом Ченец почему-то перестал появляться, и она узнала, куда он пропал, совершенно случайно. Их компашка отправилась погудеть куда-то выше по течению, где обрыв подходил к самой речке, и кто-то решил над ним подшутить: сказал, что здесь очень глубоко, — Ченцу небось слабо отсюда прыгнуть? Ченец, по обыкновению, не отвечая ни слова, разбежался и прыгнул своей обычной ласточкой. Вынырнул не сразу и, не поднимая головы, медленно поплыл по течению, не двигая руками. Гоп-компания погоготала, повыкрикивала разные бодрые шуточки, но Ченец головы не поднимал, и они забеспокоились, начали прыгать туда же ногами вниз — всем оказалось по пояс. Когда Ченца догнали, он был мертв. У него была сломана шея, да и в воде он к тому времени пробыл более чем достаточно.
Эта история не улучшила Юлиного отношения к колесникам. Хотя и Витя Котов был вроде бы плотью от их плоти. В глинобитном блиндаже Котовых как будто прятался какой-то секретный станок, штампующий каждый год по новому Котенку, — их так и называли: Котята, без разбора по именам. Да и незачем было: все одинаково головастые, широкомордые, наглые, с маленькими кошачьими глазками, и стоило затронуть одного, как на смельчака наваливались все. Особенно умело Котята дрались своими большими головами. Им удавалось разместиться в своей мазанке только благодаря тому, что, достигнув шестнадцати лет, они поочередно отправлялись в колонию, потом на взрослую зону и больше в Акдалинск не возвращались. В этом котячьем семействе только один Витя и обладал именем — худой, узколицый и печальный, словно штамповочный станок однажды вдруг кто-то тайно переналадил, он ходил, никогда не поднимая глаза. Именно глаза, потому что второй, впалый, был всегда закрыт. Один из Котят — который, понять было невозможно — хвастался, что это он собственноручно ткнул Вите в глаз ножом.
Юля тоже никогда с Витей не заговаривала, он был классом или двумя старше, но в коридоре всегда косилась на него с интересом: она уже пролила столько слез над судьбой несчастного Квазимодо, что наконец-то поняла: именно уродство тела порождает самую высокую красоту души. Ей даже представить было трудно этот четырехгранный нос, подковообразный рот, крохотный левый глаз, почти закрытый щетинистой рыжей бровью, и правый, прячущийся за огромной бородавкой, обломанные кривые зубы, напоминавшие зубцы крепостной стены, растрескавшуюся губу, над которой один из зубов нависал слоновьим бивнем… И мама после этого еще говорит, что внешность не имеет значения! А вот Виктор Гюго, как его называли некоторые девочки, уверял, что в увечном теле ослабевает и разум. И все-таки именно красота девушки с козочкой пробуждает в слабоумном чудовище слова, которые невозможно слышать (она их слышала) без слез!
Я кажусь вам зверем, скажите? А вы, вы солнечный луч, вы капля росы, вы песня птички. Я же — нечто ужасное, ни человек, ни зверь, я грубее, безобразнее, презреннее, чем булыжник. Когда вам будет угодно, чтобы я спрыгнул вниз, вам не надо будет произнести ни слова, достаточно одного взгляда.
Ей бы, Юле, никогда так красиво не заговорить, хоть она вроде и не дурочка. Зато этой дурочке Эсмеральде его безобразие все равно внушает ужас. А несчастному уроду ее любовь к красивому пижону, естественно, внушает отчаяние. Юля сама превращалась в Квазимодо, сдержанные рыдания душили ее, огромные, судорожно сжатые кулаки вскидывались над головой, а когда она опускала свои обезьяньи руки, то в каждой горсти было зажато по клоку рыжих волос, больше похожих на шерсть:
— Проклятие! Так вот каким надо быть — красивым снаружи!
Это не Квазимодо, это она начинала бормотать стихи: не гляди на лицо, девушка, а заглядывай в сердце, сердце прекрасного юноши часто бывает уродливо, есть сердца, где любовь не живет. Но ее-то сердце было не таково, пусть бы ей только встретился этот бедный Квазимодо, и она показала бы и ему, и всему миру, как надо любить! И за что — за преданность, за верность!
Но мир безжалостен к уродам:
— Увы! То, что уродливо, пусть погибает, красота к красоте лишь влечется, и апрель не глядит на январь. Красота совершенна, красота всемогуща, полной жизнью живет одна красота.
И в Юлиной душе начинал вырастать другой, правильный мир, в котором все совершалось по справедливости. В этом мире Эсмеральда сохла по Квазимодо, бегала за ним по пятам со своей козочкой, а благородный горбун не обращал на нее ни малейшего внимания, но дружил с не особенно красивой, зато очень умной и порядочной девушкой, и они, взявшись за руки, шли по улице навстречу солнцу и счастью, а Эсмеральда роняла в пыль злобные слезы и давала своей козочке пинка, а та в ответ ее бодала своими остренькими рожками…
Подумаешь, неземное существо! Она даже ни одной книжки не прочитала, а Юля уже успела понять, что неземное встречается только в книгах. А красавцы — да умеют ли они вообще любить кого-то, кроме себя?
Вот она сама — она когда-то уже любила человека за доброту его сердечную, хоть и голоса его не слышала. Привыкла потом и к его голосу дикому и страшному, но захотелось ей как-то взглянуть на суженого, а он принялся проситьмолить: «Не проси ты меня, чудовище безобразное, чтобы показал я тебе свое лицо противное, свое тело страшное. Как увидишь меня, страшного-противного, прогонишь ты меня с глаз долой, а в разлуке с тобой я умру с тоски». Но настояла она из упрямства глупого, а увидя, упала без памяти. Да и страшен был ее возлюбленный: на кривых-то на руках когти звериные, на мохнатых на ногах копыта конские, спереди-сзади горбы верблюжие… Но очнулась она и увидела: этот зверь противный, безобразнейший от своего-то горя прегорчайшего на траве зеленой, на муравушке рядом с нею хладен-мертв лежит. И пала она на тело милого, обняла руками голову противную, и завопила она истошным голосом: «Ты встань, пробудись, мой сердечный друг, я люблю тебя как жениха желанного!..» И только таковы слова она вымолвила, как заблестели молнии, со всех сторон, затряслась земля от грома великого, ударила громовая стрела каменная в пригорок муравчатый, и слетели с ее друга заклятья проклятые, и предстал перед ней красавец писаный. Обезумевши от счастья да от радости, она белкою на шею ему кинулась, но красавец тот, как жабу, оттолкнул ее: да ты что о себе такое вздумала, посмотри-ка
на себя ты лучше в зеркало — мне с тобою показаться будет совестно!
Зато принц, уставший от лицемерных придворных и слащавых красоток, — тот по уши влюбился в разбитную стряпуху с ногами сорок третьего размера и, чтобы разыскать ее, разослал по всей стране придворных с потерянным ею резиновым сапогом. Однако сапог ни на одной из девушек не мог удержаться, и только самый мудрый звездочет наконец догадался, что Золушка носила его с портянкой поверх шерстяных носков. Но однажды на дипломатическом приеме у заморского короля принц взглянул на туфли своей супруги, и его аж передернуло: да это ж какие-то не ноги, а лыжи!...
Но вот лишенный глаза юноша, вечно печальный и скромный среди вечно наглых и развязных братьев, — в нем-то уж точно есть что-то не от мира сего, он уж точно не предаст… И Юля уже опасалась встретиться глазами с его единственным глазом, чтобы он не прочел в ее взгляде той нежности, которая с каждым днем накипала в ее груди. Но когда Витя бросил школу и пошел работать на мелькомбинат, она все-таки решилась спросить у отца, как там Витя. Ничего, старается, до обидного рассеянно ответил папа, но тут же ожил: «Ты знаешь, он иногда на предприятии ночевать остается, дома у парня, получается, нет… Это не дело! И охрана ругается, и вообще… Надо на профком будет наехать».
Акдалинский Элеватор наверняка был побольше собора Парижской Богоматери — одни лишь возносящиеся в необозримую вышину силосные башни заставляли притихнуть. Только бы слова для них найти покрасивее, а то силосные, подсилосный зал, зерносушилки, нории… Но когда Юля начинала представлять в ночном Элеваторе Витю, ее внутренним глазам сразу же открывались зигзаги наружных лестниц, уходящие на невообразимую высоту, — конечно же, Витя забирался повыше, к птицам, подальше от крыс, ему, как и Квазимодо, был открыт любой уголок исполинского сооружения. Превратившись в доброго духа Элеватора, Витя сделался еще более манящим. Но однажды перед фильмом «Битва в пути» в гулком вестибюле «Сорока лет Казахстана» он вдруг сам к ней подошел, и его единственный глаз смотрел бодро и уверенно: слушай, твой батя такой классный мужик, он мне общагу пробил, слушай, такой класс, в комнате всего четыре человека, у каждого своя кровать, на пружинах, байковое одеяло, подушка, все как у людей!.. Он был румяный с мороза и наряжен в какой-то полупердончик с воротником тусклого искусственного меха, дешевой подделкой под моду «золотой молодежи», и Юля с болью почувствовала, что в поношенной и тесноватой школьной форме он нравился ей куда больше…
Одеваться нужно или уж в шелка, или — или не обращать на себя внимания. А в последнее утро перед последней школой она встретила Витю выходящим из универмага под руку с какой-то белобрысой хрюшистой старухой лет под тридцать. Увешанные пухлыми свертками, потные и возбужденные (Витя ее даже не заметил, хотя за это время успел вставить восторженно выпученный глаз), разряженные по последней плебейской моде, они, будто из храма, торжественно спустились по ступенькам и, держась за руки, пошли по улице навстречу солнцу и счастью. И Юле представилось, как по такой же улице, держась за руки, идут Квазимодо со своей невзрачненькой возлюбленной, а люди смотрят им вслед и как бы сочувственно усмехаются: «Вон пошли два урода! Ну ладно, хоть так, где ж им получше найти».
Прекрасная Тамара была права: некрасивые люди могут прожить благополучно. Может быть, по глупости своей, даже счастливо. Но они не могут прожить красиво. И когда Клавдия Ивановна доброжелательно, но вполне по-деловому, будто речь шла о приеме жиров и витаминов, посоветовала ей читать побольше романтического, в ее тусклом будущем как будто забрезжил какой-то огонек, — уж больно это красиво звучало: романтического… Однако когда Клавдия Ивановна подвела ее к стеллажику под самодельным плакатиком из борющегося с кнопками
самоскручивающегося ватмана: «ПОЛКА ЮНОГО РОМАНТИКА», ее снова обдало унынием и скукой. «Молодая гвардия» — «это же в школе проходят». «Битва в пути» — «это где тракторы делают? я про это кино смотрела». А «Утоление жажды» про что? Про Каракумский канал? «Я не люблю про пустыню…»
Не зная, чем ей еще отбрехаться, она уже чувствовала себя совершенной дурой, когда Клавдия Ивановна произнесла тем же тоном доброжелательной докторши:
— Это положено. Романтика строек, романтика труда — это положено. Но есть еще романтика любви, романтика тайны — возьми что-нибудь с нижней полки.
Внизу было плохо видно, и Юля взяла первую попавшуюся книгу. «Русская романтическая новелла». Юля, где пришлось, с треском раскрыла слипшиеся страницы и прочла: «Как несправедливо жалуются писатели, будто мы живем не в романтическом веке! Пусть заглянут в деревни, в маленькие городки, где еще не истерлась характерность и особенность с лиц, и они найдут неисчерпаемый источник, ключ прямо русский, самородный, без примеси. Каждый век только обновляет новыми образами сердце».
Юля поняла, что наконец-то нашла тот самый неисчерпаемый источник, по которому так давно иссыхала ее душа. И она припала к нему, впервые за все эти тусклые месяцы чувствуя себя счастливой.
Мой друг открыл мне новый мир, фантастический, прекрасный, великолепный мир, в котором душа моя тонула, наслаждаясь забвением, похожим на то неизъяснимо сладостное чувство, которое ощущаем мы, купаясь в море или смотря с высокой, заоблачной горы на низменное пространство, развивающееся под ногами нашими. Как легко понял я тогда ту его улыбку презрения, с которой он взирал на свет и даже на наших товарищей. Как грустно смотреть, если видишь и понимаешь, чем могли бы быть люди и что они теперь!
Наконец-то она поняла, что одиночеством можно гордиться!
Конечно, «Русская романтическая новелла» сильно смахивала на незабвенного Н. А. КУНА, она кишела волшебниками, ожившими мертвецами, таинственными домами, где веселятся призраки, неправдоподобно упорными мстителями, неописуемо подлыми предателями, невообразимо верными влюбленными, но Юля уже тогда начала догадываться, что нужно не только вслушиваться в слова, которые люди произносят и пишут, но и вглядываться в ту невысказанную картину, которую они хранят в глубине, чтобы не показаться смешными даже себе. Заглянуть в чужую душу не для того, чтобы высмеять или обличить, но чтобы принять, что бы там ни обнаружилось, — для этого-то она и решила идти на психфак. Однако она уже и в последний школьный год начала догадываться, какая скрытая вера породила детски-сказочную мешанину слипшегося тома с нижней полки, — это была вера в то, что мир не бескрайняя грязная лужа, но охваченный ураганом океан.
И все-таки любовь была сильнее урагана. Ради любви сражались и умирали, ради любви карабкались на балконы дворцов и стены замков, ради любви скакали верхом под ледяным ливнем непроглядной ночью, озаряемой только вспышками молний, ради любви разорялись и шли на каторгу.
Даже воинская слава сплеталась с любовью в нечто нераздельное.
Вас ждет любовь дам, храбрые рыцари! Преломляйте копья в их честь! Прекрасные очи взирают на ваши подвиги! Смерть лучше отступления! Человек умирает, а слава живет!
Но любовь была неотделима и от чистоты.
О чистая, небесная красота! Я без ума от твоих чар именно потому, что в них отражается чистота твоей души! Ты боишься, что уступишь моим домогательствам, но каких домогательств опасаться той, кто может внушить лишь чувство
благородное и почтительное? Ты для меня не только самая желанная, но и самая запретная святыня, когда-либо вверенная смертному, перед посягательством на твою целомудренную красоту я бы сам содрогнулся сильнее, чем перед гнуснейшим кровосмешением!
Однако пагубная страсть оказывается все-таки сильнее.
Мы погнались за наслаждениями, и счастье бежало от нас. Мы наслаждались безмятежно и долго, а ныне мы в каком-то неистовстве. В нашем безрассудном счастье есть что-то напоминающее исступление, а не ласковую нежность. Я не обрела счастья в моем падении. Сердце мое создано для добродетели, и без него ему не знать счастья.
Но любовь как будто намертво срослась и с красотой…
Сознание своей красоты пришло к ней мгновенно, как ярко вспыхнувший свет. Зато ее приемный отец испытывал глубокую и неизъяснимую сердечную тревогу. Он не очень хорошо понимал, что такое женская красота, но инстинкт говорил ему, что это нечто страшное.
А между тем оба юные создания готовы были встретить любовь. Как случилось, что их уста встретились? Как случается, что птица поет, что снег тает, что май расцветает, что за черными деревьями на зябкой вершине холма загорается заря? Они не чувствовали ни свежести ночи, ни холодного камня, ни влажной земли, ни мокрой травы. Они сами не заметили, как их руки сплелись. Иногда его колено касалось ее колена, и они оба вздрагивали. Эти два сердца излились друг в друга так, что уже через час каждый обладал душой другого, — они постигли, очаровали, ослепили друг друга.
Человек должен взирать на пробуждение девушки с еще большим благоговением, чем на восход звезды. Беззащитность должна внушать особое уважение. Пушок персика, пепельный налет сливы, звездочки снежинок, бархатистые крылья бабочки — все это грубо в сравнении с целомудрием, которое даже не ведает, что оно целомудренно.
Мы смотрим на звезду по двум причинам: потому, что она излучает свет, и потому, что она непостижима. Но возле нас есть еще более нежное сияние и еще более великая тайна — женщина! Но горе тому, кто любит только тело, форму, видимость. Смерть отнимет у него все. Любите души, и они пребудут с вами до гроба. И даже после.
В мэрии и в церкви она была ослепительно хороша и трогательна. А после полуночи их дом обратился в храм.
Храм! Не «физиологическое отправление», для которого требуются двое! Да и в «Русской романтической новелле» с нижней полки все красавицы исключительно неземные, а красота их не иначе как ангельская… И в Юлиной душе зашевелилась ошеломительная догадка, что любовь вовсе не дочь полового влечения, а сестра религии, что они обе истекают из какой-то общей мечты. Но коли так, при чем здесь красота? Она уже почитывала серьезные книжки и теперь знала, что у каждого времени и у каждой социальной группы свои стандарты красоты, поэтому терзаться от собственной некрасивости означает именно что впадать в зависимость неизвестно от кого, вместо того чтобы следовать избранным путем, ни на кого не оглядываясь. Теперь такой путь у нее был, и она больше не собиралась терпеть унижение красотой, неизвестно кем навязанной миру. Правда, на маму смотреть Юля все-таки избегала. Как ни старалась она выдумать такой стандарт, который превратил бы маму в красавицу, у нее никак ничего не выходило, только еще обиднее становилось.
Зато когда Юля почувствовала себя свободной от забот о своей внешности, на нее и мальчики начали обращать заметно больше внимания. Юля снова поняла, что свобода, независимость — едва ли не половина красоты. Когда она перестала беспокоиться, как она выглядит, ей и школьные вечера перестали казаться такими уж
скучными. Это не были старинные балы Наташи Ростовой, где можно было отслеживать, кто кого пригласил, здесь прыгали все со всеми, хотя, приглядевшись, частенько можно было выделить, кто для кого прыгает, и для нее прыгали не меньше, чем для прочих. Зато когда завучиха ставила воспитательный вальс, Юля шла вне конкуренции: она отточила все движения с папой, который в свою очередь отработал их на зерновом току Изобильного. Они с папой так самозабвенно кружились по комнате, что, казалось, готовы были вот-вот унестись на дунайских или амурских волнах, и глаза у папы разгорались так, а ей так хотелось прильнуть головой к его груди, что она испытывала облегчение, когда мама с суровым лицом гасила волны в самом источнике, выдергивая вилку из розетки. И Юля отдавала неизрасходованный полет Скворцу, который единственный не опасался выглядеть в паре с нею дрессированным медведем, а Юлю не коробила его рука на талии, потому что она ощущала ее преемницей папиной руки. Папа был красивее даже и Скворца.
Когда они перестали казаться унизительными, ей сделались интересными даже разговоры с девочками. Все были непременно в кого-то влюблены, и бесконечно обсуждалось, кто, как и сколько раз на кого посмотрел (иногда и со злинкой, когда кто-то из девочек начинал слишком много о себе воображать: у них тут же обнаруживались кривые ноги или байковые штаны показывались из-под юбки). Обмусоливались мельчайшие мелочи, причем по многу раз одно и то же. А иногда со священным и радостным ужасом начинали обсуждать секс. Раньше Юля сразу же удалялась вслед за Зоей Космодемьянской, которую иногда и нарочно этим изводили, а теперь слушала с любопытством и даже некоторой щекоткой. Всем было страшно, но вместе с тем и любопытно, а в итоге «это дело» начало представляться Юле неким абсурдом, глупостью даже — кто-то кому-то что-то куда-то…
Правильно понимали романтики: физическая любовь жалка и не в силах унять и насытить все причуды моих желаний. Но эти разговоры все равно уже не казались ей грязными. Она научилась угадывать за словами то, что их порождает, и это была жажда жизни. Младенцы тянут в рот все подряд не потому, что любят грязь.
А потом появился принц. Юля с мамой шли через двор мимо мальчишек, игравших в волейбол на бугристой спекшейся глине, и случайный мяч отлетел маме прямо в голову. Она гневно обернулась, те замерли, но извинился только один. И не просто извинился, а почти подбежал пружинной походочкой (рассыпались пшеничные вьющиеся волосы), удивительно стройный, весь в белом, и попросил прощения с неподдельным страданием, почти мольбой: «Простите, пожалуйста». И у мамы сразу же впитались обратно выступившие слезы обиды. А Юля только дома заметила, что у нее приоткрылся рот. И ужасно захотелось танцевать вальс, даже и без папы, но при маме она не решилась.
Зато когда позвонили в дверь, она побежала открывать почти вприпрыжку: она была уверена, что это опять ошиблись дверью просители к прокурору Тилибаеву, которого она про себя называла Тилитилитестовым, но сейчас она была рада и просителям, хотя иногда среди них попадались жутковатые типы — в ватнике, например, поверх которого была натянута полосатая пижамная куртка. Просители часто оказывались с кошелками, но у больших казахских людей и расходы были большие. Однако этот посетитель оказался с букетом белых цветов, которые он сразу же протянул ей через порог. «Это для вашей мамы, — к Юле еще никто не обращался на „вы“. — А это для вас. Вернее, для нас». Две голубенькие полоски оказались билетами в «40 лет Казахстана».
Михаил был студентом из Новосибирска, и это тоже звучало волшебно: студент. Она шла с ним под руку, не только ног, но и вообще ничего не чуя — только
его руку на своем обнаженном предплечье (хоть бы не вспотеть!) и взгляды всех встречных, из коих она никого не смогла узнать, хотя вроде бы каждого где-то видела. Сначала ее тревожило, что покажут каких-нибудь красавиц, в сравнении с которыми она окажется совсем уж замухрышкой. Тем не менее когда фильм оказался
«до шестнадцати», она уже испугалась, что ее не пустят; но билетерша так засмотрелась на ее светящегося спутника, что на нее и не взглянула. В зале было душно, и все-таки она похолодела, когда Софи Лорен появилась перед Марчелло Мастроянни в одной комбинации: а вдруг она сейчас совсем разденется?..
Назавтра же Юля зашла в универмаг за какой-то мелочью — и вдруг среди толпы пред нею воссиял ее принц. Ее бросило в такой жар, что, едва поздоровавшись, она ускользнула прочь в страхе, что она багровая и противная, как после парилки, и зеркало в ванной подтвердило: да, багровая, как вареная свекла. Что же делать?.. Раньше, она читала, как-то отворяли кровь. Она быстро распечатала одно из папиных бритвенных лезвий «Ленинград» и полоснула себя по внутренней стороне запястья. Обожгло, но ей было не до того. Кровь по раковине побежала алым ручейком, но она смотрела на свое лицо — бледнеет оно или не бледнеет? Бледнело не очень, зато алый ручеек становился все полноводнее, и в какой-то момент она почувствовала страх. Догадалась повыше поднять руку и так, не опуская, сумела туго перетянуть запястье бинтом. Потом надела кофточку с длинными рукавами, и вся эта история осталась незамеченной, и рана затянулась на удивление быстро. Зато сердечная рана… Впрочем, никакая это была не рана, наоборот, это было стремление даже и не к Михаилу, а куда-то, глупо сказать, выше, светлее, чище. Михаила она скорее даже старалась обойти стороной, зато когда он с нею заговаривал, у нее сам собой открывался рот, и ей лишь гораздо позже припомнилось, что у Михаила при этом делался снисходительно-пресыщенный вид. Разумеется, она была рада, когда он приглашал ее пройтись вокруг шагающего Ленина, и ей льстило, что ее видят с таким нездешним пришельцем.
И все же думать о Михаиле было в тысячу раз упоительнее, чем гулять. Поэтому ей и в голову ничего дурного не пришло, когда случайно встретившийся Скворец вдруг увязался проводить ее до дома. Он тоже что-то рассказывал о своей шикарной жизни, всячески давая понять, что он откуда-то не отсюда, — Акдалинск он, как бы сплевывая, именовал исключительно Акдалашкой (сам он был не меньше как из Парижа), — но это была такая глупость и чепуха в сравнении с блистательной жизнью студентов из научной столицы Сибири! Правда, ей немного польстило, когда она краем глаза заметила, что Михаил бросил мяч и внимательно смотрит, как она прощается со Скворцом. И когда Михаил бегом догнал ее на лестнице, она ожидала чего-то вроде комплимента. Однако лицо у него было ужасно злое.
— Это кто такой? Почему ты так на него смотрела?!
Она растерялась: она как раз смотрела на самого Михаила мимо Скворца, но признаваться… А пока все это металось у нее в уме, он придвинулся еще ближе:
— Он что, красивее меня?..
Как можно было сравнивать принца с каким-то глупым Скворцом, но раз уж он так прямо спросил, она вгляделась и поняла, что Михаил, конечно, светящийся и нездешний, но Скворец, если ставить вопрос так грубо, действительно красивее. Она и кивнула: да, красивее. И вдруг мир наполнился звоном. Она только за дверью ощутила боль в щеке и догадалась, что это была пощечина, а вот ноги все поняли сразу и взнесли ее домой быстрее ветра. Вроде бы она должна была чувствовать себя оскорбленной, но она не испытывала ничего, кроме страха.
Выглянул папа:
— Ты чего такая бледная?
И тут она перепугалась по-настоящему: папа ж его убьет!..
— Бежала быстро, задохнулась, — и юркнула в ванную.
Она и впрямь была белая как бумага, и кровопускания не понадобилось. Даже ударенная щека и та была белая. Она решилась выйти на улицу только через день к вечеру, и она испытала самое настоящее счастье, когда волейболисты ей сказали, что Михаил уехал к себе в вольнолюбивый Новосибирск.
И вся любовь.
Нет, не вся. Уже через неделю Михаил начал ей представляться маленьким и тусклым, а мир, в котором она побывала, огромным и светящимся. Он этот мир не создал — он его только высветил. Как лампочка не создает комнату, но лишь выхватывает ее из темноты. А потом огромность мира каким-то сумасшедшим прожектором озарил Маяковский, — он был так огромен и прекрасен, что ей было почти не жалко, что он застрелился, — этот конец был не менее красив, чем взлет. И когда она однажды услышала, как какой-то алкаш мурлычет под гитару: «Товарищ правительство, устрой мою маму, устрой мою лилию сестру», — она восприняла это как триумф богоравного поэта: уж если даже такие про него поют!..
МОРЕ
В
РЮШЕЧКАХ
Пара-тройка девочек, вырастающих в утонченных барышень, к старшим классам начали перебрасываться вопросиками: а где вы в этом году отдыхаете? От чего им отдыхать? Но вот последним школьным летом их семейство двинуло к Черному морю. Абхазия — это было очень вкусное, жирное слово, если произносить его выдохом: х-х-хаз. Все оказалось в точности как у Куна: могучая, благодатная Земля породила беспредельное голубое Небо, и раскинулось Небо над Землей, гордо поднялись к нему высокие Горы, рожденные Землей, и широко разлилось вечно шумящее Море.
Море было далеко внизу под асфальтированной площадкой перед пансионатом, сложенным из серых параллелепипедов; стройные ряды увенчанных барашками волн казались неподвижными, а простор — простор захватывал дух. Вон, оказывается, к чему ее влекло, когда она вглядывалась в убаганскую пойму!.. А небо!.. Вот уж где синь сосет глаза!
— Смотри, смотри, — раздался за спиной детский голосок, — у берега барашки и на горизонте барашки — море в рюшечках.
Юля покосилась через плечо и увидела красную от жары старуху лет сорока под белой войлочной шляпой, с простодушным видом обращавшуюся к такому же немолодому мужчине в тряпочной кепочке с пластмассовым козырьком. Надо запомнить: когда взрослый человек строит из себя ребенка, это всегда жалко и нелепо. Но море в рюшечках — и правда было похоже. А бесконечные ряды неторопливых волн были похожи на оборочки. Противно, но правда.
К морю приходилось плыть по воздуху в мятой железной люльке. К Юлиному удивлению, мама страшно боялась высоты, да и она сама не без облегчения передала себя из воздушной стихии водной. Однако эти рюшечки, охватив ее теплом и щекотанием массы взбаламученных песчинок, закувыркали ее под водой, заставив пару раз хлебнуть горчайшей влаги, и, когда она наконец сумела вынырнуть, с неодолимой силой поволокли вдоль и вдаль от берега. Ей было не до того, чтобы еще и следить, куда ее несет, она едва успевала нырять в прекрасную зеленую
воду, когда белоснежные пенные оборочки в очередной раз готовились хлестнуть ее по лицу так, что у нее чуть не отлетала прочь голова. Заметила она, куда ее несет, только когда увидела перед собой бетонный причал. Волна вознесла ее над облупленным бетоном, но не успела она сжаться в клубочек, как вода отбросила ее назад. Потом опять вознесла. А потом опять отбросила, и она, задыхаясь и захлебываясь, уже не успевала ужасаться, когда волна была готова обрушить ее о бетон, потому что, отбрасывая ее от причала, та же самая волна погружала ее на такую глубину, из которой ей каждый раз лишь чудом удавалось выбарахтаться наверх.
Она так и не поняла, какая муха укусила взбесившуюся стихию, что та вдруг почти нежно вынесла и уложила ее на галечный берег. И отхлынула тихонько. Словно дала понять: не воображай о себе слишком много. И Юля несколько дней не спускалась к морю, а только охватывала необъятный сине-зеленый простор единым движением глаз: она начала догадываться, что наша любовь к красоте — это большей частью любовь без взаимности.
После этого для прогулок ей стало хватать асфальтированной дорожки, ведущей над морем до прозрачного ручья, прыгающего вниз по камням, разбиваясь на них когтистыми стеклянными ластами. На море ей теперь не очень хотелось и смотреть, она предпочитала наблюдать, как на противоположном берегу глубокой излучины тени облаков плывут по горам, по их зеленой овчине ожившими камуфляжными пятнами. Горы росли, удаляясь, гряда за грядой. Первая гряда — зеленая овчина, вторая — плоский синий камень, третья — сгущение голубизны, а четвертая — сгустившийся солнечный свет. Вечером Юля забредала в наклонную рощицу сосен с необыкновенно длинными сдвоенными иглами, образовывавшими недавно открытую ею греческую букву «ню». Это была не янтарная комната — янтарная вселенная: тиснение темного узорчатого янтаря под ногами, летучие пространства светящегося светлого янтаря над головой.
Но как можно что-то прекрасное вобрать в себя, когда поблизости тараторят! Она думала, хотя бы женщины умеют ценить красоту, — недаром же они все время себя разрисовывают и разряжают, — однако именно женщины-то больше всего и трещали. В итоге ей приходилось при первой же тропе, ведущей в горы, сворачивать в заросли — и тут же оказываться в плетеной пещере, под черно-зелеными сводами которой нужно было то и дело склонять голову. Пещера извивалась, делилась на другие пещеры, уводящие то вниз, то вверх, но, выбрав вверх, она могла оказаться внизу, наткнувшись на новый откос, забирающийся в недосягаемую высь, а устремившись вниз, оказаться вверху над зеленой преисподней, проплетенной черными колючими жилами до такой гущины, что отсохшие ветки, не долетая до земли, так навеки и зависали в их толще.
Стены пещеры зеленели мелко, как салат, нарубленной листвой, среди которой крупные листья казались мягкими и ласковыми, как будто забрались сюда, оторвавшись от березки родимой, и одна такая веточка до того печально согнулась, что Юля позволила ей приласкать свое обнаженное предплечье — и та немедленно вонзила туда острейший шип, — она вся была покрыта шипами, злобными, как акульи плавники, — и Юля уже с облегчением выбиралась из пещеры на сравнительно широкую дорожку, то бесстрашно устремлявшуюся на новую кручу, то вьющуюся вдоль обнажившихся горных недр, открывающих глазу то косую каменную халву, то круглый бок окаменевшего гигантского тюленя, то кладку каменных яиц, то бесхитростную глину, местами все-таки чужую, красную. А под ногами корни, корни, полированные, как саксаул, который вместо дров иногда завозили на мелькомбинат.
Так оно все и двигалось перед глазами, когда в нужную минутку она их прикрывала. Вот проструилась необыкновенно изящная змейка, и все корневые переплетения немедленно превратились в сплетения змей. Вот по змеям рассыпались фиолетовые сливы, вот разлеглись коричневые ремешки каких-то удивительно длинных стручков. А вот россыпь черных жучков, похожих на окалину. И завитки остреньких сухих листочков, похожих на бронзовые стружки.
Можно включить и звук — осатанелый щебет и стрекот...
Как-то она забрела в лощину, где из зеленейшей травы росли ветвящиеся слоновьи хоботы, а в другой раз, почти бегом спускаясь вниз, она так долго слышала карканье какой-то редкой птицы, что оно стало казаться ей уже не карканьем, а харканьем. И в конце концов она догнала мужика в лоснящихся сползающих штанах, наполовину открывающих задницу. Это он же и харкался. Вот почему природа не бывает безобразной — природа не показывает задницу.
Юля остановилась, и харканье стало удаляться. Но почему же в животных нас ничего не оскорбляет?
На следующий день она проснулась задолго до завтрака и, осторожно умывшись и почистив зубы, на цыпочках, чтобы не разбудить родителей, вышла из номера (она старалась не раздражаться, что мама явственно похрапывала, а вот папа спал тихо, как младенец, — она невольно и это связывала с его красотой). У выхода по-прежнему стройнели две высоченные ели, темно-зеленые и строгие с серебристыми кисточками и одной бронзовой прядью на той, что слева. А другая за ночь засохла, из весенне-зеленой стала оранжевой. Однако Юля не успела этому удивиться, как догадалась, что оранжевой красавицу сделало восходящее солнце. И тут она поняла, что ей давно пора посмотреть, откуда к ним бежит прыгучий прозрачный ручей.
Тропа вдоль ручья была скособочившейся и сыпучей, поэтому никто по ней гулять не ходил, но Юля, временами придерживаясь за щебенчатый откос, в конце концов добралась до каменной тропы, идущей вдоль каменной же стены, а ручей с его прозрачной зеленоватой водой, на порожках белоснежный, как безе, резвился метрами двумя ниже. Противоположный берег тоже становился все круче и круче и понемногу тоже превратился в каменную стену, — так она и шагала внутри каменной щели, стены которой возносились все выше и выше, так что разгоравшийся день здесь почти не чувствовался. На душе было так легко и светло, а каменный сумрак ощущался столь изумительной декорацией, что она казалась себе невесомой и прекрасной, как бабочка. Щель долго извивалась и светлела, покуда ее каменные стены не превратились снова в заросшие откосы, меж коими, словно удар грома, далеко-далеко открылась многогранная каменная стена, над которой сверкали изломы вечных снегов. От снегов расходились сверкающие нити, как будто снега вырастали из какой-то корневой системы. Будь Юля покультурнее, стена напомнила бы ей огромный каменный орган, но она разглядела в ней лишь поставленные на попа исполинские граненые карандаши.
Над снегами клубились облака, но снега были чище облаков. Она долго стояла, не в силах сдвинуться с места, а облака тем временем надвигались, густели, синели, сизели, чернели, как будто за снегами разгорались какие-то исполинские бескрайние леса. И тут грянул настоящий гром. Нет, это был не гром, это раскололись небеса. Гром почти отшиб ей память, но он все равно был не так страшен, как папин пресс.
За громом ударил ливень. Юля бросилась обратно в щель, но ливень и там сек по камням с такой силой, что разлетавшиеся брызги казались искрами электросварки. Промокшая до нитки, страшась поскользнуться, она бежала сквозь больно секущие ледяные струи в поисках какого-нибудь козырька и наконец забилась в неглубокую
нишу. Вся трясясь, однако не чувствуя холода, она смотрела во все залитые холодной водой глаза на развернувшуюся сечу, но когда ноги лизнуло каким-то особенным холодом, она взглянула вниз и увидела, что прозрачный ручей превратился в мутное пенистое варево, яростно несущее кусты, ветки и черт его знает что еще, уже подбираясь к ее ногам. Она даже не могла испугаться как следует, настолько это превращение было стремительным, неправдоподобным и невозможным, а когда мимо острием вперед пронеслась мокрая желтая ель, бешено вращаясь, как загребущее мотовило комбайна, последние возможности что-либо понимать окончательно покинули ее.
А вода между тем все поднималась и поднималась, ледяные струи чем-то то твердым, то мягким били ее по голеням, и вот они уже бьют ее по коленям, потом еще выше, они уже тащат ее за собой, и у нее едва достает сил им противостоять, она пытается ухватиться за мокрый камень, но ухватиться там решительно не за что…
Вода спала еще быстрее, чем вздулась, и когда она выбралась к пансионату, уже светило солнце и все кругом сверкало от огромных градин, словно где-то в небесах разорвалось ожерелье Снежной Королевы. Ей стало бы легче, если бы папа снова отлупил ее скакалочкой, но родители, оба с мертвыми постаревшими лицами, только обняли ее, а через нее и друг друга и надолго замерли.
А глубокой осенью, когда уже вовсю задувал сухой снежок, она возвращалась со школьного вечера совершенно пустым двором и в неясных отсветах горящих окон заметила среди длинных снежных мазков свернувшегося калачиком человека. Она нагнулась и, вглядевшись, увидела, что его глаза едва заметно мерцают. Значит, открыты.
— Вам помочь? — спросила она, и человек без промедления и без всякого выражения ответил:
— Загребешься помогать.
Она оскорбленно отпрянула и решительно зашагала домой. Но не выдержала и оглянулась. Этот дурак лежал все там же, среди языков снега. Недовольно (на себя) покрутив головой, она вернулась и непримиримым голосом, чтобы он ничего не возомнил, потребовала:
— Давайте руку!
Он протянул совершенно ледяную руку, и она помогла ему подняться. А потом, с трудом удерживая — его бросало из стороны в сторону, — довела до дома. Он жил не очень далеко, на первом этаже, в однокомнатной квартире, обставленной, как тюремная камера: лампочка без абажура, стол без клеенки, кровать без покрывала под каким-то байковым рядном…
Она обрушила его на кровать прямо в его потрескавшейся кожаной куртке и ушла не прощаясь. В нем было что-то кавказское, но не очень ясно выраженное. А потом пришла весна, выпускные экзамены, которые она играючи сдавала на сплошные пятерки, ей уже разрешалось одной возвращаться за полночь: она вдруг очень полюбила одноклассников, когда поняла, что прощается с ними навсегда. И почти на том же месте из темноты возникла черная стайка парней. Один ослепил ее фонариком и с удовольствием сквозь смешок определил:
— Целочка.
Она дрожала, как мокрая собачонка, не в силах ни двинуться, ни закричать.
— Отпусти ее, — из темноты распорядился повелительный голос, и фонарик погас. Еще ослепшая, она бросилась бежать, но споткнулась и упала.
— Не беги, я тебя провожу, — приказал тот же голос.
Кто-то крепко взял ее за руку повыше локтя и довел до дома (стало быть, знал, где она живет). К тому времени зрение вернулось к ней, но сказать ему об этом она не посмела. Только у двери она решилась взглянуть провожатому в лицо — и узнала того самого парня, которого осенью тоже довела до дома.
Но только много месяцев спустя ей вдруг пришло в голову, что даже перед взбесившимся потоком она не испытывала такого отшибающего всякое достоинство ужаса: природа не может ужаснуть главным — мерзостью.
ЧТО
ЕСТЬ
КРАСОТА?
Первые даже и не вспомнить, сколько месяцев в Ленинграде прокружились каруселью с фейерверками и чехардой. Надо же было пройти медосмотр, найти общежитие, получить байковое одеяло, комковатую подушку, застиранную простыню и наволочку, — но ничего этого в памяти не осталось, осталось только упоение: в таких декорациях она уже никогда не будет жалкой! В двух шагах переливается и плещет в гранит Нева, а напротив расцветает Зимний, справа каменеет Стрелка, слева — Петропавловская крепость… А сзади общежитие, с такими умными ребятами и девчонками, каких она в Акдалинске и вообразить не могла. Она только здесь поняла, до чего устала быть самой умной.
Похоже, здесь и все исстрадались от подобного же одиночества, потому что в любой очереди, в любой раздевалке немедленно завязывались захлебывающиеся дружбы навек, чтобы назавтра же забыться ради еще более упоительных дружб. Зато учеба ее не особо захватила. Были предметы, которые полагалось знать для будущей работы, хоть и непонятно, что это будет за работа, — ну, там, история психологии, социальная психология, психология личности, отношения в коллективе… Были предметы, направленные на проверку социальной гибкости — умения, где надо, лгать не краснея: история партии, научный коммунизм, политэкономия что социализма, что капитализма. Были и науки, которые следовало как можно скорее забыть, если хочешь что-то понимать в этой жизни, — это все про нервную систему, про синапсы и дендриты, про всякие условные рефлексы — ну, в общем, про все, что роднит человека с животным, а психология начинается там, где кончается животное.
Она это не сразу поняла — чего ей не хватает в психологических науках: красоты. Красотой они не занимались, они измеряли, сколько выделяется желудочного сока по звонку или вспышке и что лежит в основе семейных отношений — совместная деятельность на благо общества. Она была не против, но — где нет красоты, нет и человека. А роман с красотой между тем у нее только нарастал и постепенно снова сделался главной невидимой ее жизнью. Сначала с нее было довольно той каменной и отраженной в воде красоты, в которую она погружалась, стоило ступить за порог общежития (а в общежитии она купалась в умных разговорах и утонченных шутках, не прекращающихся ни в буфете, ни в подвальном душе, и запах пареной капусты или распаренной мочалки лишь оттенял их утонченность). На факультете же ее чаровала красота здания, высота коридоров и витавших в них имен Павлова и Сеченова. Но понемногу ее начала разбирать тоска из-за того, что даже великие видели в людях сплошные рефлексы — как будто привести человеческую душу в движение мог только внешний щипок или звонок.
Сеченов, правда, весьма даже уважать себя заставил: мысль есть задержанное движение, психология должна стать делом физиологов… Зато и ответить ему хотелось прямотой на прямоту: физиологов нужно держать у психологии на побегушках,
чтоб судили не свыше сапога. Ибо психология должна заниматься не тем, что есть на самом деле, а тем, что людям кажется.
Искать утешения ценою в студенческие десять копеек она пристрастилась в Эрмитаже, куда ничего не стоило добраться, попутно надышавшись новой красотой, по Дворцовому мосту. За час до закрытия публика расходилась, и она чувствовала себя полной хозяйкой средь пышных опустелых зал. Где прекрасно было все, кроме человеческих тел. Ваятели, напиравшие на силу, на мясистость — Роден, Майоль, — на красоту и не замахивались, а вот мраморные нагие красавцы и красавицы Кановы или Торвальдсена — они и в самом деле были совершенны. То есть она не видела, чем бы она их могла улучшить — в них все было выточено лучше некуда вплоть до какого-нибудь мизинца на босой ступне, — и все равно в их телах проступало чтото жалкое. Голые задницы, что ли, эти самые штучки у мужчин, из учебника анатомии… У женщин эти дела были более упрятаны, но ведь у истинного совершенства и прятать бы ничего не требовалось. Ей и самой не очень нравилось ходить в душ с близко знакомыми девочками, а видеть их голыми хотелось еще меньше. И чем больше они ей нравились, тем меньше хотелось. Комната у них была очень дружная, и когда кто-то перед сном переодевался в ночнушку, она всегда отводила глаза. А уж переодеваясь сама, тем более старалась ни на кого не смотреть. Не потому, что она была хуже других, а потому, что она была такая же, как все.
У мрамора, по крайней мере, нет волос на лобке и под мышками, а то и на ногах, на мраморе не бывает прыщиков — потому-то, наверно, людям и вздумалось изображать себя мраморными. Романтики это и поняли, и начали откровенно писать, о чем мечталось: мраморная кожа, золотые волосы, ангельский лик… Романтики просто перестали притворяться, а их объявили высокопарными выдумщиками.
А лучше других ей быть и не хотелось. Кто она такая? И даже красотой она предпочитала любоваться со стороны. И лучше бы даже издали. Вот ее соседка по комнате и даже, можно сказать, подруга Соня Уманская была так красива, что сердце замирало — готовая Ревекка из «Айвенго»! Но вблизи становился заметен темный пух на ее руках, а когда она раздевалась… Нет, задница у нее была не хуже прочих, но какая может быть Ревекка с голой задницей! И волос в низу живота было многовато. Хотя сколько их нужно, чтобы сойти за богиню? И это были те же самые воло-
|сы, что такою дивною волной ниспадали на Сонины плечи!..
Что-то в прошлом такое у Сони случилось, что с тех пор, сгорев душою, она на мальчиков не смотрела и к Ларискиным знакомствам с иностранцами относилась с неумело скрываемой брезгливостью, которую Лариска, вторая подружка по комнате, считала ханжеством, однако дружбы ради тоже была готова снизойти. А Юля уже давно поняла, что и на донышке любой пошлости или вульгарности таится какаято изувеченная мечта о красоте, а потому никого не презирала. Вот и Лариска в откровенную минуту однажды ей призналась, что всегда мечтала жить в замке. Ну, а поскольку замки сохранились только за границей…
А до тех пор Лариска довольствовалась заграничной косметикой, шампунями, ветчиной в желе и сосисками в таких же ярких консервных банках, и Юля с удовольствием все это пробовала, и ее даже сердило Сонино чистоплюйство: она ни разу ни одного нездешнего лакомства в рот не взяла — то у нее живот болит, то ей надо срочно идти куда-то… Вот Лиза, третья ее соседка, молодец, чтобы только не обидеть, ела и нахваливала с такой безнадежностью, что и пятилетний ребенок бы не поверил. Но Лариска, кажется, ничего не замечала, не могла представить, что такие ее выдающиеся достижения могут вызывать что-то, кроме зависти. Однажды она даже пригласила Юлю в ресторан при гостинице «Европейская» познакомиться с очередным ее швейцарским Вольфгангом.
Лариска, небольшая, изящная, в умных очках без оправы, держалась с лакеями как строгая классная дама, словно не замечая переваливающейся через края роскоши. Коридор, ресторан ослепили Юлю богатством и сверканием, блюда были очень красивые, иногда прямо вычурные, — у рыбы хвост свивался винтом и ввинчивался в жабры. Разочаровал только Вольфганг — он был старше папы. И, само собой, далеко не такой красивый, хотя подтянутый, пахуче выбритый, но это все равно был дяденька, какой из него принц, хоть бы у него было десять замков. Лариска любила повторять, что женщины любят тех, кто напоминает им отца, и, глядя на Вольфганга, Юля окончательно поняла, что возлюбленный должен являться из какого-то иного мира, а папа, хоть она его и ужасно любила, все равно принадлежал миру обыкновенности, бедняжка. Его бы сюда просто и не пустили…
При этой мысли она почувствовала себя такой оскорбленной, что совсем перестала думать, правильно ли она держит вилку и нож, тем более что Вольфганг преспокойно все брал руками, петрушку жевал так, что листочки торчали изо рта, а когда Лариска начала его по-матерински журить (по-английски чесала на удивление), он смеху ради набил рот петрушкой и укропом, чтоб пучки торчали, и принялся жевать, раскрывая рот, и хрюкать. Юля съежилась от неловкости, а лакеи, не отходившие от стола, наблюдали за этим с растроганными улыбками.
Да, Вольфганг был свободен, но совсем не красив. Видно, нельзя быть красивым, если делаешь некрасивыми других. Разве папа бы себе что-то подобное позволил! А его бы все равно сюда не…
Извини, совсем забыла, доклад, курсовик, залепетала она, выбираясь из-за стола, и, наконец продравшись сквозь чьи-то липкие поклоны и попытки ей чем-то услу жить, вырвалась на волю. И почувствовала себя красивой! Потому что она была свободна, а мир прекрасен.
Лиза в одиночестве сидела над своим Чеховым.
— Что, по-твоему, такое красота? — неожиданно для себя спросила она Лизу, и та, ни секунды не промедлив, ответила:
— Красота в чистоте.
Юля с удивлением в нее вгляделась и с изумлением обнаружила, что заменить ее простенький голубенький халатик и, как они ее ни нализывали, простенькую комнату облачениями и декорациями Нестерова, — и милое Лизино личико превратилось бы в Лик…
Который бы изгнал все помыслы о тех частях тела, которые люди не случайно же прячут под одеждой.
Потом Вольфганг уехал обратно в Швейцарию, а Лариске пришлось сделать аборт. Но она ничуть не казалась раздавленной, по-прежнему строго цокала каблучка-
ми, небольшая и строгая в своих очочках классной дамочки, и вообще девочки, вкусившие сладких таинств любви в гинекологических креслах, держались с некоторой надменностью бывалых солдат среди необстрелянных птенцов. Чтобы не прослыть чистоплюйкой, Юля делала вид, будто ей подобные дела нипочем, и, более того, она старалась не отличаться от других во всех этих девичьих заботах: прически, лифчики-трусики-колготки, маникюр, поиск любовных гнездышек на часок-другой, доверительные обсуждения противозачаточных таблеток («да ты что, от них пена, как из огнетушителя!») и необыкновенно элегантных импортных презервативов. Но чем больше Юля старалась казаться такой, как все, тем более чужой она себя чувствовала на этом празднике жизни: чем ближе к презер-
вативам, уверялась она, тем дальше от любви. Так потихоньку-полегоньку она снова начала себя лучше чувствовать с книгами, чем с людьми. Когда, миновав квартиру Менделеева, она поднималась по широкой лестнице в бесконечный коридор Двенадцати коллегий и шла к читальному залу Горьковки, любовно косясь на бесконечную галерею великих ученых, запечатленных на портретах в старинных рамах, а кое-кто и в скульптурах, — уже в этом коридоре на нее нисходило чувство, что и ее жизнь не лишена красоты.
Сколько бы передовые подружки ни давали ей понять, что быть синим чулком скучно, а девственницей смешно, она все равно стремилась смотреть вперед и выше или подглядывать в книги.
Столы в Горьковке были обычные, аудиторные, но разложить на них удавалось целые миры. И в этих мирах ужаса и отчаяния было сколько угодно и даже неугодно, но в них не было мерзости: слово было еще чище мрамора. Писатели были не дураки, они никогда не показывали любимых героев некрасивыми. Главный моралист Толстой, возгласивший, что чем теснее мы приближаемся к красоте, тем дальше уходим от добра, набрался вроде бы храбрости через абзац талдычить, что его любимая княжна Марья некрасива. Но ведь такого качества — некрасивость — нет, есть поросячьи глазки, есть лошадиная челюсть, есть конские волосы, есть кривые волосатые ноги… А Лев Николаевич НИ ОДНОЙ реальной черты некрасивости не называет — только лучистые глаза да лучистые глаза. Самое большее, что он осмеливается впустить из материального мира, — его любимая героиня тяжело ступает на пятки. Но одно дело сказать «вошла, сияя лучистыми глазами и тяжело ступая на пятки», другое — «вошла, пыхтя и переваливаясь, с длинным лошадиным лицом и крошечными бесцветными глазками». Какими подвигами добра это можно перевесить? Да никакими!
Эти хитрецы и смерть умудрялись изобразить красивой. «Соловьи, умолкшие во время стрельбы, снова защелкали». «Я видел, как изменялось лицо Пат. Я не мог ничего делать. Только сидеть вот так опустошенно и глядеть на нее. Потом наступило утро, и ее уже не было». Юля до неприличия долго и громко сморкалась, уткнувшись в развернутый платок, чтобы не разрыдаться на весь читальный зал. Но если бы она в реальности присутствовала при умирании, все слезы и горло мигом бы перехватил ужас. И — психологам ханжество не к лицу — не один только ужас, — отвращение. В Горьковке была большая комната «Выставка новых поступлений», там на столах раскладывались книги по всем наукам на всех языках, где науки водились. Юля туда тоже частенько заглядывала и однажды увидела среди скучной медицинской россыпи мрачную коричневую книгу «Сексопатология». Покосившись, не следит ли кто, она отсела с сексопатологией в самый дальний угол и принялась читать, как некие скучнейшие идиоты А., М., Р. и Я. кого-то зачем-то истязали или просили себя истязать, подглядывали за всякими гадостями, а то даже еще большие гадости глотали. Но вдруг проклюнулось что-то живенькое. Гр-н Х. уродился в тысячу раз более убогим, чем Квазимодо: рост 152 см, вес 48 кг, объем грудной клетки 76 см, длина пениса 4 см… Мало того, уродец оказался еще и гермафродитом. Умом красавец тоже не блистал, после седьмого класса засел в кочегарке. И при этом в течение последнего года он поменял ДВАДЦАТЬ ВОСЕМЬ сексуальных партнерш!
И после этого кто-то еще может думать, что секс имеет что-то общее с красотой! Она гадливо, двумя пальцами отнесла сексопатологию на прежнее место и уже хотела идти каким-то образом отмываться, но под табличкой «Литературоведение» заметила яркий, как иностранные консервы, томище, на котором вспыхнуло обожаемое имя: MAYAKOVSKIY. Прижав к груди, она оттащила тяжеленный том в тот
же укромный сексопатологический уголок и не без усилия развалила на первой попавшейся странице. На великолепной глянцевой бумаге тускнела старая фотография: Маяковский лежал на спине, запрокинув любимое лицо с разинутым огромным ртом. Юля неприлично громко захлопнула книгу, как будто подглядела что-то запредельно непристойное. Вот она — красивая смерть. «Застрелился» — звучит красиво. Выстрел в сталинский режим — еще красивее. «Твой выстрел был подобен Этне» — красота рвется совсем уж под небеса. А реальность, вот она — разинутый рот. Затем вскрытие — череп долбят таким же долотом, что и дырки в дереве. Потом вонь, гниль, черви… Или огонь, в котором трупы корчатся, лопаются…
Так вот они для чего нужны — могилы, надгробия, памятники, — это одежда мертвых, под которой мы прячем поглубже от глаз ужас и мерзость распада. Красотой заслоняем правду. На следующий день в перерыве она подошла к молодому доценту, читавшему им философию, и напрямик спросила, что такое красота. Философ носил красивую вороненую бороду, кое-где прошитую ранним серебром, а бороды считались признаком свободомыслия. Доцент с мудрым юморком прищурился и в двух словах разъяснил ей, чтоa есть красота — имеются две теории красоты — идеалистическая и материалистическая; идеалистическая считает, что существует некий абсолют и приближение к абсолюту ощущается красотой, но это все метафизика и поповщина (он прищурился еще более юмористически, давая понять, что передразнивает каких-то дураков). На самом же деле красота — это скрытая польза: длинные ноги полезны, чтобы убегать или догонять зверя, большая грудь — вскармливать ребенка, пышные волосы — его же укрывать…
Выпученные глаза увеличивают обзор, оттопыренные уши обостряют слух, короткая шея защищает от хищников, узкие плечи позволяют прятаться в норе, кривые ноги — ездить верхом, мысленно продолжала Юля, балансируя по гололеду на пути в желтый Гостиный двор, где по соседству с психфаком располагался философский факультет: как раз сейчас там начинался открытый семинар по эстетике. Красота оказалась скучнейшей в мире вещью: эстезис, мимезис, алетейя, метанойя, паранойя… От скуки она даже начала записывать: гнозис, нойзес, аффилиация, эманация, хайдеггеровское открытие сокровенного, предметно-содержательная деятельность, модусы бытия, трансцендентальная эстетика…
Вырвавшись наконец на улицу, она снова поняла, что красота — это какая-то свобода. Но не свобода же от приличий, которой наслаждался Вольфганг, нет… Вот! Красота — это не сосуд, в котором пустота, и не огонь, мерцающий в сосуде, красота — это свобода от материи!
Хотя бы иллюзия такой свободы! Оттого-то так и прекрасен взлетающий над брусьями гимнаст: в этот миг кажется, что над ним не властна сила тяжести. Так и любовь рождается из мечты о бесплотности, о свободе от физиологии, а вовсе не из подчиненности ей! Наоборот: все, что слишком уж откровенно обнажает нашу телесность, — всяческие выделения, отверстия, сквозь которые проглядывают внутренности, проступающий скелет — все это мы воспринимаем как оскорбительное безобразие.
Так вот она откуда берется — таинственная связь любви и красоты: и любовь, и красота порождены общей мечтой — мечтой о свободе от материи. От плоти, как ее именовали в те времена, когда не боялись высоких, а значит, и самых правильных слов.
Мечтой о неземном.
АНГЕЛ
И
ОРАНГУТАНГ
На ложе моем ночью искала я того, которого любит душа моя, искала его и не нашла его.
Встану же я, пойду по городу, по улицам и площадям, и буду искать того, которого любит душа моя; искала я его и не нашла его.
Встретили меня стражи, обходящие город: «Не видали ли вы того, которого любит душа моя?»
Давно и незаметно нараставшее томление в груди обращалось в физическую боль, когда она осознавала, что такой красоты в ее жизни так никогда и не будет. Не зря она подозревала, что самые прекрасные и мучительные слова о любви отыщет именно вера! Потому что любовь и вера дети одной матери — мечты о свободе от мяса. Однако Лиза с печальной всепрощающей улыбкой разъяснила ей, что Песнь Песней повествует о любви между Богом и человеческой душой, а те, кто учит, будто Песнь Песней говорит о любви между мужчиной и женщиной, подлежат отлучению. Лиза все глубже погружалась в синенькую зачитанную Библию, ужасно меленько, но четко отпечатанную на папиросной бумаге, чтобы проще ввозить контрабандой. Но кто бы мог подумать, что когда-то Юля увидит Лизу по телику в монашеском облачении, милую-милую и счастливую-счастливую…
— Что вам дает монашеское служение? — с непривычной для нагловатой девки робостью будет вопрошать ее корреспондентка, и Лиза светящимся взором будет смотреть мимо и отвечать с полной простотой:
— Я знаю, что моя жизнь угодна Богу.
И Юля сначала пожалеет ее, а потом немного позавидует. Но пока что от Лизы исходило обычное земное тепло, особенно приятное в выстуженной общаге. Теплее всего с Лизой было вдвоем, что по вечерам часто складывалось само собой. Лариска наконец нашла надежного «отца», по возрасту более похожего на дедушку, и он снял ей квартиру на улице Софьи Перовской. По Ларискиным словам, ее новый возлюбленный был самый настоящий граф и владелец самого настоящего замка и фамилию носил ужасно аристократическую, что-то вроде Чезаре Борджиа. Потом — к чему графине советский диплом? — Лариска уехала в Италию, и Юля лишь через много лет узнала, что одного только замка с прислугой Лариске постепенно стало недоставать и она обзавелась красавцем любовником. Однако дедушка оказался не промах — он предоставил суду черт их знает какие улики и выставил Лариску из замка в чем стояла. Друг сердца немедленно ее бросил, она какое-то время потрепыхалась, но что там было, никто не знал, известно стало лишь то, что однажды ее нашли убитой в номере дешевого отеля.
Когда Юля об этом узнала, ей несколько дней было очень грустно (ведь о замке девочка грезила…), но потрясения она не испытала: она уже давно работала в судебке и ощущала смерть от ножа такой же естественной, как смерть от гриппа или от старости. И чувство вины за то, что она за кем-то чего-то недосмотрела, кому-то чего-то недоразъяснила, ее тоже давно перестало посещать: у каждого есть какое-то свое хроническое состояние аффекта, иногда растягивающееся на целую жизнь и делающее решительно каждого в чем-то невменяемым. И с этим ничего поделать невозможно.
Но в общежитии ей еще казалось, что они с Лизой слышат друг друга, и потому им было тепло вдвоем, когда Соня уходила в театр или в филармонию. И Соне, видно, в этом мире недоставало бесплотности, — иначе бы с чего ей водить приятельство
с Маринкой Жорно, которую сама же Соня со странной смесью насмешки и почтения называла Белой Дьяволицей. В ее очень правильном личике с острым подбородочком, напоминающим клювик, и полутанцевальных движениях всегда сочетались надменность и надмирность, а в одежде — что-то старинно-праздничное с неуловимо траурным. Похоже, ей больше всего нравилась роль прелестной девушки, переодетой пажом, и роль прелестного пажа, переодетого девушкой, — оба со злинкой. Но без этой злинки ей было бы не сделаться центром утонченного кружочка девочек-ленинградок (общежитские в основном тусовались друг с дружкой): утонченность почему-то требовала высокомерия. Соня Уманская, однако, в этот кружочек была допущена и постоянно приносила оттуда тонкие канцелярские папочки с бледными перепечатками поэтов и философов Серебряного века на тусклой папиросной бумаге.
От Сони Юля знала, что лишь тогда в России по-настоящему и поклонялись красоте, но Юле не верилось, чтобы Маринкина компашка была способна полюбить чтото подлинное: человек, хоть сколько-нибудь проникший в тайну красоты, не может быть самовлюбленным, поскольку собственных низменных сторон не знать невозможно. Серьезнейшая Соня, однако, что попало читать бы не стала. Больше того, она сетовала, что не может использовать Гиппиус и Цветаеву в своем курсовике о любви как стабилизирующем факторе межличностных отношений в первичной ячейке общества, именуемой семьей: Соня считала, что истинная любовь является ДЕ-стабилизирующим фактором, ибо царство ее не от мира сего.
Юля была склонна с этим согласиться: любовь зиждется на иллюзии неполной материальности возлюбленного, а какая может быть нематериальность, когда люди вместе спят и все прочее, вместе ходят по магазинам, вместе едят, ходят в один и тот же сортир… В «Комсомольской правде» ей попалась дискуссия, что такое настоящая любовь. Прогрессивная журналистка, затеявшая эту пикантную бодягу, с одобрением приводила слова какого-то «толстого дядьки» из поезда: когда человека любишь, то выносишь за ним горшки, и тебе не противно. Додуматься же надо — измерять любовь горшками! Зато секса и в той смелой дискуссии не было, только горшки. Соня, правда, с самым академическим видом утверждала, что любовь и сексуальность — случайные соседи по коммунальной квартире: люди постоянно видят их вместе и от этого решили, что они есть нечто неразделимое. А настоящие эстеты давно сумели отсечь их друг от друга. Или даже врага от врага. Зинаида Гиппиус, например, так хорошо проникла в сущность любви именно потому, что никогда не была ослеплена сексуальностью.
— Хочу любви не той, какой она бывает, а какой она должна быть и какая одна достойна нас с вами. Это не удовольствие, не счастье — это большой труд, не всякий на него способен. Но вы способны — и грех, и стыдно было бы такой дар Бога превратить во что-то веселое и ненужное.
— Пойми, прав я или не прав, но мне физически отвратительны воспоминания о наших сближениях. В моих прежних половых отношениях тоже была острая ненависть, ощущение позора за привязанность к плоти, только к плоти. Здесь же при страшном устремлении к тебе всем духом, всем существом своим у меня выросла какая-то ненависть к твоей плоти.
Все правильно: если любовь рождается из мечты о бесплотности, то страстная любовь и должна порождать ненависть к плоти. Она подняла глаза на Соню, ожидая от нее каких-то разъяснений, но прекрасный Сонин профиль был устремлен к очередным папиросным листочкам и твердо давал понять: сначала прочти.
Как-то повелось, что смешивают два слова: быт и жизнь. А между тем быт именно перерыв, отдых жизни, как будто летящая птица складывает крылья
и садится на дерево. Люди быта и люди жизни не должны бы никогда враждовать между собою. Ведь правы и те, и другие, но и жизнь живут, и быт устраивают люди скопом, и непременно между бытовыми попадутся более жизненные, между жизненными — более бытовые, и вот эти-то неуместные недовольны, несчастны, мучаются…
Наверно, я жизненная, а не бытовая, польщенно подумала Юля и наконец-то ре-
шилась окликнуть Соню:
— Что такое, по-твоему, быт и что такое жизнь?
— Что?.. — Соня обратила на нее свои дивные огненные очи, почему-то наполненные слезами, но Юле было не до того. — Что такое быт и что такое жизнь? Думаю, примерно то же, что для Цветаевой жизнь с маленькой буквы и жизнь с большой буквы. Возьми почитай.
Пошелестев папиросными листами, Соня протянула один из них Юле.
Я любовь узнаю по безысходной грусти, по захлебывающемуся: «ах!»
Я не любовная героиня, я никогда не уйду в любовника, всегда — в любовь. Не любовь вызывает во мне сердцебиение, а сердцебиение — любовь.
В любви меня нету, есть исступленное, невменяемое, страдающее существо, душа без тела.
Господи, неужели это так страшно?.. Да, любовь — бегство от тела — но не до такой же степени! Однако Юля уже начала понимать, что не в умеренном, а именно в страшном и таится главная правда.
Я в первый раз люблю счастливого и, может быть, в первый раз ищу счастья, а не потери, хочу взять, а не дать, быть, а не пропасть!
Милый друг, Вы вернули меня к жизни, в которой я столько раз пыталась и всетаки ни часу не сумела жить. Это была — чужая страна. О, я о Жизни говорю с заглавной буквы, — не о той, петитом, которая нас сейчас разлучает!
О, мы с Вами, быть может, оба не были людьми до встречи! Я сказала Вам: есть — Душа, Вы сказали мне: есть — Жизнь.
Мой Арлекин, мой Авантюрист, моя Ночь, мое счастье, моя страсть. Сейчас лягу и возьму тебя к себе. Сначала будет так: моя голова на твоем плече, ты чтото говоришь, смеешься. Беру твою руку к губам — отнимаешь — не отнимаешь — твои губы на моих, глубокое прикосновение, проникновение — смех стих, слов — нет — и ближе, и глубже, и жарче, и нежней — и совсем уже невыносимая нега, которую ты так прекрасно, так искусно длишь.
А потом будешь смеяться и говорить и засыпать, и когда я ночью сквозь сон тебя поцелую, ты нежно и сразу потянешься ко мне, хотя и не откроешь глаз.
Если бы Юля была одна, она, может быть, и заплакала бы, оттого что ничего и отдаленно столь же прекрасного никогда не будет в ее жизни, но Соне она лишь с вымученно-почтительной улыбкой покивала. И со страхом увидела, что по ее прекрасному лицу катятся слезы.
— Я тоже очень любила смеяться, когда нельзя, — негромко, но непримиримо произнесла она, и Юле показалось, что Соня сошла с ума: за Цветаеву ей удалось засесть в Горьковке только дня через два.
Однако свой незаданный вопрос она задала Лизе уже на следующий вечер: вот Цветаева-де противопоставляла Жизнь с большой буквы и жизнь с маленькой, — как ты это понимаешь? И Лиза ответила с такой твердостью, какой Юля никак от нее не ждала:
— Жизнь для меня противостоит только НЕ-жизни. То есть смерти.
Это прозвучало тоже так значительно, что Юля не решилась передать Соне Лизины слова: они обе такие упертые, лучше их не сталкивать. Но кто бы тогда мог подумать, что Соня так и не простит гибели Цветаевой той стране, которая ее
породила и убила, и отправится в страну, где о Цветаевой не слыхивали слыхом. Говорили, что она там занимается наркоманами в русском гетто, но так ли это, никто в точности не знал.
Он тонок первой тонкостью ветвей, его глаза прекрасно-бесполезны, под крыльями распахнутых бровей — две бездны.
Он в точности такой и оказался — как будто душа без тела накликала, иначе откуда бы ему взяться среди учебного года. Этот падший ангел появлялся на танцах уже в разгаре, прекрасный и нездешний, отрешенно стоял у стены, а потом снова исчезал, и она наконец-то узнала любовь сначала по захлебывающемуся «ах!» и почти сразу же по безысходной грусти. Ей и в голову не приходило искать с ним знакомства, она просто перестала есть. Спускалась в буфет и не могла проглотить ни куска. Она и раньше вроде бы знала, что любовь — опасная штука, что из-за любви убивают, других или себя, но она не знала, что бывает и так: с тебя уже сваливаются брюки, тебя шатает ветром, а куска все не проглотить и не проглотить. Неизвестно, до чего бы это дошло, если бы ангела не отчислили за аморалку. У него в комнате устраивались особые танцы в полумраке, где все танцевали голые. Ее прямо передернуло, когда она это невольно вообразила: голая задница, белая полоска неземного создания, у которого прежде были одни только глаза под крыльями распахнутых бровей…
Ее от одних мыслей уже подташнивало, однако ж есть она принялась с большим аппетитом. И начала даже в общежитии носить платье, очень симпатично подчеркивавшее постройневшую талию.
Ларискина койка пустовала недолго — ее заняла целевая аспирантка из Таллина Герда Кингисепп, что означало всего лишь Сапожник. Герда была статная и до того достойная, что далеко вытянутый за кончик нос ее не только не портил, но даже казался неким знаком королевского сана, словно у какого-нибудь Франциска Длинноносого. Другие девушки, переодеваясь ко сну, отворачивались, как бы очерчивая условную ширму, что служило остальным сигналом более или менее отводить глаза, но Герда могла в голом виде прохаживаться по комнате да еще и пускаться в разговоры. И статность ее оказывалась не слишком женственной: и кости начинали торчать, да и с талией обстояло неважно.
Зато в темно-синей, почти черной пиджачной паре… У Юли несколько раз спрашивали, как это Герда, не снимая, носит один и тот же костюм, а он всегда чистый и отглаженный, и Юля с некоторым даже тщеславием допущенного к тайне рассказывала, что таких костюмов, совершенно неотличимых, у Герды три и все висят над ее кроватью на особых вешалках-каркасах, — казалось, над ее кроватью повешены три строгих обезглавленных джентльмена. Герда и разъяснила, что проблема любви давным-давно закрыта Фройдом и только ханжеская советская психология еще держится за социальность, хотя все решает биология. Любовь возникает вследствие переоцененности недоступных гениталий, цель любви — оргазм, оргазм же достигается стимулированием эрогенных зон…
Герда со своим стильным акцентом выговаривала все эти пеэнисы, клииторы и напухаания тоном не уверенного во внимании слушателей педагога, дающего понять, что если вы не слушаете, то вам же хуже. Видимо, ее задевало, что Лиза, чуть только начинался урок сексуального просвещения, немедленно одевалась и уходила гулять по набережной, а Соня принималась с надменным видом разбирать свои
папиросные сокровища, давая понять, что она выше этого. Зато Юля, хоть и чувствовала, как пылают щеки, слушала зачарованно, надеясь, что академический тон и анатомический словарь позволят и ей выдать свое любопытство за научную любознательность. Ей и вправду было занятно, до каких еще дуростей может додуматься цивилизованный мир, но еще гораздо больше ей хотелось наконец узнать, на что же похожа эта самая невыносимая нега.
— На что покоож оркаазм? Это покооже, как пуутто каакаешь.
Разом исцелив Юлю от сладострастных фантазий, Герда перевелась в Москву, где, по ее словам, ее ожидало сотрудничество с главным советским сексоведом Коном, которого она почтительно, но строго именовала просто Иикорем Семьеновитсем.
С некоторых пор на общежитских танцах Юля время от времени начала ловить на себе внимательный взгляд плечистого физика, похожего на умного орангутанга. Орангутанг этот, однако, держался уверенно и среди тройки-четверки приятелей явно верховодил. В общих скачках он не участвовал, да ему бы это и не пошло — уж очень могучая грудь распирала его серый рыбацкий свитер или свекольную линялую ковбойку. Но однажды он явился в строгой, как у Герды, темной паре, никого не спрашивая, выключил общий магнитофон, подождал, когда потная публика начала разочарованно растекаться к стенкам, и поставил свою кассету. Зазвучал неземной вальс Прокофьева из «Войны и мира», и орангутанг через опустевшую середину зала направился прямо к ней, напоминая лесоруба или старателя, вырядившегося на чью-то свадьбу. Он был не намного выше среднего роста, а потому ей показалось, что ее кружит по зальчику дрессированный медведь. Однако на диво вышколенный. Движения его были легкими и точными, но в его могучих лапах она очень быстро почувствовала себя невесомой, и это было на удивление приятно. А когда у нее подломился каблук, орангутанг удержал ее на весу и продолжал кружить, как будто ничего не произошло. Так и докружил до прежнего места и сделал изящный медвежий книксен.
Слегка задыхаясь от танца и от волнения, она нагнулась за изуродованной туфелькой и принялась с преувеличенным вниманием разглядывать висящий на темно-красной кожице каблук.
— Я не знаю талии более гибкой и сладострастной, — по-приятельски улыбнулся орангутанг. — Еще помните «Героя нашего времени»? Но как же ты пойдешь без каблука?
Он на мгновение пропал из глаз, а в следующий миг она уже обнаружила себя у него на руках. А он, как будто так и надо, подбадривал: ну, показывай, куда тебя доставить. Ей ничего не оставалось, кроме как командовать: налево, направо, вверх, еще раз налево… В комнату входить он не попытался, хотя было не так уж поздно, только поинтересовался, кто из девочек любит какие пирожные, и сказал, что зайдет завтра вечером. Уточнил лишь время, как будто об остальном они давно уже условились.
А затем и появился минута в минуту. С темно-свекольной под замшу спортивной сумкой через плечо, сам с осеннего холода немного свекольный, в пухлой черной куртке прямо-таки пугающе могучий. Но держался со всеми как старый добрый знакомый, а с ней, пожалуй, будто даже какой-нибудь двоюродный брат, и все же, когда он сам начал точными движениями накрывать на стол и раскладывать пирожные по тарелочкам, ей показалось, что она попала на какой-то булгаковский цирковой номер с дрессированными орангутангами. К тому же и говорящими. Да еще и неглупо говорящими. Пожалуй, даже умно, как ни странно. Юля привыкла, что
умные разговоры можно вести лишь о Жизни, а глупые о быте, но он говорил вроде бы о быте, а получалось умно. Как будто так и надо, попросил вчерашнюю сломанную туфельку, достал из сумки клей «Момент» («последнее слово физхимии»), отвертку, шильце, шурупчики и, наполнив комнату неожиданно уютным запахом сапожной будки, в пять минут привел каблук в исходное состояние.
— Как приятно видеть мужчину, занятого полезным делом! — воскликнула Лерка Козлова, почти не кокетничая, поскольку в тот вечер из-за нехватки денег была почти трезвая.
А Егор — орангутанга зовут Егором — с цирковым полупоклоном протянул Юле туфельку:
— Ваш хрустальный башмачок, принцесса!
— Последний рыцарь! — обессиленно воскликнула Лерка, и Юля поняла, что в мужчинах чего-то недопонимала.
А когда Егор откланялся ровно за минуту до того, как у кого-то могла зародиться мысль, не пора ли расходиться, Лерка на нее прямо набросилась:
— Ты его уже трахнула?
— Что за глупости!..
— Зачем он тебе?! Ты же в этом ничего не смыслишь! Такой мужик!..
Именно после этих слов Юля и опустилась впервые в жизни до сплетен — словно бы просто интересным феноменом поделилась с Егором, какое у Леры удивительное лицо: на нем можно нарисовать любую красавицу, зато без косметики она просто никакая. К остаткам чести ее, впервые познавшая ревность Юля не добавила, что в юбке Лера кажется даже стройной и грудь, если подтянуть повыше, торчит выше плеч, зато в душе распускается до бедер, вместо которых у нее одни кости, а Лерка при этом еще метит в модели, желает фланировать по подиуму, ее отец, какая-то шишка в Смольном, засунул ее на психфак, тащит с пар на трояки, а она постоянно тусуется в общаге, где не мешают пить и трахаться… Разумеется, она ничего этого не сказала, но Егор как будто все равно услышал:
— Ее пожалеть можно. Она когда-нибудь сопьется.
Однако же никакой Егор и представить бы не мог, что Лерка через пару-тройку лет забросит свой троечный диплом и действительно заделается любимой моделью знаменитого жулика, научившегося продавать престижность под видом красоты, что спиваться она станет в качестве жены долларового миллионера и что ее не вполне трезвые жалобы-бахвальства по телефону будут совершенно неотличимы от причитаний уборщицы-алкоголички, вытиравшей пыль в Юлином кабинете: выпила-то всего полсткана, фингал поставил, сволочь, купил, чтоб подлизаться… Только в этом пункте жена миллионера и жена сантехника и расходились: один в знак примирения покупал золотое кольцо с бриллиантом, другой — кофточку в Апрашке.
С Егором жизнь у Юли пошла куда интереснее: уже с утра всегда было чего ждать. И они чуть не каждый день действительно куда-нибудь ходили — то в театр, то в филармонию. Егор билеты покупал с переплатой и мог сводить ее на что угодно, и она каждый раз ловила себя на нехорошем, но приятном чувстве превосходства над теми, кто еще за квартал спрашивал лишние билетики. Иногда она, смущаясь, пыталась сунуть Егору какие-то рублевки, но он с обычной своей любовной снисходительностью всегда отвечал одинаково: «Русский офицер с женщин денег не берет». Это, приходилось признаться, тоже было приятно, когда за тебя всюду платят. Ценят, значит. Подчеркивают, что ты женщина. Приятно было и то, что деньги у него всегда водились — то он писал контрольные для заочников, то они с друзьями кому-то строили дачу, рыли канавы или по ночам разгружали
вагоны на каких-то Бадаевских складах или на Кушелевке, а летом они обязательно отправлялись на шабашку на Севера…
Хорошо было чувствовать себя слабой женщиной среди сильных мужчин, среди которых ее Егор был явно самым сильным. Не только мускулами, — Егор, по общему мнению, был башка. Сначала ей, правда, было неловко показываться с орангутангом, но она быстро обнаружила, что каждая третья продавщица или официантка после первых же его слов начинают улыбаться. И когда она окончательно уверилась, что в мужчинах чего-то очень важного не понимала (видимо, сила тоже разновидность красоты, сильные более свободны от материи), ее смущение сменилось чем-то вроде гордости: теперь и у меня есть не хуже ваших! А то и получше. Этой же осенью их вместе с физиками однажды ночью внезапно бросили на разгрузку капусты, и психфаковские мальчики с трудом ловили по одному кочану, а Егор, опять-таки будто в цирке, сразу по два. А в перерывах, когда все старались себя развеселить среди дышащего гнильцой промозглого полумрака, местные тетки в синих халатах начинали злобно ворчать: вы сюда гыгыкать пришли или работать?! А когда кто-нибудь из мальчишек начинал объяснять, что в данный момент работы просто нет, его могли послать и матерком.
— Надо провести воспитательную работу, — озабоченно покачал головой Егор и в лопающейся поверх свитера стройотрядовской куртке направился в освещенную подсобку, куда синие тетки укрывались от сырости и чужого счастья. И уже через минуту там поднялся веселый гул. Юля, с удивлением ощущая в груди что-то вроде ревности, отправилась туда посмотреть, что же он такое им там впаривает. Под тусклой лампочкой Егор сиял, как на арене цирка, а какая-то синяя тетка, обращенная к Юле спиной, под общий смех ему выкрикивала:
— На окошке два цветочка, голубой да аленький, никогда не променяю хрен большой на маленький.
И ответ Егора расслышала прекрасно:
— Посулила, не дала — сказала, дырочка мала.
Она осторожно попятилась, но предосторожность была излишней: хохот заглушил бы и шаги Командора. После этого она тем серьезнее оценила, что с нею Егор не допускал ни малейших вольностей. Ни в сторону низкого, ни в сторону высокого. О спектаклях, о концертах Егор всегда говорил что-то на удивление точное, однако и на удивление простое. Белая Дьяволица сказала бы, что он не видит большой разницы между жизнью и бытом, но Егор прекрасно разбирался и в том, и в другом. Он и начитан был на удивление что в прозе, что в поэзии и совершенно на равных мог поддерживать даже с Соней разговор о богоравной Цветаевой, с полным сочувствием поддакивая их с Соней разделению на Жизнь с большой и жизнь с маленькой буквы. Соня, однако, ему не слишком доверяла, ибо слова он произносил правильные, но совсем уж без пафоса. Тем более что он так же сочувственно выслушивал и Лизу, осуждавшую Цветаеву за ее презрение к обычным людям: ведь они тоже когда-нибудь умрут, не только она! Лизу особенно возмущали признания Цветаевой, что она не любит земной жизни, а в особенности людей, вот с ангелами на небесах она бы поладила. Легко ладить с теми, кому ничего не нужно, пожимала плечиками Лиза, пытаясь быть презрительной, а Егор соглашался: нет конкуренции — не будет и вражды. И Юля видела, что он ни там, ни там не притворяется.
— Для тебя как будто, что ни делается, все правильно, — однажды попеняла она Егору.
— Естественно, — уточнил он. — Для физика естественно все, что есть. Для Сони естественно быть Соней, а для Лизы — Лизой.
— Но ты же что-то все равно любишь, а что-то не любишь?
— Конечно. Тебя я люблю, а Соню принимаю.
От слова «люблю» внутри что-то испуганно и радостно ёкнуло, однако Егор произнес это чарующее слово с такой простотой, тут же заговорив о чем-то другом, что испуганно-предвкушающий холодок в груди подождал-подождал и разочарованно растаял. Ее уже довольно давно смущало, что Егор ее совсем не домогается. Неужто и в «цивилизованном мире» еще как-то выживают благородные герои с полки юного романтика?
С радостью жертвовал он ради нее пожиравшей его пламенной страстью. Коснуться ее волос, впивать ее аромат, лежать в траве у ее ног, прижавшись лбом к краешку ее шелкового передника, незаметно унести себе домой букет цветов, увядших у ее пояса, — вот в чем заключались великие события и великие радости этой жизни, полной самоограничения, любви и счастья.
Что-то незаметно было, чтобы он очень уж стремился впивать ее аромат или прижиматься к краю ее подола. Он приобнимал ее только за плечи, а расцеловывал исключительно в щеки и тут же выпускал. Неужто он так чтил ее целомудрие?..
Я люблю более твою добродетель, нежели твою красоту, и твою душу более, чем твое тело.
Все это было очень красиво, но когда начинает казаться, что твое тело его совсем не привлекает, становится с каждым днем все обиднее и обиднее. Тем более что и девочки, кто побойчей, уже допытываются: так у вас с ним что-то есть или ничего нет? Приходится делать вид, что ты не желаешь обсуждать свою интимную жизнь, и это тоже красиво. Если правда. Но если этой самой интимной жизни нет вовсе… В общем, ей пришлось первой поцеловать его в губы. Сначала она клюнула его через силу — через смущение, через унижение. Но ей стало обидно, когда он в ответ точно так же ее клюнул, даже не попытавшись всосаться, как это делали неизмеримо менее близкие претенденты, коих она тут же отшивала, хотя некоторые девочки щеголяли засосами, как леопарды. Поэтому в ответном поцелуе она задержала его крупные губы в своих, словно бы показывая ему, как это делается. Однако учить его не требовалось, все он умел, и скоро стало заметно, что ему приходится сдерживаться, чтобы не сделать ей больно, а то и вообще раздавить. Но он тут же выпускал ее, стоило ей выказать хоть крошечное желание высвободиться. Что же это за страсть за такая? Послушная.
Приятно, правда, было хотя бы то, что их не раз заставали целующимися у ее двери, когда они не могли расстаться иной раз и по целому часу. Она, конечно, сразу же отшатывалась, как будто страшно смущена, но в душе был довольна. А понемногу поцелуи и объятия и в самом деле их сблизили, ей стало казаться, что целуется она с кем-то очень родным, и после этого ей сделалось даже и физически приятно, иногда возникало даже то самое томление, которое она испытывала маленькой девочкой, сжимая ноги в постели. Ну и тем более было приятно, что теперь у нее все, как у всех. Хотя Лерку Козлову ей обмануть не удавалось: ну что ты тянешь, отчитывала ее Лерка при каждой встрече, тащи его в койку, это же такой мужик! Но не тащить же его и в самом деле! И как? И где та койка? Что, Соню с Лизой просить удалиться на полчасика? От одной только мысли ее обдавало сразу и жаром, и холодом.
Но вот однажды щипучим морозным днем на промерзлом трамвае они отправились куда-то к черту на рога на выставку неофициальных художников. Егор, как и всюду, держался с полной простотой, ронял, хоть и негромко, однако и без
опаски: «под Пикассо», «под Шагала», «экспрессионизм», «супрематизм», и ей было приятно, что с Егором нигде не страшно. Она решилась даже спросить:
— А вот скажи, почему ни у кого из них нет красивых людей?
— Как никого? А они? Чем уродливей они изобразят нас, тем красивее будут выглядеть сами.
— Ты так спокойно об этом говоришь… Тебя когда-нибудь что-нибудь возмущает?
— Как можно возмущаться физико-химическими процессами? Люди такие же физико-химические процессы, как дождь, как клей «Момент»…
— Так что, для тебя и я процесс?
— Да, и на редкость симпатичный.
Он приобнял ее своей могучей ручищей и прямо при всех клюнул в губы. А в набитом трамвае она и впрямь оказалась за ним как за каменной стеной: кажется, если бы не Егор, ей сломали бы спину о поручень. Замерзшие стекла походили на размокший и застывший сахар, то чернеющий, то переливающийся бриллиантами от уличных фонарей, но Егор безошибочно определил:
— На следующей выходим. Метро.
В центр народу ехало мало, так что пьяный мужик мог свободно шататься по вагону и цепляться к сидящим пассажирам. Егор наблюдал за ним совершенно невозмутимо, но когда пьяный перекрыл дверь, не выпуская народ на станции, Егор шагнул к нему и братски обнял.
— Братуха, ну ты чего так расстроился?..
Ханыга задергался, но, видя, что голова зажата железной хваткой, замер. А Егор как ни в чем не бывало мотнул головой в сторону двери:
— Проходите, граждане.
Граждане гуськом прошмыгнули в оставленную щель, двери съехались, и Егор выпустил присмиревшего буяна. Тот покорно рухнул на ближайшее свободное место и на следующей остановке вышатался наружу, а Юля — когда испуг прошел, она едва не приподнялась над сиденьем от никогда еще не испытанного ликования: этот храбрец и богатырь — ее мужчина! И все это видят!
Егор зачем-то привез ее на «Василеостровскую» и предложил пройтись по Большому (она не поняла, действительно ли он не слышит двусмысленности этих слов или так глуповато шутит, но остановилась на первом варианте). Когда они, потирая покусываемые щеки, свернули на темную линию, она была даже рада поводу прижаться к нему, как будто ей страшно. А Егор остановился у неизвестного дома:
— Здесь жила Анна Васильевна Ганзен, переводчица Андерсена. Мы от нее узнали и «Снежную королеву», и «Принцессу на горошине»… Мне иногда кажется, что это про тебя. Зайдем?
— К переводчице?
— Бедная принцесса, как тебя легко обмануть!.. Она давно умерла. Но у меня есть ключ. Погреемся, чайку выпьем…
Неужели момент истины близок?..
Квартирка была однокомнатная, но с резной старинной мебелью, по стенам на тарелках была развешана вся романтика: синие рыцари, увитые плющом замки, из окон которых свешивались веревочные лестницы… Один только диван был современный. Егор же распоряжался как дома. Поставил на тяжелую тканую скатерть белую эмалированную кастрюлю, сверкающим половником разлил в современные тарелки горячий суп.
— Откуда здесь суп?
— Я сварил. Не нравится?
— Очень нравится. А кто тебя научил?
— Сам научился. Отец все время был в плавании, а мать больше в зеркало смотрелась. Я лет с семи научился управляться на камбузе.
— Как, такой маленький?.. Ты же мог обжечься, обвариться?..
— Бывало и такое.
Она представила, как маленький обезьянчик пытается заглянуть в кипящую кастрюлю, которая выше его самого, и у нее на глазах выступили слезы. И они начали целоваться, как никогда еще не целовались. Сначала через угол стола, потом встали, и он наконец впивался в нее губами так, что становилось больновато. Но тем радостнее в ее душе звучало: наконец-то, наконец-то!..
— Стисни меня как следует, мне нравится, что ты настолько сильнее меня, — почти задохнувшись от нескончаемого поцелуя, прошептала она, и он где-то в четверть силы на четверть секунды прижал ее к груди, так, что она с наслаждением охнула: — Медведь!..
Но тут он с усилием от нее оторвался; он тоже тяжело дышал.
— Скажи, ты хочешь здесь остаться?
— Как остаться? Здесь же музей?
— Может, когда-нибудь и будет музей, если прославимся. Но пока я это гнездышко снял для нас с тобой. Если захочешь, остаемся здесь.
Растерянность, радость, страх — что, прямо сейчас? А почему не сейчас? Чего еще ждать? Ну, как-то так, неожиданно… А вдруг?.. Что «вдруг»? Но что не вызывало никаких сомнений — можно было не выходить в морозную тьму. И она, не поднимая глаз, кивнула. И он просиял. И так, с сиянием на лице, открыл темную дверь в ванную:
— Прошу, принцесса! Ваш постельничий все приготовил!
Стены ванной казались мраморными, а сама сверкающая чистотой огромная ванна приподнималась на чугунных львиных лапах. Бронзовые рукоятки довершали ощущение старины, над ванной на плечиках, словно прыгающий по камням горный ручей, вскипала рюшами невиданная ночная рубашка. Это так он, значит, представляет жизнь принцесс, бедный сиротка… Море в рюшечках… Но сквозь растроганность пробилось и разочарование: как-то все слишком уж продуманно… А где «хочу быть дерзким, хочу быть смелым, хочу одежды с тебя сорвать»?.. И тут же почувствовала себя неблагодарной дрянью. Так что заставила себя раздеться уже отчасти в виде наказания. И из ванны себя выгнала по этой же причине.
Шелковая рубашка скользнула по телу, будто чьи-то чересчур уж ласковые руки. Бог ты мой, у этой рубашки был даже шлейф!.. Поколебавшись, она поддела под рубашку сначала трусики, а потом еще и лифчик. И тут же, чтобы не дать себе испугаться, шагнула в комнату. К счастью, в комнате уже стоял полумрак — горел только красный торшер (красный фонарь…), накалявший розовым постель с откинутым одеялом на разложенном диване. Особенно поразили ее огромные раздутые подушки. Егора она не сразу заметила и даже вздрогнула, когда кто-то обнял ее сзади.
— Что ты дрожишь, как цуцик? — с нею даже мама так нежно не разговаривала, только папа. — Ну хочешь, ничего не будет?
— Нет-нет, — испугалась она, зная, как легко он отступает. — А что такое цуцик?
— Суслик, наверно. Ну, не дрожи, не дрожи… Забирайся под одеяло, я сейчас. Не бойся, все будет, как ты хочешь.
Он скрылся в ванной, а она, поколебавшись, сбросила рубашку принцессы и забралась под одеяло в трусиках и лифчике. Колотило ее еще больше прежнего. Дернув за шнурок под красным абажуром, она погасила свет: а то вдруг Егор выйдет из ванны без ничего…
Она почти успокоилась, но ее снова начало колотить, когда диван со стоном просел под тяжестью егоровского тела.
— Суслик снова дрожит, — пожаловалась она детским голоском: в роли маленькой девочки ей было всего уютнее.
— А мы сейчас суслика разотрем, — он действительно принялся ее растирать горячими ладонями. — А это еще зачем?
Запустив руку за спину, он умело расстегнул лифчик и, нырнув под одеяло, стащил трусики так быстро, что она и покочевряжиться не успела.
— Ну ты мастер… — с невольным уважением произнесла она, на что Егор все с тою же неотступной нежностью усмехнулся: — Какой я мастер, это ты должна будешь всему меня научить. Это что у вас, моя госпожа?
Он начал поглаживать ее по груди. Она снова сжалась.
— Ой, опять напугали бедного суслика… Ты меня за это тоже погладь.
Она протянула руку и тут же отдернула: его грудь была покрыта самой настоящей шерстью. Нет, он все-таки был орангутанг…
— Тебе противно? Тогда не надо, — он говорил с нею уже голосом очень доброго доктора.
Она старательно погладила его по шерсти и поразилась твердым буграм на его груди.
— Так у тебя у самого, наверно, второй номер…
— Интересная мысль… Мы с пацанами когда-то посмотрели фильм «Тарзан» — у него тоже были сильные грудные мышцы, он бегал, а они тряслись. И мы с мальчишками спорили, есть там молоко или нет. А один, самый умный, решил всех примирить, сказал: есть капли две.
Она прыснула, и страх как рукой сняло. Егор ведь тоже когда-то был мальчишкой-дурачком… А сейчас он сделался очень добрым и умелым доктором. Добрый доктор Айболит. Приговаривая что-то ужасно ласковое, как успокаивают перепуганных детишек, он во мраке нависал над нею, стараясь не придавить, и что-то там делал, от чего она старалась отвлечься, как это делала однажды, когда ей вскрывали нарыв на пальце. Этот нарыв вскрывали без наркоза, но она только в самом начале охнула, и Егор сразу же замер:
— Что, очень больно?..
— Ничего, ничего, — лучше бы не спрашивал.
Он что-то продолжал делать со вскрытым нарывом, было больно, но уже терпимо, а потом застонал сам Егор и обмяк, чуть ее не раздавив, но тут же опомнился и, задыхаясь, перевалился на бок. Он начал было ее целовать, но она заторопилась встать:
— Мне нужно в ванную, а то чужой диван испортим.
— Не бойся, я под простыню клеенку подложил.
И это он продумал… И в ванной тоже были приготовлены и вата, и какой-то дезинфицирующий раствор, — так вот она, тайна земных наслаждений…
Ты набитая дура, сказала она себе, все женщины жалуются, что мужчины в первую ночь бывают грубыми, а он сама деликатность, сама нежность, а тебе все мало, неблагодарная дрянь, чтоб я такого больше не слышала, тебе уже сейчас все завидуют, а теперь будут завидовать еще больше! «Если скажут, что я некрасивая, не поверю теперь никому», — звучало в ее ушах.
А ее дальнейшая жизнь вполне уложилась в древнейшую формулу счастья: житьпоживать и добра наживать. Были, конечно, и тревоги, но без тревог не оценить и радостей, а какие радости могут быть сладостнее, чем хороший конец у пугающего начала! В общем, было все — не было только вспышек.
Хотя нет, одна была, и еще какая — рождение маленького Егорушки.
ЖИЗНЬ
ЕСТЬ
ЖИЗНЬ
Обронил орел залетный перышко. Родился на свет Егорий-свет-Егорушка.
Но это только в стихах бывает так красиво, а в жизни, пиши ее хоть с маленькой, хоть с метровой буквы, нужно таскать в поликлинику анализы в майонезных баночках, терпеть холодные склизкие поглаживания ультразвуковой машинки, а на последних неделях отслеживать вес, давление, объем начинающего трескаться живота со вздувшимся пупом…
Однако ей и в голову не приходило беспокоиться, красиво это или некрасиво — она была занята делом настолько важным, что и думать забыла о подобных пустяках. Ее ни на минуту не оставляло чувство, что живет теперь она совершенно правильно, а правильность, оказывается, вполне может служить заменой красоте. Ей даже страшно не было, настолько ее поглощала подготовка к чуть ли не первому в ее жизни по-настоящему важному делу. Да и рядом с Егором, сделавшимся в эти месяцы совсем уж родным папашей, вообще было не страшно, — казалось, он все сумеет уладить, как по-быстрому все уладил с кооперативной квартирой, с защитой, — даже в судебку ее устроил Егор: консультировал прокуратуру по поводу отравленных тканей и тут же свел полезное знакомство. Роддом, куда Егор ее привез на собственноручно восстановленных им из руин «Жигулях», тоже считался хорошим, но когда она осталась в палате одна — тут-то ее и захватил настоящий ужас. Ведь и в самом деле не может младенец пробиться оттуда: там же все такое узенькое, ей и от Егора-то больновато, а тут целая головенка, плечики…
Но когда миновал этот ужас, эта немыслимая боль, она довольно быстро стала казаться страшным сном, а главной явью сделался страх за ребенка. Юля и кружевной голубой сверток, выдыхавший нежный парок, отказалась доверить Егору, и только дома, уложив бесценное существо на кровать подальше от края и сама развернув пеленки, она позволила Егору посмотреть на сына. Сына… Какое странное слово!.. Неужели теперь у них есть сын?.. Он поводил мутным взглядом, что-то ловил ротиком, трепетал язычком, — она с гордостью посмотрела на Егора и обнаружила на его крупном грубом лице выражение растроганности, граничащей со слабоумием. И тут младенец еле слышно пукнул. И из глубоко посаженных егоровских глаз, как по команде, покатились слезы. Свои слезы она заметила, только когда они защекотали краешки губ. Они смотрели друг на друга и плакали, и она поняла, что сына нужно назвать тоже Егором, и никак иначе. Да! как она сразу не заметила, — маленький Егорушка ужасно похож на большого. Такой же орангутанг, только маленький. Зато ей наконец-то открылось, что орангутанги гораздо более милые существа, чем люди. И ее охватила такая нежность к мужу, на какую она и не знала, что способна: ведь он тоже, собственно, такой же беспомощный малыш, он только с виду большой. Так вот чего ей не хватало для любви — она не могла вообразить Егора беспомощным!
Да, все так и оказалось, как объяснял тот толстый дядька: выносишь горшки, а тебе не противно — смотришь только, нет ли поносика или, наоборот, хороший ли цвет, не изменился ли запах…
И это при том, что желаешь вроде бы одного — упасть и выспаться. Но это все было ничто в сравнении со страхом: заболеет, упадет, разобьется… А потом начался страх, что начнет курить, свяжется с плохой компанией, — классная руково-
дительница как-то даже поругала ее за излишнюю нервозность: ваш ребенок по сравнению с другими мальчишками в классе так просто белый лебедь.
Ага, не гадкий утенок!
Как она ни старалась не отравлять ребенку детство-отрочество-юность, справиться с одной фобией могла только другая. Хорошо, хоть с учебой проблем не было, пришлось помешаться на здоровье. Первым делом она отдала сынишку в бассейн, потом поставила на лыжи, а регби он уже выбрал сам вслед за обожаемым папой, хотя был не такой могучий (но далеко и не слабак). Вечно ходил в ушибах, однако не только не жаловался, но не позволял и заговаривать на эту тему. Отцовская выучка. А потом пришло увлечение еще похуже регби — зимние походы. На нее наваливалась тоска, чуть только Егорушка начинал сушить в духовке до состояния пороха фарш, и потом с этим мясным порохом за спиной, на лыжах — на Урал, на Алтай… А ей оставалось только каждое утро кидаться к сводке погоды — какой сюрприз ей приготовили стихии. Что ее немного утешало, — работая в судебке, она убедилась, что и люди, среди которых нам приходится жить, точно такие же стихии. Живет себе, живет приличный молодой человек, слушается маму, ходит в институт, а однажды кладет в холщовую сумку трехкилограммовую гантель и спускается с ней по лестнице. Навстречу попадается соседка. Он, будто кистенем, ударяет соседку по голове и идет дальше. И точно так же поступает с каждым встречным. Так что, пока на него наконец набрасываются, он успевает укокошить шесть человек.
Теперь Юля очень хорошо понимала: опасен каждый. Поэтому она не то чтобы боялась любого встречного, но без необходимости ни к кому не приближалась. И в подъезд одна никогда не входила — ведь ничего не стоит и подождать, пока еще кому-нибудь понадобится, — куда, собственно, спешить?
Теперь она вспоминала свое томление по красоте как детскую глупость: мальчишки играют в мушкетеров — девочки мечтают о принцах и замках. Да, это было потрясением, когда судебка ей открыла, что романтика живет и в наше время, что из-за любви по-прежнему убивают и разоряются, только эти страсти ушли в криминальный мир. А потом она поняла, что они оттуда и не выходили, что криминальный мир, хоть и разодетый в шелка, все равно оставался тем же криминальным миром, это Шекспиры и Еврипиды сотворили его красоту. Она поняла, что романтическая любовь ищет бури, а семейной жизни нужна надежность — защита от этих самых бурь. И невозможно защищать того, в ком видишь неземное существо, не нуждающееся, стало быть, в защите.
Егорушка уж никак не был неземным созданием, она места не находила, когда он начал допоздна гулять с девушками, хотя всегда звонил и предупреждал, что задержится, и всегда возвращался, как обещал. Не один лишь Егорушка, в защите нуждался и могучий Егор. Когда Юлю вместе со всей просвещенной Россией пленило это сладкое слово свобода, Егор довольно скоро вынес приговор:
— Свобода — это конкуренция. Теперь появятся выигравшие и проигравшие. Надо не попасть в проигравшие.
И они не попали. Егор с приятелями на своем же секретном оборудовании разработали какой-то дешевый способ очистки водки и так умело подали его взошедшему из подземного мира водочному королю, что тот счел выгодным взять Егора не только на работу, но и в долю. И когда ученый люд сосал лапу или перебивался челночным коробейничеством, в Юлиной жизни появилась квартира с лепниной в полуаристократическом центре Петербурга, чистенькая дача под Выборгом по ту сторону государственной границы, регулярные посещения европейских столиц, понемногу сделавшиеся будничным развлечением, — это, пожалуй, можно было бы
ощутить и красивой жизнью, если бы не водка. Ей было совестно, что Егор, по общему мнению — большая башка, участвует в водочном бизнесе, и ее не смешили егоровские шуточки: «Товарищ Сталин сказал: пэрэд намы выбар — капиталыстыческая кабала илы водка». И ей было совсем не жалко водочных королей, отслеживавших с вертолетов, как бы кто из них не вывез с фабрики больше фур, чем полагалось по их версальскому дележу. Ее даже забавляло, что новый егоровский босс маскирует машины в соседнем парке, а вывозит внеплановую водку ночью, без фар. Но когда нового короля застрелили в собственном кабинете, ей стало не забавно. Особенно когда акционеры выбрали в новое руководство Егора. Она умоляла отказаться, чуть в ногах не валялась, но Егор только посмеивался:
— Я же не дурак, я так распределил ответственность, что убивать меня совершенно бесполезно. К тому же я двум генералам фээсбэ плачу такие бабки, что они будут меня охранять лучше, чем президента.
А когда ему наконец надоело слушать ее причитания, он жестко припечатал:
— Все, закончили. У меня выбора нет — или в дирекцию, или на улицу. А я не допущу, чтобы вы нищенствовали.
Так теперь и приходилось жить под этой треснувшей кровлей. До красот ли тут! Страх заменил страсть: в постели, когда наконец отступала дневная замороченность, ужас, что с Егором что-то случится, заставлял ее набрасываться на него с такими нежностями, каких она не знала и в пору медового месяца. Но он и в этом явно не видел никакой драмы, только посмеивался. Пронзительную жалость к нему она почувствовала лишь на той вечеринке с Анатолем Курагиным, как она про себя прозвала старшего лейтенанта Чижова, страшно похожего на артиста Ланового в фильме «Война и мир». Канцелярские бабы перед Чижовым млели, но он с ними только пошучивал со снисходительностью красавца мужчины, и только с Юлей он говорил серьезно, даже когда шутил, время от времени то зажигая, то пригашая свой огненный взор.
Но по-настоящему он зажег его лишь на Дне милиции, который они большой компанией отмечали в ресторане «Москва». На танго и вальсы Чижов приглашал только ее, и на следующий день она уже сама не могла понять, из-за чего все ее тело было наполнено счастливой щекоткой, заставлявшей почти взлетать во время танца и смеяться от каждого шутливого слова, — из-за шампанского это на нее накатило или из-за Чижова. Но желание прижаться к нему еще, еще теснее в тот вечер она ощущала лишь выражением всеобщей праздничной дружбы. И когда Чижов с необыкновенной сердечностью посочувствовал ей, что она, такая страстная женщина, похоже, считает постель всего лишь продолжением кухни, способом позаботиться о муже и ребенке, а о своих радостях совсем не думает, — она и вправду едва не начала хвастаться, что ей в этом смысле ничего не нужно, что к мужу после рождения ребенка она стала тоже относиться как к маленькому, хотя он очень сильный и все умеет, но теперь она поняла, что мужчины всегда остаются детьми…
Ей хотелось поумиляться и собой, и двумя своими Егорами, но Чижов вдруг приблизил к ней свои огненные глаза и страстно прошептал:
— Поедем ко мне, ты узнаешь, чем настоящий мужчина отличается от ребенка!
И она заполыхала от стыда, что позволила этому хлыщу упомянуть о Егоре — о ее Егоре! — с пренебрежением. Продолжая полыхать, она бросалась чуть не под колеса, пытаясь поймать машину на ледяном мокром Невском, а наконец добравшись до Егора, принялась так бешено целовать его, захлебываясь нежнейшими словами, что пробудила и в нем что-то вроде безумия. Но оказалось, она еще не знала, что такое истинная страсть до того, как Егор угодил в «Кресты». На ее счастье, она узнала про этот ужас только в тот день, когда Егор выходил на волю:
позвонил его водитель Леша и сообщил, что Егора Сергеевича сегодня выпускают, так поедет ли она его встречать? Где встречать, откуда выпускают?.. Из «Крестов».
— Но он же мне каждый день звонил, он говорил, что он в Финляндии?.. Ну, Железный Феликс… Ничего по голосу было невозможно понять!
Егор в нелепом лазурном свитере с надписью «Зенит — чемпион!» ждал уже на улице рядом с простецкой черной сумкой, как у небогатых челночниц, но прокопченная кирпичная стена, у которой он стоял, была так ужасна… Бог ты мой, это же был самый настоящий рыцарский замок!.. Вот тебе, допросилась! Грызя нижнюю губу, чтобы не разрыдаться при Леше, она с наслаждением вдыхала запах пропотевшей Егоровой одежды, ибо это был запах жизни.
— Какого х… ты ей сказал?!. — грозно обратился Егор к Леше, и она вскинула на него глаза: он никогда так при ней не выражался.
Егорово лицо было исполнено такой ледяной жестокости, что она со страхом оглянулась на Лешу. Его хорошенькое пионерское личико вспыхнуло, как пионерский галстук, и тут же сделалось белей бумаги.
— Мальчики, давайте не портить радость, — залепетала она, сама изрядно струхнув. — Бедненький, как ты намучился!
— Зачем мне мучиться, я сидел по вип-разряду. С ванной, гостиной, телефоном и садом. Ладно, поехали.
Леша был прощен, но Егор отошел от своей мстительной сосредоточенности только к вечеру. И тогда она на него набросилась. Он старался соответствовать, и она, покрывая его тоже тронутую сединою шерсть страстными поцелуями, повторяла:
«Суслик проявляет страсть». А потом, когда они, обнявшись, приходили в себя, она смущенно спросила шепотом: «А почему ты тогда в общежитии выбрал именно меня?» — «Ты одна там не выпендривалась», — со своей обычной простотой ответил Егор. «Только поэтому? А как тебе кажется, я красивая?» — «Ты что, как маленькая?» — в голосе Егора зазвучала нежность. «А что, я некрасивая?» — «Красивая, красивая, суслик самый красивый!»
ПЕРВЫЙ
ЗВОНОК
Страсти даром не прошли, в который раз прекрасное обернулось ужасным: на излете женской жизни она впервые в жизни залетела. Но если бы только. Возможно, к беде привело именно средство защиты, которое Егор именовал диалектической спиралью. Задним числом, конечно, можно было высмотреть какие-то предвестия беды: ее постоянно подташнивало, но ей казалось, это из-за того, что на экспертизу вдруг потянулись «извращенцы», в которых уже и сотня Шекспиров с тысячей Еврипидов не углядели бы ни искорки красоты. Немолодая и не слишком просвещенная мамаша большого и полноватого сына-юрисконсульта случайно обнаружила у него на руках следы многочисленных порезов. Он наотрез отказался раскрыть их происхождение, но она давно подозревала, что ее невестка вампирша, и обратилась в правоохранительные органы. Жена сына, однако, настаивала, что такова была их вполне счастливая интимная жизнь: после нанесения этих совершенно неопасных ранок они сливались в страстном экстазе, ради которого супруг с величайшей охотой принимал пустяковую боль.
«Мерзкая тварь, как можно причинить боль человеку, которого любишь!» — так бы она рассуждала на заре своей экспертной службы. Но теперь-то она знала, что нужно искать не контраста, а предельного сходства мерзкого и прекрасно-
го. И тут же нашла сходство с собой: ведь только сострадание и страх за Егора пробуждают в ней нежность — без этого он кажется слишком уж… бронированным, что ли. Так что еще шаг — и она пожелала бы причинять ему страдания сама, чтобы можно было особенно страстно пожалеть его. Вот тебе и разгадка садизма: мучить, чтобы наслаждаться жалостью и утешением. Сказано же: она его за муки полюбила. А коли мук нет, мы их создадим. И утешим. А как утешить того, кто не страдает? Будь ее воля, Юля бы всех оставила в покое, кто вынужден пробиваться в сад наслаждений через искусственные страдания, — лишь бы это делалось по взаимному согласию. А то начинают спасать и разрушают буквально выстраданное счастье. Подруга увидела синяки на груди бывшей одноклассницы, тут же настучала отцу, тот избил зятя, сломал ему челюсть, отбил почку... Теперь высохшая от горя и стыда одинокая дочь возит ему передачи, бывший муж таскается по поликлиникам — все довольны.
Но кровь на все отбрасывает романтический отсвет. А вот когда хрупкий очкарик много месяцев ухаживает за довольно-таки свободной девушкой и наконец оказывается с нею в постели, и она очень смело его ласкает, а он оказывается совершенно не готов, да еще и трепещет, как цуцик… Она переходит на нежности, заверяет его в своей любви и преданности, и он наконец решается выговорить: ему хочется, чтобы она пописала ему в рот. Она прежде всего страшно перепугалась — кто его знает, что этому сумасшедшему еще придет в голову! — и бросилась лихорадочно одеваться. Он рыдал и буквально голый валялся у нее в ногах, но это лишь убеждало ее в его безумии. Однако когда она выскочила на лестницу, он, натянув брюки и накинув пальто на голое тело, бросился за нею босиком — это в ноябре. Он хотел попросить, чтобы она никому не рассказывала, но она испугалась, что он ей что-то сделает, и отпихнула его изо всей силы. А он отлетел, ударился о фонарный столб, дико зыркнул туда-сюда и ринулся под мчавшийся мимо автобус. Он остался жив, но было возбуждено дело о доведении до самоубийства лица, находящегося в материальной или иной зависимости.
На фотографии у него было очень правильное, чуть удлиненное лицо, казалось, он и войдет, так же мечтательно откинув голову, однако он сильно сутулился (возможно, оттого, что костыли были ему коротковаты). Но еще больше ее поразило, что вместо греческого носа у него торчит резиновая носопырка, а выше до самого лба — почти ровная площадка. С трудом усевшись на стул и вытянув перед собой негнущуюся правую ногу, он с напряжением разворачивался к ней левым ухом, потому что в правом слух пропал полностью. Пару раз во время разговора он с громом ронял костыли, но тут же до них поспешно дотягивался, останавливая ее движение ему помочь торопливым, но вежливым жестом левой руки (правая была в гипсе). И был при этом белый до голубизны, однако, отвечая, сразу порозовел, а потом вообще пошел пятнами. Да, он очень любил Лику и сейчас любит. И они уже много раз оставались наедине и подолгу целовались, но она казалась ему таким неземным созданием, что у него ничего не шевелилось, наоборот, он чувствовал себя святотатцем (филолог!). И только когда она убегала в туалет, у него отлегало от души. А когда он потихоньку прислушивался под дверью к нежному журчанию, у него из глубины вместо страха и стыда поднималась нежность — и снаружи тоже кое-что начинало подниматься…
Юле вспомнилось, какими растроганными улыбками они обменивались с Егором, прислушиваясь, как звенит Егорушкин горшок, и она поняла, что этот извращенец любил свою Лику еще сильнее. Дальше было понятно: он фантазировал, как входит в туалет, как смотрит на свою любимую, кротко сидящую на горшке, но до настоящего экстаза он доходил, лишь воображая себя этим самым горшком.
Все ясно — преувеличенная способность к идеализации, которую он пытался нейтрализовать таким же преувеличенным снижением идеального образа. Как только об этом написать, чтоб не подняли на смех? Мешала сосредоточиться еще и со вчерашнего нараставшая боль в низу живота, она уже приняла две таблетки.
Дрын-дын-дын! Она чуть не подпрыгнула — с таким грохотом несчастный влюбленный, взорвавший свою жизнь чрезмерным благоговением, в очередной раз уронил костыли, и она не выдержала: подбежала к нему, подняла костыль и… Она не закричала только потому, что от нечеловеческой боли перехватило дыхание. И тут же почувствовала, как что-то горячее течет по ногам, течет оттуда, как из крана. Брюки мгновенно прилипли к ногам, и несколько капель уже упали на паркет. Она бросилась в туалет, но дверь была совершенно черной. Потом очень близко она увидела одутловатое лиловое лицо Чижова и снова подумала, как он опустился: только и разговоров, что все вокруг разворовали, а ему ничего не досталось, — и тут же до нее дошло, что он куда-то несет ее на руках, и ей стало ужасно стыдно, что он испачкает кровью костюм, и теперь уже ни от кого ничего не скроешь. Кровь на все отбрасывает романтический отсвет — но только не кровь из штанов.
Это была внематочная беременность.
Недели в больнице запомнились ей очередным колдовским обращением красавицы в ведьму, благополучия в кошмар. Как будто мирный ручей внезапно вздулся обезумевшим прибоем и закувыркал ее вместе с каталками, капельницами, лицами и руками медсестер, гулкими коридорами и адскими лампами над операционным столом, — иногда ей удавалось вынырнуть на поверхность и глотнуть воздуха вместе с заполняющей все тело болью, чтобы потом снова погрузиться в глубину. По
«скорой» ее отвезли на человекоремонтную фабрику на улице Сикейроса, и, хотя Егор оплатил отдельную палату и все мыслимые уходы, процедуры и удобства, ее охватила мертвая тоска, когда она сумела впервые добрести до окна и увидела эти кирпичные корпуса: фабрика, фабрика… А мы — испорченные механизмы, которые в довершение издевательства склепали не из железа, а из того же страдающего мяса, что и животных.
Вот и какой-то ее ребеночек просился на свет, а только из-за того, что глупая яйцеклетка зацепилась куда-то не туда, его выскребли и выбросили в помойное ведро: вот где место нашим радостям и надеждам. И еще где-то в глубине ее мучило, что этой обидой за нерожденного ребеночка нельзя поделиться с Егором: сразу начнет рассуждать, чувствует что-то зародыш или не чувствует, есть у него мозг или нет… Да какая разница, если он ЖИВОЙ!..
Жизнь на этом не остановилась. Когда еле живую, угасшую ее привез в огромную чужую квартиру с антикварными столами и стульями на дубовом паркете и с антикварными тарелками на гобеленообразных обоях изнемогающий от жалости Егор, не знавший, как ее усадить и во что укутать, оказалось, что, пока ее истязали в больнице, умерла мама: сердце остановилось во сне. Это удачно сложилось, что она превратилась в животное, — кошка, потерявшая котят, конечно, тоже тоскует, но она плохо понимает, что ее ждет в будущем, да и прошлое для нее дело отмершее. Сегодняшних же никаких дел у Юли не было. А из прошлого то и дело всплывала мама перед зеркалом:
— Уродина! — и тут же звук пощечины.
Разумеется, Егор слетал в Акдалинск и все устроил, всем заплатил, оставил денег и почти обиженно посетовал, что родители так и не захотели перебраться в Питер, когда в прошлом году он уже подыскал им квартиру в двух шагах. А теперь отец и слышать не хочет о переезде: куда ж я от Томочки тронусь! Теперь его главная мечта — лежать рядом с ней. А Юле теперь что, по три раза в год туда летать? Поэтому она не захотела взять Егора с собой: как он ни старается быть чутким, уж очень в нем сквозит практический подход — что бы ни случилось, надо минимизировать неудобства. Егор понимал, что чего-то не понимает, и не навязывался. И на ее робкое предложение обзавестись отдельными спальнями лишь поспешно закивал: конечно, конечно, как ты хочешь!
Хотя теперь ей уже ничего не угрожало, она была пустая, как выгоревшее дупло, остался только перламутровый шрам над колючей треугольной щеточкой внизу живота. Однако и она проявила рассудительность — взяла билет лишь тогда, когда уверилась, что уже не сделается отцу обузой. А он по телефону прямо-таки испуганно отмахивался: ничего ему не надо, у него все есть. Егор наврал ему, что в дни похорон Юля была в Австралии, но отец и Австралией не заинтересовался.
Завершающий удар о промерзлый бетон, последние содрогания — и она снова в Акдалинске, теперь уже в Акдале. Подзабытые в сыром Питере ясные колкие звезды, сухой морозец, ледяной стоячий автобус от трапа, чуточку менее ледяной сарай — таможня. Здесь она впервые услышала слово «тенге». Бланки таможенной декларации выдавались почему-то сразу по два, и притом за деньги, то есть за тенге. А у кого не хватало, отдавали со скидкой. Все по-семейному. И вот она на улице — в черной морозной степи.
— Такси надо? — вырастает черная фигура.
— У вас рубли ходят?
— Бегают.
Водитель русский, она уже невольно это отмечала. Помчались во тьме среди плотных обдутых сугробов.
— Ну как тут в независимом государстве? —спросила она, чтобы не молчать.
— Хорошо... Только те и остались, кому бежать некуда.
Издыхающие желтые фонари, обшарпанный желтый дом — родной дом. Забытое ощущение — слипаются ноздри. Сухонький морозец, от которого хотелось закашляться, припекал не по-европейски. И ободранность акдалинских лестниц, казалось, тоже чем-то отличалась от ободранности петербургских — известка здесь, что ли, более родная? Сердце снова зашлось: мамы нет, а дверная ручка прежняя, замок прежний… Значит, сгодится и ключ.
Замок клацнул; она замерла и прислушалась, — ей послышались звуки отцовской гармошки. Осторожно-осторожно она приоткрыла дверь — гармошка зазвучала так, что сомневаться было больше невозможно. В гостиной горел свет, и отец спиною к ней тихонько играл на гармошке, еле слышно напевая: «За быстрой рекою гуляют ребята, веселье идет на лугу, и только одна ты, одна виновата, что с ними гулять не могу», — а по экрану бежали линялые черно-белые мамины фотографии: мама-девочка с косичками перед каким-то покосившимся плетнем, мама-девушка в белом халате, мама-невеста, все такая же серьезная рядом со счастливым юным папой, которому растрепанный чуб прикрыл смеющийся глаз… Но ее проклятые глаза даже и сквозь слезы все равно не могли не видеть, что папа красавец, а мама…
— Папа, — тихонько позвала она, чтобы не напугать, но он повернулся к ней, словно того и ждал.
Его залитое слезами, беспредельно растроганное лицо казалось счастливым. Отец и дочь бросились друг к другу в объятия и зарыдали горько и облегченно. Потому что они были измучены и несчастны, но драгоценны друг для друга. Драгоценны и прекрасны.
ДВАДЦАТЬ
ЛЕТ
СПУСТЯ
Господи, какой роскошью все это тогда казалось — полированная «стенка», а в ней хрусталь, на стене грузинская чеканка, а потом еще и маски из какой-нибудь Африки, где никто никогда не бывал и не побывает… И собр. соч.: Горький, Фадеев, Георгий Марков…
На месте был и ни разу не раскрытый Шоротчондро Чоттопаддхай со своим
«Шриканто». А за ним суперпрестижная Библиотека всемирной литературы, куда иной раз попадали и не самые прогрессивные писатели, нынче разбросанные в пыли по магазинам…
Люди и тогда хотели красивого и высокого. А значит, имели. Побольше, чем сейчас. Гламур будет полживее любого соцреализма.
За чаем на кухне они с папой говорили о чем угодно, чтобы только не говорить о главном, то есть ужасном.
Что поделывает Скворец? Скворец торгует колбасой, держит прилавок в «Целинном», недавно купил квартиру. Нет, какой там олигарх, квартиру в Акдале можно купить за три-четыре тысячи. А Пед теперь университет, во главе южного казаха поставили, торгует дипломами с доставкой на дом.
Надо же, как папу достали, при Советах никогда он Педом не интересовался. И никогда не вспоминал о русских благодеяниях: вывели-де туберкулез, трахому, по аулам квашеную капусту развозили, а теперь они сами с усами, только про голод и говорят, как Томочке все это было слушать, она бы вообще ушла, если бы не больные, новый начальник взялся делать операцию, так не смог кишки обратно уложить, а жена президента учит лечить холодом, теперь, когда привозят тяжелого больного, врачи смеются: может, его в прорубь опустить?..
В ванной (до чего же тесной!) она впервые бог знает за сколько дней посмотрела на себя в зеркало — щеки после мороза и слез в красных пятнах, но все равно заметно, как они ввалились. Одухотворенности, правда, прибавилось. А вот для исхудавшей груди красивых слов не нашлось. И все-таки устраиваться на диванчике своего детства было и горько, и сладко: она больше не была животным, в ее горе появилась и красота.
Егор сумел пристроить почитаемую тещу в аллею Героев — в самом начале вознесенный на золотозвездную колонну бюст Бородина, потом какие-то сталинские соколы (во время войны в Акдалинске располагалось летное училище), а дальше шли мелкие пташки местных братков — в полтора человеческих роста черные мраморные зеркала, из которых одна за другой выступали осанистые фигуры нечеловеческого благородства и достоинства. Современное рыцарство, только декораций не хватает. Ну и своего Вальтера Скотта или хоть Марио Пьюзо.
Она сначала забеспокоилась, что мама окажется среди этой братвы, но у Егора, слава богу, хватило вкуса и денег выкроить для мамы уголок у подножия Бородина.
Невысокая черная стела, обросшая барашковым инеем, но мамино лицо на эмалевом овале оставалось чистым и холодным. Морозище так жег, что она довольно быстро натянула вязаную двуслойную шапочку на остриженные в больнице волосы и папу тоже заставила надеть ушанку, а то бы он так и стоял понурясь, с седой чуприной Тараса Бульбы. Бог ты мой, как он постарел — облысел, поседел, ссутулился, — от боли за него она буквально отводила глаза, разговаривая с ним. Сейчас, сейчас, засуетился он, ты иди, я тебя догоню. Оглянувшись, она увидела, что он, опустившись на колено, припал к маминому овалу губами и оставался в этой позе так долго, что она забеспокоилась, не примерзли ли у него губы. И только тут заметила вдали второй в мире элеватор. Да, собору Парижской Богоматери он, пожалуй, не уступал. Но до Эйфелевой башни далеко не дотягивал.
Отец догнал ее чуточку оживший. Я пройдусь, город посмотрю, может, знакомых встречу, полуотпросилась-полусообщила она. Конечно, конечно, погуляй, как будто бы снова испугался он, гуляй, сколько хочешь, а я пока обед приготовлю.
«Может, лучше сходим в ресторан? Ты же помнишь, это считалось очень шикарно — в „Убагане“ посидеть?» — «Нет-нет, мне одному лучше, я люблю готовить, это отвлекает».
«Спутник» расцвел золотым куполом и минаретом, теперь там была мечеть, но главная улица по-прежнему носила имя Ленина, и уж тут-то у нее наконец покатились слезы от сухого злющего ветерка при минус тридцати восьми. Народ был одет вполне прилично, порядочно народу вышагивало и в дубленках, женщины — в шубах, и ни казахи, ни русские не выглядели богаче друг друга. Несгибаемые ларечники вовсю торговали всемирной дребеденью, и даже еще более несгибаемые мороженщики и мороженщицы приплясывали через каждые сто метров. У гастрономов топтались тетки над морожеными пельменями, на лотках гремела здоровенная мороженая рыба. Все торговки были вежливы и даже задушевны. Казашек это делало особенно обаятельными, — как же она раньше не замечала, до чего это красивый народ? Нет, красивыми могли быть только мы. И как же можно ужиться с тем, кто считает тебя некрасивым?
Печаль по-прежнему лежала у нее на душе, но в ней больше не было безобразия, это была какая-то горькая просветленность.
Скворец так дорожил своей красотой, — как же он смирился с участью колбасного торговца? Но когда в гастрономе «Целинный» рядом с отдельно стоящим колбасным прилавком она увидела ражего мужика в расстегнутой светлой дубленке, она поняла, что колбаса даром не дается: да, Скворец сделался вдвое шире, обрел озабоченно-хозяйственное выражение лица, но обрюзгшее лицо это было налито дурной кровью, отливающей пурпуром. Похоже, гипертония... И Скворец тоже задержал на ней озабоченный взор — с чего эта багровая тетка на него уставилась? — и вдруг просиял совершенно по-детски, она и не знала, что этот сноб так умеет.
— Юлька?!. Ты, что ли?!.
Он облапил ее не хуже Егора:
— Ты к нам надолго?.. Так давай вечером у меня, вызывай такси «Пегас», я тебе сейчас их номер наберу, скажи: пятнадцатый гаражный кооператив, жди меня у ворот, у тебя тенге есть? Я тебе верну.
Она и не догадывалась, что он так ее любит, и от растерянности не сумела изобразить ответную любовь, но он, казалось, ничего не замечал.
— Не знаешь, кто из наших сейчас в Акдале, с кем можно связаться?
— Ну, кто тебе может быть интересен? Зойка Грубер — помнишь, мы ее звали Зоя Космодемьянская? Она доцент в универе. Мурат Мендыгалиев тоже был доцент, но с новым ректором не поладил, теперь при жене что-то шестерит в аптеке.
Оба телефона Скворец собственноручно записал в ее мобильник, приговаривая: ну, ты меня порадовала, вот не думал, смотрю — неужели это Юлька?.. И вдруг посмотрел очень серьезно:
— Я тебя все время вспоминал. Чем старше становился. Вот, думал, дурак — какую женщину упустил!.. Мне ж красавицы нравились, чтоб хвастаться перед дружками… Вот и дохвастался.
И только тут опомнился:
— Да, у тебя же с матерью несчастье?.. Сочувствую, я в прошлом году обоих схоронил. Как отец-то?
— Ну как? Живет. Когда кто-то из родителей уходит, это и нам первый звонок.
— Это точно. Теперь каждый день думаешь: моя станция или еще не моя?
Мурат тоже растолстел и с виду был настоящий бай. Но его заплывшие добрые глазки выражали неподдельное страдание из-за того, что он вынужден говорить горькую правду человеку, который так ему дорог. Он говорил не о физике, не об аптеке, не о жене и не о детях, а только о русских и казахах, о русских и казахах, о русских и казахах…
Русские не уважали казахских обычаев, они видели в них только дикость, а у казахов было разделение властей: хана могли судить! Русские не признавали дворянами потомков Чингисхана и Тимура (хотя тем, конечно, было на это плевать), а духовную элиту вообще старались вытеснить русско-европейским просвещением — это было обезглавливание народа!
— Извини, Мурат, — наконец решилась прервать она, — но тебя же взяли в Московский университет именно как казаха…
— Я же не спорю! — казалось, он вот-вот заплачет. — Но чем лучше ты выучишься в Москве, в Ленинграде, тем дальше уйдешь от своего народа! Ты вливаешься в русскую интеллигенцию, а казахский народ остается без интеллигенции!
— Но мне говорили, что сейчас дипломами просто торгуют…
— Да, меня из-за этого и вышибли. Коррупция сегодня — не то слово, всем теперь владеют триста-четыреста семейств. Зато теперь мы сами определяем свою судьбу. Нам больше не грозит культурное поглощение.
— Сильные всегда будут поглощать слабых, — осторожно произнесла она голосом Егора. — Не Россия, так Америка…
— Культурное влияние Америки всегда будет поверхностным — на уровне вывесок, жвачки, — Мурат чеканил так, как никогда не отвечал у доски. — Никогда половина нашего народа не будет говорить по-английски. Никогда половина Казахстана не будут американцами. И нас они к себе никогда не пустят в серьезном числе. Когда мы свободны, наше возрождение может наступить через сто, через двести лет — я верю в мой народ! А пока мы не отделены от России, оно не наступит никогда. Лучшие так и будут становиться русскими, а казахами оставаться одни лузеры.
Лузеры — это было исконно казахское слово. Еле-еле перевела разговор на аптеку. Оказалось, аптека на распутье: на днях в «Убагане» застрелили акдалинского крестного отца на пару с милицейским полковником, и оба родственники Мурата, оба его крышевали.
— И как же ты теперь?..
— Посмотрим. Но если будут серьезно наезжать, я лучше аптеку закрою. Это же очень серьезное дело, наркотики...
Но видно было, что его гораздо больше заботит казахское национальное возрождение. Почувствовав, что тема кажется ей исчерпанной, он не стал ее удерживать. А про ее жизнь так и не задал ни одного вопроса. И чаю не предложил. До эпохи возрождения такое у казахов было немыслимо.
«Пегас» действительно прискакал по первому звонку и домчал за четверть часа на своих низкорослых, но выносливых «Жигулях». В пору их юности здесь начиналась дикая степь, сейчас же в отсветах морозного заката вместо степного простора высились и прятались друг за друга неисчислимые бетонные короба многоэтажек. Она оказалась у ворот гаражного поселения без трех минут шесть. На душе было скорбно и торжественно, но мороз жег так нещадно, что очень скоро вся ее воля сосредоточилась на том, чтобы не приплясывать, не превращать драму в фарс. Скворец, который, как оказалось, так ее любит, не мог бы оставить ее на замерзание — значит, что-то случилось. Ряды железных гаражей за распахнутыми железными воротами мертвенно чернели, окна многоэтажек, напротив, бешено пылали, словно многоярусный театр волчьих глаз. Наконец от одного из гаражей отделилась черная фигура и быстро зашагала к воротам. Скворец, закутанный до глаз, сделался как будто пониже ростом, но еще могутнее.
— Ой, привет! — на радостях она хлопнула его по плечу.
— Привет! — ответный хлопок был еще более дружелюбным, даже, пожалуй, чрезмерно.
— Так ты где живешь?
— Как все. У себя дома.
— Так пошли?..
— Пошли.
Только тут до нее наконец дошло, что это вовсе не Скворец. Компанейский все-таки народ акдалинцы... И деликатный — не начал дознаваться, почему это она вдруг засеменила от него подальше, — сразу же зашагал вдоль бетонного забора метровыми шажищами.
Все, жить ей оставалось минуты полторы. И тут последним усилием меркнущего сознания она поняла, что бесплодно приплясывающий у шоссе силуэт — это и есть Скворец. Он вышел встретить ее поближе к дому, а «Пегас» пролетел по насту вдоль гаражного забора.
Бег трусцой к горящим окнам, таким обнадеживающим и гостеприимным.
У Мурата все было обставлено по-советски вплоть до прежних собр. соч. в стенке, а Скворец претендовал на изысканность. Но теперь, когда она научилась разбираться в антиквариате, эта новодельная резьба производила на нее довольно жалкое впечатление, и она старалась обходить ее взглядом. Что было нелегко, потому что взгляд натыкался на нее всюду.
Зато пельмени были божественны. На низеньком журнальном столике, за которым было бы удобнее сидеть по-казахски на полу, ноги калачиком, еще и теснилась разноцветная рать всяческих салатиков.
— Мне женщина приходит готовить, — правильно расшифровал ее взгляд Скворец и тут же ответил на еще одну шифровку: — Нет, за деньги.
Из фигуристой плоской бутылки с лаконичной этикеткой «Hennessy» он налил на донышки двух огромных тонких бокалов очень красивую жидкость цвета темного меда.
— Нужно наливать столько, чтобы если положить бокал на бок, то не вылилось, — просветил ее Скворец, все-таки не совсем растерявший свой снобизм.
— За встречу! — эти слова Скворец произнес с такой неожиданной значительностью, что она перестала замечать лиловый отлив его щек.
Нежный звон соприкоснувшихся бокалов долго не угасал, а Скворец, согревая и одновременно покачивая свой бокал в ладонях, склонился к нему, вдыхая аромат. Она тоже вдохнула и поняла, что это грубейшая подделка. Ей стало невыносимо жалко бедного Скворца, которого так нещадно дурачат какие-то жулики за его благородную любовь к красоте. Чтобы сделать ему приятное, она сделала глоток. Жуткая отрава… И она прочувствованно покивала в ответ на выжидательный взгляд хозяина: да, дескать, не каждый день такое приходится пить. Успокоенно разулыбавшись, Скворец откинулся в пухлом кожаном кресле и обратился к ней как к человеку более близкому к высшим сферам:
— Ответь мне, пожалуйста: почему Горбачев еще на свободе? Его же надо с кольцом в ноздре по улицам водить! Развалить такую страну... Впрочем, извини, я не знаю твоих политических убеждений...
— У меня убеждение одно: людей всех нужно водить с кольцом в ноздре. Да только те, кто рвется водить, и есть самые безумные.
— Я же был главным инженером химического завода, производство сам выстраивал: полимеризация, вакуумные процессы, тонкое литье, хромирование, прокат, все на мировом уровне… Нашу продукцию с руками отрывали в Германии, в Голландии, она нужна и космонавтам, и вертолетчикам — легче перечислить, кому не нужна…Я два года ждал: не может же этот дурдом продолжаться вечно — и упустил время: можно было заняться зерном, цветными металлами... Ладно, а то давление подскакивает. Я сломал себя, пошел таксовать. Со знакомых не мог деньги брать, а половина города знакомые. Стал возить в район с вокзала, из аэропорта. Завелись живые деньги. Потом нащупал местечко в Арайске — небольшой вроде бы буфетик, но очень ходкий — так мафия наехала. Теперь арендовал прилавок в «Целинном» — кормит, и неплохо, сыну по двести долларов в Москву посылаю. Дочь уже сама откладывает... Но из «Целинного» тоже выживают, значит, снова надо искать.
— Очень это трудно — торговать?
— Теоретически нет: в пять часов встать, поехать на мясокомбинат, посмотреть, что загружают, — отрезать и попробовать, следить, что покупатель любит, взвесить, отвезти, выгрузить... Все просто, только каждый день, без отпусков и без больничных. Больше всего я боюсь упасть. Ну, если на день слягу, еще ничего, а если на неделю — все раскатится. Как наш Союз. Если что, вместо меня никто за руль не сядет, кому надо не сунет... За сына и рад, и боюсь — просто стучу по дереву: их сейчас так легко потерять — у нас была только пьянка, а теперь наркотики... Я ведь детей почти не воспитывал, теперь хотя бы деньгами стараюсь возместить. Когда женился на красавице, не думал, что буду с оленьими рогами красоваться. А развелся, она начала детей на меня натравливать, что ни встреча, то скандал… Я уже их пожалел, перестал с ними видеться. Скажи, только честно: если бы я сразу после школы предложил за меня выйти, ты бы пошла?
— Конечно! — она устремила на него самый честный взгляд, какой только сумела освоить за годы работы в судебке. — Ты же был такой красавец! Да ты и сейчас мужик что надо.
И этот потасканный лиловый колбасник как ни старался, так и не сумел справиться со счастливой улыбкой. Но и для нее этот неожиданный разговор оказался до чрезвычайности приятным. Но надо когда-то было и расходиться. «Пегас» по первому звонку уже через двадцать минут долбил нетерпеливым копытом звенящий
снег. В черном морозном пекле они обнялись с нежностью и болью — может, и правда, больше не придется увидеться. Вполне возможное дело. Звонок уже прозвенел.
Был пединститут имени Ленина — стал университет имени Аль-Фараби. Среди портретов на Зоиной кафедре уже не было ни Пушкина, ни Толстого — только Гомер, Шекспир и Абай. Зоя, хоть когда-то и Космодемьянская, разговаривать на служебной территории отказалась наотрез. Пришлось, отворачиваясь от обжигающего ветра, брести через волны плотных низких сугробов к тому самому кафе, где когдато ее захапали с неприличными картами. Зоя оказалась аристократической леди, напоминающей королеву в изгнании. Юля думала, что Зоина скорбь порождена служебными гонениями, но Зоя говорила о них как о чем-то давно свершившемся: ну да, лучших преподавателей выжили, им главное, чтобы свой, но ее пока держат из-за ее диссертации, как преподавать русский иностранцам. А тех всячески заманивают, не американцев, так китайцев, но они что-то не очень заманиваются. Но что об этом говорить, уже тысячу раз все сказано.
Немножко удивленная прорезавшейся Зоиной красотой, она спросила про Спящую Красавицу. Оказалось, та уже давно спит в проходной мелькомбината. Три раза побывала замужем, один раз в реанимации — избил ревнивый второй муж,— недавно из-за нее посадили чиновника из акимата, это нынешний обком, за растрату не то семенного, не то пенсионного фонда, но она все эти бури, похоже, проспала. Летом Зоя ее встретила на улице с огромным багровым волдырем на щеке — брызнуло масло со сковороды, но она, кажется, и от волдыря не проснулась.
— Я когда-то так ее презирала, — скорбно усмехнулась Зоя. — Как можно так жить, прямо не человек, а коала какая-то. А тут вдруг ей позавидовала: хорошо бы так всю жизнь продремать!
Юлю нисколько не удивила внезапная Зоина откровенность: и в школе каждая из них чувствовала в другой родственную душу-фантазерку. Только Юля грезила о красоте, а Зоя о жертве. Но жертва-то и представлялась ей самым прекрасным. Ей с колыбели внушалось, что отцовская должность не повод для зазнайства, а наоборот. Отец когда-то вырвался из деревенской нищеты и за это всю жизнь благословлял советскую власть и кормил-поил всю свою бесчисленную обойденную счастьем родню, а Зоя штопала локти на школьной форме. Дурдом — отец как будто извинялся за свои чины, добытые буквально кровью: под Сталинградом вступил в партию, получил осколок в легкие, потом под Ченстоховом пригоршню осколков в ноги и тяжелейшую контузию, чудом остался жив. В госпитале влюбился в красавицу медсестру, переписывался до конца войны, которую довоевывал с бандеровцами до сорок шестого года, потом женился, хотя умные люди предупреждали, что это для карьеры совсем ни к чему: бывшая дворянка, да еще с оккупированной территории. А его именно ее «возвышенность» и пленила.
Зою отец тоже страшно любил и не допускал и мысли, чтобы она утонула в мещанском болоте: когда ей было лет двенадцать, он торжественно положил перед нею небольшую книжку «Повесть о Зое и Шуре». Ты должна стать такой же, как она, очень ласково и печально сказал папа. Она к тому времени прочла и «Как закалялась сталь», и «Молодую гвардию», и «Четвертую высоту», а про Зою даже рассказывала на пионерском сборе — ей казалось, что ее слушают те самые колхозники, которых согнали на площадь перед виселицей, и проклятые мучители-палачи. Именно им она выкрикивала: «Это счастье — умереть за свой народ! Нас двести миллионов, всех не перевешаете!» — и все прочее. Но здесь о Зое рассказывала ее мама, и до нее наконец дошло, что Зоя Космодемьянская вовсе не Илья Муромец, как ей раньше казалось, а такая же девочка, как она сама.
И вот теперь все это проделывали с ней, только она почему-то была не Зоя, а Таня. И ее зачем-то вырыли из ледяной могилы, и она лежала, вытянув руки вдоль тела, запрокинув голову, с веревкой на шее. Лицо ее, совершенно спокойное, было все избито, на щеке — темный след от удара. Все тело исколото штыком, на груди — запекшаяся кровь. Пока она думала, что Зое не больно, ей даже нравилось, как она утерла нос фашистам, но теперь это проделывали с ней самой, это ее гоняли босиком по снегу, это ей вместо воды подали керосиновую лампу, это ее заставили натянуть чулки на почерневшие ноги, это ей повесили на шею бутылки с бензином и доску с надписью «Поджигатель», а потом поставили под виселицей на два ящика…
Когда палач уперся кованым сапогом в ящик, она вдруг почувствовала, что у нее в трусиках мокро. В испуге схватилась рукой — кровь! Она пребывала в таком ошеломлении, что ей это показалось совершенно естественным: там истязания — здесь кровь. Она бросилась к маме, и мама с ледяным спокойствием объяснила ей, как нужно подмываться, где лежит вата и все такое прочее, а потом, всю съежившуюся, не смеющую поднять глаз, усадила за стол напротив себя и начала ужасный разговор, НИЧЕГО НЕ НАЗЫВАЯ своими словами, но она поняла, что речь идет об ЭТОМ, о том гадком, во что ей не верилось: неужели взрослые ЭТИМ занимаются? Мама ЭТО не называла никак. Она только нагнетала ужас, подразумевая, что она про ЭТО уже что-то знает. Ее не примут ни в одно приличное общество, на нее всегда будут показывать пальцем, ее будут презирать всегда и везде. А уж папа!.. Самое малое, он выгонит ее из дому, и она будет бездомной побродяжкой. А главное, ВСЕ НА СВЕТЕ будут смеяться и презирать ее во веки веков, ей будет СТЫДНО-СТЫДНО, — и так больше часа. У нее колотилось сердце, она изнемогала от жара уже не только на лице, но во всем теле, — наконец-то она поняла, как это дворянские барышни падали в обморок.
Так она и жила с тех пор в ощущении собственной нечистоты и недостойности: она уже понимала, что повторить подвиг Зои Космодемьянской ей не по плечу, и все-таки непрерывно готовилась к подвигу, — а вдруг каким-то чудом в решительный миг в ней все-таки проснется несокрушимая воля бедной Тани? И только Леонид наконец принес ей волю: когда она поняла, что этот умный, юморной, щедрый, красивый, высокий, широкоплечий казак, к тому же мастер спорта по десятиборью, тоже в нее влюблен, она поверила, что и она, какая она ни есть, тоже имеет право на счастье. Он был родом из Новочеркасска, но в Акдалинск приехал из Москвы по распределению на химический завод. И только воспарив на крыльях любви, Зоя поняла, что человек действительно рожден для счастья, как птица для полета, оттого-то ей ничего и не стоило со своей золотой медалью отказаться от московского филфака и пойти в акдалинский пед — лишь бы рядом с ним. А когда его загребли лейтенантом в танковые войска, она, как декабристка, отправилась вслед за возлюбленным в самую настоящую пустыню. Дальше военный городок, бараки, летом песчаные бури, зимой снежные, топят саксаулом, удобства на улице, солоноватую воду подвозят в бензовозах, и все в таком духе, но она перевелась на заочный и даже год не потеряла, получила диплом с отличием.
Правда, и Леонид помогал, иногда даже брал сынишку на службу, — его прятали в танке, когда появлялось начальство. Акдалинск с отдельной квартирой и стиральной машиной, с исследовательской работой для Леонида и преподавательской для нее ощущался раем уже и не в шалаше, а во дворце, но про Леонида поползли слушочки, что его где-то с кем-то видели то там, то сям…
Ей это было гадостно до тошноты, но она считала ниже своего достоинства проявлять интерес к подобным мерзостям. И все-таки однажды невольно подслушала
телефонный разговор, в котором Леонид мурлыкал… «Как мартовский кот», — передернувшись, бросила она ему, но Леонид заедаться не стал, однако и отрицать тоже не стал: мужчина должен хотя бы изредка чувствовать себя гусаром; это не имеет никаких последствий — прогарцевал мимо, послал обольщенной красотке воздушный поцелуй и поскакал дальше.
— Игра в любовь? То, что со мной делаешь серьезно, потом с другими превращаешь в забаву?
Кончилось тем, что он обозвал ее занудой, однако ночью тем не менее предпринял попытку примириться и, что называется, «полез». А она, гордый человек, ляпнула: мне противно, когда ты ко мне прикасаешься. На что он, тоже гордый человек, ответил: о-кей, больше не буду прикасаться. С той ночи ледяная глыба, поселившаяся в доме, только разрасталась, но на людях, а при сыне тем более они были даже приветливы. А когда у него появились эти ужасные багровые шишки в паху, она ухаживала за ним так, как и должна ухаживать верная подруга, если ранили друга, — и вместе с врачами выходила его таки! Шишки пропали, а нежные отношения, наоборот, восстановились. Кроме постели. Она была так счастлива, что про это и не вспоминала, думала, химиотерапия подействовала. И вдруг в день его рождения запищал забытый дома мобильник. Для нее бумажник Леонида и его мобильник всегда были табу, а тут вдруг как бес подтолкнул — прочла эсэмэску:
«Поздравляю, мой родной!» «Мой родной» ее и добил: это было самое интимное и нежное ее обращение к нему.
И тут уже, забыв о гордости, она принялась по крупицам добывать сведения о разлучнице: она хотела понять, чем она хуже? Уж больно та оказалась уродливой внешне, прямо каракатица какая-то. Она ожидала увидеть, минимум, фотомодель на пенсии, а увидела таежную шаманку: приплюснутый нос, широко расставленные глазки-щелки, блин-лицо, рот — большая щель. И в довершение выбеленные волосы. Очень лживая, хитрая, резкая, наглая. Замужем была, но детей не рожала. Увлекалась восточными практиками — современным шаманизмом. Может, она его и впрямь приворожила? — не за кривые же коротенькие ножонки он к ней таскался! Но потом поняла: начал он спать с той просто потому, что перестал спать с ней, с Зоей, — лег с первой, какая подвернулась. Шаманка-то зевать не стала, сразу потащила в койку. Еще бы, такого мужика ущучила! Парой они были смехотворной, она ему до подмышки не доставала. А потом прибрала к рукам и стала им вертеть. Баба оказалась очень сильная, скорпион и главбух большого офиса. Когда к ней переехала жить сестра (сестрину квартиру сдали), эта шаманка четко и решительно объявила, что пусть Леонид ищет место, где они будут встречаться, а здесь не публичный дом.
Это было так безобразно, что в ней поднялась на дыбы вся ее гордость. КАК?! Какая-то пигмейка сморщенная лучше нее?!. Юность ее прошла под девизом «Умри, но не давай поцелуя без любви», но к мужским интрижкам в глубине души она все же была снисходительнее. К изящным интрижкам. Но не к погружению же в помойную яму! А погружение на этом не закончилось. После шаманки Леонид в какой-то компании познакомился с Любкой-продавщицей. Та тоже в первый же вечер легла с ним. Бабенка прилично старше его и абсолютно без комплексов. Целый час увлеченно рассказывала Зое все подробности про свою связь с ее мужем. Она принимала Леонида в трехкомнатной «распашонке», где, кроме нее, жили еще две ее дочки с мужьями и маленькими детьми. Кого стесняться? Что тут такого? Все ж свои. Дочки звали Леонида Леней. С этой Любкой ему было не то что с Зоей, — легко и просто. Торговка по состоянию души, «купите бублики»… Горластая. Год она с Леонидом потрахалась, а потом объявила ему,
что он для нее слабоват. Ей надо было много мужиков и сразу. У нее не заржавеет, ляпнет — мало не покажется. Но — она спала с другими, а его продолжала удерживать. «Мы так общались! Он такой умный, все про химию знает, во всех приборах разбирается!» Они обе пользовались Леонидом на всю катушку — раз денег мало на подарки, хотя бы привези-увези-почини. Он и бегал, надеясь, что все ж, глядишь, и в койке перепадет. Да и отказать не умел, когда его ласково просят, он вообще добрый. Но, похоже, он уже и сам не знал, как ему выпутаться, — разоблачение было для него в какой-то мере и освобождением. Хотя и потрясением не меньшим, чем для нее. Он похудел, перестал спать, начался постоянный звон в ушах, но ей было не до него, она пребывала в ужасе и отчаянии, как это она, которая столько лет готовилась к подвигу, оказалась в одной помойке с какой-то швалью?..
И тут судьба решила вознаградить ее за все унижения: в нее влюбился сверхинтеллигентный москвич лет пятидесяти, наезжавший в Акдалу «ставить» курс компьютерных наук. Сначала она привлекла его тем, что была как две капли воды похожа на его покойную жену, а потом он влюбился всерьез, писал ей потрясающие электронные письма, которыми она только и жила, а потом вдруг взял и сделал ей изысканное электронное предложение. Она его, конечно, уже не могла любить, как Леонида, но бесконечно уважала и полетела бы в Москву без оглядки, но у мужа как раз начала заканчиваться ремиссия, снова полезли эти ужасные шишки…
Ну как она могла ПРЕДАТЬ? Она ведь столько лет мечтала совершить подвиг!..
— Так ты его и совершила, — очень просто сказала Юля. — Ты очень красивый человек, Зоя, я тебе завидую.
Залившись краской, Зоя смотрела на нее не то радостно, не то растерянно:
— Уж тебе-то что завидовать?.. У тебя же, как теперь выражаются, все в шоколаде?..
— Да. Но у тебя красивая жизнь, а у меня всего лишь благополучная. Ни сказок про нас не расскажут, ни песен про нас не споют.
Ей казалось, что она говорит это, чтобы утешить Зою, но собственные слова неожиданно отозвались в ней глубинной болью. Она даже испугалась — такой сильной оказалась эта боль.
На прощание, пока не совсем стемнело, она попыталась в последний раз взглянуть на пойменные дали. Но с бывшего берега можно было разглядеть только, как снежная мгла беснуется под обрывом среди домишек воинственных колесников, — наверняка и в суверенном Казахстане чужаку здесь могли запросто начистить рожу только за то, что он чужак. Нынешнее торжество казахов тоже послужило им уроком: чужим доверять нельзя, вот русские расслабились и получили, — всюду сходство низкого и высокого, мелкого и огромного.
Утром отец с заискивающей улыбкой рассказал ей свой сон: раскисшей осенью он входит в какой-то маленький дом и вытирает ноги об изгвазданный половик.
— И вдруг я вижу, что это Томочкина кофточка. И я становлюсь на колени, беру ее в руки, а она грязная-грязная… И я начинаю ее целовать. Но все-таки выбираю места, где почище...
— Сейчас, минуточку… — приложив молчащий телефон к уху, она выбежала в ванную и там скорчилась на низеньком пластмассовом табуретике.
Нет, за красивую душу любить нельзя, красота души невозможна, ибо она всегда отягощена страхом боли, утраты, старости, смерти, и только мнимая легкость юного тела может заставить нас хоть на миг забыть о нашей телесности. Любовь не подруга вожделения, вспомнилось ей, она сестра молитвы, любовь ничем зем-
ным не утоляется, она ищет неба. Самые прекрасные формы будут отняты смертью — любовь ищет того, что лежит за формами. Но тогда и телесная красота для нее не важна?..
Она с первого дня поняла, что ничем отцу помочь не может, что она только мешает ему общаться с мамиными фотографиями и вещами, а из судебки уже два раза звонили: она должна была довести до конца дело Безымянной Паломницы. Робкая мечтательная старшеклассница решилась в одиночку посетить АлександроНевскую лавру, но покуда добралась до нее с поезда, все уже было закрыто. Стояли белые ночи, и она не осознала, что уже так поздно, — очень уж была устремлена к святыне; из-за ее «богомольности», косынки и длинной юбки мальчишки в школе над нею подсмеивались и наградили кощунственной кличкой Богомать. Но петербургские молодые люди оказались совсем другие, они разговаривали на
«вы», очень уважительно расспрашивали ее, по какой причине она выбрала для паломничества именно их лавру, а потом заинтересовались, почему она одна сидит на скамейке, — может быть, ей негде переночевать? А может быть, она и не ужинала? Так у одного из молодых людей мама живет одна, она и накормит, и спать уложит, нет-нет, ничего неудобного, люди должны помогать друг другу.
Она была с этим совершенно согласна и почувствовала неладное, только когда мамина квартира встретила ее мраком и мертвой тишиной. Она замерла на пороге — и тут же получила страшный удар в спину. Потом она бесконечно лежала на какойто незнакомой койке, смотрела в незнакомый беленый потолок, и какие-то незнакомые люди в белых халатах о чем-то ее расспрашивали, но она их не понимала, а вернее, они ей были совершенно не интересны, она чувствовала только боль, борьба с которой требовала всех ее сил и которая становилась совсем невыносимой, когда ее зачем-то начинали вертеть и колоть. Но понемногу из непроглядной тьмы начали проступать какие-то страшные фигуры, в ушах зазвучали страшные звуки: кто-то тыкал ей в глаза шприц и обещал, что если она будет кричать или сопротивляться, то ее «вмажут» и превратят в наркоманку, кто-то крестил воздух ножом и грозил исполосовать ей лицо, какие-то руки ее били и срывали одежду…
А над всем этим бредом громче всех веселился и потешался крошечный магнитофон, он один с нею остался на столе, когда эти страшные существа зачем-то вышли в соседнюю комнату. Она даже не могла бы сказать, испытывала ли она стыд, — она сразу же перестала понимать, во сне или наяву все это творится. Но всетаки, прежде чем предпринять попытку перелезть на соседний балкон, она закуталась в простыню. О том, что дело происходит на пятом этаже, она не подумала, существа были ужаснее. Рядом с простыней ее и нашли утром на газоне совершенно раздетую, без сознания, с переломом ребер и костей таза, с воспалением легких, с черепно-мозговой травмой, с тяжелым сотрясением мозга...
Врачи не верили, что она выживет, но она выжила. Только забыла решительно все. Кто она, откуда, что с нею стряслось. Правда, когда память начала к ней возвращаться, сделалось еще страшнее. И все-таки через несколько месяцев она уже давала связные показания, не могла вспомнить лишь какие-то детали. Зато адвокат тех молодцов на мелочах-то ее и ловил, допытывался, какого цвета была ручка ножа, кто первым ударил, сколько раз каждый, какой марки был магнитофон, где стоял телевизор… Она отвечала на вопросы вполне разумно, только очень тихо, ни разу не подняв глаз, худенькая, как двенадцатилетняя девочка, обтянутая прозрачнобледной кожицей, — и на что польстились эти уроды?..
Как на что — на чистоту. Романтический влюбленный желает видеть свою возлюбленную девственницей — и эти скоты тоже желали обладать девственницей: прекрасное и мерзкое снова вырастали из общего идеала.
Когда Юля попросила ее при помощи цветных карандашей изобразить праздник, она долго и старательно рисовала солнце с лучами, смеющихся и танцующих людей, но — исключительно черным карандашом. Но самое главное — она очень точно описала одежду этих сволочей, которую потом нашли у них дома; известен был и балкон, с которого она выпала, — и все-таки Юле нужно было напоследок дать ей упражнения и на запоминание, и на скорость стирания запомненного, чтобы все выглядело посолиднее.
Она спросила себя, не из ненависти ли к этим гадам она хочет подтвердить показания несчастной паломницы, и твердо ответила: нет. Она давно разучилась испытывать ненависть к людям, ибо уже много лет не видела разницы между людьми и неодушевленными стихиями.
Из аэропорта она взяла тачку до Невы, до Медного всадника. Как она когда-то любила здесь грезить о будущей прекрасной жизни… А прекрасным остался только сам город. Он был так прекрасен, как ни один из живущих в нем людей. С его красотой могли соперничать лишь ушедшие.
Мертвые не бывают некрасивыми. Чудище безобразное из «Аленького цветочка» превратилось в красавца, только пройдя через смерть. А если бы не превратилось? Если бы мама воскресла страшней Квазимодо, она бы ее за это любила лишь в тысячу раз сильнее. Ходила бы с ней по городу, обнимала, целовала и всем смотрела в лицо с дерзким вызовом: да, моя мама Квазимодо! И что? Я ее за это только сильнее люблю!
Но мамы уже не было, она навеки скрылась за быстрой рекою, где все прекрасны.
ПИГМАЛИОН
И
ГАЛАТЕЯ
Черное людское море под окнами ревело так, что поневоле приходилось повышать голос. Еще минута — и штаб спасителей народа окончательно превратится в гнездо изменников, и тогда никакой наряд милиции их уже не спасет, да и неизвестно еще, на чьей стороне окажутся эти мрачные усачи в мотоциклетных шлемах. Народ требовал оружия. Оружия! Оружия!! Оружия!!! Оружия!!!! Оружия!!!!! Оружия!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Унылый президент, еще вчера первый секретарь, со своей лысиной и седеющими усиками похожий на рыночного торговца, не выглядел, однако, перепуганным, он, казалось, просто вел заседание неприятного партхозактива в присутствии московского представителя.
— Если им не выдать хотя бы автоматы, — нудно бубнил он, — они нас разорвут…
— Вы понимаете, что тогда начнется?!. — седой генерал-лейтенант тоже был скорее взбешен, чем испуган, и его гипертонические щеки тряслись от ярости. — Как мы потом будем их растаскивать?! А обратно изымать вы будете?! Или вашего Сахарова откопаем?!
Последние слова он прорычал спецпосланнику Москвы, набычившемуся рядом с ним у длинного полированного стола. Несмотря на грубоватые негроидные черты, в нем распознавался человек более интеллигентного поколения, однако явно решившийся не уступать этим совкам:
— Надо не лаяться, — он с наслаждением подчеркнул это оскорбительное слово, — а что-то решать! А то нас сейчас самих к Сахарову отправят!
Мясистая генеральская рука сделала движение ухватить московского гостя за шиворот, но в последний миг с усилием переменила направление, крепко взяла его за локоть и повлекла к огромному окну. Москвич хотел было вырваться, но, покосившись на трясущиеся щеки генерала, решил пока не обострять. На случай, если все-таки придется открывать огонь, площадь была залита прожекторами и оттого казалась особенно ирреальной — киносъемка, да и только, «Ленин в октябре». Но никакой массовке было бы не изобразить этих черных волн, катящихся то к оцеплению, то обратно, этих выпученных глаз, этих разинутых перекошенных ртов, — спокоен был один только бронзовый Ленин, протянутой рукой зовущий толпу на приступ. А все остальные твердо знали, что их вечные враги, всегда таившие коварные замыслы, наконец сбросили маски и двинулись на их исконные земли, чтобы жечь, убивать, пытать, насиловать, а те, кто должен дать им оружие и повести в бой, почему-то полдня раскачиваются. Да на чьей они стороне, в конце концов?!.
— Идите, объясните им про реабилитацию, про восстановление исторической справедливости!!! Вы там, в Москве, выделываетесь перед Америкой, а расхлебывать должен Ванька-взводный!!!
В штанах с лампасами что-то печально-беззаботное сыграл мобильный телефон. Звонил комендант военного городка, он так орал, что было слышно без громкой связи: толпа рвется к оружейным складам, ломают ворота, что делать?!.
— Ты что, сам не знаешь, что делать?! Ты читал устав караульной службы?!
— Мы уже дали десять предупредительных выстрелов, им все по фиг, тут пулемет нужен! Или они сейчас сюда ворвутся, или отправляйте письменный приказ: открыть огонь на поражение!
— Какой тебе, на хрен, письменный приказ! Если они захватят склады, пойдешь под трибунал!!!
— Они взяли в заложники мою жену и дочь!!
— Ты мне тут сопли не распускай!!! Ты о складах, а не о бабах должен думать!!! Ладно, кричи им в матюгальник, пусть шлепают к президентской резиденции, будем выдавать автоматы.
Генерал опустился на стул и долго-долго выпускал воздух, раздув усеянные лиловыми прожилками гипертонические щеки.
— Пойдите им скажите, завтра утром будем выдавать стрелковое оружие через военкоматы, — устало бросил он президенту. — Потом придеремся, что без прописки не выдаем. Еще потребуем справки об отсутствии судимости. Да, и справки из психдиспансера. Боеприпасов тоже выдадим по минимуму… У вас выпить чегонибудь есть? Ну, Кавка-а-аз!..
А десять лет спустя во время пресс-конференции к видному функционеру «Оборонсервиса» приблизилась молодая журналистка с тяжелым устаревшим диктофоном, открыла крышку и сделала быстрое движение. Интервьюируемый хрипло вскрикнул и схватился за лицо, мыча от невыносимой боли. Когда охране удалось оторвать руки от лица, оно было залито густой темной кровью.
Эта Шарлотта Корде сидела перед Юлей с прямой спиной на привинченном к полу стуле, откинув красивую гордую головку. Безупречный орлиный носик, чуточку восточный разрез светящихся глаз — она была прекрасна, потому что не думала о себе, она желала лишь отомстить за свой народ.
— Мы все пошли бы на смерть, — со сладостной отрешенностью произносила она, глядя чуть левее и выше Юлиных глаз. — Но наш народ так мал, что мы должны беречь каждого человека. Поэтому я только облила его кетчупом. Чтобы он помнил, что кровь наших братьев и сестер на его совести.
— А в чем, по-вашему, его главная вина?
— Он выдал оружие этим бандитам, этим зверям, он должен был нас защищать, а его солдаты сами начали в нас стрелять. Это они проложили дорогу этим садистам! Посмотрите сами.
Юля только глянула в развернувшийся перед нею веер цветных фотографий и сразу же свернула его обратно. Оскаленные, исколотые, обугленные трупы — это рутина, — но она не успела зажмуриться, когда из веера высунулось лицо с оторванной нижней челюстью, будет теперь стоять в глазах минимум недели две. Ну а Шарлотта — что Шарлотта!.. Зафиксироваться на страданиях своего народа, утратить способность думать еще о чем-то, — для циника это безумие, но она-то давно поняла, что именно безумие и нормально. И более того — без толики безумия нет и не может быть красоты. А права эта красота или не права — разумеется же, нет.
Для советского генерала все черные на одно лицо, ему до балды, кого из них выслали, кого вернули, где чья исконная земля, где чьи могилы предков, для него главное — приказ их растащить. Ну а там поди пойми, где кто. Десантники выдвинулись для разъединения, их приняли за противника, те в таком же камуфляже, стали стрелять, они в ответ, и пошло. Хотя и десантники могли быть переодетыми, — обе версии злобного Чижова Юле представлялась вполне правдоподобными, она уже давно не сомневалась, что войны ведут в состоянии параноидального обострения, когда всякий чих кажется выстрелом, а любой куст танком. Юля по всему свету видела по телику вопящие, скачущие, ликующие или беснующиеся толпы, мечущие друг в друга камни или горящие бутылки, и ей было совершенно ясно, что эти люди нуждаются в срочной госпитализации. Где-нибудь на улице всякому понятно: если человек вопит, его нужно немедленно зафиксировать и сделать инъекцию галоперидола, пусть даже он вопит: «Дважды два — четыре, дважды два — четыре!!!» Но стоит ему завопить: «Долой!!!» или «Да здравствует!!!», как тут же собираются министры и юристы обсуждать эти вопли с точки зрения истории или закона, вместо того чтобы ужаснуться прорвавшемуся гейзеру человеческой природы и немедленно его заткнуть любыми средствами.
Всякий выброс магмы нужно срочно окружать колючей проволокой и бомбить всем миром, как жерло вулкана, иначе лава поглотит всех. Но правящие миром высокоумные идиоты веками пытаются обратить извержения друг против друга. Им это еще ни разу не удалось, но идиотов не устрашить — в следующий раз непременно удастся! Надо только дыру в спасительной пленке расковырять пошире.
«У меня очень дружная такая была семья. Отцов у меня много было всяких, и мама обо мне очень заботилась: если пьянка или, там, конфликт какой, меня, ну, как бы изолировали от этого. Мы жили хорошо, у нас трехкомнатная квартира была, распашонка. Я лет до четырнадцати… нет, до двенадцати это как бы не впитывала. А в двенадцать лет меня попытался изнасиловать мамин любовник, и в этот момент я, можно сказать, повзрослела. Стала убегать из дома, от побоев маминых, она меня начала ревновать из-за своих мужчин, ну и вообще, не от хорошей жизни. Меня возвращали с милицией, я опять убегала, с этого как бы моя такая жизнь и началась. Сама начала пить. Пьяные компашки, гулянки, дискотеки — ну, можно сказать, вела такую же жизнь, как мама. Вот.
Ну, что первый сексуальный опыт… Теперь-то я понимаю, зачем мне это было надо: если дома ты не хапаешь любви, то тебе где-то этого дела надо добрать. Ну а где там доберешь — по подвалам да по чердакам! Этот мой первый, ну, который меня… по-нашему называется: целку сломал… так он все время мне бухтел: ты,
это, давай по-тихому… Он даже, извиняюсь, джинсы с меня не снял, только приспустил и как-то подлез, сейчас я даже не понимаю, как это у него вообще получилось. Но тогда на фоне этой брехни всеобщей мне даже показалось, что у блатных где-то есть даже какая-то… ну, как бы солидарность. Ну, дура дурацкая, что тут еще скажешь!
И в пятнадцать лет мама меня выгнала вон, я тогда училась на швею. Контингентик там — вау! И меня как бы приняли родители моего молодого человека, я до восемнадцати лет жила с ним, у него. Вот. А в восемнадцать лет его мама собрала мои вещи и говорит: давай прощаемся. Потому что у меня был ужасный характер поведения. Она бы и до этого меня выгнала. Но боялась, что ее сына привлекут, что живет с малолеткой. Вот. Я и опять поехала к маме. Естественно, мама квартиру сдала и жила у мужчин. Вот. Ну и, короче, сколько, не знаю, наверно, как бы с полгода прошло, мама со своим мужчиной разругалась, а я, наоборот, где-то через месяц начала с ним жить, родила от него ребенка. Ну, вот мама мне и не могла этого как бы простить. Ну, то есть что я жила с ее мужчиной. Получается, она его вроде как любила, но я не понимаю на самом деле ее любви такой, по-моему, их связывали в основном пьянки.
Но со мной он, там, не пил достаточно долгое время. Пока беременная была и до пяти с половиной месяцев когда ребенку исполнилось. А потом опять начал пить тайком. Ну, я собрала вещи и ушла, естественно, потому что я как бы уже не пила вообще. Ну, у меня все теперь было на первом месте практически для ребенка, вот я и опять переехала к маме, ой, а там уже все пошло по наклонной. Там я встретила своего мужа единственного. Я не работала, а он меня содержал, ну, чужого ребенка. И на самом деле все было, ну, хорошо, пока мама не влезла в наши отношения. Она проломила ему череп сковородкой на Новый год, и он остался инвалидом. Ну а я, естественно, не стала показаний против матери давать, и он простить мне этого вроде как не мог. А когда мы разошлись, я стала сильно пить. Работала на овощебазе грузчицей, разрывалась на самом деле, квартиру снимала у женщины, которая тоже пила. Ну, а я ей платила овощами и выпить. Там я как бы и познакомилась с потерпевшим, моим сожителем.
Вначале было все нормально, но потом он оказался этим, альфонсом. Уходил как будто на работу. А в итоге я его кормила и поила. Вот они с этой соседкой и пили. А потом он начал руки распускать. Он сам с Чечни, у него крыша ехала. И в один прекрасный момент я не вытерпела и его зарезала. Причем с одного удара. Я, в общемто, не хотела, даже не ожидала, вот. Но там была такая ситуация, что он меня душил, а я как раз увидела нож сбоку, вот и ударила его, вот. Так меня и закрыли.
Я в основном в больших была камерах, человек по тридцать. Очень душно, а летом еще клопы заедают, а у меня еще была рядом швейка, и завезли ватин с клопами, и они все к нам, естественно, побежали, я поэтому спала под дверью, где лампа всю ночь горит: клопы на свет не вылазят. И прожарки делали, и все равно ничего не помогало, они где-то в шконарях прятались.
Там очень много разных болезней заводятся, и кожных, и всяких — у меня у самой был псориаз, потому что мыться негде. В колонии лучше, там построение на улице, но, правда, беготня: заправить кровать, почистить зубы, умыться, потом зарядка, столовая — хуже, как в армии. Капуста кислая так воняла, что кашу когда варили, это считалось вроде как праздник. Я там мылась ночью, даже надзирательши знали: пока не помоюсь, не выйду, ну, они в большинстве как бы человечно понимают. Были там запрещены еще крема, гели, шампуни — это все придумала начальница службы безопасности, хотя, в общем-то, сама как бы женщина, должна бы вроде понимать: там вода с кусками ржавчины, естественно, волосы у девчонок лезут.
Ну, с одеждой, с обувью как-то выкручивались, а с медициной, можно сказать, ее практически совсем нет, только зубы рвут. Гинеколог — самая главная как бы маразматичка, на ней больше смертей, чем на Чикатиле. У меня в натуре уши гнили, а на больничку никак не брали, потом я сама все выжгла салициловым спиртом. Очень ужасно больно, и серы в ушах с год не было. Единственно к кому относятся как бы внимательно — это кто с вичом, их лечат, ничего не скажу.
На производстве меня перевели, считалось, в бригадиры, и мы даже первые места занимали как бы. Я вот всегда ругалась, когда девчонки начинали козни друг другу строить, и я не ходила-рулила, а шила с ними вместе. Ну вот, у меня была скорость большая, и зарплата была достаточно большая. Я еще и лишнего не болтала, а то ведь на самом деле языки у всех поганые, бывает, такого наговорят, что прям. Зато когда у кого рот начинает гнить, все говорят: ага, это за поганый язык. И верят. Ведь из-за чего больше всего собачатся — зависть. Как у нас говорят: в чужих руках всегда х… толще кажется.
Ну и по жизни меня вообще уважали, я ведь настолько спокойная, когда дело меня не касается, но все понимали, что меня лучше не трогать. Даже многоходы понимали, что черт меня знает, какую я им сладкую жизнь могу устроить. Знали еще, и по какой статье я отбываю.
Правда, была одна очень сильная духом человек, она как бы по головам пойдет, лишь бы ей было хорошо. Но и она старалась со мной как-то… ну, это самое. Она больше новеньких девчонок била, какие не хотели мыть коридор. Она придумала, ну, типа дедовщины: новенькие должны полгода мыть коридор. А кто не хотел, тех заводили в сушилку, и они, значит, получали по голове.
Но я в эти дела не вмешивалась, на зоне живут как бы по принципу: тебя не дерут — не подмахивай. Я один раз только вмешалась — уж очень девчонку стало жалко, такая беленькая, шейка тоненькая, грудки как у двенадцатилетней… Она была медсестра, и у них в больнице получилась смерть из-за халатности, ну, ее и подставили… Правда, если нас послушать, так никто не виноват, но она, главное, была совсем как бы не криминальная, ото всего дрожала, как воробушек. И я ее к себе взяла на шконку, чтобы, ну, просто знали, что я над ней вроде как шефствую… а там есть женщины, которые сидят за изнасилование, я этого вообще не понимаю.
Но на зоне многие меняют ориентацию. На самом деле когда вместе с кем-то живешь, намного легче справляться с этим всем. Ну и есть очень много женщин мужеподобных, скажем так, а другая есть какая-нибудь — тоскует без мужика. Так вот эта, про которую не поймешь, парень это или девка, влюбит ее в себя и греется за чужой счет. Их раньше называли коблы, ковырялки, они в трусы что-то подкладывали, чтобы казалось, что там что-то есть, но сейчас этого нет, сейчас они называются половины. Тут даже не поймешь, от чего бабы больше тоскуют, от того, что секса нет, или от того, что им ласки не хватает — ну, как бы и самим им хочется кого-то ласкать, и чтобы их кто-то ласкал, — ну, типа кошки. Нет, тех, у кого большие срока, тех я не осуждаю — ну, двадцать лет, там, двадцать пять, это долго, да. А вот по году, по три, по пять — этих я осуждаю. Вернее, раньше осуждала. Я не спорю, какой-то как бы инстинкт требует применения — типа любить и быть любимым, это самое. Но надо тоже не доходить до дурости.
У нас еще в СИЗО, там, дырка в полу была — ну, унитаз елозил типа, и щель приоткрывалась, а там внизу мальчишки сидели. Ну, это их так просто называли. А на самом деле это были мужики. Так у некоторых вся жизнь начинала крутиться вокруг этой дырки. Они оттуда нам конфеты передавали, открытки, всякие подарки, а мы им. Одна тетка хотела сделать типа монополию: она одна ложится на одеяло и разговаривает, играет как бы в любовь, груди им показывает и всякие
такие смехуечки, а девчонок не пускает. А сама старая, пятьдесят пять лет, ну, такая вот. Меня это заело — мне не надо, но я по справедливости. Я ей говорю: тебе пора в моргушке отдохнуть, а ты девчонкам мешаешь. И я подралась с ней. Я не боялась. Как мне бабушка когда-то сказала: ничего в своей жизни бояться не надо, чему быть, того не миновать, судьбу не объедешь, — вот после этих слов я всегда вспоминаю эти слова и никогда в жизни типа ничего не боюсь.
Но эта дырка, я не спорю, многим помогала: мы им что-то хорошее хотим сделать, они нам… Но меня когда закрыли из-за мужчины, меня, можно сказать, к ним и тянуть перестало. Потому что это может кончиться тем же. Может получиться так, что я не буду себя контролировать. А так как он сильнее, я буду, значит, находить выходы. И это опять может кончиться тем же. А мне это не надо. Я такая была на мужиков злая, что даже к сынишке стала испытывать типа неприязнь. Раньше бы я вся извелась, как он там с мамой, а теперь стала думать: ну и что, вырастет, и такая же будет сволочь, как все.
Ну и теток мне тем более было не надо. Я привыкла быть одна. И мне было очень хорошо. И эту беленькую Маринку мне стало просто жалко, и все. Вот. Она неплохо грелась, ей мать все время передачки слала, поэтому ее сто процентов не так, так этак склонили бы к сожительству. А это когда по доброй воле, то нормально, а когда силой вымучивают, тогда психика на всю жизнь может остаться как бы изуродованной, вот. А я ее как бы взяла под крыло, у меня к ней чисто материнское было чувство.
Потом, когда у нас началась любовь, бабы подсмеивались: где ты видела, чтоб мать и дочка лизались? А я думаю, если бы это не запрещалось, с большим бы даже удовольствием лизались. Мне б такое и в голову не могло прийти, что это может быть так хорошо. О себе вообще забываешь, а с мужиками, с кобелями — он только и думает, чтобы свое удовольствие получить, ну, и ты думаешь, как бы с этого пса тоже свой клок шерсти урвать. Перепихнулись и разбежались. А тут, наоборот, нашептаться не можем, уже и не помним, что нельзя, чтоб заставали вдвоем на спальном месте. Это очень тяжелый будет рапорт, обязательно всплывет на УДО, на условно-досрочном освобождении, но ты уже ни про какое УДО не помнишь, ты как будто как бы на седьмом небе.
И тут уж мы намечтаемся, как на воле будем жить вместе, снимем квартиру, или я с мамой разменяюсь. Мама, кстати, нормально отнеслась, по крайней мере, говорит, хотя бы рожать больше не будешь. И когда я вышла, я была такая счастливая, что почти все, что заработала, на ребенка отдала — мне было как бы море по колено, ни хрена, думаю, я всегда заработаю!
Ну, и пахала как колхозная лошадь. В ларьке торговала, в подвале у нового узбека шила турецкий ширпотреб, ночью подрабатывала в „Двадцать четыре часа“ — до того зашилась, что все штаны с меня сваливались. Но комнату сняла, сама пол перестелила, новые обои наклеила — я такой красотищи никогда не видела. Такая была счастливая, что стала подумывать сынишку к нам брать, если мама разрешит, на таких же, как мы, косо смотрят. Но если разобраться, он же не виноват, что пацаном уродился? Вдруг, думаю, будет не такая сволочь, как его папаша.
Когда поехала ее из зоны встречать, я была как на седьмом небе. Нашила ей всяких красивых шмоток, заварила целый термос настоящего кофе, в крытке-то и бурда считается как бы деликатесом, если хотят человеку внимание проявить, приглашают выпить кофе из одной кружки… „Городской“ батон в полиэтиленовый пакет завернула, масла вологодского, батон сырокопченой колбасы, чтоб, значит, сразу ее подкормить. Ну и, само собой, нож наточила, чтоб было чем нарезать, намазать… Да, еще клеенку, чтоб было на чем разложить, чтоб все культурно. А она мне
объявляет, что она за это время списалась со своим, типа, одноклассником, у них, там, когда-то была как бы любовь и теперь он ее нашел и предлагает, типа, замуж. И она мне говорит: ты извини, я не хочу от своего счастья отказываться. Я, это самое, в шоке, ты чего, говорю, с мужиком, что ли, будешь жить?!. Ты чего, не знаешь, какие они?! Он тобой попользуется, пузо тебе сделает и пошел гулять, и еще скажи спасибо, если он тебя не изуродует напоследок. А она, я вижу, уже ум за разум зашел: нет, говорит, он не такой. Я говорю: они когда хотят под юбку залезть, они все не такие. А потом свой характер обязательно покажут, сто процентов, но от нее все вроде как от стенки горох: нет, говорит, мы друг друга любим — и все такое, как забуксовала на этом. Я тогда, типа, нож достаю и говорю: или ты со мной идешь, или я тебе этот нож прямо в горло всаживаю, поняла? И так, типа, очень жестко спрашиваю: в последний раз спрашиваю, идешь со мной? Она говорит: нет. Ну, она это с понтом, она знала, что я лучше себя зарежу, чем задену ее беленькую шейку. Ну, и как бы правильно все рассчитала: я, типа, намахнулась на нее, а ударила себя под левую грудь. Ну, нож из-за ребра, врач объяснял, изменил траекторию, а то бы точняком в сердце.
Не, ну какое тут доведение до самоубийства, я сама себя довела. Меня уже на больничке про это допрашивали, а я так и сказала: против природы не попрешь. Так нам, дурам, судьба постановила, чтоб мы любили этих кобелей, так нам, значит, это самое, на роду написано. От судьбы не уйдешь».
Эту тюремную Сапфо жизнь выучила смирению.
«Капитан корсарского корабля снял черную полумаску, открыв красивое лицо, загар которого приятно контрастировал с холодными голубыми глазами и золотыми вьющимися волосами. Однако наметившиеся мешки под глазами говорили о порочном и неумеренном образе жизни. Темно-русые брови пирата сходились все ближе, на алых, красиво изогнутых губах заиграла дьявольская усмешка.
— Позвольте представиться, маркиз де Эккервиль, — его изящный поклон свидетельствовал о том, что титул был подлинным.
Он был так высок, что ему приходилось наклонять голову в каюте с низким потолком; это на миг вселило в нее безумную надежду, что он склоняет голову перед нею. Однако эта призрачная надежда была в тот же миг развеяна его циничными словами, произнесенными красивым насмешливым баритоном:
— Сейчас вы узнаете, как я обращаюсь с рабынями.
Он отстегнул перевязь и вместе со шпагой бросил ее на роскошную турецкую тахту, а затем с поразительным бесстыдством начал раздеваться, нисколько не смущаясь тропического солнца, пробивающегося сквозь изысканные восточные занавеси. Она швырнула в него отделанную перламутром резную табуреточку черного дерева, но обнаженный гигант с сатанинским смехом отмахнулся от нее, словно тигр от мухи. Однако когда он впился поцелуем в ее сведенный судорогой гнева рот, она укусила его за губу и с наслаждением ощутила во рту соленый привкус крови.
— Проклятие! — завопил пират и начал срывать с нее одежду.
Она пыталась сопротивляться, но шелк и бархат под этими мощными руками превращались в лоскутья. Обнаженную, он швырнул ее на пол и со сладострастным стоном припал к ее роскошной груди. Она извивалась, тщетно пытаясь вырваться, но он раздвинул ее колени и вошел в нее со всей деликатностью кабана в период течки. Когда он наконец встал, она сгорала от стыда, прикрыв лицо руками.
— Не закрывайся, красавица, — захохотал дикарь, — на невольничьем рынке тебе этого не позволят, покупатели хотят видеть товар полностью обнаженным.
Она вскрикнула от ужаса.
— Негодяй, ты этого не посмеешь!
— Когда отведаешь моих плетей, стыдливости у тебя поубавится!
Он велел своим черным рабам, жадно пожирающим глазами ее наготу, привязать ее к скамье и сечь плетьми, но не очень сильно, чтобы не повредить ее мраморную кожу.
И все-таки когда на аукционе молодой евнух обнажил ее полностью, ее тело покрылось жемчужинками испарины. Грубые бородатые мужчины жадно пожирали глазами идеальные полушария ее грудей, божественную линию бедер, пытаясь проникнуть в затененный уголок внизу ее шелковистого живота, и перебирали трясущимися от вожделения пальцами пиастры, цехины, изумруды и сапфиры в своих кожаных кошельках. Она была прекрасна, как статуя, но статуя, трепещущая от страха и стыда, а значит, сулящая особенно острое наслаждение».
Ее собственные пальцы, казалось, от рождения знавшие, что им нужно делать, без помощи страха и стыда никогда не могли добраться до пика наслаждения. Еще в полубеспамятном детстве она, что-то горячечно шепча, представляла, как ее раздевает и стегает ремнем какой-то пытник, и руки ее уже тогда знали, куда нужно проникать и что там делать. Но когда она наконец осознала, что она «дэцэпэшница» не на какое-то время, а навсегда, что ей всегда придется передвигаться рывками на костылях, выбрасывая скрюченные ноги-стебли, словно что-то чужое, и никогданикогда ни один мужчина не будет жадно пожирать глазами ее обнаженное тело, — когда она это поняла со всей смертельной ясностью, к ней пришло твердое понимание: она имеет право на все. И бояться ей больше нечего, ибо самое страшное уже случилось.
Так что когда она сделалась одним из вожаков подростковой шайки и сумела стравить двух пареньков так ловко, что один из них во время драки нечаянно убил другого, — только тогда она впервые в жизни поняла, что такое истинное счастье.
Ответ убийцы Юлю не очень-то и поразил:
— Она воще безбашенная. С ней ничё не стремно.
Так он ответил на вопрос, чем его пленил этот Ричард Третий в юбке, которую скрюченная колченогая вамп никогда, впрочем, не носила.
А в раннем детстве обожала крашеные ногти, духи — думала, это и есть красота.
Но оказалось, красота — это власть.
Она привыкла, что мужчины при ее появлении немедленно теряют голову. Вот и в тот день на повороте с Университетской набережной она подрезала какогото роскошного мужика в «мерсе», и он уже приоткрыл окно, чтобы ее обругать, но увидев жемчужную улыбку, сверкающую из огненного облака ее волос, только чудом не вылетел на тротуар. В элегантном холле «Прибалтийской» надменные иностранцы тоже застывали с открытыми ртами, а их холеные бабы наливались желчью, когда она своей дразнящей походкой проходила мимо них в серебристом платье, облегающем ее на диво стройную талию. А когда она вошла в конференц-зал и замерла у входа в вольно наброшенном на мраморные плечи голубом бархатном палантине, приоткрывающем грудь безукоризненной формы, престарелый академик Рыбальченко прервал свой доклад о раскопках Погореловского городища и не сводил с нее подслеповатых глазок, покуда она не сделала снисходительный жест изящной кистью левой руки: продолжайте, мол, продолжайте. Однако же все профессора и академики, обернувшие к ней свои пенсне и седеющие бородки, так и не могли вернуться к докладу, покуда она не поспешила присесть на ближайшее свободное место.
Она всегда старалась поменьше обращать на себя внимание, но это ей никогда не удавалось. И на фуршете, куда бы она ни направилась, всюду тут же начиналась толкотня за право подложить ей лучший кусок и налить лучший бокал, а когда она закружилась в вихре вальса, то к ней, отпихивая профессоров и академиков, устремились и аспиранты, готовые поставить на карту уже и карьеру. Но она щадила старичков, позволяя им подержаться за ее талию, опасаясь лишь, как бы дело не кончилось инсультом.
Но именно этот триумфальный вечер и заронил в ее душу сомнение: а не видят ли в ней только прекрасное тело? А ее ничуть не менее прекрасная душа никому не интересна? Прежде она почти гордилась, что все четыре ее мужа расстались с нею, не выдержав соседства с ее красотой, слишком уж жестоко подчеркивавшей их заурядность, но ведь, если серьезно, они должны были возвыситься над мелким самолюбием ради счастья быть рядом с такой удивительной личностью!
А между тем одиночество наполняло ее однокомнатную квартирку дыханием все более и более ледяным с каждой новой морщинкой у глаз, с каждым новым седым волосом, с каждым миллиметриком беспощадно никнущей груди, с каждым малиновым червячком лопнувшего сосуда. И уже хотелось обрести такого друга, для которого все это было бы неважно, чтобы сделалась хотя бы чуть менее ужасной неуклонно подступающая старость…
А как его распознать, верного и надежного, если все кидаются на ее внешность? Как его выделить в толпе тех, кто жаждет только ее тела? И понемногу красота стала тяготить ее, она начала ее гасить скучными прическами, ординарной косметикой, унылыми нарядами, — и все равно из-под любого пыльного налета ее краса сияла жар-птицей.
Нет, помочь могла только пластическая хирургия! Когда она объяснила своему хирургу, что хочет не обрести красоту, но избавиться от нее, он был удивлен, хотя и не слишком — он всякого навидался. Но когда она, придя в себя после наркоза, увидела свой аристократический «ахматовский» носик вздернутым, глаза ушитыми, а рот перекошенным из-за парализованной мышцы, она прокричала заплетающимся языком: «Что ты наделал, мерзавец!!! Немедленно верни все обратно!!!!» А когда доктор начал искать ее расписку о том, что она предупреждена обо всех возможных последствиях, она схватила лежащий на столике скальпель и попыталась отхватить негодяю нос. Однако, к счастью, промахнулась и лишь до зубов рассекла ему щеку. И что же Юля должна была написать в заключении? Нарциссизмом страдают, вернее, наслаждаются довольно многие женщины (Чижов, считающий себя полным лузером, объедками своей красоты только и кормится), — болезнь это или, наоборот, избыток здоровья? Почему кавказская Шарлотта Корде, неспособная увидеть хоть одну темную пылинку на белоснежной праведности своего народа, нормальная идеалистка, а дама, поклоняющаяся собственному совершенству, — претендентка
в сумасшедшие?
В психологии назвать умными словами означает примерно то же, что в физике объяснить, считает Егор. Умными словами можно даже все обратить в болезнь.
«Одна, но пламенная страсть» — романтик, «сверхценная идея» — больной. Многим женщинам не дает покоя тревога: «мужикам только одного и надо», «а вот женился бы он на мне, если бы я была некрасивая?», но припечатай это словом «деграциация» — и диагноз готов. Максимализм в политике или в любви тоже штука почтенная, но для этой Галатеи, изувечившей своего Пигмалиона, можно смело требовать «принудки». Психиатр при судебке — он вроде Егора: кто не флегматик, тот сумасшедший. Егор и ее в эту сторону сильно пригнул…
Поближе к земле.
Ведь она мечтала о жизни не убого благополучной, но прекрасной, сверкающей, полной опасностей и страстей, то взмывающей к звездам, то летящей в бездну, а она вместе с мужем так и протопталась по земле. С ним, пожалуй, взлетишь, это не человек, а власть земли на двух ногах-сваях, тяга земная, как она тысячу лет назад прочитала в былине про Святогора, да только не догадалась, что это про нее.
Вовремя взяв себя в руки, она не позволила овладеть собою неприязни, внезапно поднявшейся с темного дна, она прекрасно сознавала, что сделала свой выбор по доброй воле, что Егор никогда не притворялся более возвышенным, чем был на самом деле, что упрекнуть его решительно не в чем, — но это лишь сильнее насыщало ее обиду ядом и злостью.
Нет, ей положительно нельзя было с ним сейчас встречаться, чтобы не наговорить чего-то такого, о чем даже ему будет трудно забыть, хотя он как никто умеет не придавать значения словам, слова, как он любит повторять, ему не нужны, если известны интересы. А интересы ее, он совершенно прав, неразделимо сплетены с ним и с Егорушкой, ничего даже отдаленно сравнимого у нее нет. Здесь вся ее жизнь, а там только фантазии. Но его презрение к фантазиям — это такая тупость!!...........................................
Нет, положительно, ей требовалось отдохнуть от него, вспомнить, что он для нее значит. Но как назло, ей нужно было явиться к нему в офис, где он устраивал прием для «своего» депутата, а тот будет с женой. Наряжаться было не обязательно: Егор со смешком сказал, что ее облик трудовой интеллигенции будет работать и на его имидж. Насмешка явно относилась к депутату, но тут ей вдруг впервые в жизни пришло в голову, что она, возможно, уже давно недостаточно хороша для Егора, — и ее прямо скорчило.
И почему-то сразу вспомнилась неуловимо нагловатая почтительность Егоровой секретутки с жирно накрашенными губками, надутыми, как резиновое колечко, что дают грызть младенцам. Ей вдруг так захотелось поставить на место эту хорошенькую стервочку, что она направилась на «пати», не заезжая домой. Хотел Егор трудового облика — вот пусть и получит.
Приемная у Егора была, как теперь выражались, пафосная, отделанная темным деревом, но Юле всегда мерещились на многослойном дубовом паркете пятна крови, оставшиеся от егоровского предшественника. Наглой секретутки за величественным столом не было, и она не без облегчения прошла в кабинет.
Егор, выглядывая во внутренний двор, с кем-то переругивался по мобильнику, держа за задницу выглядывающую туда же секретутку. Он, похоже, и не замечал, что у него в руке, повторяя с досадой: «Я ж тебе говорю: сдай назад, сдай назад!», — но его пятерня была довольно глубоко погружена в надутую округлость.
Юля отпрянула и медленно-медленно прикрыла тяжеленную дверь. И со всех ног на цыпочках бросилась куда-то прочь.
Но на просторной чистой лестнице резко остановилась и почти вслух приказала себе: стоп! Ничего не делать, пока не успокоишься! Она столько раз видела, как люди губили себя только потому, что реагировали без задержки. Пребывая в частичной невменяемости. А сейчас наверняка не вполне вменяема и она, вменяемый человек не может видеть мир с такой ясностью и простотой: она должна дать этому орангутангу пощечину и немедленно расстаться…
Если в чем-то совершенно не сомневаешься, этого ни в коем случае делать нельзя. Уже одно то, что она ощущает лишь потрясение, но не чувствует боли, говорит о том, что она еще не понимает, что произошло.
Она прикрыла веки, сделала глубокий вдох и снова открыла глаза — перед нею сияла ослепительная пара. Которая никак не могла появиться с раскисшей Фонтан-
ки, и тем не менее ее явно занесло сюда с вручения премии «Оскар» — юную красавицу в вечернем платье и видавшего виды поджарого мужчину в смокинге и черной бабочке. В нем было что-то кавказское, но не очень ясно выраженное.
И тут же, будто в камеру наблюдения глядела, на площадку вылетела эта мерзкая шлюшка, захлопотала, залебезила, уже без малейшей наглинки, и повлекла их в кабинет, не обращая ни малейшего внимания на супругу своего босса. Юле пришлось тащиться следом, а потом самой раздеваться в дальней гостевой комнате, поскольку мужчины были заняты тем, что обнимались и хлопали друг друга по спине, — стройный подросток, оказавшийся в лапах медведя, но от того нисколько не робеющий.
Стол был роскошный, ресторанный, хрустали и коньяки из первоисточника, — и у нее вдруг сжалось сердце от жалости к Скворцу, который думал поразить ее роскошью. Подавали безмолвные и вышколенные официанты, серебряные колпаки с горячих блюд взлетали, как по команде, бокалы наполнялись сами собой, и она почувствовала известное удовлетворение, оттого что Егорова потаскушка не допущена в это избранное общество. Она пыталась возбудить в себе презрение и к Егору, но против воли любовалась его уверенностью и небрежностью одежды: его уж никак нельзя было принять за лакея, а его гостя можно, ибо сквозь его вальяжность проглядывала… Нет, все-таки отнюдь не лакейская востроглазая зоркость. Кого-то он Юле ужасно напоминал — но кого же, кого же, кого же, кого же?.. (Самой было странно: ее жизнь находится на сломе, а ее волнует такая чепуха — значит, вменяемость еще впереди. Да нет, это она гонит от себя то, что по-настоящему страшно.)
Бог ты мой, это был тот самый парень, на которого она когда-то наткнулась среди языков снега и дотащила до его убогой одиночки!..
И тут же морозцем омерзения отозвалось пакостное — целочка… Это такие, значит, у Егора дружки…
Значит, и застолье их — как это у них называется, общак, что ли? Или нет, толковище. А она, стало быть, маруха. Спутница-то этого уркагана была типичная маруха, тоже с губками надувным колечком, у них, видно, мода пошла такая.
Еще минута — и ее бы вырвало на эти устрицы и хрустали, душа заметалась в поисках хоть чего-то красивого — дозу, дозу, молила она, будто наркоман на героиновой ломке.
О, Скворец! Нараставший душевный спазм ослабил холодные пальцы. Как он там говорил? Вот дурак, какую женщину упустил? Она повторила эти слова про себя несколько раз, и холодные пальцы почти разжались. Она вышла в пустой кабинет и, повторяя утешительное заклинание одними губами, отыскала на мобильнике номер Скворца. У них там, кажется, с Питером два часа разницы, еще не поздно.
Скворец долго не брал трубку, у нее уже начала нарастать тревога, что она так и останется без дозы.
— Да, слушаю…
Голос почему-то женский, простуженный… И какой-то — раздавленный, что ли?..
К нему же какая-то тетка ходила заниматься хозяйством…
— Будьте добры Скворцова, — она вдруг забыла, как его зовут.
— Он умер… И рыдания.
— Извините, — похолодев, залепетала она, — я его одноклассница, а как это случилось, почему?!.
— Инсульт… — и новые рыдания.
— Может быть, нужна какая-то помощь, деньги?..
— Да нет, ничего не нужно, спасибо, — и снова рыдания, конца которых она уже не стала дожидаться — извинилась, но вряд ли в Акдале ее слышали.
Она так и не узнала, кто с ней говорил.
После третьего надрубленного прямоугольничка донормила она все-таки отключилась, но ее словно подбросило, когда под шестипудовой тушей Егора просела набок их широченная кровать. Сейчас полезет, с ненавистью мелькнуло у нее в голове, когда она почувствовала на груди его шарящую руку…
— Оставь меня, мне противно, когда ты ко мне прикасаешься!!! — не закричала она, уже твердо решив не повторять ошибку Зои Космодемьянской, а вместо этого почти простонала: — Извини, у меня ужасно болит голова.
Про смерть Скворца она решила ему не говорить, ей казалось, она этим осквернит свое горе.
Она еще не решила, как ей себя вести, но уже поняла, что красоту должна искать сама. Вспомнилось вдруг, как в первую годовщину их свадьбы она разнеженно спросила у Егора: «А ты помнишь, какой сегодня день?» И он ответил: «Кровавое воскресенье?»
— У суслика болит головка? — промурлыкал Егор, и она в ответ прокричала:
— Не смей называть меня сусликом!!! Но прокричала только про себя.
Донормил, однако, продолжал действовать, и она вновь начала погружаться в смутные видения. И вдруг ее снова подбросило.
Кровать тряслась так, словно она мчалась по колдобинам, но, что было еще более ужасно, невидимый в полумраке, спальню заполнял страшным рыком какой-то огромный зверь. В совершенной невменяемости она безошибочно рванула шнурок торшера и увидела, что Егор сидит на кровати и колотит кулаком по волосатым золотящимся ногам. И, выпучив глаза, рычит, рычит…
СВИДАНИЕ
С
КВАЗИМОДО
Страх за Егора она почувствовала только тогда, когда его лицо обрело такую же фиолетовую одутловатость, как у Скворца. А до этого в ней нарастало только уважение. Судороги схватывали Егора во сне примерно раз в час, и он ставил будильник на каждые сорок минут, чтобы их опередить. Затем вставал, растирал икры, делал несколько глотков воды и снова ложился. Но чтобы ей не мешать, снова съехал в отдельную спальню — комнат, слава богу, хватало — и ни разу не пожаловался ни единым словом: замученный, неделями катастрофически недосыпающий, он утром принимал холодный душ и ехал по делам. Никакие ультразвуки и электрофорезы, никакие таблетки калия-магния и прочей физхимии, в которой он разбирался получше докторов, не помогали, и однажды она сдуру рассказала Егору про одного пловца, носившего при себе нож, чтобы уколами разгонять судороги. И наутро увидела на выглядывающих из-под халата толстенных Егоровых икрах множество воспаленных ранок, иных с потеками засохшей крови.
— Ты с ума сошел! — ужаснулась она. — Ты же гангрену можешь себе устроить!
Хочешь, чтобы тебе их ампутировали?..
И Егор вдруг кивнул с мрачнейшей серьезностью:
— А хорошо бы….
Но обмерла она по-настоящему, только когда заставила его измерить давление. Если он не начнет спать, дело может кончиться…
Она не позволяла себе додумывать, но фиолетовое лицо Скворца отогнать было невозможно. А заодно и подловатые, но ответственные опасеньица, на что они с Егорушкой будут жить, если, упаси бог, с Егором что-то случится. Сама-то она на свою зарплату в судебке как-нибудь протянет, но Егорушку-то прочат в аспирантуру, он тоже пошел по отцовской физхимии, и уж так бы хотелось оторвать его от отцовской водки…
Она и сама замучилась за эти месяцы и по отношению к егоровской кольцегубой потаскушке уже не испытывала ни ненависти, ни отвращения: да пусть себе трахает кого хочет, только бы оставался жив и здоров.
Главное, жив. Ревность, красота, безобразие — такой все это мусор в сравнении со смертью!
И как же легко у нее сделалось на душе, когда после каких-то противоэпилептических таблеток егоровские судороги исчезли. Порадовало и то, что Егор не спешил возвращаться на общее ложе, желая убедиться в надежности достигнутого результата. Большим облегчением оказалась и возможность при ежедневных звонках отцу не притворяться, будто у них все хорошо.
Теперь и правда все стало хорошо. Хотя давление держалось высоковатым, но, по крайней мере, больше не прыгало, и этот ужасный фиолетовый цвет понемногу сменился более или менее нормальным.
Зато понадобилось что-то срочно решать с егоровской матерью, отец с ней уже не справлялся, — у нее стремительно нарастал не то Альцгеймер, не то какая-то сосудистая недостаточность, но врачи хором уверяли, что ничего сделать нельзя. Егор хотел лететь один, но она увязалась с ним, опасаясь, конечно, больше за него, чем за его мамочку, коей она так и не могла простить маленького Егора, самого варившего себе кашу. Может, оттого он и сделался таким земным, что не знал материнской любви…
К Егору на родину они ездили сразу после свадьбы на поезде, билет на который приходилось покупать в особой кассе по специальному разрешению. Ее тогда поразило, что база военно-морского флота, или как там ее звали, совершенно лишена грозной красоты этих слов: обычный советский городок, серые кирпичные хрущевки и рядом остренькие кораблики цвета морского ненастья. И еще ее поразило, что отец Егора, тоже порядочный орангутанг, но не столько умный, сколько мужественный и благородный, командует не боевым кораблем, а плоской лайбой, таскающей грузовики через проливчик шириною в Фонтанку. Ее свекор (фу, какое некрасивое слово!) нависал над проливчиком в застекленной будке раза в два попросторнее, чем у постовых, и командовал очередью грузовиков, иногда и осаживая какого-нибудь нахала: «Виктор Семеныч, ты эту „Татру“ тормозни, пусть научится уважать порядок». В брезентовой плащ-палатке на широченных, как у Егора, плечищах он держался очень достойно, но будка эта была явно не капитанский мостик. Хотя дома у него висел в шкафу белоснежный китель капитана второго ранга (две звезды на погонах означают кап-два, разъяснил Егор).
Оказалось, у него на судне случилась авария, и ему нужно было послать кого-то на верную смерть.
— И… и что? Он послал?
— Естественно.
— И тот пошел?..
— Естественно.
— И… И что потом?
— Было разбирательство. Отца оправдали по всем пунктам. Но потом при первом же случае списали на берег.
— Но это же несправедливо?
— Кого интересует справедливость! Виноват ты, не виноват — все равно на тебе пятно.
Для Егора все, что есть, то и было естественно.
Для него было естественно и то, что мамаша, немолодая дамочка (ее теперешняя ровесница), разговаривает с сыном игриво, будто с ухажером, а с мужем вообще изображает пятилетнюю девочку, начиная чуть ли не шепелявить и усиленно хлопать темными ресницами, эффектно, ничего не скажешь, обрамлявшими очень светлые глаза. Ресницы, правда, были такие длинные и так красиво изогнутые, что вызывали подозрение в их подлинности, да и рассыпающиеся по плечам волнистые волосы были слишком уж золотые для настоящих, прямо Белоснежка из мультика. Еще она обожала что-то начать и застыть в растерянности, ожидая, когда кто-нибудь придет на помощь, — Юле самой однажды пришлось задергивать молнию ей на куртке, ужасно неудобно было делать это не на себе и особенно где-то между ног у свекрови (какие все-таки мерзкие слова придуманы для семейной жизни!). Она могла прикидываться, будто забыла, даже и как резать хлеб.
И вот словно ее Бог наказал за притворство: она и в самом деле забыла, как застегивать пуговицы, как резать хлеб и даже для чего нужна ложка. Она помнила, что ложка как-то связана с едой, и перекладывала ее то слева, то справа от тарелки, а потом вдруг ее осеняло, и она погружала ложку в суп выпуклостью вверх. Но донести до рта уже не догадывалась.
Испытывая больше ужас, чем сострадание, Юля кидалась кормить ее с ложечки, но отец, изжелта-седой, спавший с лица, но все такой же достойный, как в стеклянной будке, останавливал ее: она должна сама вспоминать, а то она совсем разучится, — и просиживал с нею за столом буквально часами, подбадривая: ну же, милая, вспомни, это что такое? — правильно, ложка, а ну-ка окунай ее в супик, нет, не так, а вот теперь правильно, умница, а теперь неси ее в ротик, где у тебя ротик? — умница, нет, ротик нужно закрывать, дай-ка мы его вытрем…
В его надтреснутом басе звучало столько нежности, что казалось, эта нескончаемая пытка его нисколько не тяготит. Но в последние недели свекровь забыла, как пользоваться унитазом, а памперсы почему-то не желала надевать ни под каким видом, начинала по-детски всхлипывать и царапаться, — кап-два этого уже не выдерживал.
В доме у него царил флотский порядок, и обезумевшая жена всегда была чисто одета в мальчиковый тренировочный костюмчик, гладко причесана, и пегие, седые с рыжинкой волосы были собраны в аккуратный пучок (а вот ресницы оставались прежними). Но с сортирными делами он уже не справлялся, и Юля подозревала, что его добили не столько технические трудности, сколько унизительное безобразие этих процедур. Сама же она не могла не отдавать себе отчета, что в глубине души уже не считает свекровь человеком и тем более женщиной. Разумеется, она понимала, что всякого, кто хоть когда-то побывал в человеческом облике, нужно таковым и считать, точнее, делать вид, что считаешь, до конца его дней, но в глубине-то души невозможно не понимать, что служишь не этому существу, а некоему призраку, который у близких сохраняется в памяти, а у дальних только в воображении. Но однажды, бессмысленно глядя в телевизор, выжившая из ума исхудавшая ко-
кетка вдруг жалобно спросила у нее:
— А вы меня не бросите? Я же хорошо читаю, я еще умею читать…
Юля аж голову втянула в плечи от невыносимой жалости и тут же предложила Егору забрать его родителей в Петербург, их квартирища это позволяла. Но Егор не понимал красоты самоотверженных жестов:
— Зачем платить жизнью, если можно платить деньгами? Да и куда отца тащить от знакомых, от дружков… Найдем сиделок, при здешних зарплатах это не проблема.
Для Егора ни в чем не было проблемы. Уже на следующий день отыскались три сиделки с медицинским образованием для круглосуточного ухода, да еще и передан отцу списочек телефонов «кадрового резерва».
— Ты, батя, главное, не экономь. Шоковая терапия. Узнавай, сколько они на работе получают, и сразу давай в два раза больше. Можешь в три, деньги не проблема. Но шантажировать себя не позволяй, как только заикнутся о надбавке, указывай на дверь. Чтоб и пряник был побольше, но и кнут чтоб всегда висел перед глазами. Ну да что тебя учить, мы с тобой людей знаем.
Егор был о людях самого невысокого мнения, но это его почему-то нисколько не огорчало. Впрочем, какого благородства можно было ждать от физико-химических процессов?
Да и самим процессам ни к чему очень уж заноситься. В доме егоровских родителей для нее отдельной комнаты не нашлось, и они снова начали спать вместе, два процесса в одной постели. И правда, становится легче, если согревать друг друга среди обступивших и еще не отступивших ужасов. Да ужасы и не могут отступить, они всегда внутри нас, разные трубочки, проводочки, которые со временем непременно засоряются, перетираются, и мы превращаемся в идиотов и калек, а потом и мертвецов, это всего лишь вопрос очень недолгого времени.
Когда-то она возмечтала, что красота — это свобода, свобода от власти земли — от власти тяжести, жратвы, костей, требухи, чинов, бабла, и ничего она не видела прекраснее гимнаста, взлетающего, КАК ПТИЦА. Но ведь и птице нужно что-то клевать, но ведь и птица когда-нибудь устанет и опустится на землю, но ведь и птица когда-то состарится и умрет, только мы, на наше счастье, никогда этого не видим…
Она смотрела из темной комнаты на темный двор, где жгли осенние листья, отжившие и открасовавшиеся, но искры все еще боролись с властью земли, они стремились ввысь, но тяжесть и холод побеждали, искры меркли, и пепел опускался к земле, из которой вышел.
И вдруг с невидимых кораблей жахнул такой фонтан огня, что она присела. А за ним еще один, и еще, и еще — мощные огненные струи били в небеса и медленно стекали вниз постепенно угасающими огненными реками — власть земли и здесь брала свое. Но в пламенеющем небе продолжала парить стая огненных птиц.
Это были обычные чайки, жадные, горластые, не брезгующие кормиться с помоек, но сейчас они все до одной парили жар-птицами. Да, власть земли неодолима, но бывают вспышки, когда мы об этом на миг забываем, и эти-то вспышки, эти мгновения и превращают крикливых прожорливых пернатых в невесомых жар-птиц.
Вот это и есть красота — не сосуд и не огонь в сосуде, но мираж. Мираж свободы от земного рабства, мираж невесомости, мираж бесплотности, он является нам лишь редкими вспышками, но тот, кто их узрел, — только он и знает, что такое счастье.
У нее таких вспышек не было, и этого уже ничем не поправить.
Она даже не вздрогнула, когда Егор обнял ее за плечи, но лишь прильнула к нему с такой нежностью, какой никогда еще в себе не ощущала: рабы земли, обреченные безостановочному распаду, должны дорожить каждым мгновением, ибо в следующий или следующий за следующим миг они будут отняты друг у друга.
— Не знаешь, что за праздник сегодня? — тихо спросила она Егора, когда последние огненные реки стекли в море, а последние жар-птицы угасли.
— День согласия и примирения, — необыкновенно ласково ответил Егор, и она поняла, что он говорит про них.
Понимал, значит, все-таки что-то, дорогой ее орангутанчик…
Она и в аэропорту смотрела на пассажиров с такой нежностью и болью, словно они были безнадежно больными детишками, — ну что из того, что толстые, некрасивые, неприветливые, бестолковые, — засорится какая-то трубочка в двигателе, перетрется проводок — и от них останется один фарш, перемолотый вместе с костями и требухой...
Нетнетенететнет, не надо никакой красоты, только бы все оставались живы и не мучились! И дома в постели она Егора не столько ласкала, сколько проверяла, все ли у него на месте, все ли в порядке, — слава богу, все было на месте, все работало. А утром, чего с нею не случалось лет сто, застилая их огромную кровать, которую приходилось обегать со стороны ног, она про себя жизнерадостно напевала: «Хоть тучи разогнать нам трудно над землей, но можем мы любить друг друга сильней». Однако Егор что-то расслышал и спросил с ласковым смешком:
— Это ты пищишь?
— Я, — смущенно ответила она.
— Как будто гордая мышь, — он смотрел на нее даже не как отец на дочку, но как дедушка на внучку.
Он и правда уже начинал смахивать на дедушку в своем бухарском халате: и животик вполне приличный обозначился, и седины в утренней щетине и в поредевшей щеточке на голове уже под половину… Вот и хорошо, пусть лучше будет дедушкой, может, станет не до потаскушек. Главное, самой не сделаться бабушкой.
И она твердо решила записаться в фитнес-центр.
Какого еще нужно счастья, когда наконец можно всем вместе посидеть не торопясь за утренним кофе! Когда страшные звери, неотступно сопровождающие человека на его жизненном пути, хоть на полчаса спрятали свои клыки. Правильно бабы ее корили, что она зажралась: вот и муж непьющий и заботливый, и сын умный и порядочный…
Спортивный. Красивым она его назвать все-таки не решалась, предпочитала думать, что он обаятельный.
И хоть с милым рай и в шалаше, совсем не помешает, что и кухня такая просторная, и обставлена настоящей антикварной мебелью, а в доме как-то по-особенному тепло, оттого что на улице идет редкий, но крупный дождь, круги от капель разбегаются по асфальту живой кольчугой…
И тут сынуля преподнес новый сюрприз:
— Мама, поздравляю, ты скоро будешь бабушкой.
И вдруг это милое домашнее слово отозвалось в ней таким отчаянием, что она поняла: мечту о красоте никаким ужасам убить все-таки не удалось. Она просто съежилась и затаилась, но тут же восстала во весь рост, когда увидела, что ее собираются хоронить живьем: ведь в жизни бабушек уже ничего красивого случиться не может.
Сначала проводник ей очень понравился — рослый, хотя и полноватый, но — в замшевой куртке с бахромой и мокасинах, обшитых вампумом, настоящий Кожаный Чулок. И длинный карабин у него на плече был самый настоящий Оленебой.
Но чем дальше они забирались в темнеющие ущелья, тем чаще он прикладывался к фляжке и становился все развязнее и развязнее. Айра уже давно пожалела, что пошла с ним в горы, но возвращаться было поздно: спускалась ночь, а она была не уверена, что нашла бы дорогу обратно даже при свете дня. И на привале у обжигающего лицо костра случилось именно то, чего она страшилась: пьяный мужлан приложил к ее щеке сверкающий десантный нож и приказал ей лучше раздеться самой, если она хочет сохранить в целости свое хорошенькое личико. Она пыталась угрожать, говорила, что она доктор антропологии, что она дружит с губернатором штата, но негодяя это только забавляло:
— Давно хотел посмотреть, как эта штука у докторов устроена, а то все официантки да официантки! Так что, мне помочь?!.
Свободной рукой он рванул рубашку на ее груди, оторвав сразу несколько пуговиц.
— Помогите! — безнадежно закричала она, зная, что тот, на чьи поиски она отправилась, выбрал эти горные лабиринты именно потому, что в них не решаются углубляться даже альпинисты.
Насильник в ярости обрушился на нее всей своей тяжестью, и она уже была готова начать отчаянную безнадежную борьбу, как с изумлением поняла, что он лежит неподвижно. Айра попыталась высвободиться, но и это оказалось нелегко. Но внезапно чья-то сильная рука перевернула неподвижное тело, и Айра вновь вскрикнула от ужаса: над нею нависал мужчина с длинной бородой и темным водопадом волос.
Сильной рукой он властно поднял ее с земли.
— Мы должны уйти. Он сейчас очнется, и мне придется его убить. А мне больше не хочется никого убивать.
Она со страхом оглянулась на распростертое тело, и ее спаситель успокоил ее приятным мягким баритоном:
— Не беспокойтесь, я его только оглушил.
Сильной рукой он увлекал ее во тьму, подсказывая, где нужно ступать осторожнее, иногда он помогал ей куда-то спуститься, иногда куда-то подсаживал своими сильными, но нежными руками, и она уже не испытывала страха перед этим странным человеком, в котором ощущалось истинное благородство.
Хлынул холодный дождь, но они были уже у цели. При вспышке молнии она увидела расселину, протиснувшись в которую они оказались в чистой сухой пещере, в центре которой на жарком очаге тушилось жаркое из оленины, аромат которого открыл Айре, как она проголодалась.
— Переоденьтесь.
Гостеприимный хозяин пещеры бросил на ложе, покрытое медвежьей шкурой, чистую сухую одежду:
— Переоденьтесь полностью, иначе вы можете простудиться.
И отвернулся. В нем чувствовалось истинное благородство. И когда она осталась совершенно обнаженной в жарком свете яркого пламени, ей захотелось, чтобы он не был таким порядочным, а хотя бы на мгновение, как бы забывшись, обернулся. Она бы, конечно, вскрикнула и торопливо прикрылась, но он бы все равно успел разглядеть совершенство ее тела. Но ей доставило удовольствие забраться в его чистую сухую одежду, которую пришлось тут же подворачивать, вследствие чего Айра почувствовала себя хорошеньким мальчиком в отцовской одежде.
Между тем ее гостеприимный спаситель вел себя действительно подобно любящему отцу. Он угостил ее тушеной козлятиной из каменной миски и налил в глиняную кружку ароматного чая, заваренного из каких-то душистых горных трав.
— А теперь располагайтесь, завтра я покажу вам дорогу в город, — и он склонил свою красивую голову, чтобы выйти во тьму под холодный дождь.
В нем чувствовалось истинное благородство.
— Нет, нет, я не могу вас выгнать из собственного жилища! — запротестовала она. — Мы вполне можем разместиться вдвоем, я вижу, что вам можно доверять.
Ее спаситель горько усмехнулся:
— А между тем за мою голову назначена награда…
И Айра поняла, что перед нею именно тот, кого она искала. Она собирала материал для монографии о том, способен ли современный человек вести образ жизни Робинзона Крузо или хотя бы Натти Бампо, и ее заинтересовали рассказы местных жителей о том, будто в этих неприступных ущельях уже несколько лет скрывается от правосудия человек, застреливший полицейского.
И вот он перед ней! Красивый, великодушный, старающийся скрыть, что ему холодно в мокрой одежде, а сухую он отдал своей гостье, которую видит впервые в жизни. Нет, такой человек не может быть убийцей!
— Немедленно переоденьтесь! — приказала она ему и отвернулась к стене, покрытой оленьей шкурой.
Когда она решилась обернуться, его одежда рядом с ее одеждой уже сушилась у очага, а хозяин подбрасывал туда сухие ветки, завернутый в шкуру горного барана, не прикрывающую его стройные мускулистые ноги. Он был очень красив со своей гривой черных волос, пышной волной рассыпающихся по чистому сухому меху. Однако было видно, что он все еще с трудом скрывает дрожь.
— Немедленно лягте и завернитесь в медвежью шкуру! — повелительно приказала она. — Если вы заболеете, я себе этого не прощу!
Она уложила его на единственное ложе и завернула его в медвежью шкуру, ощущая этого сильного бесстрашного мужчину беспомощным ребенком, и подала ему душистого горячего чаю. Он жадно прильнул к целебному напитку. Его роскошные волосы красиво рассыпались по медвежье шкуре.
— Но как же вы, такой добрый и великодушный, могли убить человека! — в отчаянии вырвалось у нее.
Его ответная исповедь была исполнена такой мучительной искренности, что сомневаться в правдивости его слов было невозможно. Молодой многообещающий геолог Ричард Леннон открыл и застолбил в труднодоступном ущелье золотую жилу, которую попытались у него отнять местные гангстеры; отстреливаясь от них, он нечаянно убил шерифа, покровительствовавшего бандитам, и с тех пор он вынужден скрываться.
— Теперь твои приключения позади, губернатор проведет расследование, и все увидят, что ты ни в чем не виноват! — воскликнула Айра и, отбросив шкуры, в порыве необъяснимой нежности прильнула к его горячему атлетическому телу.
Ричард одним ударом вошел в нее, и Айра задохнулась от небывало острого возникшего в ней ощущения. Она невольно погрузила ногти в его мускулистые плечи, и по мере того, как торжествующий бег его фаллоса все ускорялся и ускорялся, из ее груди вырывались все более и более неудержимые стоны неги и наслаждения.
Об антропологии же больше не было и помину — стремительный бег фаллоса унес Айру прочь от всего земного.
Так-то, значит, нынче понимают красоту…
За красотой Юля отправилась в полуподвальчик в Спасском переулке неподалеку от ее дома-авианосца, приготовившегося рассечь Екатерининский канал, и обнаружила целый стеллажик карманного формата книжонок, зачитанных до тряпичного состояния. Полка потрепанного романтика.
Красота для подлых, как выражались в петровские времена, стоила недорого — по цене бутылки водки давали десяток романтических историй, которые вполне вписывались в рубрику «Путь к фаллосу»: с каких бы утонченностей и возвышенностей дело ни начиналось, заканчивалось оно непременно фаллосом, а утонченностей будто и вовсе не бывало.
Софи Уэнтуорт — блестящая виолончелистка, но разве на концерты ходят ради музыки!
Медленно раздвинулся занавес. Его движение казалось столь же чувственным, как прикосновение сильных мужских рук к женскому бархатному платью. А когда малиновое платье с низким вырезом открыло ее белую кремовую кожу, Софи ощутила, как публику охватывает желание. И она медленно поставила инструмент между ногами тем движением, которое один из самых настойчивых ее поклонников назвал соблазнительной смесью смелой непринужденности и потрясающей эротичности.
И все-таки находится красавец, который даже и с нею обращается свысока, сейчас она преподаст этому наглому хлыщу хороший урок! Но нет, куда там… Его руки скользнули вниз по спине, к бедрам, обхватили округлые ягодицы, прижали к своему естеству, и она застонала. Против природы не попрешь: с ее уст сорвался легкий стон блаженства, и она вновь отыскала руками его жезл.
Этому маршальскому жезлу повинуется все земное и неземное. Шотландскую Шарлотту Корде ради спасения полуистребленного англичанами шотландского клана выдают за английского офицера в ненавистном красном мундире. Она колеблется, не пронзить ли его кинжалом, однако убийца ее народа прильнул к губам террористки и целовал до тех пор, пока ее гневный крик не превратился в нежный вздох. Его настоящий талант заключался в способности убедить ее расстаться со своими запретами так же легко, как она рассталась со своей одеждой. Она вздохнула, когда он раздвинул пальцами нежные складки у нее между ног и проник внутрь.
Какие там могилы братьев и сестер! Юлю даже впервые в жизни посетило патриотическое подозрение, уж не в самом ли деле эти стеклянные бусы проникают с растленного Запада, а мы, скифы, держимся за подлинность?
В следующий заход она взяла пробу из родного бачка, и подлинностью шибануло с первой же страницы: «Я обеими ногами ударила его в живот, дядька слабо хрюкнул и осел в траву, а я ударила еще раз, теперь в голову». «Скромная воспитательница детского сада мечтала писать детективы. Попробовала — получилось», — значилось на обложке.
Мир распахнулся, простая русская девушка в какой-нибудь Вене уже чувствовала себя как дома: «Ты подлая свинья! Подонок! Чтоб тебе убиться на твоей тачке!»
Мечтали об открытости, и вот получите: они открыто лежат рядом на витрине, презервативы и жевательная резинка, — и то, и то резина. Какие тайны, вы чего?.. Какая свобода от мяса, ничего, кроме мяса, никогда не было, нет и не будет!
Но нет же, люди всегда мечтали о НЕЗЕМНОЙ красоте, НЕЗЕМНОЙ любви! И прежде всего женщины, она ведь и сама женщина, в конце концов! Нынешние мужчины, наверно, все вроде Егора. После того кошмара с внематочной беременностью она как-то сказала ему, что боль превращает человека в животное, а Егор неожиданно поинтересовался:
— Почему ты думаешь, что животные испытывают боль? Потому что они похожи на нас?
— Ну, они же кричат, спасаются…
— Когда на какой-нибудь подводной лодке начинается пожар, она тоже включает сирену, насосы… Значит, тоже кричит, спасается. Если нет сознания, нет и боли, есть только сигналы.
Он скажет, что и красота — это какие-то сигналы. Как и в своей водке, он не видит ничего, кроме химии, только смеется, когда слышит, что нужна вода из какихто особенных ключей, зерно с каких-то особенных полей, какие-то рецепты Древней Руси, — все сводится к химическим соединениям, и в пробирке их получить проще, чем в любых святых источниках.
Юля перебрала своих однокурсниц — никто ничем не блеснул, — ну, одна дослужилась до профессора, другая ведет какие-то липовые тренинги, как достичь успеха, которого почему-то не достигла сама… Выше прочих поднялись только шарлатанки, читающие в сердцах, умеющие будто бы распознать, для какого дела кто предназначен, кому быть дипломатом, а кому летчиком-испытателем. Белая Дьяволица изображала ясновидящую в отделе кадров Нефтегазхимбахтрахпрома, гребла, говорили, десять лямов в месяц… И уж так это было далеко от красоты!
К мужчинам она не примеривалась, да и с самого начала видно было, что ждать от них особенно нечего. Отличился, пожалуй, один только Дунькин, он всегда был масляный, жирный, распределял в студсовете какие-то талоны на питание, — больше ни на что не годился: поступил через рабфак, учился на тройки… Кто бы мог подумать, что для реальной жизни это и потребуется — глупость и наглость. При наступлении свободы он тут же открыл общество естественной жизни, а эра Интернета уже распахнула эту естественность городу и миру во всей ее отвратности. Голые, жирные, похожие на тюленье лежбище, только в миллион раз противнее… Природа не показывает голую задницу. Однако в сторонке на песочке Юля разглядела и худенькую голенькую Симочку Веретенникову — Дунькин и к такому свальному безобразию, стало быть, сумел ее принудить.
Когда Юля совсем пока недолго проработала в судебке, она встретила на Литейном близ Большого дома Симочку еще более бледную и несчастную, чем в университете. Зашли в кафешку, и Сима ей призналась, что Дунькин привел в дом другую женщину и они теперь живут втроем, потому что природа не знает ревности, а мы должны возвращаться к природе. А Юля как раз занималась подобной же сектой
«возвращенцев», один из которых, грубоватый напористый парень с бычьей шеей, под тем же лозунгом «Долой стыд!» стал открыто уходить от молодой жены ночевать у другой «возвращенки». Жена, разумеется, была выше такой неестественной вещи, как моногамия, но однажды муж ушел к любовнице, а она повесилась.
Иных людей легче убить, чем превратить в животных — в тот раз она страшно испугалась за Симу: беги от него как можно быстрее, он тебя убьет!.. Это теперь она знает, что никогда нельзя знать, что кого убьет, а что спасет — вот лежит же она теперь в голом виде на обозрение всей сети…
О, надо пошарить в Интернете, там людям притворяться вроде бы незачем, все равно никто не видит. Люди свободны там, где за выдумки ничего не платят. Она давно заглядывала в сети для разных справочных дел и снова убедилась, что от мира, где людям не требуется притворяться, лучше держаться подальше, — слишком уж много там было хамства и вранья. Но ведь там, где можно не стесняться своего безобразия, быть может, кто-то не постесняется и своей красоты? Хотя бы своих представлений о красоте, а психология и должна заниматься тем, что людям кажется.
Она долго блуждала по сетевым просторам. Там оказалось куда больше советов, как ладить со свекровью или готовить салат, и вообще сетевых женщин гораздо больше интересовало здоровье, чем красота. Однако наткнулась она и на целое «Древо
красоты», разросшееся пышными ветвями «Макияж», «Маникюр», «Прически»,
«Диеты», «Ароматы», «Уход за собой».
Последнюю ветвь вполне можно было считать корневищем древа. А значит, оно и не имело отношения к красоте, ибо красота заставляет не ухаживать за собой, а забыть о себе. Красота свободна от всего земного.
Но набрела она и на урочище, где народ охотился за аплодисментами. Там можно было выступить с любым номером, блеснуть эрудицией или задницей, автомобилем или турпоездкой, кулинарным или художественным вкусом, и первый чаще всего подкреплялся фотографией роскошного блюда, а второй — фотографией цветов или картинами лесов, полей и рек или озер. В них тоже в основном царила тишь, гладь и благодать.
Больше всех шлепков получали женские задницы, за ними шли блюда, автомобилям тоже кое-что перепадало («мерседесы» и «тойоты» унося по сонным волнам…), умникам доставалось два-три жидких хлопка.
Однако Юля невольно задерживалась на закатах — то кроваво-рубиновых, то нежно-розовых, как первый румянец на яблочке, но это была воистину неземная красота, ни съесть, ни выпить, ни поцеловать. Однако тревожное замирание в груди тут же заставляло ее улизнуть поскорее от этих щелочек в безмерность, которую не в силах вместить крошечное людское воображеньице. Ей требовалась красота человеческой, а лучше женской жизни, — такая красота ускользнула из сети, пришел невод с травою морскою.
Она не представляла, где размещаются эти охотники за аплодисментами и существуют ли они вообще. В электронной почте ей попадалось на глаза загадочное предложение «запомнить в облако»; Егор пытался ей объяснить, что это такое, но ей сразу же надоело: серверы, юзеры… Ей было интереснее воображать этих юзеров окутанными бескрайним облаком, в которое можно в нужном месте подуть, и откроется дверка с картинкой, — ею хозяин облачной норки хочет что-то о себе сообщить, какой он мечтательный или суровый, красивый или намеренно безобразный, есть и такие гордецы: не желаю, мол, для вас наряжаться, лопайте, что дают, или валите отсюда, с ними заговаривать, хватает ли им в жизни красоты, бесполезно, они уже ответили: для себя я всякий красив, а кому не нравится, идите на все четыре буквы. Есть и такие самовосхищенные, что купаются в красоте с утра до вечера и даже ночью снятся себе очаровательными кошечками или надменными львами. Но вот это явно человек серьезный, выпускник Академии художеств, темные очки, трагический бодлеровский рот…
— Скажите, пожалуйста, вас не посещает чувство, что нашей жизни недостает красоты?
— Какая может быть красота после того погрома, который евреи учинили над русской культурой?! Вы сами, случайно, не из них?!
Может быть, что-то скажет дама, представившая себя мелкими белыми цветочками? Нет, очень уж они мясистые, прямо попкорн.
Лучше вот эта — изможденная, одухотворенная, кормит с ладони белочку, изучала математику. Наверно, умная.
— Скажите, пожалуйста, вас не посещает?..
— А что вы называете красотой, давайте сначала договоримся о терминах. Красота, по-вашему, относится к разряду категорий или предикатов?
Нет, эта чересчур умна, вот у этой и щечки покруглее, и в глазах больше доброты, чем ума. И изучала все-таки не математику, а классическую филологию. Ведь и само слово «классическая» как-то перекликается с красотой.
— О какой красоте может идти речь при этом кровавом режиме? Когда лучших людей убивают, когда растоптана демократия, население зомбировано, когда за границей стыдно признаться, что ты русская?
Юле даже ненадолго сделалось стыдно от того, что ей совсем не стыдно. Пожалуй, лучше поискать среди не столь возвышенных. Говорят, молодые более циничны, но вот этот, с одной стороны, еще молодой, а с другой — не дилер, а дизайнер. На всякий случай она представилась студенческой фотографией — к молодым испытывают больше доверия.
— Я всегда восхищалась дизайнерами. Романтики мечтают о неземной красоте, а дизайнеры создают красоту на земле.
— Я не просто дизайнер, я человек с невероятным творческим потенциалом. Я сочиняю музыку, пишу стихи, рассказы, из меня просто прет. Не могу полностью выложиться в чем-то одном. Но ты же знаешь, кто сегодня считается знаменитым, везде же все проплачено!
Оказалось, он учился в одном классе с какой-то эстрадной певицей (что-то вроде бы краем уха слышала), и его бесит, что ее поклонники и поклонницы постоянно набиваются в его френды, чтобы получить какие-то ее вещички или автографы, а его творчеством совсем не интересуются. Юля поделилась с ним своей давней мыслью, что цивилизация есть движение от дикости к пошлости, к тиражированию и удешевлению красоты, и он ответил, что она, кажется, что-то понимает, и обещал послать ей свои стихи. Однако назавтра постучался к ней с совершенно другим вопросом:
— У меня сколько сейчас времени? Никак в инфо время не установлю. Так что у тебя написано, сколько у меня сейчас времени? Ага, ладно...
И пропал. На следующий день постучалась к нему она:
— Как жизнь, чем ты сейчас занимаешься?
— Честно?
— Конечно.
— Мастурбирую.
— Почему? Девушки нет или так больше нравится?
— Девушек навалом, но у меня слишком изысканный вкус. Я решил, что и с тобой разговаривать все-таки не буду, мне твоя внешность не понравилась. Хотя ты довольно забавная.
В судебке Юля ко всякому привыкла: если хочешь работать с подэкспертным, нужно давать ему возможность покрасоваться; то, чем люди красуются, часто говорит о них больше, чем то, что они делают в реальности, — ведь именно в позерстве раскрываются их идеалы.
— Так поставь на монитор любую фотку, которая тебе нравится, и считай, что это я. Все равно же ты не знаешь, настоящую я свою фотографию выставила или чужую.
— Не хочу. Все равно теперь меня будет мучить совесть, что я так грубо разговаривал с девушкой, я тебя сейчас все-таки в игнор занесу. И вообще советую тебе удалить из инфо твою фотку и никому не показывать, пока настойчиво не потребуют. И вообще — зачем ты ко мне постучалась, у меня теперь настроение испортилось. Хотя с тобой интересно разговаривать, зря ты мне показала свою фотку.
— А что тебе на моей фотке не понравилось?
— Глаза маловаты, шея слишком длинная…
— Это ты брось. Я в подростковом возрасте считала себя некрасивой и всю себя перемерила — все оказалось в пределах нормы.
— А мне требуется за пределами. Глаза должны быть в пол-лица. Все, прощай, я тебя отключаю.
Ее это не особенно задело, она уже давно убедилась, что все у нее более или менее нормальное. Но все-таки спросила у Егора:
— Ты бы хотел, чтобы я была красавица?
— Зачем это, одна лишняя морока.
— А я, по-твоему, некрасивая?
— Красивая, красивая, суслик самый красивый.
Он не скрывал, что считает эти вопросы глупыми и детскими, и такими они, повидимому, и были. Ведь она вроде бы уже когда-то про что-то подобное его спрашивала? Или это дежавю?
Она вспомнила, что доверие лучше всего покупать откровенностью, и попыталась растрогать обитателей облака самыми драгоценными своими вспышками-потрясениями, когда красота в одну минуту оборачивалась ужасом.
Пшеница золотая, едва не поглотившая ее, как и море с рюшечками, — за пшеницу три жиденьких хлопка, за море пять.
Ослепительный петух, обратившийся в страшного зверя, а потом в еще более ужасную жертву казни, — одиннадцать хлопков.
Прыгучий горный ручей, представший смертоносным мутным потоком, — восемь хлопков. Любая задница собирала раз в двадцать более шумную жатву.
Чудо калейдоскопа, скучные цветные стекляшки, обращающиеся в дивные узоры, отразившись в скучных полосках стекла, — это чудо и вовсе не нашло ни единого отклика. При том, что играющий или дремлющий котенок вызывал овацию.
Неужели мастурбирующий эстет все-таки прав: людям нужна не красивая жизнь, а красивая физиономия?..
Оказалось, где-то в облаке дремала и Спящая Красавица, и глаза у нее действительно были в пол-лица, а шея не короткая и не длинная, а совершенная. И лицо ее казалось не сосудом, в котором пустота, а хранилищем тайны: воображение не терпит пустоты.
В новом обличье Спящей Красавицы — пусть думают, что это у нее глаза в поллица, — Юля пошла в новую атаку. Она сообщила, что кушала за завтраком сырники — это вызвало бурю восторгов. Ее настольная лампа, ее кухня, ее тапочки — с этой минуты все вызывало овации. И тогда она решила признаться в страшной тайне: много лет назад ее пытались изнасиловать трое незнакомых мужчин, и она в порыве гнева убила всех троих. А теперь ее мучает — трудно даже сказать, раскаяние ли это, но мучительное желание открыться и покаяться.
Первым же откликом было восхищение: какая вы удивительная женщина, вот так бы и всем нам научиться вступаться за свою честь, я много раз испытывал желание убить своих обидчиков, но не решался, а вы решились, честь вам за это и хвала, это урок нам всем, нельзя ли с вами познакомиться в реале? Потом, конечно, прорезался и нудный бубнеж, что человеческая жизнь-де священна, а ей нужно снять грех с души и пострадать, но сразу было видно, что те, кто нудит, только повторяют чужие слова, а те, кто восхищаются, восхищаются от души.
Тогда она поделилась другой заботой: она романтическая натура, жаждущая захватывающих страстей и экзотических впечатлений, а ее муж очень порядочный, но слишком рациональный человек и больше всего любит отдыхать на даче. Она много лет это терпела, особенно когда дети были маленькие, но вот год назад ее страстно полюбил умный красивый мужчина, работающий в городской администрации. Она долго отвергала его ухаживания, но когда он начал умолять ее отправиться с нею в круиз по Средиземному морю, она сдалась, но лишь при
условии, что у них будут отдельные каюты. Однако влюбленный безумец схитрил: он снял каюту-люкс, так что в итоге у них оказались разные спальни, но общая гостиная с балконом. Лайнер задерживался в крупных портах, и они побывали и в Риме, и во Флоренции, и на Мальте, и на Сицилии, и в Марселе, и в Барселоне, и он всюду проявлял такую нежность и эрудированность, что в Лиссабоне и она потеряла голову, и дальнейшее плавание пролетело как упоительный сон. И когда они в Гамбурге несколько минут не могли оторваться друг от друга, хотя уж была объявлена посадка (им пришлось возвращаться домой разными рейсами), она была уверена, что эти недели останутся самым прекрасным воспоминанием ее жизни. Но, к ужасу ее, оказалось, что на ее возлюбленного прямо у трапа самолета надели наручники: он потратил на круиз средства, выделенные для ремонта детских садов. И теперь ее мучает совесть, что это она невольно его спровоцировала. Ведь она должна была подумать, откуда даже и у высокопоставленного чиновника такие деньги, но ей так хотелось повидать волшебные края, о которых уже не смела и мечтать, что она заглушила в себе сомнения. И как же ей теперь справиться с муками совести?
И снова упреки дышали завистью и занудством, а восторги сверкали неподдельностью: «Он сам должен был соображать!», «Зато погулял!!», «За любовь такой женщины и отсидеть не жалко!!!», а целых пятеро предлагали ей тут же отправиться в новый круиз.
Когда же кружок поклонников полностью одобрил заключение ее выжившей из ума свекрови в дом престарелых, она поняла, что нет такого преступления, которого в глазах очень многих не оправдала бы красота.
И Юля поняла, что пора сдаваться. Красота непобедима. И надо смириться с тем, что ничего красивого в ее жизни так и не будет. Нужно беречь хотя бы благополучие. У бабушек тоже есть свои радости — внуки, внучки, так жалко отца, что он совсем перестал интересоваться их жизнью и на попытки порадовать его успехами Егорушки лишь повторяет монотонно: да, молодец, умница, поцелуй его за меня, — только плакать хочется. Он все время там, за быстрой рекою…
Как подумаешь о нем, сразу начинают катиться слезы. И лишь наполовину слезы сострадания. А на другую половину — восхищения. Как красива его преданность! Когда начинаешь рассказывать бабам на работе, сразу тянутся за платками. А в глазенках загорается — да, да, зависть! Хоть и все они тоже без пяти минут бабушки.
А что скажет о бабушках облако? Я спросил у облака…
И облако извергло живую картинку: страшную иссохлую старуху драли трое мускулистых жеребцов — торчали мослы, мотались мешочки и фартуки обвисшей кожи… Она, оцепенев, смотрела на эту мерзость довольно долго: забыла от ужаса не только о том, как это выключается, но даже и о том, что можно просто зажмуриться.
И, уже не скрывая лица, набарабанила всем, всем, всем коротенькую исповедь, как она мечтала прожить пусть трудную и опасную, но прекрасную жизнь, такую, какая только и считалась достойной человека на полке юного романтика. Но ничего красивого в ее жизни так и не произошло, а теперь уже и не произойдет, прощайте, с этой минуты она только бабушка, и ее дело вязать внукам носки, раз и навсегда забыв, что когда-то и она о чем-то грезила.
И вдруг из облака раздался голос, обращенный уже только к ней. Это был голос вовсе не ангельский, человеческий, но люди на земле с нею никогда так не говорили. «Как меня растрогала Ваша искренность, — писал незнакомец, — я уже не верил, что такие женщины еще существуют, спасибо Вам, теперь, когда я снова начну терять веру в людей, я буду оглядываться на ваш огонек. И если я даже его
больше не увижу, я буду напоминать себе: если он был, значит, он и сейчас гдето светится».
Сначала Юля была скорее смущена, чем обрадована: как-то это странно… И решила не отвечать. Но дня через три, видя, что хорошее настроение не проходит, ответила коротко: «Спасибо. После Вашего письма мне жилось теплее, чем всегда». Так и началась их переписка.
Юля и сама не заметила, как на нее подсела. Она и не подозревала, до чего это приятно — рассказывать о пустяках, когда тебя рады слушать. Простодушные дети готовы, захлебываясь, рассказывать первому встречному, от какой страшной собаки они только что спаслись, как им удалось чуть-чуть не поймать воробья и какой интересный сон им привиделся сегодня ночью. Но когда их отошьет первый, второй и десятый встречный, а потом еще и папа с мамой не раз и не два выговорят, чтобы они не надоедали своими пустяками, они понемногу и сами начинают верить, что это пустяки, — до тех пор, пока кто-то не скажет им, что все это ужасно интересно, и не начнет просить, чтобы они рассказывали еще и еще.
Для Егора в ее жизни было важно только важное, а сейчас она ощутила, что важно буквально каждое мгновение ее жизни, теперь она вглядывалась во все, что с нею происходило, потому что буквально каждый ее чих был дорог ее незримому собеседнику, теперь она не только жила, но еще и постоянно готовилась рассказать об этом, и готовиться к рассказу оказалось едва ли не интереснее, чем просто жить.
Самым большим удовольствием было рассказывать именно о пустяках, но иногда она не удерживалась и делилась какими-нибудь особо выдающимися ужасами судебки: молодые папа с мамой, которым их дитя мешало пировать своим надрывным криком, положили его на шоссе в надежде, что во мраке ночи водители его не разглядят. Подобным штукам она даже и не ужасалась по-настоящему, потому что в глубине души не верила, что это правда, но ее невидимый друг ужасался более чем всерьез и неустанно дивился ее мужеству: как она может жить среди людей, зная, на что они способны?!. И сам же отвечал: она так и осталась юным романтиком, такие люди, как она, и являются солью земли, только они и хранят веру в красоту. Временами она спохватывалась: что я все о себе да о себе, почему ты мне ничего о себе не рассказываешь (они были уже на «ты»), но он добродушно отмахивался: в моей жизни нет совершенно ничего интересного, кроме тебя, но ты так осветила мою жизнь, что мне и житейская дребедень сделалась не в тягость, а если уж станет совсем муторно, я вспоминаю, что вечером меня ждет разговор с тобой, а перед сном я даже позволю себе такую роскошь, как попрощаться с твоей фото-
графией, и, значит, мне и назавтра будет чего ждать.
Но у меня же маленькие глаза, иногда принималась кокетничать она, чтобы понежиться в ответном горячем потоке: «Нет, твои глаза огромны и глубоки, как озера, в них видна твоя прекрасная душа!» — «Но у меня же слишком длинная шея…» — «Нет, она делает тебя похожей на женщин Модильяни!»
А что, совсем неплохо быть женщиной Модильяни, хоть они красотою и не блещут.
Понемногу тем не менее ей начало казаться неполноценным слишком уж бесплотное общение. Разумеется, ей и в голову не приходила мысль об «измене», их отношения именно тем и были пленительны, что даже не покушались выйти за чисто духовные пределы. Но почему бы не доставить друг другу невинную радость услышать живой голос, посмотреть друг другу в глаза?..
К ее удивлению, однако, ее друг принялся прямо-таки умолять ее не ставить на карту чудом выпавшее ему счастье, не желать большего, чтобы ненароком не
потерять все. Но почему мы должны что-то потерять только из-за того, что посидим в каком-то приятном месте, выпьем по чашечке хорошего кофе, не понимала она, а если у него трудности с деньгами, он может этого не стыдиться, они же друзья, а для нее подобные суммы совершенно не чувствительны, — и в конце концов он признался: он настолько безобразен, что она наверняка проникнется к нему отвращением, и он лишится той единственной радости, которая только и освещала его одинокие дни.
Ха-ха-ха, ответила она, какие подростковые комплексы, разве он не знает, что внешность для мужчины не имеет никакого значения, например, косоглазие — разве это не прелесть? А горб — это так элегантно! Чтобы он знал: с самой ранней юности ее любимым героем был Квазимодо. Ты только так говоришь, возражал упрямец, а если бы ты увидела настоящего Квазимодо с его клыком, горбом и бородавкой вместо глаза, ты бежала бы со всех ног куда глаза глядят. Давай поступим, как в «Аленьком цветочке», пыталась развеселить его она: сначала ты покажешься мне издали, а когда я приду в сознание, подойдешь чуть ближе… «Если бы ты меня действительно увидела, у тебя сразу же пропала бы охота шутить», — не принимал он легкомысленного тона, но она не сдавалась и то ласковыми уговорами, то упреками, что он считает ее глупой вертихвосткой, неспособной разглядеть духовную красоту за пусть даже и не слишком блистательной внешностью, — в конце концов ей удалось преодолеть его сопротивление, и он дал согласие на встречу.
Поставив лишь одно условие: она должна прийти к нему домой; если они встретятся в общественном месте и она бросится наутек, — такого унижения он просто не перенесет.
К письму был приложен адрес, — она и не знала, что в Петербурге есть такая улица. В день свидания со своим Квазимодо у нее сердце билось так радостно, как в юности… никогда не билось. И подэкспертный попался удачный, добродушный и дураковатый, будет чем посмешить. Ей так хотелось с кем-то поделиться своей радостью, что она даже поддержала разговор с Чижовым о всеобщем воровстве: жалко, в сущности, беднягу — так не пощадить своей красоты, из мраморного красавца превратиться в лилового завистника. В благодарность Чижов рассказал, что на днях пришла ориентировка на очередного маньяка: заводит знакомства с женщинами по
Интернету, заманивает в укромные места и там душит.
Хорошенькое дело… Радостное сердцебиение превратилось в тревожное. Вряд ли, конечно, это он, но даже одного шанса из тысячи хватило испортить предвкушение. Но не отказываться же от приключения, ведь в первый раз в жизни ей выпало что-то романтичное! И, что гораздо важнее, — в последний.
Задыхаясь от страха, с колотящимся сердцем она почти бежала вдоль нескончаемого бетонного забора, за которым что-то гудело, шипело, вспыхивало, как в папиной мастерской в Изобильном, только в десять раз сильнее. Слева от нее темнели обшарпанные пятиэтажки, где не горело ни единого окна, хотя уличные фонари уже теплились: осенью темнеет рано.
Дом ее застенчивого Квазимодо оказался самым страшным: в издыхающем свете фонарей чернели целые материки обвалившейся штукатурки, но темные окна были еще непрогляднее. «Беги, беги, здесь же явно никто не живет!» — пытались докричаться до нее остатки разума, но овладевшая ею сила влекла ее вперед, увиливая от прямого спора: ничего-ничего, я только войду в подъезд и сразу обратно.
Вот оно, оказывается, какое, состояние аффекта, равнодушно мелькнуло в голове.
В мертвецки-бледном лучике из мобильного телефона на облупленных стенах были видны бессмысленные росписи, намалеванные какой-то адской смолой. «Беги, чего тебе еще нужно?!» — «Я только посмотрю на дверь и сразу же вниз». Голый бетон ступеней был покрыт окаменелым мусором, но она следила лишь за тем, чтобы не вляпаться во что-нибудь; сердце било колоколом на весь подъезд.
Вот и нужная дверь, вся обугленная и растрескавшаяся, как черепаха, старый советский звонок болтается на проводке. «Беги, беги!!!» — «Я только позвоню, он же наверняка не работает, я только проверю и сразу же вниз».
Звон оглушил ее, но подкосившиеся ноги словно вросли в загаженный бетон. «Беги, беги, беги, беги!!!!!!!..» — но она не могла сдвинуться с места.
Дверь медленно отворилась, за нею было светло, как солнечным днем. И в свете невидимого солнца пред нею предстало чудище безобразное — на кривых-то на руках когти звериные, спереди-сзади горбы верблюжие…
Она зажмурилась и помотала головой, чтобы отогнать этот морок, поймала уворачивающийся звонок, прижала его к ободранной стене и надавила на белую кнопку.
Звон оглушил ее, но подкосившиеся ноги словно вросли в загаженный бетон. «Беги, беги, беги, беги!!!!!!!..» — но она не могла сдвинуться с места.
Дверь медленно отворилась, за нею было светло, как солнечным днем. И в свете невидимого солнца пред нею предстал — ЕГОР! Как она не подумала, что ведь и он мог читать ее признания и разговаривать с нею из облака!
Но нет, Егор не стал бы хитрить, он бы сразу поговорил с нею, как с запутавшимся ребенком, к женщинам он вообще снисходителен, как к детям, за то они его и любят. Она зажмурилась и помотала головой, чтобы отогнать этот морок, поймала уво-
рачивающийся звонок, прижала его к ободранной стене и только-только хотела надавить на белую кнопку, как кто-то невероятно сильный накинул ей сзади на горло что-то холодное и режущее (гитарная струна, каким-то чудом догадалась она) и опрокинул себе на грудь. В глазах стремительно потемнело, но она еще успела увидеть, как дверь медленно отворилась, и за нею открылся целый мир, невероятно прекрасный и невероятно грозный. Он уходил наклонно вверх, как пойма Убагана, но ему не было конца, и он безостановочно менялся, словно узоры во вращающемся калейдоскопе.
Золотое-презолотое пшеничное поле спустя мгновение окружило ее и укрыло с головой дождем зерна, и она поняла, что сейчас в нем утонет и задохнется, как несчастный Гольц, но это не вызвало в ней ужаса, было просто интересно, что будет дальше, и калейдоскоп не обманул, она оказалась на берегу лазурнейшего океана, вместо прибоя, обшитого пышнейшими кружевами метровой толщины, но не успела она разнежиться, как из океана поднялась гигантская волна высотою в горный хребет и, стремительно докатившись до берега, накрыла ее, закувыркала и потащила за собой. Она пыталась сопротивляться, но не слабым человеческим ручонкам было бороться с этой вселенской мощью, она лишь держалась изо всех сил, чтобы не вдохнуть неправдоподобно прозрачной изумрудной воды. А когда кончились силы задыхаться, она простилась с жизнью и вдохнула полной грудью.
Это было никогда еще не испытанное наслаждение — после стольких часов удушья вдохнуть всей грудью прохладный горный воздух. Над нею сияло лазурнейшее небо акдалинского вокзала, сама она стояла на берегу прозрачнейшего прыгучего ручья, а впереди, в распахе изумрудного ущелья возносилась выше небес снежная вершина, склоны которой то золотились, то переливались всеми цветами радуги, словно исполинская петушиная шея.
И вдруг безмятежная вершина взорвалась с ничуть ее не испугавшим громом утысячеренного папиного пресса, и из нее жахнул неохватный столб алой крови,
в считанные мгновения залившей небосвод, и все вокруг сделалось кровавым. Однако не успела она забеспокоиться, как кровь стекла к горизонту, превратившись в рубиновый закат воистину неземной красоты, и она поняла, что такое неземная красота: это красота мира без человека. Бесчеловечная красота.
Так вот оно что! Так вот о чем мы грезим! И как же тщетно нашу мечту о красоте мы связываем с человеком, маленьким и бессильным… Красота, которую мужчины и женщины ищут друг в друге, лишь жалкий отблеск той красоты, которая чудится нам в наших мечтах, ибо грезим мы не о мизерном человечке, но о прекрасном и грозном мире, в котором грозное, как в музыке, и есть самое прекрасное. Красоту, которой мы жаждем, может подарить разве что вселенная.
А может быть, не в силах даже она.
Меж тем рубиновый закат раздвинулся, подобно театральному занавесу, и ей открылась быстрая, но совершенно гладкая, как стекло, река, без всякого берега переходящая в бесконечную, даже без горизонта равнину, удивительно ровно, будто стол зеленым сукном, покрытую нежной зеленой травкой, по которой с мечтательными улыбками на отрешенных прекрасных лицах вечно гуляли какие-то люди в чем-то светлом и легком, и сами они были такие невесомые, что и травка под ними не шевелилась. И хотя до них было далеко, как до луны, она узнала среди них и маму, точно такую же, как в жизни, но каким-то чудесным образом невероятно красивую. И совсем не строгую. Но и не растроганную. А просто неземную.
Она перевела взгляд на ближний берег и, несмотря на невероятную даль, узнала папу, спешащего к реке в своем расстегнутом гэдээровском пиджаке, и, хотя папа был обращен к ней спиной, она все равно видела, что лицо у него молодое и бесшабашное, как будто он отплясывает барыню, барыню, сударыню-барыню. Потряхивая чубом, черным и блестящим, как перекаленные стружки, он перепрыгивал с кочки на кочку по какой-то мусорной свалке, ничуть не опасаясь во что-то вляпаться, потому что земная грязь его больше не касалась. Он допрыгал до реки и спокойно зашагал по воде, которая лишь слегка вдавливалась под его ногами не глубже пружинного матраца. И течение его совершенно не сносило. А когда он вышел на берег, нежная травка под ним тоже лишь едва прогибалась. Легкой молодой походочкой он спешил навстречу маме, но чем ближе к ней он подходил, тем отрешеннее и прекраснее становилось его лицо и тем незаметнее шевелилась под ним трава.
А когда они совсем сблизились, трава под его ногами и вовсе перестала шевелиться, и, не узнав друг друга, они разминулись и пошли каждый своей дорогой.
Fueled by Johannes Gensfleisch zur Laden zum Gutenberg




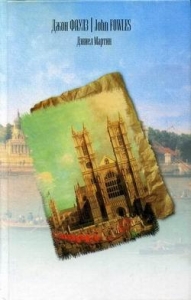





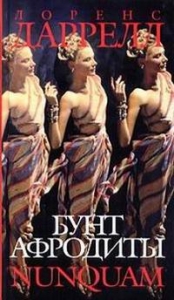
![Разумная дзевачка [Маленькая аповесьць пра адно дзяцінства]](https://www.4italka.su/images/articles/502878/primary-medium.jpg)
Комментарии к книге «Свидание с Квазимодо (журнальный вариант)», Александр Мотельевич Мелихов
Всего 0 комментариев