Свое и чужое время
ПОВЕСТИ
СТО ПЕРВЫЙ КИЛОМЕТР
М. Бирюковой
За сто первым километром от Москвы, притулившись одним боком к полустанку, утонувшему в шумящих березовых кружевах, другим — к лесу, протянувшемуся до смачной синевы горизонта, стояла деревня Федюнино, и двадцатью хорошо ухоженными избами и подворьями, и крашеными оградами палисадников, и потемневшими срубами колодцев являла собой картину благословенного, затерянного уголка в удивительной близости с цивильным, что называется, миром.
В то теплое майское утро, с бесконечными переездами с места на место, преследуемые закорючкой закона, мы оказались на свежеукатанной тропе, петлявшей через все гречишное поле и убегавшей в деревню. Поезд, следовавший на Иваново, промелькнул за дальним перелеском и прощально прогудел, словно обещая нам спокойную тихую жизнь в этом благодатном углу, куда забросила нас нужда колхоза и алчность нашего бригадира, попросту — бугра.
Полубригада из шести человек, неся необходимое в дороге барахлишко в портфелях и рюкзаках, гуськом потянулась по тропе в деревню, вдыхая давно позабытый дух вольности, исходивший от бесконечных просторов и самой тишины, густой и вязкой, обжигающей душу неизъяснимой немотой тоски и скорби по утраченному в суете бытию.
Вожаком шел дядя Ваня, инвалид Отечественной войны. Бухал по пыльной тропе самодельным протезом, отбрыкивался игривым стригунком, будто норовя лягнуть идущего следом.
За ним следовал Гришка Распутин, кряжистый здоровяк лет шестидесяти, выпивоха и бабник до бесстыдства в свои дедовские годы. Вот и теперь, вздыхая о водке, кривил в усмешке губы, поминая на всяком слове бабу.
— Свой-то размер я завсегда найду! — густо басил он и, тешась, видно, мыслью о бабе, раскатисто подхохатывал. — Вот вам, кобели вонючие, трудновато придется: молодух раз-два и обчелся. — И, ругнувшись забористо, весело закончил: — Придется вам крепко потузить друг друга.
Нам — это значит Сергею Кононову, Синему, получившему свое прозвище за цвет лица, мне и самому молодому из нас — новичку в нашем деле — Лешке, белокурому и статному парню с крупными девичьими голубыми глазами, светящимися неуемной радостью на скорбном лице.
Поднявшись с тропы на небольшую улочку, вдоль которой по левую сторону тянулись избы лицом в открытое поле, откуда, в свою очередь, с некоторого отдаления глядели на деревню два строения, стоявшие особняком, — одно мастерская, другое сельмаг, — мы остановились. Сейчас между этими строениями из кирпича и побуревших от времени досок носились осипшие сойки. Они летали между ветел, некогда украшавших небольшой ручей, уже обмелевший до коричневой жижицы! И поросший по краям высокими лопухами.
— Запамятовал, что ли, Ваня? — улыбнулся Гришка Распутин, кося глазами на сельмаг. — Али старуха с утра мозги растужурила?
— Кажись, — бормотал дядя Ваня, смущенно разглядывая избу. — В палисаднике береза стояла, а тут — осина…
— Начинается старая пластинка, — вступил в разговор Синий, набухая нетерпением. — Береза… осина… Все как у детей… Да не моргай же ты теленком, а глянь как следует… Ешкалэмэнэ…
Дядя Ваня, еще больше сконфуженный Синим беспокойно косился, но так и не мог взять в толк, идти ли дальше или входить во двор, перед которым стояли.
— Вань, может, дать на пузырек, чтоб прояснилось в твоей сонной башке? — подтрунивал Кононов. — Да не красней ты как девица! — И он полез в карман за бумажником.
Между тем, пока в голове дяди Вани прояснялось от упоминания о желанном пузырьке, из избы вышла молодая женщина в черных брюках и синей блузке и решительно направилась к нам, не скрывая улыбки.
— Опять, что ли, дядя Ваня, не признал?
— Не признал! — счастливо отозвался дядя Ваня, потея оспой побитым лицом, и тронулся навстречу женщине, лягаясь обрубком протеза, теперь уже намеренно, в отместку за насмешку. — Вот они здеся, все мои меренья! Выбирай, коли приглянутся…
Взглянув на нас через опыт своих лет чуть заметным прищуром, женщина в тихой раздумчивости проговорила:
— А что из мереньев-то выбирать, дядя Ваня? Так и так мерином обзаведешься! — И, тихонько притворив за нами калитку, устало улыбнулась.
Изба оказалась довольно просторной и светлой.
Поделенная на три комнаты и одну «темницу» с крохотным оконцем во двор, она вмещала тот необходимый недостаток крестьянского быта, который и был предусмотрительным предком рассчитан на рост семьи…
В «темнице» светила электрическая лампа, подвешенная не посередке, а ближе к углу, где стоял широченный топчан, окрещенный Кононовым и Синим площадкой для игры в кошки-мышки.
В просторной комнате с русской печью и крашеными полатями была расставлена вся мебель, какая имелась: раздвижной диван, кушетка, стол и дюжина стульев с высокими спинками. На стыке с русской печью за узеньким коридорчиком располагались две спальные комнаты — родительская и детская. В детской стояли швейная ножная машинка и серый фибровый чемодан, побывавший в дорожных передрягах. Родительская, которая уже около года недосчитывалась хозяина, отбывавшего наказание в лагере за избиение жены под пьяную лавочку, была приятно убрана и единственным окном выходила в сад.
В ней, как и, должно быть, при хозяине, приткнувшись к глухой стене, стояла двуспальная железная кровать с высокими дужками, украшенными для какой-то лихости крохотными колокольчиками, гулкими ночами мелодично потренькивавшими, потакая чьей-то бессоннице.
Затолкав всех «меринов» — старых и молодых — в избу, хозяйка чуть подернутыми теплой рябью весны синими глазами прощупала нас, а прощупав, сонно разлепила припухшие губы.
— С ночной пришла, — сказала она и, гася в себе женское любопытство, направилась «маленько соснуть», пока мы будем располагаться на недолгое жительство.
Подхватив нехитрые свои пожитки, я направился в «темницу», чтобы, обжив ее, поладить с самим собой. Такая именно и отвечала моему тогдашнему настроению своей глухостью и тишиной. Хоть на время замкнуться в себе!
Но не тут-то было. Углядев в моем выборе некое преимущество перед остальными, Кононов увязался за мной. К тому же по весне он страдал бессонницей, любил ночные беседы, был неистощим на них. И, зная, что слушать его некому, кроме меня, привязался ко мне за особую мою способность внимать собеседнику.
Кое-как обжив «темницу» своими вещами, тут же развешенными по углам, мы с Кононовым вышли во двор приглядеться к местам, в которых предстояло нам жить, до тех пор пока не поднимут нас и не погонят в другую какую-нибудь глухомань.
Я искренне сочувствовал дяде Ване, нашему подставному бугру, и Гришке Распутину, истинным крестьянам, так и не сумевшим стать жителями суетного города, в который они бросились когда-то в погоне за лучшей долей. И вот, приобщившись к шальной жизни, не столько уж из любви к длинному рублю, сколько из любви к деревне, утраченной по милости урбанизации, мыкались они по свету, являя собой нечто среднее между крестьянином и рабочим.
Кононов и Синий, споткнувшись на заре своей жизни в городе, оказались выброшенными крепкой административной машиной за черту родной среды, сохранив семью в Москве и право на жизнь за сто первым километром. Изверившись в человеческой доброте, уже не ждали никаких перемен и, насмешничая над другими, убивали в себе надежду в самом зародыше.
И я, деля с некоторых пор с ними судьбу, пустился наобум-наугад навстречу призрачным далям, так сладко томившим уже с детства душу, и пошел постигать вкус скитальчески-скорбных дорог и радость случайных ночлегов, чтобы, потопив в них отчаяние, нащупать тропу к человеческому теплу.
Сойдясь сейчас во дворе нашего нового пристанища с Кононовым, я утешался мыслью хоть здесь перевести дух перед неизбежным в нашей летучей жизни марш-броском в неизвестность.
Теплый ветерок, смазывая горизонт, клубился и курчавился. На фоне дальнего леса лениво играли смутные контуры из густой смеси света и тени.
В отгороженной под огородец площадке с усердием дачника, сгребая подгнившую ботву и опаль в кучу, возился Лешка.
— Во, гляди, хозяин нашелся! — торжественно воскликнул Сергей Кононов, шпиная меня под бок костлявым локтем. — Свежими овощами нас закормит…
Вскоре подожженная Лешкой куча весело выбросила ликующие языки пламени и, сухо и часто потрескивая, принялась скручивать палые листья, обжигая им крылья.
Лешка кружил вокруг разгоравшегося костра, подправлял его вилами и, когда наконец управился, отворил калитку в огородец и впустил в него белую курицу, сопровождаемую разномастными петухами.
— Во собака! — снова взорвался Кононов, глядя, как важно шагает за курицей Лешка, чуть-чуть отстраняя от нее петухов. — На обед гонит…
И в самом деле, пернатые, обступив Лешку, терпеливо выжидали, когда тот отвалит первый ком земли и обнажит перед ними лакомство. Но Лешка не спешил. Опершись на черенок лопаты, он на время задумался, испытывая терпение у заждавшихся петухов. Наконец один из них, поняв, что непросто дождаться человечьей милости, тюкнул Лешку по щиколотке, Да, видно, так больно, что тот подскочил и принялся поспешно лопатить землю, чтобы дать вытянуть дождевых червей расклохтавшимся птицам. Теряя чувство собственного достоинства, они теснили друг дружку, наскакивая на добычу. Курица, отпихнутая не очень уж обходительными «гусарами», удивленно глядела, как те терпеливо заглатывают жирных червей.
Дядя Ваня и Гришка Распутин, вышедшие во двор в томительном ожидании выпивки, мрачно хмурились, придавая лицам озабоченное выражение, каким сопровождается раздумье по поводу жизненно важной проблемы.
— Вот что, — вдруг неожиданно сердито заговорил дядя Ваня, инструктируя нас на осторожность. — По деревне лишний раз не шататься! Особливо с пьяными рожами… Городских тряпок не цеплять!
— И еще, — весело перебил его Гришка Распутин, просветлевший от дяди Ваниного назидания, — баб деревенских не трогать! Особливо тех, у которых глаза косят! — И, отхохотавшись над установкой мнимого бугра, упруго выдохнул: — Кончай, Вань, дурака ломать! Пора бы таперча и смазаться! Гоните, сукины дети, по трешнице!
Сбрасывались обычно все, хотя не каждый принимал участие в ублаготворении иссохшей души. Таков был закон поселения на новом месте, чтобы отмазаться от нечистой силы, преследовавшей нас по пятам.
Сбросились и сейчас.
— Я ня буду! — твердо и буднично сказал Лешка, швырнув под ноги Гришке помятую трешку, и стал стягивать с себя рубашку.
— Ня будь! — так же твердо и буднично повторил Гришка Распутин, поднял с земли Лешкину трешку и, разглаживая ее на колене, спросил: — Кто еще ня будет?
Когда сборщик «налогов» ушел, дядя Ваня поставил оставшихся в известность:
— Нынче же приступим к работе!
— А то как же! — иронически поддакнул Кононов, прекрасно знавший повадки нашего дяди Вани.
Дядя Ваня, любивший лишний раз напомнить нам в отсутствие Гришки Распутина о своем бригадирстве, теперь, возвысившись над всеми нами, взыскующе взглядывал на нас, как бы внушая почтение, и не столько к своей персоне, сколько к занимаемой ею должности.
И мы, зная слабость дяди Вани, легко шли на уступки, давая ему подняться в собственных глазах, наперед зная, что с появлением истинного хозяина его значение поблекнет.
— Дядя Ваня, а кто будет на прессе? — подыгрывая ему, спрашивал тот же Кононов, показывая в знак легкой насмешки два золотых зуба.
— Кто, кто? — сердито бормотал дядя Ваня, принимая лесть, но протестуя против праздного вопроса вокруг того, кому сидеть за прессом, когда специалисты по этой части были всем и давно известны.
Вернувшийся с покупками Гришка, окидывая всех шалым взглядом, победно воскликнул:
— Нашел, ребята! Вдовица — во! Приятно окает, и калибр в аккурат мой — в три обхвата. Поклонились друг дружке, познакомились. А она и говорит: «Пожаловайте, Григорий Парамонович, всегда рады будем…» Я тоже любезностью угощаю. Говорю: «Лизавета Петровна, спасибо вам за культурное обращение! Теперь непременно буду захаживать…» А вы все Гришка да Гришка! — Взглянув на меня совсем потеплевшими глазами, он тихо добавил: — Гуга, ты давай-ка чего-нибудь поколдуй на закус, чтобы душа кричала от перчикового духа!
И я, пройдя за печь и вывалив на небольшой столик съестные припасы, принялся готовить закуску. Пока на миниатюрной газовой плитке грелась сковорода, я извлек из своих склянок, возимых повсюду с собой, пряный дух знойного юга.
— Ты покруче этого сатанинского зелья! Не скупись! — попросил Гришка Распутин, любитель острых ощущений. — Хорошо бы еще и картошки к селедке…
Картошки с собой мы не возили, и потому я развел руками, отвечая Распутину шепотом:
— Нетути, Григорий Парамонович!
Но тут за перегородкой серебряно затренькали колокольчики, а когда они погасли, послышался сонный голос хозяйки:
— Погодите, найду вам картошки! — И через минуту-другую, устало водя плечами, появилась она и сама. — Подремала, а голова не проходит — тяжелая…
А Гришка Распутин, встречая ее бесстыжими глазами, уже успевшими побывать за глубоким вырезом кофты, облизнулся и, заговорщицки придыхая, расхохотался:
— Знакомься, хозяйка, наш шеф-повар! Малый ретивый…
С трудом увернувшись от назойливого взгляда Гришки, хозяйка вприщур оглядела меня, а затем, помедлив минуту, протянула мне руку:
— Стеша!
— Ивери! — ответил я, захватив ее теплую ладонь в свою.
— Из Твери! — пошутил Гришка Распутин и, оставляя нас одних, посоветовал не приправлять закус поцелуями, чтобы за столом не поперхнуться.
Вынесенный на середину стол собрал всех — и непьющих, и пьющих — в одну семейную, по выражению дяди Вани, «кумпанию». Он и возглавил, на правах старшего, застолье, вспыхнувшее после двух-трех стаканов протяжными песнями вперемежку с анекдотами.
— Гуляй, Ванька, бога нет! Бог пришел, а Ваньки нет! — басил подгулявший Гришка Распутин, переводя веселые глаза с дяди Вани на Стешу. — Стешка, едрена ты курица, русская ты душа али нет? А коли русская, постучи каблучками — не мокни!
— Ну тебя, дядя Гриша! — отговорилась Стеша, смущенно опуская глаза.
— Какой я тебе дядя! — подскочил на стуле разобиженный Гришка. — Ты меня, девка, в дядьки записывать не торопись! Я еще любого кобеля энтому делу поучить могу!.. Запомни, с бабами я — всегда мужчина! А когда бы не так, понапрасну хлеб переводить себе не позволил бы — под петлю б полез да на осине повис! — разом выдохнул он, вновь повеселев, опрокинул очередной стакан и, закусив круто поперченным ломтиком буженины, лукаво блеснул белками: — Зачем поцелуями-то приправляли, а?!
— Ну тебя, Гришка, опять за свое, — кошкой захмурилась раскрасневшаяся Стеша, пьяно отмахиваясь детской ладошкой от распутинского замечания.
— На том и жизнь держится! — продолжал Гришка Распутин. — Вот, к примеру, лежишь в холодной постели и, как бездомная собака, глазами стреляешь, ждешь, глядя на темноту… А кого, коли позволишь спросить, ждешь? А ждешь видь! А рази кто догадается, что ты, живое существо, в тоске зябнешь, ежели всем нутром не затрубишь? Нет, не догадается видь! Вот где пес-то зарыт… А баба-то, она к чужому теплу тянучая, что кошка… От нее видь огромные миру бедствия зачинаются!
Стеша сконфуженно переглянулась со всеми и, не найдя чем возразить Гришке Распутину, певуче воскликнула:
— Ой, ну тебя, Гришка!
Разомлевший от выпивки и распутинского баса дядя Ваня нервно сучил лысой головой, пытаясь прервать Распутина, но никто не замечал его, пока наконец не бухнул он кулаком по столу.
— Хватит беса тешить! — сказал он, неприязненно поглядывая на своего дружка. — Годов нажил, а ума все нет! Не юнец же ты красногубый!
— А ты, ставропольская тыква, молчи! — приказал Гришка Распутин, дружелюбно опуская на плечо дяди Вани широченную ладонь с заскорузлыми, как коряга, пальцами. — Отгорел ты, Ваня, оттого тебе и тоскливо…
Выцедив последний пузырек, «кумпания» грустно присмирела, ощущая неодолимую потребность в новых дозах.
— Может, скинемся, — предложил Синий, с надеждой уставясь на Кононова и прекрасно понимая, что ежели скидываться, то не обойтись без его щедрости.
— Так в чем же дело! Пошурши! — подкусил Синего Кононов, довольный тем, что пришел час переключить все внимание коллектива на себя. — Давай, давай, Микола, выворачивай карманы, только в них не то что деньги, а и мыши давно не танцевали.
И Синий, обиженно поморгав, погас лицом, уже жалея, что затеял этот разговор с Кононовым. Но тут же на помощь пришел Гришка Распутин, ломая мужскую гордость просительным тоном.
— Серега, выручи в последний раз… Ссуди два червонца, с получки соберем! — И качнулся через стол к Кононову. — Уважь, не откажи…
Кононов блеснул двумя золотыми зубами, повертел головой:
— С какой это получки соберете, Гришка? Третий месяц вхолостую гоняем, деньгами-то и не пахнет! — Но, вопросительно окинув каждого взглядом, все же расщедрился, полез в карман и отпустил просителю два червонца, напоминая должок еще с Ярцева.
— Все разом и отдадим, не беспокойся! — заверил Гришка Распутин, вновь восстановивший мужскую гордость, и заспешил в магазин взглянуть на продавщицу.
— Ты там не очень-то, — назидательно сказал дядя Ваня, — будем цех смотреть.
И Гришка Распутин, вняв, тут же вернулся, с веселой улыбкой выставил батарею чекушек и принялся развлекать нас рассказами о продавщице, будто бы спросившей: «А-а, это вы, Григорий Парамонович! Уже все откушали?»
Кононов, как и я, мало интересовавшийся тем, что сказала продавщица и что ей ответил Гришка Распутин, кивал на Лешку, с грустного лица которого глядели мимо всех крупные глаза.
Лешка был единственным человеком, вошедшим в нашу группу необычно. Его не рекомендовали! За него не ручались, что он — не дай бог! — не выкинет фортеля, чего пуще смерти боялись бугры всех мастей и размеров. Он просто приходил к трем вокзалам, где бригады перед очередным отбытием обсуждали план действий, да и притерся к ребятам, а через них оказался и в группе, посчитавшей его битым воробьем и тертым калачиком. А когда бугор спросил у дяди Вани, кто таков Лешка, тот пожал плечами и коротко сказал: «А ляд его знает!»
Три дня потом ругались шепотом подставной бугор с настоящим, а на четвертый решили взять Лешку под ответственность дяди Вани, прошляпившего «лазутчика».
Таким образом оказавшись в группе, он делал с ними вторую ездку. Первая провалилась в тартарары под боком Ярцева. Пришлось спешным порядком покинуть местность — ноги в руки — и позорно бежать. И после того памятного случая в самый разгар марта было велено не спускать с новичка глаз, что и делали все вместе и каждый врозь.
Несмотря ни на что, к Лешке относились довольно сносно, если учесть, что в нашей полубригаде особых симпатий никто ни к кому не питал. И Лешка, в свою очередь, не лез к нам с объяснениями в любви. Держался с достоинством, не выделяя никого и ни к кому не привязываясь. Зато почти детскую нежность питал он к животным, за что и живность платила ему редкой доверчивостью.
Сейчас Лешка ерзал на стуле, тяготясь затянувшимся застольем, но подняться не смел.
— Ня пьешь — нечего сидеть и киснуть! — сказал Гришка Распутин, заметивший состояние Лешки, которое еще больше усугубляло неприязнь к нему, покоившуюся на твердом убеждении, что «Иуду подослали — нацелуемся всласть…».
И Лешка встал, вышел из избы, не выражая ни особой обиды, ни особого огорчения. А когда дверь за ним захлопнулась, Стеша, сдувая челку со лба на сторону, сердито заметила Гришке Распутину:
— Тебя комендантом в мою избу не назначали!
Задетый замечанием Стеши, Гришка Распутин угрюмо выдохнул накипевшую злобу к Лешке:
— Продаст! Чует мое сердце! Продаст и передушит нас до единого сонными.
Но «душегуб», к которому адресовались эти слова, к счастью, был уже в огороде и не мог их расслышать. Зато Кононов, так и подкуривавший на драку, высветив два золотых зуба, подливал масла в огонь:
— Гришка, брось жрать селедку! Иди, пока он один в огороде, да набуцкай его по-русски.
— Хватит вам! Успеете набуцкаться! — сказал я, желая загасить затевавшуюся драку, но это еще больше озлило Гришку Распутина.
— Ты бы помалкивал! — сказал он, холодно сверкнув глазами за мое вмешательство в сугубо национальную сферу действия. — Тебя еще не спросили! — И жестко заскрипел зубами, словно полозьями саней, выдворявших меня из обширных распутинских просторов.
Драки хоть и возникали между нами, но дрались мы без нужного для них ожесточения. Бились в основном из ухарского зуда. А через несколько минут тузившие поливали друг дружке, чтобы смыть с расквашенных носов кровь. Этот ухарский зуд на драку, как правило, накапливала водка, поднимавшая со дна души что-то грязное и липкое. Но, выпустив дурную вязкость вместе с кровью, угасало и ухарство, и присмиревшие драчуны обретали привычное спокойствие разумного существа, пережившего болезнь.
Стеша, как бы желая сгладить вину Гришки Распутина перед «чужаком», не спросясь никого, стала убирать со стола опустевшие чекушки и стаканы. Мы вышли на свежий воздух, потому что с приближением вечера все ощутимее сказывались вино и усталость.
Свалившись кулем на завалинку, Гришка Распутин укладывал непослушную гриву поседевших волос огрызком расчески и невнятно бормотал кому-то угрозы.
Прислонившись к стене избы, стоял Синий, держался руками за живот и тоскливыми собачьими глазами вслушивался в боль, с которой сражался с помощью водки.
— Убью! — грозился между тем Гришка Распутин и, выронив огрызок расчески, сжимал в кулак правую руку и со всего размаха бил по раскрытой левой, вкладывая всю мужскую ненависть в этот удар.
Оставив на завалинке Гришку Распутина, а возле него — Синего, скорбно ушедшего в свою «болесть», мы с Кононовым прошли в огород, где Лешка хлебными корками приручал петухов, раздавая им имена.
— Ну, Ардальон, твоя теперь очередь! Подойди! Отойди, Октавиан, не нахальничай! Тимошка, смелее… Вот так… молодчина: каждому по труду! Каждому по проворности! Не зевайте… дожидаючись… А ты что, Петруша, хватай! А вы, мадам, зря удивленными глазами глядите! Рыцарство отошло с Дон Кихотом! Не ждите благородного жеста!
Птицы, выстроившись в цепочку, вроде осваивались с именами и торжественно притопывали лапками.
— Шлепнутый, — прошептал мне Кононов, останавливаясь в двух шагах от Лешки. — Удружил нам дядя Ваня…
Скормив последнюю крошку Октавиану, Лешка обернулся и окатил нас застывшим взглядом хохочущих глаз с каким-то бесовским задором.
Кононов потупился и ляпнул:
— Не любит тебя Гришка!
— Знаю, — не отводя от нас взгляда, отозвался Лешка. — Да и вам я не по нутру, — покосился он на заднее крыльцо избы, выходившее прямо в сад. С него спускалась Стеша, покачивая плотно упакованными в брюки бедрами и направляясь к калитке в огородец.
— Кто же это так расстарался? — бросила она, пройдя в калитку и окидывая взглядом Лешку. — Зря это все! Ничего этот суглинок не родит.
— Истощенная, что ли? — осклабился Кононов, наряжая свой вопрос тайным смыслом.
Лешка смущенно сморгнул и пошел к завалинке, где Гришка клокотал во сне горлом, словно кипящий чайник.
Чуть увлажненные Стешины глаза проводили Лешку. Проводив, больно сузились, рождая на лбу жалостливые морщинки, уходящие под челку.
Кононов, поймав ее взгляд, улыбнулся:
— А почему ты не окаешь? Пришлая, что ли?
— Пришлая, — отозвалась Стеша и, еще раз выстрелив взглядом в Лешку, пошла к крыльцу, с которого только что сошла.
— Удавка! — сообщил Кононов, когда Стеша скрылась за дверью. — Выследила кролика…
— Ничего, — сказал я. — И на тебя найдется удавка, не завидуй Лешке.
— Очень надо! — с обидой в голосе отвечал Кононов, выбираясь вслед за Лешкой во двор.
На закате того же дня, оставив в избе дядю Ваню, чудом взобравшегося на полати, и Гришку Распутина, досыпающего на завалинке, Стеша повела нас, отбросив всякую осторожность, поглядеть окрестные дали.
Пошли на другой конец деревни, в сторону леса, не такого уж близкого, как казалось нам поначалу.
По левой стороне улочки тянулись почернелые от жестоких бурь времени избы, сплошь украшенные затейливою резьбой. Кое-где над слуховыми оконцами вместо былых деревянных коньков торчали несуразные загогулины, уже не способные пробудить воспоминания о временах, когда здесь жили огромными семьями, создавая неповторимый мир, что разлетелся во прах по милости моего поколения, ринувшегося под сияющие огни городов.
Деревня была мертва. Редко где за окнами изб мелькали бледные старческие лица, утомленные ожиданием. Только-только начинался дачный сезон, и молодежи еще не было видно.
Город, вобрав в себя деревенскую молодежь, дав ей шумные улицы с завораживающими витринами, снабдил ее и своей податливостью к насморкам и простудам. И теперь она наезжала в деревню закалить изнеженную и ослабевшую плоть, подставляя ее под теплые лучи солнца.
Предвечерний ознобистый ветерок разливал по купам леса трепещущие закатные краски, отливая нежным цветом девичьей юности. Пала ранняя роса, и все разом прониклось лесным пряным духом.
Зябко поводя плечами, Стеша вывела нас на просеку и завернула за излучину тропки, к высокому, шумно шелестящему клену. А за открывавшейся асфальтированной дорогой показалось трехэтажное здание, из окон которого лился ранний электрический свет. Это была ткацкая фабрика. На ней-то и работала Стеша, гордясь своей профессией мотальщицы.
В воздухе не умолкало стрекотание множества станков, работавших в напряженном ритме.
Постояв, поприслушавшись к их горячему спору, Стеша повела нас обратно, украдкой поглядывая на Лешку, поддерживавшего под руку тихо стонавшего от боли Синего.
Деревня кое-где замерцала телеэкранами, отнимая у оставшейся жизни живое общение, и утонула в сладостной жути иного, придуманного человеком же мира.
В избе, повалившись ничком на диван, басовито храпел Гришка, ему дядя Ваня вторил с полатей надтреснутой хрипотцой.
— Давай, робя, снимать дядю Ваню! — предложил Сергей Кононов, раздраженно поглядывая на диван. — Снесем в чулан, пусть там на пару и выступают…
Сняв всем миром дядю Ваню и отнеся его в «темницу», принялись и за Гришку, тоже бросили на широченный топчан рядом с дядею Ваней.
Мне было обидно, что «темница» отошла невзначай другим. Хотелось побыть наедине с собой. Пробежать отцовские письма, переданные мне женою. Плакали теперь и письма, и одиночество.
Дожидаясь ночевки, я устало слонялся по комнате, в которой по просьбе Кононова, любителя «капятка», заваривали теперь чай.
— Ты не обижайся, — сказал мне Кононов, неся на стол медовые пряники, извлеченные из портфеля. — Но грузинский чай больше напоминает махорку… — И принялся похваляться «индюшкой», которую он доставал у знакомых за переплату.
Синий, брезгливо слушая рассуждения Кононова относительно чая и «капятка», корчился от боли, придерживая пятерней болящую точку в желудке и просительно взглядывая на Стешу, возившуюся с заваркой.
— Опять, что ли, прихватило? — спросила Стеша, улавливая мольбу, на что Синий кивнул утвердительно, еще больше напуская на лицо страдальческое выражение.
— Не найдется ли у тебя керосину? — поинтересовался у Стеши Кононов, когда она, сочувственно вздохнув, отошла в сторонку, к тайнику за «лекарством» для Синего. — Опои его разом! Все одно скоро помрет…
— Подохну, — подтвердил счастливый Синий, следя глазами за Стешей, исчезнувшею за печью. — Скоро, Серега, очень уж скоро подохну!
Кононов, задумавшись, взглянул на Синего и уже без тени иронии пробормотал:
— Не вздумай здесь подыхать-то! Не хватало еще с тобой канителиться!
— А это, — досадливо вздыхая, сказал Синий, — как уж получится! Коли помру, то у Лешки адрес точный имеется. Он сообщит Дусе! Она меня здесь не оставит…
— Очень ей мертвый нужен! — возразил Кононов и, стрельнув серыми с желтизной зрачками на Лешку, вносившему к общему чаю и свою лепту в виде печенья, добавил: — Лешка знает не только твой адрес.
Разговор явно принимал нежелательный оборот с непредсказуемыми последствиями, но, к счастью, вовремя вмешалась Стеша, возвратившаяся в комнату со стаканом водки.
— Как же вас ноги-то носют с такой ненавистью друг к другу? — сказала она и, измерив взглядом каждого из нас, подошла к Синему и поднесла ему стакан под честное слово завязать с этим с завтрашнего дня навсегда.
— Держи карман шире, — перебил Стешу Кононов, сконфуженный чистосердечием женщины. — Завтра снова будет канючить.
Судорожно ухватив только что державшейся за больной живот пятерней стакан, Синий разом вылил его содержимое в рот и, ломая лицо от страдания и нечаянной радости, упоительно зажмурился, разомкнул глаза и не спеша полез на полати.
Пока он, ползая на карачках, приспосабливался на вонючем тулупе с замурзанным ворсом, Стеша поставила на кружок эмалированный чайник, и началось беспросветное чаепитие с карточной игрой в дурачка.
Сыграв несколько партий в паре с Лешкой, я отказался от дальнейшего участия, сославшись на усталость.
Смутная тревога выбивала меня из общего круга, а потому, постелившись на диване, я сразу сунулся в свежую прохладу постели и ушел в себя, перемалывая свою бесконечную думу.
Но, не найдя утешения, потихоньку погрузился в тягучий сон и во сне ощущал свое сиротство. А надо мной как рок стояла чья-то скорбная усмешка, зловещим крылом осеняя случайный ночлег. Когда отчаяние и тревога переполнили меня до краев, я был разбужен грубыми толчками беспокойного Кононова.
— Гуга, — услышал я его голос, и во тьме в насмешливом оскале зубов отчетливо сверкнули два золотых огонька.
— Что? — прошептал я, вслушиваясь в тишину со страхом за Синего, и приподнялся на локтях.
— Лютует! — радостно сообщил Кононов, повышая голос, и придвинулся ко мне, чтобы пояснить значение слова руками.
Пренебрегши невидимыми мне жестами, я спросил шепотом:
— Гришка, что ли?
— На донку рыбка попалась! — тут же отозвался и Кононов, зажимая ладонью рот, чтобы не расхохотаться. — Здорова рыба-то. Слышь, как клюет?!
И тут до меня дошло. Не зная почему, я присел в постели и тоже, как Кононов, зажал себе рот, хотя и не собирался ни говорить, ни смеяться.
Сквозь неистовый перезвон сливающихся страстей я отчетливо услышал мелодично-жалобный звон колокольчиков.
Поняв, что теперь не уснуть, я снова улегся и с головою ушел под одеяло. А Кононов, не владея собой, продолжал приговаривать:
— Видать, Лешка жереха крупного подсек!
— Спи! — сказал я в раздражении. — Чужих жерехов не считай!
— Чертяга! — подхихикивал Кононов, когда звуки колокольчиков сшиблись на самой высокой ноте, разливаясь в мелких переливах согласия. — Отчаянный, собака! — раздумчиво выдохнул чуть-чуть погодя. — Да и Стеша, видать, перец стручковый…
Уснули мы с Кононовым под утро и проспали до полудня.
В комнате, где во мраке ночи стонала людская страсть, стоял густой солнечный свет, падавший из приоткрытых на улицу окон.
Все, кроме Лешки, сидели за столом и с кислыми минами ждали Кононова — своего исцелителя.
Углядев за столом скорбно-покорные лица, Кононов спустил с постели худые цыплячьи ноги, облитые смертельной белизной, и, наливаясь иронической желчью, как можно простодушнее поинтересовался:
— Много настучали? — И, чтобы придать этим словам правдоподобие, пожаловался: — Спать не дали — все утро пробубнили на прессе!
— А ты не издевайся, Серега! — жалобно застонал дядя Ваня. — Какого там хрена пресс, голова валится с плеч!
— Во-во, это правда! — поддержал его Кононов. — Что ей на плечах-то делать? Пора поменяться местами с задом… Все одно не умеет мозговать!
Скорчившись на стуле и обхватив обеими руками живот, чуть живой сидел Синий и умоляюще глядел исподлобья на Кононова, словно грешник, просящий у всевышнего милости. Глаза его были воспалены и слезились.
— Что, сын божий, опять паскудничаешь? — как можно бодрее сказал Кононов, переведя взгляд с дяди Вани на Синего, и подпрыгнул на одной ноге. — Что это, как воронье над падалью, расселись?
— Серега, ей-богу, скоро подохну! — сипло заскулил Синий, как бы извиняясь за то, что еще не подох. — Вспомни, Серега, как я тебя отхаживал в Дорохове, когда ты с Колымы-то вернулся. Неужели запамятовал?
Насупившись, мрачно слушал Гришка Распутин неопровержимые аргументы Синего, считая унижением собственного достоинства опускаться до просьбы.
Кононов, между тем сунув и вторую ногу в штанину, теперь не спеша шнуровал ботинки, уронив светло-каштановые с примесью седины кудерьки на глаза.
Дядя Ваня встал и, нервно бухая по полу тяжелым протезом, вышел за дверь, ругаясь и делая смачные ударения на глаголах прошедшего времени.
Из-за печи показалась растрепанная Стеша, знаками подняла Синего и поманила его. А когда Синий встал и зашел за печь, оттуда послышалось характерное бульканье наливаемой жидкости, отчего в ярости вскочил и вылетел во двор Гришка Распутин.
— Позови-ка этих склеротиков! — приказал мне Кононов, встав и выпрямившись во весь рост. — Иначе побираться начнут по деревне! И вскорости снова будет нам крышка…
На зов шумно ворвался дядя Ваня с просительной улыбкой на побледневшем за ночь лице, готовый вынести очередное унижение, лишь бы выцарапать на выпивку.
— Нате, жрите! — брезгливо сморщился Кононов и протянул два червонца. — Скоты…
Дядя Ваня, почти вырвав две красненькие бумажки, круто развернулся на месте и бросился во двор, к Гришке Распутину, который, без промедления собрав пустую тару, зашагал в магазин.
Мы с Кононовым, похлебав фирменного чая, вышли во двор, а со двора переместились в огород, где Лешка энергично лопатил землю.
Рядом с ним стояла не чесанная еще Стеша и о чем-то тихо с ним переговаривалась.
Несмотря на всю ее домашность — потрепанный куцый халатик, падающие на плечи волосы, — она вся искрилась радостными красками и с нежностью глядела на атлетически сложенную фигуру Лешки, обнаженного по пояс.
— Добрый день! — сказал Кононов, незаметно подступивший к ним. — Думал, на работу ушла.
Стеша недоверчиво взглянула из-под припухших век на Кононова и смущенно ответила:
— У меня отгулы…
— А-а, — замычал Кононов и умолк.
Лешка, не поднимая головы, по-прежнему лопатил землю, не считая нужным входить в контакт с Кононовым.
— Принеси-ка лопаты! — сменив свой обычный тон, обратился Кононов к Стеше. И когда Стеша вручила ему и мне по лопате, он проводил ее долгим взглядом в избу, куда она заспешила, и тоскливо пояснил мне, что ковыряться в земле не любит, но взялся это делать от смертельной скуки. — В Москве долго в комнате не усидишь — соседи могут донести: чужой, мол… Да и здесь тоже не сахар. Раньше пил по-черному… не помогло… Похоронил сперва младшего брата. Замерз зимой под Луками… за водкой в магазин пошел, да заплутал. Старший опять же от водки помер! Похоронил. А я вот — живучий, пока катаюсь…
Откровения в нашей среде считались дурным тоном, и, чтобы не дать им вырасти до большого порока, я заметил:
— Катайся!
Кононов имел две судимости. Первую за хищение государственного имущества — двух настенных вешалок из кабины заводского туалета, отделанного голубым кафелем. Соблазнился по примеру других, не устоял перед литьем под цвет тусклого серебра, но пронести через проходную не смог — его засек наметанный глаз вахтера, однорукого дяди Миши с обвислыми кислорыжими усами.
Показательный суд, состоявшийся в заводском клубе, квалифицировал проступок как пережиток все еще смердящего капитализма и объяснил его природу цитатами из Маркса и Энгельса.
Кононов внимательно слушал, не мог взять в толк взаимосвязи между вешалками, лежавшими на столе как вещественное доказательство его вины, и цитатами, но не возражал, с капитализмом был почти не знаком.
Седобородый обвинитель в золотом пенсне, предъявив суду выписку из амбарной книги, куда были занесены вешалки, назвал точную сумму хищения: тридцать рублей. То есть стоимость каждой определялась в пятнадцать рублей. Вновь сложив стоимость, вывел срок — ШЕСТЬ ЛЕТ И ШЕСТЬ МЕСЯЦЕВ ТЮРЕМНОГО ЗАКЛЮЧЕНИЯ. Но судья накинул к сроку «полтинник» и, округлив его до семи, через три месяца этапировал осужденного на Колыму изживать проклятые пережитки. Но это было потом. А до того — выступления заводчан, среди которых сидела и молодая жена подсудимого Верка, комсомольский вожак компрессорного цеха, самого авторитетного на заводе.
Собравшийся коллектив дружно стыдил своего вчерашнего сотоварища и требовал смыть смертельный позор. Не отстала от других и Верка. Со всей принципиальностью комсомольского вожака она призывала выжечь каленым железом уродство, подорвавшее престиж советской семьи и комсомола.
Кононов, упрямо уставившись в пол, переминался с ноги на ногу, но раскаянием не тронулся.
— Взял, — пробормотал глухо, — все брали… и я…
Исчерпав лимит, вновь предоставили слово подсудимому:
— Вы хотите что-нибудь сообщить суду?
— Суду — ничего! — отмахнулся он и в безысходном отчаянии крикнул в зал: — Верка! Хочу гречневой каши!
Верка уронила голову на спинку стула сидевшего впереди комсомольца и, не сдерживаясь, зарыдала в голос…
Кононов, следуя дурному примеру Синего, рассказал все это на случайном привале, хотя откровения в нашей среде считались непотребным барахлом и слюнтяйством.
А было это так.
Лет семь-восемь назад промышляли мы в одной деревеньке под названием Чудилово и как-то поджидали возвращения дяди Вани, ушедшего без охоты в далекую дорогу, протянувшуюся мимо унылых полей и подлесков, вдоль почти стоячей реки, за которой и маячил поселок колхоза «Коммунар» с конторою посредине.
Дядя Ваня задумал подбить председателя перебросить наш цех в сравнительно безопасное место, потому что чудиловцы — не ровен час — могли подтвердить в любую минуту под пьяную руку название своей деревеньки. Но дядя Ваня отчего-то не возвращался.
Накануне стояла раздумчивая безветренная погода, какая обычно царит на исходе октября. Солнце висело неподвижно, подсвечивая плотные облака мутноватым желтком. Цепенели деревья и вороны на них, тупо уставившиеся в открытое поле. Молча вслушивалась, вперившись туда же, и деревня, кого-то ожидая. Припали к двум окнам избы и мы, уходя бездумным взглядом вдаль.
На угоре со смешанным лесом стояли с полдесятка овец, затихнувших с приподнятыми мордами. Умиротворение накатывалось до позднего вечера, до самого позднего, пока тусклый желток, так и не сдвинувшись с места, не иссяк дотла.
Дядя Ваня ушел еще на рассвете. Шел он по узкой тропе к оврагу, потом долго шагал по-над его кромкой и растворился уже в мелколесье. Сухой свинцовый воздух окутал поля, лес, ворон на деревьях. За угором негромко хрустнуло. Прошелестел низовой ветерок, принялся заметать подворотни. К ночи снова сошло умиротворение, залило серебром крыши и окна. Выпал ранний снежок!
Замерев от восторга и предощущения тревоги, мы глядели на уже еле видную кромку оврага, занесенного снегом, и ждали. Но дядя Ваня пришел с другой стороны и вломился в избу неожиданно.
— Облава! — крикнул он резко и растер намученную культю.
Облавы, водившие нас по изнаночной стороне России, хоть и не были неожиданностью, но всегда заставали врасплох и вносили такую сумятицу, что изба ходуном ходила от смачного мата, разгоняя с насиженных мест пауков.
Повторив привычный обряд в неизменной последовательности, мы кинулись в цех, вооружившись кувалдой, ломом и топорами, и сорвали с дощатых подушек дальнобойное наше орудие — пресс немецкого образца, чтоб, в который уж раз, прорываться с ним в «тыл», напоминая разрозненный отряд партизанского формирования.
Бегством в «тыл» мы не подрывали основ нашего законодательства. Закон предусматривал существование подсобных хозяйств… Но делал это как-то невнятно, повторяя один из параграфов воинского устава относительно ношения рядовым составом усов: не запрещается… Что, конечно, не могло подменить более четкого и ясного «разрешается». Так что колымага наша трусила между туманным незапрещением и неродившимся разрешением, преследуемая жестокими облавами с короткими передышками в межсезонье. Случалось, что передышки затягивались дольше, чем ожидалось, но и преследования после них принимали соответственно куда более жесткий характер.
— Мать ее в свистульку! Облава! — повторял дядя Ваня, набивая свой вещмешок. — Анчихристы, опять разнюхали нас! Гони по задворкам…
— Микола, бегом к Ваське! Пускай лошадей хомутает! — крикнул Кононов, вылетая с ломом на снег. Побежали к цеху и мы по следу, прихваченному морозцем.
Кононов, за отсутствием командирской смекалки у дяди Вани и Гришки Распутина, в экстремальных случаях брал ответственность на себя и командовал отступлением, пока не утыкался в какую-нибудь глухомань, чтоб обосноваться там до следующей облавы. На бегу то и дело оглядывался, брызгался белками глаз, сокрушая пессимизм полубригады полководческими прозрениями.
Вот и сейчас, под строгим надзором Кононова, сорвав с дощатых подушек, тщательно закутав тряпьем и обернув клеенкою пресс, мы выволакивали его на крыльцо, к которому уже подъезжали в телеге Синий и Васька.
— Расчет, команду слу… — рявкнул Кононов, заражая нас оптимизмом. И, заметив на пути к нам розвальни с их взлохмаченным рулевым, веселым Прокошей, добавил: — Зачислить его в состав боевой единицы и выдать спирт для поддержки исподней…
Прокоша был одним из тех редких людей, кто, с детства пренебрегая словесным хламом, живо пользовался богатою мимикой.
— Ежли Прокоше дать на бутылку, — затараторил Васька, — он подсобит… — И заискивающе глянул на Кононова. Уловив в его глазах одобрение, перевел взгляд на Прокошу, точно отреагировавшего на предложение дружка.
— Будет! — посулил веско Кононов, оглядывая Прокошу, уже источавшего улыбку, подмаргивавшего в сладостной истоме, и пояснил: — Нам нужна его техника…
Прокоша одобрительно дернулся, еще раз мигнул и застыл…
— Дак ты скажи, даешь или нет!.. — осерчал на него дядя Ваня, по-своему понявши ужимки и передергивания.
— Он все панял! — отозвался за Прокошу Васька. — Он зря балаболить не любит… Дает вам упряжку… — На что вновь последовала улыбка Прокоши.
Кое-как вкатив пресс на телегу, Васька взмахнул вожжами и повел лошадей шагом, держась направления, какого требовал наш стратег Кононов, сидевший подле него.
Сидя с Синим на задке и пряча лица в шарфы, мы глядели на катившиеся прямо за нами розвальни, в которых в тесном соседстве — плечом к плечу — сидели на ящиках с готовой продукцией дядя Ваня и Гришка Распутин.
Розвальни легко скользили по насту и однообразно пели полозьями. Буланая, тащившая розвальни, то и дело поникала и шумно всхрапывала, взрывая могучим дыханьем снег. Но Гришка Распутин умело подстегивал, срывая на лошади дурное расположение духа. Выехав далеко за околицу, Кононов приказал Ваське остановиться и, встав на телеге во весь рост, этаким полководцем вгляделся из-под поднесенной ко лбу козырьком ладони в вольно раскинувшиеся окрестные поля, укрытые белым покровом.
— Где тут скирды? — проронил он наконец, не найдя нужного ориентира.
— Не панял, — угодливо отозвался Васька, стараясь заглянуть в глаза человеку, добротно упакованному в дубленку и в меховую шапку-ушанку.
Кононов разъяснил популярным смачным матом.
— Ха, — залился смехом возница и повторил кононовскую фразу, относящуюся к стожку. — Так это ж где Сашка Машку… Панял… Эт вон туды, за березняк…
— Ну так и погоняй, и погоняй туды! — приказал Кононов и уселся на место, уводя нас всем своим благополучным видом в далекую купеческую старину.
— Срамота! — сплюнул на снег Гришка Распутин, вырывая из разметавшейся русской равнины худосочного человека, утопленного в меха.
Васька развернул лошадей и погнал их наискось вспять, где оцепеневший в снегу березняк отливал серебром. Лошади шли в той же последовательности. Впереди пара, впряженная в телегу, следом — буланая.
За березняком открылись две высокие скирды, увенчанные снежными шапками.
Васька обогнул березняк, вплотную подъехал и с облегчением осадил лошадей.
— Ну дак вот энто место, где Сашка-то Машку… — сказал он простодушно и осклабился в сторону Кононова, чей замысел все еще оставался для всех нас загадкой.
— Стало быть, так, — откликнулся Кононов и, спрыгнув на снег, постучал теплым сапогом о сапог. — Возьми-ка топор и сруби две жердины… Вон с того краю… Вроде покрепче…
Васька послушно принял топор и двинулся к березняку, взрывая валенками снежок. Кононов подвел телегу впритык к скирде и принялся вырывать из-под нее и отгребать в сторону сено.
— Чего глазами лупите! Подь сюда! — крикнул он оглянувшись.
Поняв кононовскую уловку, мы бросились ему на помощь и, выщипывая клоками сенца, пробили широкую выбоину, куда и вкатили пресс, заделав его незаметным наметом.
— Теперь на телегу наметывайте да на розвальни! — командовал Кононов нарочито громко, чтобы мог услышать и Васька, уже возвращавшийся с жердинами на плече.
— Куды ж вы его? — удивился Васька, прислоняя жердины к телеге. — В Москву, что ль, повезете?
Кононов измерил Ваську долгим холодным взглядом и, сложив жердины в телегу, тихо потупившись, стронул лошадей. Отъехав метров десять, бросил Ваське:
— Жди здесь!
— А вы-то куды? — всполошился Васька, читая на наших лицах ответ на свою тревогу.
— Туды, где нет посторонних — сердито ответил Кононов Ваське. — Попрячем все и вернемся… пожди здесь! — Он хлестнул лошадей, заворачивая от березняка к ближнему лесу.
У опушки подлеска остановился, поглядев попеременно на дядю Ваню и Гришку Распутина. Кононов ставил задачу двум дружкам проникнуть в контору правления колхоза «Коммунар», тихонько разведать обстановку и доложить. А заодно пристроить на временное хранение готовую продукцию.
— Встречаемся у стогов! Через два часа… Не вернетесь к этому времени, будем выбираться самостоятельно…
Дядя Ваня с нашей помощью нехотя взобрался на сено и накрутил на правую руку вожжи. Но тут заартачился Гришка Распутин.
— Не поеду я, Серега. У меня аллергия на них… Ты же знаешь!
— Да у кого ж ее нет на них… аллергии…
— Уволь!
— Тебе б только с бабами воевать…
Дядя Ваня, сверху вниз глядя на Гришку, молча, всей бледностью лица просил его разделить с ним неприятный путь.
— А ты-то чего на меня сверху уставился? — сердито проговорил Гришка Распутин, продолжая упорствовать и в то же время обреченно примирясь с выпавшей участью. — Буркалы вылупил. Вот-вот, глядишь, на снег выкатятся…
— Спасибо, Гришка! — вдохновенно выпалил Кононов. — Я знал, что поворчишь-поворчишь, а долг таки выполнишь… Нельзя их, Гришка! — Он посмотрел на меня, потом на Синего. — Морды у них какие… Сам посуди, куда их…
— Пошел! Сам знаешь куда! — огрызнулся Распутин и вскарабкался на сено, ухватившись за дяди Ванин рукав.
Буланая, норовисто всхрапнув, потащила розвальни с двумя бывшими колхозниками через открытое поле к деревянному мостику.
Кононов поглядел им вослед и принялся сбрасывать сено на снег. Сбросив больше половины, погнал лошадей к скирдам, где дожидался Васька, должно быть, клявший себя за то, что дал согласие помочь в темном дельце.
— Что так заквок? — спросил Кононов, остановив лошадей у Васькиных ног. — Пождем еще, и топай себе на здоровье… Вот только вернутся розвальни…
Васька враждебно поглядел на Кононова исподлобья и, разнуздав лошадей, бросил им с телеги сенца.
Не прошло и часа, как розвальни показались. Они шли споро прямо на нас. Две темные фигуры торчали на них окоченевшими истуканами.
Кононов отсчитал Ваське пятнадцать рублей и, часто похлопывая по плечу, доверительно попросил:
— Смотри не наведи на овраг…
— Ты что… — отходчиво пропел Васька и, дождавшись розвальней, покатил назад, привязав к телеге буланую.
— Серега, надо срочно тикать! — коротко доложил дядя Ваня. — Ящики спрятали в самой церкве… Завхоз обещал перевезть к себе, когда эти уедут. — И, почесав за ухом, добавил: — Бригаду Веры Павловны накрыли в цеху… В общем, надо тикать!
— Не уйдешь! — покачал головой Гришка Распутин. — Людей своих порасставили… Переждать здесь придется…
Кононов оглядел свинцовое небо, рассыпавшее чуть заметную манку, и бесповоротно решил выбираться.
— Будем двигаться! Кто знает дорогу в поселок?
— В поселок нельзя! — запротестовал Гришка Распутин. — Как раз там нас и ждут…
— А мы проведем их вокруг пальца! — уверенно посулил Кононов, заражаясь авантюристическим азартом.
Часа через два мы вышли к поселку на крохотном пятачке плоскогорья, обдуваемого ветрами со всех четырех сторон.
— Серега, — хрипло застонал Гришка Распутин, взглядом упершись в плоскогорье, — не ходи туда! Облавят нас, как паршивых котят, и побросают в корзину…
Кононов, занятый изучением местности, пропустил предостережение мимо ушей.
Синий слабо улыбнулся глазами и с готовностью обреченного скользнул взглядом по поселку, где маячили темные фигуры, должно быть, в ожидании попутной или автобуса.
Было слышно, как время от времени хлопает дверь магазина, выпуская из своего тепла глухо закутанных старушонок.
Впритык к магазину стояла кибитка автостанции. Из нее валил черный дымок и, подхватываемый ветром, стлался по склону и уходил низовьем к глубокому яру.
— Дядя Ваня, за мной! — скомандовал Кононов. — Через пять минут — Гришка и Синий, а потом и ты, Гуга! — И шагнул к поселку, придерживая дядю Ваню.
Шли они медленно, как отец и сын, о чем-то переговаривающиеся перед разлукой. На площади к ним рванулся и Гришка, чуть не волоча за собою Синего, как-то разом продрогшего и сгорбившегося до неуклюжести.
Выждав, пошел к ним и я, стал рядом с молодым мужчиной в клетчатом полупальто, в каких обычно по выходным щеголяют деревенские парни, сменив на него будничные замызганные стеганые телогрейки. Из правого кармана полупальто выпирала громоздкая темная бутылка из-под портвейна, а под мышкой покоилась банка.
Переглянувшись со мной, он слабо заулыбался, показывая глазами, что обременен очень приятной покупкой.
Я невольно скользнул глазами по банке и, увидев на этикетке семейство маслят, несколько удивился щедрости местного магазина.
— Расхватали! — сообщил молодой человек, заметно окая. — Я-то поспел.
Оглядевшись, я увидел еще нескольких в полупальто и тоже с приобретениями. Они растеклись по тропкам, отходящим от площади, выжидая попутки. Но попуток не было. Прогромыхала порожняя телега с полупьяным возчиком в скособоченной шапке-ушанке, и ничего больше, кроме пронизывающего сквозняка.
Чтоб не околеть на ветру, я молча отошел от счастливого обладателя маринованных маслят и портвейна и подался в сельмаг.
Входя в магазин, подал Кононову знак.
— Чего? — спросил он, дыша мне в затылок.
— Стоят, — сказал я глухо, упершись взглядом в витрину, хоть занимала меня отнюдь не мысль о еде. — Там, на площади… Надо попытаться уйти в одиночку.
Кононов обернулся на дверь, но ее заслонил, входя, тот самый, в клетчатом полупальто:
— Автобус!
Мы нехотя подались за ним.
Прямо перед нами стоял голубой автобус. В него, подталкивая, запихивали дядю Ваню, раскорячившегося от расстроенных чувств.
— Давай убирай деревяшку! — весело гоготали парни. — На печи б тебе лежать, а не по полям…
Кононов, побагровев, бросился на молодчиков. Но тот, что в клетчатом полупальто, остановил его властным окриком:
— Не трепыхайся!
— Суки! — выругался Кононов, погашая свой пыл. — Вонючие псы!
Из-за полуразрушенной церкви показался Гришка Распутин, ведомый двумя в полупальто.
— Не дадут помочиться! — ругался Гришка, идя меж двумя молодыми ребятами.
— В церкви не положено! — урезонивали его. — Мы тебя, папаша, повезем, где стоит большая параша… под стать тебе… А в церкви — нельзя!
— Церкви-то теперь только для этого… — бормотал Гришка Распутин. — Такие, как вы, постарались…
— Папаша, у тебя, видать, печенка сдала… А мы по этой части… Полечить тебя, что ли?
— Я те полечу, сморчок! — заскрежетал зубами Распутин. — Шкуры продажные…
В автобусе нас встретили шумно. С веселым злорадством нас приветствовала бригада Веры Павловны.
— Ишь суки, а облавили!
— Серега, привет! Подь сюда, потеснимся…
— Там места для всех небось хватит…
Между тем автобус медленно покатился, и в нем сразу затихли, мрачно хмурясь на детину в короткой куртке, с ненавистью оглядывавшего нас с высоты своего непомерного роста. И разом всех охватила скука, бесконечная, серая и однообразная.
Мы катили мимо одиноких ветхих избенок, мимо какого-то мужичонки, случайно вышедшего на крыльцо в просторных валенках и встрепанной шапке-ушанке и через час-полтора подъехали к заднему двору особняка усиленно охраняемого по нашему случаю нарядом милиции.
Выводили нас по одному и строили затылок в затылок, отводя назад руки. Лишь Вера Павловна, зябко кутавшаяся в белый платок, не подверглась этой унизительной процедуре.
На втором этаже нас живо растаскали по кабинетам, разбросанным вдоль мрачного коридора, не вязавшегося с фасадом особняка, украшенного парадною колоннадой.
Комната, в которую загнали Синего, Кононова, а потом и меня, оказалась просторной и не такой мрачной как коридор. По двум углам стояли письменные столы За одним из них человек в штатском, вороша бумаги указательным пальцем стучал на машинке. Стучал неумело, с трудом находя клавиши с нужными буквами.
Заметив нас, а за нами и того, кому принадлежал второй стол, он поднял округлое лицо и широко улыбнулся:
— Салют, Макс!
Но штатная единица, названная ласково Максом, к салюту не была расположена, сохраняя постное выражение человека, озабоченного предстоящим допросом.
Он прошел к себе за стол и, набрав короткий номер, отрывисто прокричал в телефонную трубку:
— Пригласить понятых — и сейчас же ко мне! — После чего покинул свой кабинет, перепоручив нас коллеге.
Тот, прощупав нас серыми зрачками, начал-таки с самого главного, с Кононова.
— Подойти-ка поближе! — поманил он указательным пальцем, которым с минуту назад так неуклюже выстукивал на машинке. — Так по какой ты, папаша?
Хоть слова эти плохо вязались с внешностью Кононова, но он, приблизясь к столу, за которым стоял вопрошавший, кратко назвал статью.
— Так… Сейчас мы это проверим. — Человек в штатском обернулся к стене со встроенными в нее стеллажами, выдернул голубую папку, раскрыл ее и заулыбался. — А во второй раз, папаша? Как, бишь, твое полное имя?
Кононов назвался и пояснил, как и прежде, ограничившись только статьей.
Учинив точно такой допрос Синему и удовлетворив профессиональное любопытство, человек в штатском принялся изучать меня. Изучив, вытянул правую руку и поманил меня все тем же указательным пальцем, на что я никак не откликнулся.
— Ты что, папаша, жеста, что ли, не понимаешь? — еще шире осклабился он. — Это значит: поди-ка сюда.
Я шагнул к столу и остановился на почтительном расстоянии.
— Ну так как же твое фамилье?
— Перестаньте! — бросил я сорвавшимся голосом, с трудом сдерживая закипающий гнев. — К чему это все?
— Фамилия! — веселея, поправился он. — Итак, перейдем-ка, папаша, к делу… По какому проходил первый раз?
— Раскройте папку — увидите!
— Я-то знаю! Хочу, чтоб дружки твои знали! Говори, не стесняйся!
— За ограбление банка… — постарался я держаться как можно скромнее, но не теряя достоинства истого грабителя.
Он буквально ликовал от сознания своего безошибочного чутья.
— Вижу, с банковским факиром имею дело.
Я опустил глаза в безмолвном согласии.
Серые глаза плеснули мне в лицо восторг и упоение:
— Пять крытки, восемь зоны?
— Четыре крытки и шесть зоны! — поправил я, сохраняя достоинство, и мельком выстрелил взглядом в сторону Кононова и Синего, остолбеневших в диком удивлении. — Но ведь с тех пор, гражданин начальник, я не грабил даже колхозные кассы…
Мстя за «папашу», я ерничал, обезличивая обидчика бездушным обращением «гражданин начальник», стараясь пристыдить его отстраненностью от всего, что по другую сторону чиновничьего стола.
Кононов и Синий, прошагавшие со мной сотни верст по вязким разухабистым дорогам России, приглядывались, узнавая меня по-новому из столь щедрого «послужного» листа и не скрывая симпатий к моей безупречной сдержанности. Хотя, говоря по правде, мне и нечего было рассказывать! Мои трудности были иного порядка и вряд ли могли сравниться с их собственными проблемами. Говорить о себе — значило плакаться людям, пережившим куда большие потрясения, нежели те, о которых я избегал заикаться.
— Что мы, в конце концов, кого-нибудь ограбили, что ли? — возмутился Кононов, когда в дело начали включать понятых.
— Документы на стол! — прозвучала команда Макса, явившегося с ними. — Портфели и сумки туда же. Карманные вещи и деньги — вот в этот ящик.
Обыск оказался затяжным и даже комическим, поскольку Кононов то и дело извлекал из своих многочисленных карманов вещи редкого назначения — щипчики, пинцеты разных размеров, пилочки, ножички, брелочки.
В ящике вырастала гора из бумаги, фотографических снимков, неизвестно зачем и при каких обстоятельствах оказавшихся у Кононова, отчего понятые не скрывали улыбок, Макс же — досады, оттого что все это придется означивать в протоколе.
— Все, что ли? — раздраженно спрашивал Макс всякий раз, когда рука Кононова запускалась в карман, на что тот отзывался спокойно и односложно:
— Сейчас поглядим…
И вот, когда все карманы были вывернуты наизнанку, Кононов извлек откуда-то красивый бумажник и принялся в нем копаться, выуживая из многочисленных отделений купюры разных достоинств.
— Да тут вещей на целый огромный сейф! — пошутит тот, кто недавно занимался нами по поручению Макса.
— Все свое вожу с собой! — коротко отрезал Кононов на шутливое замечание.
— Тереха, — оборвал Макс коллегу, — проверь паспорта!
И пока тот, взяв паспорта, стоял, соображая, что бы еще сказать, Макс взял лист бумаги и, прощупывая каждую вещь, стал вносить в протокол, предварительно приглашая освидетельствовать ее понятым.
Синий, уставший от затянувшейся процедуры, нелепо пялился на ящик в ожидании часа, когда наконец доберутся и до него.
Тереха исчез с паспортами за дверью навести справки по коду. Пока щелкал телефон и бюро выдавало Терехе «пищу», у нас шла кропотливая работа. Разворачивались и читались бумаги десятилетней давности. Попав в очередной протокол, они складывались вновь, но уже отдельно от еще не проверенных. Кононов, отвечая время от времени на вопросы, сам заглядывал в них, словно боясь нарушения хронологической последовательности.
Мы же с Синим продолжали стоять с вывернутыми наружу карманами, в распахнутой верхней одежде, являя, наверно, сцену не менее любопытную, чем давешняя с кононовскими вещичками.
Когда от вещей перешли к пересчету купюр, мы наконец облегченно вздохнули. И впрямь, прощупав Кононова до нервической щекотки, перешли к Синему, у которого на груди обнаружили лишь нательный дешевенький крестик, взывавший простить и помиловать.
— Пролетарий старорусского образца! — пошутил Макс, щекоча под мышками Синего.
Таким же пролетарием оказался и я, только не старорусского толка.
Изъяв у меня потертую бумажку с номером телефона, существовавшего, но не могущего дать желаемой связи с той, чьим именем он был помечен, мне разрешили привести карманы в надлежащий порядок. Подписав подсунутый протокол, я сунулся в угол, где уже сидели, дожидаясь своей участи, Синий и Кононов.
Понятые поодиночке удалились, оставив нас с Максом. И тот, долго ждавший этой минуты, воспользовался предоставленною возможностью, пронзив нас тяжелым взглядом профессионала, умеющего безошибочно разглядеть того самого главного нарушителя, каковым представлялся ему Кононов.
— Значит, — выдохнул он, — по-прежнему партизаним… Под откос пускаем социалистический принцип и внедряем частнособственническое предпринимательство… Так куда ж вы держали путь на этот раз?
— Как куда? — простодушно отозвался Кононов. — Конечно, по норам… «Коммунар» отказался от нас… Рассчитались еще на той неделе. В общем — законный развод!
— А где ж ваша техника? — поинтересовался Макс, переводя взгляд на Синего, затесавшегося между Кононовым и мной, с видом стороннего наблюдателя.
— Технику другая смена еще до получки всю демонтировала! — упредил Кононов Синего и на дерзкий профессиональный взгляд ответил не менее дерзким взглядом злостного нарушителя, но не пойманного с поличным.
— Говоришь, расчет получили? — вдруг как-то кисло промямлил Макс, переходя на удобное «ты». — А откуда ж тогда у тебя такая сумма в кармане? Считай, целая штука…
— А куда ж мне эту штуку девать, если нет ни семьи, ни жилья? — вопросом же отвечал ему Кононов.
Макс неплохо знал нашего брата. Знал, что многие в нарушение паспортного режима живут в Москве и с семьями, хоть и семьями их назвать было бы трудно. Знал, но не возразил, нутром чуя подвох в этаком выяснении.
— Однако ты выглядишь барином… Шкурки чужие, что ли? — поднял Макс со стола шариковую ручку и повертел ее перед собой, должно быть, обдумывая очередной вопрос.
Кононов благодарно хмыкнул на замечание.
— От своей мало что уцелело… так приходится лататься чужой.
Макс откликнулся на ответ Кононова улыбкой, но от слов воздержался. Вошел Тереха, положил паспорта с записями по каждому из владельцев.
— Спасибо, — быстро пробежал Макс листочки, после каждого поднимая глаза. Пробежав, откинулся на спинку стула и, посмотрев на меня долгим взглядом, выплеснул:
— Выходит, Максима Горького задержали.
Тереха весело подхихикнул:
— А говорил, банк ростовский ограбил.
— Ладно! — раздраженно перебил его Макс.
Неопределенность была тягостна и бесконечна, поскольку ни Макс, ни Тереха, вернувшийся за свой стол и машинку, уже ни о чем не спрашивали.
Хлопнула дверь, вошедший доложил внятно, почти по-армейски:
— Обмер показал границы в пределах нормы… В нулевом цикле также не наблюдается отклонения… — И тут же ушел, пропустив давешних молодчиков, теперь уже в новом облике, в куртках на меху, мало чем похожих на деревенских парней, несмотря на бутылки с портвейном и банки с маслятами.
— Максимилиан Прохорович, — воскликнул один, — куда же девать реквизит… Бойко на месте нет! А нам на занятия…
— Отнесите к Люсе! Будут целее…
Ребята покинули кабинет, одарив нас улыбками, на что Кононов ответил брезгливой гримасой.
Было очевидно, что облава не удалась.
Такого рода охота предполагала загнать в угол вожака нашей стаи, чтоб предъявить ему обвинение… Обвинять оказалось не в чем и некого. Вожак сидел в этот час в теплой квартире, а подставное лицо могло удовлетворить лишь честолюбивый зуд. А ведь, наверное, ставилось целью схватить мошенника во время сбора денег, что редко делалось на местах. Предусмотрительные бугры рвали свою долю из нас в следующие за зарплатою дни в назначенном месте и в назначенный час, хотя такой обычай был небезопасен Непринесший, правда, рисковал много большим — увольнением. А работу можно было получить лишь у бугра, потому что подобным нашему брату контингентом мало кто интересовался. Словом, буграм нужна была рабочая сила, а рабочей силе — бугры за отсутствием других предложений. Вот и ходили в одной упряжке чуть не враждующие стороны и не предавали друг друга даже в пору немалых испытаний, что никак не вязалось с логикой правоохранительных органов. И все же, несмотря на подобного рода предусмотрительность, многие бугры попадались время от времени. На это рассчитывали и в данном случае, но сорвалось.
Между тем время шло к вечеру. Дневной свет уступал силе электролампы.
Макс и Тереха время от времени перебрасывались шутками относительно того, что будто кто раньше сядет, тот раньше и выйдет… Шутки, хоть и казались безобидными, не были лишены адресата.
Но вот наконец мы все друг за другом вывалились из парадного — Гришка Распутин, Кононов, Синий и я. Наполнив легкие чистым морозным воздухом, вдыхали всю бездну свободы. Последним финишировал дядя Ваня, возбужденный от внезапной радости до опьянения.
— Вот что, — заговорил он, — вертайтесь втроем.. Надо срочно пресс вывозить… Видать, все перешуровали в колхозе… — Мы с Гришкой пойдем в соседний район, может, там до весны притулимся.
— Ладно, — сказал Кононов, сдавая ему полномочия главнокомандующего, и, досадуя на изъятие записной книжки, проворчал: — Зачем им мои телефоны?
Часа через два, кое-как добравшись до ближайшего поселкового центра на попутной машине, мы решили эту ночь переночевать в ночлежном доме, где не раз приходилось хорониться.
Забившись в комнатушку все втроем, мы заглушали неприятные последствия облавы, пока Синего не потянуло в сторону. Он сидел прямо под ночником, какой то неестественно малиновый, словно библейский персонаж, и лил откровение, такое ненужное в нашем обиходе барахло.
— Когда я работал в Воркуте… — тянул он.
— А что так далеко? — подначивал Кононов, не удерживая Синего от излияний. — Жил в Москве, а работал аж в Воркуте?
Но Синий не думал обижаться. Изобразив подобие улыбки, упорно продолжал:
— Будто не знаешь!.. Работа как работа, под стать нашему брату… Думаю, вот вернусь в Москву в свою коммуналку и заживу. В чужие дела встревать больше не стану. Культурно заживу, тихо… Может, и оженюсь на детдомовской девке. Сам-то тоже детдомовский. Стало быть, понимание между нас будет наверняка. На заводе как-никак площадь подкинули, как всем детдомовцам нашим в Москве, на Островского. Оконце на Пятницкую. Дом самый высокий на улице, а этаж самый последний. Сижу у окна вечерами и баранки с маком пожевываю. Любил. Жую, значит, эти баранки и на Пятницкую гляжу. А через крыши — на белый дымок «Рот фронта». Шоколадный запах курится над улицами, будто в саду барыбинского детдома…
— Ты лучше расскажи, как тебя Дуся охомутала… — подколол Синего вконец повеселевший Кононов. — Не нужно автобиографию…
— Погоди, Серега, может, это в последний… Успеешь и ты напрокудить, — отмахнулся от него Синий с обидой в голосе, потянулся к бутылке, отпил. Хотел закусить, но передумал. Занюхал хлебом. — Прошло три года… Сам знаешь, что значит зона. Пространства много, а жизни нет… Все тобой командуют. Во всяком бараке вор блюдет законы лагерной жизни. Все как подо льдом — нету продыху. Надзиратели не мешают. Управлять им так вроде лучше… — Входя во вкус, Микола продолжал изливаться, посвящая нас во все подробности коммунальной драки, из-за которой пришлось ему оставить вид из окна на Пятницкую, на трубу «Рот фронта» и изведать во всей красе лесоповал в Воркуте. — Думаю, вырвусь из этого ада и буду жить тихо. В бога верить там стал. Ночами с ним разговаривать. Крест мне один удружил, не так, не задаром… Теперь, думаю, дадут по щеке, так другую подставлю, пускай себе лупасят. А попал я тогда за потаскушку, что жила в нашей коммуналке… Не разобравшись, можно сказать, солидному человеку, бухгалтеру, скулу набок свернул. Кричу на него: как ты смеешь женщину так оскорблять! Говорю, она и так одинокая, а ты ее принародно… А он мне: человек, мол, ты свежий, не знаешь, что она мне в кастрюлю кидает! Одно правда, она все в их сторону морду воротит и вопит на всю квартиру. Ну, излупцевал я его от всей, можно сказать, души. А он бухгалтером секретного завода оказался. Ну, пошло-поехало: протокол, участковый, свидетели. И что же? Потаскушка тоже в свидетели. Говорит, сама видела, как детдомовский невоспитанный хам человека до смерти бил… Обратите внимание, говорит, что у него воспитание — ноль! Грубит всем, да еще тунеядец… И правда, месяц как я не работал, поругался с начальником цеха… В общем, вернулся я оттуда в Москву, а в Москве жэковские не принимают, говорят, ты, мол, не наш… таким в Москве делать нечего! В комнатушке моей какая-то бабуся живет… Кроватку мою вместе с тумбочкой в подвал откатили… И мне сказали: катись! А куда катиться — в милиции объяснили… Пошлялся по областям, ехать-то некуда, тетушек нет, братьев тоже. В детдом — стыдно, уже вроде большой. Так хорошо бы снова мальцом да сиротой к ним — к своим — в тепло. В Дорохове прибился к художнику. Он не то что там жил, а так — мастерская-дача. Сам-то в Москве. Поговорил со мной со вниманием и говорит, живи, в ус не дуй. Приеду, говорит, пропишу! А не прописали. Рядом с дачей цех стоял по пошиву рукавичному. Смотрю, ребята там крутятся. Зашел. Покормили, по-собачьи оскалились на мой рассказ и сказали, куда и к кому податься. Живет, мол, под Александровом Степан Семенович Кушкан. Вот, мол, прямехонько к нему и иди. У него там таких, как ты, аж четыре проколоты… Проколет и тебя. В месяц червонец! А кто ж он, спрашиваю, такой? Отвечают: «Стукач в отставке…»
Кононов при упоминании Кушкана поерзал, должно быть, восставая против сословия.
— …Потаскал меня по ментам этот Кушкан, со всеми за ручку здоровался, как собачка собачку, обнюхивал, смеялся глазами. Неприятный тип, однако помог, проколол, деньжат за три месяца вперед запросил. Спросил, где искать, если появится надобность, и все такое, что неприятно. Ну, я все же сказал. Даже адрес художника дал. К нему-то захаживал часто. Он все больше сидел на порожке дачи и не спеша мыл кисти в растворе. Разложив их на терраске сушить, звал в дом коньяком «баловаться». Пил и сам иногда по-черному… Ну, говорит, Микола, покеросинили ж мы с тобой давеча, и сердито выпуклый лоб наморщит — умный дядя, — и про себя глухо кого-то ругает, расхребетили, говорит, русского человека.
Кононов потянулся к бутылке, отпил, булькая. Уронил голову на подушку, матерно в нее выдал.
Синий, переждав его приступ, снова двинул рассказ медленным шагом.
— Микола, раз говорит, помоги деликатное дело сообразовать, за помощь, мол, заплачу. Надо, говорит, прах родителей сюда, на местное кладбище, перенести. Лучше к ним буду наведываться, чем эту гадость глотать, от которой лучшие люди мерли в России. Поехали. У него «Победа» с тентом была, уже старая — дребезжит, как лоханка, но катит ничего, с ветерком. Родители похоронены в Балашихе, считай, в самом центре. Художник узнал, что кладбище через несколько лет ликвидируют, а на месте его что-то построят. Не хочу, говорит, Микола, чтоб на костях их сидела эта махина! Разгородили мы захоронение. Ограду он свез, а мне деньги сунул, пойди, говорит, пообедай. Ну, пошел я в столовку. Захожу, а на раздаче девчонка в чепце. Она сразу мне приглянулась. Глядит темными сливами. Лицо детское, неотступное. Гляжу, значит, и не вспомню никак, зачем сюда заглянул. Народ — туда-сюда! Она и сама — нальет тарелку и смотрит. Пошел я мыть руки. Вернулся. Хочу сказать слово, а оно застревает. Поняла она, что я так ничего и не скажу, и спрашивает: «Что будете?» А я молчок, хоть убей! Наливает она тогда молочного супу, а на второе — гуляш. Молочный суп я с детства любил. Второе менял на него, чтоб еще слопать тарелку. Думаю, вот хорошо. Помаленьку оттаивать стал. В кармане пусто, да на душе густо. Стал дважды на дню в столовку ходить. Вот, думаю, пойду и скажу, что дорогой мечталось. А не могу. Погляжу — и молчком обратно. Хожу день, другой, хожу неделю. А она выйдет, глянет пронзительно и на первое суп молочный нальет, а на второе гуляш положит. Ем и смотрю. В голове жарко, и в горле слова так и плавятся… В общем, трескаю, как говорится, морду нагуливаю, а более ничего. Начали мы могилки раскапывать. Сперва отцову. Сразу после войны помер от ран… Художник сердитый такой, лоб наморщит, слезы стоят в глазах, а лопату не отдает. Здесь, говорит, я сам… Тихо-тихо выгребает суглинок, совочком подкапывает. А над ямой, над самой бровкой белая холстина разостлана. Боюсь. Думаю, вот-вот гроб покажется… А он сгнил — одна щепа, как кость, в суглинке торчит, все в нем перемешалось. И вот, Серега, череп… Маленький. Вместо глаз — пустота… Художник вытер череп платком, рукой погладил и в слезы ударился. Плачет и косточки на холстину к черепу приобщает, снова в них ковыряется… Я бегом в столовку. Выворачивает меня наизнанку, рвет в сердце постромки. Увидела моя в окно, что я такой вот, и стрелою ко мне. «Что с тобою, миленький? Кто это сделал?» — платочком мне лоб утирает. Просидел я весь день возле столовки, а есть не могу. Курю и на художника поглядываю. Жалко его. Он ничего не предпринимает, сиди, мол, ежели худо… Я поднялся, пошел к нему через силу. Холстину он узлом завязал, положил на сиденье сзади, два ведра черно-красной землицы принес. «Спасибо, Микола! Я один бы не справился! Мужик ты, — говорит, — настоящий!»
Стояло лето.
Мы с художником после этого дела крепко накеросинились. Сидим и пьем молчком аж до утра. Через четыре дня поехали еще раз. Теперь уж мамашу копать… Считай, недели две ездили. Ездили и когда могил уже не было. Ямы закидывать. Вроде бы все. А художник голову свесит и глядит прямо в землю. А мне вроде бы радоваться грех, да, прости господи, весь одурманен счастьем, оттого что снова Дусю увижу, а может, и словцом переброшусь. И впрямь! «Знаешь что?» — говорю. «Знаю, — смеется. — В кино пригласить вроде хочешь…» Сходили. Показывали про свинарку и пастуха, а может, наоборот, уж не помню. Помню, весь фильм пропели они вдвоем, а в конце поженились… По правде сказать, мы плохо смотрели, все больше друг к дружке льнули, за что на нас сзади шикали. Ну, что там тянуть, подружились…
— Дак ты не тяни! — в нетерпении бросил Кононов, сердито вертя глазами, облитыми малиновым светом.
— Работаю в цеху, рукавички крою, а сам дождаться не могу, когда другая смена подменит, чтобы к Дусе смотаться. Жить вроде стало интереснее, легче. Кушкану аккуратно деньги вожу, отвечаю на вопросы его хитроумные. Не один теперь — и не страшно! Живу у художника, кое-чем помогаю. Случается, поворотит меня спиной к речке, стянет рубашку и малюет карандашами, потом красками, дак картина выходит. Да вот однажды, когда художника на даче не было, вваливаются менты и говорят: собирайся! И пошло: кто? зачем родился?.. ограбить его хотел или мстил?.. «Не хотел! — отвечаю. — То есть — не знаю!» — «Что не знаешь? Зачем угрохал?.. Признавайся! Там вот свидетели в коридоре сидят… Тогда будет хуже…» Подержали три дня и на улицу выгнали. Угостили пинком напоследок, и так обидно… Через этот пинок расхотелось и к Дусе ехать… Потом-таки поехал, не утерпел… Она как увидит меня в окно — на улицу! Бежит и плачет: «Разве ж так можно, миленький? Разве ж так можно?..» — «Да какой я «миленький»? Уголовник я, уголовник!» — отвечаю и тикать от нее обратно. Да она догнала, хватает за руку, удерживает. Ты, говорит, судьбой мне назначен… Вместе огорчаться, вместе и радоваться нам бог положил… Зря, мол, не рвись, не отпущу… Я, конечно, одумался. Походил-побродил по поселку, на пруд пошел глядеть, как пенсионеры плотвичку из него тянут. А вечерком, как уговорились, к Дусе. Жила она с матерью, состарившейся не по годам, в комнатушке, чуть большей, чем моя прежняя на Островского. Гляжу — две кровати, а между них занавески, наполовину раздвинутые. «Здрасьте, мамаша, — а сам к стене жмусь, неловко. — Дуся меня пригласила…» — «Вижу, — отвечает, — что Дуся… — Старушка неприветливая, губами сердито чмокает. — Коли, — говорит, — пригласили, так будьте, — говорит, — любезны садиться! Сидючи время быстрее катится…» Вредная женщина! Не понравилась, но терплю. Не к ней пришел, к Дусе. Сажусь, а Дуся носится, на мамашу просительно выстрелит, при случае что-то шепнет. Та ей в полный голос: «Взрослая! Небось сама себе голова! А знай, что я противная этому делу… Хоть бы в Никольское, что ли, съездили да на боженьку поглядели, дозволит он вам срамоту али нет…» Разговор мне непонятен, а нутром чувствую, что и меня он касается. Попили чайку с кагором, потом — еще, но уж без кагора. Время склонилось за лес, темень упала. Пора и мне честь знать. Засуетился я, за угощение благодарю. А тут мамаша входит в Дуськину половину с подушкой. Дуся мигом на кухню. А мамаша в полный голос: «На этой ты будешь спать, на той — Дуся!» Гляжу на подушки, и стыд пробирает. Осерчал я на Дусю. Думаю, вот потаскушка! Стиснул зубы, жду, что, думаю, дальше! Терять-то мне нечего! А за Дусю обидно… Мамаша зашторила две половинки и, видать, легла у себя, свет погасила. Дуся над кроватью ночник засветила, а в глаза мне не смотрит. Да и я головы не поднимаю. «Микола, спать уж пора», — и свет выключает. Признаться, с бабами давно не водился, а тут — на тебе баба! Зашуршала Дуся, и я то же самое. Лежим и помалкиваем. А там, на той половинке, мамаша молитву шепчет, богородицу поминает. Потом притихла. А молитва, как картофелина, в ушах у меня печется, будто бы на крутом откосе детдомовского огорода… Пролежали до утра, но уважения к себе не потеряли да слуха мамашина не осквернили. «Доброе утро, мамаша!» — сказал я на рассвете. «Здравствуйте, коли доброе!» — И засуетилась, заспешила в дорогу. Я и сам засобирался. Тут Дуся вцепилась, не отпускает, маманя, говорит, сейчас к сестре пойдет в Салтыковку. И впрямь мы с Дусей на пару остались, оробели пуще прежнего от свободы… Тычется в грудь мне и говорит: ты-де богом мне определен. — Синий грустно рассмеялся. — И сейчас не понимаю, что такое оно — первородный грех… А в Дусе вместо ожидаемой бабы честь сбереженную встретил… Понесла она и родила дочку — свет жизни! А только прежней радости мы друг к дружке лишились… Поди разберись, кто виноват. Живем — каждый для себя, хоть все вместе это семьей прозывается… — Синий умолк, затем встал, вышел в сени, принес оттуда воды в большом деревянном ковше.
Учуяв шаги Синего, служитель ночлежного дома, косоротый Сашка, забормотал за печью, препираясь с женой.
По горнице перекатывался жаркий дух, лишая нас сна.
— Вот Синий Дусю тут поминал, — начал Кононов, должно быть и сам подбитый к откровению. — Вот он все тут о Дусе, а ее, может, этим часом кто-нибудь своим теплом припекает… Все бабы без разницы — что твоя, что моя… Такая природа их сучья! — Кононов весь набухал ненавистью к такой природе, заглядывая в тайное тайных своей души.
— Слышишь? — обратил я внимание Кононова на шум за воротами.
Кононов, не уловив лукавства, прислушивался.
Кто-то без устали ходил под окном по снежному насту.
— Метель! — сказал Кононов и вернулся к рассуждению о женщинах, тихонько подталкивая рассказ на себя, приправляя его, в отличие от Синего, густою и горькой иронией. А дойдя до курьеза с гречневой кашей, лихо тряхнул вихром. — Суд закончил слушание и предоставляет мне возможность публично покаяться. Не хотите ли, подсудимый, что-нибудь сказать напоследок? Как же, хочу, говорю! И, отыскав глазами серое пятнышко, Верку, кричу во весь голос: «Верка! Хочу гречневой каши!» — Зал загудел… заерзал… Хохочет, улыбается, становится на глазах живой плотью. Вижу, серое пятнышко жалко свернулось, сделалось маленьким, плачущим. Сломалась ее комсомольская прыть. А я как заладил — Верка, хочу гречневой каши, — так и кричу! Зал от веселья дохнет: во, мол, Серега дает напоследок… Вот его как наградили, а он народ потешает… В общем, мент, который стоял за спиной, получает сигнал, давит мне на плечо, сиди, мол, помалкивай, развлекать будешь, видно, иного зрителя…
— С чего это тебя потянуло на кашу?
Кононов вслепую пощупал пятернею бутылку, обхватил ее, но к губам не поднес.
— А-а… какая там каша… Это я ей за то, что забыла, с чего у нас начиналось! Мне тогда исполнилось восемнадцать. В армию скоро идти. А Верке шестнадцать. Зашла как-то утром. Воскресенье. Прямо к завтраку угодила. Ели гречневую кашу. Крупу тетя Нюра прислала из Лук. Братья уже свое слопали, а я тихонько смакую. Отправлю в рот пол-ложки и давай молотить. Тут-то и Верка явилась, а мамаша моя: «Кашу будешь?» — «Буду», — и садится напротив меня. Мамаша моя чуть не плачет… Каши-то больше нету. Братьев как ветром сдуло. А мамаша мне: поделись, мол.. Дала она Верке ложку, а я своей провел в миске бороздку, мол, что ближе к тебе — твое, а что ко мне — мое! Так и едим эту гречневую рассыпную, на воде, без масла и молока Верка поначалу придерживалась бороздки, а потом, гляжу, нарушает. В общем, загребает с моей стороны. Щеки надуваются, а глаза хохочут от озорства. Думаю, дам ей подзатыльник и никто не увидит. Мать вышла. Стало быть, в самый раз. Да смекнул, что от этого не выиграю ничего. Придвинулся к Верке лицом и говорю: «Отсыпь-ка мне каши!» — и лезу ближе. А она не противится, и пошли мы целоваться, замирая от восторга и нежности. Тут застукала нас мамаша… Как треснет меня моею же ложкой, чего, мол, девочку глупостям учишь… С того раза мы с Веркой ни разу гречневой каши вместе не ели, а про тот случай не забывали. Пять лет мы с Веркой дружили, а на шестой поженились. Брат мой, который постарше, к своей бабе жить переехал. У нее своя комната на Тимирязевке была. Младший — Димка — уехал к тете Нюре в деревню. У той дочка на выданье удавилась… Мой отец и муж тети Нюры, дядя Жора, свояками приходились друг другу. Оба в тридцать шестом загремели.
Насторожившись, я прислушивался к шагам под окном, к беспокойному хрусту…
— Да это метель лупит по ребрам избы… — успокоил меня Кононов и заглянул в лицо Синему. — Ты что, как таракан, глазами по столику бегаешь?
— Жрать охота, — лениво отозвался Синий и, подцепив что-то малиновое из остатка в тарелке, мерно задвигал челюстями.
— После ремесленки на завод определился… Учили так себе, несерьезно. А вот на заводе пристроили к инвалиду, так тот обучил слесарному делу! Работаю, в армию не берут, из года в год переносят. А год-то уже пятьдесят второй. Мне уже двадцать четвертый идет. Живем с Веркой в смежной с мамашиной комнате, задыхаемся в страсти, света белого стесняемся и лампочку не включаем, неловко. Верка очень стеснительная была… В общем, привыкали друг к дружке. И вот тебе на!.. Жили тогда возле Новослободской, в Косом переулке. Верка с Пашкою, моим другом, в одном доме, я в другом, но в одном дворе. Пашка первый открутил эти вешалки и отволок домой. Потом и другие стали откручивать. И все по паре… Оставалась одна. Так и зацапали на проходной! Давай обзывать и так и эдак… Все возмущаются, и даже те, кто благополучно миновал проходную… Припаяли, в общем, и отправили с пересыльного. Народ всякий. День везут, ночь везут, а России конца и краю не видится! Душе тесно, хочется на простор, пусть лагерный, но скорей… Чего уж говорить, все знают, что это за изюм. Год промаялся, а потом притерпелся. С клопами да вшами. Вроде полегче. Писать никому не пишу — осерчал. Правда, мамаше иногда пару слов. А она мне вязаные носки пришлет, еще кой-чего, да все отбирают — народ, мол, выносливый, не подохнете… И не передохли! Тут амнистия, да у меня нарушения были, и не коснулось. Сказали, корми дальше вшей, а тогда будем решать что к чему. На шестом году Верка выклянчила, видно, адрес. Спрашивает: ждать или нет? А у меня к ней и жалость, и ненависть… Предала нашу гречневую кашу! Думаю, пусть себе поступает как хочет, не отзовусь! Развернул письмо, читаю — роман, не письмо. Правда, местами черной тушью аккуратно целые строчки вычеркнуты. Раскаивается за свою дурость… Мол, украшения эти и у Пашки имеются, а он живет себе и горя не знает… А в конце: спасибо, мол, комсомолу, что он глаза на правду открыл! И просит простить дурость, потому как только со мной хочет есть гречневую кашу… Упал я на нары и захрюкал от боли, от своего и чужого свинства… Писать, однако, Верке не стал. Думаю, чего уж — каша небось давно уж прокисла! А вот упоминание о Пашке за живое задело. Народ за это время успел оплакать и осудить Сталина! Стукнуло тридцать один, и я снова родился — вышел на свет! Думаю, все позабуду, назло всем буду жить гордо! Спешу в Москву, начинать новую жизнь. Залетаю под вечер в родной Косой переулок. Дворовая мелюзга подтянулась. С замиранием души — прямо к двери. Подходит мамаша, открывает, рыдает навзрыд. В комнате кровать свою вижу. Смежную, в которой мы с Веркой привыкали друг к дружке, заколотили, а из коридора пробили. В общем, медсестра в ней какая-то поселилась. Поплакала мамаша, все по порядку порассказала, а напоследок: не ходи, просит, к Верке, чужая она нам… Наутро рванул я к старшему брату на Тимирязевку, не обрадовался. Зачуханный, лицо немытое, пьяное. Жена того хуже — усохла, ужалась, сама, видно, пьет. «Зачем же ты, — спрашивает, — вернулся домой? Засекут в квартире, да и мамашу выселят!..» — «Не выселят, — говорю, — нет таких прав!» Он улыбается: «Узнает Пашка, что вернулся ты, — выселят… Он теперь участковый и к Верке примазался… Разменялась она с родителями, одна на Покровке…» Я расстроился. Стал домой приходить ночами. Подойду со своим ключом да на цыпочках, а чуть свет… Прибился тоже в Дорохове к рукавичникам, с Синим там познакомился. Он меня по соседству с Кушканом прописал. А жить негде. Запил. Свои пропью, угощает Синий. Тут дядя Ваня с Гришкой с цеховскими ребятами подружились. Жили по той же дороге, в Давыдовке. Руки у них всех умелые — все наладчики. Наладят машинки, а там и гужуют с нами. Приехали как-то под вечер. Повозились с машинками, чтоб ниток они не тянули — не рвали, а за это Парамон, наш бугор — его поезд потом сбил, — их угощает. Выпили и мы с Синим. Зима. Вечер молочный, стало быть, ранний. Домой меня потянуло. Добрался, вставил тихонько ключ, открываю, а он, Пашка, уже ждет, на табурете у телефона сидит. Гладенький, шею нажрал. При форме. В звании младшего лейтенанта. Заработал, пока я там вшей своей кровью откармливал. «Здорово, Пашка!» — говорю, вроде в дружках ходили, в одном дворе живем, ремесленку опять же вместе заканчивали. Только я попался, а он — нет! Пашка сидит как сидел и говорит, мол, я вам, гражданин Кононов, не Пашка, а Павел Иванович Сухоруков! Думаю, шутит, подлец. Ан нет! Встал, обстукал все двери в квартире, пригласил всех соседей и спрашивает: «Вы этого человека знаете?» Те, конечно, хором: «Знаем!» Тогда Пашка и говорит: «Хорошо, что знаете. — И протокол составляет. Пишет сноровисто, а закончив, сует на подпись соседям: «Распишитесь, что гражданина Кононова распознали, нарушителя житья коммунального…» — «Да ты чего, Пашка, я уйду! Слышь, уйду и больше сюда не приду! Зачем мамашу-то подвергать?..» — «Не я ее подвергаю! А вы, гражданин Кононов!» — отвечает Павел Иванович Сухоруков из-за спины мамаши. Морда у Павла Ивановича круглая, жирок выкатился под подбородок, щеки точь-в-точь как у мясника. Думаю, не Пашка, а в самом деле мясник. А может, наоборот, мясник вырядился в мента? И от этой дурной мысли потянуло меня на смех. Улыбаюсь и говорю: «А вешалки-то у тебя висят, Павел Иванович Сухоруков!..» А он: «Гражданин Кононов, вы в нетрезвом состоянии… Предупреждаю, если через минуту не покинете сами квартиру, будет вызван наряд… А если еще раз обнаружу нарушение квартирного режима — пущу эту бумагу в ход…»
— Откуда это у нас берется хамье? — проговорил Синий и крепко приложился к бутылке. Выдув хорошую порцию, выдохнул. — Жрать охота, Серега.
— Значит, скоро помрешь! — отозвался сердито Кононов, подступаясь к рассказу.
Изба уже выстудилась. Умерли шаги под окном, а Кононов продолжал свою повесть без прикрас, какими обычно изобилуют воспоминания.
— Ушел я тогда… Но про себя положил с Пашкой где-нибудь встретиться и как следует поговорить по душам… Навел справки. Узнал Веркин адрес и пошел по Самотечной к Покровке… Спешить некуда — нигде вроде не ждут, да и время совсем не в цене, чтоб особенно торопиться. Иду, всякие мысли обкатываю, а мороз их крепко прихватывает. Шапки нет. Кепь драная. Миновал Харитоньевский, прошел дальше и — сиг во двор. А во дворе длинный дом в два этажа. Отсчитал на первом четыре окна слева направо. Есть, горит! За занавесками тень. Постоял, покурил, и в подъезд. Думаю, про-верю-ка, как там каша, не прокисла ли? Под кнопкой звонка и моя фамилия значится. Вроде бы меня нет, а вот, поди ты, живу. Даю четыре звонка. Открывает женщина, но не Верка. Впускает меня и говорит: Верка в ванной, мол, а рукой указывает на приоткрытую дверь. Вошел. Тепло после улицы, свет глаза слепит. На тумбочке — наша свадебная фотография. Молодые, глупые… Входит Верка. На голову полотенце чалмой накрутила. Смотрит и плачет, с места не сдвинется. И я стою, не двигаюсь. Изменилась или не изменилась? По старым порядкам мне бы полагалось спросить: как жила? И если скажет: не одна! — лупцевать всей мужицкой правдой. Да уходил-то я не на заработки, стало быть, прав у меня — никаких! Баба есть баба! Что кошка, любит тепло. Коли своего нет — к чужому потянется… — Кононов ненадолго умолк, унимая старую ненависть в горле. — В общем, до утра… Грудь слезами обмывает, не отпущу, говорит… Куда ты, туда, мол, и я. Не боюсь, говорит, выселения… Утром выскочил, а она за мною: «Придешь?» — «Не приду!» — отвечаю, бегу, а у самого в горле першит. Думаю, пусть досыта настрадается, иначе какое там понимание… Прошла неделя… То у старшего брата переночую, то у Гришки или у дяди Вани. У дяди Вани, хоть он добрый, но реже, жена нелюдимая. Говорит, изба вам не съезжая, чтоб кажного пускать ночевать. Дядя Ваня, понятно, молчит. Он пришлый в этих местах, сам кое-как прилепился. Своей хаты под Ставрополем после войны у него не стало. Фрося — баба дородная, властная! Что-то она в Кунцеве строила и пригрела своего инвалида. Тогда Давыдково деревня была. Колхоз. Обошел всех по разу, кого и по два, а дальше куда? Не домой же? И вот тут-то решил еще раз наведаться к Верке. Она тогда ключи еще мне дала, ты мне муж, говорит, а не хахаль какой-то. Я и пошел. Во дворе огляделся — никого, ни души. А мороз проклятый кусается, когтит шкуру. Иззяб. В местах переломов (подарки лагерной жизни) так и свербит, хоть вой! Отпер тихонько и прокрался к Веркиной комнате. Вставил на ощупь ключ. А из комнаты мужской голос: входи, говорит, открыто… Ну вот и встретились, думаю… На кровати Пашка, ноги в сапогах ментовских по полу разбросаны, китель на стуле висит. В общем, ждет Верку. Ночничок, как лампадка, тлеет в углу. Пашка вскочил и к кителю. «Стой, не спеши, Павел Иванович Сухоруков! Тебе той квартирки мало, так сюда подобрался…» Бросился и подмял его, то бишь Павла Ивановича. Перевернул мордой к полу и о дубовый паркет хряскаю. Это тебе, говорю, за мамашу, это тебе за Верку, а это за вешалки… И снова по порядку… И такое удовольствие получаю, словно пасхальные куличи сладким чаем запиваю… Да недолго удовольствие длилось. Соседи прослышали и, оказывается, позвонили… Ворвались к нам, скрутили меня, а по дороге за своего сотоварища ребра мне пересчитывали, покуда одного не лишили. Протокол тот, понятно, пустил в ход. Стало быть, суд. На суду обвинительный листок хорошо поставленным голосом прочитали. «Находясь при исполнении служебных обязанностей, младший лейтенант Сухоруков Павел Иванович…» — и так далее и тому подобное. Мой защитник, плюгавенький человечек в детских очках, попискивает. «Прошу учесть, что младший лейтенант Сухоруков Павел Иванович не мог находиться на чужом участке при исполнении служебных обязанностей! Я прошу суд…» — и красненьким носиком-клубничкой уставляется в зал. Зал, конечно, хохочет. В цирке за клоунов деньги платят, а тут — бесплатно… «При исполнении!» — отвечают ему. Тут мой старший брат не утерпел и прямо с места: «При исполнении каких обязанностей?..» Зал пуще прежнего хохочет. А баба ему на морду ладонь, как узду, чтоб молчал, не лез куда не просят, сами, мол, разберутся. В общем, вынесли восемь за попытку к убийству младшего лейтенанта. Верка, однако, опротестовала решение, на кассацию подала, а кассация три скостила. Ну, думаю, не рожден я для свободы, а свобода для меня. Знать, в тюрьме мне подохнуть… По правде говоря, где она, воля, если в рукава дышишь от страха: туда нельзя, сюда не полагается! А все одно в колонию не хочется. Народ на вольной жизни не очень сочувственный, а в колонии и подавно! Укатали меня с другими уголовными мордами из пересыльного, чтоб окончательно ожесточился сердцем на человека, на порядки, которые будто бы самые мудрые люди придумали. Теперь, думаю, только бы выжить, чтоб остаток жизни как следует употребить… Надо, думаю, перво-наперво заколоть Павла Ивановича, а там поглядим, что дальше делать! И мысль шальная покоя все не дает. А что, если каждый, кто из заключения выйдет, своего Павла Ивановича порешит? Справедливо? Справедливо! Но вскоре понял, что в мыслях моих есть какой-то изъян. Но какой? Привезли на лесоразработку в Микунь, в тот самый, куда мы с тобой в семьдесят первом с экспедицией поехали… Мне там в аккурат тридцать два года исполнилось. Зима. Холод. Выходит, и года не погулял. Летом Верка там навестила. Навезла гостинцев лагерному начальству, свидание организовала. За время, которое я Верку не видел, она успела обабиться. Веселые девичьи глаза сделались грустными, а щеки остались такими, какими были, только чуть тяжелее. Ты, говорит, Серега, теперь не убивайся, все путем сделаю: работа у тебя будет легкая и почет тоже особый… Жили, говорит, мы не так. Поговорили о том о сем, и спрашиваю про своих, про мамашу. А Верка голову опустила, в глаза не глядит. Думаю, мамаша померла. «Рассказывай, что с мамашей?» Мамаши, говорит, твоей в Москве уже нету — выселили ее из-за тебя… К сестре и Димке уехала в Луки. Я большой палец сунул в рот, прокусил его до костей. Что это за жизнь, что кругом перед всеми виноватый? «Ладно, — говорю, — мне теперь все одно не жить, а ежели и выйдет жить, то кое-кому уйти из нее придется…» — «А кое-кто, — отвечает Верка, — и без твоего пострадал: семь ножевых ранений в грудь получил, еле жив остался, на ладан дышит…» — «Жаль, что кто-то меня упредил, — говорю, — я бы одним ударом сердце нашел…» Уехала Верка, а меня, как обещала, на легкую работу определили: кручусь-верчусь в зоне, одна видимость… А наш брат тем временем вкалывает на разработке… Иные копышатся, день убивают… В общем: какая кормежка, такая работа. Кручусь-верчусь в зоне, а все одно человеком себя не чувствую. Стала Верка чаще наезжать с полными сумками, угощает всех, кого надо… Где подарками, где деньгами откупит мое эдакое легкое существование. Хлопочет о досрочном освобождении, но зря. Считай, со срока срок схлопотал! Пошел последний год. Выпускать меня из зоны стали, хотя тогда Микунь то же, что зона. Все только мечтаю из нее выпрыгнуть. Даже деревья в городе не сажают, не украшают. Пылища кругом! Бежать — не убежишь! Кругом охрана. Даже с моста охранники наблюдают за идущим товарняком с лесоматериалом, чтоб кто-нибудь не улизнул из большой зоны. Приедет Верка, комнату снимет опять же у лагерного служаки, и мы целых пять дней на улицу не показываемся — друг на друга растрачиваемся, как в молодые годы. Вроде бы ожесточение маленько пожухло, и жизнь ключом во мне забила. Теперь как вспомню про Пашку, аж жалко становится. Хороший ведь малый был. Детство вместе с ним провели. Непонятно даже, что его так скрутило. Как подумаю, что не жилец, дух перехватит: ни жены, ни друзей, да еще без звания оставили, видать, за очередное паскудство… Теперь и не поймешь, кому легче, мне или ему. Я хоть без золотой рыбки остался, да при разбитом корыте с какой-то надеждой на перемену… А у него? Шиш с маслом! Приехала за мной Верка в теплой шубе. Морозы трескучие. Барахла мне теплого навезла. Костюм югославский, сапоги теплые на меху, полушубок, шапку-ушанку ондатровую. Отмыла-отскоблила, сама же побрила, вот только волосы не отросли. Слава богу, что сохранились. Напоследок попойку в честь моего освобождения лагерным жлобам устроила. Дали бумажку мне, и — айда! В поезде, в котором все шныряли охранники с овчаркой и пистолетами на боках, Верка мне говорит, что комнату свою разменяла на квартиру в Бирюлеве, мол, никто про то, что ты отдыхал в Микуни, не знает и знать не будет. Живи-де человеком, вот только проколись за сто первым… Сыграли мы с Веркой, можно сказать, снова свадьбу — три дня гуляли, пока подруги ее каблучки вконец не разбили. А потом начали поглубже в «себе» оседать, устраиваться, чтоб поменьше соприкасаться с чужою лозунговой жизнью. Мы по горло были сыты ее подгоревшею корочкой… Отбарабанит Верка в магазине и — домой! Дома чай с вареньем, а то и вино сухое грузинское с сыром. Верка директором в овощном работала, копейку хорошую делала. Людей своих подобрала — комар носа не подточит! И на пролетарской базе тоже знакомцы: осетины вперемешку с грузинами да армянами. Словом, крепко работают. А если что невзначай случится, так и на этот случай у них свой Женька имелся. Живем, вроде о лучшем мечтать нельзя… Крыша над башкой, барахло, и еда, и свобода во всю ширь, насколько зренья хватает! Живи, радуйся! Да не тут-то было, фиг с маком! Нету ее, этой радости. Вся вышла. Скучно жить: еда, тряпки, вино-пиво! Те, что сильно заскучали, в потеху ударились! Верка вроде бы и не рвется, а скучает жестоко. На работе вроде бы весела, при деле, дома — не то! Год прошел, другой, а я пристроиться не могу. Ребят не слышу! В Дорохове цех раскулачили, ребята — все врассыпную! Ищи ветра в поле! Синего искать ринулся. Кушкан надоумил, ищи, говорит, Миколу у трех вокзалов, там они (не сказал: бродяги)! Хожу день-другой, неделю, но зря. А тут возвращаюсь на электричке, гляжу — на товарной движение. Народ по повадкам знакомый. Думаю, погляжу-ка вблизи. Наутро оделся, взял портфель, как на работу, чтобы соседи чего не подумали, и на электричку. Задремал в ней и проехал товарную, вышел на Павелецкой. Ну и ну, коли так, решил, съезжу хоть погляжу на свой Косой переулок. Доехал до «Новослободской» и иду, давешний сон вспоминаю. Что ни шаг, тем все четче. Стоит, значит, мать над моей кроватью, я еще маленький, и гладит: ты, говорит, Серый, прости этому Пашке, сдуру он, по незнанию жизни тебя обидел… пойди помирись, пока он сам не осерчал, что ты не сумел простить его… Иду и грустнею от этого сна. Так уж и быть, помирюсь с Пашкой, а на неделе к мамаше поеду, может, что и подброшу. Зашел во двор, во дворе люди чужие, утекло мое время с родного двора, другие зато подтянулись и в свое время живут. Им конечно же не грустно, они со своим временем в союзе, вместе идут! А мое — утекло! Душа болит, будто все мое вымерло. Даже деревья кажутся чужаками. Не простили разлуки, тепло глаз моих выстудили, другим отдали, живите, мол. А мне-то куда? Стоит молодежь во дворе, нахальная, дерзкая, буравчиками буравит. Один подходит и спрашивает: «Вы кого же здесь ищете?» — «Где здесь Сухоруков Павел Иванович проживает?» Тот рукой указывает на подъезд и почему-то ехидно посмеивается: «Только он теперь помирает…» Поднялся по знакомой лестнице. Нажал на звонок. Пашкина сестра отпирает, но меня не признает и ведет за собою в комнату Пашка лежит без движения, только часто с ленцою позевывает, а глаза убежали под лоб и там кувыркаются, светясь пожелтевшим белком. «Здравствуй, Пашка! — говорю я тихо и становлюсь над ним. Он высох. От прежнего Пашки ничего не осталось. — Узнаешь меня?» Большой онемевший язык ворочается во рту, но сказать ничего не может. Кое-как промычал: «Узнаю». Темными зрачками уставился на меня. «Ну вот, Пашка, я и пришел. — Пашка моргает, вижу, мол, что пришел. — Пришел помириться. Прощаю тебе, Пашка, все… Я за доверчивость свою уже заплатил, да и ты — за свою! Выходит, мы квиты!» Постоял еще немного — и прочь. Следом Пашкина сестра семенит. «Да ты ли это? — интересуется. — Неужто же ты?!» — «А что со мной сделается! Стало быть, я!» — «А маманя где ваша?» — «Померла в прошлом году…» Я сбежал вниз и замер под тополями. Не могу понять, что происходит… Молодежь весело скалится. Детвора носится с криком. На душе погано. Никогда теперь другого Пашки не будет! Обидно, что не смог облегчить ему уход. А как облегчишь? Словами? А где эти слова взять, если все так вот перемешалось, перебродило, но еще не отстоялось?.. Рванул я в Хотьково к Ивану Митрофановичу. Проколот был у него. Кушкан не захотел таким подарочком, как я, обзаводиться, к Митрофановичу направил. Деньги вперед ему на год привез, накупил гостинцев, вина, чтоб не осерчал ненароком за то, что справку ему не предъявил с места работы. А где ее, эту справку-то, брать, если все только отмахиваются. Подарки и деньги принял, а про справку все равно напомнить не забыл. Гляди, говорит, парень, как бы тунеядство не вышло… Тунеядства для полного комплекта мне не хватало. Через два дня съездили с Веркою к Митрофановичу. Неделю пожили. Она, видно, подбросила деньжат для того, кто справкою допекает, пока я пристроюсь. Довольный Иван Митрофанович поручения сделал всякие Верке. А я все отыскиваю Синего. Думаю, куда ж вся республика застопервокилометровая провалилась? Неужели квартиры все получили, работой обзавелись, с прежнею жизнью не знаются?»
…В одном исподнем к нам ввалился вдруг Сашка косоротый, просительно поглядывает.
— Чего тебе? — передернуло Кононова.
Воспользовавшись паузою в его повествовании, я юркнул в постель. Изба выстудилась за ночь изрядно.
Моему примеру последовал Синий.
— Извиняюсь, — сказал Сашка, угодливо засматривая в лицо Кононову. — Слышу, не спите… наведаюсь, думаю…
— Сашка, — оживился Синий, — капустки у тебя не найдется? Жрать охота…
— Да как не найтись? Найдется! — обрадовался Сашка, зашлепал ступнями по полу, приволок миску капусты с хлебом и поставил на тумбочку. — На здоровьице!
Синий жадно запустил руку в миску, загреб пятерней капусту, зажевал с громким хрустом.
— Не тебе одному принесли! — недовольно проворчал Кононов и тоже принялся есть. — Гуга, тебе что, приглашение особое нужно?
Между тем, пока все мы втроем утоляли голод, Сашка ждал вознаграждения, трусливо поглядывая в сторону печки.
— Это… как бы моя не проснулась… — проговорил Сашка.
Синий дал ему бутылку:
— Пей!
Пока тот булькал, заливая горло вожделенною влагой, под окном вновь ожили чьи-то шаги.
— Слышишь? — обращаясь к Кононову, кивнул я на окно.
— Слышу! — внимательно вслушался и он.
— Авдеюшка, — хмыкнул Сашка, передавая бутылку Синему. — Ходит, Митрофановну ищет. — Сашка заливисто рассмеялся. — Она еще прошлой зимой померла, а Авдеюшка ищет: не верит.
— Ты-то чего ржешь? — осадил его Кононов.
— А того, — ухмыльнулся Сашка, — что Митрофановне житья не было от него… А померла, закручинился! Самому, что ль, срок приспел?
— Не болтай, чего не знаешь! — оборвал Сашку Кононов, потянулся к бутылке, отпил и, не выпуская ее из рук, грустно умолк.
Сашка постоял еще и, видя, что больше не предлагают, попятился.
— Ну, я пошел… благодарствую… Тарелки попрячьте в тумбочку.
В комнате вновь стало привычно — ночь без сна! Сон не предвиделся, поскольку Кононову не терпелось, как умирающему, досказать непременно сейчас.
Авдеюшка между тем продолжал искать Митрофановну, шаркая валенками по накатанному снегу.
Чтобы воочию увидеть столь странное существо, я раздвинул легкие занавески, прильнул к окну и сквозь заиндевевшую форточку разглядел старичка в тулупе с поднятым воротом. Он медленно топал по улочке перед частыми избами и постукивал валенками друг о дружку. А рвущаяся с крутояра метель осыпала старца крупой и уносилась стремительным сквозняком на площадь, в этот поздний час унылую и сиротливую.
— Вот и посумерничали, — сказал я, чтоб умерить пыл Кононова…
— Отоспимся на том свете, — откликнулся Кононов и глянул на Синего. — Откинул копыта…
— Ну а мамашу как, навестили? — спросил я, удобно устраиваясь в постели и, по примеру Синего, собираясь уснуть под неумолчное бухтение Кононова.
— Как же, навестили, да поздно… — отозвался он с чувством горького раскаяния за мамашу и благодарности мне за то, что вернул его к прерванному повествованию. — Пока мы с Веркой раскачивались, набирали барахла для деревни, доставали продукты, пришла телеграмма из Лук, да, видно, что-то на почте напутали, запозднились… Поехали, а мамашу уж похоронили… Съездили на погост, в голос с Димкой поплакали. «Скажи, Серега, отчего у нас жизнь такая? — спрашивает меня Димка. — Распихали нас по углам…» А что ответишь? Говорю, теперь, Дима, все так живут… А он — коли иначе нельзя, то вовсе жить не хочу… Ишь ты, какой умник нашелся! Ты кто, говорю, такой, чтобы жить не хотеть? Ты, что ли, жизнь придумал? А может, ты сам себе ее дал? Вот штука-то в чем. Жизнь-то надобно оберегать! Кто ж тебе погасить ее в себе позволит?! А коли так, выходит, жить надо! Вот, к примеру, зерно — легко ли ему? — и колотят, и мнут бока, иной раз ногами пройдутся, а в земле зароют — колоском взметнется! Опять возвращается хлебом, чтоб кому-то от собственного радения радостно стало… А я, говорит, тебе не зерно — второй раз на свет не приду! Злость на него берет, хоть возьми да и тресни. А нельзя, стоим на погосте, к тому же малых старшие не бьют из-за того, что не разумеют… Учить надо их! А кто научит? Во мне в самом, с тех пор как бока обкатали, доброты осталось чуть-чуть! Да и где возьмешь милосердие, ежели его не посеяли… Уехали мы с Веркой. На душе погано. Вроде бы все путем, но как задумаешься, что-то не «тае», как моя бабка говаривала. Хожу, в рукава дышу! Вроде бы человек, а живу в вечном страхе: вдруг заловят? Как-то спрашивает меня мой школьный товарищ: где, мол, сейчас живешь? А я коротко: за сто первым! А бабка какая-то рядом: дак это ж совсем рядом с Москвой… Я подалее вас проживаю, а в Москву катаю за маслом да колбасою… Так что не гневайтесь, молодые люди, близко живете… Мне уж за сорок, а еще жизни такой, какую себе придумали люди, не видел. Ментомания одолела. Увижу на улице или где-нибудь в помещении, так весь и вздрогну. Тут еще Иван Митрофанович: давай справку пришли, не то как тунеядца засудят… Ну да ладно! Не жить мне все одно нормальною жизнью… Нервы не те! Не по мне эта пакость… Пойду лучше в бродяги! Там-то все одинаковы. Стадно живут… Найдется место и для меня. Москва, считай, вымерла — ни одного знакомого… Народ весь чужой, ершистый. И речь-то заглохла московская. Выхожу, значит, на Павелецкой-товарной. Сошел с платформы и между путями иду. А в тупике грузин один, ну, замухрышка такой, сидит у цистерн с коньяком дагестанским. К нему друг за дружкой машины, а он коньяк в них качает. Шланг тяжелый, от давления так и подрагивает. Слышу, по-своему с дружками лопочет. Тут-то и углядел я то стадо, к которому собрался примкнуть. Словом, уголовные морды. Где попало ночуют. Кое-кто зимой на отсеки общественного туалета забросит поддон, какой-нибудь картонкой застелет и ночует там. Благо ночью, кроме дежурной бригады, нет никого. Милиция, коли нет кражи, не трогает… Посмотрел я на ребят, вроде знакомые. Известно, сторонятся меня, тряпок моих пугаются. Бросил два червонца замухрышке и говорю: налей-ка ребятам! А дождичек моросит летний, ленивый. Вокруг вонючие лужи, мочой отовсюду шибает. Один сгонял через пути в магазин, хлеба да колбасы приволок. А грузин дал ведро одному из ребят, а сам шланг в него опустил. Вскоре в аккурат полное налилось… Ребята потому тут и крутятся, что знают про хитрость: из шланга обратно в цистерну не пустишь, насос там стоит. Вот и ждут, когда работе конец, чтобы выклянчить. У каждого банка припасена. В общем, примазался я к ребятам. Они, оказывается, ждут какого-то Леонида Ароновича, когда он их с экспедицией от МПС в Микунь повезет на все теплое время. И я надумал с ними напроситься да поглядеть еще раз на Микунь. Шесть лет с того времени минуло… Мне уже сорок три, на календаре — семьдесят первый… Ночую по-прежнему дома. Так вот стою целыми днями, наблюдаю, как дагестанский коньяк грузины сгружают. Как-то под крышу овощной базы взобрался. Дождь лил, помню, сильный. Эта летняя база там же рядом стояла. Народ на базе расторопный, крикливый, взад-вперед бегают, глаз не спускают с посторонних, овощи и фрукты там ранние. А тот грузин-замухрышка широченный пестрый зонт вскинул над головой и под ним, как в теремке, на стуле сидит, ждет последней машины. Тем временем к нему то менты на своих машинах, то какие-то штатские подъезжают. Все как один с канистрами из пластмассы. Отправили последнюю машину. Ребята окружили «теремок», просят из шланга отлить. Но замухрышка улыбается и показывает на коричневую лужу: спляши, мол, и получишь. И вот, опережая друг друга, ребята лезут в эти коричневые лужи и неистово сучат в грязи ногами. Сверху льет… Закусил большой палец, дрожу от гнева и ненависти к ним…
Кононов говорил еще что-то о тех ребятах, но я его уже не слушал, так как случай свел всех нас вместе в экспедиции от МПС… К тому же, не в силах противиться навалившемуся сну, стал куда-то проваливаться.
Не знаю, что и как дальше происходило, но сквозь дрему мне слышалось хмельное ворчание, грохот, но я так и не смог пересилить себя, выйти из забытья…
Проснулся я поздно, спал, видно, некрепко, потому как, пусть смутно, но отпечаталось все: стон и шарканье старичка, возня Кононова.
— Твои ни свет ни заря на дорогу пошли, — сказала хозяйка ночлежного дома, прибирая кровати.
Я поднял голову, но рухнул снова, понимая, что это надолго, как тогда, в больнице.
— Катайся! — сказал я Кононову.
Кононов поднял на меня глаза и, поняв смысл сказанного, наглухо замкнулся.
Следующее утро началось с той же просьбы дяди Вани и Гришки Распутина, что и вчера. Как и вчера, им позарез нужны были все те же два червонца. Но на сей раз отсутствовал Синий. Он глухо стонал на тулупе, свернувшись калачиком, и вызывал не сострадание, а скорее, насмешку более благополучных товарищей.
— Подавитесь!.. — в сердцах выкрикнул Сергей Кононов и швырнул деньги прямо просителям под ноги. — Работнички…
Теперь наша полубригада, распавшись на части, ходила вразброд: дядя Ваня и Гришка Распутин вместе, Лешка сам по себе, а мы с Кононовым, как близнецы, — неразлучно. Вот только Синий уже принадлежал не столько себе, сколько полатям.
Умирая от тоски и безделья, мы с Кононовым вновь принялись за огород. На этот раз по всем правилам поднимали грядки, сдабривая их лесным перегноем.
В цеху, стоявшем в поле через дорогу, тем временем бражничали дядя Ваня и Гришка Распутин. А к вечеру, свалившись от дурноты в организме, там же отсыпались и лишь утром вновь приходили в избу просить денег.
Один Лешка, поладив с птицами, тешил их игрой на расческе, заменявшей губную гармошку.
И все это — бесконечный запой, игра на расческе, чужая изба, чужая жена, случайный прохожий с ней, огород, птицы, жгучее солнце, легкий ветерок, остужающий тепло, и время, будто бы раз и навсегда остановившееся, и ожидание, и еще что-то такое, что не переводится на слова, — казалось пережитым в другой, давней жизни. Тело и душа грузнели и оплывали от бремени неисчислимых лет.
Потеряв чувство времени и страха, в нарушение выработанного с годами устава, мы, как древние старики, дремали на завалинке, словно постигнув некую тайну бытия.
Дядя Ваня и Гришка Распутин, чуть-чуть помаячив в избе, выходили в деревню с утра и приспосабливали там к крышам вырезанных из жести, раскрашенных довольно яркими красками петухов, получая за это трешницу или выпивку. Платили старики и старухи, видевшие в петухах возрожденье былого: «Спасибочки вам, добрые люди…»
В магазин из-за долга дяди Вани и Гришки Распутина вход нам был заказан, и за хлебом и сигаретами приходилось посылать Стешу, тоже совестившуюся продавщицы.
Наша неплатежеспособность была унизительной, особенно для Кононова, человека, не стесненного отсутствием наличного капитала, и, выждав день-другой, он заглянул в магазин и прямо с порога изъявил желание погасить долг «своих».
Хотя слово «свои» Кононовым было употреблено в предложении рядом с другими, но оно явственно выпадало из них, потому что себя и присутствовавших при разговоре, то есть меня и Стешу, к слову «свои» он не причислял.
— Шестьдесят два рубля. Ровно! — отчеканила продавщица, глядя бесцветным зрачком на Кононова, полезшего в карман за японским бумажником из крокодиловой кожи, и, с минуту помешкав, вытащила из-под спуда тетрадь, раскрыла на последней странице. — Пожаловайте, вот, как есть!
— Благодарю, Лизавета Петровна! — сказал Кононов, отстраняя движением ладони тетрадь должников, и, легонько выдернув двумя пальцами с десяток розовых ассигнаций, отсчитал от них семь штук. — На сдачу пряников и сахарку, да еще дешевых сигарет для «своих».
— Отчего так сурово? — удивилась Лизавета Петровна, трогая в улыбке подкрашенные губы. — Разве они не ваши товарищи?
— Пожалуйста, — сказал Кононов, — если не хотите подавать на всесоюзный розыск, воздержитесь от торговли под карандаш…
К обеду, когда дядя Ваня и Гришка Распутин пришли, против всякого ожидания, к сроку, как на званый обед.
Кононов встретил их с усмешкой:
— Ах, вот они, работнички! Проголодались, наверно, после трудов… Не желаете ли, Григорий Парамонович, водочки да табачку? А ты, дядя Ваня? Чего уж стесняться! Делов-то — сто рубликов с гаком, да время с неделю…
Пристыженные бражники, пьяно водя глазами, кого-то искали в комнате, не сознавая в полной мере кого. Но тот, кто давно выпал из поля зрения, лежал на полатях и не подавал признаков жизни.
— Микола, дружки твои припожаловали, — сказал Кононов в приступе злого веселья. — Вставай, принесли бормотуху.
Микола не отзывался.
— Гуга, гляди-ка, может, уже и помер…
Синий, он же Микола, лежал на спине, сложив руки на животе, и молча, одними глазами, плакал. Редкие слезы катились по щекам и западали за ворот рубашки.
— Ну что — помер? — спросил снизу Кононов, но уже без прежней насмешки.
Отрешившись от нас, от самого себя и пав в полосу отчуждения, Синий жил уже другой жизнью, прерванной еще в ранней юности… И оттого, что она оказалась короткою и недоброй, он исходил слезами, оплакивая себя еще в прошлом.
Тронутый предчувствием смерти, я сошел со ступенек стремянки и задами двинулся в поле, где, взмывая стрелами в небо, звонили в свои колокольчики жаворонки.
Поздно вечером я тихо вошел в избу и, столкнувшись со взглядом Миколы, потупился. Спущенный с высоких полатей, Микола лежал на раскладушке, поставленной впритык к дивану, и пристально глядел на меня.
В изголовье его сидела Стеша со стаканом киселя и помешивала в нем ложечкой.
— Принял настойку столетника, — тихо проговорила Стеша, улавливая в глазах моих ужас. — А киселя вот не хочет… Ночь скоротаем, а утром в район за врачом…
Я увидел в окно спасительный огонек в помещении цеха и, не спрашиваясь у Стеши, торопливо вышел.
Кононов, чуть подавшись вперед, сидел на табурете за прессом, а Лешка на скорую руку кроил медную бухту, давая пищу прожорливому чудищу, шесть лет тому назад списанному одним московским заводом и с тех пор кочевавшему с нами по весям и городам.
Подхватив несколько пряников с подоконника, где рядом с кульком стоял и китайский термос, я и сам приступил к работе, рихтуя деревянным молотком раскроенную на пластинки медь.
Повидавший на своем веку пресс красовался на бетонной тумбе, вылезшей из-под пола возле самой двери. Сбоку падал на него свет мощной лампочки, высвечивая из густой мглы только Кононова. В глубине, на дощатом столе, где Лешка, раскручивая бухту, кроил цветной металл, я складывал аккуратной стопкой отрихтованное сырье и пододвигал его под правую руку Кононова, строчившего, как из пулемета, автоматическими ударами. Со стуком сыпались вниз наконечники, в которых радиотехническая промышленность испытывала острейшую нужду.
Для получения нужных заказчикам размеров мы располагали всеми необходимыми пресс-формами, наладчиками коих в нашей полубригаде и были Гришка Распутин и дядя Ваня. Люди пенсионного возраста, некогда отдавшие своему ремеслу на заводах многие годы, подряжаясь в полулегальные мастерские, продолжали свое прежнее дело, но с большей, нежели на предприятиях, выгодой для себя, потому что наладчики в нашем деле ценились по высшей ставке, за что не без основания их берегли, как генералов военного времени. От умения этих людей зависели и успехи, и неудачи. И все же, несмотря на высокое положение, наши стратегические генералы, в отличие от военных, не были свободны и от черновой работы. Засучив рукава, они трудились бок о бок с нами, чтобы успеть в короткие сроки — в десять — двенадцать дней — обеспечить бригаду полной зарплатой. Такая неумолимая тактика и была у нашего бугра главной. Нашими же руками наказывал он нас подобными заделами, механически отправляя в категорию «воздушников».
Сейчас, когда «генералы» дрыхли на топчане после очередной схватки с бормотухой, мы, их рядовые, вели рукопашную в цехе, строча из тяжелого пресса автоматными очередями и время от времени поглядывая на мерцающее ночником окно Стеши.
Пресс, сотрясая тупыми ударами бетонное основание, бубнил сердитую песню деревне, обещая с каждой выплюнутой штукой благоденствие, скрытое пока завесою мрака.
Вымотавшись за ночь до головокружения, мы отключили пресс и, выпив по стакану чая с пряниками, вышли из цеха. По дороге к дому, у проселка увидели Стешу. Она шла не поднимая головы и тихо и часто всхлипывала.
Кононов вырвался вперед, почти бегом припустил ей навстречу, поравнявшись, на миг замедлил шаги, но, ничего не спросив, прошел быстро мимо.
Синий по-прежнему лежал на раскладушке, но с раскинутыми в стороны руками, отвисшей вниз челюстью, заведенными вверх потухающими белками.
— Микола! — неожиданно для всех заревел Кононов и разом рванул в «темницу».
За ним поспешил и Лешка, оставив нас со Стешей наедине с Синим.
— Принеси белую тряпицу! — сказал я, пересиливая страх и отвращение к покойнику, и, поддев подбородок, ощутил еще теплую и податливую плоть. Перевязав челюсть и прибрав покойника, я вышел во двор. Пошел дальше, без цели, где-то на лужайке зарылся лицом в колени от отчаянного одиночества, от ощущения в правой ладони предсмертного чужого тепла.
Вечером Синего перетащили в цех, положили на рабочем столе в ожидании жены, по двое бодрствуя возле.
Наутро почтальон принес телеграмму из Балашихи.
Лаконичной телеграфного речью жена сообщала, что приехать не может.
— Сучка! — зло выругался Кононов, комкая телеграмму. — Все они до единой — сучки! — И, переждав, пока поутихнет гнев, отправился в соседнее Илькино заказать гроб и приглядеть на погосте место.
К полудню гроб привезли, подкатили телегу прямо к порогу цеха, где все еще покоился Синий, и, снарядив-таки его в последний путь, проводили на сельский погост по трясучей дороге, миновав сначала Федюнино, а потом и подлески, вытянувшиеся по-над оврагом, за которым нерасторопные, но усидчивые рачинцы строили длиннющий коровник.
Углядев еще издали процессию с дядей Ваней и Гришкой Распутиным во главе, строители прервали веселую песню и разом сорвали с кудлатых голов сванские круглые шапочки.
Поравнявшись со строящимся коровником, Кононов покосился на крышу, на которой в молчании, отдавая дань памяти вечному страннику, застыли строители, и прошептал мне едва слышно:
— Грачи прилетели…
Я и без Кононова хорошо знал «грачей», гнездившихся с ранней весны до глубокой осени в далеких северных землях, где особенно ценилось их ремесло.
На сельском погосте вместе с могильщиками, нанятыми по случаю, нас встретили и те, кто, прослышав про похороны, явились по доброй воле. Почтительно подождав, пока мы простимся с покойником, они подхватили гроб, понесли к яме и, обойдя яму трижды, поставили его на землю в ожидании речи. Но речи не последовало. Так ли уж незамечательна была жизнь Синего или не было среди нас того, кто мог бы что-то сказать, но мы постояли молча, пока все те же люди не подхватили гроб и не спустили его на веревках в яму. Посреди других невыразительных могилок, поросших лопухами, вскоре выросла и могила нашего собрата — Миколы, прозванного кем-то Синим, чтобы, слившись от роду сорока восьми лет с землей на чужой стороне, рядом с чужими людьми, стать их случайным спутником на вечные времена…
И вот теперь, собравшись за поминальным столом и выставив угощение — кутью и водку, в такой час особенно горькую, — мы молча просидели весь вечер, а наутро уже всей поредевшей полубригадой потянулись в цех и с остервенением приступили к работе, торопясь наверстать упущенное, изводя пресс и себя…
На четырнадцатый день нашего ожесточения к нам наведался бугор. Он был в своем неизменном сером в полоску костюме. Из карманов выглядывали свертки с обычными дорожными харчами — два-три вареных яйца да хлеб с солью.
Жадность, преследовавшая его, была столь велика, что у него, по свидетельству дяди Вани и Гришки Распутина, можно было выпросить все, кроме самой жадности. Она нужна была ему позарез, чтобы иметь деньги, которые доставались ему ценой унижений, порой вызывавших к нему брезгливое отношение даже у близких. Но и он, случалось, проявлял безмерную щедрость из любви к футболу. Пару раз он выбирался на матчи, надевая все самое лучшее, наверно, то, что обычно хранилось под строгим присмотром его молодой жены, и садился в гуще фанатичных болельщиков «Спартака».
Выбирался он, как правило, на матчи с братом, худосочным и колченогим Родионом, чтобы было с кем порадоваться на пару. А так как свои походы на стадион бугор всегда связывал только с победами, то поражения «Спартака» оказывались особенно огорчительными и происходили по вине Родиона, отвлекавшегося во время кульминационных моментов у ворот «Спартака» на постороннее. Такие выходки брата бугор называл изменой и, уходя после игры, проигранной «Спартаком», недовольно ворчал: «Знал бы я, Родя, что ты придешь целовать «Христа», ни за что на свете не пригласил бы!» Издержав целых три рубля — на себя и на Родиона, — не считая подорожных, бугор затворялся и не выходил на примирительные звонки брата. Но и эта сильнейшая его страсть к «Спартаку» меркла перед другой, материальной, побуждавшей его, снарядившись в дорогу и затолкав в карманы хлеб-соль и вареные яйца, с головой уходить в сложнейшие операции.
И сейчас, что-то, видно, задумав, он недовольно вышагивал взад-вперед, хмурился, чтобы, взбудоражив нас преждевременно, обезоружить к моменту борьбы, к которому мы и в самом деле «перегорали».
Угадывая неизменную его стратегию, «генералы» отмалчивались, давая страстям разыграться до нужного накала.
— Опять, Ваня, аспирин принимал? — с наигранной суровостью сверкал бесстрастными глазами бугор. — Выгоню к собачьим чертям! За две недели не приготовил ни черта!
Кононов, стучавший на прессе, а потому лишь угадывавший, о чем пошла речь, отключил мотор и, приглядевшись к бугру из-под прищура, заявил:
— Ну что, опять нас дергать приехал? — Он полез в карман за сигаретой. Курил, по обыкновению, самые дорогие… Зная это, бугор загодя протянул руку, хоть курил изредка. — Деньги когда будут?
— Будут…
— Это мы уже слышали! — сказал дядя Ваня, обильно потея лицом. — Да вот должок накопился, не знаем, как расплатиться… Подбрось маленько!
— Уволю, Ваня, ежели хоть раз услышу, что побираешься по деревне! — посуровел бугор, возвращаясь к прежнему разговору.
Кононов, затягиваясь первым дымком, перевел взгляд на дядю Ваню, с дяди Вани вновь на бугра, нисколько не веря сказанному. Ибо он хорошо понимал, зачем завещали дяде Ване, да еще инвалиду войны, такое рискованное хозяйство, как наше. Именно такой человек, как он, и мог увести хозяйство от возможного «погрома» с наименьшими потерями в живой силе, какую в первую голову представлял сам бугор.
— Не уволишь! — с веселой дерзостью возразил бугру Кононов, подливая масла в огонь. — Такого дурака, как дядя Ваня, на всем свете не найти…
Бугор нахмурил седые кустистые брови, сшибая их на переносице, поделенной бороздкой думающего человека, и, переглянувшись со всеми, перевел разговор в новое русло:
— Дуся доверенность вот на меня прислала… Говорит, не давайте Миколе, пропьет…
— Не может быть! — сердито насупился Кононов.
— Вот посмотри, — протянул бугор доверенность Кононову.
— Микола уже не пропьет! И кто же сварганил эту липу?
Бугор, не понимая, что происходит, протянул к Кононову руку, но уже было поздно — Кононов разорвал доверенность не читая.
— А где же он?
— Он там, где больше не пьют! — весело осклабился Кононов. — Дусе не денег, а рязанского кобелягу.
Бугор, он же Никифорович, растерявший имя в погоне за подорожною милостью, глупо выпучился на дядю Ваню, и тот, потея от натуги, жалостливо пояснил:
— Помер… Два дня тому похоронили…
— Ну, курва! — покачал головою бугор и, как бы вынимая буравчики глаз из бедной дяди Ваниной плоти, простодушно добавил: — Вот те бабы… Мужика схоронили, а она…
Гришка Распутин расписал Никифоровичу о мучениях Миколы, о похоронах, через слово поминая щедрость Кононова, оплатившего все, от обмывания до могильщиков.
— Вот кого и надоть благодарить, — заключил Гришка Распутин. — Пущай Серега и получает! Свое возьмет, а там дочке отдаст, она-то евоная…
— А ты откель это знаешь, что евоная? — огрызнулся Кононов на неприкрытую лесть Гришки Распутина. — Ты в ногах, что ли, у них стоял?
Гришка Распутин промолчал виновато. Как-никак перед Кононовым не вспылишь — нос в пушку! Лучше проглотить и ждать для мести нового случая! Пусть куражится!
Наступило раздумчивое молчание. Бугор, осмысливая услышанное, то и дело недоверчиво поглядывал по сторонам, словно ища взглядом Синего. С чего это Ване врать? А может, хитрость какая кроется и его надувают? Вроде бы стоял человек на своих двоих, и на тебе — нет! Вздор ведь какой-то!
— Хватит меня разыгрывать-надувать! — сказал на всякий случай Никифорыч с полуулыбкой на оплывшем лице.
— Да чего уж там, — обиделся дядя Ваня и скрипнул протезом в подтверждение сказанного. — Схоронили в соседней деревне.
— Да будет вам! — вдруг сердито выступил из угла Лешка, протирая руки смоченною соляркою тряпкой. — А насчет денег так: с каждого по двадцатке, не одному только Кононову, а и нам!
Бугор пристально вгляделся в Лешку, коротко поддакнул ему:
— А что, небось с вами работал…
— Ну, вот ты первым-то и гони! — сказал Кононов. — И с тобой ведь вкалывал в Дорохове, вместе рукавички шили!
— Ну шили! — насупился бугор, не желая вспоминать то прошлое, когда он и Синий в одной упряжке ходили.
— Ну и шили! Короеды вы все! Как беда — в кусты! Помрем все, только у какого дорожного столба — вопрос!..
Разговор об усопшем на этом и закруглился. Каждый думал о своем. К вечной муке и радости готовиться нужно умеючи. Где с кулаком, где и с умишком, пусть немудрящим, а все же своим.
Что задумал бугор? Какие силки приуготовил? Поди, не раскусишь! Поговорить бы, может, вылетит какое словечко. Знамо дело! Слово — не птичка, обратно его не загонишь! Вот и думай, на то башка!
Дядя Ваня и Гришка Распутин в канун получки всегда думали-рядили, прикидывали, а выходило не так, стало быть, по бугру. Это злило их, да и сейчас озлила хитрая разведка «верховного». Не зря ведь слопал целых три яйца по дороге, аж десны желтком залеплены.
— Ты чего, Никифорыч, явился-то? — спросил Гришка Распутин в лоб, не скрывая своего раздражения.
— Ты уж видеть меня, что ль, не можешь? — развел руками бугор, одаривая собеседника иронической улыбкой. — Потерпи, Гришка, еще с часок!
Зная коварство бугра, все насторожились. Теперь-то и начнется, наверно, долгая игра на нервах, проигравшему стоящая уступки, а с ней и нескольких кровных червонцев. Пока нам одержать верх не удавалось, но борьба с каждой получкой все обострялась и обещала сдвиг уже в нашу пользу. Он зависел от нашей сплоченности, потому что поражение одного вело к поражению всей полубригады. Но сплоченности-то и не хватало. Давно и так надоели друг другу, а тут еще Лешка! За ним глаз да глаз. Стало быть, единомыслия нет и не будет. Да где ему быть, когда кто-то из нас Иуда и не знаешь, когда и с кем расцелуется. Да ведь люди, да еще такие, что ни в одну графу из общеизвестных не вместишь… Стало быть, кочевать нам и кочевать до скончания века и умереть под забором вдали от родных и близких. А бугру-то! Бедолагами пруд пруди! Особый класс! Вышибленный из общего круга! Мотайся из конца в конец, неси свой горб за собой, отметив земное свое бытие красивым и древним, как мир, словом — бродяга! Бродяга что дворняга! Лает, а ветер носит! Нет, уступки больше не будет! Уступка — новое унижение! Довольно! Не допустим! Вот только бы кто-нибудь не поддался уловкам бугра и не затащил всех в силки! Ох, уломает нас, дурней, уломает! И мы, перегрызшись, как звери лютые, за три дня до получки, притопаем к кассе колхоза, как ягнята, чтоб безропотно уступить — где наша не пропадала! — и дорожные, и другие расходы, предшествовавшие нашим ездкам, хоть они должны были быть бугром нам оплачены. А там рассадят нас по углам, записавши в «воздушники», чтоб бросить нам как подачку за труд наш десять процентов! Расстарались! Работали впрок, да на кого?
Как теперь-то?
Мы или он?
Чередуясь друг с другом, полубригады давали продукцию вперед на три месяца. Но выплачивали за месяц, за работу на одну ездку. Накопление продукции выбивало нас в дальнейшем из числа «пятидесятипроцентников» в «воздушники», что оплачивалось десятью процентами общей зарплаты за вычетом дорожных расходов.
Мы перешли в наступление, в наступление осторожное, так как смельчака-одиночку ждала еще большая санкция — увольнение. По какому-то неписаному закону такого товарища оставляли на растерзание, не оказывая за смелость ни малейшей поддержки. Потому-то каждый сам осторожно пытался нащупать слабинку в привычной стратегии бугра.
— Как дела, Никифорыч, с зарплатой? — спросил я как можно небрежнее, как бы мимоходом, возвращаясь к прерванному разговору. — Обнищали…
Никифорыч, не снисходя до обиды на проявленную мною бестактность, торжествующе сообщил, что сдать продукцию и выставить счет удалось.
— Дня через три-четыре придет!
— Слава богу! — доверчиво подхватил Кононов, добровольно идя на уловку бугра, пришедшего расслабить наши ряды разногласиями и добрыми посулами.
— А ты покудова не спеши! — сказал дядя Ваня в гулкую пустоту цеха, ни к кому конкретно не обращаясь. — Может, еще и увязнет в банке-то.
— В банке не в банке, — сказал Гришка Распутин, — а Иуда еще может подгадить…
Интрига уже раздувалась, и остановить ее нельзя было при бугре, искусно развязывавшем языки. А как вдолбить каждому, чтобы помалкивал да в оба глядел?..
— А Иуде не дайте улизнуть ночью! — полусерьезно посоветовал бугор. — Не то под утро приведет переодетых ментов и зацелует каждого на свой манер в одиночку. А те на радостях и величать нас начнут «папашами».
— Это точно! — поддержал Кононов, собираясь припомнить эпизод из нашей практики с ментами, но в последнюю минуту раздумал, посчитав это очередной уступкой бугру.
В нашей практике случалось, что, наклепав продукцию в одном хозяйстве и не успев ее сдать потребителю, нам приходилось уходить задами-огородами в другое, таща за собой свои медные побрякушки… Но так, чтобы не успеть получить денег, выставленных потребителем, еще не бывало. И сейчас нам никто не гарантировал, что сможет достичь здесь большего, чем обычно, но сам факт сдачи продукции, если бугор не врал, был приятен, потому что приближал к долгожданной зарплате. Точнее сказать, к зарплатам…
— Будем надеяться, — сказал я, не проявляя восторга оттого, что наконец мы удостоимся кровных рублей, заработанных ценою немалого труда и ожидания. — Копейка в семью — деньги! — пошутил я, намекая на предстоящую борьбу за эти деньги.
Оформившись задним числом, то есть с первого февраля, мы ждали зарплаты за три месяца сразу по уже известному нашей фирме тарифу — пятьдесят процентов, если к получке бугор не изобретет новой механики по «расказачиванию» верноподданных.
Опасаясь именно изобретательности бугра, мы загодя начали переживать и гадать, как это может случиться, переругиваясь и расшатывая и без того шаткие позиции сомнением в возможности устоять, что уже само по себе давало нашему патрону гарантию на успех.
— Три раза по сто семьдесят пять… — стал считать я воздух, заранее определяя нашу твердую позицию и призывая к единомыслию. Но ничего не понявший Кононов, пренебрегая подвохом со стороны бугра до жестокой схватки, высмеял мою арифметику, показывая карты сопернику.
— Цыплят по осени считают! — сказал он, по-детски радуясь.
Лишь Лешка, наблюдая из-за стола, на котором он протирал ветошью металлические пластинки, казалось, не желал ни уточнять получки, полагавшейся ему за две ездки, ни знать о том, что будет получке предшествовать. Не давая воли языку, соображал глазами.
Мне же, чтобы работать дальше, нужна была полная ясность сейчас. Но бугор уходил от ясности, внушая моему сознанию напряжение, чтобы погасить дух противостояния.
Походив по цеху, он вышел в подсобку, помещавшуюся за стеною в пристроечке, где, свернутые в рулоны — бухты, громоздились медь, латунь, алюминий, прихваченные синеватым налетом.
Мгновенно охватив взглядом содержимое склада, потребовал пропустить все сырье за три дня. Слово «три» было подчеркнуто особо и потому ясно рисовало картину предстоящей борьбы.
— Значит, — сказал Кононов, радуясь своей догадке. — Через три дня будет получка…
— А то как же! — осуждающе процедил дядя Ваня, гася преждевременную радость Кононова.
— А что, не будет, что ли? — стал обижаться Кононов на дядю Ваню. — Сказал же человек, что через три дня… Значит, так и будет!
Бугор, не отвечая, только поднял на Кононова глаза, словно прося сохранить тайну до самой получки, зная загодя, что с его уходом эта нарочная «тайна» будет обсуждаться и, стало быть, цель частично достигнута.
— В общем, надеюсь на вас! День и ночь работайте, но сделайте! — наказал бугор и, потирая руки, будто от холода, покосился на Лешку, поманил меня в сторону, вывел за собой на порог, пару раз смущенно откашлялся и принялся посвящать меня в свою тайну, тем самым как бы выказывая особое ко мне расположение.
— Знаешь, я попал в дурацкое положение, — выдохнул он с наигранным смущением и взглянул мне прямо в глаза. — Знаешь, Гуга, одному тебе и могу я довериться…
Напустив на себя вид духовного пастыря, поклявшегося не разглашать чужой тайны, я не спускал с бугра сочувственного взгляда ни на мгновение.
— Гуга, недавно я пережил свою смерть… Самую тягостную для мужчины…
Представив на минуту бугра погибающим на алтаре любви, я с трудом подавил в себе готовую вырваться усмешку.
— Я знаю, — исторгая всю горечь своего тяжелого положения, продолжал между тем бугор, — что ваш древний и мудрый народ хранит секреты против такого позора… И обращаюсь к тебе за помощью…
Он вдохновенно и долго говорил о моем народе такое, о чем я никогда и слыхом не слыхал от самого народа, но выслушал его с достоинством и, кивая в знак согласия, время от времени повторял:
— Спасибо, Никифорыч!
— Когда это со мной впервые случилось, я хотел наложить руки…
— Когда мужчина в твоем возрасте так постыдно кончает дни, — сказал я шепотом, заимствуя у него слово «когда», — уберечь его не в силах сам бог!
Убитый столь мудрой сентенцией, бугор захлопал ресницами, словно прося пощады.
— Гуга, запроси для меня снадобье!
Изобразив на своем лице глубокомыслие, я спросил в деликатной форме.
— Никифорыч, а как с этим, когда ты бываешь с другими? — спросил я, хотя, чтобы бывать с другими, бугру пришлось бы отказать себе даже в вареных яйцах.
— Ну как тебе сказать… — Он в смущении опустил ресницы, давая всем своим видом понять, что при всей любви к жене и принципам верности иногда все-таки нарушает…
— Так как же? — допытывался я, желая во что бы то ни стало на чем-нибудь его подловить.
— Видишь ли… как бы это сказать… я бываю чрезвычайно редко, чтобы судить об этом… — по привычке осторожничал он.
— Меня, Никифорыч, совсем не интересует твоя моральная устойчивость! — почти выкрикнул я. — Я всего лишь спрашиваю: как у тебя с другими?
Бугор, почувствовав некоторое облегчение, открыто взглянул мне в лицо.
— Можно сказать, — поспешил он с ответом, — нормально, если бы не угрызения совести…
— Ах, оставь, пожалуйста, в покое такой пустяк! — сказал я с пафосом актера-бездарщины.
— Ты так считаешь? — спросил бугор после недолгого раздумья.
— Считаю! — с твердым убеждением отозвался я и, на этом ставя точку щепетильности бугра, занялся установлением безоговорочного диагноза. — Вот что, Никифорыч, — повысил я голос, совершенно убежденный в правильности своего заключения. — Заболевание твое кожное…
Бугор вытаращил глаза, не ожидая такого поворота.
— Да, да… не удивляйся! Произошло размагничивание озноба! Словом, утрачено чувство озноба… отсюда угасающий интерес к жене… и, наоборот, к другим…
Бугор, собрав кустистые брови на переносице, зарумянился над моими словами, должно быть, уже жалея, что так по-глупому поспешил со своей «тайной».
Вся наша полубригада знала, что бугор без памяти любит свою жену за молодость. Любит плотоядно, как кошка молочных мышат.
— Гуга, что теперь делать? — затревожился бугор, придавая своему голосу почти натуральный оттенок тревоги. — Ведь есть, наверно, средство…
— Пиши! — сказал я отрывисто и, подождав, когда бугор раскроет блокнот, испещренный мелкими знаками, должно быть, затем легко преобразующимися в рубли, стал диктовать рецепт моего древнего и мудрого народа: — Итак, два килограмма очищенных грецких орехов и связку горького перца… К ним четыре банки аджики, желательно кутаисского производства, в ней больше полезных солей…
— Так, — засопел бугор, осчастливленный тем, что на этом может быть положен конец дурацкой игре. — Записал: четыре банки кутаисской аджики…
И я, чтоб всласть позабавиться над бугром, дав волю фантазии, повелел ему все это пропустить через мясорубку и три раза в день есть по столовой ложке столь ценное снадобье, которое, по предположению бывалого человека из древнего и мудрого племени, могло вернуть бугру подкожные ознобы, так подкачавшие на алтаре любви…
— Спасибо! — сказал бугор, захлопнув блокнот и положив конец бессмысленной игре, затянувшейся по неискренности двух враждующих сторон.
Я дружески похлопал его по плечу и, пожелав быстрейшего выздоровления, покосился на дверь, за которой натужно работал пресс.
Вскоре из нее вылетели дядя Ваня и Гришка Распутин и бросились атаковать бугра, чтоб вырвать у него взаймы два червонца.
— Пойми ты, Никифорыч, задолжали в магазине… — нудили они хором.
— А вы меньше бы жрали! — в сердцах крикнул бугор. — Ни гроша вам не будет! — И, решительно направляясь через гречишное поле к полустанку, зашуршал в карманах газетой, должно быть, отыскивая запасы съестного.
Вернувшись в цех, где Кононов по-прежнему неистово выстукивал… морзянку, я встал у стола против Лешки и тоже включился в работу, перемалывая посеянную бугром смуту.
Неопределенность вытравляла из меня последние силы и вселяла злость на того, кого я только что упустил без должного объяснения.
Делать было нечего! Кость брошена, а значит, нужно глодать ее, ощетинившись друг на друга, пока не набьем оскомину и не поймем, что и на этот раз проиграли без боя.
А он, наевшись вареных яиц, покатит на машине кого-нибудь из «воздушников», ободрав нас как липку, и сделает ручкой, суля новую встречу. А мы, тихие и присмиревшие, стой, и лупи глазами на удаляющуюся машину, и обзывай себя дерьмом за трусость и уступчивость.
Всем нам, оказавшимся по разным причинам на мертвой точке, надлежало жить в той инертной застойной зоне, до тех пор пока каким-то чудом наша мертвая точка не обратится в активную.
Ощущение сиротства, и физического, и духовного, разжигало тоску по близким, подтачивающую психическое равновесие и, как правило, кончавшуюся горячечным бредом в постели.
Я и оказался в постели, в которой со стремительной скоростью временами проваливался в бесконечную бездну, оглашаемую диким криком и, выкарабкавшись, хватался за чью-нибудь руку и обмирал перед очередным испытанием.
Не смерть, но дорога к ней лишала начисто мужества, и я судорожно сжимал чью-то плоть в своих пальцах, всей краткой вспышкой сознания старался удержаться над разверзавшейся бездной.
— Черт бы вас побрал, поскорее! — слышал я голоса в промежутках меж приступами и снова летел в мучительную пустоту…
Но вот после длившихся неведомо сколько испытаний сознание воротилось. Отчетливые глухие удары пресса, от которых слегка подрагивал пол, доходили до меня.
Под лампочкой над столом сидела Стеша и выжимала компресс.
Ночь, и свет, и Стеша, и пресс, и воспоминания, и еще что-то впереди вызывало детские всхлипы, разом и радостные, и печальные. И уже, не стесняясь ни присутствия Стеши, ни вернувшегося сознания, я обливался слезами, как когда-то в детстве, домогаясь материнского утешения.
— Ну ничего, это от слабости! — проговорила Стеша голосом умудренной опытом женщины. — Сейчас кисельку поедим, и все разом пройдет… — И, подсев поближе, принялась осторожно выспрашивать то о том, то о сем, задумываясь и хмурясь. — Судим, что ли?
— Осужден! — отвечал я ей кратко.
— И на сколько?.. — осторожно спрашивала Стеша, понимая слова мои буквально.
— Не знаю, — признавался я чистосердечно.
Стеша, по-своему оценив мой ответ, умолкла, давая понять, что теперь хорошо бы поспать…
Под утро ввалился Кононов и, найдя меня живым, весело сообщил, что «наклепали семьдесят пять… то есть тысяч»…
— Гуга, амба! Старики уже упаковывают. Отгужевали, звери тамбовские! Скоро по домам разбредемся… отмокнем в ванной да побалуемся пивком.
Стеша как завороженная двигалась по избе, всю неделю менялась с кем-то сменой, чтоб не работать ночами.
— Присушил бабу кобель! — сочувственно вздыхал Кононов, тайком глядя на беспокойную Стешу.
Было ясно, что Стеше открылась мучительная тайна любви, не изведанная, должно быть, с мужем. Теперь она, потеряв осторожность, тенью преследовала Лешку, платившего ей также привязанностью.
— Накостыляют ей за любовь! — качал головою все тот же Кононов, подмечая, как любовники в огороде, где все уже начинало всходить и наливаться, льнут друг к дружке на глазах у соседей — Карпа Васильевича и Агафьи Никаноровны.
Заметив Стешино увлечение, они все чаще и чаще садились у межевого забора, обиженно поджимали губы на молодое бесстыдство соседки и напоминанием о муже отравляли ей радость.
— Как там Колька? Пишет али как?.. — спрашивали соседи громко, чтобы сказанное могло долететь и до Лешкиных ушей. — Скоро ли выйдет срок?
— Не скоро! — мстительно отзываясь им, Стеша, как побитая, опускала в землю глаза.
Но старики, позабыв о милосердии, донимали ее плохо скрытыми намеками на супружеский долг.
— Коли соберешься ехать, не забудь зайтить к нам… Гостинцев от нас передашь. Агафья прошлым годом вареньев наготовила пропасть… — говорил Карп Васильевич, маленький иссохший чертенок в худой телогрейке, то и дело выкашливая на землю тягучую слизь.
— Вобла астраханская! — посмеивался Кононов над стариком, слушая его слова, напоенные упреком. — В самый раз его в огород пугать воронье!
В ожидании зарплаты мы все чаще выходили во двор, убивая тоску подсматриванием чужой жизни, тоже тоскливой и грустной от бремени старости и одиночества.
Уйдя в себя, я мало-помалу стал обретать равновесие именно в одиночестве.
— Ну тебя, Гуга, — обижался Кононов, когда от назойливых его вопросов я отделывался молчанием или вопросительным долгим взглядом.
— Устал парень! — возражала Стеша на сетование Кононова относительно моего отчуждения. — Не лезь ему в душу! И без тебя у него там мрак! Понял?
Гришка Распутин, пропадавший теперь у Лизаветы, тоже остерегался встречи со мной, чувствуя, как я раздражаюсь его повадкой говорить и ходить.
— Ничего говорить ня буду! — спешил он заверить меня и, прихватив с собой что-нибудь, улепетывал из избы к своей дородной зазнобе.
Но однажды ему все же не удалось избежать стычки со мной.
— А ну-ка, Григорий Парамонович, подь сюда! — сказал я, когда он заглянул в очередной раз с заверениями в том, что «ничего говорить ня будет». — Не таись, подь сюда! — веселея от неистребимой потребности подраться с ним, двинулся к нему сам.
— Во дает паря! Дак я тебя видь в порошок могу… — ухмылялся он, поглядывая по сторонам и пятясь.
Ныло все мое тело, начиненное зудом самоуничтожения, ныло в желании выплеснуть дикую энергию, чтобы, в жестоком единоборстве растратив ее, угаснуть.
Поняв, что не подраться с Гришкой, я стрелой вылетел со двора и пустился по деревенской улочке к лесу, подталкиваемый в спину усмешкой.
— Сволочь! — бормотал я. — Мерзкая сволочь!..
В 1969-м, окончив один из самых престижных институтов Москвы, я чрезмерно возгордился своей причастностью к культурным процессам того периода, полагая, что теперь и сам буду вовлечен в священное таинство издательств, толстых журналов и газет.
Ничего подобного, однако, не произошло.
Утратив свою прежнюю принадлежность к среде, я невольно оказался в разряде разночинцев двадцатого века, поскольку диплом, чуть откинув завесу с жестокой реальности, стал на моем пути к армии пролетариев непреодолимой преградой.
Предвидя охоту на свою персону со стороны вполне конкретного человека — участкового, — я стал чуть свет уходить из дома и возвращаться за полночь.
Прошлявшись год по закоулкам Москвы, но не найдя милосердия ни в одном из учреждений, свалился в глухом отчаянии, не решаясь поднять глаз на жену, на чью скудную зарплату медсестры мы перебивались вдвоем. Но вот нежданно-негаданно телефонный звонок посулил мне работу в одной из газет.
Работа внештатного литконсультанта, да и Маргарита Соломоновна, коллега, были мне по душе. Деликатная, тихая, мудрая, она вызывала к себе такую же тихую, скромную, не кричащую симпатию. Век бы нам вместе работать, храня уважение друг к другу, но судьбе было угодно развести нас в разные стороны, разорвав служебный контакт через несколько месяцев после возникновения. А причиной разрыва явилось мое отношение литконсультанта к пишущей братии, что стало сказываться на скудевшей с каждым моим ответом редакционной почте.
— Не рубите ли вы сук, на котором сидите? — озабоченно проговорила Маргарита Соломоновна, раскладывая очередные конверты. — Напрасно вы думаете, что вам удалось остудить их пылающие головы леденящим ответом! Вы, голубчик, имеете дело с хроническими больными. Они переметнутся в другую газету.
— Похоже, что так, — отозвался я с грустью на озабоченность Маргариты Соломоновны, поняв крепким задним умом, что все наше благополучие находится в зависимости от потока пишущей братии.
Покрутившись еще некоторое время вокруг опустевшей кормушки, куда нет-нет да подбрасывала кое-что неискушенная молодежь, я был вызван к Бабурке. Так за глаза называли заведующего отделом за сходство с конем.
— Будьте любезны познакомиться, — сказал мне Бабурка и поворотился лицом к своему визитеру, утонувшему в мягком кресле.
Визитер был при орденах. Скромен и сед.
— Вот, Степан Ерофеевич, этот самый…
Я поклонился визитеру, не испытавшему радости от знакомства со мной, и отпрянул назад, догадавшись, что вижу вживе одного из своих отвергнутых авторов.
— Очень приятно! — сказал я, хотя приятного встреча сулила не много.
Бабурка, дав мне освоиться с обстановкой, взял со стола рецензию на вирши визитера и заговорил о литературной этике. Из речей его следовало, что я ею пренебрегаю даже в отношении человека, чьи заслуги отмечены рукопожатием на Эльбе.
Изрекал он медленно, с многозначительными паузами между словами, чтоб подчеркнуть важность каждого. Косил глазами то на меня, то на оскорбленного автора, продолжал развивать тему в той плоскости, какая нужна была для защиты авторского самолюбия.
В смущении опустив глаза в знак признания виновности, я ничем не возражал Бабурке, но и особого уважения визитеру тоже не выказывал.
— Работа с авторами, — сказал в заключение Бабурка, — требует особого такта… К сожалению, такой работе вы еще не соответствуете, о чем свидетельствует случай…
— Ну что ж, — перебил я его, мысленно возвращаясь к прежней жизни, и двинулся к выходу.
Выходя, оглянулся на визитера, у которого не возникло желания даже со мной попрощаться.
Маргарита Соломоновна, уведомленная по телефону, перехватила меня у лестничной клетки и, сочувственно пожимая руку, просила мою обиду на всю газету не переносить на нее.
— Звоните…
Я вытряхнулся на свежий воздух, не зная, куда направиться, так как все закоулки Москвы были мною давно измерены. Теплилась надежда, что, возможно, где-то затесалось нужное мне учреждение, которому могли бы понадобиться мои услуги, и я не жалея ног пустился на поиски, выбиваясь из сил и впадая в отчаяние…
Сухопарый доктор, обстрелявший меня пронзительным взглядом темных блестящих глаз, определил в палату, а наутро принялся терпеливо выстукивать, как настройщик — рояль, выискивать отказавшее звено в сложной цепи моего инструментария.
— Будем лечить, — сказал он, завершив осмотр и закинув гриву смоляно-черных волос на затылок. — Фирма гарантирует…
Разумеется, я ничего не имел бы против, чтобы фирма гарантировала мне возврат, как сказал какой-то писатель, в первобытное состояние.
Приобретая с больничной койкой и горизонтальное положение, я стал обустраивать себя как можно удобнее. А чтоб меньше зависеть от ходячих больных, сложил две подушки, одна на другую, и принялся обозревать заоконный простор. Благо что два широких окна давали такую возможность, выводя мой взгляд на тихую улочку с синагогой в форме правильного треугольника. Во всяком случае, такой представлялась она моему глазомеру.
Расположившись поудобнее на подушках, с высоты третьего этажа я развлекался пристальным обозрением прихожан, шести колонн, сведенных по три, клочком бирюзового неба меж ними, необычным узким, неожиданным сводом.
С приближением вечера тихая улочка оживала. Прихожане приступом брали несколько ступеней синагоги, чтобы прочно обосноваться в ней под всемогущим покровом Яхве.
Так проводил я лучшие минуты больничной жизни, запасаясь наблюдательностью и проницательностью, стремлением не упустить ничего из того, что лежало в обозримой моей близости.
Иногда мой лечащий врач вглядывался в улочку вслед за мной, дабы лучше понять суть моего существа.
— Интересно? — спрашивал он и сам льнул к стеклу, но, не найдя ничего привлекательного, подозрительно вглядывался мне в зрачки.
— Увлекательно, — отвечал я, усугубляя его подозрения.
— Ну-ну… — бормотал доктор и спешил в ординаторскую, соседствующую с нашей палатой, откуда к нам доносились обрывки происходивших в ней разговоров. Чаще всего это были сетования на плохое знание медициной генетических предпосылок… Не избегали молодые врачи и вольной темы, в центре которой неизменно оказывалась Леночка, молоденькая медсестра, недавняя выпускница училища. Разговоры о ней ранили мое самолюбие, так как она была предметом моего обожания.
Легкий флирт между нами вызывал у моих соседей острую зависть, и я отворачивался от них, не отрывал взгляда от улочки. Скрупулезно изучал все тонкости заоконного мира, высвечивая для себя некую тайну. Многих прохожих уже узнавал по походке, манере держаться. Все они начинали свой путь от Солянки, но далеко не все сворачивали к синагоге. Обозрение не ослабляло драматизма событий. Микромир, имевший в своем арсенале все пороки большого мира, дышал, а стало быть, жил по всем правилам жизни, двигаясь по заданной схеме к развязке драмы, забавляя, должно быть, всевышнего на небесном престоле…
Мало-помалу я стал садиться в постели, стараясь, как новорожденный, удержать голову, поникающую из-за расстройства вестибулярного аппарата, но жить, как говорится, стало намного легче.
Разложив какое-нибудь чтиво, запрещавшееся врачами, на подоконнике, я подолгу просиживал над ним, не отрывая бдительного ока и от Солянки. Между тем легковые машины подкатывали и, взяв к больничному скверу, тормозили у синагоги. Многие из приехавших, успев в три пробежки взять дистанцию к ее порогу, напяливали ермолки и исчезали в утробе красивого треугольника.
Как-то в дежурство Леночки, совпавшее с выпечкой в синагоге мацы — пресного хлебца под стать даже самому строгому схимнику, — присев у подоконника, я послал ее по мартовской оттепели за покупкой.
Шла она быстро и легко, весело оборачиваясь на окно, у которого я ждал ее возвращения с лепешкой мацы…
— Сволочь! — бормотал я. — Мерзкая сволочь!
Поднявшись на какой-то угор со следами былой жизни, где еще уцелели два грушевых дерева и дикие яблоньки, лохматившиеся от подгнивших стволов кверху, я повалился среди старых обломков кирпичей и жести, и заскулила во мне звериная тоска по чьей-то угасшей жизни, коснувшись памятью разбросанных вокруг предметов. И сквозь приоткрытые веки явственно увидел я золотистого жеребенка с черными копытцами. Он стоял на пятачке зеленого луга и пристально глядел мимо меня скорбными глазами женщины. Разбросанные веером ресницы неподвижно застыли, вбирая видимый мир в память. Но вот ресницы ожили, и жеребенок, вскинув голову, медленно, стройно перебирая тоненькими ногами, двинулся прочь. По мере того как он удалялся, взрослел и, переходя на бег, сливался с розовыми лучами, а топот бесконечного бега западал за горизонт, уходил в вечность и этот видимый мир с человеческими страданиями…
Поздним вечером я вернулся в избу.
Стеша сидела за столом и лущила кабачковые семечки, аккуратно выплевывая в ладонь шелуху.
Лешка же, стоя над Стешей, вырезал из газетного листа какую-то живность, ловким движением ножниц ловя контуры.
Стеша встала и, вытряхнув шелуху с ладони на обрывок газеты, спросила:
— Горячего будешь?
— Буду! — бодро ответил я, поняв, что Стешин вопрос не потерпит возражения.
— Ребята в цеху! — сказал Лешка, откладывая ножницы в сторону. — Завтра продукцию отправляют. С утра машина подъедет.
— А ты почему здесь?.. — спросил я, стараясь разгадать причину. — Подрался, что ли?
— С Гришкой поцапались! — сказала Стеша, ставя мне грибной суп. — И все из-за куска жести… Гришка не дал Лешке, ты, говорит, умеешь стучать, а не чеканить.
— А Сергей что?
— Сергей? Коли, говорит, жести для Стешкиного портрета пожалел, ночевать не приходи!
— А Гришка?
— Я, говорит, и так не приду! У Лизаветы, стало быть, будет…
— Плохо Сергею придется! — сказал я, разжевывая разбухшие в супе опенки. — Еще один долг погашать придется…
— Ну тебя! — рассмеялась Стеша, прощая мне дерзость и видя в ней признаки моего выздоровления. — А жесть эту я у себя на работе спрошу. — Она обняла Лешку за спину. — Сделаешь портрет?
— Постараюсь, — ответил Лешка и, стесняясь Стешиной нежности, отстранился.
В полночь из цеха вернулись Кононов и дядя Ваня, оба измученные и злые.
Дядя Ваня не раздумывая сразу пошел в «темницу», лег на топчан. Повалился и Кононов, и изба, погруженная в мглу, ознобисто зазвонила колокольцами…
На рассвете грубыми толчками в плечо меня разбудил дядя Ваня.
— Вставай! В Москву с Лешкой ехайте! Ребята устали…
Продукцию в Москву я никогда не возил, не видел, как делается гальваника, а потому без лишних слов собрался и пошел в цех под едва слышное напутствие подставного бугра, то и дело напоминавшего не спускать глаз с Иуды.
— Гляди, чтоб не отлучался…
— А если у него портативная рация имеется?.. Что тогда, дядя Ваня? — спросил я, настраиваясь на веселый лад.
— Брось, Гуга, ломать дурака!
Возможность встретиться с бугром еще до получки наполняла меня жаждой мести. Как бы стычка ни кончилась для меня, я выскажу ему все и поборюсь с ним в одиночку.
— Поди разбуди Лешку! — сказал я, открывая цех. — Пусть собирается в дорогу… Как видишь, он не холостяк… Попрощаться, то да се — время уйдет!
— А как я его будить буду, со Стешкой-то?!
— Обыкновенно… Как меня…
Дядя Ваня сердито нахмурился, медленно воротился в избу, косясь на магазин под двумя замками.
Присев у окна, чтобы видеть Лешку, когда он двинется в цех, я достал припрятанные письма отца и разложил их по датам, чтобы проследить события по порядку.
«Дорогой Ивери! — писал отец, пренебрегая пунктуацией, делая исключения лишь для восклицательного знака и всеобъемлющей точки, как бы поделя саму жизнь на редкие праздники и бесконечные серые будни. — Мать очень волнуется что ты не приезжаешь и писем не пишешь. Думали что приедешь на пасху. Козленка купили на вербной неделе и все время кормили его чтоб он стал как крутое яйцо. С города приехала твоя сестра. Она не захочет стать на колени. Все твои братья стали перед кувшинами с вином где мы по пасхам даем обещание Ёсе Христе. Мина говорит что вступила в партию а партия штука серьезная и не будет заигрывать с богом она говорит запрещает становиться на колени. И еще говорит что все что мы делаем есть большая дурость. Я рассердился и хотел ее ударить но вспомнил что в этот день нельзя обижать бога таким крайним поступком. Мать тоже очень обижена на Мину…
Дорогой Ивери! Когда будешь ехать домой купи мне очки чтоб я мог читать передовицу. Говорят Брежнев обещает инвалидам войны увеличить пенсию. Ты сам все там разузнай и напиши что думает об этом Москва.
Теперь Ивери сообщу что у нас радость! Помнишь красную корову Янали она отелилась. Так что скоро у нас будет сулугуни приезжай. Конечно ты теперь большой там человек но родителей и своих товарищей не забывай! Пишет твой отец Лаврентий сын Степана».
Второе письмо оказалось грустным. В нем отец сообщал о гибели деревьев, к которым я был привязан сердцем и памятью.
Третье письмо расстроило меня вконец.
«Дорогой Ивери! Опять пишу тебе что вчера к нам ворвался бульдозер и раскорчевал сад который ты посадил перед армией. Все яблони хурму и виноградные насаждения груши и черешню тоже сравнял. Я сразу поехал в райком и сперва зашел к твоей сестре Мине. Она сейчас работает инструктором. Она сказала есть такая установка свыше. Говорит что с индивидуальными хозяйствами надо бороться если мы хотим построить коммунизм а коммунизм обязательно построим. Значит говорит с вами надо бороться и очень крепко. Я говорит папа в этом деле тебе ничем помочь не могу иначе с партии снимут. Вот Ивери как у нас делают партийные работники! Прямо как какой-нибудь праздник устроили с бульдозерами. Агрономы которые за свою жизнь ни одного дерева не посадили тоже помогали как будто их главное дело не сажать а уничтожать насаждения. Приехали городские ребята и валят деревья которые они не сажали. На фронте в керченской бойне никто не видел моих слез а здесь ночью все время плачу потому что не смог сохранить и защитить деревья. Они такие благородные что ничего не говорят этим туркам. Раньше турки вырезали наши виноградники а теперь новые турки уничтожают деревья. Эх Ивери зря вы учитесь если сердцем не постигаете законы доброты. Больше сейчас писать не могу. Гляжу на поваленную черешню и плачу. Уже две недели как лишили ее земли а она все цветет розовым цветом. Умирает а все же о других думает. Приезжай и успокой нас пишет твой отец Лаврентий сын Степана».
Я аккуратно сложил затасканные в кармане письма, спрятал их, в бессильной ярости придумывая месть тем, кто так жестоко измывался над деревней, и горько затосковал, явственно видя перед собою отца, поскрипывающего по усадьбе протезом.
Просидев полдня в цеху и не дождавшись машины, я вернулся в избу и набросился на дядю Ваню:
— Где же твоя машина? Что тут расселись? Делайте что-нибудь!
— Дак что же я сделаю?
— А кто же тогда? — наступал и Кононов, поддерживая меня.
— Да что с вами? Осатанели, что ли? — вступилась за дядю Ваню Стеша. — Скоро, как волки, перегрызетесь! Что вы все его виноватите? Он такой же, как вы, да еще побольнее вас!
Устыдившись своей горячности, я вышел из избы и скорым шагом направился в сторону ткацкой фабрики, чтобы оттуда, упросив кого-нибудь, позвонить в Москву и узнать последние новости из дому. Задержавшись в Федюнине дольше обычного, я сильнее скучал по дому.
Вернувшись через часок из безрезультатного похода на фабрику, я уселся на завалинке и стал наблюдать за петухами, ухитрившимися тайком друг от друга приударить за единственной представительницей прекрасного пола, беленькой курицей, охотно принимавшей ухаживания обоих кавалеров.
Петухи поочередно прибегали к своеобразным хитростям, как бы невзначай оказывались рядом с курицей, с натуральным удивлением в голосе подзывали ее полакомиться какою-нибудь находкой, и курица, не прочь быть обманутой, спешила на званый пир, чаще других устраиваемый Октавианом, петухом золотистой масти с роскошным, переливающимся золотом и медью хвостом. Наблюдая за курицей черной выразительной бусинкой глаза, он с достоинством императора приглашал хохлатку отведать лакомство, над которым замирал, держа в поле зрения соперников, притаившихся по разным концам двора.
Любопытное это зрелище заканчивалось, по обычаю, посрамлением Октавиана.
К вечеру с заднего крыльца вышли Стеша с Лешкой и, устроившись поудобнее на лесенке, принялись развлекать живность игрой на расческе.
Играл в основном Лешка, мусоля расческу губами и бешено хохоча глазами при взгляде на петухов, выстроившихся в шеренгу и вслушивающихся в мелодию, на удивление льнувшим к забору соседям — Карпу Васильевичу и Агафье Никаноровне.
Торча черной головешкой на табурете, Карп Васильевич выкашливал слизь из легких и не спускал с соседского двора глаз. А Агафья Никаноровна что-то тихонько нашептывала ему.
Мне, сидевшему ближе всех к старикам, порой были слышны их осуждающие восклицания.
Поворотив голову к своему старику, Агафья Никаноровна твердила, что «негоже бабе сидеть без дите в подоле, поколева мужик в отлучке»…
— Дите — не помеха, — утверждал Карп Васильевич, смеясь водянистыми глазами. — Опять же, — продолжал он, сплюнув мутную слизь под ноги Агафье Никаноровне, — паскудство бабьей крови не можно остановить ангелом в подоле…
Беспросветная, тягучая жизнь жалась в пространстве, питаемая любопытством.
— А курица чья, Агафья? — вдруг завопил Карп Васильевич на пределе своих возможностей, чтоб донести вопль до крыльца, откуда сейчас Стеша с Лешкой обозревали мир с полями и дальним лесом, над которым едва уловимыми пятнышками кружили вороны. — Степанида, не твоя ли беспутница с нашим петухом тут разгуливает?
Стеша мигом отлепилась от Лешки, сжалась от противного ощущения слова «беспутница» и, в самом деле увидев в огороде соседей свою курицу, досадно откликнулась:
— Как же она там оказалась?
Но соседи, только и ждавшие обратить на себя внимание, пропуская слова Стеши мимо ушей, вели свой разговор к намеченной цели.
— Какой ноне спрос с курей, коли бабы мужние стыд потеряли! — цедила сквозь плотно сжатые губы Агафья Никаноровна и, ухватив ком земли, запустила им в курицу.
Стеша молчком спустилась с крыльца и, пропустив курицу во двор, заделала лаз кирпичом, присыпала его землей, повернулась к Агафье Никаноровне и, окатив ее презрительным взглядом, крикнула громко:
— Ты бы, бабка, лучше за своей Нюркой следила… тогда карабановским мужикам ее не таскать бы…
Агафья Никаноровна, не ждавшая этакого поворота, сначала схватилась за дых и истошно, по-бабьи заохала, часто-часто хватая открытым ртом воздух.
— Ты что?.. Та как?.. Я этого не оставлю! — грозился Карп Васильевич, задыхаясь от приступа. — В милицию сообчу!
— Сообчи! — поддержала его Агафья Никаноровна, оправляясь от первого удара. — А я ейной матери все напишу… Она там малютку нянькает, а ейная дочка новую тут нагуливает…
— Ну и сообчайте! — передразнив соседей, крикнула Стеша и скрылась в избе, в сердцах хлопнув дверью, за которой оставался Лешка.
Сведения, полученные из уст соседей, оказались для нас неожиданными, так как нам было неизвестно, что у Стешки есть «малютка», которую «нянькает ейная мать».
Вскоре во двор вошел в легком подпитии Гришка Распутин с Лизаветой Петровной и, о чем-то перешептавшись с дядей Ваней, исчез, так и не поднявшись в избу.
Весь вечер Стеша не выходила, и Лешка, насупившись, заходил к ней и выходил, избегая разговоров. Видно, переживал новость.
В открытые окна заползал сладковатый дух черемухи, неся чистоту и свежесть. И от этого внезапного запаха, от его свежести, от разлитой в теле тревоги хотелось всей задубевшей кожей приникнуть к чужому теплу и раствориться в нем, стать его частью.
Бессонная ночь, продираясь сквозь сухостой, катилась к чистому плесу, где безмолвные крики мучительного нереста сливались с черемуховым духом, чтобы живому внушить соседство живого.
На рассвете я пробудился от гула автомобиля, подкатившего к самому палисаднику. В нем рядом с незнакомым водителем я увидел бугра. Голова его утопала в черной шляпе, отчего укрытое ее полями ухо походило на сложный замок, ключом которому мог послужить указательный палец владельца.
Бугор, заметив меня, высунувшегося по пояс в окно, повернул шляпу, словно давая мне возможность разглядеть второй «замок».
— Где Ваня? — спросил бугор, чуть приоткрыв дверцу «Жигулей».
Я, чтобы не перебудить всех, показал жестом: спит.
— Разбуди! — сказал бугор невыразительно-серо. — Пусть-ка спустится!
Дядя Ваня спал крепким сном, но мгновенно очнулся, когда я дотронулся до него. Должно быть, все еще хранил фронтовую привычку.
— Что?!
— Енерал приехал! — шепнул я. — Спустись-ка к нему, на улице.
— Никифорыч? — удивился дядя Ваня, спустил живую ногу на пол, нашарил рукой протез у изголовья, поволок к себе. — Видать, зарплата.
— Поглядим еще, какая!
Дядя Ваня поморщился, отчего все его лицо сделалось беспомощным и жалким. Чувствовалось, что и он, как все мы, был на пределе, и, боясь ввиду этого проиграть бой, решительно заявил:
— Нечего и глядеть! Каждый свое получит!
— Если каждый в одиночку с ним шушукаться не начнет, — заметил я раздраженно, словно мстя за постоянную уступчивость бугру, уступчивость, которая неизменно вела к унижению. — Может, кое-кому лишняя пятерка и перепадет!
Дядя Ваня окинул меня презрительным взглядом, ничего не сказав, сунул культяшку в протез и оглянулся по сторонам, словно опасаясь, что могут подсмотреть, как он одевается, приспосабливая увечную ногу.
— Дядь Вань, не доверяй ему — обманет! — сказал я, желая загладить свою вину перед ним.
— А ты меня не учи — постарше тебя! — сердито отрезал он и, на ходу застегивая мотню, двинулся к выходу.
«А… будь что будет, — подумал я. — Все одно не все выдержат единоборство с бугром…» — и пошел будить Кононова.
Сгрудившись через несколько минут у окна, мы разглядывали машину, стараясь разгадать цель приезда бугра, пока тот о чем-то толкует с дядей Ваней.
Зарплата, помимо самих денег, означала еще конец, шабаш! Разбредемся мы и отдохнем друг от друга, от осточертевшей подозрительности, стычек и страха.
Ко всему прочему добавилась и еще одна закавыка — вышли продукты и даже деньги у нашего банкира Кононова. По его словам, денег у него с мышкин хвост — рублишко. Последние дни жили, поедая скудные Стешины запасы.
— Зарплата, — сказал дядя Ваня и сел за стол, суча головой и моргая белыми ресницами. — После обеда в контору иттить.
— Пожрать охота? — спросил Кононов, пряча за вопросом упрек. — Или и подождать можно?
— Охота, — признался дядя Ваня. — Нутро прогорает… Может, в последний раз в магазин сгоняю? — предложил он, смущенно поглядывая на Кононова.
— Ты, дядя Ваня, много продуктов натаскал? — Кононов с усмешкой восточного мудреца, высмеивающего безрассудство, придвинулся к нему лицом. — Нацепишь тоненький мешочек — и айда на блины к тете!.. А в карманах ветер гуляет, что степной сквозняк… И ишо все в сторону магазина глазеешь… Шел бы ты к своему дружку! Вот как устроился: и первое тебе, и второе, и третье конечно же, и четвертое… — Кононов сам первый расхохотался своей шутке относительно Гришки Распутина и его пассии в три обхвата — Лизаветы Петровны. — Баба справная, даже слишком. У ней и огурчики соленые найдутся, и грибочки, а водочки — пропасть…
Покамест Кононов развлекал себя, а заодно и других, Стеша выгребла из подклети несколько последних картофелин и, не желая обособляться, поставила варить на портативную газовую плиту.
После горячей картошки с килькой в томатном соусе мы разбрелись по усадьбе в ожидании команды. А когда наступил долгожданный час, перехватив на ходу по холодной картофелине, гуртом, прямо в рабочей одежде, в строгом соответствии с инструкцией потянулись за дядей Ваней к полустанку и, перейдя железнодорожную линию, взяли курс на деревню Чусово. Идти до конторы предстояло около пяти километров. Сперва вдоль полотна на Иваново, затем, взяв резко влево, к мелколесью, сквозь которое чернели редкие избы отдельными хуторами.
Приноравливаясь к ходу дяди Вани, через час вышли к пруду, за которым, заглядевшись в зеркальную гладь воды, стоял дом на кирпичном цоколе под железной крышей и красным флагом над ней. Обшитый тесом, крашенный в желтый цвет, он оказался и сельским Советом, и колхозной конторой разом.
— Привал! — сказал дядя Ваня, топнув тяжелым протезом по пыльной тропе, как-то жалко улыбаясь и смахивая с лица набежавшие капельки пота. — Все тута…
В воздухе роилась горячая масса расщепленного солнца, она нещадно прижаривали площадку перед домом и улочку, тянувшуюся от него к югу.
За прудом, на самом солнцепеке стояли легковые машины, и среди них та, на которой приехал бугор.
Дядя Ваня украдкой глядел на рубиновые «Жигули» и мучился колебаниями. Видно, еще с утра круто была присыпана его рана бугровской солью.
— Нехай! — сказал дядя Ваня, продолжая спор с самим собой, и, крепко саданув вбок протезом, словно штыком, неистово рванулся вперед.
— Нехай! — повторил Кононов и присовокупил любимое изречение Синего: — Екаламэнэ…
Пока мы огибали пруд, перед конторой столпились колхозники, с веселым недоверием поглядывая на дом, где на крыльце покуривали мужчины городского покроя.
— «Воздушники!» — сказал дядя Ваня, узнавая курильщиков в лицо. — Уже тута…
Площадь нас встретила любопытством.
— Доброго здоровьица!
Обросшие мужики, кто в чем, хотя и были среднего возраста, но держались старичками, уже пожившими, и потому глядели на нас, что на легкомысленных юнцов, которым предстоит еще узнать, почем тут фунт лиха.
— Что, мужики, — оскалился Кононов, вступая с ними в контакт. — Копейку дают?
— Грош, — откликнулся один из мужичков, пронзая собеседника круглыми, как картечь, глазами, то и дело закрываемыми плотным прищуром.
— А какая разница? — поинтересовался Кононов, тоже изучая дерзкого мужичка.
— Копейка — деньга! — сказал тот. — Грош — чумная дрожь!
Разбредаясь по площади, каждый из нас держал в поле зрения рубиновые «Жигули», но делал вид, что не видит их, чтоб не унизиться узнаванием.
Мне хорошо была видна шляпа бугра. Она была повернута загнутым полем к пруду, хотя машина стояла к нему правым боком.
Бугор, видно, взглядывал на нас в зеркало, оперативно оценивая обстановку, и держался в состоянии боеготовности.
Однако и наш подставной бугор, то и дело застревая в толпе колхозников, вел наблюдение со своей стороны, не желая идти на поклон…
Пока что такая тактика не давала сторонам преимущества, и, понимая это затылком, бугор решил применить более гибкую. Он повелел водителю подкатить машину к площадке, чтоб шествие издалека не выглядело уступкой.
Машина подъехала задом и остановилась неподалеку от меня. Бугор, делая вид, будто оказался в такой близости случайно, равнодушно огляделся.
— Пришли? — сказал он и приоткрыл дверцу, ожидая, что я подойду. Но я, подняв в знак приветствия руку, с места ответил, что пришли давно.
Видя, что делать нечего, он вылез из машины и, подтягивая на ходу примятый сзади пиджак, пошел в толпу, под пристрастные взгляды колхозников, не преминувших наградить и его «добрым здоровьицем».
Колхозники были возбуждены тем, что благодаря небольшой кучке горожан, то есть нам, наладившим не бог весть какую работу, наконец-то после долгого ожидания они могут почувствовать себя людьми, чей труд нужен колхозу и подлежит оплате.
— Небось набрехали! — перешептываясь друг с другом, сомневались женщины.
— Бухгалтер сказывал: приходьте заутрия…
Сбившись группами, мужики и бабы в застиранных до бесцветности одеждах, протяжно и певуче окали, сдабривая медлительную речь прилипчивым матом, без которого ни один картофельный клубень не попадает в лунку на бескрайних просторах земли.
Бабы, в отличие от своих «мужиков» экономя рассыпчатый лексикон, лукаво поглядывали на «городских, умевших зашибать деньгу», и мерекали между собой ухватисто, как выпивохи о той самой желанной, что еще с петровских времен согревала сиротливые души… То и дело показывали глазами на нас, принесших к ним в глухомань долгожданную зарплату.
— Екаламэнэ, — ухмыльнулся Кононов на ярмарку ожидания и терпения. — Вот гляди, на столбике колокольчик висит!
Эта невидаль, притороченная к столбику и успевшая с первых лет коллективизации изрядно покрыться куржачиной, продолговатым, но охваченным немотой языком олицетворяла сиротство и ненадобность в чуждое время.
Между тем на площадку, пылавшую нестерпимым жаром, все прибывали и прибывали колхозники и, перемешиваясь с теми, кто уже здесь стоял до них, неуверенным тоном интересовались насчет зарплаты, степенно раскланиваясь со словами: «Дай бог, дай бог!»
Но колхозный бог медлил, прогуливаясь из комнаты в комнату и окидывая подопечных долгим и грустным взглядом. А когда хождение приобрело оттенок назойливости, вышел последний раз на крыльцо и громким голосом возвестил, чтобы, кроме двух бригад, из Федюнина да из Илькина, денег не ждали.
— Остальным в другой раз! — И, чтоб успокоить загалдевший народ, стал выкладывать скороговоркою перспективный план, обещавший всем жителям и новую ферму, и новую асфальтированную дорогу в рай, два новых комбайна, другие орудия труда, чтоб душа колхозника возрадовалась от перемен. — Погодьте маленько, — говорил он и широко улыбался тому, что нынче не война и можно погодить. — Мы с вами похуже времена пережили! Так че теперь маленько не погодить?!
Толпа, смиренно внимавшая председателю, разом поделилась на части: первая ринулась поближе к крыльцу, вторая, не сдвинувшись с места, оглушительно загалдела.
— Председатель! — выкрикнул седой небритый старик с прокисшими красными глазками и отделился от толпы. — Ты говоришь: «погодить». А куда же мне годить, когда пять ранений и лет уже с гаком семь десятков? Меня нонче на Ильинском погосте мои друзья ждут-дожи даются! На кой мне твой комбайн и дорога зеркальная в рай? Ты, Еремеевич, мне для души теперь что-нибудь сделай!
Еремеевич, провидевший свой колхоз на много лет вперед счастливым и благополучным, с каменным клубом, конечно же с хором, главное — с животноводческим комплексом, обиделся на речь старика и, с досадой махнув рукой, что намекало па слепоту недальновидного оратора, исчез в утробе конторы, где все было готово для выдачи денег.
Когда же наконец первым, согласно ведомости, вызвали дядю Ваню, на дальнем берегу пруда показался Гришка Распутин. Он трусил изо всех сил, неся могучую плоть на кривоватых ногах, и за спиной у него болтался вещмешок.
Обогнув пруд, Гришка Распутин вступил на площадку, выражая кровную обиду «хромому черту» за то, что тот вовремя не известил его о зарплате.
— Григорий Парамонович! — воскликнул Кононов и сделал шаг ему навстречу. — Много ли откушали гостинцев в гостях?..
Бабы, понимая, что Кононов подсмеивается над пришельцем, не скрывая своего восхищения, разглядывали Гришку из-под надвинутых на глаза платков.
— Полный расчет… — пояснил Гришка Распутин: подавая руку только Кононову и только к нему и обращаясь. — Вы, говорит, Григорий Парамонович, паразитическое насекомое особо крупного размера… и хоть кусаетесь сладко, но для бюджета семьи слишком накладно…
Веселье, с которого началась встреча Кононова и Гришки Распутина, вскоре прервалось охватившим вдруг всех волнением. Собираясь с мыслями, думали о том, как выстоять в борьбе за свое достоинство.
Шли друг за дружкой «воздушники», чтоб, расписавшись в ведомости, получить свою «пенсию» в размере пятидесяти — шестидесяти «рублев», возвратив остальную часть до копейки бугру.
Общая сумма на человека за три месяца составила тысячу триста пятьдесят шесть рублей с копейками. Копейки шли, как правило, девице-кассиру.
Расписавшись в получении, я вышел на крыльцо, где стоял у перил бугор, и принялся дожидаться Лешки, шедшего в ведомости последним, чтоб вместе разузнать, как же будет с зарплатой Синего. Но меня упредила женщина в траурном черном платке.
— С трудом нашла, — сказала она бугру и протянула ему руку. — Не опоздала?
Бугор, нахмурив брови, провел ее в бухгалтерию и пропустил вперед.
Как вскоре выяснилось, это была Дуся — жена бедняги Миколы, не пожелавшая приехать проститься с мужем. Украсив смазливое лицо горестным платком, она стремительно шла впереди бугра к кассе.
Бугор, более всего опасавшийся, что эта женщина прихватит и его долю, не отставал от нее ни на шаг, И когда ридикюль с треском закрылся, почтительно спустил ее с крыльца и усадил в машину, давая жестом команду следовать всем за ним.
Втиснувшись в четыре легковые машины «воздушников», мы через двадцать минут подкатили к Стешиной избе и высыпали во двор, чтоб подальше от посторонних глаз совершить самый значительный акт дележа, справедливость которого во многом зависела от первого смельчака, задававшего тон всему.
Если первому удавалось отстоять договорные условия, то остальные автоматически следовали его принципу. Но уступи он бугру, как часто происходило из-за малодушия Кононова, уступали и все — аргументом служила снисходительность первого.
Сейчас выбрать кандидата в единоборстве с бугром предстояло оперативно, чтобы не дать застигнуть себя врасплох.
— Гуга! — сказал Кононов и показал два золотых зуба.
Я нехотя отлепился от группы и направился в «темницу», где меркла электролампа.
Бугор сидел на топчане в предвкушении сладостного укуса, не сводя пристального взгляда с двери.
— Ну, какие у нас дела?! — сказал я, словно доктор на утреннем обходе, чувствуя, как у самого из-под ног уплывает позиция.
Бугор, не вставая с топчана, поднял крепко сжатый кулак и решительно проговорил:
— Но пасаран! — И, выбросив из крепко сжатого кулака три пальца, шумно и радостно засопел: — Спасибо! Я снова знаком с любовным потом…
Бугор, выражая в этих словах свою твердую волю, как бы исподволь выходил к торной тропе победы. Но тут меня неожиданно озарило:
— Патриа о муэрте! — воскликнул я с непоколебимой решимостью.
Бугор внимательно взглянул из далека своей бесстрастности и равнодушия мне в лицо и, видимо, прочитав в нем упрямство, стал обходить с другого боку, переходя на доверительный шепот.
— Ты сам знаешь, как я дорожу твоим мнением. В данном случае я говорю о новичке… Как он себя вел?
Я помедлил с ответом и, тоже переходя на дальний обход, вгляделся в соперника, позволяя своему лицу изобразить неопределенную улыбку, могущую означать и насмешку, и недоверие. Но, вскоре стерев с него все оттенки, чтоб дать место равно и свету и тени, сказал:
— С ним надо считаться! Это — личность! — И на всякий случай нащупал в кармане деньги, половина из коих предназначалась к отдаче, словно намекая на то, что подготовленная беседа слишком уж затянулась.
Уловив мое движение, бугор, поскольку позиция в ходе разговора не определилась, стал заметно нервничать, а потому оттягивать время.
— Завтра поедешь в Москву сдавать продукцию! — сказал он и, видя, что к приемлемому для него дележу я не подготовлен, добавил: — Там сообщишь ему, что мы закрываемся… А сам возвратишься! Демонтируем пресс, перенесем его в хутор… Есть там свободное помещение и под жилье, и под цех.
Такое теплое расположение бугра к моей особе конечно же должно было отозваться уступкой с моей стороны, но я не клюнул на эту удочку.
— Прекрасно! — отозвался я, удваивая ложь во спасение, но, чтобы не дать сопернику отклоняться и дальше, перешел к главному — дележу. Отсчитав со сноровкой карточного игрока половину всей суммы, вручил ее бугру, напоминая и о невозвращенном долге, исчислявшемся пятью лишь рублями, словно они и были причиной нашего разногласия, и подкрепляя напоминание случаем в городе Ярцеве, в хозяйственном магазине.
Быстро пересчитав полученное и не найдя ожидаемого порядка, бугор вопросительно замер.
— Ошибочка вышла, — сказал он, смягчая назревающее разногласие. — Сто семьдесят пять, помноженные на три… — продолжал он.
— Стоп! — не дав довершить умножения, пробормотал я скороговоркой: — Одна тысяча триста пятьдесят шесть рублей, поделенные на два, равняются… пятидесяти процентам, что суммарно будет выражаться в шестистах семидесяти восьми рублях… за минусом пятерки…
Определив четкую позицию, стало быть, целую пропасть, разделявшую нас, мы перешли в «штыковую» атаку, но, когда и она не дала ни одному из нас перевеса, вернулись за круглый стол переговоров и путем дипломатических ухищрений повели аргументированную беседу.
— Давай рассуждать так, — предложил я. — Ты платил нам пятьдесят процентов из трехсот пятидесяти, что и составляло в рублях сто семьдесят пять… Так, что ли?
— Совершенно точно! — согласился бугор, улавливая в моих аргументах изъян, но приберегая контрудар на потом.
— Таким образом, — продолжал я, — делаем акцент на пятидесяти процентах… Получается… — Я упрямо глядел прямо в глаза хозяину, давая ему призрачный шанс, за которым скрывалась хорошо продуманная уловка. — Что если раньше мы получали сто семьдесят пять за ездку…
— Совершенно точно, — дружелюбно перебил меня бугор, легко переступая порог моих логических выкладок. — То почему вы нынче решили увеличить эту сумму до двухсот двадцати шести рублей? На чем основывается такое требование?..
— На том, Никифорыч, — сказал я, окрыленный своим аргументом, — что раньше зарплата равнялась тремстам пятидесяти, а теперь, как сам видишь, четыремстам пятидесяти двум…
— Но… — возразил бугор. — Ведь никогда вы такой суммы не получали…
— Совершенно точно, — сказал я, меняясь с ним ролью. — Но, скажем, если бы ты выписал нам по сто пятьдесят, смог бы выплатить прежнюю сумму?
Бугор встал. Я, переминаясь с ноги на ногу, продолжал стоять, а когда бугор загнал свою жадность вовнутрь до другого раза, вздохнул:
— Давай и впредь не тратить нервов на пустяки! Тебе хорошо известно, что помимо этих невзгод нам с лихвой хватает других!
Бугор сдался, но, сдаваясь, поставил условие:
— Пусть Серега рассчитается с Дусей и сам мне передаст…
Я, выскочив из «темницы», громко провозгласил:
— Ребята, баш — на баш!
Дальше механизм пошел раскручиваться быстрее. Сперва, чтоб не пропить больше, чем полагалось по уговору, потянулись «потрошиться» «воздушники», за ними двинулись остальные. Дошел черед и до дяди Вани — рискового человека, и началась закавыка.
Бугор требовал у подставного бугра воротить сполна всю сумму от тысячи, то есть триста пятьдесят шесть. Подставной не отдавал, требуя все сто процентов по положенному уговору.
Обижался на бугра и Гришка Распутин.
Дядя Ваня выскочил из «темницы», бросил всю сумму бугру под ноги и, хлопнув за собой дверью, пригрозил:
— Уйду к Равилю! Он цельный год меня уговаривает!
За ним, урезонивая, шел бугор со свертком в руках:
— Вань, я ж на этот раз выписал больше… Это же сверх того уговора…
— Все сто процентов! — бубнил дядя Ваня, обильно потея лицом. — Хватит, дыхнуть нам не даешь…
— Вань, возьми! — бугор всучил-таки сверток разобиженному дяде Ване. — Не кричи на всю округу! Люди кругом!
— Все одно уйду от тебя! — отвечал дядя Ваня, ощупывая взглядом сверток с деньгами. — Хватит с меня Сталинградской битвы…
Вскоре буря стихла, а воевавшие друг с другом пили прямо во дворе, закусывая пряниками.
А Кононов, презрительно расталкивая их, обходил нас, требуя за постой.
— Обожрали девку! — говорил он, выставляя два золотых клыка и выжимая еще и приплату за харч, набавляя Лешке вдвойне сервис особый. — Эй ты, голубоглазый, гони все пятьдесят!
— Серега, — напомнил я условие бугра относительно Дуси. — Получи с нее.
— Пусть сам с нее получает! — отрезал он, брезгливо поеживаясь от моего напоминания. — Нашел казначея!
Когда наконец загудели моторы и «воздушники», приехавшие на них, покинули двор, оставив бугра с владельцем рубиновых «Жигулей», и растворились за полосою окраины, бугор, не дождавшись выполнения поставленного условия, сам нежно взял под руку Дусю и увел ее в избу посвятить в механику наших расчетов.
— Клеится… — сказал Кононов, провожая их глазами. — Гляди как!.. — шептал он, придыхая со злобой. — Уволокет ее сейчас на моторе.
Но бугор, опасавшийся впасть в малодушие из милосердия к усопшему, и не думал клеиться с Дусей. Получив то, что боялся упустить, он вылетел из избы и спешно покинул двор.
Проводив его тоскливым, завистливым взглядом, Кононов поднялся в избу и ни с того ни с сего завел с Дусей разговор о Миколе, показывая на раскладушку, сложенную и прислоненную к стенке.
— Вот на ней и умер! — Кононов говорил отрывисто, резко, словно сам был Миколою, упрекавшим жену за то, что не пожелала проститься с ним. — Просил тебе сообщить…
Дуся уронила голову и тоненько заскулила, сотрясаясь всем телом. Отплакавшись, полезла копаться в ридикюле, раздражая Кононова еще пуще прежнего.
— Нам твоих денег не нужно! — сказал он презрительно. — Мы сами друг друга хороним!
Дуся уронила голову и забилась в рыданиях, бормоча что-то трогательное и больное.
— Бабьи слезы — роса! — бросил Кононов, не щадя новоявленную вдову. — Чего кислятину разводишь?!
Растворилась дверь, и вошла Стеша, держа под мышкой что-то плоское, обернутое в бумагу. Пройдя, тихо спросила:
— Дуся? — и, не дожидаясь ответа, принялась ее утешать. Успокоив, положила сверток на стол и выдохнула с удовлетворением: — Кусок медного листа… Принесла…
Гришка Распутин, занятый пересчетом получки, виновато прихурнул горлом в знак своей вины перед хозяйкой и коротко взглянул ей в глаза, чтоб прочесть, прощен или нет за прошлое, и, не обнаружив и тени упрека, бодро крякнул, предвкушая застолье:
— Вань, дуй-ка в магазин! Коли все уже дома, дак давай отметим нашу победу!
Дядя Ваня, шуршавший купюрами, спеша завершить до возвращения домой хитроумнейшую раскладку, чтоб и овцы были целы, и волки сыты, слабо улыбнулся одними губами, плохо соображая относительно того самого магазина, где и его душа была запечатана в бутылке со слезливой жидкостью. Однако, чтобы ответить хоть как-то, откликнулся сотоварищу неуместным «чего», на что Гришка Распутин, рассовывая деньги по разным карманам, ответил сперва смутной улыбкой, а затем и упреком полувопроса.
Однако, как бы ни было, в час, когда деревня почти слилась с небесным простором, теряя свои очертания, дядя Ваня, важный, как персидский султан, суча лысой башкой, возглавлял пир в честь победы над лютым врагом, каким считался бугор.
Пили все без исключения, даже «непьющие», стремясь поскорее снять напряжение долгих недель. Пили не спеша, с толком, как знающие цену настоящему роздыху. От мужиков не отставала и Дуся, уже успевшая раскраснеться.
Закусывая после очередной порции килькой в томатном соусе, она заглядывалась на шумного Гришку Распутина, раз за разом все ниже и ниже оттягивая траурный черный платок, высовываясь из-под него смазливым лицом, дразня ошалевшие зрачки того, кто за шумливостью своего поведения укрывал наметанным взглядом дошлого бабника. Так, склоняясь друг к дружке и ведя разговор на откровенном языке взглядов, они в беспокойном волнении едва усидели, пытаясь обмануть чужое пристрастие к тайне, которая в конце концов стала явной, когда первой вышла из избы Дуся, а за ней и Гришка Распутин.
Вскоре пронзительно скрипнула калитка и, уступая женщине и мужчине дорогу в ночь, застыла, поглядывая им вослед.
— Вот, Гуга, какая подлянка! — почти торжественно кричал Кононов, словно весь век ждал повода для того, чтобы высказаться так смачно и точно. — Видишь-то как, дядя Ваня!..
— Нехай! — вяло сказал дядя Ваня, собираясь в «темницу». — Не Гришка, так все одно кто-нибудь другой…
— Кто-нибудь другой не жрал из одного котла с Миколой! А он жрал… А теперь бабу его повел подминать под себя! Не паскудство, а, не паскудство?!
— Нехай, — повторил дядя Ваня, не поднимая головы, и пошел к себе, отбрыкиваясь деревяшкой.
Утром, когда мы, ведомые настойчивостью Кононова, приблизились к мастерской, то увидели, как на картонной подстилке, где более суток покоился Микола, обмирали две плоти, сплетенные одной неурочной страстью.
Не желая видеть дальше того, что пристало глазам, я повернул обратно и пошел в избу. Там, заливаясь краской смущения за Дусю, позировала Лешке Стеша, вслушиваясь в шуршание бумаги, с которой предстояло потом выбить долгожданный портрет в чеканке.
Лешка отрывисто взглядывал на Стешу и, поймав характерное, лихорадочно набросился на бумагу. Обводил линии до нужной четкости и, если контуры оказывались недостаточно точными, стирал и принимался делать все сызнова.
Стеша, в новой блузке, с распущенными волосами, сидела вполоборота и оплывала нежностью к Лешке, занятому не столько лицезрением сегодняшней Стеши, сколько предугадыванием ее будущего.
Чтоб не мешать Лешкиному занятию, я вышел на заднее крылечко и сел на ступеньку.
За оградой, у самого забора, сгорая от старческого любопытства, сидели соседи и, чуть слышно перешептываясь, поглядывали на меня, время от времени сотрясаясь в тяжелом кашле.
Легкий теплый ветерок, веющий с открытого поля, забирался в листву и ознобисто трепал ее, создавая впечатление крапушного дождичка, бог весть как народившегося на залитом солнцем небе.
Пока я сидел на ступеньке, украдкой поглядывая на Стешиных соседей, в избе затукал молоточек, должно быть, по меди, под стать комариному звону. Вскоре все, однако, заглохло и из наступившей вдруг тишины родился голос Кононова.
— Короеды! — сочился он желчью, подразумевая Гришку Распутина и Дусю. — Ты что это в кусты подался? — бросил он мне запальчиво. — Не желаешь мараться? Значит, мне одному все это нужно, да?
— Выходит, что так! — сказал я, не отрывая взгляда от проселочной дороги, по которой увозили Миколу. По ней сейчас шли двое, Гришка Распутин и Дуся, покрытая траурным черным платком. — Выходит, Серега, что паскудства в нас более, чем чести?! И один человек бессилен остановить его…
— А откуда оно берется? — проговорил Кононов, обмякая от моих слов.
— Это — продукт нашей жизни! И если дальше ничего не изменится, продукта этого будет больше!
— Послушай, Гуга, что ж с нами будет, ежели ничего не изменится?
— Помрем, как Микола, на каком-нибудь километре, и похоронят нас новые Кононовы на заросшем лопухами погосте, а там выпьют с нашими женами на помин души, и пойдет жизнь крутить свое колесо…
Нарисовав эту мрачную перспективу, я взглянул на Кононова, зло сверкнувшего глазами, подернутыми желтизной, и встал, направляясь со двора.
Тем временем из-за мелколесья в последний раз мелькнули Гришка Распутин и Дуся, растворились на пути к погосту.
Вырвавшись вперед, Кононов размашисто уходил вдаль со всею своей нутряной тоской, не умещающейся в пространстве, ограниченном горизонтами. Его тянуло за черту, к тому, что он, не признаваясь никому, надеялся разглядеть.
Переходя с открытого поля в мелколесье, с мелколесья в густой прохладный лес, местами тронутый распадками пней, Кононов без умолку рассказывал давно знакомую мне историю, сохраняя удивительную точность в пересказе.
Слушая его, я жил своими заботами, ловя себя на грустном бормотании:
За рекой — деревня. Над рекою — мост. И ведут деревья Прямо на погост. А оркестра медный И утробный звук Подтвердил намедни, Что скончался друг. На холме — церквушка, А под ней — погост. Не кричи, кукушка, Каждый в мире гость…Чуть слышно бормоча и пугаясь собственного глуховатого голоса, потерявшего внятность на ознобистом чужом и в то же время своем языке, я подбирал слова для выражения смутной тревоги, терзавшей меня и во сне.
А в лесу оглушительно пели птицы, остановив время, чтобы дать каждому дыханию ощутить себя бессмертной частицей мирозданья.
Чуть поодаль от лесной тропы, затерявшись между кустами жимолости и боярышника, стояла, усыпанная кипенно-белыми цветами, и дышала нежным девичьим обмороком черемуха, волнуя глаза чистотою и свежестью, напоминая иные места в пору майского буйного блаженства, когда раскидистые мандариновые ветки, выбросив продолговатые перламутровые соцветия, лезут в душу одурью, рождая улыбку детского счастья.
Откуда-то из глубины чащи донесся трубный призыв лося и тут же погас, утонув в частых перестуках колес поезда, бегущего вдалеке по солнечному просвету под тревожные отсчеты кукушки с ближнего дерева.
Кононов зябко поежился, отошел от черемухи и, пятясь к опушке леса, под тень двух осин, смущенно сказал:
— Когда помру, конечно, сожгут… А хорошо бы лежать на опушке. — И, как бы стесняясь своего желания перед «чужаком», добавил: — Опушка ведь — око леса! Глядит на поля и деревни и беседует…
Шагая дальше, вперед, мечтал о том, чтоб и после смерти быть причастным и памятью и плотью своей к бесконечным российским просторам, и оглядывался по сторонам с щемящей тоской оттого, что не выразить все это никакими словами.
Приблизившись к одинокой осине, под которой сквозь прошлогоднюю опаль пробивалась трава-мурава, сбросил с себя пиджак, упал на него и, обхватив колени руками, уставился вдаль.
Впереди, уходя по косогору вниз, до самого вздыбленного курчавящимся лесом горизонта, тянулась холмистая равнина, пряча между грядами холмов, поросших высокими ветлами, серую ленту реки, то и дело обрывавшейся на излучинах и затем вновь возникавшей у подножий деревенек с частыми ржавыми крышами, уходя несуразными изгибами все левее и левее, под самый высокий холм, на котором белела церковь, осеняя маковкой окрестность с ближними и дальними лесами.
Неугомонный балаболка теперь сидел смиренно, вглядывался в раскинувшиеся перед ним просторы и о чем-то тихо про себя думал, по-детски наморщив узенький лоб.
Прямо перед нами, внизу, в нескольких метрах, на ветке до одури трещала сорока, кланяясь на все четыре стороны, словно в неистовом раже предавая кого-то анафеме.
Широко раскинувшись в горячечном ознобе, шумел осиновый дождь, обвевая прохладой.
Знобило и меня от невысказанности и тянуло к бумаге и одиночеству, тянуло размотать пройденные дороги, чтоб, обмакнув слова в память воскресить чувства в сознании…
К вечеру, уступая голоду и усталости, мы побрели обратно в свое неспокойное жилище.
В свете электрической лампы, в соседстве дяди Вани и Стеши, Лешка окроплял чеканку ознобом купели.
Стеша, заключенная в овальное обрамление, была несколько незнакомая, хоть и не утрачивала сходства с натурой.
Она представала с портрета, какою, может быть, открывалась только Лешке или ж стала такою благодаря ему. Но от всей обнаженности Стешиного лица веяло остраненностью Лешки, предусмотрительно определившего ей место по другую сторону своей жизни.
Кононов, углядевший в портрете что-то неладное, брякнул:
— Похожа на вдову при живом муже!
И дядя Ваня, сидевший справа от Лешки, тоже заглянул через плечо на изображение Стеши и, не найдя в нем никаких признаков вдовства, кроме обычной женской грусти по лучшей доле, горячо сказал, возвращаясь к своему тайному раздумью по раскладке полученных денег:
— Хорошая!
И Стеша, не давая более толковать об изображении, вырвала его из рук Лешки и, обтирая поверхность рукавом, отнесла к себе в комнату.
— Хорошая! — подтвердил и я, хотя моя оценка теперь уже была неуместной, и осуждающе взглянул на Лешку, испытывая к нему глухую неприязнь.
Дядя Ваня, нашедший в математической раскладке зияющую дыру, застонал:
— Серега, остается только четыреста десять рублей… Фросе я обещал привезти шестьсот…
— Отвези — в чем же дело? — насмешливо откликнулся Кононов, догадавшись о причине дяди Ваниной тревоги. — У тебя ведь больше штуки!
— Было, да роздал долги; тебе, считай, два ста… Лизавете Петровне — полтораста с гаком… А в Москве у свояка эти три месяца тоже триста… да по мелочам еще сотня… — Дядя Ваня судорожно обшарил карманы, нашел в одном припрятанные от жены деньги, обильно вспотел, виновато улыбаясь: — Запамятовал, Серега! Считаю, считаю, да все недостает…
— Вань, иди спать! — сказал Кононов раздраженно.
— Сейчас пойду. — Дядя Ваня послушно встал и, направляясь к себе, обернулся: — Утром рано машина будет. Мобут, я просплю, чевой-то в грудях ломит. Поедете двоем… А ты, Серега, с нами останешься…
Кононов взглядом проводил дядю Ваню за порог и тяжело вздохнул.
— Замучил… Небось завтра опять начнет считать…
— А ты не злись, — сказала Стеша. — Еще неизвестно, каким ты будешь в старости…
На рассвете, после тяжелых сновидений, я проснулся от частого сердцебиения и присел на постель упорядочить явленные сном цветные куски, но, поняв, что из обрывков не сложить всю картину, выглянул в окно, поднялся и оделся. Вот-вот подъедет машина для отправки готовой продукции в Москву на один из заводов, где после гальваники развезут ее по заказчикам.
Выйдя во двор, я дважды бухнул кулаком по бревенчатой стенке, за которой все еще продолжали дрыхнуть. А когда возле полустанка, на переезде, застрекотал мотор машины, крикнул Лешку, направляясь в цех, растворил настежь дверь, чтобы видна была шоферу.
Через несколько минут к крыльцу подкатила крытая брезентом машина, засигналила непрерывно, после чего молодой парнишка с огненно-рыжим чубом в легких завитушках выключил мотор и вышел из кабины, брызгаясь частыми конопушками, уставясь счастливыми зелеными глазами на меня.
— Первый раз в Москву, — сказал он с волнением в горле и полез в карман за сигаретами. Закурив, жадно затянулся сизым дымком. — Ты один поедешь?
Не разделяя радости молодого шофера, я принялся выволакивать ящики на крыльцо, ожидая, когда подоспеет на помощь Лешка. Откуда ни возьмись в дверях вырос Гришка Распутин. Виновато улыбаясь, поздоровался. Опустив борт машины, взялся за поручни самодельного ящика и помог втащить его в кузов.
— Слышь, Гуга… — Он тронул меня за рукав и остановил перед очередным ящиком. — Подбросьте Дусю… Она нездорова…
Подоспел и Лешка и без лишних слов сменил Гришку Распутина, глядевшего куда-то за крыльцо мастерской.
Быстро загрузив машину и закрепив борт, мы с Лешкой полезли в кузов. Хлопнула дверца, потом другая, и Гришка Распутин, стоя сбоку, с облегчением пробасил:
— Ехай!
Машина вздрогнула и, натужно урча, выбралась на дорогу. Выкатившись на асфальт, зашуршала шинами, время от времени смачно причмокивая.
Из-под кузова разматывалась чуть увлажненная дорога, убегая темными горбами к горизонту, и сразу по обеим сторонам замелькали лужайки и приткнувшиеся к ним потемневшие срубы, слегка покачнувшиеся на бочок. Потом избы сменились кирпичными поселками, поселки — районными центрами с потускневшими куполами полуобрушенных церквей на холмах, чтоб отовсюду было их видно, с улетевшими в синеву неба крестами. И снова открытые поля, и дальние курящиеся на солнце леса, и ленивое кружение воронья, особенно над высокими купами погостов, уставленных железными крестами и неживыми венками из жести.
Порой перед какой-нибудь избой на завалинке возникала скомканная фигура старухи, подслеповато вглядывающейся в дорогу, не видящей и не слышащей никакой жизни, кроме той, что еще тлела в ней самой вялым усилением памяти.
И было грустно от вида угасающих жизней, когда-то горевших жарким огнем силы и красоты. Теперь одинокие фигуры у поизносившихся изб рождали чувство вселенского сиротства и отрешения. С кем им общаться, как не с самими собой, если жизнь осталась за чертою ушедшего времени, если близкие и родные, разорвав и это время, и пространство, отделились во имя великих свершений? И глядят ничего не видящие и не слышащие мертвецы едва живым грустным взглядом на тихую, недалекую обитель…
«Господи, пощади и обласкай их последние дни ласкою близких!» — повторял я про себя, уходя в свою боль, рожденную дорожными размышлениями. А машина, выплевывая ленту дороги, гнала назад дорожные столбы, избы и жалкие фигуры одиноких старух навстречу ветру и вливалась в поток армады своих сородичей, понукаемых нуждами времени.
На развилке дорог машина неожиданно затормозила, подалась к обочине и, выпустив из кабины Дусю, промелькнувшую перед нами в траурном черном платке, рванула вперед.
По тому, как сутулилась и шла, не поднимая головы, Дуся, было видно, что Федюнино далось ей непросто. От ее раздавленного поникшего облика веяло унижением и запоздалым раскаянием.
На Большой Черкизовской я подошел к шоферу, и мы покатили к заводу, то и дело уточняя у прохожих дорогу. А когда каким-то чудом все-таки вышли к стенам завода, где перед проходной стоял в сером костюме бугор с каким-то крюкастым человечишком, едва достававшим ему до плеча, с облегчением вздохнули.
Неотступно следуя за бугром и держа на паху крюкастые, как у обезьяны, руки, человечишко шел как-то боком и вызывал брезгливое чувство, усугублявшееся еще и тем, что из широких пропастей носа вылезали дремучие черно-рыжие волосы и скрещивались, вызывая в памяти паука, захватившего добычу, если таковым можно было считать конец туповатого носа.
— Тишка, — сказал бугор бесцветным голосом, обернувшись почему-то к своему бедру, — прыгай в кузов!
Я вышел из машины и встал рядом с бугром, желая поглядеть, как этот Тишка будет прыгать.
Тишка метнулся к кузову укороченной тенью и подпрыгнул. Подпрыгнув, накинул крюки на борт, с ловкостью зверька взобрался наверх и оттуда, с высоты, ухмыльнулся ржавым оскалом.
И тут шофер, вгрызавшийся в свои кудерьки металлическою расческой, получил команду «пошел!».
Оставшись наедине с бугром, я пожаловался на длительность нашей «командировки».
— Сколько же нам все-таки там торчать? — спросил я. — Смену свою отбарабанили…
Бугор походил взад-вперед и, глубоко задумавшись над трудным вопросом, выдавил из себя наконец:
— За установку пресса выпишу по сто на каждого!
Так и сказал: «На каждого».
Выгрузив из машины продукцию с Тишкой, к нам подошел Лешка, дожидаясь команды. Команда тут же явилась.
— Обменяйтесь адресами и телефонами и ждите… — сказал бугор и внимательно посмотрел на Лешку. Понижая голос, чтобы не подслушали посторонние уши, добавил: — На время закрываемся. Звонил знакомому преду колхоза… Думаю, под Казань скоро поедем…
Лешка, переминаясь с ноги на ногу, слушал бугра и не выказывал недоверия к его словам. Но когда тот закончил свое сообщение, спросил:
— А как же я узнаю?
— Гуга с тобой свяжется! — ответил бугор, довольный тем, что смог уверить Лешку в своей версии относительно закрытия и перспективы. — Ступайте теперь да связь держите друг с другом. А я с Тишкой улажу с продукцией…
— Итак, до скорого! — сказал я и перевернул руку вверх ладонью.
Бугор тут же ответил легким касанием своей, что, по суеверному обычаю, должно было оградить нас от всевозможных напастей…
Простившись с бугром, мы с Лешкой молча вышли к станции метро и разъехались в разные стороны, обменявшись телефонами, а через полчаса я уже был у своего дома, утопавшего в приторно-шоколадном духе «Рот фронта».
Мимо меня сновали знакомые лица. В крохотном дворе малышня возилась в песочнице.
Прощупав все глазами давнего обитателя этого микромира, удостоверившись, что дух прежней жизни еще не выветрился, я нырнул в подъезд и поднялся в свою густонаселенную квартиру, вмещавшую пять семей и имевшую такое же количество комнат-дверей. Уже слышалось шарканье ног, перемещение из личных «гробниц» с высоченными потолками в кухню, где каждая семья обладала одинаковым столиком и навесной полкой из ДСП, с просветом, предусмотренным для четкого обозначения границ между республиками-семьями, загнанными давней нуждой на крохотную субстанцию, именуемую коммуналкой, в коей, гукая, сморкаясь, притирались и не могли притереться друг к другу ее жильцы.
Противник всякого рода стереотипов, обезличивающих индивидуальность, я, не заглядывая в кухню, прошел прямо в свое обиталище в форме трапеции и повалился на кровать.
Аккуратно прибранная «гробница» встретила меня родным запахом моей державы, именовавшейся соседями в мирные дни страной ЛИМОНИЕЙ, а в дни жестоких «боев» — страной БЕЗЗАКОНИЕЙ.
Сейчас в державе было пустынно. На тумбочке знаком этой пустынности белела записка, гласившая, что сочинитель ее пребывает по прежнему адресу в больнице, кирпичном здании среди тополей на Стромынке.
Скинув обувь, я уткнулся лицом в подушку, тут же заснул и проснулся от подступившего голода. А через несколько минут кто-то робко постучался в дверь.
— Войдите, — сказал я, опуская ноги на пол, и опешил. Передо мной стоял и внимательно меня изучал водянистыми глазами из-под кустистых бровей отставной генерал. Соседская девочка с любопытством разглядывала снизу вверх незнакомца, искавшего встречи со мной.
— Вы будете Ивери? — по-армейски четко спросил он, не решаясь входить, бросил взгляд на оконце, похожее на толстенную амбразуру дота, и, прикидывая его ограниченный обзор, решительно добавил: — Я давно ищу с вами встречи, но никак не удавалось застать вас дома.
Не понимая значения сказанных генералом слов, я нащупал ступнями тапочки и, сунув в них ноги, привстал, приглашая жестом руки столь неожиданного гостя в обитель.
Принимая приглашение, генерал осторожно отстранил девочку, прихлопнул дверь за собой, но садиться на единственный стул, обитый яркой, как его красные лампасы, тканью, не стал.
— Мне вас рекомендовали Снегирев Алексей Сергеевич и Станислав Станиславович Губов. — И, на мгновенье замешкавшись, прибавил: — Сами они сейчас очень заняты…
Я виновато улыбнулся генералу, давая понять, что связь с вышеназванными товарищами давно прервана, но, чтобы как-то сгладить свою вину за это, выдвинул стул на середину «трапеции» и усадил-таки гостя.
Опустившись на стул, генерал ловким движением руки снял с головы фуражку, приспособил ее на коленях, водрузил на нее черную папку, распухшую от бумаг, и, смущаясь своего голоса, после короткого раздумья, вновь заговорил о Снегиреве и о Губове, толковых стилистах военной мемуарной литературы, издававшейся в то время во всех издательствах, утоляя жажду читателей, принимавших участие в операциях минувшей войны.
— Сейчас они работают с моими приятелями фронтовых лет! — сказал генерал, подбираясь к цели своего визита ко мне. — А поскольку со мной заключен договор на новую книгу, я и пришел к вам по рекомендациям Снегирева Алексея Сергеевича и Губова, то бишь Станислава Станиславовича. — Он распахнул папку и показал договорный лист. — Если вы возьметесь за эту работу, то я заплачу тридцать рублей с листа вместо принятых везде двадцати пяти.
Польщенный такой честью, я принял из рук генерала первые страницы, четко осознавая свою беспомощность как стилиста в столь сложном жанре, как военно-мемуарная литература, время от времени попадавшаяся мне на глаза. И тем не менее я прочел название книги «ОТ СТАЛИНГРАДА ДО ОДЕРА». Абзац, с которого начиналась глава, был чист, как горная река.
«Наша дивизия которой командовал я, — начиналась генеральская запись, — дислоцировалась на берегу Хопра в деревне Коростелевка…»
Прочитав несколько страниц кряду и еще раз убедившись, что пройденный генералом путь от Сталинграда до Одера — это его путь, я отказался от литературной работы. Мне тогда предстояло пройти свой путь внутри себя, по-своему равный тому, какой прошел генерал от Сталинграда до Одера, чтобы привнести в свою туманность прозрачность горной реки.
Простившись с генералом, я спустился вниз, к почтовому ящику, и обнаружил два письма от отца. Одно было написано две недели тому назад, а второе — неделей позже. Сунув их в карман брюк, пошел на Зацепский рынок. Накупив свежих фруктов и овощей, поехал на Стромынку и спустя полчаса уже стоял в глубине больничного сквера, наблюдая, как больные женщины коротают время за шитьем и вязаньем.
По дорожке сквера сновали взад-вперед мужчины в застиранных больничных пижамах, с надеждой поглядывая на ворота в ожидании свидания с домашними.
Глядя на них, почувствовал острую потребность в болезни, дающей человеку паузу для самообщения. Но в то время меня не брали четко выраженные недуги, и надеяться хотя бы на краткий роздых от ежедневных передряг не приходилось.
Приблизившись к группе женщин, я нашел ту, которая, живя в толпе людей, никак не могла освободиться от ощущения круглого сиротства.
Уронив спицы с вязаньем, она поднялась и бросилась мне навстречу, перемежая слезы с улыбкой радости.
Просидев с нею в сквере почти до ужина, я поднялся и пошел к выходу, продолжая говорить о разных разностях, а приблизившись к железной калитке, вдруг с удивлением обнаружил в ней интерес к ближним, к соседям, тиранившим нас сообща и порознь.
— Как там? — спросила она, грустнея от самой мысли, что где-то вообще есть на земле соседи, которые вряд ли, как в коммуналке, могут отличаться друг от друга.
— Скучаешь по ним? — ответил я вопросом, понимая, что за ее любопытством скрывается нечто большее, чем соседи.
— Чем будешь заниматься? — спросила тогда она, откладывая главный разговор на потом.
— Расстреливать бумагу!
— Стучать на машинке? — проговорила она с некоторой досадой на то, что иначе чем на машинке переводить белые листы, а значит — раздражать соседей презренным ремеслом литератора, нельзя.
— Ты, наверное, что-то хотела мне сказать? — холодея от дурного предчувствия, спросил я настойчивее и заглянул в глаза, которые тут же поникли. — Завернули обратно?
— Да! — коротко ответила она и, подняв-таки глаза, бесшумно заплакала. — Тебе надо чем-нибудь серьезным заняться.
— Ладно, — сказал я, сдерживая гнев и, круто развернувшись, шагнул на улицу, на трамвайную остановку.
В тумбочке я обнаружил бандероль, а в ней на фирменной бумаге журнала — рецензию.
Рецензент-дегустатор, по чьему вкусу, должно быть, составлялось меню очередного номера, извещал в своей пространной рецензии о пристрастии автора к детализациям «малых» галактик, в ущерб, конечно, «большим», дабы, работая в угоду моде, заниматься исследованием промежуточных пространств, пространств между городом и деревней, шагнувшей к урбанизации… Затем, переключившись на пересказ отдельных рассказов, приводил рваные абзацы, будто бы грешившие украинизмами, чем окончательно уверил автора во внимательном прочтении. В заключение, как и полагается серьезной рецензии, резюмировал концепцию о мировоззренческой узости рассказчика, что не помешало ему в самом конце просить руководство журнала, надо полагать, главного редактора, держать автора «по-своему интересных рассказов» в поле зрения. Правда, при этом он (разумеется, из одной только скромности) не давал никаких советов по реализации своего пожелания, полностью, видимо, полагаясь в этом вопросе на инициативу самого случая.
Скомкав семистраничную мешанину вздора и пустословия, я зашвырнул ее в тумбочку, не переставая думать о поразительных сдвигах в сторону слияния языков, в чем полностью убедил меня рецензент, посчитавший мингрельский диалект, о котором постоянно шла речь в рассказах, чем-то средним между полтавским и миргородским, а в общем-то — украинским.
Расхохотавшись в бессильной ярости, я уткнулся в подушку, чтобы приглушить раскаты, но напрасно. Лишь поздно ночью, присмирев, я свернулся калачиком в постели, пытаясь заснуть. Выбившись из сил, ушел в мерцающую пустоту небытия, потеряв тревожное ощущение притяжения земли. Но недолог был мой сон: кто-то с кулаками рвался ко мне, желая во чтобы то ни стало сейчас же расправиться.
— А, трус несчастный! — урчал в мстительном раже подгулявший мой сосед. — Ну что, боишься меня, гадина? Вставай! Что, гнида бериевская, кончилась ваша лафа? Вставай, паскуда! Ну что, трусишь, заяц ушастый? Давай вылазь!
Трясясь от возмущения, я в чем был подался к двери, резко приоткрыл ее, но, заметив женщин, высунувшихся из своих комнатенок, попятился назад, смущаясь своего вида. Пылая по-татарски раскосыми глазами гневом далекого предка, переселившегося в полурусскую плоть, он удивлял диковатым несоответствием их добродушному славянскому овалу лица и продолжал гнусавить:
— Нет! Неправда! Не уйдешь, гадина!
Чувствуя себя этаким квартирным Наполеоном, лез напролом, едва доставая мне до плеча, набухая ненавистью из-за комнатенки, которую мы занимали с женой. Он считал себя ее потенциальным обладателем в случае, если мы съедем, а еще лучше — сгнием в один прекрасный день в утробе жарких печей для пережигания человеческой плоти. Но так как мы никуда не съезжали, да и умирать не хотели, наш сосед с русской фамилией Колесников время от времени демонстрировал нам и другим жильцам квартиры свои притязания на комнатенку.
Выпорхнули прелестные девочки Колесникова, унаследовавшие от славянских предков и милые улыбки, и добрые глаза, таки отодрали отца от двери и оттащили на кухню, чтобы восстановить потраченные им на угрозы калории и вернуть ему к рабочему часу трезвую голову.
Колесников как квалифицированный рабочий, по свидетельству работающих с ним товарищей, высоко ценился на заводе, но ничем существенным, кроме заработной платы да грамоты за доблестный труд по праздникам, не отмечался. В силу этих ли или иных несправедливостей время от времени, доставая из кармана рулетку, приступал к пересмотру жизненного пространства в квартире и заканчивал его в туалетной державным гвоздем с надписью над ним: ТОЛЬКО ДЛЯ КОЛЕСНИКОВЫХ.
Но вот однажды на хорошо отточенном гвозде, на который Колесников накалывал бумагу, он обнаружил марку Баковского завода. Намек Баковского завода, поставляющего свое резиновое изделие аптекам, оказался прозрачным, несмотря на довольно мутное содержание… И призывал оскорбленных к отмщению.
— Кто? Кто? — негодовал, рыкая зверем, глава семейства, брезгливо удерживая перед собой фалангами пальцев срамное изделие.
Хоть вскоре после этого случая исчез со стены державный гвоздь, но память хранила его на том месте, где он красовался. А потому Колесников, желая отомстить за былую чью-то дерзость, теперь пуще прежнего лютовал в квартире.
Потревоженный неурочной «дуэлью» с Колесниковым, я раскрыл любимую «Деревушку», чтобы почерпнуть в фолкнеровской мудрости долготерпение, но книга заходила в руках. Я понял, что сегодня ни во что не вчитаться. На рассвете, умывшись со смачным фырканьем в ванной, Колесников мелкими шажками коротенького человечка протопал мимо моей двери, открыв парадную, хлопнул ею со всего размаха, давая понять жильцам, особенно мне, что сейчас некогда, но что скоро он вернется к начатой глубокой ночью ссоре.
Надо было догнать его, но брезгливое чувство, оказавшееся сильнее ненависти, остановило меня.
Порывшись в бумагах, я перечел рецензию и, окончательно раскиснув, вышел на улицу, хотя было еще рано. Острая потребность в улице, где люди ничего друг о друге не знают или знают столько, сколько не больно знать, привела меня на задворки, к пивному ларьку. Оглядевшись, я понял, что стою в двух шагах от своего дома на улице Островского.
Помятые лица, отпугивая немочью опохмеляющегося, вяло тянулись к ларьку и, покивав кому-то в очереди, ждали своего часа, чтобы «полечиться» от вчерашнего.
Потолкавшись у приступочки дома, я выпил кружку холодного пива, не доставившего радости, пошел в сторону Ордынки, в каком-то дворе набрел на телефонную будку и против своей воли позвонил Лешке, зачем-то сказав ему, что уезжаю обратно, хотя раскрывать тайну было не велено.
Лешка, помолчав несколько секунд, попросил через два-три часа перезвонить, должно быть, куда-то спешил.
— Хорошо, — сказал я и повесил трубку, вспоминая пророчество Гришки Распутина об Иудином поцелуе. «Ну и пусть, — подумал я с какой-то бешеной радостью. — Теперь в самый раз, чтобы кто-то предательски поцеловал…»
Вскоре, набрав в магазине необходимых продуктов, поехал на вокзал, взял билет на поезд, идущий на Иваново, чтобы вечером, еще засветло, оказаться в Федюнине. Времени до отправления оказалось много, но ни идти в больницу, ни тем более звонить не хотелось. Единственный телефон, которым я дорожил, оборвался со смертью Тани. В памяти ныло от сознания, что номер существует, но дозвониться до человека, со смертью которого вымерло огромное пространство, нельзя. Снова позвонил Лешке. Его не оказалось дома, но женский голос ответил, что «поехал на работу»…
Ответ «поехал на работу…» — мне показался очень занятным, и, чтобы хоть как-то приоткрыть завесу над тайной, окрашивая голос небрежной простотой, я спросил:
— Когда он вернулся из командировки?
— Еще вчера! — ответил женский голос в трубку, но он тут же осекся: — Простите, кто его спрашивает?
— Христос воскрес! — проговорил я, продолжая игру. — Не забудьте передать ему, что жду с нетерпением Иудиного поцелуя.
В трубке затрещало, потом ответили, что непременно все как есть передадут.
Я повесил трубку и задумался, расшифровывая на свой лад телефонный разговор.
Повременив еще с полчаса, повторил звонок и, услышав голос Лешки, извинился, что задержался со звонком.
— А я сижу у телефона и жду, — ответил Лешка бесцветным голосом безразличия. — Когда отчаливаешь?
Я ответил, что через сорок минут.
— Жди, — сказал Лешка, выдавая волнение, — я сейчас на такси подъеду.
Я взял портфель и скрылся за щитком табло на перроне, чтобы отсюда наблюдать за появлением Лешки.
И вот рядом с образом воздушно-легкой девочки в плиссированной юбочке из белого шелка заколебался в воздухе и образ Лешки, направляющегося к месту встречи, хохочущими глазами выискивавшего меня в толпе.
— Здравствуй! — сказал я, подходя сбоку и ставя портфель между собой и им.
Девочка, откровенно уставившись на меня, поглядывала снизу вверх, но, быстро удовлетворив любопытство, заскучала от ординарности объекта и нетерпеливо дернула Лешку за руку.
— Чего это ты надумал возвращаться? — вдруг спросил Лешка, одергивая девочку.
— Так надо, — ответил я и таинственно улыбнулся. — Это все, что я могу тебе сказать.
— Ладно, — сказал Лешка и огляделся по сторонам. — Как ты думаешь, мне нужно с тобой ехать? — спросил он, вырвав взглядом кого-то из толпы.
— Со мной нежелательно, — ответил я.
— Ладно, — ответил он и вернулся из толпы, в которой кого-то углядел. Тот, наверное, ушел, чтоб не отвлекать.
— Вот и замечательно, — сказал я и погладил девочку по головке, чтобы убедиться в том, что это живое существо, а не мираж. — Как тебя зовут?
— Анюта! — засмущалась девочка и посмотрела на Лешку.
— Больше всего люблю на свете девочек и кукол, — сказал я Анюте и еще раз потрепал ее по головке, как когда-то, бывало, свою маленькую сестренку Мину. И почему-то вспомнил слова своего соседа по деревне, Чатала-оглы Мамеда-эфенди: «Какие красивые!.. Они красивы, пока остаются поросятами! Но мы из них выращиваем свиней!» Может, в этом ответе таилось мусульманское отвращение к свинье?!
Анюта высвободила головку из-под моей руки и сильнее прежнего дернула Лешку за руку, торопя его кончать встречу с таким неинтересным человеком, как я.
Я убрал руку и, глядя поверх Анютиной головки вдаль, заметил профиль Тани и сорвался с места, оставив портфель стоять у Лешкиных ног. Но, настигнув до жути знакомый профиль, разочарованно застыл на месте. В профиле не было ничего с Таней общего, кроме сходства.
— Как жить, Лешка, — сказал я, когда он догнал меня на перроне с моим портфелем и бешено хохотнул с грустным лицом. — Если лучшие из друзей уходят, оставляя на память о себе лишь чужие профили?.. — Я почти вырвал у него из рук свой портфель и не оборачиваясь зашагал дальше, к стоянке головного вагона.
Пока поезд уносил меня из вымершего для меня пространства, я думал о Лешке, подозревая в его отношениях к Стеше глухую мужскую месть. Не любовью веяло от их встреч. Слишком уж грубы были их ночные любовные утехи.
Перескакивая с мысли на мысль, я вспомнил о письмах отца, покоившихся в кармане, и с подспудной радостью, разглядев конверты и штемпеля на них, вскрыл, соблюдая хронологию, первый.
На этот раз отец писал карандашом, причем фиолетовым, как с фронта во время войны.
Буквы были мягки и красивы.
«Дорогой Ивери! Пишет тебе твой отец Лаврентий.
Теперь сынок мать ваша очень про тебя беспокоится говорит что с ним случилось. Вот уже четвертый месяц от тебя нет писем. Если ты скоро не ответишь мать хочет приехать. Напиши обязательно.
Теперь Ивери Мина собирается выходить замуж за армянина из Богапочты. Он тоже работает в райкоме. Но мне он не нравится. Очень много говорит. Слушать его не скучно потому что в общем говорит правильно но делать ничего земного не умеет. Вот и Мина тоже. Теперь они все говорят и говорят а дела делать разучились. Видно там где таких кадров готовят для райкомов обучают правильно говорить но совсем разучают правильно работать и жить. В общем Ивери послушал их и совсем приуныл. А мать все плачет говорит что еще один язык придется изучать.
Теперь Ивери наша корова которая имеет мягкий белый цвет которая родилась три года тому назад от Янали заболела. Говорят змея укусила. Вымя очень сильно распухло. Пошел к Макару к ветеринару но его на месте не оказалось сказали что пошел на ферму а со мной поехала Малина. Это не та Малина которая русская и работает в здравпункте а которая у Макара ветврачом. Если помнишь она еще имеет красивое лицо за что постоянно выбирали ее депутатом местного Совета. Она пошла за мной и посмотрела вымя. Потом сделала укол и часто часто проколола ножом. Через неделю корова поправилась, но вымя отвалилось. А что такое корова без вымени. Ходит пасется а сисек не имеет. Жалко а продавать придется.
Теперь Ивери завтра похороны Дзуку Кемулариа. Получил разрыв сердца. Он поехал в райком и там сильно ругался за сады которые уничтожили. Он им сказал если вы коммунисты значит кто-то из нас не коммунист. Ему там сказали что он давно потерял коммунистическую бдительность и через неделю заставили партбилет положить на стол. Дзуку вышел из кабинета и девять километров шел пешком домой и все время удивлялся что на фронте смог сберечь партбилет а в мирное время его потерял. Пришел домой и ночью умер. Но оказалось что его еще не успели исключить из партии. И районная газета «Дроша» что по-русски означает еще «Флаг» напечатала про Дзуку хорошие слова. В общем Дзуку умер, а хорошие слова о нем живут.
Эй гиди дуниа! Помнишь так говорил наш сосед Чатал-оглы Мамед-эфенди. На русском языке не знаю как это сказать но если сказать грубо то получается эх как больно вселенная. Теперь хоть я не турок но часто повторяю турецкое эй гиди дуниа!
Теперь еще Ивери когда будешь ехать домой возьми жену и еще купи лезвия хорошие. Здесь цыганки продают очень дорого. Мать говорит пускай приезжает с женой говорит китайский язык тоже будем учить».
Я пробежал последние строки письма, аккуратно сложил листы в конверт и спрятал в карман.
Поезд, набирая скорость, мчался по солнечному просвету между лесных угодий, пролетая мимо красивых лужаек с дачными строениями, мимо грустных путников, устремляющихся в свои гнездовья.
Пассажиры, откинувшись в высоких креслах экспресса, дремали, покачиваясь из стороны в сторону и время от времени лениво открывая глаза, чтобы убедиться, что поезд идет в том направлении, в каком ему следует.
Уверившись, что и сосед мой дремлет, как многие другие, я распечатал второе письмо.
«Дорогой Ивери! — продолжал отец свои размышления. — Слава богу! Получили от тебя маленькое письмо. Мать немного успокоилась но все равно говорит что чувствует что у тебя не все хорошо.
Теперь Ивери я писал тебе про Дзуку Кемулариа. Похоронили хорошо. Было хорошее вино правда черное но привезли из Салхино. Местные жители с гордостью сказали что они такое вино посылают только на розлив «Самтреста» специально для ответственных работников. Народ пришел больше две тысяч. Все они говорили между собой что Дзуку умер за партбилет.
Теперь Ивери белую корову мясники нашего рынка купили у меня но убивать дома я им не разрешил. Ее подняли на кузов и повезли а она все время оборачивалась и жалко мычала. Зачем же бог лишил ее языка. Тогда может быть она смогла бы нашим ветеринарам объяснить что и где болит.
Теперь Ивери мать говорит что если ты приедешь без жены домой не пустит. Она говорит в твоей глупости чужой человек не виноват. Не виноваты и другие жены если наши ребята потеряли свет в глазах. Так что приезжайте.
Теперь Ивери в Москве в протезном заводе говорят делают хорошие легкие протезы из слюды. Узнай все какие нужно иметь документы чтобы и мне разрешили взять такой протез. И еще не забудь про лезвия и очки. Насчет пенсии пока ничего не слышно. Говорят прибавление будет в тринадцатой пятилетке. Дай бог ворону дожить до тех лет!
Теперь Ивери из Ленинграда приезжала белолицая девушка и спрашивала тебя. Неделю жила у нас и во всем помогала матери. Даже научилась доить и сулугуни варить. Мать говорит какая хорошая девушка но мне она не понравилась потому что наравне со мной вино выпивает и все время говорит о тебе. А когда молодая и такая красивая девушка много говорит о мужчине с его родителями портится ее красота. Она оставила письмо говорит когда приедет Ивери скажите что я была и дайте это письмо.
Теперь Ивери Мина устроила стол своим райкомовским работникам. Приехали они на трех машинах с личными шоферами и много-много говорили о политике и хвалили хачапури и сыр сулугуни который мать для тебя сушила. Конечно они все очень умные люди но нам столько умных людей на такое маленькое количество дураков плохо что маленькому количеству приходится кормить большое количество. Когда я это сказал Мине она сказала что не удивится если меня когда-нибудь арестуют. А я ей говорю что я все равно что арестованный. Чтобы получить бесплатные путевки которые мне полагаются надо писать в Кремль. А там глядишь и Кремль откликнется даст указание райисполкому а райисполком местному Совету а местный Совет колхозу а колхоз депутату а депутат обратно местному Совету а местный Совет райисполкому а райисполком в Кремль что меры будут приняты в ближайшее время. А тут начался новый год и новая переписка. Я уже ничего не прошу только одно прошу чтобы молодые которые растут учились не только красиво говорить но и красиво работать и любить Родину не за стаканом вина а то заговоримся и забудем что у нас есть Родина за которую мы проливали кровь и ложились в землю и тогда на этой Родине вырастут большие болтуны пока мы будем слушать их. Успокойся папа советует Мина ты говорит живые клетки растрачиваешь а клетки не восстанавливаются береги мол их жизнь не укорачивай себе. А я на это скажу Ивери так. Наплевать я хотел на эти клетки если я еще при жизни на все глаза закрою чтобы жить как ворону долго. Если все молодые работники будут так рассуждать то мы не только коммунизм а такой какой пока есть социализм не сохраним на деле а только на бумаге. Эх сколько мы еще будем улыбаться друг другу Ивери и хвастать что обгоняем всех если еще стоим там откуда надо начинать путь.
Теперь Ивери я прощаюсь с тобой и говорю что старость грустная станция дальше которой начинается забвение. Эй гиди дуниа!
Пиши и Мину поругай за молодое хамство которому она сообща с другими научается.
Пишет твой отец сын Степана».
Поезд, раскачавшись, мчался во весь дух, стуча тяжелыми колесами на стыках рельс, неся свое разгоряченное дыхание вдаль, обогреть на какой-нибудь тихой станции заждавшихся ожиданием радости.
Выскочил я на безлюдном полустанке и пошел по гречишному полю, вдыхая лесную тишину предвечерья.
Идя к деревне, я устремлял взгляд к дальнему лесу, к его острым верхушкам, обжигаемым сейчас дыханием зари, темно рдеющим на огненно-красном горизонте.
Легкий душистый воздух с розовым отливом лился с ближнего мелколесья, просвечиваясь в листву и устремляясь к низким облакам у противоположной полосы горизонта, уже охваченного свечением угасающего дня.
Воронье отдельными большими стаями, снявшись бесшумно с полей, вновь падало на них, неся на своих крыльях иссиня-розовый цвет заката.
В отблесках зари пылали окна федюнинских изб, притихших в раздумье, и не позволяли проникнуть в себя взглядом.
Перед некоторыми из них сидели кроткие старики и подслеповато разглядывали окрестность, утопая в дыхании заката, переливающегося над головами.
Выйдя на улочку, я спустился к калитке и, толкнув ее, вошел во двор, где в конце его треугольника слышалось необычное оживление.
Дядя Ваня и Сергей Кононов, сидя на завалинке, весело переговаривались с молодым человеком. Пшеничные усы его, лихо подкрученные кверху на манер дерзостных моряков, являли собой презрение к собственной и чужой жизни перед смертельной атакой.
Незнакомец, засучив рукава серой рубашки, потрошил петуха. Золотистое оперение хвоста, загнутое серпом, дышало под рукой у незнакомца, напоминая жалкое подобие того, что еще два дня назад носило имя одного из цезарей Римской империи. Да, это был Октавиан… Один из самых коварных и хитрых петухов двора. Теперь наполовину ощипанный «император» был жалок, как все живое, застигнутое вероломством смерти. Вчерашний сластолюбец был принесен в жертву другому сластолюбцу. В общем, мне его было жаль.
Между тем незнакомец, увлеченный страстью гурмана, проворно работал пальцами обеих рук, продолжая разговор на той замедленной ноте, на какой поются северные медлительные песни, сходя к разговорности. Правда, то, о чем говорил незнакомец, не было бы песней, но сама манера говорить нараспев все же напоминала ее. — С Буя-то в аккурат и приехал, — говорил он, растягивая слова, как отварные макароны, перед тем как отправить их в рот. — Что, не знашь такого?
— Не знам! — отвечал Кононов, охваченный приступом веселья. — Откель мне знат, коли из Москвы уж сто лет не выезжам?
Собеседник, хмыкая, пояснил:
— Под Костромой-то в аккурат и будет…
— Большой? — интересовался дядя Ваня, моргая белыми ресницами, словно схлопывая с высоты лба снежинки.
— Поболее маленьких городов…
Тут я, стоявший обок, вступил в треугольник двора, и разговор на время прервался.
Дядя Ваня, не ждавший столь скорого моего возвращения, вопросительно поднял глаза с застывшими на них снежными хлопьями и замер изуродованной корягой.
— Не ждали?
Дядя Ваня протер глаза и улыбнулся:
— Отчего так скоро?
— В помощь вам! — ответил я, намекая на то, что будем перевозить пресс на новое место, да и самим надо определяться там же. — Вам одним-то не справиться!
— Не справиться! — поддакнул дядя Ваня и погас. — А куды Лешку дел?
— Договаривается с центурионами! — зачем-то сказал я в сердцах.
— А это что за собаки? — спросил дядя Ваня.
— Стерегущие дом… — объяснил я ему.
— Да ну вас… — обиделся дядя Ваня и умолк.
Незнакомец, держа в руке желудок Октавиана, набитый едой, с удивлением разглядывал меня, шевеля пшеничными усами, из-под которых угадывалась улыбка, вызванная моей принадлежностью к очень загадочному роду-племени.
— Джарбажанец? — осененный догадкой, наконец обнажил он мелкие зубки полевого грызуна и брызнул васильковыми глазами. — У нас под Буем джарбажанцы два коровника поставили… А в соседней деревне Чевилево грузинцы тоже ставют… Здорово ребята деньгу имают! — с каким-то восхищением и скорбью в голосе пропел буец.
— А что же вы не имаете? — так же весело спросил Кононов, подмигивая мне. — Что у вас, с мозгами, что ли, не в порядке?
— А-а, известно почему… с утра топор не держится, а к обеду не до него… А эти, что грузинцы, что джарбажанцы, чуть рассвело — топорами стучат… Те, что грузинцы, во, честное слово даю, еще и не светат, а бревна таскают, тешут и песни заводют. Слов-то в песне нету, а свирель распускают на разные голоса, да так каждый день до поздней зари… А те, что джарбажанцы, они, во, честное слово даю, как враз — сперва один, а потом и другие — завоют, будто звери плачут на панихиде да шаршавым языком раны зализыват…
— А как же ты джарбажанца от грузинцев отличить-то можешь, коли языка ихнего не знаш? — спросил Кононов, довольный откровением буйца.
— Грузинцы-то поповоротливее да поносастее… А у джарбажанцев носы валенками… И все одно — всех грачами зовут, потому как грач с весны налетат…
Когда разговор о «джарбажанцах» и «грузинцах» иссяк, незнакомец, показывая свою осведомленность, надрезал желудок Октавиана и концом ножа сбросил на землю зеленую массу.
Я обежал Стешин двор глазами и наткнулся взглядом в закутке на белую курицу с Тимошкой. Они, косясь на людей, боязливо жались друг к дружке, не подавая признаков жизни.
А за частоколом сидели настороже соседи и внимательно вслушивались, время от времени переговариваясь между собой.
Поздно вечером, в отсутствие Стеши, буец угощал нас Октавианом, приправляя сытный ужин своеобразным рассказом. А когда с ужином было покончено, буец уселся перед телевизором и стал дожидаться Стеши, но, так и не дождавшись, завалился на ее кровать и затренькал колокольцами, передавая свое нетерпение ночи.
Поближе к рассвету у калитки рявкнул и тут же унесся вдаль мотоцикл. А Стеша, прокрадываясь через нашу комнату, чтоб не потревожить спящих, пробралась к себе, после чего снова затренькали колокольца, мешаясь с сердитым перешептыванием.
Стараясь не привлечь нашего внимания, Стеша уговаривала ночного гостя выйти и лечь со всеми нами на той самой раскладушке, которая стояла, сложенная, у стены. Но попытки Стеши встречали веские аргументы в прошедшем времени: «Любила видь?» — «Любила, да теперь люблю другого! Как ты этого не поймешь?» Вскоре умерло шепотом и родилось ознобом осторожное, немилое, явленное понуждением чужой воли. Но умер и озноб, и родилось всхлипывание вперемешку со вздохами.
Утром Стеша прогнала буйца и увязла в продолжительном сне, время от времени тревожа облегченные колокольца.
Сразу после завтрака подъехала телега, и мы принялись за работу.
То, что еще недавно другая смена ставила ключом, мы разрушали кувалдой, чтобы демонтировать пресс.
Летели отбитые осколки бетона, рассыпая песчинки с быстро гаснувшими искрами. Но вот наконец мы запрокинули пресс на бочок, отволокли к крыльцу и уселись в ожидании Гришки Распутина. Но вместо него к нам явилась Лизавета Петровна в солнечных очках, прятавших за темными стеклами не менее темные полукружья под глазами. Она глянула на «кумпанию» и, ничего не сказав, ушла по направлению к магазину.
Дядя Ваня поморщился и сплюнул.
— Дерьмо! — сказал он, имея в виду Гришку Распутина, не явившегося к назначенному часу.
Кононов спустился с крыльца, бросив взгляд вослед Лизавете Петровне, тронул носком ботинка осоку, поднявшуюся на целый вершок у обочины тропы, и сверкнул золотом во рту.
— Скоро Гриша заявится, — сказал он.
Изувеченный дядя Митрий, куривший козью ножку, посмотрел сначала на одного, потом на другого и, вытянув изо рта чадящую махорку указательным и большим пальцами раздробленной кисти правой руки, лениво сплюнул с телеги, на которой все еще оставался сидеть.
— Дак, может, — сказал он, — на бревнах-то стащим ево в телегу…
— Ждем еще одного, — сказал вяло дядя Ваня безо всякой надежды в голосе.
— Коли так, сидеть — не стоять, — отозвался дядя Митрий, любимец Лизаветы Петровны, часто пользовавшейся его услугами, и снова, прибегая к помощи «клешни» на правой руке, ловко свернул другую козью ножку и зачадил без вкуса, из одной скуки, почесывая разлохматившиеся седые волосы из-под бескозырки, замурзанной и пришедшей в ветхость за долгие годы ношения…
— Воевал? — спросил дядя Ваня, заметив изуродованную кисть дяди Митрия.
— А как же, — ответил тот, почему-то сердито сплюнул в телегу, прямо под ноги, и часто-часто зачмокал губами, желая, видимо, что-то к сказанному добавить, но грустно подавив это желание.
— Вот он, гребет! — сказал Кононов и козырьком приложил ладонь ко лбу. — Со станции показался…
— Расшибут когда-нибудь башку, — покачал головой дядя Ваня, тоже спустился на землю и стал рядом с Кононовым, чтобы убедиться в том, что «гребущий» не кто иной, как сам Гришка Распутин, бедовый человек, несуразный подневольник срамных страстей в свои немолодые годы. — Он, — радостно протянул дядя Ваня, видимо изрядно заскучавший по нему в его отсутствие.
А Гришка Распутин, сам сильно томившийся по «кумпании», греб изо всех сил, улыбаясь широким лицом, словно прощая всем все и того же самого прося и у всех.
Подбежав к крыльцу, Гришка Распутин свалился на нижнюю ступень и устало выдохнул:
— С поезда спрыгнул! — Он показал движением правой руки, как кубарем летел под откос. — Чуть не убился. Слава богу, что на правый бок упал…
Немного поговорив, а за разговором переведя дух, Распутин встал и, показывая удаль русского человека, почти один с одной стороны взялся за пресс, который после недолгого кряхтения и отдышки погрузили на телегу. И нудно-скучно покуривавший дядя Митрий оживленно развернул хорошо ухоженных коней, шагом повел их мимо полустанка, а пройдя под железнодорожным полотном возле сухостоя на «другу» сторону, взял курс на хуторок, затерявшийся в урочище смешанного леса.
Держа «клешней» вожжи, дядя Митрий чмокал губами и подхлестывал лошадей под бока, чтобы они шли резвым шагом и не заглядывались на попадавшуюся им в пути сочную травку.
Мы, держась по бокам телеги и не отставая от нее, тоже старались идти споро. А чтобы дорогу сделать короче, дядя Ваня и Гришка Распутин заводили разговор с нашим возницей, так же как и мы, называя его «дядя Митрий».
— Дядя Митрий, — первым начал Гришка Распутин. — Сколь тебе годов, ежели не секрет?..
— Сколь есть, все мои! — отрезал дядя Митрий, невидяще взглядывая сбоку на Гришку Распутина. Затем, поразмышлявши с минуту, прибавил: — Девятый десяток разменял нонче…
Гришка Распутин присвистнул и, показывая нам глазами, что выведет старика на чистую воду, спросил:
— А как насчет энтого?
— А никак! — отрывисто выдохнул дядя Митрий почти весело и тут же пояснил: — Трижды на дню, а коли зимою, то чаще использую по другой надобности…
— Значит, нету надобности? — сказал Гришка Распутин.
— В мои-то лета энто только страм! — убежденно сказал дядя Митрий, а чтобы собеседнику стало известно, почему «страмно», добавил: — В старом теле более нету красоты… А на кой без телесной красоты энто нужно?
Телега съехала с накатанной дороги и пошла вдоль молодого осинника, переваливаясь с колеса на колесо на рытвинах и выбоинах бездорожья, нет-нет да давая лошадям возможность ухватить зубами молодую траву за челку и, перекатив через удила, проглотить ее.
— А ты тоже кричал, — вдруг ни с того ни с сего заговорил Кононов, когда лошади взяли вправо и пошли по обозначенной кем-то меже, вдоль которой стояли низкие столбики с цифрами. — Ты тоже, дядя Митрий, кричал: «За Родину, за Сталина»?..
Дядя Митрий, уже скручивавший очередную козью ножку, внимательно оглядел Кононова, а оглядев, ответил, не видя в вопросе ожидаемой насмешки:
— Каждый раз, когда поднимали в атаку! А как же?!
— Уважали?
— Уважали и любили! — ответил дядя Митрий и недоверчиво поглядел на Кононова. — А ты чего это все спрашиваешь?
— А другие-то как? — не унимался Кононов, желая во что бы то ни стало разговорить старого фронтовика. — А другие-то как, нравятся? — переспросил Кононов и, как бы предваряя ответ дяди Митрия улыбкой, взялся рукой за борт телеги.
Дядя Митрий, как видно тоже повеселевший от такого вопроса, нырнул «клешней» под серую застиранную рубаху с помятыми отворотами и почесался.
— А то как же! — сказал он и еще неистовее загреб под рубахой. — Что допрежь энтого был… — Дядя Митрий подтащил «клешню» к груди и провел слева направо до конца. — Весь украсился, дале уж хоть на то место цепляй… Бодряк — себе два, другим по одному… Другим два — себе четыре и про кажну награду книжку написал. Правда, сказывали люди, что писать не очень горазд… Больше по части поговорить. Тьфу, срамота! — вдруг выругался он, хлестнул сердито лошадей, но уже кнутом, со всего размаха. Лошади разом дернули и взяли с места галопом. — Кусай их всех комары…
Лошади пробежали метров двадцать и вновь перешли на шаг, словно чувствуя, что нам их не догнать, если не перейти на обычный ход.
Догнав-таки телегу, остаток пути мы шли молча, то выныривая на залитое солнцем поле, то снова уходя в глушь леса, где гулко потукивали дятлы. Но вот лес кончился, уступая место молодой поросли, перемешанной самой природой, чтоб не уставали глаза: то высветится молодая березка, как кисейная барышня, то застынет ель, как неприступный страж тишины и покоя, то затрепещет осинник, вызывая грибной дождь, и снова свет и тень, тень и свет, и вдруг на зеленом пригорке — черная изба, на другом — другая. Окна крест-накрест заколочены досками. Крыши покрыты зеленью, и труба вся в прозелени мха, поднявшегося на верхотуру.
Подъехав к первой избе, дядя Митрий остановил лошадей у подгнившего крыльца и сам спрыгнул с козел и стал разминаться, притоптывая вокруг лошадей, которые, тут же захрумкавши пенистыми удилами, недоверчиво косились крупными глазами на нас.
Дядя Ваня поднялся на крыльцо, походил, постукал по настилу протезом и, высказав опасение относительно того, что ему не выдержать этакой тяжести, пока не сменим подпорки и отдельные доски, приказал сгрузить пресс прямо на землю. Но Кононов, уважительно относившийся к технике, сперва настелил картон и лишь после этого дал согласие упокоить нашего «кормильца» на ложе. Однако упокоить его на облюбованном месте оказалось сложнее, чем погружать на телегу. Мы с трудом, чуть не разбив телегу, скатили, вернее, сбросили его, несмотря на все усилия Гришки Распутина…
Накрыв пресс клеенкой и забросав поверху ветками можжевельника, мы простились с дядей Митрием, пожелав ему дожить до более благополучного времени, чтоб не пришлось повторять излюбленное изречение — «кусай их комары» — с приходом новой смены… И тут же, как только лошади тронулись и исчезли из поля зрения, мы поднялись в избу, где в память о былой жизни стояли две железные кровати и большой стол, сколоченный, наверное, еще на заре нашего века из хорошо подогнанных друг другу досок. Стол теперь был черен и носил на себе следы кухонных ножей. Там, где когда-то стояла печь, теперь грудой валялись обломки кирпичей. Видно, чья-то рука расстаралась — унесла целые кирпичи и, захламив чужое гнездовье, вдобавок попыталась испакостить стены, исписав их словами, щедрому набору которых не перестаешь удивляться по всем широтам необъятной земли.
Отойдя чуть в сторону от стены, Кононов, кривя в улыбке рот, читал такие стихи:
Забирает наш колхоз Даже бабушкин навоз, А у бабушки нема Больше этого назьма…— Убрать! — сурово сказал дядя Ваня, когда Кононов закончил.
— Вот и убери! — осклабился Кононов и отошел к другой стене, на которой тучные пауки опутали всю притолоку, от угла до угла, сложными силками для лова «живности», чтобы питать свою жизнь чужой кровью.
— Убрать! — повторил дядя Ваня, но на сей раз самому себе и, взяв осколок стекла, принялся скоблить стену, строку за строкой убирая сочинение неизвестного автора, пожелавшего стяжать славу на литературном поприще, положа в основу своего «творчества» чувство отчаяния.
Место нашего предстоящего жительства напоминало нам более всего хорошо замаскированное жилье партизан, откуда отчаянными вылазками они наводили страх на противника.
Чтобы самим не запутаться в подходе к хутору, мы, покидая его, внимательно приглядывались к местности, дабы вернуться и довершить завтра порученное дело.
— Затащим как-нибудь, — мечтал дядя Ваня, думая о прессе, а там другая смена поставит его на бетон да получит матрасы и всякое барахло…
— Глухомань! — вставил Гришка Распутин после долгого раздумья. — Здесь и магазина нигде поблизости нету…
— И до Лизаветы далековато! — пояснил Кононов.
Гришка Распутин внимательно поглядел на Кононова, потом на дядю Ваню и с сожалением выдохнул:
— С Лизаветой баста! Побухтели, и ладно…
— Очки-то кто ей купил? — спросил Кононов и сделал попытку пошутить, но никто его в этом не поддержал, а вопрос сам собой и умер на губах, не успев родиться.
В избе нас встретил буец. Сидя у раскрытого окна, весело брызгаясь васильками глаз, он скоблил лицо. Заметив нас, в знак приветствия радостно замахал рукой.
— Как почивали? — спросил Кононов, окатывая довольное лицо гостя желтыми желчными пятнами глаз. — Комары небось закусали…
Гришка Распутин присел у другого окна, украдкой поглядывая на магазин, за открытой дверью которого, должно быть, косилась в его сторону и Лизавета…
— Что верно, то верно, больно уж кусат всю ночь! — отозвался буец и на всякий случай тоже улыбнулся.
— А Стеша где? — спросил дядя Ваня. — Обратно на работу утекла?
— На работу! — подтвердил гость и, соскоблив с щеки последний пушок, принялся за усы, приглаживая их ладонью и подрезая малюсенькими ножничками. Потом, когда усы приняли тот вид, который надлежало принять им после столь тщательной обработки, буец накинул на плечи полотенце и вышел во двор, сверкая белизной плоти, дышащей из-под майки.
— Третий день гостит, — заметил Кононов, после того как дверь за буйцем плотно закрылась. — Говорит, Колькин дружок, вместе, мол, служили. А навестить приехал его жену… да каждый день по петуху жрет! Тимошка теперь только ходит… — Кононов тихо рассмеялся. — Вот бы Лешка приехал…
— Может, и приедет, — зачем-то сказал я, обмирая от точившего меня подозрения.
Буец быстро оделся и вышел, а пришел поздно вечером с большой бутылкой «Пшеничной» и долго, балагуря на свой лад, угощал, пока мы сами не встали и не разошлись по кроватям.
Дядя Ваня проснулся рано, поднял и нас в дорогу, и мы, приноравливаясь к его спорому ходу, взяли курс к месту подпольной дислокации, где, по предположению бугра, наша оперативная группа могла решить большую народнохозяйственную программу во благо колхоза и вообще человечества, устремленного сквозь дебри к свету прогресса, волочащего за собой призрачные шансы ко всеобщему счастью…
Отмахав по росе около восьми километров и вымокнув по колена, мы наконец вышли к избе, перед которой горбился наш многострадальный пресс, являя собой вид свежей могилы, украшенной ветками остро пахнущего можжевельника. Чуть поодаль от пресса, откуда ни возьмись, угодливо заскулила черная собачонка и часто-часто завиляла хвостом, на всякий случай пятясь назад с поднятой кверху мордочкой в оскале мелких зубов.
— Приблудная, — сказал всезнающий Кононов и протянул к ней руку.
Собачонка заскулила еще тревожнее, не переставая пятиться куда-то за избу.
— Боится человека, — сказал дядя Ваня раздумчиво, — а без него не может… — И остановил Кононова: — Не трожь, пущай уж сам обвыкает…
Пока пса оставили обвыкаться с людьми и вообще с местностью, рассудительный Гришка Распутин свалил крыльцо, и теперь, прилаживая к порогу избы два бревна, мы разом впряглись в лямки, зацепленные за пресс, подтащили его к порогу и там, развернув боком, пропихнули в избу.
— Нехай! — облегченно вздохнул дядя Ваня и стал тереть повыше колена изуродованную ногу, скрипя металлическими зубами.
Гришка Распутин, по-своему расценив скрежет зубовный, вызвался на разведку для выявления магазина.
— Да нема тута никакого магазина! — сказал дядя Ваня с некоторой надеждой, полагаясь на упрямство Гришки Распутина, сохранявшего безошибочный нюх на водку и женщин.
— Такого не может быть, чтоб нигде здесь не было магазина! — со всем присущим ему упрямством сказал Гришка Распутин и, подставляя ладонь для сбора трешниц, хохотнул: — Нога-то твоя больше понимает, чем ты, Ваня, что надо человеку и чего ему не надо! Гони!..
И Гришка Распутин, поглядев на все четыре стороны и с минуту пораздумав, взял севернее от нашего хуторка и зашагал напролом через мелколесье на свою безошибочную разведку. Не прошло и двух часов, как он заявился на хутор, но уже с восточной стороны.
— Есть, ребята! — крикнул он еще издали и поднял над головой вещмешок.
Расстелив перед избой освободившуюся клеенку, мы тесным кольцом расселись на ней и не спеша, пока Гришка Распутин разливал водку по кружкам, принялись отщипывать по кусочку от подобия студня.
— Поросенковый? — спросил Кононов, проглотив отколупнутый ногтями кусочек и потянулся за новым.
— Поросячий, — поправил его Гришка Распутин, поднял свою кружку и радостно зажмурился, сшибая друг с дружкой густые сердитые брови.
Кононов отщипнул еще от студня и бросил собачонке.
— Где раздобыл эту рвотину? — с упреком сказал он и, отщипнув на сей раз большой кусок, еще раз бросил собачонке.
— В магазине! — пояснил Гришка Распутин. — Привезли только что. Народ хватать, говорит, колбаска «дяшевая»… Вот и взял «дяшевой».
— Собачья еда! — поставил Кононов точку и, видя, что никто есть «дяшевой» не хочет, отвалил весь кусок скулящей животине и, отерев о траву руки, принялся жевать хлеб. — Ты бы лучше пряников натаскал.
Выпили по второй, третья уже не полезла без запуски.
Кононов с удовольствием закурил и не спеша принялся укреплять гвоздями «подушки» в дальнем углу комнаты, прошивая насквозь замусоренный пол, чтобы взамен бетону установить на них пресс. Завершив нехитрое дело, один спустился в подпол и прямо под «подушками» подставил березовые подпорки.
— Будет тебе пуп рвать! — сказал Гришка Распутин, опробовав собственной тяжестью прочность подпорок. — Покрепче бетона, хоть начинай стучать. Пущай теперь сами маракуют.
Под «сами» Гришка Распутин имел в виду другую смену, которой после нашего затянувшегося отъезда предстояло явиться сюда отстукивать мелкие наконечники, звавшиеся в нашем обиходе мелочевкою.
Изделие оценивалось в какую-то десятую копейки, но зато «выплюнуть» его за день на автоматическом режиме пресса можно было великое множество, и копейки быстро вырастали в рублик, рубли в сотни, сотни же — в тысячи.
Возиться с мелочевкой, как правило, никто не желал, но, чтоб сбить в большом денежном выражении выгодные наконечники, некоторое количество этого изделия надлежало иметь в наличии.
К тому времени, когда мы заперли избу на собственные висячие замки, солнце вовсю занялось в своем хозяйстве, высвечивая потаенные уголки, и в воздухе разом запахло паленым.
Гришка Распутин собрал всю посуду — с водкою и без оной, поставил в вещмешок, на правах первопроходца вырвался вперед и пошел наобум-наугад, к якобы виденному им пруду.
Сейчас, когда мы оказались свободными от дальнейшей работы в цеху, перед тем как снова собраться здесь, если, не дай бог, ничего не случится такого, чтоб бежать восвояси, нам захотелось поплескаться в каком-нибудь копеечном пруду и, повалявшись до вечера, вернуться на Стешин двор. А на рассвете, уже, может быть навсегда, проститься с ее избой, с ней и со всем тем, что было связано с деревней.
Прошагав под скрип дяди Ваниного протеза несколько километров, мы и впрямь наткнулись на довольно чистенький пруд.
На низеньком его бережку сидели два бритоголовых мальца, очень похожие друг на друга упрямыми складками губ. С серьезностью заядлых рыболовов молча удили, пристально следя за поплавками. Над ними серыми тучками кружило и, видно, больно жалилось комарье, отчего ребятишки то и дело смачными шлепками прихлопывали кровожадных.
Гришка Распутин подобрался к ребятам и, заглянув в банки с уловом, похвалил их, на что рыболовы ответили молчанием, по-взрослому раздумчиво оглядывая непрошеную ораву.
— Купаться разрешаете? — спросил Кононов, в свою очередь заглядывая в банку, в которой лениво помахивали хвостиками рыбешки с мизинец.
— Н-не, — ответил один из них, подняв в детском гневе глаза на Кононова. — Вы, дяденьки, нам всю рыбку распугаете…
— Тогда пойдем на ту сторону. Согласны?
— Конечно! — покатили ребята радостные «о», словно тележное колесо на потеху улицы. — Пожалуйсто-оо…
Обогнув пруд, Гришка Распутин первым разделся и, прикрывая наготу широченными ладонями, по-бабьи боком пошел в воду.
Ребята, завидев раздетого донага Гришку Распутина, чье могучее тело на фоне леса как нельзя лучше выражало его стихийную природу, тихохонько похихикивали, стыдливо водя глазами.
А Гришка тем временем, разрывая гладь, ушел в воду. Вода расступилась, сломалась и зазвенела, сверкая на солнце светлыми капельками. А белое тело Гришки Распутина, распластавшись в воде, стремительно неслось к другому берегу, как магнитом ведя над собой и тучу комарья.
Повторяя Гришку Распутина, сунулись и мы в прохладу воды, разливая ее по коже. Вода, перекатываясь по телу, текла и пела, уводя нас все дальше и дальше, исторгая из глоток рокочущие звуки животного, ощутившего всем нутром полное согласие с матушкою-природой.
Замыкая наше шествие в пруд, отфыркиваясь, плыл дядя Ваня, суча лысой башкой и тоже, как другие, исторгая торжествующий хрип, отталкиваясь ступнею одной ноги и подгребая под себя еще крепкими руками волны.
Раззадоренные плеском воды и урчанием, мальчишки, побросав свои удочки на берегу, тоже кинулись с противоположного берега в воду в линялых трусиках и вскрикнули, завизжали, неся навстречу нам сонмы комарья, кинувшегося догонять их бритые головки.
— У-уух! — угрожающе и радостно взмывал над водной гладью Гришка Распутин, отрываясь в избытке сил от нее всей могучей плотью и снова шлепаясь с шумом, взмахом рук задевая плотную серую массу комарья. — У-уух, мать честная!.. У-уух, едрена перец!..
— Гришка! — радостно, сквозь юродивый смешок, сопел Кононов, вылезая по самую грудь из воды и высвечивая фиолетовую татуировку с изображением женской головки, стрел и чего-то еще, скрытого за рыжими волосами, плотно налипшими на молочно-белую кожу. — Гришка!.. — И, не находя нужного слова, вновь сквозь юродивый смешок сопел и разгонял руками живое темное облачко.
Удивленные поведением взрослых и тем, что они увидели на груди Кононова, мальчишки все ближе и ближе подплывали к нам, чтобы лучше разглядеть и нас и татуировку.
— Местные? — спросил Гришка Распутин, когда мальчишки приблизились. — Али нет?
— Н-не! — отозвались они и раскрыли рты. — К бабуле на каникулы приехали…
— Братаны, что ли? — спросил Гришка Распутин и длинной струей вышиб рукой воду на берег. — А где же дедушка?
— На фронте убило, — поспешил ответить один из мальчишек. — А мы — близнецы…
Гришка Распутин первым вышел из воды и, тем же, что давеча, библейским жестом прикрывши срам, пошел одеваться, а одевшись, крикнул с берега:
— Ваня, сам вылезешь или подсобить?
— Подсоби! — застенчиво отозвался дядя Ваня, крабом возившийся на самом берегу.
Гришка Распутин, еще не обутый, встал по щиколотки в воде и протянул руку дяде Ване, чем тот не преминул тут же воспользоваться.
Прыгая на одной ноге, а рукой опираясь на Гришку, дядя Ваня поскакал к своей одежде.
Изувеченное войной тело дяди Вани и непомерно большая кила, нажитая в беспокойной жизни, делали его похожим на чудовище из сказки, и теперь, пробуждая в памяти ребят страх, навеянный сказкой, застолбило их в воде в ожидании развязки, которая оказалась проще простого.
Доскакав до своей одежды, дядя Ваня шлепнулся голым задом на застиранную майку и стал не спеша одеваться. Сперва просунул в трусы здоровую ногу, потом, пропихнув культю, подтянул до пупа и застенчиво, как фокусник в цирке, осклабился, всем своим видом говоря, что номер окончен и дальше ничего интересного не ожидается.
— Дядь Вань, — сказал Кононов, когда тот уже стоял на своих двоих, то есть на здоровой и протезной ногах, и с сопением просовывал голову в рубашку. — Ты весь ушел в глобус…
Близнецы, только и ждавшие какой-нибудь разрядки, бросились в воду, весело пытаясь утопить друг друга, разделяя с Кононовым его шутку.
Гришка Распутин обмыл на бережку ноги и, сунув в карман носки, обулся на босу ногу, ловя глазами близнецов, барахтающихся в воде, и, поймав-таки одного, спросил:
— Нравится вам в деревне?
— Н-не… — последовал короткий ответ, а затем и жалоба на то, что рыбы на речке не стало из-за постоянного смыва с фермы навоза.
— И родников уже нету, — частили ребята, перебивая друг друга. — И люди все нездешние, и дети к нам не ходят…
— Где им взяться-то, здешним? — проговорил Гришка Распутин и, заметно погрустнев от объяснений, простился с близнецами.
— Дяденька, а вы завтра придете? — в один голос спрашивали его близнецы, отгоняя от себя комаров. — Приходите, мы вам старую деревню покажем. Там уже не живут, один только Фадран и остался…
— Шут его знает, придем или нет, — задумчиво отвечал Гришка Распутин, выбираясь на тропу, чтоб идти в Федюнино.
Дорогой Гришка Распутин достал бутылку водки и краюху хлеба, но ни пить, ни есть почему-то не стал.
— Надо съездить домой! — сказал он, пряча снедь. — Хоть какую копейку своей поднести…
Когда же под вечер приблизились к полустанку, глянул на часы и замедлил шаг:
— Скоро поезд пройдет… Поеду домой…
Кононов, пребывавший в своем привычном, как он сам выражался, состоянии «между слезами и смехом», напомнил о Лизавете, не то всерьез, не то в шутку.
— Бог с ней, с Лизаветой! — махнул рукой Гришка Распутин и, делая шаг в сторону полустанка, прибавил: — Все одно всех вдов не пережалеешь…
Остаток пути мы шли за нашим поводырем — дядей Ваней, умышленно отставая от него, чтоб не сразу запереться в избе, где, возможно, все еще продолжал гостить Колькин друг из Буя, уже отставной хахаль мужней жены. А пока мы шли, Кононов — в который уж раз — пересказывал какую-то смешную историю из жизни, поминая Дальний Восток, на котором он кайлил то ли тресковую, то ли из какой другой рыбы гору, чем-то знаменитую, как Арарат, где тьма-тьмущая всякого зверя, изъедающего живое, плохо защищенное от него.
Касаясь его плечом, я слушал рокочущий говорок и думал о своем, мысленно вознося молитву единственному, кому надлежит следить за человеком, чтобы не пропадали его дороги по бесконечной шири души…
«Мирозритель ты мой справедливый! Не дай угаснуть дорогам моим понапрасну! Подари мне на своем отрезке жизни веру в себя и в своего ближнего, чтобы украсить пройденные версты светлыми страницами чести и любви! Яви озарение свое, чтобы завершить земное отрадою бескорыстья…»
Прохладный ветерок, дохнувший дыханием предвечерья, трепал русые с проседью волосы Кононова и, залепив ими безумные глаза, вернувшиеся к нему из прошлого, уходил вдаль, чтобы, пройдясь по гребню травы, длиться в ней и дальше, потом, когда он затихнет на другом конце земли.
— Гуга, — вдруг прервал мою молитву Кононов и, словно получив облегчение от упоминания Дальнего Востока, тронул меня за локоть. — Когда кончится вся эта наша чехарда, ты обязательно, слышишь, обязательно напиши стихи, а лучше сказку…
Обойдя усадьбы, мы вскоре очутились у знакомой калиточки, ведущей к Стешиной избе, над которой оловянно рдел петушок, резанный умелыми руками, чтобы время от времени напоминать об истоках сущего.
— Лешка приехал! — сообщил я, ища глазами над крышами других изб, уходящих в сумерки, петухов и радуясь им.
— Сукин сын! — сказал Кононов восхищенно, нащупывая взглядом оголенного по пояс Лешку, моющего в углу темного двора под рукомойником голову.
Дядя Ваня с гостем из Буя стояли вполоборота к Лешке и о чем-то тихо переговаривались, пока тот смачно чмокал губами, плеская в лицо водою из пригоршни.
— Стеша опять в ночной? — спросил Кононов, чтобы с чего-то начать вязать разговор и с гостем из Буя, и с Лешкой.
— К мужу на свидание поехала! — сообщил гость и тут же прибавил: — Пора бы и мне домой, да не повидамши…
— Еще бы! — подтвердил Кононов.
Пшеничные усы раздулись над красными губами буйца, словно желая подняться с насиженных мест и улететь, оставив на лице недоумение как знак беззащитности.
Остаток вечера мы с Кононовым коротали на завалинке, хрумкая пряники.
Одевшись, куда-то ушел Лешка. В избе остались лишь дядя Ваня и гость из Буя, и до нас сквозь раскрытое окно долетали отдельные слова их беседы.
Кононов, мечтавший про себя о таком повороте дела, сразу сел на своего конька. Предварительно обозвав всех женщин паскудами, пустился в забавные рассуждения, расставив соперничающие стороны по углам «ринга» за обладание единственным призом — Стешей!
Через час-другой, поднявшись в избу, мы с Кононовым скорее увидели, чем услышали продолжение душевного разговора между дядей Ваней, изрядно угостившимся водкой, и буйцем, уловившим в воздухе какую-то смутную тревогу.
Дядя Ваня, держа в левой руке ножку петуха, мусолил жилистое мясо, правой рукой прикрывал стакан, в котором на донышке светилась недопитая водка, и, прищурив один глаз, хмельно слушал бормотание сотрапезника.
Кононов решительно подошел к нему, вырвал из руки ножку, как матери вырывают лишние куски у детей, и швырнул ее за окно.
— Хватит обжираться!
Дядя Ваня недоуменно сощурил и второй глаз, нервно засучил головой, желая что-то сказать, но, так и не высказавшись, поднялся и неуверенными шагами пошел к себе.
— Последнего, что ли, петуха?.. — спросил Кононов, когда буханье дяди Ваниного протеза умерло в избе.
Буец кивнул головой, обнажая полную обойму целых зубов.
— Садись-ка снедать! — пригласил он сперва Кононова, а затем и меня.
Но тут бесшумно открылась дверь, в нее вошла разбитая тяжелыми сумками и дорогою Стеша и, равнодушно окинув взглядом стол, направилась в спальню. Побыв в ней пару-другую минут, вышла к нам и, обращаясь только к гостю из Буя, проговорила:
— Ужинаешь?
— Ужинаю, — отозвался гость и с веселым вожделением, пьяно окинул Стешу взглядом, пытаясь подняться.
— Сиди-сиди! — предупредила его попытку Стеша, прочитав в глазах хмельное томление.
В полночь, когда мы с Кононовым, устав ждать Лешку, улеглись по постелям и выключили свет, оставив вконец охмелевшего гостя на произвол его собственной совести и милосердия Стеши, воцарилась обманная тишина. И, зная об этом, мы, против воли, каждый в своей кровати, принялись ждать, когда эта зыбкая тишь наконец нарушится. И она не заставила себя ждать.
Пьяный гость, пользуясь огоньком сигареты, осторожно ступая по полу, двинулся к спальне, откуда на него предупредительно цыкали.
Промелькнувший у входа в спальню слабенький лучик быстро погас, и так же быстро вспыхнули два стесненных дыхания.
— Витя, зачем же ты приехал? — послышался сдавленный шепот. — Завтра же отправляйся домой!
— Зачем же мне отправляцца? — отвечал буец. — Ты же писала: приехай, приехай!
— Писала! А сейчас прошу, чтоб уехал…
— Чо ты гонишь меня-то? — обижался буец.
— Не гоню, Вить, так надо!
— Колька, что ль, приезжат? Как он там, не зачумел?
— Худущий… Кости да кожа… Все курит и курит…
Вскоре послышалось носовое свистение с завитушками, — это Стеша, только что перешептывавшаяся с гостем, как-то сразу умолкла и уснула.
— Сука! — недовольно пробормотал Кононов, будя меня толчками в спину.
За окном стоял дневной свет, затененный легкими тучками, перебегал солнечной позолотой через дорогу в открытое поле, как бы поделя деревню надвое — на пасмурную и солнечную.
Опасаясь помешать своим присутствием Стеше с буйцем, я выскользнул во двор и устроился на завалинке, с грустью думая о предстоящей поездке в Москву. Признаться, ехать в коммуналку, где, кроме постоянных квартирных баталий, ничего не светило, совсем не хотелось, как не хотелось и оставаться здесь, — донимало предощущение чего-то ненужного и неприятного. Из головы не выходил Лешка, его вчерашнее исчезновение… Но делать было нечего. В десятом часу отходил поезд, которым мы могли ехать в Москву, а там, расставшись, ждать дальнейших указаний.
Пока я раздумывал о вещах малоприятных, вышли Кононов и дядя Ваня, не сговариваясь, в один голос поинтересовались, куда исчез Лешка, и с этим вопросом обратились к Стеше, отозвав ее в сторону. Она удивилась даже больше нашего, воскликнув в свою очередь:
— А куда же он мог деваться?
Собрав свои вещи и простившись со Стешей и буйцем, мы направились было к полустанку, но у самой калитки нас окликнул человечишко в размахайке. Это был Тишка, или, как его еще звали за глаза, Мартышка, знакомец бугра.
— Возвертайтесь, — сказал он и, нащупав своим крюком рукав дяди Вани, отозвал его в сторону, протянул бумажку и зашептал на полужаргоне: — Сейчас надо получить семь комплектов белья и кровати… С утра приедут бить мелочевку…
— Кононов, — вдруг официальным тоном заговорил дядя Ваня, начиная потеть лицом. — Поезжайте с Гугой в правление… Вот бумага… Завхоз вам даст белье и кровати… Понял?
— Так точно, понял! — ответил Кононов, улавливая в словах дяди Вани подспудную тревогу.
Кононов, не любивший бить мелочевку, был рад, что не ему предстоит эта работа.
— Сколько же надо мелочевки? — спросил он, когда дядя Ваня изложил план действий.
— Сто пятьдесят тысяч! — ответил Тишка и, как бы не доверяя исполнения поручения нам, двинулся за всеми и сам. — На чем же поедем?
— На чем стоишь! — ответил Кононов, оглядев Тишку, как оглядывают родители своих чад, прикидывая в уме, насколько они могут вытянуться за лето, и улыбнулся своей догадке. — Ты чего это с другой стороны припер?
— С какой надо, с такой и припер! — огрызнулся Тишка и засеменил сбоку, недоверчиво оглядывая попутчиков снизу вверх. — Новенький не знает, что вы здесь? — спросил Тишка, когда понял, что его оставили в покое.
— Знает! — отозвался Кононов.
Это сообщение Тишке не понравилось.
— Плохо…
— Да-а… Хорошего мало, — согласился Кононов. Тишка при своем малом росте и неопределенном возрасте оказался довольно предприимчивым человеком.
Он быстро нашел завхоза, дремавшего в одном из амбаров, живо выволок его, оформил с ним все бумаги и даже подмахнул расписку в получении необходимого инвентаря. Сбегал к председателю и, не отходя, как говорится, от кассы, получил телегу, ту самую, на которой тащили пресс. Взгромоздив на нее все пожитки, примостился рядом с Митрием и не проронил ни слова, пока Митрий не хлестнул недовольно своих лошаденок и не погнал их в обратную дорогу, матерно понукая.
— Ненадежный, — сказал Тишка, глядя вслед Митрию. — Разболтает.
Прежде чем расставить и застелить кровати, Тишка сам, без посторонней помощи прибрался в избе, стоявшей чуть поодаль от цеха. Словом, мы с Кононовым оказались теми свидетелями Тишкиной деятельности, которым по прибытии бугра надлежало ее отметить, дабы сохранить за ним престиж верного и добросовестного исполнителя.
На обратном пути, едучи на своих двоих, Тишка изрядно размяк, порываясь в магазин за съестным, утолить жажду и алчбу, так трудно переносимую коротышками. Но магазина поблизости не было, а потому пришлось терпеть до самого дома, хотя и там в обстановке нервозности хозяйки и наскока буйца ничего хорошего не ожидалось.
Отворив дверь в избу, мы увидели мирно беседующих дядю Ваню и Стешу.
Стеша выглядела вялой, как растение в засуху. В основном поддакивала или улыбалась, блуждая мыслями далеко-далеко, о чем говорили отсутствующие глаза.
— Может, и не было? — предположила она.
— Как же, был! — сказал Кононов, поняв, что Стеша обращалась не к кому-нибудь, а лично к нему. — Был. Голову вымыл… И ушел…
Когда принялись за ужин с чаем, на котором главенствовало петушиное мясо, ворвался буец со свертками под мышками. Они были круглы, а потому не обманули ожидания дяди Вани, обиженного на то, что Гришка Распутин так и не оставил ему чекушку, хотя покупали на общие деньги.
— Отправляцца мне на рассвете, — сообщил буец, превращая свертки в бутылки. — Отметим, что ль?..
— А то как же, — сказал Кононов иронично. — Как же такое не отметить.
Стеша спрятала глаза. Безучастно сидела у краешка стола, словно с приходом буйца из нее выхлестали последнюю влагу. Опустились плечи, груди развалились в стороны под ситцевой кофтой.
— Да бут тебе, — сказал буец, успокаивая Стешу. — Амнистия, говорят, осенью бут…
— А на кой она мне, амнистия?! — отмахнулась Стеша и, сосредоточившись, к чему-то прислушалась. Вскоре послышались торопливые шаги и, как позже сказал Кононов, амнистия в образе Лешки замаячила в двери.
— Добрый вечер, — сказал Лешка и, обозрев всех до единого, остановил взгляд на пустом стуле, где обычно сиживал за столом Гришка Распутин.
Стеша невольно потеснилась, чтоб усадить Лешку рядом, но стула на ее стороне не оказалось, и потому он сел на место Гришки Распутина.
— Гришку не видал? — вдруг отрывисто спросил дядя Ваня, настораживаясь. — Закругляемся мы… Вот от бугра приехал, грит, чтоб мотали удочки.
Лешка не ответил, только длинно посмотрел на Кононова.
— «Индюшку» будем пить? — зачем-то неожиданно спросил Кононов и опустил глаза.
— Нет! — сказал Лешка. — Водку! — И приветливо улыбнулся буйцу. — Угостишь?
— Угощу! — так же приветливо ответил с улыбкой буец и сразу потянулся к бутылке.
Прищурив чуть припухшие веки, Стеша глядела то на буйца, то на Лешку, не разделяя их возникшей взаимной симпатии.
Дядя Ваня первый поднял стакан, выпил, не дожидаясь, пока скажут тост, и снова подставил его под горлышко бутылки, как бы возмещая убытки, нанесенные ему давеча Гришкой Распутиным.
— Ты что? — ругнулся Кононов. — В двойном размере… в атаку роту поднимаш, что ли?
Все выпили по второму разу, и дядя Ваня, выдыхая водочный дух, весело ответил Кононову:
— А что ж? — и потянулся к чудом сохранившемуся крылышку петуха, хищно вгрызся в него, шумно сопя ноздрями.
— Смотри зубы не обломай! — с упреком процедил Кононов, таращась на дядю Ваню.
— Нехай! Они у меня железные!
Пили молча, зло, словно мстя кому-то, и почти не закусывали. Лишь Тишка, воровато пристреливаясь глазами то к хлебу, то к колбасе, тянулся крюками, и сглатывал не жуя, и пил наравне с другими, чуть-чуть оставляя на донышке.
Быстро захмелевший буец рассказывал какие-то истории, перескакивая с одной на другую, и нежно, уже безо всякого стеснения поглядывал на Стешу, поминая некстати и Кольку, своего армейского дружка, с которым не то в Либаве, не то под Каунасом служили вместе в «десантке». Рассказывая, подхихикивал, чтоб разбудить в других чувство радости и застольного веселья, но никто так и не рассмеялся, не похлопал по плечу и не ободрил. Все постно молчали и стригли глазами. А когда опорожнили и вторую бутылку, Тишка встал и почти командным голосом потребовал ложиться, на что Кононов без лишних слов указал ему место на полатях, откуда, словно по заказу, дохнуло тулупом.
— Полезай! — сказал Кононов. — Только сандалики внизу оставь!
Тишка проворно вскарабкался на полати и, уже по-хозяйски возясь наверху, стал по-кошачьи часто-часто икать, не забывая в промежутках помянуть бога, сотворившего и его по своему образу и подобию…
— Шухарной! — отметил буец и хотел было потянуться рукою к Стеше, но, встретив ее холодный взгляд, укротил свое намерение, не теряя надежды получить за столь длительное воздержание вознаграждение чуть попозже.
— Завтра уходим, — сказал дядя Ваня, обращаясь к Стеше и, хмельно поерзав на стуле, тяжело поднялся, чтобы идти в «темницу», но не успел выйти за дверь, как оказался в объятиях Гришки Распутина, упавшего как снег на голову.
— Ваня, сукин ты сын, спать, что ль, собрался? Не пойдет такое дело! Возвертайся… Ты посмотри, что я принес!
— Ты давеча, Гришка, — сказал с обидой дядя Ваня, — убег с водкой…
— Потому убег, что запамятовал! — урезонивал его Гришка Распутин и, толкнув на прежнее место, подошел к Стеше, протянул обернутую в газету коробку конфет. Стеша развернула бумагу и, увидев на коробке красочный храм с колоколами, благодарно улыбнулась и привстала. Гришка Распутин подлетел и поцеловал ее левую руку, но не в тыльную сторону, а прямо в ладошку.
— Сегодня, ребята, пьем коньяк!
Дядя Ваня искренне поморщился и пробухтел:
— Ты бы лучше бормотухи принес! Не наше это питво!
— Теперь будет наше! — твердо сказал Гришка Распутин и, найдя удобную минуту для переговоров со Стешей, увел ее за печь. Стеша вышла из комнаты и вернулась с раскрашенной девушкой.
— Сродственница, — коротко сказал Гришка Распутин. — В Иванове живет… Случайно встренулись… — Стараясь говорить обыденным голосом, без волнения, Распутин съезжал на ненужное просторечие, которое, как и сама девушка, ярко напомаженная, не убеждало в искренности родственных чувств.
Дядя Ваня, усекший, чем жертвует нынешней ночью, чтобы не делать из всего невидаль, — Гришку Распутина, слава богу, знали все хорошо, — буднично и просто сказал:
— Сидай! — Опростав между собою и Гришкой Распутиным место, поманил девушку, но, тут же вспомнив про коньяк, досадливо поморщился на дружка. — Дак выкладай, коли что принес!
Пока Гришка Распутин извлекал из вещмешка «питво», противное рабочему классу, Кононов, оказавшись почти напротив ночной гостьи, названной «сродственницей», разглядывал ее по-молодому дерзко, высвечивая два золотых клыка.
— Хотьковская? — спросил Кононов после недолгого раздумья.
— А ты откуда знаешь? — ответила та вопросом на вопрос и пренебрежительно улыбнулась. — А что дальше?
— А рыжего сапожника-грузина знаешь? — еще настойчивее спросил Кононов и тоже ответил улыбкой.
— А дальше что?
— А дальше — Иван Митрофанович! У него я прописан…
— Дядя Сергей?
— Он самый…
— А сказали, что умер…
— Наврали! Мне пока умирать-то нельзя!
— Это почему? — поинтересовалась девушка, и лицо ее приняло детскую естественность.
— Еще не все дороги прошел.
— Знакомые, что ли? — поинтересовалась Стеша, невольно слушая разговор Кононова с распутинской «сродственницей».
Кононов поднял руку чуть повыше стола и мягко, как бы окунаясь в прошлое, сказал:
— Вот с такого возраста!
Гришка тем временем бухнул на стол три бутылки дагестанского коньяка и, потерев жарко ладони, извлек коробку конфет, такую же, как и давеча, яркую.
— Стеша, давай-ка рюмки!
Дядя Ваня снова выразил неудовольствие, сперва жестом, потом словом, сказав:
— Окурвился ты, Гришка!
Но «окурвившийся», не обижаясь на дядю Ваню, разлил по рюмкам коньяк и показал, как следует пить не по-рабочему — «культурно». То есть выцедил не спеша рюмку, а затем, взяв конфету, стал заедать. Школа явно была не распутинская, ибо такая «культурность» была ему навязана не далее как сегодня молодицей, потребовавшей от старого невежды утонченного обращения…
Дядя Ваня, путая очередность коньяка и шоколада, все больше и больше хмелея, начинал фыркать про себя на действия за столом, где за «культурным» питием шло довольно грубое повествование о разных человеческих слабостях, доходящее от смешного трагизма до пошловатого, большей частью по вине подвыпившего Гришки, потерявшего такт и чутье, а также ориентацию на точность…
Слушая его рассказы, буец взрывался неудержимым приступом смеха, отчего с полатей тут же свешивалась голова Тишки, чтобы уловить соль и самому наверху похихикать.
Лешка, после первой рюмки коньяка наотрез отказавшийся мешать напитки, в середине застолья незаметно ускользнул и куда-то запропастился.
Гришка Распутин со своей «сродственницей» пошли в «темницу».
— Гуга, — застонал в хмельной радости Кононов, стелясь на кушетке рядом со мной. — Какая она была девочка… вот только позабыл, как ее звать… ты понимаешь, Гуга, как это вчера все хорошо выглядело… — Кононов, напрягая память, все тщился вспомнить имя еще вчерашней девочки, но никак не мог, и вскоре уснул по-детски сиротским сном, и уже через полчаса снова проснулся, и, полнее ощутив свое детское одиночество, плаксиво заморгал ресницами на свет не погашенной лампы и огляделся по сторонам.
Дядя Ваня спал на раскладушке, на которую после смерти Синего никто не ложился, и временами стонал от тяжести сновидений, бормоча бессвязные слова.
— Какая, Гуга, была девочка… — снова заговорил Кононов. — А теперь вот с дедом спит… Как же ее звали?..
— Спи! — сказал я сердито.
— У Гришки завтра спрошу…
— Очень нужно Гришке знать имя шалавы! — зачем-то сказал я, больно раня память Кононова о той поре, когда он помнил детство девочки, имя которой напрочь забыл по прошествии десяти — двенадцати лет.
Кто-то незаметно чиркнул выключателем, и мы разом провалились в вязкую гущу ночи.
С грохотом пронесся ночной поезд, сотрясая от тяжелой раскачки избу, и где-то на окраине пронзительно гуднул раз-другой, чтоб призвать к осторожности запозднившихся ночных гуляк. А когда все стихло в просторах ночи, раздался сердитый и нарочито громкий голос Стеши.
— Не зверь-та, понимат… — ответил ему голос буйца.
— Уйди! — пуще прежнего дрогнул холодной решимостью голос Стеши.
Через несколько секунд из спальни выскользнуло к нам белое привидение и шумно наткнулось на стул.
— Нечто упал? — как можно насмешливее сказал Кононов, вымещая на буйце накипевшее зло. — Не ушибся?
К ушибленному поспешила Стеша в одной ночной рубашке. Включила свет, принесла матрац с постельным бельем, бросила между кушеткой и раскладушкой и, отойдя сердцем, почти ласково сказала:
— Ложись, Вить!
«Вить», стесняясь своего вида, зашлепал босыми ногами к постели, шлепнулся на нее задом и под щелчок выключателя тихо задал неуместный вопрос:
— Колька-то как?
Кононов выматерился как можно смачнее, чтобы и Стеше, и буйцу было понятно, и разразился не то смехом, не то нервическим плачем. А когда он наконец умолк, комнату вновь поглотила вязкая гуща ночи и изба от ближнего угла до дальнего, заканчивавшегося нужником и насестами, разом погрузилась в тишину, в которой и Кононов, сверкавший белками, и я полнее принадлежали самим себе. Но недолго. В комнате вскоре замелькало белое и направилось в спальню, откуда послышался раздумчивый голос Стеши:
— Ну что, Вить, опять пришел? Неужто непонятно, устала я, устала.
— Ты что меня так отправляш?
— Как, Вить?
— Сама видь знаш, как!..
— Ой, Вить, мне бы лучше повеситься! — обреченно сказала Стеша и разрыдалась. — Лучше б повеситься! — повторила она. И разговор тут же прервался. Послышался скрип отворяемой калитки, а с ним шлепанье босых ног, белое привидение, теснимое из спальни, возвращалось на унизительное место.
Отворилась дверь, кто-то впотьмах, переведя дыхание, встал, осваиваясь глазами, и прямиком последовал в спальню…
Кононов тут же отреагировал, толкнул меня ногой, как бы приглашая на представление, которое началось со Стешкиного вопроса:
— Где ж ты был?.. Разве так можно?
— В лагере был! — отвечал Лешка, должно быть, раздеваясь наспех, отчего слова булькали у него в гортани. — Сестренка у меня там…
Буец, потревоженный неизвестным гостем, присел на корточки и стал вслушиваться, мотая головой возле Кононова.
— Какой лагерь?
— Да не тот — пионерский!
Буец между тем, не зная, чем занять руки, терзал простыню на взъерошенном тюфяке, дергая ее из-под себя, полагая, что она должна привлечь внимание Стеши и усовестить ее напоминанием об обреченном лежать в унизительной близости от той, к кому приехал.
— Сбей, сбей! — сказал Кононов, склонившись над постелью буйца и испытывая упоительную усладу в злорадстве. — Поэнергичнее! Ты что, в армии, что ль, не служил?
— Служил, — нехотя отозвался буец и резко уронил голову, чтоб отвязаться от назойливости Кононова.
— Ты чего? — шепнул Кононов, угнетая буйца своей навязчивостью. — Выспишься еще…
— Мне отправляцца рано…
— Все одно, успеешь…
На полустанке фыркнул и, уходя дальше, гулко застучал колесами поезд.
— Ивановский! — тихо отметил Кононов.
Поезд уже где-то отстукивал свои километры, но я ощущал себя его пассажиром, проезжающим мимо полустанка, горсточки черных изб, одна из которой приютила здесь мою плоть, а душе дала простор, и становилось грустно от разрозненности прошлого и настоящего, от первого опавшего лепестка жизни до последнего, подспудно сознавалось, что время неделимо, как и цветок розы, украсивший себя единством соцветия… И, проезжая мимо своего и чужого прошлого ночным пассажиром, я как бы обозревал неделимость пространства и времени глазами отошедшего в нети… и горячие чувства захлестывали волной сочувствия к себе, к случайным и близким попутчикам жизни, потрясшим память живого, чтобы нести и их жизнь вместе со своею, ибо идущий впереди не свободен до тех пор, пока память его не погасла…
Охваченный безумием живого и животворного, я так далеко ушел в себя, что частые поколачивания по голени не сразу протрезвили меня.
— Гуга, — продолжал колотить меня ногой Кононов, сопровождая удары жарким придыхом. — Ты что скулишь, как цуця?
— С чего ты взял?! — обиделся я, не совсем понимая, что он имеет в виду.
— Бормочешь! — весело прошептал он чуть громче прежнего. — Колдуешь и подскуливаешь…
— Ладно, давай-ка спать! — сказал я миролюбиво, словно прося прощения за «колдовство и скулеж».
На полу время от времени, нарочито тяжко вздыхая, ворочался буец и пытался уснуть, но чувство ревности и обиды не давало ему покоя. А тут еще Кононов, развлекавшийся подвернувшимся случаем.
— Что, друг, — вопрошал он, когда буец, вздохнув, переворачивался. — Мягко стелют — жестко спать?
Буец терпеливо отмалчивался, мучимый Кононовым и похотью.
В спальне сшиблись колокольчики и разом затихли, окропив легким перезвоном ночной мрак.
— Гуга, сейчас он будет мстить! — быстро прокомментировал Кононов, когда во мраке ночи умерли ознобистые звуки колокольцев и проснулись углы, чтобы принять в лоно своего таинства радость двоих, будя и подгоняя кровь остальных к своей памяти. — Будет мстить! — повторил Кононов, обращая и гулкую ночь в сообщницу.
— Кто кому? — тревожно спросил буец, обращенный Кононовым в сообщники.
— ОН! ЕЙ!
В спальне вспыхнул жаркий шепот вперемешку с удушливым ознобом, и тихонечко проснулись колокольца и стали с нарастающей силой перепевать друг дружку, заглушая тоскующий голос Стеши, охваченный глухой мужской местью за прошлое, настоящее и будущее.
— Самец! — сказал Кононов, окрашивая это понятие и восхищением и упреком. — Слышишь, буй?
Тем временем в спальне грохнуло, загремело, поднимая на дыбы ночь, словно двух жестоко любящих коней, сцепившихся в смертельной схватке согласия.
— Во как! — подхихикнул Кононов и тут же угас.
А я, вытянув руку, стукнул его по плечу открытой ладонью, и, тоже шалея от запаха чужой страсти, сунул себе в рот кулак и больно стиснул его зубами, не переставая слушать, как сшибаются лбами колокольца, растекаясь в сладкой истоме… А на полу, извиваясь белым червячком, стонал и плакал буец, не решаясь пока встать и покинуть избу.
— Не в коня корм! — посыпал рану солью Кононов, обращаясь к буйцу, когда усталые колокольца задребезжали вразнобой и утихли. — Считай, всех петухов пережрал, а толку на грош! — Затем, чуточку раздумав, приправил покруче: — Если б Лешка этих бы петухов… а?
Буец скрипнул зубами, но остался стонать на полу сходящею с нереста рыбой.
— Вот как быват, — продолжал Кононов добивать того, кто еще давеча звался его другом. — Один все жрет да жрет… а другой, можно сказать, натощак… и во как! Ох и шельма же девка припаялась к парню! — Тут, рассчитав нужную паузу, он обратился ко мне: — Ей-богу, Гуга, не видал такого стручкового перца!
— Слышь, хватит, — взмолился буец, — не чурка же видь какая, а человек!
Буец разом вскочил на ноги и, хватая в охапку одежду, вылетел в дверь, на что-то по пути натыкаясь.
— Чао какао! — длинно прошептал Кононов ему вослед, упиваясь мщением за паскудство. — Дуй прямо в Буй!
Вскоре изба тяжело вздохнула натруженной грудью и отошла ко сну. Уснул и Кононов, усладившись чувством отмщения. Мне мерещились чьи-то тени, шаги, и я все вставал и высовывался в окно. Потом, чтобы дать себе успокоиться, захлопнул и до половины зашторил все окна. Шаги смолкли, притихло, только дядя Ваня изредка причмокивал губами и замирал, словно прислушиваясь к самому себе.
Под утро, поспав, должно быть, с полчаса, я проснулся в тревоге: во сне чья-то черная собака бросилась укусить меня за руку, но что-то помешало ей это сделать, и я проснулся, все еще продолжая испытывать страх. Сон во мне запечатлелся отчетливо, и я понял, что нас ожидает недоброе. Уснуть теперь значило пренебречь сновидением, к тому же, когда снилась собака, сомневаться не приходилось: во все время скитаний примета эта постоянно хранилась в моей памяти.
Я наскоро оделся и заправил постель. Тут же разбудил Кононова и дядю Ваню, таинственно шепнув им, чтоб были готовы к очередному подвоху.
— Разбудите Лешку!
— Чего там? — всполошился дядя Ваня, судорожно ощупывая карманы с деньгами.
— Зовите Лешку!
Пока мы, перешептываясь, убирали постели, сметая следы нашего здесь пребывания, с полатей сошел Тишка и, влезая ногами в сандалики, покосился на Лешку, долго возившегося в спальне, и приложил палец к губам. А когда наконец тот вышел, я измерил его долгим взглядом и сказал, чтоб он никуда не отлучался.
— Что произошло? — поинтересовался он, отвечая на долгий взгляд долгим же, чуть насмешливым взглядом.
— Скоро произойдет…
Кононов нервно ощерился, перехватывая наши взгляды, и показал два золотых зуба.
— Менты?
— Поглядим! — ответил я, еще раз переглянулся с Лешкой и, чтоб не задерживаться на нем, сказал Тишке: — Огородами ступайте… Мы с Сергеем нагоним…
Стараясь не стучать, дядя Ваня вышел из комнаты и по длинному, во всю избу коридору повел к заднему крыльцу остальных. Мы с Кононовым попеременно стучались в «темницу». И когда в ней завозились, толкнули дверь, за которой, прикрываясь ладонями, стоял голый Гришка Распутин, по-своему истолковавший наш визит и потому отпрянувший от топчана, на котором, на измятой и уже серой простыне, ничком лежало молодое существо…
— Отрубилась капитально! — сказал Гришка Распутин, сонно улыбаясь маслеными глазами, и, нашарив на темном полу трусы, начал неторопливо одеваться, кося на нас глазами. — Вы хоть разбудите ее допрежь…
— Поторапливайся! — угрюмо сказал Кононов и, невольно стрельнув глазами на топчан, подняв с пола сброшенное одеяло, укрыл по самые плечи и направился к выходу, знаком намекая Гришке Распутину на опасность.
— Что, снова навели? — взревел Гришка и наспех, на ходу одеваясь, потянулся за нами. — Где Иуда? Я ж говорил, что… — Не успел он закончить, как у палисадника застрекотал мотор мотоцикла.
Кононов приложил палец к губам и дал знак Гришке Распутину следовать за ним к выходу.
Мотор заглох, и тут же послышался стук. А еще через минуту, когда из избы ответила Стеша, стучавший в дверь назвал себя участковым.
— Откройте! Хомутников!
Стеша отворила дверь из комнаты и, просунув голову в сторону коридора, часто-часто замахала руками.
— Иду!
На улице пробивался рассвет, стояла молочная дымка, смешанная с испарениями из заболоченных низких оврагов. На небе клубились облака, двигались на восток.
Выскользнув поодиночке через заднее крылечко к калитке, мы обогнули забор и, притаившись за ним, увидели сержанта и двух штатских атлетического сложения. Пока сержант о чем-то переговаривался со Стешей, они осмотрели избу.
— В котором часу ушли? — уже громко спрашивал сержант, стараясь, чтоб вопрос, который он задавал, был слышен и штатским.
— Спозаранку к цеху пошли! — так же громко отвечала Стеша. — Вот туда прошагали… Там, наверно…
Сержант не удостоил, помещение цеха даже взглядом, словно оно не стояло через дорогу в поле.
Важно откозыряв Стеше, он направился к мотоциклу, а двое штатских не спеша подошли к нему и закурили, внимательно оглядывая окрестность.
— Ушли! — сказал один из штатских и пристально поглядел на сержанта. — Кто-то предупредил…
Сержант равнодушно покосился на свои сапоги, закинул правую ногу на мотоцикл. Мотоцикл, сердито отфыркавшись, шумно загромыхал мотором, поднимая пыль, вырвался на проселочную и понесся в сторону полустанка. За мотоциклом, дав осесть пыли, медленно вертя головами, зашагали и штатские.
— Опять настучали! — нервно, в каком-то бесконечном отчаянии сказал дядя Ваня, трусливо прижавшись к кустику боярышника в нескольких шагах от нас и с вопросительной мольбой повернув лицо к Лешке, затесавшемуся между кустом и Тишкой. — Настучали!
— Волка ноги кормят! — сказал Кононов и, подойдя к дяде Ване, поднял его во весь рост. — Ушли… Теперь и нам пора, да такой дорогой, чтоб и сами не знали, куда путь держим…
Привстал и Лешка и коротко посмотрел на меня, а потом на Гришку Распутина, с трудом сдерживавшего свой гнев на Иуду, украдкой взглянул на избу.
— Волка ноги кормят! — повторил Кононов, беря на себя ответственность за нас в пути, и бешено обрызгал всех взглядом.
— Люди мы, люди! — с болью и тоской вырвалось у дяди Вани, как бы споря не с Кононовым, а с тем, кто исподволь, сам того не замечая, внушил нам звериные правила.
Осторожно вынырнув из-за чьей-то усадьбы на дорогу, чтобы следовать к лесу, а оттуда — наобум-наугад — дальше, мы чуточку задержались, просматривая просыпанную пылью тропу через все гречишное поле. Сейчас над этой тропой, змеей вьющейся к полустанку, утонувшему в зеленых березовых кружевах, сонно кружили вороны, не решаясь опуститься на землю.
— Вот и погуляли! — неистово выдохнул Кононов, наливаясь бессильной яростью перед вновь задействовавшей закорючкой закона, поднявшей нас в очередной раз с насиженного места в поисках нового зыбкого обиталища…
— Нехай! — сказал дядя Ваня, зло сведя глаза с тропы и больно вонзая в землю острие самодельного протеза. — Нехай! Мать его… в хвост и в гриву мать…
Завидя нас, направляющихся к лесу, из-за калитки выскочила Стеша, на ходу повязывая голову платком в ярко-красных цветочках.
— Замучил кобель бабу! — опять заговорил дядя Ваня и, брезгливо оглядывая осунувшееся лицо Лешки, с которого больше не хохотали крупные девичьи глаза, поморщился: — Айда за мной!
Однако никто не сдвинулся с места. Даже деревяшка дяди Вани, поднятая, чтоб сделать очередной шаг, так и застыла в воздухе.
Стеша между тем, подойдя вплотную к Лешке, дерзко взглянула на него слепыми от ненависти и негодования глазами, выдохнув некое удивление, ударила его со всего размаха по щеке, ничего никому не сказав, повернулась обратно, но уже без веры и любви, и медленно потащилась к калитке.
А дядя Ваня, несколько секунд державший на весу свою деревяшку, бухнул ею и, пересекая дорогу, повел нас неведомой тропой к неведомым далям стяжать невеселую славу бродяг.
Солнце, уже обозначившееся над зеленью леса кровавой щекой ребенка, опаляя купы и крыши домов языками пламени, нарастало, пока в один миг не всплыло надо всем, что стояло на земле, превращаясь из ярко-красного пламени в огромный яичный желток.
Поднявшись на небольшой холм, поросший молодой порослью осины, не сговариваясь между собой, мы разом обернулись на деревню, вытянувшуюся темной лентой изб вдоль серой пыльной дороги, по которой давно откричала живность, и стали молча, глазами прощаться, понимая, что обратный путь сюда нам заказан…
В какой-нибудь версте отсюда под первыми лучами солнца оживала и крыша Стешиной избы, подслеповатым, чуть скошенным слуховым окном глядя в мир прошлого и настоящего, и грусть, рожденная воспоминанием о Стеше, обреченно потащившейся к своей опустевшей избе, щемила сердце, уводя и к своей деревне, и к другим прогреваемым печалям… И лишь металлические петухи, «изваянные» послушными руками двух бывших крестьян — дяди Вани и Гришки Распутина, — вытянув в солнечных переливах шеи, опевали с крыш федюнинских изб утреннюю зарю, обещая будить человечество к радостям наступающего дня, чтобы оно в гордыне губительной суеты не забывало благотворную земную силу духа, породившую и города, и человека, и все изначальное и совестливое — деревню!
Бабушара,
1986—1988
ПЬЕДЕСТАЛ
В средней части моей улицы в шестьдесят дворов есть один, овеянный преданиями и легендами двор, обрамленный застывшими в скорби кипарисами. В глубине этого двора на аккуратно поставленных сваях покоится дом из белого каштана, сработанный без единого гвоздя. Во всяком случае, таким представлялся он жителям близлежащих деревень до той поры, пока наш первый бухгалтер Фрол Иванович Фролов, занявший одну из комнат в этом доме под бухгалтерию, не вбил два гвоздя: один для шляпы, а другой — для верхней одежды.
Этот дом на каштановых, добротно точеных сваях указывает на благородное происхождение, восходящее к восемнадцатому столетию. Как подтверждение древности — на резном фронтоне изображение Георгия Победоносца, поражающего дракона. Растянувшийся во весь фронт дома длинный балкон служит образцом тонкой и изящной резьбы, выполненной в стиле Возрождения.
Говорят, что этот дом-особняк достался тайному советнику царской канцелярии от молодого и горячего князя Димтро вместе с пощечиной.
Пощечину, как свидетельствует предание, Димтро отвесил краснорожему советнику тайной канцелярии в 1888 году во время азартной карточной игры в уездном городе Еричмачо, за что молодой князь и был сослан в Сибирь, чтобы умерить там пыл.
— Туда, куда я тебя отправлю, князь, говорят, — сказал тайный советник царской канцелярии, оттирая полученную пощечину белоснежным платком, — не будет тебе недостатка в подобных упражнениях… Только с той лишь разницей, сударь, что не придется одалживать щеку… Она будет всегда при тебе…
Тем временем, пока Димтро отхлестывал себя по щекам в сибирской глухомани, отбиваясь от слепней и другой нечисти, его особняк был разобран на бревна и на десяти волах стащен на новое место, где ждал его наскоро разбитый двор под летнюю резиденцию. И необычной красоты дом был вновь упокоен на родных сваях в глубине длинного двора, куда вела свежей посадки кипарисовая аллея. И люди, привыкая к новому месторасположению дома, стали забывать его прошлое и самого Димтро. Главное, что дом-особняк был в пределах деревни и по-прежнему приковывал к себе внимание. И жизнь потекла привычно, как течет в низине река после весеннего паводка, и, казалось, ничего уже не должно было случиться такого, чтобы растревожить деревню. Но однажды, когда деревня загоняла свою живность во дворы, чтобы на этом завершить длинный день, прошедший в заботах, она услышала громкую возню во дворе тайного советника. Прислушавшись, деревня уловила русскую брань, пропитанную потом и солью, забористую и веселую. А утром на том месте она увидела пьедестал, возникший посреди цветника перед домом, из монолитного габбро.
Он возвышался над цветником величественно и грузно, обожженный волнующей немотой.
И жители, тронутые величием этого камня, совершенно позабыв о недавних своих пристрастиях, сразу же загорелись загадкой его таинственного предназначения. И, заглядывая во двор с жгучим интересом, вопрошали: «Что же это может быть такое?.. А если это «что», тогда для чего это «что»?»
Во дворе, где часто можно было видеть прогуливавшуюся с двумя пуделями юную красавицу Луизу Маретти, чья судьба была не менее интересна и темна, чем этот камень, деревня искала разрешения своего любопытства…
О заложнице генуэзского коммерсанта, скупавшего в этих краях ореховые деревья для мебельных фабрик, кое-что было известно. Знали, например, что Луиза Маретти перешла из рук коммерсанта в руки тайного советника царской канцелярии, что впоследствии из заложницы обратилась в наложницу. И теперь никто не ждал проигравшегося коммерсанта с выкупом, считая, что если он и не забыл свою соотечественницу, то давно махнул на нее рукой. А вот что касается Димтро, он возводился в рыцари. Ибо его поступок граничил с безумием. И при случае не упускали возможности посудачить о нем, припоминая якобы им сказанные слова во время карточной игры в Еричмачо: «Ставлю свой особняк на Луизу Маретти!..» Теперь примелькавшаяся фигурка юной итальянки не вызывала у деревни того жгучего интереса, какой вызывало это громоздкое чудище, возникшее из шума и мужичьего задора. Ее существование в этом дворе было результатом ее же безрассудства. И безрассудство было наказано. И этого было вполне достаточно, чтобы перестать интересоваться судьбой чужеземки. А вот камень другое дело. Он нес в себе загадку, а загадка лишала спокойствия и сна. Люди шептались, разнося всевозможные слухи, и камень оставался в центре внимания даже тех, которые знали толк в камнях, да еще в таких, как этот. Говорили, что скоро наступит развязка. Что взойдет-де на него долговязая фигура тайного советника царской канцелярии и все на этом закончится. Но пролетали дни и недели, а пьедестал по-прежнему пустовал. И тогда кто-то высказал свою догадку. Она была предельно ясна и глубока. И все сразу умолкли, понимая, что нельзя подниматься бронзовой фигуре советника на этот пьедестал, так как каждый будет таращиться на него с единственной целью отыскать след пощечины на бронзовой щеке… В таком положении этот памятник был бы в большей мере памятником Димтро и, может, даже способом увековечения его десницы, а вместе с тем и имени молодого князя, что, конечно, не предусматривалось ни скульптором, ни самим царским советником.
Тут бы и конец этой истории о памятнике. Но существует и другая версия, на мой взгляд необоснованная, однако не сказать об этом значило бы пренебречь ею, что не в моих правилах. Тем паче что аргументов в пользу этой версии более чем достаточно, что иногда наталкивает на мысль, будто кто-то тщательно обработал ее и обкатал в голове, чтобы затем выплеснуть на бумагу в виде исторической хроники нашей деревни. Так это или нет, но пьедестал продолжает стоять, сверкая кристаллами, и по-прежнему в центре внимания наших жителей.
Версия утверждает, что кому-то все-таки удалось обнаружить следы двух ступней на пьедестале. И, основываясь на таком неопровержимом факте, выдвигает предположение, что памятник был. И в пользу этого предположения приводится легенда, будто бы имевшая место, при этом называются подлинные имена, что меня особенно настораживает. Если следовать этой легенде, выглядит она так, как все легенды, где комическое начало перемежается с трагическим концом. И это создает дополнительную трудность в оценке событий, так как смеяться и плакать одновременно трудно даже в наш век. Но я сказал, что надлежало сказать, и умываю руки!
Значит, стоял памятник, но, как гласит об этом версия, вовсе не тайному советнику царской канцелярии, а еще более значительному вельможе. Ученость этого вельможи была налицо: он был бородат, глаза чуть-чуть навыкате, в правой руке — трость с барельефным набалдашником, должно быть, орудие для успешного вколачивания царя — премудрости всех наук! — в головы, отчего многими жителями он воспринимался как высшее дыхание и, проходя мимо двора, еще за версту, они срывали с себя шапки и кланялись ему в пояс. Но памятник будто бы простоял недолго. Случилось такое, что значительно ускорило развязку, оставив на пьедестале как вещественное доказательство следы от двух громадных ступней и имя бедолаги, Ноэ Сичинава, о ком свежо еще предание. Будто шедший мимо известного нам двора Ноэ, горький по тем временам пьяница, поравнявшись с вельможей, отвесил ему глубокий поклон и хотел было уже пройти дальше, как ему почудилось, что вельможа властным мановением пальца подзывает его к себе.
— Господи, спаси и помилуй! — говорят, прошептал Ноэ Сичинава и вошел во двор, волоча за собой пастуший кнут, с которым он не расставался из боязни собак. И, приблизившись к человеку с глазами навыкате, рухнул на колени. — Велите, государь!..
Но государь, испытующе глядя на холопа, молчал, придерживая правой рукой трость с тяжелым набалдашником.
Ноэ, никогда не видевший памятника, а потому глубоко веривший, что стоит перед живым существом высшего порядка, застучал зубами, не в силах вытолкнуть из горла окаменевшие слова. Наконец, кое-как справившись с волнением, протяжно пропищал:
— Бодиши, партени! (Извините, государь!)
Однако и на извинения Ноэ не получил ответа. Тогда, удивленный молчанием идола, Ноэ внимательно оглядел его, ловя в насмешливом взгляде истукана презрение к себе. Ноэ выпрямился, а затем поднялся с колен и произнес:
— Бодиши, партени, но я очень спешу! — и, сжимая в руке кнутовище, еще раз взглянул на молчуна. И тут он понял, что государь не дышит. Стало быть, он уже не государь, а всего лишь тень государевой жизни. Ноэ улыбнулся своей догадке и, подойдя к государевой тени и тыча в нее кнутовищем, пьяно расхохотался. — Ишь ты, какой пузырь! — Затем, осторожно оглядевшись по сторонам и не найдя никого из живых, горячо огрел надменную тень чужой жизни и бросился бежать вон со двора.
Но избежать Сибири не удалось. А памятник, оскверненный мужичьим кнутом, якобы был свезен поздней ночью во двор губернатора Еричмачо, где его, спеленав, как дитя, предали тайному погребению. И сколько потом ни скрывали от жителей Еричмачо погребение памятника, все же оно стало известно всему городу, что нисколько, однако, не помешало губернатору осуществить свой замысел, который прежде всего предусматривал выжидание. А может, и намерение дать памятнику вылежаться до тех пор, пока он не переживет того, кого должен был представлять еще при жизни, чтобы затем, поменявшись с ним местами, вознестись на пьедестал, возрождая образ усопшего во всем величии славы и могущества…
Вот здесь, на этом месте, и обрывается версия о существовании памятника, не дав никакого ответа на то, кому он был воздвигнут и почему в последующие годы он так и не взошел на пьедестал. А пьедестал по-прежнему стоит и по сей день служит хорошим подспорьем человеческому честолюбию…
Не скрою, и я, вовлеченный в эту игру, тоже поглядываю с высоты своей мансарды на него чаще, чем это нужно делать здоровому человеку, и иногда вижу на нем очень знакомое изображение из зеркал… порою так явственно, что заставляю себя спуститься вниз и удостовериться ощупью в увиденном глазами. И, нащупав в пустоте лишь плод самообольщения, поворачиваю обратно, будто посрамленный маньяк. «О несчастный, как ты слеп! Крот, вылезающий из земли, во сто крат счастливее тебя, ибо он в своей слепоте стремится к свету!»
Ну а те, что придерживаются противоположной точки зрения о существовании памятника, рассказывают, что пьедестал с особой силой притягивал к себе тайного советника царской канцелярии, втайне мечтавшего обуздать его своей тяжестью. Говорят, он часами сиживал возле пьедестала, что, к удовольствию деревни, могло как-то интересно закончить общение двух неодушевленных предметов этого двора, если бы не злополучное письмо. Но письмо, как утверждают многие, выбило его из седла. Тревожное сообщение, пришедшее из Петербурга, куда так давно не казывал своего носа тайный советник, лишило его сладостных минут времяпрепровождения подле величественного пьедестала. И он наскоро собрался в дорогу. Анонимное письмо не содержало в себе никаких угроз, если не считать развернутой ладони на листе синей бумаги, на которой красовался тайный знак в виде прописной буквы Д. Но сама ладонь, развернутая на листе синей бумаги, была неприятна напоминанием позорных минут, пережитых в уездном городе Еричмачо в доме губернатора. И тайный советник царской канцелярии заметался в растерянности, как затравленный зверь. И тут население поняло, что предмет, сиживавший часами подле тяжеловесного камня, пришел в движение и что теперь он может относиться к разряду одушевленных…
Собрав все ценные вещи, кроме Луизы Маретти, — она уже была погашенным векселем и ждать от нее добра, как видно, не имело смысла, — тайный советник царской канцелярии заспешил почему-то не в Петербург, а в Тифлис. И в дороге на Тифлис он в конверте неожиданно обнаружил еще один листочек, на котором было аккуратно написано, что террор — оружие крайне отчаявшихся людей и что только он способен восстановить справедливость сиюминутным разрешением проблем. А в конце письма — аналогичная ладонь меньшего размера, но с тем же знаком в виде маленькой буквы д. Говорят, тайный советник так и не понял этого знака, поскольку прописная буква Д могла означать сразу и начальную букву имени Димтро и в то же время обе эти буквы — большая и маленькая — Д, д — напоминали ручные бомбы разных размеров, какие были не новостью для Петербурга, тем более для самого тайного советника царской канцелярии. И, говорят, он загрустил:
— Что за дикие времена!..
Оставленная на произвол судьбы тайным советником царской канцелярии Луиза Маретти с двумя чисто вымытыми пуделями была даже рада наступившей вдруг перемене. Опостылевшая слюнявая похоть краснорожего сладострастника, жившего бирюком, давно у нее вызывала отвращение и ненависть. А страхи, взбудоражившие и наконец сорвавшие с места ее патрона, не могли не радовать молодое сердце невольницы. И она зажила свободно и легко. Опасаться такой красавице было нечего, а поэтому она все чаще и чаще стала выходить за ворота двора, тщетно пытаясь выучиться местному наречию, отдаленно напоминающему ей родной язык. И вскоре ее общительный характер был достойно оценен местными жителями. Особенно — молодыми жаркими сердцами. Разом осмелевшие ребята, как гласит предание, не только не топтались в нерешительности у ворот тайного советника царской канцелярии, но и преступали запретную черту. Таким образом, благодаря общительному характеру и темпераменту молодой итальянки дом-особняк превратился в своеобразную школу, где молодые ребята, прежде чем жениться, постигали таинства страстей в объятиях знойной женщины… Они входили в парадные двери и под утро выходили из дома черным ходом с первым опытом, за что хранили всю жизнь Луизе Маретти умильную благодарность.
Шло время, и многие уже подумывали, что сам бог велел возникнуть посреди улочки большой деревни этому двору и Луизе Маретти, чтобы навсегда погасить интерес и к пьедесталу, и к тайному советнику царской канцелярии, и к Димтро, будто бы сказавшему, желая отыграть юную красавицу: «Ставлю свой особняк на Луизу Маретти!» Но это была ошибка. Как раз когда уже было решили, что Луизе удалось отодвинуть это каменное чудище, и меньше всего ждали серьезных перемен, они произошли.
На закате августовского дня, как высчитали хронологи деревни, во двор тайного советника царской канцелярии въехал на чалом иноходце человек лет пятидесяти, вооруженный двумя маузерами. Не слезая с коня, он отворил калитку во двор, вплотную подъехал к дому-особняку, не спеша огляделся вокруг и повернул к деревянной лестнице. Затем, ступенька за ступенькой взяв лестницу верхом на коне, поднялся на балкон и, несколько раз постучав маузером по балясине, замер.
Деревня, узнавшая в вооруженном наезднике Димтро, высыпала на улицу и, вспомнив о письме из Петербурга и страхе тайного советника, затаила дыхание в ожидании драмы. Но драмы не произошло. Отворилась дверь дома, и в ней показалась Луиза Маретти, растрепанная и бледная. Она долго вчитывалась в лицо странного наездника с маузерами по бокам, но никак не могла вчитаться, чтобы осенить память узнаванием. Наконец, поняв, что этот человек ничего не значил в ее беспорядочной жизни, говорят, решилась осадить непрошеного гостя — нахмурила брови, но тут же, не успев еще вымолвить слова, вскрикнула. Это был вскрик узнавания. И в вечернем воздухе прозвенело позабытое имя: Димтро!
А Димтро, не сходя с коня, подхватил Луизу и ускакал обратно, стиснув в объятиях свою драгоценную добычу, а точнее — то, что уцелело от тайного советника царской канцелярии и других мужчин нашей деревни. И деревня, провожая глазами поседевшего князя и растрепанную и бледную, как страсть, Луизу Маретти, грустно вздохнула:
— Будет беда!
Спустя несколько месяцев после этого случая в деревню докатились слухи, что будто бы Димтро и Луиза яростно бьются в пучине революционных волн, окропляя своей и чужой кровью веху истории. И деревня, в скорби скрестив руки на груди, печально выдохнула:
— Ожесточение может озлобить сердце…
Когда дымящийся жертвенник революции чуть поостыл, во двор вновь въехали Димтро и Луиза. Оба они были обескровлены и худы. Седая борода и глубокая складка на переносице говорили, что Димтро пережил кровавую драму внутреннего разлада. Изможденное лицо таило непреклонную решимость человека, уже однажды умывшегося кровью отмщения, а потому вкусившего радость… Память, терзавшая душу, снова поднимала его на новую кровавую месть, вырывая из глотки рокочущие звуки угрозы. В нем действовала инерция затухающей борьбы. Луиза Маретти, успевшая изрядно состариться за небольшой отрезок времени, была молчалива и печальна. Потухли в глазах искры молодости, отяжелела поступь, поблекло лицо, припорошенное пеплом жестокого времени. Короткая кожаная куртка, повидавшие виды сапоги и оружие, колотившееся на бедре, совершенно лишили ее женственности, заменив очарование резкими мужскими повадками. Возвратившись после длительной отлучки вдвоем в деревню, они поселились в каштановом доме с красивым фронтоном, куда время от времени приходили небольшими группами вооруженные оборванцы. Однажды, когда двор загудел бессчетными группами таких оборванцев, говорят, вышел Димтро и, поднявшись на пьедестал, произнес речь, в конце которой, поднимая массы, гневно сказал:
— С эгоистическими натурами нам не по пути! Они не способны на жертвенность, на героические подвиги, лишены таланта, кроме одного — любить свою жизнь! Да здравствует пролетариат! Да здравствует мировая революция!
Следовавшие за ним ораторы поднимались и спускались с пьедестала. Накаленный захлестывающим гневом воздух упоительно раздувал ноздри слушателей, хищно и волнующе разжигая белки зорких глаз. В полночь вся эта волнующаяся масса вместе с Димтро выплеснулась со двора и разлилась в подлунном мире делать мировую революцию. И только лишь спустя два года вернулся Димтро пешим ходом. При нем уже не было ни оружия, ни друзей. Он был одинок, как умирающий. А майский день играл лучами, осыпая деревья и травы звенящим теплом. И мир снова пел свою радость, свою удивительную жизнь. Но усталое тело Димтро не в состоянии было воспринимать эту бессмертную благодать. Душа уже позабыла детскую восприимчивость… А деревня, чуткая к чужому дыханию, извлекла из памяти свое пророчество:
— Будет беда!
Поднявшись на балкон, Димтро в нервном нетерпении постучал в дверь. На стук вышла Луиза и, не проявляя ни радости, ни огорчения, пропустила Димтро в дом и захлопнула дверь.
Разгоревшееся с возвращением Димтро любопытство деревни было оскорблено бездействием двух людей — Димтро и Луизы. Но деревня ошиблась и на этот раз. Вечером того же дня все увидели яркое пламя костра во дворе тайного советника царской канцелярии.
Димтро, вытряхнув за дом-особняк все «приданое» тайного советника Луизе вместе с ненавистными кроватями, устроил костер. Сжигал он ожесточенно-зло свое и чужое прошлое, желая обуглить воспаленную память, чтобы сделать ее неспособной воскрешать былое, так мучившее его беспросветными ночами.
Буйно трещал костер, слизывая цепким пламенем огня радость и пот чужих тел, упокоившиеся в вещах.
— Зачем? — говорят, тихо простонала Луиза, увидевшая объятыми огнем плоть и кровь своей мучительной, но неповторимой юности, и ушла в дом, ни разу не оглянувшись на горящий костер…
С этого вечера их постелью стала черная бурка и ночь. Кроватью — каштановый пол, заставлявший Димтро в неистовстве протяжно и долго стонать, обескровливая уставшую плоть женщины глухой и угрюмой местью… Свидетельницей исступленных вскриков женщины, перебивавшей возбужденное дыхание зверевшего старика в желании извести свою и чужую жизнь, ставшую в тягость, была только ночь…
— Бес! Бес!..
И вот однажды под утро деревня услышала злобное ворчание Димтро, матерившего Луизу буржуазной шкурой… затем два гулких выстрела: первый в Луизу… В промежутке между первым и вторым выстрелами, поняв, что теперь любить мировую революцию уже не в силах без НЕЕ, он подставил пуле и свой висок…
Хоронили Димтро и Луизу в одном гробу, провожая под гром духового оркестра, игравшего «Интернационал».
Рассказывают, что их общая могила находится под сенью громадной магнолии.
Действительно, на сельском, кладбище, где и у нашей семьи имеется фамильный уголок, стоит одна такая магнолия, изувеченная грозой. Но под ней нет никакого холмика, который бы указывал на погребение. А может, холмик с годами разровнялся и в самом деле под этим деревом на дне могильной ямы лежат две судьбы, два яростно любивших жизнь человека, не щадивших ради нее ни себя, ни других… Вот так и вот здесь, где завершается в этом мире все, закончилась эта история, точнее, предыстория этого двора, если она в самом деле имела место. А пьедестал все пустует, как и прежде, неся жгучую загадку из поколения в поколение. Нет-нет да снова наткнется взгляд прохожего на него, рождая все тот же вопрос… и пройдет мимо, неся в бренном теле сладостную истому воплотиться в камень, став хоть отзвуком миновавших страстей своей эпохи…
Началась новая жизнь, потребовавшая от людей новых усилий. И люди, отдаваясь труду, забывали себя, раскачивая земной шар, чтобы после хорошенькой встряски поднять все лучшее на нем и порадовать сердца ближних. В единении людей, устремленных вперед, было общее счастье — одно на всех.
В конце тридцатых годов, когда только-только минуло чуть более трех лет моему появлению на свет, вспыхнули для меня яркие краски и запахи жизни, с помощью которых впоследствии я определял вещи, людей и события. Каждый человек был наделен своим неповторимым цветом и запахом, так же как и события и вещи, окружавшие меня в микромире.
Подъезжали к двору и съезжали с него подводы с возбужденными лицами колхозников под развернутым кумачом, залихватски, с какою-то веселою злостью размахивавших руками и игравших белками ошалелых глаз. Гудели густо и протяжно, овеянные запахами разнотравья. За ними с несколько понурыми головами следовали другие, но без кумача, как бы пристыженные, с ленцой и нехотя. Потом, собравшись вокруг пьедестала, все слушали сосредоточенно и зло разрывавшиеся в воздухе звуки духового оркестра, расположившегося подле массивного камня. Помню в какие-то разы своего большеглазого дядю в одной из комнат дома-особняка рядом с Фролом Ивановичем, звонко щелкающим костяшками счетов. А за спиной Фрола Ивановича, человека с широкой улыбкой, два большущих гвоздя. На одном из них — непомерно большая шляпа цвета малинового кречета, на другом — серая с наружными карманами тужурка. На подбородке Фрола Ивановича была глубокая ямочка, делавшая лицо его похожим на большую грушу с глубоким пупочком. Ловя мой пристальный взгляд, обращенный на ямочку, и мое неодолимое желание узнать, что это такое, дядя брал мой указательный палец в руку и подносил к подбородку Фрола Ивановича, шутя:
— Все это широкое лицо, — дядя рисовал в воздухе свободной рукой овал в два раза больше, чем на самом деле был у Фрола Ивановича, и смеялся, — вышло из этой маленькой дырочки! — и трепал меня за волосы.
В комнате стояла музыка: щелкали без устали костяшками счетов, иногда вовлекая и меня в эту веселую игру. Я был любим этими взрослыми людьми, создавшими таинственную музыку. Но однажды, в один из летних дней, все кончилось, — люди с каменно-жесткими лицами покидали комнаты и уходили, позабыв про музыку. Было похоже, что кто-то, тот, кто сам никогда не играл в веселые игры, расстроил все инструменты и теперь никогда никто не сможет играть, как прежде. Много позже мне открылась причина разлада любимой мной музыки, когда немногие из ушедших стали возвращаться после длительной отлучки безрукими и безногими. В числе этих немногих был и Фрол Иванович. Расхаживая по двору на скрипучих палках, он грустно шутил, встречая мой встревоженный взгляд:
— На трех ногах, брат, на трех… — И большими натруженными ладонями, свисавшими вдоль костылей, хлопал по ним и, раскачивая на них большое, теперь уже изуродованное тело, уходил прочь…
Потускнела жизнь во дворе. Теперь в щелканьях костяшек не было музыки, была угрюмая, сосредоточенная работа. На опустевшем стуле моего дяди я видел расплывчатое лицо с большими грустными глазами, и, уткнувшись в пустоту стула, в котором продолжал жить дядя, я крепко обхватывал его руками и рыдал. И чем больше я плакал, тем сильней ощущал, как шумит в моих детских жилах горячая кровь, связавшая меня с дядей одной общей скорбью и любовью друг к другу. Такая нерасторжимая связь жила между живыми и мертвыми. Я видел и ощущал всем своим телом, что теперь эти люди, оставшиеся в живых, никогда не смогут без боли в сердце по-настоящему смеяться, как прежде. Каждый из них хранил в кармане, чтобы не дать забыться, фотографии тех, чьи имена были неотъемлемым звеном в одной цепи их жизни… А жизнь продолжалась, она была оплачена живыми и мертвыми кровью. Мало-помалу она набирала силу. В деревне построили первый послевоенный магазин. Поставили его у входа во двор правления колхоза по левую руку. За ним — одноглазую сторожку. И вскоре Фрол Иванович привел во вновь, открывшийся магазин толстяка с чисто выбритой головой, говорившего с придыханием, и магазин стал работать.
— Ну вот, — сказал Фрол Иванович, — функционируй, Беслам Иорданович. — А сам повернул во двор, раскачиваясь на костылях.
И с этого дня началась новая веха в жизни двора, близкая мне и моим сверстникам.
В этом дворе мы смотрели первые фильмы, слушали первые послевоенные марши духового оркестра нашего колхоза. Здесь разворачивались события последующих лет. Отсюда уходили первые «эмиссары» в соседний колхоз, чтобы совершить обоюдовыгодную сделку и многое другое по личной инициативе самого Беслама Иордановича, давшего новое толкование слову «эмиссар».
Я хочу рассказать одну небольшую историю, разыгравшуюся на моих глазах, а потому достоверную…
Как-то летним днем, когда я сидел на лавке перед магазином и глядел на ссорившихся воробьев на пьедестале, пришел Фрол Иванович и, погладив меня по голове, опустился рядом и завел разговор с вышедшим к нему Бесламом Иордановичем о пшенице, которую должны были завезти для распродажи колхозникам по льготной цене по случаю недорода в нашем колхозе. И в разговоре между двумя этими людьми я и услышал нечто такое, что не имело никакого отношения к пшенице и другим подобного рода делам.
— Долго ли будет мозолить глаза этот срам? — спросил тогда Беслам Иорданович, показывая похожей на женскую пухленькой ручкой с короткими и толстыми пальцами в сторону пьедестала.
Фрол Иванович поднял глаза на пьедестал, хорошо отсюда просматривавшийся, и улыбнулся. Воробьи, нахохлившись, шумно делили срез пьедестала.
— Это вовсе не срам! — возразил Фрол Иванович Бесламу Иордановичу, что-то обдумывая. — Это — ценная порода. Со временем используем по назначению…
— Ценная-то ценная, — подхватил Беслам Иорданович и, поморщась как от боли, добавил: — Хоть бы корзину с цветами, что ли, поставить…
— Можно и корзину, — согласился Фрол Иванович, он же бухгалтер колхоза, должно быть, ведя сложные бухгалтерские операции в уме. — А что, это идея! — И после небольшой паузы с улыбкой присовокупил: — Не поднять ли тебя на него?.. Ты видный такой и в меру грузный… А что…
— Меня-то за что? — не ждавший такого оборота, волнующе придыхая, спросил Беслам Иорданович, он же завмаг и большой ценитель формы и содержания. — Есть у меня на примете один предмет, способный украсить эту ценную породу. Сделан он из бронзы. Говорят, ученый… — И завмаг движением пухленьких рук описал в воздухе бронзовый лик. — Надо бы посмотреть. Это в соседнем колхозе «Рассвет».
— Ну что ж, функционируй! — сказал Фрол Иванович и встал, возложив устройство пьедестала на Беслама Иордановича, на что в свою очередь завмаг ответил определенно:
— Сосватаем и женим!
И по инициативе Беслама Иордановича начались встречи «Рассвета» с «Зарей». Встречались они, переговаривались, «Заря» просила уступить бронзовый лик ученого, считая, что у нее есть все основания владеть этим ученым, поскольку пьедестал к нему готов… «Рассвет» же выдвинул свои аргументы, дескать, было бы что ставить, а подставка всегда найдется. А поэтому просил уступить камень как ненужный балласт… Споры шли горячие, долгие, но стороны не пришли ни к какому решению. Тогда Беслам Иорданович, не уступавший в этом деле инициативы никому, созвал всех мужчин в магазин и с твердым убеждением заявил:
— Есть один выход!
— Какой же? — заволновался бухгалтер, он же и председатель колхоза «Заря», выбранный вместо успевшего провороваться в течение долгих переговоров с «Рассветом» председателя. — Какой, же?
— Обмен! — коротко, заговорщицки улыбаясь, ответил завмаг.
— То есть что на что?
— Алию на бронзовый лик! — был ответ Фролу Ивановичу, успевшему сделаться от такой неожиданности истуканом.
Все, услышавшие из уст Беслама Иордановича такое предложение, тоже оцепенели, выдохнув в возмущении: уу-ууу!
— Именно путем обмена! — подтвердил Беслам Иорданович, выводя из исступленного состояния всех членов собрания, принимавших участие в решении данного вопроса.
Алиа была знаменитая лошадь — гордость всего района и слава «Зари». Она из года в год брала первые призы на скачках, проводимых в республике ежегодно весной и осенью. Потому говорить такое относительно Алии было равнозначно предательству, если бы не знали Беслама Иордановича как самого ярого патриота своего колхоза и первого лошадника.
— И это предлагаешь ты? — удивился председатель в лице Фрола Ивановича, с трудом отрясая оцепенение истукана.
— Алиа — умная лошадь! — поспешил объяснить завмаг, убежденный в точности своего замысла. — Она через несколько дней вернется в родной колхоз.
— Дай-то бог! — засомневался Фрол Иванович, но уступил четким аргументам Беслама Иордановича.
И собрание единогласно постановило: обменять лошадь на бронзовый лик.
«Эмиссары», как их называл Беслам Иорданович, в лучшем представительстве, взяв под уздцы Алию, двинулись в соседний колхоз, чем очень удивили председателя…
— Как же вы решились на это?
— Надо с соседями делиться добром! — хором ответили «эмиссары», передавая Алию из рук в руки председателю соседнего колхоза.
Председатель, усмотревший в таком обмене подвох, заколебался, считая не без основания, что коль скоро «Заря» решилась обменять такую лошадь на бронзу, то что-то в этом кроется… Или же бронза стоит много больше, чем Алиа. Но, погладив золотистый круп Алии, подобрел сердцем: шутка ли, Алиа?! Лошадь мелко вздрагивала под председательской ладонью, напоминая ему волнующие минуты скачек.
— Принесите бронзу! — сказал председатель конторским работникам.
«Эмиссары», приняв бронзу, как младенца, на руки, двинулись в обратный путь, грустно простясь с Алией, и через каких-нибудь два часа под грохот духового оркестра водрузили бронзовый бюст на пьедестал. Правда пьедестал для такого миниатюрного бюста оказался великаном. Но, несмотря на это, двор приобрел свет одухотворенности. И это заметили все.
— Так-то лучше!
Но через минуту оброненный кем-то вопрос привел в замешательство Фрола Ивановича.
В вопросе содержалось справедливое любопытство.
— Кто он?..
— Поставить поставили, а узнать кого, не узнали! — огорчались некоторые.
И это обстоятельство не на шутку встревожило Фрола Ивановича, упустившего такой важный фактор.
«Может, — думал Фрол Иванович, бухгалтер и председатель, — может, он есть матерый классовый враг? А я его, выходит, на пьедестал! Вот тебе, любезный, красуйся…» Серьезно закручинился. И больно и пронзительно заныла культя, что было вернейшим признакам того, что бухгалтер и председатель в одном лице допустили непростительную ошибку. Фрол Иванович подозвал одного из моих сверстников и сказал:
— Лети пулей к Транквилиону Транквилионовичу Светониа! Пусть в срочном порядке придет для опознания одной исторической личности.
Транквилион Транквилионович Светониа был человеком уже преклонного возраста, как и подобает, наверное, историку. Жил он неподалеку отсюда. Историческими исследованиями давно не занимался, хотя в этой области незавершенных работ еще оставалось много. Он по непонятной причине с некоторых пор пристрастился к водке и тайно от домашних дважды на день посещал магазин, где в те времена можно было выпить горькую в розлив, закусив конфетами-подушечками. Многие строили относительно этого человека всякого рода предположения: одни считали, что поводом его разочарования в истории послужили ее бездонные глубины, куда, заглянувши однажды, его чуть не вырвало. Другие же во всем обвиняли какую-то женщину, будто бы повлиявшую на его мировоззрение. Теперь, сменив свои страсти на пристрастие, Транквилион Транквилионович Светониа жил по-своему интересно. Далекий от деревенских дрязг и сплетен, он почитывал книжки. Читал, как читают миллионы читателей, для личного удовольствия, с развлекательной целью. И это было ему приятно и необходимо, как и водка, которую он пил систематически дважды в день по чайному стакану. На улице он появлялся обычно к открытию магазина, чтобы пропустить законную порцию. И если в такие часы кому-нибудь удавалось засечь его по пути в магазин, то прохожий невольно задерживался, чтобы проследить, и не без угрызения совести, за походкой Транквилиона Транквилионовича. Происходило это как-то само собой, хотя многим на протяжении долгих лет она была хорошо знакома. Походка и впрямь была необычна и, можно так сказать, вполне соответствовала человеку, занимавшемуся долгие годы историческими исследованиями. Дело в том, что правая нога у историка была повреждена в коленном суставе ударом шашки в годы революционных боев и по этой причине не сгибалась. Это бы еще ничего, если бы она не была повернута стопой наружу на девяносто градусов по отношению к левой, что создавало ложное представление о самостоятельном движении ног. Опираясь на больную ногу, историк левую отставлял далеко вперед. Нащупав устойчивую почву стопой, он постепенно переносил всю тяжесть тела на нее, одновременно приподнимаясь на носок и тем самым давая больной ноге чуть-чуть провиснуть, чтобы облегчить ее приволакивание. Такое движение напоминало движение циркуля, когда одним концом приволакивается другой, чтобы отчертить путь от одного конца до другого. У наблюдавших за походкой историка правая его нога всегда вызывала сочувствие, смешанное с неодолимым любопытством, поскольку была тщетна и обманчива ее развернутость в попытке подчинить себе, своему ложному ходу, левую ногу. Как ни смешно и глупо выглядело упорство больной ноги, оно трогало и волновало сердце каждого. Метр за метром взятый путь наводил на мысль, что горькая, потребляемая историком, всего лишь обусловленный разными причинами результат борьбы множества членов в его большом существе. Отсюда и разлад походки, разлад участвующих в ней, но переставших понимать друг друга членов.
Весть о том, что для опознания исторической личности в бронзе призван историк, еще больше подхлестнула любопытство тех, кто непременно тут же хотел все узнать.
Транквилион Транквилионович Светониа, как уже описывалось выше, шел своей походкой, что само по себе было не менее любопытно, чем тайна, заключенная в бронзе. Преодолев на пути довольно крутой перелаз, он наконец вступил во двор. И вот, пройдя еще несколько трудных шагов, историк стал перед громоздким пьедесталом, венчавшимся миниатюрным бронзовым бюстом.
Фрол Иванович, пребывавший в знобящем состоянии, заскрипел костылями, выказывая нетерпение:
— Знакома ли тебе эта личность?
Обращаться к историку протокольным языком было в правилах нашей деревни, ценившей в человеке прежде всего его физические возможности, а потом уж всякие другие, наживавшиеся с помощью книг.
Транквилион Транквилионович, хорошо знавший это обыкновение, уже привел было губы в движение, чтобы дать Фролу Ивановичу ответ, но так и не успел их разомкнуть. Виной этому была доселе незнакомая в этих краях птичка, камнем упавшая с высоты на голову бронзового изображения и зачирикавшая протяжно и свободно.
— Удивительно! — прошептал историк после минутного молчания, не спуская глаз с бронзовой головы, увенчанной венком, на которой и пела свою звонкую песню незнакомая птичка.
— Транквилион Транквилионович! — застонал Фрол Иванович, отчетливо ощущая подступающий к сердцу холодок.
И вновь произошло чудо: залетная гостья, снявшаяся с бронзовой головы, покружила над ней, стремительно взмыла ввысь и на глазах изумленных людей растворилась в синеве неба, на что собравшиеся во дворе многозначительно переглянулись. А Фрол Иванович, увидевший во всем этом недобрый знак, теперь уже не торопил историка с ответом: он стоял чуть поодаль от собравшейся толпы колхозников и, свесив голову, глядел на левую ногу, не достававшую до земли. Культя пронзительно ныла, как бы ощущая в себе отсутствующую ступню.
Транквилион Транквилионович Светониа подошел к стоявшему особняком Фролу Ивановичу и, предваряя ответ улыбкой, сказал:
— Замечательное приобретение!
Толпа, обступившая историка, шумно загукала, выражая восторг, и сразу же заполыхала алым огнем нетерпения, глядя в рот Транквилиону Транквилионовичу, чтобы подхватить из уст его имя бронзового изображения и передать дальше.
— Это есть Петрарка — итальянский поэт эпохи Возрождения! — сказал историк голосом и тоном, какими говорят учителя в начальных классах. Он хотел назвать и век, но, подумав, что ветхость петрарковского времени может несколько уменьшить к нему интерес, ограничился поздравлениями.
Как-то сразу размякший Фрол Иванович повис на костылях и, глядя куда-то отрешенным взглядом, спросил:
— Говоришь, поэт?
— Поэт! — подтвердил историк и выбросил вперед левую ногу.
Глянувший вослед удалявшемуся историку Фрол Иванович смачно сплюнул в траву и, неистово гребя костылями к конторе, выматерился крепким квашеным русским матом.
Жизнь с этого дня во дворе правления колхоза вошла в свое русло и потекла ровно, преодолевая временные трудности. Работники конторы теперь все чаще выходили к памятнику Петрарке и, с уважением разглядывая бронзовый лик поэта, курили, мысленно переносясь в незнакомую им и далекую Италию. Иногда сюда приходил и Фрол Иванович, как-то плохо привыкший к памятнику поэту. И, чтобы самому тоже участвовать в разговорах, иногда задавал неожиданно вопросы.
— Как думаете, — спрашивал Фрол Иванович, — мог бы этот поэт принять нашу действительность и жизнь?..
От такого неожиданного вопроса даже самые бывалые люди пожимали плечами, уставясь долгим взглядом на Петрарку, словно желая прочесть ответ в бронзовом лике. И только после продолжительного молчания кто-нибудь из самых бойких высказывался так же витиевато.
— Жизнь бы принял, а действительность — нет!..
— Вот то-то, — говорил Фрол Иванович и, медленно набухая неприязнью к поэту из-за утраченной Алии, грустнел, ясно представляя себе предстоящие скачки. — А лошадь-то, она живая…
— Ну что же теперь! И памятник тоже штучка забавная! — утешали Фрола Ивановича конторские работники, зная, что творится в душе их старшего собрата.
Если многие конторские работники примирились с утратой Алии, то Фрол Иванович и Беслам Иорданович ходили печальные, избегая друг друга, чтобы не бередить раны. Приближались скачки, а лошадь, как ее ни ждали, не возвращалась в родной колхоз.
— Может, в том колхозе ей лучше? — высказался Беслам Иорданович вслух.
— Колхоз есть колхоз, — резонно ответил Фрол Иванович, сердито хмурясь от тревожной мысли, что ЕЙ там лучше…
— Ломаю себе голову, не сплю, — признавался Беслам Иорданович, хватаясь пухленькими ладонями за чисто выбритую голову.
— Не спи, — отвечал Фрол Иванович и, круто повернувшись спиной к завмагу — в который уж раз, — уходил прочь, ругая себя за оплошность. Затем, спустившись с перелаза во двор, задерживался перед памятником, спрашивая себя: — Как его, бишь? — и, напрягая память, неожиданно добрел к памятнику. — Ишь ты, как понимающе глядит…
К памятнику Фрол Иванович трудно, но привыкал. Поэтому расставаться с ним не хотел. Но не хотел ни под каким видом лишиться и лошади. Когда пролетела не одна неделя со дня обмена Алии на Петрарку, Фрол Иванович в сердцах заглянул еще раз к завмагу и там собрал совет с участием историка, чтобы окончательно решить вопрос о скачках и лошади. Приняв перед обсуждением за счет Беслама Иордановича по стакану горькой, совет приступил к обсуждению вопроса. Первый вопрос был поставлен Фролом Ивановичем. Он прозвучал так:
— Стоит ли бронзовый Петрарка живой Алии?
Историк, к которому в основном относился вопрос, глубоко задумался. Прежде чем дать ответ на какой-нибудь вопрос, в привычке историка было беспрерывно жевать губами, остановка которых и означала готовность выдать самый четкий ответ. Но так как в вопросе бухгалтера-председателя прозвучало желание установить не столько номинальную стоимость бронзового Петрарки и живой Алии, сколько возможность сохранить каждого из них в пределах одного колхоза, то, естественно, историку пришлось изрядно попотеть. Он сухо жевал губами и обдумывал вопрос в том свете, в каком тот должен был разрешиться для Фрола Ивановича. И вот губы перестали жевать и разомкнулись, но потом снова заработали, так как за время исследовательской работы историк не вспомнил ни одной аналогии, где бы лошадь сравнивали с поэтом с точки зрения их полезности для общества. И тогда историк решил дать два ответа на один вопрос, поскольку и в вопросе содержались два желания.
— Если рассматривать Петрарку как бронзу, — сказал наконец Транквилион Транквилионович Светониа, ко всеобщему удовольствию остановив работу губ, — то он не стоит лошади, так как последняя является живым подручным человеку в его трудовой деятельности. — Дальше историк не стал распространяться о пользе лошади в хозяйстве. Он был историк и знал цену словам. Затем, исходя из общечеловеческих норм нашего общества о справедливом распределении духовных и иных ценностей, он высказался со всей определенностью: нельзя и не должно скопление всех ценностей сосредоточивать в одних руках…
Ответ, в котором в основном содержались теоретические принципы, был близок и понятен и Бесламу Иордановичу, и Фролу Ивановичу, но в данном случае им казался спорным, так как очень уж хорошо могли сочетаться в одном колхозном дворе и бронзовый Петрарка, и знаменитая Алиа.
— Спасибо! — сказал совет историку, не согласившись с ним в последнем пункте.
Историк же, в свою очередь почувствовавший себя одиноким, простился с советом и ушел прочь.
Тогда совет, всеми его участниками, а их было трое — Беслам Иорданович и Фрол Иванович в двух лицах, — все хлопоты о предстоящих скачках и о лошади возложил на завмага. Завмаг, как показало следующее утро, оправдал доверие, оказанное ему советом. И вот, как того требовали обстоятельства, лошадь стояла в деннике колхозного конюха Несториа, что тоже было хорошей предпосылкой к ее подготовке к предстоящим скачкам.
И я чутьем подростка понял, что «Заре» с помощью Беслама Иордановича, а может быть и других, удалось перехитрить «Рассвет». Это чувство как-то передавалось даже бронзовому Петрарке, одухотворенность которого была отмечена особым лукавством поэта, проведавшего еще одну тайну человеческой слабости.
Вскоре после этого радостного события на правлении колхоза, где остро стоял вопрос о госпоставках, был затронут вопрос и о культурных достижениях хозяйства. В перспективе правление наметило построить клуб с радиоточкой и с библиотекой со стихами Петрарки. И, как всегда, завершилось правление выступлением Фрола Ивановича, указавшего костылем на окно, откуда была видна бронзовая голова Петрарки.
— Товарищи, — сказал он, — настало то самое время, когда наряду с хлебом насущным мы можем удовлетворить и духовные запросы… Так давайте же приумножать духовные ценности коллективным творчеством на всех фронтах нашей жизни!
На что правление единогласно ответило согласием, указывая жестом в сторону Петрарки.
Но если впоследствии многим намеченным правлением планам суждено было осуществиться, то с Петраркой и с его стихами судьба распорядилась иначе. Как это обнаружилось позже, на увод нашей лошади в родные пенаты рассветовцы ответили уводом Петрарки, считая, что правильное распределение духовных и иных ценностей и есть буква закона справедливого общества. Заревцы не нашлись чем ответить, однако, желая спасти свое достоинство, они передали рассветовцам устное оправдание, в котором во всех грехах обвинялась лошадь, самостоятельно сбежавшая в родной колхоз. И на такое оправдание был дан ясный ответ, ставший потом крылатым: «Если убегают лошади, то что делать поэтам?»
И тут внезапно осиротевший двор выявил еще один недостаток. Оказалось, что правление колхоза далеко отставлено от остального мира колхоза. И, чтобы удовлетворить просьбу большинства колхозников, постановили изыскать новое место с учетом требований и перебраться, а в старом дворе открыть пункт медицинской помощи совместно с детсадом.
К сожалению, я не могу свидетельствовать, как дальше разворачивались события в этом дворе и в колхозе в целом, так как, едва оперившись, я покинул эти места и пустился бродяжничать по бесконечным и вязким дорогам России, постигая дух ядреных русских морозов с духом ее бесконечного языка. И настолько затянулось мое возвращение, что многих своих сверстников пришлось узнавать внове. Они уже успели обзавестись семьями и теперь сами ходили в отцах, сытые и тучные, содержа круглые животы в заботе и холе, как бы говоря всем своим видом, что давно миновали времена детских шалостей. А ведь когда-то я знавал их другими. Было грустно сознавать, что все лучшее кануло в прошлое, что разминулись наши интересы и взгляды на жизнь. Теперь, по существу, мы были чужими людьми в одной деревне. Люди, с которыми меня связывала детская любовь, прежде всего Фрол Иванович, уже почили, ранив сердце и память утратой. Я долгое время слонялся чужаком по деревне, ругая себя за возвращение. Завязать контакты с соседями на их принципах мне оказалось не под силу. И, отрешившись от живого общения с ними, я занялся благоустройством давно запущенного хозяйства. Старики мои скрипели от бремени, выпавшего на их долю за тревожный век, и были беспомощны в своих стараниях поддержать меня в чем-то. Жизнь моя, полная аскетизма и изнурительного труда, шла своим путем. Постепенно я стал осваиваться, как говорится, на местности. Мне уже было известно, что объединились «Заря» и «Рассвет», слив усилия и духовные ценности. Петрарка стоял в новом дворе на довольно красивом постаменте и не выглядел по отношению к нему миниатюрным. Был общий клуб с библиотекой, возможно, даже со стихами знаменитого поэта. Шли рука об руку «Заря» и «Рассвет», как ходят из века в век заря и рассвет, наполняя труд высоким смыслом красоты и радости.
В один из летних дней, когда жара здесь достигла сорока пяти градусов, я почувствовал, как размягченный мозг сбивается в голове, словно сметана, и поспешно занялся переустройством дома. Я возмечтал о чем-то вроде сеновала, где, как мне казалось, крылось мое спасение от жары. И я стал поднимать крышу таким способом, чтобы она могла удовлетворить мое желание. Поднятая двумя скатами, она дала новый тип сеновала под благозвучным названием — мансарда, чему я был неописуемо рад. Сиживая в жаркие дни на верхотуре, я имел возможность исподволь наблюдать за окрестностью и ее жизнью. И это тоже было не последнее дело для меня, связавшего свою жизнь с чернильной канителью, восполняя пробел живого общения…
Поднимаясь ранними утрами наверх, я видел, как тут же начинало сквозь утреннюю дымку расстилаться передо мной аэродромное поле, откуда взлетали и куда садились пассажирские самолеты. Затем глаза возвращали меня к бывшему двору правления колхоза, где ровные ряды кипарисов напоминали стражников халифского дворца. По двору в эти ранние часы обычно носились дрозды-пересмешники, наполняя душу радостным звоном. И пьедестал, величественный и кряжистый, как мужик, одухотворял этот двор своим присутствием. Но особенным в эти утренние часы было появление Пепуки, довольно пожилого человека, сторожившего то ли магазин, то ли утро, чтобы сохранить их людям от случайных посягателей. Вылезший из своей сторожки Пепука спешил в пристройку, что была возведена с его появлением здесь в качестве сторожа, и выводил оттуда куцую лошаденку, впряженную в одноколку, в которой стоял небольшой хлебный ящик. Стоило Пепуке со всем этим появиться на свет, как тут как тут выплывала из-за поворота нашей улочки грузная фигура Беслама Иордановича. Он спешно влезал на колымагу и, взяв в левую руку вожжи, а в правую — кнут, разом приводил их в движение, и лошадка тут же трогалась, переходя на мелкую рысцу. Сбоку, держась за борт правой рукой, бежал неутомимый Пепука, почти не отрывая ступней от земли, отчего бег получался шаркающий. Так двигалась одноколка, описывая полукруг к пекарне все пять километров туда да столько же обратно. В дороге Беслам Иорданович не позволял хоть чуть-чуть сбавить ход ни Пепуке, ни лошаденке. Бег, как правило, продолжался в одном ритме, после чего обессиленный Пепука валился с ног прямо на деревянный топчан в сторожке. А горячие круглые хлебы дымились на прилавке магазина, разнося неповторимый запах жизни. Так это повторялось каждое утро. И мансарда постепенно вошла в плоть и кровь моей жизни. И, влюбленный в свои воспоминания, я строчил итоги своего длинного пути. А жизнь текла прозрачно и свежо, как река. Люди, еще не развращенные телевизорами и радиоприемниками, подолгу сиживали у магазина, неся прелесть живого языка и его духа. Иногда среди них можно было видеть историка. Он выглядел бледным и немощным стариком. Своей худобой он напоминал обесплотившегося человека, чье дыхание было прозрачно и беззвучно. Лишь дисгармония, жившая в движении, выдавала в нем жизнь. Мне казалось, что над историком витают ангелы, тоже легкие и прозрачные, и поют песни, доступные только моему слуху. Однажды, когда мы встретились на улице и я не замедлил вслушаться в песни невидимых ангелов, он опустил мне на плечо руку и сказал:
— Все, имеющее начаться, имеет конец…
В этих коротких грустных словах заключалась та смертная связь человека с землей, без которой жизнь была бы никчемной пустышкой.
Уходили старики друг за другом, словно сговорившись об очередности. И пустело пространство, некогда занимаемое ими, но жили их привычки и жесты, приводившие в уныние и радость от сознания, что есть еще нечто, не поддающееся смерти.
Первым из нашей небольшой улочки ушел Беслам Иорданович, оставив после себя Пепуку, старшего десятью годами. Собрался покинуть нас и слегший историк. А жизнь продолжалась: по-прежнему пели во дворе ошалелые дрозды-пересмешники, тоненькими нитями песен как бы увязывая минувшее и настоящее.
В один из осенних вечеров, когда я хотел привести свой запущенный архив в порядок — что-то сжечь, что-то рассортировать по папкам, — ко мне прибежали два замурзанных внука Транквилиона Транквилионовича и сообщили радостно и торжественно:
— Наш дедушка хочет умирать… вы обязательно приходите… а то без вас не умрет! — И они пулей полетели обратно, чтобы поглядеть воочию самим, как будет умирать дедушка.
Поскольку слово «смерть» на грузинском языке имеет изначальное понятие — превращение, дети и спешили увидеть, как дедушка будет превращаться.
Я со смешанным чувством поспешил к умирающему.
Старик лежал чистый, как дух, в белоснежной постели, показывая всем своим кротким видом, что хочет воздать мне честь посвящением в предсмертную тайну.
Встревоженная нависшей смертью семья суетилась с какими-то приготовлениями, наполняя комнаты неестественным леденящим шепотом. Все друг за дружкой двигались из комнаты, в комнату, и, как ни старались не шуметь, но хлопали дверьми, грохотали стульями, всякий раз бросая пристальный взгляд на умирающего. Старик был оставлен один, лицом к лицу со смертью. Лишь любопытство детей в своем недомыслии было прекрасно: они, устроившись у приоткрытой двери, стреляли черными жадными глазами в сторону кровати, где дедушка из последних сил готовился отойти в вечность…
Я сидел молча напротив старика и скорбел, наблюдая, как разгуливает смерть по многочисленным комнатам старинного дома, оскорбляя жизнь насмешливостью здравого смысла… Наконец, когда тягостное приготовление завершилось неестественной тишиной, старик поднял на меня слабые глаза:
— Я позвал вас, чтобы передать вам свой архив. В нем вы найдете много незавершенных работ. Может, вам когда-нибудь захочется покопаться в нем. Не судите строго. Историка из меня, возможно, не получилось… но я делал историю вместе с другими…
Он глядел на меня слезящимися глазами, доверчиво и кротко…
Он говорил еще что-то. Но я уже его не слышал.
Я просидел еще несколько минут с умирающим и, взяв две тяжелые связки тетрадей, простился с ним и пошел домой, зная наперед, что никогда больше не увижусь… И действительно, к утру раздался душераздирающий крик, известивший о смерти историка. Я поспешно оделся и уехал в город, чтобы не участвовать в похоронах. По уже сложившейся привычке я никогда не ходил прощаться с теми, кого любил при жизни, чтобы числить их среди живых…
Теперь, когда минули годы и ушли из жизни те, которые шли впереди, чтобы не нарушить круговорот, я с грустью оглядываюсь назад и вижу, что порядочно оплыла свеча и моей жизни. Горит и светит огарок, давший в сумме рожденного им света необъятную ширь в виде Памяти, чтобы и мне в свою очередь передать ЕЕ другим, этот возрожденный неистовый дух былого… Все чаще и чаще гляжу я вокруг себя, чтобы в суете мира вырвать последнюю радость у бытия, за чертой которого лежит снег забвения. Перед моим взором расстилается огромное аэродромное поле с голубыми лайнерами, с хищно задранными носами, чтобы увести человечество в другое измерение. Затем глаза возвращают меня во двор бывшего правления колхоза, где неумирающая песня дроздов-пересмешников серебряно разливается в воздухе, наполняя утро чувством бессмертия. Вот он, каштановый дом, упокоившийся на красиво точенных сваях. Глядится с высоты резного фронтона поблекший от древности Георгий Победоносец, сражающий дракона. А перед ним — огромный пьедестал из монолитного габбро, выросший из мужичьей плоти и крови, чтобы стать основанием самому великому из мудрецов — Времени.
Бабушара,
1984
СИНИЕ ЦВЕТЫ ЗАБВЕНИЯ
Г. Беловой
В то субботнее утро, насыщенное радостным свечением щедрого на тепло июля, блаженным полусном дышала деревня Илькино за холмом белостенной церкви, заглядевшись в тихую задумчивость небольшого пруда, упавшего божьим плевком на ладонь зеленого дола, когда раздался тревожный голос Прошки, маленького человечка, ходившего по земле пятый десяток лет с задранной к небу головой в детской раздумчивой мечтательности.
— Аня! Таня! Идите скорей прощаться! — вещал знакомый голос, дробя прозрачный воздух на мелкие звенящие хрусталики.
И тут, уловив в колебании воздуха что-то привычное, но позабытое на время, илькинцы с улыбкой перевернулись на другой бок и вновь погрузились в легкий утренний сон, сладостно причмокивая губами. А ознобистый призыв Прошки неустанно сбегал со двора босоногим озорником, будоража прибрежные ивняки, прятавшие к этому часу под кудрявыми дремотными ветвями раскричавшихся на зарю гусей с молодыми выводками, во всем подражавшими своим старшим сородичам по стаду.
И тесный мир, состоявший из обветшалых изб, нанизанных по-над пыльной улочкой лицом на погост, лепившийся черными подгнившими крестами и оградами на склоне краснозема с редкими на нем курчавившимися деревцами рябины, на мгновение затаил дыхание, но не пожелал откликнуться Прошке, в умильной радости ждавшему прощания с близкими.
Лишь в одной избе Прошкиного свояка, Глеба Кирьяновича, бородатого бухгалтера с крупными безумными глазами на тяжелом лице былинного мужика, не раз воевавшего в ратном бою правду с в о м у государю с различными ворогами, отозвались бранью.
— У-уу, Иуда — тварь библейская! Опять мне субботу подгадил! — матерился Глеб Кирьянович, возненавидевший в эту минуту Прошку, и, сжимая до хруста пальцы в кулак, облегчил легким смачным присловьем, пропитанным эротической слюною озверевшего от похоти самца.
Будь на то его воля, Глеб Кирьянович, не задумываясь ни на минуту, задал бы сейчас жестокую трепку свояку за истошный крик, вырвавший жену из-под мужней ласки.
— Межеумок несчастный, еще и вопит поросенком! Ишь ты, снова в Дурынду приспичило! — со скрежетом крошил собственные зубы рассерженный не на шутку самец, возводя ДУРЫНДУ как бы в столичный град всех Прошек, мающихся на белом свете.
Между тем успевшая вовремя выскользнуть из объятий мужа Ксюша накинула на плечи халат и в страхе подалась к сеням.
Изба Глеба Кирьяновича стояла на излучине улочки по-над начинающимся оврагом и левым оком резного крыльца глядела на Прошкину, третью в ряду семнадцати дворов.
— Ксюшка, поди-ка на минутку! — не переставал призывать к супружескому долгу Глеб Кирьянович, чередуя ругательство в адрес Прошки с обращением к жене, улавливая краем уха ее крайнее раздражение в словах «ой, господи боже ты мой!».
Стоя на крыльце с ощущением тревоги и страха, Ксюша внимала Прошкиному отчаянию, нервным движением руки поправляя растрепанные волосы.
А голос Прошки, чуть просевший на свежем воздухе, то и дело напряженно взлетал, и падал, как ртутный столбик, родившись в голосовых щелях, и зависал над деревней, желая во что бы то ни стало докричаться до ближних.
Но деревня, с годами привыкнувшая к Прошкиному отчаянию, смутно улыбалась в предвкушении субботнего развлечения.
Вот и Глеб Кирьянович, не вылежавший женского сострадания, нехотя присоединился к Ксюше и, почесывая лохматую грудь в желтых веснушках, обиженно распустил тяжело вылепленные губы.
— Опять, подлец, подойник корежит! — ругался он, жалея подойник, а вместе с ним умершую в плоти страсть. — Когда же наконец образумлится!
Но Прошка, живя законами наития, упорно не желал, как того хотели все, образумливаться. Он жил ожиданием чего-то нового, не ведомого никому. А потому с редким упорством добивался своего.
Теперь, с раздражением слушая Прошкин гугнивый голос с застаревшей к Ксюше ревностью, целых два года еще до замужества прогулявшей с этим юродивым, Глеб Кирьянович смерти ему не желал: пусть его живет-мается! Всех на белом свете все одно не пережалеешь-переплачешь! Жаль только, что людей изводит, скоморох, да подойнику покоя не дает.
— Шел бы ты, что ли, а? — выстрадав в себе тревогу, просительно выдохнула Ксюша, мучая красивый овал лица сочувствием к Прошке. — Удавится ведь…
Глеб Кирьянович, с раздражением поглядывавший на Прошкин сарай, особняком стоявший в правом углу двора, нервно позевал на стороны и, бухнув лбом в дверь, вошел в избу и оттуда, из глубины сеней, сердито бросил:
— Не удавится — кишка тонка!
Крайне раздраженный оборотом дела, наметившегося с самого утра, Глеб Кирьянович сумрачно вышагивал по избе, бормоча бессвязные слова.
Сегодня, когда он решил после трудовой недели по-настоящему насладиться законным выходным, чтобы хоть день-другой пожить вне профессиональных забот; все равно рви пуп или отлеживай бока — производство, в котором он тянул лямку, непосильную даже самому изворотливому бухгалтеру в мире, не могло поменять своего уродливого лица, поскольку он, как бухгалтер, занимался перекладыванием счетов из кармана в карман, ухитряясь при этом получить показатель якобы в сторону неуклонного роста… Подобного рода очковтирательством, увеличивающим объем бухгалтерских работ, Глеб Кирьянович был сыт по горло. Сегодня, в эту долгожданную субботу, ему хотелось тишины в семейном кругу. И вот тебе на, получай!
И Глеб Кирьянович, всей своей грузной комплекцией придавливая старые пружины дивана, жалобно и просительно застонавшие, принял горизонтальное положение, ясно сознавая, что, коли уж Прошка взялся за «дело», ему спокойно не отлежаться. Лежи и жди, когда забухают кулаком в дверь сонные мужики и скажут: «Глеб Кирьянович, бяда! А, Глеб Кирьянович, вставай! Бяда! Опять Прошка того, отправлятца на престол божий, блины со сметаной и медом есть…»
— Фу-ты, бестия! — вслух выругался Глеб Кирьянович, не без улыбки представив на миг, как за одним столом Иисус и Прошка искусно заправляют блинами на зависть всем смертным на земле. От такой дикой мысли, вдруг родившейся в голове, Глеб Кирьянович принял вертикальное положение и с возмущением сжал кулак против того, кто не заслуживал таких почестей. — Нет, это тебе даром не пройдет! — погрозил он разом двум мужчинам, едающим горячие блины со сметаной и медом: Прошке за нахальство, а Иисусу за несправедливость. — Это вам не суциализм, чтобы дармоедов поощрять!
Бедный Глеб Кирьянович от привкуса далеких блинов и от социальной такой несправедливости стал грубо ошибаться в слове, уравнивая по бухгалтерской уравниловке Прошку с Иисусом. Но вскоре, поняв причины всей грубой ошибки, наказал себя смачным шлепком по сократовски бугристому лбу.
— Занесло же тебя, Глеб Кирьянович! Ох и занесло! — И он свободно вздохнул от понимания бреда относительно царствия небесного и прочего.
Он был готов поразмышлять еще относительно возможности счастья отдельным личностям без всеобщего явления такового, но вошла печальная Ксюша и скорбным шепотом сообщила:
— Кажется, Прошка… Смотри, как бы беды не было…
Однако Глеб Кирьянович, занятый философскими размышлениями, а точнее, философской категорией счастья, пребывал в ином измерении, осененный великой догадкой существующего закона о невозможности отдельного счастья без всеобщей гармонии такого вообще и в частности.
— Глеб, — продолжала между тем шептать Ксюша, — как бы беды не было…
— А-аа… ничего! Подойник новый, сам держал в руке! — сказал Глеб Кирьянович, приводя философскую категорию в надлежащую форму, повлиявшую на самосознание истинного содержания.
— Глеб, — не отступалась Ксюша, все громче и громче возвышая голос, таивший в себе скорбное предчувствие. — Анюты, видать, дома нет… Как бы беды не было…
Такая навязчивость жены заметно подавила радость Глеба Кирьяновича, занятого умствованием во благо себе и другим: он сурово нахмурил брови и, выпучив безумные глаза, отрывисто выкрикнул:
— Не по́йду!
По тому, как Глеб Кирьянович сделал непривычное ударение на слове и отрывисто выкрикнул, было очевидно, что он действительно не «пойдет».
— Лучше бы за девкой своей глядела, чем на даровые блины-то рот разевать! — смягчая свой отказ, а с ним и неприязнь к Прошке, добавил Глеб Кирьянович с притворной озабоченностью. — А то, глядишь, кудиновские парни на Старой балке девке вот-вот груди оттаскают…
— Ой, господи боже ты мой! — с болью выдохнула Ксюша, подавленная непомерной тяжестью, навалившейся разом. — Что ты говоришь, Глеб?! Татьяна-то еще совсем ребенок! — Она быстро-быстро, словно от нее сейчас и зависело, как скоро отвратить нависшую над племянницей беду, трижды перекрестилась и вышла на крыльцо, блукая глазами на той стороне, где в мрачном молчании серел Прошкин сарай под новым шифером, вызывая холодящую сердце тоску.
…Ксюша в молодости любила Прошку. Любила всей болью молодого сердца. Но Прошка женился не на Ксюше, а на ее младшей сестре Ане, тихой и молчаливой девушке, извинившись за зряшные поцелуи над ночным прудом.
— Девка ты ладная, — сказал тогда с грустью Прошка идущей рядом Ксюше, растягивая мехи и роняя страдальчески-мечтательные звуки в гулкую горсть ночи. — Здоровая… вот и выходит, что не жить нам вместе, так как ты поболе меня и телом, и светом духа. Стало быть, я напротив тебя всего лишь легкокрылая козявка.
Прошка говорил ей еще какие-то грустно-смешные вещи, искренне страдая от предполагаемого расставания, и все ждал, когда Ксюша заплачет, бросится ему на грудь и застонет, как умирающая, моля пощадить молодую жизнь: «Не убивай меня, милый! Жить без тебя нету сил…» И, грохнувшись на колени, обнимет ноги.
Но напрасно! Ничего подобного не случилось.
До крови закусив губу, Ксюша чуть вырвалась вперед и, сдавливая рыдание в горле безжалостной рукой, закачалась по тропе, ощущая себя былинкой.
А Прошка между тем, заканчивая свою ночную прогулку по лунной дорожке, бежавшей по берегу пруда, с сердечным признанием продолжал:
— Я, может быть, потом всю жизнь страдать буду, потому как люблю тебя поболе своего живота.
И лунная дорожка прервалась у тихой деревенской улочки напротив чередуринской избы, и дальше Прошка и Ксюша остаток пути прошли розно, покуда оба не причалили к своим берегам: Ксюша к глебовскому двору, а Прошка — к Анниному подолу. И с того памятного расставания годы стали вдвойне длиннее, а ночи во много раз скупее: в Ане предполагаемой дерзости в любви не оказалось, а в Глебе — той притягательной силы, что водила Ксюшу, не чуя собственного дыхания. И загрустили они, оказавшись в случайных объяснениях. И может быть, совсем бы завяли. Но тут пошли дети: Аня родила Прошке дочь, а Ксюша — Глебу Кирьяновичу двойню: мальчика и девочку.
Дивился Прошка, глядя на девочку с голубыми глазами и сдобными щеками, продавленными с двух сторон насмешливыми ямочками, чтобы по зрелости лет утягивать мужское вожделение, и с гиканьем подбрасывал ее к небу.
— Чудно-то как, Аня! — хмыкал счастливый Прошка и грел свою плоть теплом сердца.
А годы шли день за днем по вязкой хляби жизни.
Вытянулась и подросла Таня — плоть от плоти — и с каким-то чубатым шофером из соседнего села Кудиново, что по ту сторону толоки, пропадать стала. Выходит, жизнь тропы своей не забывает!
— Созрела девка, — грустно выдохнул Прошка, глядя в окно, как, весело перебирая ладными ногами, зашлепала Таня в резиновых сапожках по уже обозначившейся проталинке мимо пруда, а затем и церкви к своему чубатому шоферу, расплескивавшему непрерывным сигналом яркие всполохи закатного вечера, запахшего первозданностью домашнего покоя.
Представив кудиновского упрямца олицетворением грубой силы лесовоза, все еще лившего непрерывный поток сигнала, Прошка вышел из избы и спустился со двора к пруду, однако дальше не пошел.
Плашмя лежавший перед ним пруд, подернутый холмистым синевато-белым ледком, уже изрядно истончавшим за время дневных ростепелей, казался настолько крохотным из-за присыпанных берегов, что, как в детские годы, Прошке захотелось его переплюнуть, но, устыдившись желания, лишь поддел кусочек льда носком сапога и отправил его по холмистому насту.
Осколок, очертив свой путь по замерзшему пруду, выскочил на противоположный берег и ткнулся в вербу, стоявшую чуть наклонно, вскинув розовые хлысты с усыпанными сероватыми пушками котят к небу.
Прошка приблизился к старой вербе, напоминавшей своей раскоряченностью старуху, спустившуюся к пруду, и, поймав один из хлыстов, пригнул вниз ладонью.
Пушистые почки доверчиво и ласково льнули к теплой ладони Прошки, вызывая трепетное волнение от соприкосновения с другой жизнью.
— Давай, давай погрейся! — сказал Прошка вслух, словно доверчиво глядевшие на него почки могли понять, о чем говорит он.
Когда внезапно Илькино утонуло в мареве позднего вечера, светясь голубым свечением телеэкранов, бесстыдных разобщителей людей, а по-над прудом зашелестела северная подвывающая поземка, пронимая тоской и одиночеством Прошку, что-то зловеще гукнуло за церковью и птицей пронеслось стороной.
Прошка вздрогнул от неожиданности и, вслушиваясь во вновь наступившую тишину, стал двигаться вокруг ночного пруда, хрусткого по краям, выплевывая солоноватые слова, тронутые догадкою души, пока не осенилась эта догадка светом рассудка, подсказавшего, что за обычными словами кроется нечто большее, чем слова. Удивленный этим ощущением, Прошка стал заучивать все слова в том порядке, в каком они складывались в комбинацию. А когда они заучились, он сложил их в голове, понимая, что ему не списать в тетрадь без помощи Глеба Кирьяновича из-за отсутствия должной грамоты. И Прошка, мучимый любопытством, положил в ближайшее время навестить свояка и за бутылкой водки попросить его с пониманием дела оживить слова движением чернил.
То, с чем шел Прошка — и горькая, и устное творчество, — были, помимо всего, и хорошим поводом, как ему казалось, для душевной беседы с Ксюшей, которая снилась ночами в той близости, на какую не отважился двадцать лет назад.
Поднявшись на крыльцо, Прошка с определенным умыслом стал долго счищать с сапогов налипшую в пути грязь. Однако умысла его не поняли. Никто не вышел. А потому был понужден войти в сени, где смачно тянуло солеными грибами. Прошка даже по запаху определил, что так должны пахнуть только грузди, да еще приправленные Ксюшей.
Постояв в сенях еще с минуту, Прошка потянул тяжелую дверь и вошел.
Глеб Кирьянович сидел на диване и своими безумными глазами через толстые линзы очков вчитывался в кипу бумаг с производственными цифрами, холодными и неприступными, как чужие деньги.
Перед ним светился телевизор, тоже выявляя холодные цифры достижений в области тяжелой индустрии.
Прошка счастливо захуркал горлом, возясь с тесной малицей, из кармана которой обещающе выпирала зеленая бутылка, явленная служить мостом общения отъединенных малым пространством и новым отсчетом времени душ…
— А-аа, Прошка! Проходи, проходи! — предупредительно сказал Глеб Кирьянович, швырком отправил стопку бумаг в другой конец дивана и встал навстречу гостю. — Давненько тебя…
Тем временем Прошка выпростался из малицы, пропахшей своей и чужой жизнью, и пожал руку свояку. Потом прошел на середину избы, где стоял дощатый стол, и поставил водку, смаргивая на нее тихую радость гостя, пришедшего к близким потолковать о житье-бытье.
Глеб Кирьянович, улыбаясь одними глазами, расспрашивал Прошку о том, о сем и сам, в свою очередь, отвечал на подобные вопросы.
— Живем, — заключил наконец хозяин, — небо чадим.
Довольный завязавшимся теплым разговором, Прошка облегченно вздохнул и стал оглядываться по сторонам: нет ли поблизости Ксюши? Но Ксюши в избе не было. А если и была, то не очень-то рвалась прислуживать разом мужу и Прошке.
Прошка слегка даже обиделся на Ксюшу за отсутствие — так уж хотелось к ней притулиться глазами. Но, рассудив, тут же обрадовался. Списывать при ней в тетрадь принесенные в голове слова — боже упаси! — не хотелось. Ну и ладно! Ну и хорошо!
— Как Ксения с Володей? — вдруг спохватился Прошка, хотя, по правде говоря, не интересовался ими, веря в неуклонную справедливость столицы, призванную являть пример крепкого ума и доброго сердца.
Глеб Кирьянович, ловя со слов Прошки дорогие имена, вновь в сладчайшей улыбке сломал губы счастливого родителя, у которого сразу двое детей обучаются в столице; коротко, с чувством достоинства, сообщил:
— Постигают мудрость большого города!
Исчерпав таким образом интересы родственного отношения, свояки, потирая руки, незаметно для самих себя пододвинулись ближе к столу, на середине которого хрупким памятником братанию и благодушию стояла зеленая бутылка в желтом анодированном кокошнике.
Вскоре в виде дани памятнику были возложены две миски: одна с солеными груздями, другая с квашеной капустой. И гостеприимный хозяин, нахваливая столицу за несусветные для деревни гостинцы, резал тонкими ломтиками копченую колбасу и сало по-венгерски.
— Знатная штука, — пояснил Глеб Кирьянович, раскладывая круто приперченные красным перцем ломтики сала. — У столицы, брат, губа не дура!..
Прошка, счастливо слушая свояка, часто и протяжно хуркал горлом, едва сдерживая умиление от той простоты человеческой, от всего того, что веяло от Глеба Кирьяновича.
А Глеб Кирьянович продолжал:
— А знаешь, брат, какие в Москве гастрономы! — Он широко разводил руками, концы которых, судя по размаху, так и должны были упереться к двум концам улочки в семнадцать дворов. — Поболее вашей фермы… И чего только там нет! Нашему брату достаточно иметь при себе каравай, чтобы наесться вприкуску с запахом… Не веришь? Вот ей-богу! — и Глеб Кирьянович потянулся щепоткой перекрестить лоб, но в последнюю минуту раздумал.
— Я так мерекаю, — весело и грустно вступил в разговор Прошка, дав исчерпать себя свояку относительно московских гастрономов. — Я так мерекаю, что я сложил здесь, — он постучал костяшкой указательного пальца по лбу. — Что сложил песню про жизнь и про смерть… — Прошка нервно, звякая горлышком бутылки по стаканам, разлил горькую и, не поднимая головы от боязни увидеть в глазах Глеба Кирьяновича насмешку, стал мять в руке анодированный кокошник, сдернутый с «обольстительницы».
Наступило тягостное молчание, сквозь которое Прошка уловил легкое сопение свояка, выражавшего не насмешку, а недоверие собеседнику.
— Ты, Прошка, меня на фуфу не бери! — сказал Глеб Кирьянович и, протяжно отдувшись, вылил весь стакан без остатка в рот. Потом потянулся к грибам и закатил глаза, в упоении соединяя выпитое с закуской.
Прошка тоже поднял стакан, отпил из него половину и вновь поставил на стол, подбираясь к Глебу Кирьяновичу со своими откровениями.
— Вот, значит, пришел тебя просить, чтобы ты помог мне с этим разобраться…
— Знаю, — тут же прервал его Глеб Кирьянович и потянулся к бутылке. — Я все заранее знаю, брат…
— Нет! Нет! — возразил ему Прошка.
Глеб Кирьянович прихлопнул ладонью стакан и поднял удивленные глаза на Прошку.
— Намедни ходил, ходил возле нашего пруда и вот сложил. Чудно-то как все получилось… Ты, Глеб, грамотный и должон мне помочь… — Прошка говорил, против своей воли коверкая слова, и, понимая это, липко потел под рубашкой, ощущая свою убогость в ней.
— Говоришь, песню?
— Так я мерекаю! — с надеждой и отчаянием тут же отозвался Прошка, не спуская взгляда с бородатого лица Глеба Кирьяновича с поднятой на ресницах печалью.
Глеб Кирьянович, не меняя выражение лица, убрал со стакана ладонь и раздумчиво поднес е г о ко рту. А когда выпил содержимое в нем, весело крякнул, играя белками глаз:
— Будешь читать или петь?
Прошка, не ждавший такого вопроса, по-детски застенчиво растерялся, но через минуту, сморгнув свою растерянность по-телячьи невинными ресницами, глухо ответил:
— Читать!
— Валяй! — сказал Глеб Кирьянович и уставился на Прошку вконец обезумевшими глазами.
Прошка потупил смущенный взгляд, несколько раз с дрожью откашлялся и разом оробевшим голосом стал невнятно читать про то, что течет светлая речка и что на той стороне этой светлой речки притулился погост, который время от времени переманивает жителей Илькина к себе на веки вечные, оставляя в память над ними тщетно раскинутые руки дубовых крестов выражением беспредельной любви к этому нашему горемычному свету.
Углубляясь всем своим потрясенным существом в «песню», Прошка капал слезами, ясно представляя собственные похороны: идут и идут скорбные илькинцы, насупленно-хмурые от очередной утраты, и комкают в руках шапки.
Дойдя до самого главного обобщения «песни», Прошка прикрылся руками и осипше-протяжно прошептал:
— «Не кричи, кукушка, каждый в мире гость…»
Глеб Кирьянович, жестко щуривший глаза, хищно притаившиеся жестокосердными пауками в сложных завитках бороды и кустистых бровях, то и дело убийственно хмыкал при каждой цезуре, вызванной недочетами гласных в отдельных строках «песни». А когда же Прошка поставил точку, завершившую душевную муку, в надежде вскоре увидеть свое бесконечное страдание списанным грамотной рукой с помощью чернильной вязи на листе тетради, Глеб Кирьянович отчетливо осознал, что к сочувствию он не способен, хотя не оставила его «песня» равнодушным. А признаться не хотел, ибо это признание унизило бы его в собственных глазах. А потому Глеб Кирьянович, ведомый скрытым чувством, приближал развязку.
Он перестал хмыкать, вглядываясь в Прошку, а когда тот согнулся под его взглядом, трепеща, как пойманное пауком насекомое, хладнокровно ударил:
— Наврал ты все, Прошка! Где ты взял речку? Нет ведь никакой речки! Пруд у нас, Прошка, и то сказать, испоганенный гусями да вшивцами всякими. — Глеб Кирьянович перевел дыхание и снисходительно к Прошкиной фантазии улыбнулся: — Да и моста никакого нет! Вот какое дело-то!..
Прошка все ниже и ниже гнулся под неопровержимыми фактами свояка, вминая в кармане тетрадь, специально принесенную для списывания в нее «песни». Ну что ж, спасибочки, удружил прямо-таки по-русски! Ты ему душу, он тебе — плевок! Но ничего. Поплевались, и хватит! Все это дерьмо! И песня тоже — дерьмо! И хлеб, что едим! Скучно-то как, Прохор Матвеич!.. Скучно!..
— Спасибочки, Глеб Кирьянович! — чуть насмешливо, но твердо произнес Прошка и, чтобы не затягивать разговора, поднялся. — Прощевай! Мне-то иттить в аккурат!
Забегали хищные пауки Глеба Кирьяновича, но Прошка уже бухнул в сенях сапогами и засеменил на улицу, неся в руке замурзанную малицу, оставленную заезжим охотником ему еще в прошлом веке.
Поравнявшись с Матрениной избой, делившей улочку на равные части, Прошка оглянулся назад и, к своему удивлению, увидел Ксюшу.
Она стояла на крыльце и глядела ему вслед.
Спасибочки, любезная Ксения Никаноровна! Угостились всласть и хлебом, и солью! Таперича не взыщите, иттить надобно! Недосуг засиживаться в гостях!..
Вот и сейчас Ксюша вышла на то же крыльцо и смотрела вослед развернувшейся улочке, по которой тогда семенил Прошка.
Рядом с ней лениво позевывал Глеб Кирьянович, вглядываясь из-под широченной ладони в розовые облака, охватившие восточную часть неба.
Солнца хоть и не было видно, но его струистое тепло, поднимая со дна поросшего лопухами оврага белесую испарину, текло низовьем к горизонту, отвесно дыбившемуся зеленой массой хвойного леса, тоже охваченного крутившимся сизым дымком.
Деревня будто вымерла: окна настежь — на запад и на юг, — и ни звука, лишь легкое дуновение июльского теплого ветерка.
— Вишь, — сказал Глеб Кирьянович, подавляя зевок. — Отучили! Давно бы так! А то все бегом да бегом ублажать дурь…
Ксюша, обиженно поджав губы, молчала, выслушивая мужа с т р е в о г о й в сердце. Ой, господи боже ты мой! Скорее дети бы приехали! Как они там? Не развратила бы их Москва! Ведь Матренина-то внучка Стеша застряла в ней, навестить старушку не хочет, говорит, у вас «удобствий» нет… Значит, вода горячая, отопление и мужики чистые… они про ватник и не слыхали… Что с Прошкой-то? Опять, видать, пообиделся и теперь над жизнью своей куражится… Ой, господи боже ты мой!
— Ксюша, — снова заговорил Глеб Кирьянович, отвлекая жену от занимавших ее мыслей. — Как думаешь, Володька-то наш возвернется назад али, как Матренина Стеша, «удобствия» затребует?..
— А почему бы и не затребовать? — мстительно отозвалась Ксюша, продолжая глядеть на дорогу в ожидании беды. — «Удобствия» — это же для их поколения нормально…
Глеб Кирьянович, не готовый к такому жестокому умозрению жены, вспылил:
— Ты что это говоришь? А кто тогда, по-твоему, в деревне жить-то будет, ежели все деревенские по городам переведутся?..
— А на кой она, деревня-то, коли люди в ней жить розно, как в городе, стали? — отрезала Ксюша, имея в виду не все деревни вообще, а конкретную, Илькино, и — Прошку, вдруг так скоро притихшего в это утро, лишая деревню необычного зрелища, свидетелем которого она становилась три-четыре раза в году.
В свой первый раз, пять лет тому назад, Прошка огласил свою смертную тайну в такое же утро, словно желая проверить человека на бдительность к ближнему.
Тогда эти слова прозвучали как вызов свету за давнюю и теперешнюю обиду… И Прошка, как сын христианского мира, конечно, не мог пренебрегать его правилами… то есть, не простившись с близкими, пользоваться льготным билетом на престол небесный, куда он должен был войти ЯКО СЫН БОЖИЙ…
Тогда его путь застил Глеб Кирьянович, снявший с петли на виду у всей деревни, узревший в Прошкиных действиях незаслуженные притязания на блины со сметаной и медом.
— Как это дык, едрена курица! — бормотали некоторые мужики, ища уязвимые места в Прошкиной концепции о переселении с временных просторов в бессмертные плоскости некоего пространства со знаком вечности. — Кто же тогда, — недоумевали они, — работать в колхозах будет, ежели крестьяне станут переселяться поближе к местам… — И весело щерились, не зная, как именовать те места, на которые еще не дерзнула ступить человеческая стопа, тем паче илькинских мужиков.
А дело было так.
Пять лет тому назад, в теплую субботу мая, Прошка извлек из чулана гармонь, пылившуюся там два десятилетия, и стал терпеливо вспоминать давно позабытые мелодии, отравляя свою и чужую кровь памятью тех далеких дней, когда костром согревала гармонь и в лютые морозы деревенские просторы, сбивая людей в купницу делать радость…
Посвятив день восстановлению навыков гармониста, к вечеру, как бывало в молодые годы, Прошка спустился к пруду и растянул мехи, наигрывая вальсы и тягуче-задушевные страдания.
Так ходил-бродил с гармонью на пупе, но никто не вышел к Прошке, как в былые времена. Ясное дело, время другое. Стало быть, для Прошки — чужое.
Опустился Прошка на корягу сушняка, спустил с плеч ремешки и поставил гармонь рядом. Гармонь вздохнула грустно-грустно и примолкла у ног верной псиной, а Прошка извлек из кармана бутылку и приложился. Однако горькая радости не подарила. Эх, скука-то — скука смертная! Сучи ногами и хлопай ушами! Не выходишь счастья, не выслышишь и радости в ненастье!..
Прошка отшвырнул бутылку и, поднявшись с коряги, поплелся к дому, в окне которого мерцал голубым свечением телеэкран.
Жена, сидя у телевизора, клевала носом.
Прошка опустился рядом с ней на табурет и уставился на экран, с которого то и дело вещали о бесконечных достижениях, никак не сказавшихся на Прошкиной жизни.
Сперва упитанный мужчина с подбородком выкормленного хряка — по фамилии Капустин и с головой, похожей на лохматый кочан капусты — говорил о международном положении, выявляя у всех западных политиков узость мышления неопровержимыми доводами, пользуясь трудновыговариваемыми терминами…
Говоривший так страстно жестикулировал руками, так устрашающе играл белками чуть-чуть выпуклых глаз, что Прошка усомнился в его искренности. От сытости вся эта энергия, подумал он, и вздохнул:
— Ах, скучно-то как! — И думая сейчас о дочери, ушедшей на гулянье, переключил телевизор на другую программу. Но и по этой ничего веселого Прошка не услышал, и здесь говорили о великих достижениях, которые в основном, как он понял, выражались сытостью вещателя, пускавшего радужные пузыри. — Эх, пожил бы ты здесь с мое, тогда бы я посмотрел! — вдруг с грустью проговорил Прошка. И в это время, как бы споря с ним, с экрана потекли моря надоев и горы мяса, вырубленные с листа бумаги, заменившей собой и первое и второе. Прошка выключил «брехаловку», так он называл голубой экран, и пошел спать, сердясь на программы за скучное вранье. — Уходят люди от людей! За цифрами прячутся. А на кой они мне, эти трупы, рядами выстроенные на листах все терпящей бумаги? — шептал он сердито, шлепая в носках к кровати, чтобы заспать до утра свое плохое настроение.
Улегшись в постель, Прошка стал наблюдать за мерцанием зеленой звезды, светившей в окно сквозь раздвинутые занавески.
Она была оттуда, из детства, и несла ему что-то очень светлое, овеянное домашним покоем и чем-то еще невозвратным и утраченным навсегда.
Прошке захотелось заплакать, как в младенчестве, от щемящего, еще не осознанного чувства тоски и блаженства, но, пересилив желание, уткнулся щекой в подушку.
— Ладно, — прошептал он, обращаясь к звезде просительно и нежно. — Ты шибко-то не гляди на меня… — И, ощущая свое бесконечное сиротство в мире разобщенных атомов, с головой ушел в него.
Но звезда, как молодая мать, неотступно заглядывала ему в глаза и не давала уйти в себя.
Плотно прикрыв ладонью лицо, Прошка тихо утонул в тепле чуткого сна, чувствуя сквозь сон свечение завораживающей звезды с непостижимой высоты красивого неба.
Утром, сам того не помня, Прошка оказался под сосновой балкой в одном исподнем с петлей на шее призывающим в нетерпении близких к христианскому благословению, перед тем как покинуть земную юдоль…
И вот с этих пор несколько раз в году какая-то злая сила Прошку неотступно поднимала на подойник. И он принимался кричать на всю деревню, торопя жену и дочь проститься с собой… Но прежде чем прозвучать Прошкиному голосу по утрам, он, как правило, обязательно накануне спускался с гармонью со двора и, вымучивая по-над прудом какие-то космические звуки, терзал черные мехи.
А илькинцы, прослышав его гармонь, с затаенной дрожью в голосе, пророчествовали:
— Как пить дать, завтра поднимется на подойник…
И действительно, вчерашняя гармонь не обманывала. Сыграв своеобразную прелюдию накануне, она неизменно вела утром Прошку в сарай, где и разыгрывались трагические сценки на манер греческих трагедий с подключением хора, призванного комментировать необычное действо.
Вздыбленная упорством Прошки деревня утром весело и бодро, как толпа футбольных болельщиков на драматический матч, трусила к сараю в желании узреть то, что волею судьбы нес им Прошка. Но прежде чем ей быть поднятой на ноги, Прошка за полчаса до оглашения смертной тайны, обутый на босу ногу, влетал в одном исподнем в сарай и начинал судорожно, на манер торопящегося на пароход пассажира, подхлестывать себя, шарахаясь из угла в угол в поисках веревки, пока она сама не подворачивалась с рогов буренки, мирно жующей свою бесконечную жвачку у ясельки.
Приняв как божий дар пеньковую веревку, Прошка просовывал ее через сосновую балку и, стоя прямо под ней, выкуривал папиросу, мрачно поглядывал на блестящий никелированный подойник.
Выкурив папиросу до самого горького конца, он ставил одну ногу на подойник, потом другую и начинал:
— Аня! Таня! Идите скорей прощаться!
И деревня, еще вчера предсказавшая прогноз на сегодняшний день, одевшись как попало в домашнее, спешила к своему маленькому «театру», где ей предстояло играть свою роль в массовке. Но прежде чем вступить в черту своих правомочий, ей надлежало проследить за тем, как друг за дружкой вылетают женщины из Прошкиной избы в помятых ночных сарафанах и несутся к сараю, предупредительно приоткрытому для удобства вбегающих… Затем, дав двум этим женщинам смертным воплем огласить окрестность, она вступала во двор, держа взглядом бокового зрения избу Глеба Кирьяновича до тех пор, пока драматургия не достигала трагедийных коллизий. И ангел-хранитель в лице Глеба Кирьяновича, не обманув ожидания деревни, в самый раз поспевал к кульминационному моменту, что позволяло деревне, вступая в свою роль, комментировать событие…
Ну а пока по улочке, сотрясая грузную плоть, спешил Глеб Кирьянович, женщины, свято веря в милость судьбы, причитали, упрекая висельника в жестокости…
— Тятя! Тятя! Что ты наделал, тятя!
Или:
— Как же ты так, Прошка? Нас-то на кого оставляешь? Как жить-то будем?..
И на громкое женское отчаяние, как полагалось ангелу-хранителю, Глеб Кирьянович отвечал тяжелым сопением, расталкивая толпу, и с особой сноровкой снимал Прошку с петли-удавки. А затем, встряхнув его как следует, широко улыбался, качая головой:
— Ты что, сукин кот, «всухую», что ли, решил обтяпать такое дельце…
И тут торжественно зашумевший «хор» обступал свой «театр» с его главными участниками, понимая, что и на сей раз не нарушена привычная канва драматургии, покоящаяся на твердой вере земного притяжения, по мудрой причине которого Прошка оставался в пределах своей деревни с гусиным прудом и белостенной церковью, о чем недвусмысленно подтверждал сам Прошка с трогательным христианским милосердием:
— Поживу еще с вами, что ли…
И Прошка жил до следующего раза. А деревня, мало-помалу уверовав в некую мудрость постоянства, стала остывать к своему «театру», тем паче ничего нового не сулившему, и ударилась в телеэкран с профессиональными актерами, красиво перевиравшими жизнь.
А Прошка, вновь обретший земную устойчивость, исправно ходил на ферму, где работал электриком. И хотя Кудиново лежало неблизко от Прошкиной избы, но жители этой деревни к его приходу на работу во все подробности бывали посвящены. А потому Прошка, чтобы не заговаривать с ними, целыми днями колупался в доильных аппаратах под началом обезумевших без мужней ласки доярок, числившихся на ферме соломенными вдовицами, так как мужья большинства из них были в бегах: кто бродяжил на южных, богатых вином и овощами «зухденских» землях, служа какому-нибудь оборотистому домовладельцу, укрывавшемуся от преследования закона; кто сгинул на широких российских просторах в поисках лучшей доли на свободных хлебах.
Прошка был смекалистый и быстрый на руку работник, также очень внимательный к женским страданиям.
— Ты, Нюрка, не очень-то по Гришке своему… Ляд с ним! — утешал, бывало, он, прижимая к груди очередную соломенную вдовицу. — Не кувякайся, баба! Ничего хорошего от мужиков нет… окромя порчи телесной…
Чего только не говорил Прошка, чтобы утешить. Молол всякий вздор, что в голову придет, и лицо, настрадавшееся долгим ожиданием и одиночеством, помнет этак бережно и нежно, как когда-то Ксюше, и, глядишь, баба отойдет, зальется краснотой по щекам — куда девалось страдальческое выражение…
И той же доверчивой нежностью платили Прошке доярки, оберегая его по-детски легко ранимую душу, тепло заглядывая в глаза.
— Ой, Прошка, усыхать ты чевой-то стал… Не холит тебя баба! Смотри, как бы не заспала тебя во сне…
И Прошка улыбался, отвечая на шутку шуткой:
— Блоху-то не заспать! Она юркая и жалистая…
Прошка всей семьей работал на ферме: жена дояркой, дочь — телятницей. Все трое по осенне-весенней хляби месили краснозем, обрастая с работы домой и из дома на работу «коростью», не жалуясь и не кляня деревню за это.
И когда случалось всем тем, кто работал рядом с Прошкой, узнать про его очередные «дела», коротко, ограждая его от злых насмешек, цедили сквозь плотно сжатые губы:
— Ой, бабоньки, душа-то евонная скучат. Пожалеть, да как его пожалеш, коли по земле-то не ходит…
Учитывая усердие Прошкиной семьи в работе, завфермой Чулак Николай Феофанович всякий раз ставил вопрос на правление о премировании для излечения Прошкиного «недуга» путевкой на воды. Но тут неожиданно наступала весна или осень со всеми неотложными делами, возникавшими на ферме, и оттягивали разговор о путевке, а порой и вовсе забывали. А Прошка не высовывался настолько вперед, чтобы его заметили. Но однажды Чулак Николай Феофанович подошел к Прошке, положа на плечо ему руку, с озабоченной улыбкой вручил на миргородские воды путевку, считай, задаром, и напутствовал:
— Ты смотри там, Прошка!.. Главное, попей водички и погрейся!
Здесь уже давно мели сыпучие метели и потрескивали морозы, и благодарный Прошка пустился с большой охотой в свое первое в жизни путешествие, чтобы испить вкусную водичку с теплом чужого края.
Ехал Прошка через Москву в далекий Миргород.
Ровно через сутки и пятнадцать часов, под самое утро, он приехал в Москву и жутко ее испугался: скопище народа по раннему часу; бесприютно поеживаясь, жался: муравейник, и только! Серое бесформенное пятно, ждущее особого сигнала. И то сказать, не успел поезд еще остановиться, как пятно растеклось, разрастаясь в устрашающие размеры, и давай напирать с перрона на вагоны навстречу живому, еще теплому потоку, чтобы растерзать его численностью. А народ-то какой… Идет не оглянется, головы не подымет, прет силою духа и сердито глазами, как исхлестанный конь, ворочает. Тьфу! Срамота двадцатого века!
Нет, не понравилась Прошке Москва! Совсем даже не понравилась, потому как она оказалась не русским городом! Взяли ее, должно быть, чужеземцы с кудлатыми головами, не покрытыми даже в зиму морозную. Что ни спросишь у русского, так набычится, словно ты объедать приехал, и хмуро исподлобья рявкает: «Не знаю!» А ежели и скажет, так в другую сторону пошлет, потому как головы не подымает. А вот, к примеру, остановишь какого-нибудь — их там тьма-тьмущая — кудлатого со смуглыми щеками, так тот еще и приятно улыбнется и, называя почему-то тебя Васей, скажет: «Ты не спрашивай их, Вася, они Москвы не знают. Вот садись на метро и прямо, без всяких пересадок, дуй на Киевский!»
Под вечер Прошка кое-как добрался до Киевского вокзала крепко сердитый на русских за то, что они бесшумно сдали Москву. Споили, видать, русских и тепленькими взяли сонных под забором. Господи, что творится на белом свете! Бей в свои колокола! Али языки у них повыдирали вороги черные!..
С плохим осадком на душе Прошка поднялся в свой вагон и под угрюмый перестук колес покатил в Миргород.
Попив в Миргороде, что при реке Хорол, энное количество водички и откушав энное количество калорий, обусловленные самой путевкой, чужого вкусного тепла, перемешанного с лукавым юмором, Прошка вернулся домой, но ничего про воду и тепло не рассказывал. Зато привез зажигательную и бурлящую страстями песню, а с ней и образ жгучей полтавянки.
В первую же ночь по возвращении домой, храня верность и полтавянке, и песне, Прошка в супружеской постели не тронул жену.
— Ты уж прости меня, — сказал он с непреклонной гордостью и отвернулся от жены, дабы не видеть заплаканные глаза женщины, которая верой и правдой прошагала с ним двадцать лет. — Как только получу письмо, я уеду от вас…
Жена плакала всю ночь за спиной мужа, но словом не обмолвилась. Знала, что нелюбима. Женился-то Прошка на ней супротив своего желания, мстя ее сестре Ксюше за гордость того прощального вечера…
Утром, когда Прошка начал скоблиться ржавым-прержавым лезвием ленинградского производства «Нева», жена сразу поняла, что на сей раз Прошка не развлекает себя выдумкой, а хранит свою верность вполне конкретной особе. В пользу этой догадки говорило и карманное зеркальце, на обороте которого была приклеена фотография юной полтавянки с томными глазами игривой кошечки.
Вглядевшись через плечо мужа в свою ненавистную соперницу, Прошкина жена страдальчески скривилась, обмирая от жгучего сознания, что перед такой «кошечкой» не устоять не только ее слабовольному мужу, но даже и Глебу Кирьяновичу, пользовавшемуся в подобных делах грузной устойчивостью к суетному соблазну мира, заканчивающемуся тяжким грехопадением.
Прошка между тем соскабливал с лица желто-белую мураву, время от времени вертя зеркальцем и напевая с каким-то душераздирающим лукавством зажигательную песню, способную поднять из гроба и мертвеца столетней давности: «Ты ж мене пидманула, пидманула-пидвела…»
Почувствовав себя несчастно-одинокой и жестоко обманутой, Прошкина жена вылетела из избы с громкими рыданиями, стыдясь своей поношенности перед той, которая теперь разлучала ее с Прошкой, и скрылась в сарае.
— Зачем ей, такой молоденькой, мой Прошка? Замучает ведь его… — плакалась она судьбе, оглаживая буренку и поминая при этом недобрым словом профсоюз, с чьей легкой руки, можно сказать, овдовела в одночасье.
— Вот вам и курорты! — судачили на ферме доярки, прознавшие семейную трагедию, рожденную курортным блудом. — Отпускай после этого мужиков на отдых! Знамо дело, как они там отдыхают…
Однако Прошка был неумолимо тверд в решении. Любовь — не такой уж товар, чтобы легко поступиться ею… И он в соответствии с принятым решением перешел жить в темную комнату, поставив в ней раскладушку в ожидании письма из Полтавы. А пока на том конце земли, далее которой, по представлению Прошки, была пустота, писалось столь желанное письмо, Прошка делал привычные дела: ходил на работу, с работы на пруд. И лишь поздно — к себе на раскладушку. Бывало, иногда в неизъяснимой грусти забредет на погост, где рядом с дубовыми крестами, давно подгнившими, стояли кусты чертополоха. И глядит на продолговатые коробочки, защищенные мелкими иглами. А синие глаза цветка, тронутые светом тихого удивления и торжества, глядели Ксюшиными глазами влюбленно и гордо оттуда, из того прошлого, может быть, из небыли…
Бродя теперь между могилами тех, чьими руками ставились илькинские избы, возможно, и сама церковь, такая белолицая и волнующая, Прошка печально задумывался. На дне этого суглинистого погоста лежали и останки его родителей. Сейчас об их существовании напоминали холмики да кусты чертополоха, поднявшиеся торжествующей дерзостью забвения.
Однажды, возвращаясь после очередной прогулки с погоста домой, Прошка наткнулся на вечерней тропе на Ксюшу и онемел от неожиданности. Шла она ему навстречу, но, приблизившись, отпрянула в сторону.
У Прошки часто-часто забилось сердце, но он не сделал никакой попытки догнать ее… Почувствовав это, Ксюша сама вышла из своего бегства к нему, ища в бессвязных словах оправдания своему поступку.
— Хотела к Чередуриным, да вот занесло на тропу…
Вечер был лунный. Лунная завораживающая тропа из далекого далека текла горькой болью в жилах.
Прошка прямо взглянул на Ксюшу, но не увидел ничего от прежней и потупился, переминаясь с ноги на ногу, не зная, о чем говорить.
Но тут Ксюша разорвала наметившееся молчание неожиданным вопросом:
— Правда, что вы с Анюткой разводитесь?
Прошка поднял лицо и невидяще уставился в какую-то даль мимо Ксюши, чувствуя, как таинственно и легко переливается по всему организму лунное сияние и подбирается своим теплом к памяти.
Он потянулся к Ксюше детскими ладонями, дотронулся до ее лица и тут же, почувствовав какое-то нестерпимое жжение, отдернул.
— Значит, покидаешь нас вовсе? — снова с трудом заговорила Ксюша, печальная и покорно-тихая.
— Покидам! — сказал Прошка мстительно, с умыслом коверкая свою речь под крестьян, которые, когда-то приехав сюда из другой области, обосновались на этой стороне со своими твердыми и укороченными окончаниями в словах. — Покидам, Ксюша!
Ксюша вновь, как много лет тому назад, вырвалась вперед и, крепко закусив губу, растаяла возле чередуринской избы.
Остаток пути, как и тогда, они прошли розно, уходя в свои повседневные заботы.
День за днем прожигал Прошка в ожидании письма, всякий раз встречая Филю, слабоумного почтальона, с одними и теми же напоминаниями никому не вручать адресованного ему послания. Но ожидаемое письмо, как назло, запаздывало, рождая ухмылку соседей, горевших желанием прикоснуться к чужой любовной тайне… Однако, несмотря на то, что сменялись времена года, завеса над тайной оставалась задернутой.
— Врет! — сказал кто-то, когда внезапно нагрянула присушливая любовью весна.
И слухи эти поползли, не пощадив и Прошкину дочь Таню.
И она по рани весеннего дня пристала к отцу поглядеть фото, на что Прошка, после долгого сурового цыканья, ответил согласием.
Он бережно вынул из кармана квадратное зеркальце, на обороте которого была наклеена фотография, и, не давая его в руки дочери, показал, сам вместе с ней любуясь особой, звавшейся Оксаной.
— Тятя, какая красивая!.. — задохнулась дочь от восторга.
— Ладно, будет! — оборвал ее счастливый Прошка и спрятал зеркальце в карман.
На этом закончилось знакомство Тани с Оксаной, двух девушек примерно одного возраста, но так как адрес последней нигде не указывался, писать не только Тане, но и самому Прошке было заказано.
— Наверно, родителей своих боится… — предположила Таня, по-своему утешая заждавшегося послания «тятю».
— Не твово ума дело! — небрежно, с норовом истинного илькинца отрезал Прошка домашним просторечием.
На следующий день сперва ферма, а затем и две деревни — Илькино и Кудиново — получили сведения о том, что будто бы Прошка таки дождался своего письма из Полтавы. И все мужчины двух деревень разом пришли в удивление тому, что Прошка стал предметом обожания молоденькой девушки, когда в нем ничего интересного не просматривалось — сухожилия да кожа…
Однако Прошка был иного мнения на этот счет. Он-то знал, что за сухожилиями да кожей кроется человек. Им-то до конца своей жизни не разглядеть в нем то, что разглядела полтавянка. Эх, люди, люди, что вы знаете друг о друге, окромя того, что разглядели глазами?
Прошка знал себя лучше и вовсе не знал, скажем, что у Глеба Кирьяновича за душой, так как, надо полагать, он состоял из мелких цифирных атомов, расщепленных для балансовых отчетов и других неодушевленных червячков, разъедающих современные личности от науки… И заспешил Прошка в дальние края, наспех бросая в потрепанный чемодан личные вещи под веселый смешок дочери, разглядевшей на обороте зеркальца знакомое лицо шансонетки.
— Ну и артист ты, тятя! Это же вовсе и не полтавянка. Это же — Лариса Мукачина!
Прошка замер над чемоданом, старея на глазах дочери. Рука беспомощно провисла, не зная что делать; выгребать обратно вещи или продолжать начатый сбор в дорогу… Глаза налились детской обидой и уставились в пустоту.
Весть о том, что Прошка выдумал полтавянку и даже саму песню, скоро облетела и ферму, где облегченно вздохнули доярки, нежно коря незадачливого любовника.
— Ну что ты так на себя набрехал, Прошка?..
И Прошка, не любивший грубого слова, отнимавшего у него светлую мечту, вздрогнул. Какое обидное слово! В жизни никогда не брехал. Набрякли и закуржавились глаза.
Быстро побросав инструменты в ящик и задвинув мертвый доильный аппарат, предназначенный для ремонта, под лавку, Прошка короткими рывками покинул ферму и пошел старой балкой, словно кто-то подгонял его тычками в спину.
День стоял ясный и теплый.
Во всей деревне, являя жизнь, бок о бок сидели Матрена Черных и Иван Чередурин, подставив отмирающую плоть щедро струящемуся теплу.
Прошка прошел мимо них к пруду и, опустившись на излюбленную корягу, тихонько заскулил в детском отчаянии.
— Маманя родная! Маманя родная! Что делать, как жить? — И теплые слезы от нахлынувшего воспоминания по матери закапали по щеке.
Но родная маманя давно почила, чтобы утешить сына в эти минуты.
Прошка поднял голову и, не утирая слез, поднялся и пошел по заросшей тропе к церкви, волнующе сверкавшей на фоне голубеющего неба.
Затерявшаяся в высоких лопухах тропа тянулась под кирпичную арку, выложенную из красного кирпича. Хотя ни справа, ни слева она продолжения в виде забора не имела, а потому утратила первоначальное значение, все же даже в таком виде арка была неотъемлемой частью той далекой памяти, когда люди из окрестных деревень, теснясь по праздникам, оставляли здесь нечто такое, что невидимо воплотилось в этой кладке. Тогда и сейчас просветом своего овала арка приближала небольшую площадь, вытертую лаптями, паперть, уже развалившуюся, и конечно же саму церковь.
Постояв с минуту-другую под аркой, Прошка медленно зашагал к церкви, на разъеденном куржачиной куполе которой чернели его обнаженные ребра, венчавшиеся крестом-самолетиком, взмывшим в радостную синеву…
Возившееся в своих гнездах, сооруженных из сухих ветвей, воронье под куполом, заметив приближение Прошки, покинуло чертог, с хриплым карканьем унеслось к погосту и облепило там редкие деревца рябины.
Вход в церковь был заколочен досками еще с времен, когда в ней хранили картофель и фураж, а также корзины-плетенки, ящики со стеклом и иные необходимые колхозу предметы и орудия труда, нуждавшиеся в укрытии от долгой зимней непогоды. Теперь, когда тачая необходимость отпала, кто-то отвалил две доски, образовав довольно удобный лаз, и при желании церковь могла стать доступной не только Прошке с его худосочной комплекцией, но даже и Глебу Кирьяновичу.
Прошка вплотную подошел к лазу и нырнул в него, вдыхая застоявшийся запах известки и пыли, невольно натыкаясь взглядом на картинки.
Картинок было множество, но Прошке понравилась одна, чудом уцелевшая от рук человеческих и постоянных смывов почти в первозданном состоянии. Потом он догадался, что не достала рука человека осквернить лик измученного истязаниями Иисуса, теперь взиравшего на него скорбными глазами. Во взгляде мученика читались и укор, и сострадание человеку, вступившему на путь предательства. И Прошка, соображая все это, сердцем крепко возмутился на все человечество за низость и пал в покаянии на колени.
— Господи! — прошептал он внутри себя и, веря своему жесту, воздел к нему руки. — Господи, спаси человека, понеже не ведает в делах своих, что творит… Останови меч безумца, занесенный над собственной жизнью! — Прошка хотел еще о чем-то просить у всевышнего, но тот, не меняя печального взгляда, осуждающе воззрился на него, словно говоря: распнул меня, человек, а теперь на коленях стоишь перед моим страданием? Унизил плоть мою насмешкою пытки, а теперь поклониться праху пришел, человек, али восставшему духу моему? Иди и ты в страдание и познай себя самого! Собирай подрон с земли оскудевшей и питай свое сердце, чтобы восстать из ничтожества обновленным и чистым яко роса… — Прошка с клокочущим в горле сердцем слушал разгневанный глас божий и плакал от непостижимого горя, углядев на стене сквернословие, уже поблекшее от давности, смыслом и размером своим остававшееся таким, каким нанесли его концом головешки.
Чья-то деревянная рука, собрав в одну срамную комбинацию три огромные буквы над ликами святых, осененных нимбами, теперь уже ставших похожими из-за потускневшей росписи на кокошники, осквернила их.
Над ними, над этими святыми, и разместились три буквы — над каждым по букве, и оттого, что одна из них, заключавшая комбинацию буква оставалась без полумесяца над темечком, слово выражало понятие во множественном числе, то есть каждый из святых был по разу тем, чем все трое вместе…
Такое кощунственное деяние человека окончательно отвратило Прошку от веры в человеческую справедливость, и он, не поднимаясь с колен, с надеждой выстрелил взглядом в купол и узрел чудо: Иисус, пробившись в прореху купола, глядел на Прошку крупными глазами с глубокого неба и, заслонив собою собственное изображение, благовествовал:
— Встань с колен, сын божий, и простись с земной юдолью, ибо ждет тебя царствие небесное!
Хотя всевышний ничего не упоминал о блинах со сметаною и медом, но Прошка понял его приглашение, зажмурился от жуткого счастья и трижды ударил челом. Однако, когда он вновь поднял лицо и открыл глаза, Иисуса в прорехе видно не было, лишь скорбный лик по-прежнему взирал на него с фрески и голосом Глеба Кирьяновича гремел во всю мощь:
— Прошка, бери деревянную ложку и иди блины со сметаною и медом есть!
Оскорбленный таким беспримерным кощунством Глеба Кирьяновича в святилище, Прошка быстро вскочил с колен и, задрав голову, плюнул на фреску, которая продолжала говорить голосом свояка… Но плевок, не долетев до цели, чмокнул Прошку по лбу.
— Паня́л! — тихо прошептал Прошка после некоторого раздумья и вытер со лба собственный плевок рукавом.
А с высоты, из глубины своего проникновения, проведавший еще одну свою тщету, продолжал глядеть Иисус на богохульника, внушая ему — рабу своему — подкожный страх…
Прошка пулей вылетел из церкви и пустился бежать к пруду, где прожорливые гуси, опустив шеи в воду и выставив грязные гузки, искали добычу.
— Фу, твари! — выругался он, глядя на гусей, но имея в виду Глеба Кирьяновича, дерзновенным превращением обманувшего его. — Лезут куда не надо!
Возвратившись как раз к ужину, Прошка, как в добрые времена, сел за стол и выложил руки в ожидании грибного супа, так приятно распустившего особый дух подсушенных опят.
Жена, заметив, что муж перегулял свое плохое настроение, примирительно-нежно «оходила» его взглядом и пошла за «маленькой», а поставив ее, налила полную тарелку супа и придвинула к нему.
— Ешь, Прошка, и не держи на нас зла за нашу бабью дурь!
Прошка раздумчиво поглядел на светленькую, потом, налив ее в стакан, залпом осушил и лишь после этого, утирая губы, взялся за ложку.
— Ладно, — сказал он грудным голосом и, опустив голову над тарелкой, добавил: — Кабы не сучья дурь, где бы взяться кобельей мудрости! То-то, выше головы не прыгнуть!
— Не прыгнуть! — озорно согласилась жена, сердито кося глазами на дочь, которую разбирал смех от разговоров взрослых.
Помолчав некоторое время, они вновь возобновили разговор, в который со своей иронией влезла Прошкина дочь, хохоча одними глазами.
— Тятя, ты чего это никуда не ходишь? — сказала она. — В кудиновском клубе сегодня кино обещали…
Прошка с болью поднял глаза на дочь и, прочитав в ее задоре легкую насмешку, снова уткнулся в тарелку, желая отмолчаться, но не сумев, отрывисто выдохнул:
— А потому не хожу, что брешут в кино…
— Что ты, Прошка! — возразила жена. — В кино все так красиво!
Прошка и сам понимал, что «красиво», но внутренне, не умея возразить, был против этакой красоты…
После недолгого ужина Прошка подался в чулан и вскоре выскочил оттуда с гармонью под мышкой и быстро направился во двор, вызывая у жены бесконечную тревогу ощущением надвигающейся беды, упакованной до поры до времени в черной утробе гармони.
Устроившись на завалинке за избой, Прошка растянул мехи и выдохнул первые неровные звуки, предвещая илькинцам не позднее чем завтра свое очередное действо, продиктованное особым зудом неспокойного существа.
Перескакивая с мелодии на мелодию и переливая их друг в друга, а потом и взбалтывая, как химические вещества в пробирке, Прошка томил уже заулыбавшихся илькинцев догадкою ожидающего их результата от такой игры.
И Глеб Кирьянович, для которого звуки Прошкиной гармони не были особым сигналом, хмурился, выйдя на крыльцо.
— Жди завтра представления! — сказал он вышедшей к нему Ксюше. — Прошка призывает к бдительности… Как это ему удается подгадать на субботу?..
— Будет тебе, Глеб! — тревожилась Ксюша, зная, что в сказанных Глебом Кирьяновичем словах таится тревожная правда. — Может, обойдется… — слабо утешалась она, поглядывая на двор, откуда, тревожа воздух, летели звуки гармони.
— Не обойдется, Ксюша! — твердил Глеб Кирьянович, запуская в бороду пятерню и с удовольствием сочетая страх жены с почесыванием в бороде. — Обязательно всех поднимет…
Под словом «поднимет» Глеб Кирьянович имел в виду — не даст деревне выспаться, а вместе с тем и ему самому.
— Попомни мои слова, — сгущал краски Глеб Кирьянович, зная, что эти страхи несут наказание Ксюше за привязанность к Прошке.
— Ой, господи боже ты мой! Опять ты за старое!..
Между тем вечер стал переходить в ночь и мелодия — в меланхолию, и ознобистый ветерок, пробирая пространство, трепать в низине подол ивняка и разгульно свистеть по оврагу, приплясывая деревенским босяком.
Почуяв приближение чужого времени, Прошка погасил гармонь и, поднявшись в избу, подсел к дочери, рассеянно смотревшей телепередачу.
На экране на фоне книжных стеллажей все тот же капустный оборотень предсказывал крах каким-то концернам и, приводя цифры, совершенно мертвые для Прошки, многозначительно заставлял свою речь длинными паузами, как бы давая Прошке и ему подобным разжевать эту политическую жвачку вместо ожидаемой песни или другого развлечения.
Прошка нетерпеливо ерзал на стуле, чертыхаясь про себя за такую нудную передачу. Неужто там не понимают, что работы хватает на работе, а политзанятия — по будням?.. Нужно ли людям ходить на политзанятия, если они ежевечерне по пять-шесть часов смотрят телепередачу?.. Но, к счастью, эта передача сменилась мультфильмом, веселым, хоть и незатейливым умозрением. Ну а когда завершился мультфильм басенным нравоучением, на экране вновь всплыл другой волшебник, который не раздумывая лил молочные реки с листа бумаги и возводил мясные пирамиды, расщепляя их для каждой живой души поболее, чем предусмотрено нормой…
— Какая прорва! — сказал Прошка иронически и фыркнул прямо на экран. А когда за экраном не поняли Прошкиного фырка, Прошка выключил телевизор и направился к супружеской кровати, в которой уже лежала жена, привыкшая к своему одиночеству.
Подлезая жене под бок, Прошка протяжно вздохнул, как бы раскаиваясь и прося прощения…
Жена, затаив дыхание, стала вслушиваться в дыхание долгожданного «гостя».
Прошка, не смея заговорить первым, продолжал молча вздыхать.
— Ты, что ль? — сжалилась жена и повернулась к мужу, едва сдерживая волнение.
Прошка виновато муркнул и, заслонясь ладонью от голубоватого сияния звезды, назойливо заглядывавшей в проем раздвинутых штор, вздохнул.
— Дочь-то вон как подросла, — шептала Прошкина половина, радостно и тревожно приникая к другой половине. — Все-то она уже понимает-знает…
Прошка, выдыхая с облегчением, обнял содрогающееся тело жены и, почувствовав, как оно оплывает страстью к нему, сам стал оплывать ею…
А когда получившая мужнее тепло жена уснула у него на правом плече, Прошка ощутил бесконечное сиротство и пустоту. Теперь сгоревшая страсть жгла его. Не умея раствориться в ней до конца, она унижала его потрясением тела, охваченного ознобом ради короткого удовольствия, после которого у него наступало полное отрезвление, а с ним раскаяние за невоздержанность, которая все равно не уводила от ощущения пустоты и сиротства… Фу, тоска-то какая!
Моргая глазами в темноте, где все еще стояло голубое сияние звезды, Прошка прислушался к тишине ночи, улавливая далеко за пыльной колеей едва различимый сигнал лесовоза. Вскоре сигнал погас, но зато назойливо занудил мотор на холостых оборотах.
«Он самый… — подумал Прошка, имея в виду чубатого шофера из Кудинова. — Слышит, но не отзывается!» — радовался он, но ошибся.
В соседней комнате застонали пружины, а потом послышались и торопливые шаги.
Прошка механически вытянул руку из-под головы жены и тихонько спустил ноги, прислушиваясь к шагам. Затем оделся, чтобы настичь дочь, но ее беспокойное существо к этому времени вынесло за калитку и бросило на тропу.
И вот, сам встав теперь на тропу, бежавшую мимо церковного двора к большой дороге, где неустанно все еще урчал мотор на холостых, он, загребая ладонями воздух, пустился вослед. Тропа то и дело брызгалась росой с высоких лопухов, стиснувших Прошку в объятиях.
Кое-как миновав церковный двор, с высоты холма Прошка углядел хищно подрагивающий лесовоз и возле него две обнявшиеся тени.
— Женихаются… — с горечью проговорил Прошка и прирос к холму, смущаясь собственного признания. Однако обратно все же не повернул, а тихой походкой зверя стал спускаться к машине, задыхаясь от неприятного предчувствия…
Когда Прошка наконец достиг дороги, вдоль которой стояли три раскидистые березы в изголовье крохотного лужка, обнесенного молодой порослью, он услышал сладостный стон девичьего голоса и обмер от посетившей его догадки.
Переждав минуту-другую, он все же шагнул вперед, но, добравшись до бровки поросли, скрывавшей за собой женихавшихся, отшатнулся: некто безобразный и сильный, как свирепый зверь, ненасытно урчал над опрокинутым лицом дочери, оттаскивая ее за выволоченные из-под сарафана молочно-белые груди, в своей бесстыдной наготе приобщившиеся к бессмертию…
Прошка невидяще отступил назад, унося голос дочери, исторгавшей жуткую боль счастья…
Добежав до сарая почти бегом, он громко зарыдал от горького сознания своей вины.
Сквозь белесый ситцевый рассвет уже пробивались первые внятные голоса пробудившихся птиц.
Прошка вытер слезы и выглянул из сарая, оглядывая окрестность, рдеющую стыдом девичьего румянца.
А деревня, дышавшая блаженной дремой, стояла покойно, лишь только там, за церковным холмом, два влюбленных существа вымучивали страждущие плоти в бесконечном желании перелиться друг в друга…
Прошка отступил назад и, заметив в дальнем закуте шумно дышавшую буренку, подошел к ней и начал гладить ее по холке, невольно поправляя веревку на рогах, выставленных короной.
— Глаза-то у тебя слишком понятливые, — с бесконечной нежностью горячо зашептал Прошка. — Шибко-то не убивайся… — И, заглядывая в грустные глаза животного, продолжал: — Хоть и бессловесное ты существо, а поди, все понимаешь… и человека вот получше, чем человек… а человек ушел от понимания живности! С неодушевленными предметами повязался и забыл тебя, да и самого себя-то потерял! Впопыхах врет друг дружке…
Коровенка внимательно слушала своего хозяина и в знак согласия лизала наждачным языком руку, словно ища с человеком прежнего контакта…
— Дуреха ты, — задыхался Прошка от нежности. — Я-то все помню, ничего не забыл! Теперь память мне обуза. Несу ее, а она все ниже и ниже придавливает… Стало быть, понимания нету… Не гляди так на меня… ты скоро получишь ее обратно… Так вот, разбежались, говорю, люди в разные стороны — и старики, и дети, и кто их теперь соберет… Люди-то должны жить большими семьями, а семьи — одним миром… Не серчай, ты ее получишь обратно… Ты и без нее к дому привязана… Ну-ко отвернись, как-никак человек и совестно…
Коровенка опустила дышащую паром морду и протяжно вздохнула как бы из прежней жизни, когда она была человеком, прознавшим еще оттуда про стыд и совесть… Вот из того далека преследует ее тоска, оттого-то в глазах бессловесное понимание.
На перевернутый подойник сверху упала какая-то песчинка, и она разбудила металл комариным зудением, а звук, покружив над Прошкиной головой, улетел и погас на пути к выходу.
Поддалась тяжелая и скрипучая дверь Ивана Чередурина, инвалида войны, вышедшего из избы помочиться по рани. И в самом деле, зажурчала водичка, полная жизни, запенилась под крыльцом. Мать честная, как хорошо-то жить! Воздух лезет в ноздри и несет благодать, и ноги-то сами идут — кто его знает куда, — идут, и хорошо… А погост стоит серенький, поутру сонный, с потусторонней грустью… Боже мой, какое близкое соседство между жизнью и небытием!..
Прошка повернулся спиной к коровенке — животина-то глазастая, насквозь пронимает пониманием…
— Спит, не шелохнется деревня! Не желат просыпатца, — мстительно прошептал Прошка, улавливая дремотное блаженство деревни, и с досадой вогнал в легкие воздух…
На тропе послышался гусиный топот спускающихся к пруду стад.
Заструился низами голубоватый дымок, мешаясь с горьким запахом полыни, и поплыл над окрестностью.
Прошка часто-часто задышал, а потом снова, наполнив грудь упругим воздухом, смущаясь своего голоса, стал его спускать из голосовых щелей, окрашивая призыв привкусом тревоги.
Но деревня не откликнулась на Прошкин призыв, предпочитая пьянящую сладостью дремоту. Зато в открытую дверь сарая заглянул кот Васька, шедший с ночной охоты в деревню, и, глянув на скатившийся подойник, протяжно мяукнул, удивляясь неаккуратности хозяина. На мяуканье буренка ответила тревожным мычанием и вылетела из сарая.
— Господи боже ты мой! — застонала Ксюша, увидевшая, как из сарая, брыкаясь, вылетела буренка, и невольно сошла с крыльца, кляня деревню за глухоту. — Помёрли, что ли, все разом?!
Но деревня беды не чуяла!
Чужая жизнь ходит стороной до тех пор, пока она не коснется ближнего своей смертью…
Аня, впервые за много недель уснувшая спокойным сном, разом проснулась, сердцем почуяв тревогу, но, не в силах разобраться в происходящем, еще долго сидела на постели, покуда не осенила ее тревога страшной догадкою…
Она наскоро выскочила в чем была во двор и припустилась к сараю, икая и крича от страха.
А за церковным двором вдоль большой дороги на крохотном лужке блаженно дремали две поборовшие стыд плоти, оберегая тайную святость союза…
— Глеб! — закричала Ксюша и, не дожидаясь ответа, подобрав подол халата, побежала к Прошкиному двору.
Над прудом дружно галдели гуси, пробуя крылья, все еще хранящие память дивного полета.
Завидев Ксюшу, уже вступившую во двор, Аня пронзительно застонала, выталкивая из гортани невнятное бульканье, и, разом сойдясь у раскрытого сарая, заскулили вместе в животном страхе: человеческая плоть, рожденная откровением двух плотей, пугала живых сознанием хрупкости жизни…
Вскоре вся деревня плакала о маленьком человеке, носившем в себе тайну большого мира.
Способность понимать чужую жизнь есть шаг к сочувствию… А запоздалое сочувствие к ближнему — слезы раскаяния…
Безутешно плакали илькинцы, понимая, что другого Прошки им взамен этого не дадут. И теперь, в запоздалом раскаянии ломая морщинистые лица, утирали раскрасневшиеся глаза, вместе с Прошкиной участью оплакивая и свою, и вообще человеческую, однажды начертанную свыше.
На четвертый день, то есть во вторник, в начале раннего вечера, по возвращении с похорон и близкие и соседи собрались за поминальным столом во главе с Глебом Кирьяновичем и, как водится в таких случаях, начали его с кутьи, горькой еды, пропитанной духом и привкусом потусторонности.
Не в меру смущенный и застольем, и тем, что предстояло ему сейчас вкусить, Глеб Кирьянович потянулся к общей миске и, набрав в ней полную ложку разваристого зерна, отправил в рот, отмечая значение этой еды остекленевшими глазами, повернутыми обозревать свою внутреннюю зримую пустоту.
С трудом одолев брезгливость к кутье, Глеб Кирьянович, вновь обретая зрение, стал приглядываться к соседям, чтобы обязательно облегчиться словами. Но слова, как назло, не шли с языка, застыв на нем свинцовой тяжестью.
— Я… — промычал наконец Глеб Кирьянович, обильно потея от волнения, и с придыханием уставился на Аню, то и дело плакавшую в траурный платок, уйдя в себя.
— Да чего уж там! — застонал Иван Чередурин, уставая слушать Глеба Кирьяновича, вымучивавшего себя.
— Я, — повторил Глеб Кирьянович и, переведя взгляд с Ани на ее дочь, приросшую плечом к своему чубатому шоферу, с угловатого лица которого лукаво играли серые глаза, наполненные неистребимой верой в завтрашний день, глухо прокашлялся.
— Да чего уж там, Глеб! — вновь перебил Иван Чередурин и, густо поморщившись, как перед смертельной атакой, налил полный стакан водки и залпом вылил ее в обожженный рот.
И живые, поминая горечью водки раба божьего Прошку, теснее втискивались друг в друга плечами, вышибая из памяти не только мысль о смерти, но и саму смерть, в тщете напрасной колотившуюся в раскрытое окно с крутого краснозема свежевытесанным дубовым крестом, объятым пламенем кровавого заката.
И только один Глеб Кирьянович, потерявшийся за поминальным столом, рассеянно блуждал глазами, явственно слыша чуть просевший глухой голос, воскресший, чтобы преследовать его, и потряхивал головой, натыкаясь на могильный крест, который непомерно маленькими руками пытался обнять необъятный мир.
Стесненный неизъяснимым противоречием, Глеб Кирьянович тихо отпал от стола и, опустив былинную мощь лица, шагнул из избы на улицу под неумолкающие голоса живых о живом, чувствуя знобящей спиной печальные взгляды сестер, таких разных, но несчастных одним общим несчастьем.
Слева от Глеба Кирьяновича бежала торопливая Прошкина тропа и, обогнув пруд с гогочущими гусями, спешила к погосту, с крутого склона которого из высоких кустов чертополоха стыдливо выглядывали синие цветы забвения…
Бабушара,
1986
ХРОНИКА ВСЕМИРНОГО ПОТОПА
РАЗУМ — духовная сила.
Даль. Толковый словарьРовно полвека тому назад, в ночь с субботы на иудейскую пасху с веселыми переливистыми дождями, Циля разрешилась от бремени — родила человечеству сына, а себе — утешение и радость. Новорожденный — в будущем Габо — с продолговатой головой гвинейца, словно выведенный из египетского рабства Аароном и Моисеем, сучил розовыми ножками, издавая радостный визг щенка, учуявшего близость материнского молока.
— Бася, вы получили точную копию вашего благообразного папаши Ефима Мунича! — сказала лживая повитуха, разглядывая крохотное животное, чья безобразная в пунцовых пятнах мордашка бежала тайною тропой к порогу единственного в городе женского парикмахера Шалико, известного в узком кругу под именем Есром.
Но сердито насупленная Бася, с брезгливой жалостью глядевшая на только что обмытого и закутанного в белые лоскутки младенца, более всего на свете являвшего слепок с корявого лица при большом носе с горбинкой колдуна женских головок на набережной, откуда по вечерам с полуулыбками на устах выплывали феерические создания, мрачно молчала, наслышанная об искусных руках Шалико, умевшего не только укладывать волосы вокруг кокетливых головок, но и не менее искусно зарождать в них легкомыслие, из которого впоследствии вызревали горькие плоды позднего раскаяния…
Помолчав минуту-другую, Бася презрительно выпятила слегка вывернутую наизнанку мясистую нижнюю губу с ярко-розовыми прожилками и брезгливо сморщилась, как бы давая понять пожилой повитухе, землистая плоть которой семьдесят лет тому назад была замешена на двух кровях — еврейской и армянской, — что этот ублюдок не может иметь ничего общего с тем, кого она упоминала в разговоре.
Тяжело переживая позор сестры, Бася время от времени со смешанным чувством жалости и негодования поглядывала на роженицу, притихшую в постели, и о чем-то напряженно думала.
— Спасибо тебе, Айзгануш! — сказала Бася, расчленив напряжение на преследовавшую ее мысль, а затем, оттенив каждое слово паузой, продолжала: — Пошел ли он в род Муничей… мы узнаем в четырнадцать лет, когда в бороду ударит рыжинка…
Таинственное пророчество, скрывавшееся за витиеватостью, хоть и не давало основания видеть грядущее зло, но тем не менее с полным подтекстом трусило к тому, кто был единственным носителем в городе рыжей бородки…
Айзгануш, как степные жители надвигают на лоб кепи от ослепляющего солнца, надвинув на мерцающие зрачки отяжелевшие веки до маленьких щелочек, понимающе кивнула, изучая из едва заметных прорезей крупное лицо Баси с лукавством, присущим полукровке, чья вторая половина пребывала в постоянном противоречии с первой.
— Каждый подол покоит свою судьбу! — сказала в ответ Айзгануш, стараясь не переходить границы дозволенного, и подняла продолговатое лицо на свет керосиновой лампы, словно призывая его в свидетели.
Обескровленная Циля сонно шелестела сухими губами, слыша хурканье того, кто был неотъемлемой частью ее плоти и крови и, отделившись, лежал теперь под правой рукой.
Не в силах оторвать от постели утомленное в муках материнства тело, она рассеянно блуждала глазами по комнате, внове узнавая населенные в ней предметы.
— Поспи! — сказала Айзгануш Басе, отделяя сестер от обращения к ним во множественном числе. — Я посижу до рассвета… — Она встала со своего места в изножье и подошла к Циле. — А тебе, девочка, тоже нужно хорошо отдохнуть! — И, коснувшись ладонью лба роженицы, ощутила жар, о чем сообщила глазами Басе. Та моментально вышла в соседнюю комнату за компрессом.
На окраине ударили петухи. Голоса их, увязая в предрассветной мгле, на время угасли, а затем через равные промежутки, набравшись сил, вновь вспыхивали с новой силой, неся просоленный озноб с тяжелым придыханием моря.
Айзгануш, как всякий суеверный человек, недолюбливала петухов за их суматошный нрав. Они для Айзгануш всегда оставались предвестниками плохих вестей. Вроде бы не о чем тревожиться: давно схоронила мужа, не давшего ей потомства, но, когда ором орали петухи, всегда сжималась до боли в костях и с затаенной скорбью ждала чего-то такого, чему не было имени, кроме подспудного страха.
Вот и сейчас, коротая ночь в изножье на маленьком стульчике, с бьющимся в горле страхом она прислушивалась к слабому дыханию Цили, так приятно напоминавшей Айзгануш своими мягкими чертами лица Фиру, мать. Особенно теперь, когда с лица Цили сошла игравшая смуглость, она повторяла возраст и красоту той женщины, которой восхищался весь город со дня приезда Муничей.
Появились Муничи нежданно-негаданно из северных ворот города на роскошном фаэтоне, разукрашенном разноцветными пампушечками, словно оповещая своим выездом начало затевающегося карнавала.
Экипаж вкатился в город в полдень и, описав круг, въехал в блаженный апрель, волнующий и горячий безмятежным течением остановившегося времени, чтобы приобщить каждого смертного хоть на мгновение к чувству бессмертия.
Тепло разодетая семья Муничей с достоинством и удивлением разглядывала улицы города, утонувшего в тропической невидали, ублаготворенной диковинными пальмами и широколиственными гигантами, и под шуршание вращающихся шин улыбалась открыто, ослепленная солнечным светом и синью моря.
Айзгануш, как и многие другие жители города, ставшая свидетельницей этого события, не могла скрыть своего восхищения…
А каурые, грозно всхрапывая, лихо неслись по мощеным улицам, гулко отбивая дробь искрящимися на солнце подковами. Когда же фаэтон несколько раз кряду промелькнул на одной и той же улице и взял наконец направление к особняку Месропа Микоэляна, неугомонного контрабандиста, умерщвленного турками во время очередного рейса из Трабзона в проливе Дарданелл, вслед за фаэтоном потянулась и толпа со всех близлежащих околотков, сообщая свои догадки друг другу относительно особняка, распроданного со всем имуществом последним из клана Микоэлянов, его двадцатипятилетним сыном Киркором, наделенным приятной наружностью при томных девичьих глазах, унаследованных от матери-эфиопки из народности сидамо.
Киркор со своей темнокожей матерью, убитой горем, встретил новых владельцев у ворот, и, когда фаэтон осадил возле, он подошел к фаэтону и любезно помог сойти красавице, умирая от соприкосновения с ее рукой.
— Пожалуйте, сударыня! — сказал Киркор, чувствуя, как прирастает язык к небу, а по спине разгуливает лихорадка. Затем, теперь боясь поднять глаза, он помог сойти девочке-толстушке со сдобными щеками, продавленными с двух сторон чьим-то неудержимым нажатием указательного пальца, и встал рядом с матерью, облаченной в траур.
С другой стороны фаэтона сошел сам хозяин с черной, аккуратно подбритой бородкой и, не разделяя особой радости жены и дочери, уже раскланивавшихся с зеваками, что-то шепнул фаэтонщику, наряженному диким абрагом целым арсеналом оружия, и повернулся к калитке:
— Ведите, князь!..
На что фаэтонщик ответил хохотом белков, сверкнувших холодом мусульманской ярости в адыгейских мелких чертах чертенка.
Киркор, повинуясь чужой воле, ввел во двор микоэляновского клана чужеземца и навсегда покинул его, неся сладостную истому в крови от встречи с красавицей.
— Клянусь! — прошептал он по-армянски и поднял два пальца. — Я еще вернусь и сполна верну украденную честь рода Микоэлянов…
Эта клятва несла в себе угрозу, как всякая клятва, и полный и беспощадный смысл ее открылся лишь Айзгануш, стоявшей тогда в толпе зевак, и защемило у нее в груди от того, что рано или поздно должно было открыться всему городу. Не мигая крупными красивыми глазами, Айзгануш сочувственно провожала взглядом Киркора с его матерью, неотступно думая о семействе Муничей, к которому она прониклась уважением и жалостью. «А что, если всякий житель города обяжет себя подобной клятвой?» — подумала Айзгануш и обмерла, вспомнив о муже, который пропадал на табачных плантациях, на которых работали лукавые турчанки.
Айзгануш, разматывая нить прошлых дней, огляделась. Фитиль керосиновой лампы, изрядно обгоревший, мерцал под стеклом, как память по миновавшим дням.
Уронив голову на подол, тяжело дышала Бася, не расставаясь и в дреме со своим беспокойством.
А синий густой рассвет наотмашь бил по стеклам, ослепляя комнату туманной мглой, пропахшей морской прогорклой солью и запахом истлевшей рыбы.
Помолодевшая на добрую половину своего возраста, Айзгануш вновь погрузилась в воспоминания, с некоторым смущением ища оправдание своей звериной привязанности к Ефиму Муничу, которого втайне от своего мужа Геворга и самой Фиры страстно любила. И хоть все они давно пребывали в запредельном мире, в нетях, но волнующие чувства к Ефиму не покидали ее сердце и по сей день. Если в те годы думать о Ефиме было строго-настрого запрещено самим богом под смертным страхом позора, то и теперь Айзгануш преследовали усопшие — Геворг и Фира, так как свято верила в то, что им из запредельного мира ведомы все ее прежние прегрешения с сегодняшними помыслами о грехах…
Это открытие она сделала вскоре после смерти мужа, оставившего бренный мир от внезапного удара во время попойки с молоденькими турчанками с табачных плантаций.
Похоронив Геворга со всеми почестями на армянском кладбище, Айзгануш возвратилась в свои комнаты и упала замертво от усталости и непомерной для молодой женщины свободы… Но недолго спала. В образе темного платяного шкафа явился Геворг и, широко расставив громадную фигуру в углу комнаты, громовым голосом прогрохотал:
— Спишь, значит, и млеешь!..
Айзгануш вскрикнула и замерла от животного страха перед Геворгом.
— Зачем ты пришел? — вдруг неожиданно для себя вымолвила Айзгануш и, тут же поняв весь ужас, заключенный в этих словах, ладонью прикрыла рот.
Геворг сердито двинул стул и сделал шаг к кровати:
— Рассказывай, ахчиг[1], как ты с бородачом на еврейском ворковала?.. — Геворг вдруг расхохотался. — Недолго ему мять чужую жену в отместку своей… Умрет Фира, оставив помет от Киркора, но и та девочка, которая родится, будет несчастна…
Айзгануш потеряла сознание, а когда пришла в себя, то за окнами комнат занимался солнечный день. Шкаф, который давеча был Геворгом, теперь был неподвижен, но таил в себе тайну ночного посещения.
Айзгануш захотелось незамедлительно умереть в этой комнате, где неотступно преследовал ее дух Геворга, смущая даже мысли, зарождавшиеся против ее воли.
Она перевернулась на другой бок, чтобы не видеть ненавистный шкаф, и сладостно заплакала слезами обреченной на немедленную смерть, дабы упиться сознанием собственной кончины. Но тут на ум ей пришел Ефим, оставленный всеми, даже любимой Басей, лукавившей с ним, и она, мужняя жена, вдруг всем существом своим ощутила неистовство чужого мужчины… «Вдовица, дай мне жаждой твоей упиться! — И запрыгало сердце в груди. — Господи, откуда все это? Кто устами моими говорит?»
— Бес, ахчиг, бес! — шепнул ей на ухо знакомый голос, тонувший в благовониях лукавых турчанок, заставлявших неразумную голову большую часть от выручки с табака на стамбульских рынках тратить на себя.
Ночью вновь явился Геворг, круша на пути стулья и низенький столик.
— Трепещи, грешница великая! — сказал он весело и встал над ней.
Айзгануш вскрикнула что было мочи, выбежала в чем была на крыльцо дома Аракела Аракеляна, сдававшего комнаты за умеренную плату, и тут же рухнула. И, когда до смерти оставалось всего лишь несколько секунд, ее привел в себя знакомый запах чесночного соуса.
— Айя! — сказал человек. — Бобошка моя пропала да Басеньки нет…
Айзгануш, которую назвали так нежно, обвила шею Ефима и вместе с ним заплакала от отчаяния и радости…
Так изо дня в день Айзгануш платила за свою радость буйством Геворга, не желавшего ее простить. Он являлся еженощно к ней и до смерти запугивал свою неверную, пока она не обратилась к старой турчанке, занимавшейся заговорами.
Старушка внимательно выслушала Айзгануш и, ворочая двумя сухими сливами-глазами на пепельном лице, несколько раз кряду чихнула на сердолик, покоившийся у нее на засохшей, как кизяк, ладони. Потом она крепко зажмурила глаза, откинула голову назад и, словно мертвая, приоткрыла рот, откуда зажурчало колдовское журчание.
Айзгануш сидела как истукан, затаив дыхание, и ждала, когда колдунья наконец откроет глаза.
Но вот на лице турчанки сухо засверкали сливы, подернутые мглой.
— Твоего мужа, — сказала она, часто-часто шлепая губами, — я увела в Трабзон… Он теперь будет являться тем, кто пользовался от труда его…
Айзгануш открыла рот от удивления и досады. «Боже мой, — подумала она, — зачем его так далеко?.. Там же турки!» Она не понимала, что усопшего уже нельзя зарезать, как еще сравнительно недавно зарезали армян.
Расплатившись с турчанкой, Айзгануш бежала домой, подобрав подол платья, чтобы дать волю слезам. Хоть она и не любила своего мужа, но было его жаль. Как-никак чужбина есть чужбина. И там долмой[2] не кормят…
Даже теперь, когда минуло столько лет со дня кончины Геворга, так ни разу и не побеспокоившего ее после заговоров благодаря старой турчанке, она нет-нет да вспоминала его попреки за ее принадлежность к еврейской крови, словно от нее зависело, кем ей родиться.
— Жидовка пархатая! — кричал Геворг на Айзгануш, когда она, нафаршировав мясо, рыбу или овощи по наущению одного из своих предков, подавала на стол. — Сколько раз тебе говорено, чтобы ты не смела подавать еду, однажды кем-то уже жеванную?!
И Айзгануш, не очень уж лелеявшая в себе первую часть своего дыхания из-за отца, слишком рано сделавшего ей ручкой и сгинувшего в направлении Житомира, сейчас невольно была вынуждена защитить то, чем в равной степени — и от евреев, и от армян — владела, отвергая при этом одну из составных частей целого другой.
Чаще всего для протеста Айзгануш пользовалась местными выражениями, на первый взгляд безобидными, но довольно желчными, что выслушивать конечно же не доставляло удовольствия Геворгу, имевшему помимо острого языка и тяжелую руку. Но промолчать Айзгануш не могла, потому что две крови раздирали на части своими беспощадными противоречиями ее плоть.
И вот, получив очередной урок от Геворга в виде шамаров — затрещин, Айзгануш роняла голову на подол и начинала причитать.
— Получили как следует!.. — Она имела в виду две крови, из коих состояло ее существо. — Теперь тащите, как волы, в одной упряжке не очень-то удобную колымагу…
И две эти крови, как они там ни вздорили друг с другом, вполне удачно провели «колымагу» через революционные бури до сегодняшних дней и даже сделали Айзгануш причастной к тому, что на свет появился новый человек, внук Ефима.
Айзгануш живо представила доктора с чесночным запахом бороды и с профилем Иисуса, отощавшего заботами о ближних. Правда, заботы доктора были далеко не альтруистическими, но тем не менее он работал не зная ни дня ни ночи.
Медная табличка на дощатых воротах, за которыми и стоял особняк в два этажа, сложенный из темного кирпича, указывала каждому страждущему, что именно в нем у доктора Мунича можно получить исцеление от всех болезней.
И город валом повалил к нему, выявляя у мужской половины повальную малярию.
Мучительный озноб, полученный в ребро во сне без сна, к утру поднимал князей в дорогу и лабиринтами города вел к порогу Муничей, где за особое пристрастие к семейству доктора надлежало проглотить три-четыре таблетки тут же из рук хозяйки, чьи голубые небеса, словно умытые грозой, лучились синевой на беленьком лице нежного овала.
— Бобошка, — тихо бросал доктор за ширму, заканчивая осмотр своего пациента с лукавством Иисуса, проведавшего чрезмерную слабость человека к грехопадению, — дай-ка, пожалуйста, нашему дорогому князю четыре таблетки хинина!
И очередной князь за свою золотую принимал добровольные муки на глазах одной из красивейших женщин с героической стойкостью, запивая горечь хинина горечью своего унижения — теплой водой, чтобы в конце этой унизительной процедуры вожделением отравленным взглядом прелюбодействовать с НЕЮ в сердце своем…
Покидали князья двор Муничей так же внезапно, как и появлялись, оставляя за калиткой желчные плевки досады. А доктор, сиживая в своем кресле, улыбался в бороду.
— Азия!
Шли дни, теперь уже тихие, унимая желтую тоску азиатов, не получивших новую струю в скиснувшую кровь, и жизнь в городе потекла монотонно. Город стал забывать лихорадку малярии и о приезде доктора Мунича с его красивой женой и ушел с головой в новые заботы о животе и плоти, разрывающейся изнутри, как почки, чтобы изойти эротическими слюнями…
…Всхрапнула Бася, а вскоре и проснулась, измученная всем тем, что легло ей тяжестью на плечи.
— Совсем рассвело, — чуть слышно проговорила Айзгануш и, поднявшись со своего места, двинулась к окну, за которым уже кипела жизнь воскресного дня.
Спешили лавочники на базарную площадь, где, обступив ее тесным кольцом, стояли их лавочки вперемежку с колхозными духанами, являвшими собой миниатюрные прообразы деревянных од тех времен.
— Лучше бы вовсе и не наступал этот день! — устало отозвалась Бася и тоже поднялась со стула.
— Можно ли так, дорогая Бася, в день великого праздника?.. — назидательно проронила Айзгануш. — Как-никак в этот день наши предки вышли из рабства…
Но вместо ответа Айзгануш услышала тревожный крик далекого петуха, и она передернулась, невольно вслушиваясь всем существом в крик.
Циля, по-детски надув губы, спала, показывая всем своим видом, что и во сне помнит обиду, которую не простит никогда жестокому богу, позволившему насмеяться над ее плотью…
Бася склонилась над сестрой и, щекой коснувшись ее лба, ощутила легкий жар.
— Что же теперь будет?
— А ничего страшного! Младенец вырастет в большого!.. — уверенно затвердила Айзгануш. — А людская молва — морская волна… Пошумят и позабудут.
За домом послышалась мингрельская речь. Шли крестьяне и, не жалея глоток, переговаривались между собой, словно высевая кукурузными зернами поле, отпуская при этом смачные шуточки. Теперь эти шутки были адресованы горожанкам, чья плоть им виделась необыкновенно нежной и сладкой, как плод инжира, с которого содрали кожу и обнажили туговатую суть…
— Я в прошлое воскресенье… — начал было один из крестьян хвастаться, предваряя рассказ смехом, но Бася отрывисто оборвала хвастуна из окна.
— Ты бы лучше щетину свою поскоблил! — сказала Бася на мингрельском.
Айзгануш тоже высунулась в окно, но не стала мешать перебранке, зная, что Басю теперь раздражает все, даже случайные прохожие.
— Бесстыжие! — заключила Бася и отошла от окна, оставив его раскрытым. — Ходят тут под окнами и покоя не дают!
Дав выговориться Басе, Айзгануш вздохнула, как показалось хозяйке дома, вполне искренне, и сказала:
— Вы можете на меня рассчитывать! А сейчас я пойду домой и немного сосну…
Бася проводила Айзгануш до калитки небольшого двора, прилегавшего к площади, и вернулась в дом, а Айзгануш, кивая в знак приветствия лавочникам, пошла к себе через всю базарную площадь к парку Сталина, напротив которого жила в коммунальной квартире в аракеляновском доме, перешедшем сразу же после революции к ее арендаторам. В сущности, она осталась там же, где и жила, только теперь у нее была одна комната вместо снимаемых двух у Аракела Аракеляна, исчезнувшего из своих владений вместе со своим классом. Жили здесь и семейные, и одинокие вроде Айзгануш. Жили отчужденно, не желая заводить близкого знакомства друг с другом. Айзгануш ничего не связывало с жильцами этого дома, большинство из которых были из пришлых.
Она упала на кровать и тут же уснула, пока под вечер не разбудил ее стук в дверь.
Чья-то рука, удерживаемая смущением, осторожно, едва слышными ударами кулака стучалась к Айзгануш.
— Иду! — откликнулась Айзгануш после некоторого молчания и встала с кровати. А когда отворила дверь, была немало удивлена…
Перед ней стояла заплаканная Бася и беззвучно шевелила губами в тщетной попытке донести до Айзгануш ту тревогу, которая привела ее сюда. Слова ее застревали в горле, вызывая астматический кашель.
Айзгануш стояла спокойная, и, словно из опыта прежней жизни, когда-то прожитой ею, виделось повторение того, что уже было однажды с ней. А кто-то из того далека нашептывал ей из какой-то книги, не ею читанной, откровения. Они были спокойны, рассвеченные мудростью смертного. «…И наступит час, и заплатит каждый по счету: скорбью за скорбь, судом за суд… и будет он прощен перед лицом собственной скорби, ибо и он умрет, завещав свою мудрость тому, кто пойдет по следу его, совершая те же ошибки… Бесконечна жизнь, но смертны мы! Заплатил ли ты, человек, сполна за свои прегрешения? Если же нет, то расплата грядет! И не прячь ты лица своего и не вопрошай: за что? Ибо мудрость идет за поздним раскаянием! Раскаявшийся мудр и чист на тот час, так как впереди подстерегают его новые ошибки и новое раскаяние! Живи, человек, в скорби, ибо мысль и деяние твое скорбно! У кого поднимется рука смеяться над ним?!»
— Айзгануш, ты меня слышишь? — растолкала ее Бася, едва выдавливая глухие звуки из себя. — Беда пришла! Новая беда!
— Знаю, — ответила Айзгануш. — Лишившийся рассудка — свободен от скорби земной!
— Что ты говоришь? У нее младенец!.. — запротестовала Бася, сердито поглядывая на Айзгануш. — Здорова ли ты, Айзгануш?
Айзгануш захлопнула дверь и поспешила на улицу, увлекая за собой растревоженную Басю.
— Пришел и мой час платить… — сказала Айзгануш, вступая за порог Басиного дома.
Младенец сучил ногами и слюняво плакал, стараясь сползти с намоченных пеленок. А в темном углу сидела на мокрых тряпках обнаженная Циля и распевала песню, не обращая внимания на вошедших.
Айзгануш подошла к Циле, обхватив ее за талию, подняла с тряпок, на которых алела отдельными лужицами кровь, и увела в постель. Тем временем Бася поменяла младенцу пеленки и поднесла его к Циле, чтобы покормить грудью, но Циля наотрез отказалась кормить дитя.
— Принеси стакан! — приказала Айзгануш Басе. А когда та принесла стакан, она посадила Цилю и стала сцеживать молоко с набухших грудей, вызывая у роженицы тихое хихиканье. — Ну вот, девочка, сейчас совсем полегчает… Ишь как у нас молочко-то брызжет. Потерпи еще…
Вскоре младенец был накормлен, а Циля вновь погрузилась в сон. И так продолжалось изо дня в день, пока не стало ясно, что Циле, помешанной в рассудке, не быть матерью. И Айзгануш, на радость Басе, единственной кормилице, стала жить с ними, воспитывая младенца и следя за Цилей, норовившей выйти за ворота.
Маленький домик из двух комнат и флигелька стоял в одном из углов базарной площади на виду духанщиков и мелких лавочников, уже прознавших про все несчастья Цили и не спускавших глаз с него, чтобы пополниться новыми сведениями впрок, как запасаются на зиму пищей.
Площадь, не умевшая привыкнуть к редкой красоте Цили, ждала ее со всеми многочисленными лавками, разбросанными беспощадною нуждою времени, чтобы воочию убедиться в том, что она по-прежнему красива и желанна…
Однако их вожделению был поставлен заслон: Айзгануш глаз не спускала с Цили, держа на запоре калитку.
— Мужская похоть слепа! — говорила она Циле, запирая калитку на замок, на что Циля очаровательно улыбалась, не понимая ни слова из того, что внушала ей Айзгануш. — Вот и хорошо. Понимаешь, стало быть! Мужчина — это животное! Да еще какое… Самое лютое…
Тут Циля начинала петь одну из трогательных своих песен о птицах, мешая русские, грузинские, а то и еврейские слова. Хоть слов так и нельзя было разобрать, но тембр ее голоса не обманывал. Он был так волнующ и чист, что казалось, с какого-то уступа звенит чистый родничок, чтобы утолить людскую жажду и приободрить на этой горестной земле, где всякое любопытство оплачиваемо дорогой ценой.
— Пой, девочка, пой, — с доброй укоризной подбадривала Айзгануш, — пока я выгребаю из подгузника твоего уродца то, что больше всего напоминает масть парикмахера…
Так в хлопотах старой Айзгануш прошло три года. Бася исправно ходила на пристань, где работала бухгалтером, и, ничем особенным не обременяя себя, иногда стирала белье, но не уродца, а сестры, которую она содержала в чистоте, и темными ночами кляла в тайне от посторонних еврейского бога, недоглядевшего сестру…
— Хорош, нечего сказать! — попрекала она вслух. — Небось и сам, сальная морда, из греховодников!.. — Бася никогда не видела лика своего бога, только лишь слышала в устных рассказах о нем, но свой портрет того, кого евреи называли богом богов, она создала в воображении. И так уж получилось, что он был похож на шапочника Габо, этого известного скрягу, пропахшего всем существом, от темного лица до толстых ляжек, дезинфекцией, чтобы уберечься от тифа, а может быть, и от моли…
И вот наступил день, когда Айзгануш, в отсутствие Баси, решила выгулять семейство Муничей по городу.
Она одела трехлетнего мальчонку, довершив коротенькие брюки и рубашку панамкой на продолговатой голове и, взяв за ручку его — маленького Габо, а другой за руку Цилю, вышла за калитку, чтобы разом у всех лавочников оказаться в поле зрения.
— Габо, ставь ровнее ступни! — нарочито громко командовала Айзгануш, ведя неразумных детей по площади «любопытства», подмечая лукавым взглядом испепеляющий интерес к ним лавочников, прятавших свои носы будто бы за работой.
Проходя мимо первой лавки, Айзгануш остановилась, разглядывая шапки, висевшие на обозрение покупателей.
— Здравствуй, Габо! — сказала она и сильно поморщила нос — Чем это ты так, что с тобой не поговоришь?..
Габо, занимавшийся исключительно шапками-блинами, чтобы по мере возможности сделать головы похожими, как и блины, друг на друга, улыбнулся желтыми зубами, польщенный вниманием красивой Цили, уже напяливавшей на головку изделие шапочника.
— Этим, дорогая Айзгануш, обязательно нужно мазаться! — сказал Габо. — Тогда и тиф минует стороной…
Айзгануш сняла шапку с головы Цили и повесила на прежнее место, на гвоздь.
— От тебя всякая чума и так, без мазей, за версту обогнет! — улыбнулась старуха.
Но Габо плохо слышал Айзгануш. Он жадно впился чуть раскосыми глазами в Цилю, в ее бездонные синие глаза, зажженные изнутри задором молодой крови, и, распустив губы, таял…
— Хватит! — сказала сердито Айзгануш, дернув за кожаный передник шапочника. — Теперь верни ей все вещи, пока не помял неуклюжей рукой!
Габо передернуло, и он, не зная чем искупить свою вину, растерянно взглянул на мальчика.
— Чей же ты?
Маленький Габо, скосив длинное лицо, глухо промямлил:
— Бабушки Айя…
Габо-старший сошел со своей кибитки и опустил тучную ладонь на вытянутую вверх головку Габо-младшего. Но рука, едва коснувшись головки, брезгливо убралась за спину.
Узрев в трехлетнем мальчике крайнюю небрежность Яхве, создавшего его в утробе матери по своему образу и подобию, шапочник грубо выругался, когда гуляющие отошли на почтительное расстояние:
— Козявка! — Но, сплюнув смачно ажурным плевком, немного смягчился, поясняя шапке, вынутой из тисков колодки: — Плохенький свой — лучше пригожего чужого! — Сказав так, он знал, что врет, ибо «плохенький» везде оставался «плохеньким», где бы он ни был.
Тем временем Айзгануш, затесавшись между молодыми поколениями — Цили и Габо, — двигалась вдоль лавочных рядов, то и дело кивая в знак приветствия огрузневшим от вечного сидения лавочникам. Затем, пересекая площадь по прямой, она услышала голос чувячника, вдруг запевшего с щемящей тоской сердца. Двигаясь вперед, Айзгануш видела, как Андроник-чувячник во время коротеньких пауз обсасывает розовыми губами подковку обвислых усов. А грустные раздумчивые слова, летя нежной струей, обливали душу каким-то несказанным умилением.
Ах, сирум, сирум…
В воздухе раненой птицей плыла трепетная песня, западая за горизонт.
Циля, вырываясь вперед, тоже что-то бормотала, улыбаясь одной ей ведомой мысли.
— Что, девочка, хорошо поет? — говорила Айзгануш, удерживая порыв Цили во что бы то ни стало догнать песню… И она ощутила в себе волнение армянской крови, тоже древней и могучей. — Любит еще, коль заставляет тосковать песню…
Но песня, так же неожиданно, как и началась, оборвалась на полуслове.
Смущенный тем, что его услышала Циля, Андроник склонил голову над шитьем очередного чувячка и плотно сжал розовые губы.
Айзгануш, поравнявшись с лавкой чувячника, нежно проронила:
— Как поживаешь, Андроник? — Она хотела похвалить его за песню, но, зная, что этим еще больше ввергнет его в смущение, раздумала.
— Спасибо, оркур![3] Живу, а как — сам бог не ведает! — отозвался Андроник, стыдливо взглядывая на Цилю, еще больше покрасивевшую за эти три года, которые он ее не видел. — Вот сшиваю верх и низ, хотя наперед знаю, что все равно недолго быть им притянутыми друг к другу, — нет такой нити, чтобы соединить два куска навечно, хоть они из одного материала…
Внимательно слушавшая чувячника Айзгануш прихлопнула веками глаза и, уставившись невидяще лицом в собеседника, еще более затейливо, чем начал Андроник, ответила:
— Каждый бежит за своим доктором… Но и сам доктор тоже ищет своего исцелителя… И редко в этом мире, чтобы двое бежали навстречу друг другу, Андроник. Вот и получается, что чувячники жизни оживляют то, что все равно не соединится…
— Спасибо, оркур! Я тоже так думаю. — Андроник облизал губы и поник головой. — Об этом и в песнях поется.
Когда наконец выговорились собеседники, наступила тишина, которая и должна была развести этих людей хотя бы до следующего раза. И, боясь, что это произойдет перед тем, как Андроник успеет предложить подарок, он поднял глаза прямо на маленького Габо, глядевшего в упор разными глазами.
«Господи! Что это такое?» — дрогнуло сердце Андроника, и память увела его в детство — в деревенский дом, где у них была собака точь-в-точь с такими разными глазами. А сейчас мальчик-недомерок напомнил ему прошлое, и сердце содрогнулось и от жалости к ребенку, и к его матери, которую, несмотря ни на что, по-прежнему любил. И пока он разглядывал мальчишку и ворошил в памяти давно минувшие дни, Айзгануш дернула Габо за руку и повлекла его за собой. «Вот так… теперь обойдем еще кое-кого, и на сегодня будет вполне довольно… А то чешут языками, словно бабы…» — размышляла Айзгануш, довольная прогулкой.
Проходя мимо колхозных духанов, поднятых над землей на три ступени, в отличие от лавок ремесленников, Айзгануш мельком отмечала застывшие над прилавками фигуры с утра похмелившихся духанщиков, а потому насмешливо настроенных. Каждый такой духан был отмечен своим особым цветом. И Айзгануш знала не только каждого из духанщиков, но и принадлежность духана к тому или иному колхозу, возможности которого были налицо: одни были свежевыкрашены, другие же стояли облупившиеся, с чешуйками красок многолетней давности. Такие духаны, как правило, торговали только дешевыми фруктами и бочковыми сырами, пахнувшими волнующими запахами плоти. Забегали сюда в основном безденежные люди, и пили красное вино, и закусывали соленым сыром прямо из бочки, в которой уже плескался позеленевший от долгого употребления сыра рассол.
— Не извивайся червячком! — громко ругала маленького путешественника Айзгануш, чтобы пройти мимо духанщиков, оставив их без внимания. «Довольно с нас и города, — улыбалась про себя она. — В деревне предостаточно и своих новостей…»
Так, шаг за шагом, оставляя духаны и некоторые лавки за собой, Айзгануш приблизилась к лавке старого Панджо, чьи выпуклые рачьи глаза глядели маслянисто куда-то мимо всех и даже того пространства, в котором пребывал в данном случае, машинально играя пальцами на «арфе», трепля какую-то свалявшуюся грязно-серую массу не то из шерсти, не то из ваты, чтобы, расщепив старые страсти канувшей жизни, дать пространство для сцепления новым страстям и новому дыханью.
Маленький Габо, увидев столь забавную игрушку в руках старого человека, шумно засопел, кривя в улыбке клином вытянутое лицо.
— Калимера[4], Панджо! — произнесла Айзгануш и тягуче, нараспев начала говорить на греческом языке, чем доставила немалое удовольствие греку-трепальщику Панджо.
— Калимера, Аня! — ответил Панджо и, отложив свою «арфу», принялся внимательно разглядывать стоявших за порогом. — У тебя уже и внук? Откуда же он?
Айзгануш улыбнулась:
— Из бессмертия, Панджо!
Панджо тоже улыбнулся ей, вспоминая дни юности. Хоть они и промелькнули быстро, а он состарился вместе с Айзгануш, но тот аромат еще жил в нем, как тусклый свет ночника в громадной комнате, где утонули неясные предметы во тьме ночи.
— Почему ты, Айя, не пошла за меня замуж? — еще больше выпучив рачьи глаза, спросил Панджо, но уже весело, с дистанции времени. — Разве я был хуже твоего Геворга?
Циля, переминаясь с ноги на ногу, вырывалась.
— Куда ты? — громко, но по-матерински ласково журила Айзгануш Цилю. — Нет там ничего хорошего, девочка! Это мираж, обман…
Циля нахмурила лоб и заплакала бесшумно одними слезами, уже покорясь своей участи быть привязанной к старухиной руке.
Панджо, тронутый горем Цили, встал со своего стульчика, подошел к ней и протянул красную нить из пряжи.
— Повяжи вокруг шеи! Тебе это будет к лицу…
Циля тут же перестала плакать. Влажные ее глаза вновь наполнились радостью синевы.
Старик неуклюже, кое-как повязал вокруг шеи красную шерстяную нить на бантики и вернулся на свое место, едва сдерживая слезы…
— За что же ее так? — выдавил Панджо после продолжительной паузы онемевшим от чужого горя языком и остервенело принялся трепать трепку…
В это время к лавке подошли мясник с колхозного духана и базарник. Первый держал графин с красным вином, а второй — горшок с дымящейся фасолью. Горшок покоился на круглом лаваше.
Поздоровавшись с Айзгануш, которая с силой отдергивала Габо от лавки трепальщика, и с Цилей, не сводившей глаза с бантиков на вырезе платья, и мясник и базарник повернулись в сторону далекой теперь лавки чувячника, откуда доносились скорбные завывания тоскующего животного.
— Слышите, дядя Дзаку? — с ухмылкой спросил базарник, покачивая лаваш вместе с горшком, словно поднос перед собой.
— Ревет, подлец, на луну, как пес! — ответил мясник и поставил графин с вином на приступочек лавки. — Слышу, Саид-абхаза…
Базарник остался доволен тем, что мясник не стал в присутствии Айзгануш и Цили ломать его собственное имя, что часто проделывал мясник, чтобы вместо имени Саид получить «саит», то есть «куда?», поскольку такое смягчение окончания давало новое звучание на грузинском.
Айзгануш, наконец справившись со своими попутчиками, бросила какое-то слово Панджо и поспешно, насколько позволяли детские неустойчивые шажки, отошла от лавки. А спешила она еще потому, что не выносила дерзость Дзаку. Тут еще он, не переставая молоть языком, разглядывал лицо мальчика, особенно глаза, и подбрасывал брови, говоря: видите, у мальчика один глаз зеленый с веселым вкрапом оранжевых зайчиков, а другой — карий, как у банковского работника Ицхока?
Так удачно, как и не предполагала Айзгануш, закончилась первая вылазка в свет, что в какой-то мере раздосадовало Басю, не желавшую показывать «своего» уродца свету. Но дело было сделано, и, как показало время, своевременно, так как город, как и все небольшие города, долго ни удивляться, ни запоминать не в состоянии в силу своих неглубоких мозговых извилин…
И Айзгануш, как человек с большим жизненным опытом, дала городу ту естественную порцию для заполнения извилин-сот и на некоторое время вышла из игры, чтобы, появившись затем уже через неделю или две, идти без опасения в город, пристрастия которого, как правило, перерастали в паноптикум, выявляя в оскале жадного хищника готовность вкусить мертвечину…
А когда она выждала тот срок, который и должен был ей гарантировать безболезненное для себя и для тех, честь коих оберегала, гулянье, вновь вышла на площадь.
В привычном порядке — в середине Айзгануш, по бокам Циля и Габо — шествовали по однажды уже проложенному маршруту.
За дощатым забором как улей гудел рынок, а на площади, как и в прошлый раз, лавочники готовились отобедать небольшими группами, чтобы во время обеда обменяться новостями или шутками, кочевавшими из года в год и за время долгого кочевья утратившими и смысл и пыл. Но тем не менее, чередуя фасоль с мясным харчо, лавочники чередовали и иную пищу.
Проходя мимо лавки трепальщика, Айзгануш заметила Дзаку.
Тучный мингрелец с грязным передником мясника, подняв до ушей округлые плечи, а руки сложив на тугом животе, глядел крупными глазами в даль, ему одному видимую, выуживая там взращенную кем-то дерзость.
— Когда это случится, — услышала Айзгануш голос Дзаку, предвещавшего какой-то несусветный потоп — карачаевцы будут смеяться, глядя на гибнущую долину.
— Вай чкими цода![5] — молитвенно шептал Панджо.
Правда, в этой преувеличенной мольбе Панджо Айзгануш улавливала желание сказавшего драматизировать предсказание Дзаку и тем самым польстить ему за редкую способность читать мысли природы за несколько дней или часов до того, пока она станет доступной и ребенку.
«Что это он несет, этот мурзук?[6]» — невольно заинтересовалась Айзгануш и направила стопы — свои и чужие — к лавке Панджо, где шел предобеденный разговор.
Говорить в те годы, и говорить много, было правом мингрельца, поскольку два языка доминировали в этом городе: мингрело-русский и русско-мингрельский, а остальные языки, бывшие доминанты — турко-греческий и греко-турецкий, — лишь вливались отдельными словечками, как тусклый свет ночника в ночное пространство, чтобы подсказать человечеству преходящее значение доминантства.
— Здравствуйте, — сказала Айзгануш, вступив в черту той территории, которая считалась территорией трепальщика. — Не смогла пройти мимо, хотя наш маршрут сегодня должен был быть иным. И виноват в этом Дзаку!
Так как Айзгануш говорила на языках того доминантства, которые отмечены были богатством в результате слияния языков отдельными понятиями, то приезжему человеку могло показаться, что он имеет дело с совершенно новым языком.
Перескакивая с языка на язык, как птица перепархивает с ветки на ветку, легко и без напряжения, и теми же средствами получая ответы, воздух постоянно был в возбуждении, чтобы воспроизводить в пространстве рожденные в головах мысли.
А мысли, после того как влетали в уши и оставляли «соль», выпархивали из них обесплотившимися и соединялись с воздухом, став такими же эфирными, как и воздух.
— Я не ослышалась? — спросила Айзгануш. — Со старыми такое бывает…
Дзаку, делая вид, что не понимает, о чем идет речь, приставил левую ладонь к своему тугому животу, а правую вложив, как клинок, в нее, стал ждать объяснения.
— Слышала про какой-то потоп… — пояснила Айзгануш и добавила: — Не за себя тревожусь!
И как бы в подтверждение того, что Айзгануш не за себя тревожится, Габо устремил в небо разные глаза: левый, с хохочущим вкрапом, к высокому престолу богу богов — Яхве, а правый, с грустным налетом карего цвета, — к чертогу Иисуса, расположившегося этажом ниже, и заржал жеребенком, за что получил свой первый подзатыльник за дерзость отрешаться от земли в детской гордыне.
— Ох, не за себя тревожусь! — повторила Айзгануш. — Не приведи такому случиться!
Тут Циля, до сих пор стоявшая безучастно с милой улыбкой на губах, вдруг категорично заявила:
— Не надо, Айя! — и стала вырывать хрупкое запястье из тисков старушечьей руки, все больше и больше тяготясь и обществом, и топтанием на месте.
— Дай, девочка, поговорить с людьми! — с нежным упреком проговорила Айзгануш, но, повинуясь воле Цили, стала медленно, так и не узнав до конца всей сути страшного предвещания, отходить от лавки.
— Дзаку, Айя, — вступил в разговор Панджо-грек, давно утративший имперские права говорить важные вещи от своего имени, — Дзаку говорит, что карачаевцы разгневаны за осквернение лучшей кобылицы аракачским пастухом Карапетом, и они насылают на нашу долину потоп, чтобы смыть с лица земли долинных жителей за это…
Айзгануш остановилась и, обернув недоумевающее лицо к лавочникам, застыла всем корпусом.
Примкнувший к этому моменту к своим собратьям Андроник протестующе замахал рукой, краснея и за Карапета, и за тех, кто затеял столь щепетильный разговор.
— Неправда это, оркур, неправда! Тот нечестивец, запятнавший человеческий род осквернением необъезженной породистой карачаевской кобылицы, был зухденец Мамия Малашхиа…
Айзгануш облегченно выдохнула, поняв наконец первопричину предполагаемого Дзаку бедствия.
— Спите спокойно, ничего страшного не случится…
— А если кобылица по прошествии положенных, сроков того? — сказал Панджо. А поскольку он говорил без улыбки на лице, то трудно было понять, шутит или говорит серьезно. — У меня есть книга про такое… — И Панджо осекся, жалея, что затеял такой разговор, ибо такое касалось его прародины — Греции…
— Аэ! — подтвердил молодой абхазец-базарник, подошедший с вином в графине. — Там лошадь нарисована и, как положено лошади, — все четыре копыта, а с шеи человеческая голова. Зовут его Херон. Сам читали.
— Не Херон, а — Хирон! — поправил его Панджо и полез за книгой, чтобы показать остальным.
Дзаку прыснул счастливо:
— Значит, в Карачаеве будут иметь своего Хирона! — И, вынимая из «ножен» ладонь-клинок, он сверху вниз рассек воздух. — Смесь карачаевской кобылицы и аракачского Карапета! Надо будет спросить моего знакомого юриста, будут ли судить этого Карапета…
— За что же судить? — удивился Панджо, открывая книгу на той странице, где иллюстрировалась мирная беседа Хирона со своими подопечными из рода Зевесовых.
— Как за что? — удивился в свою очередь Дзаку и, выдержав свое удивление ровно столько, сколько того требовало предписание закона за такое содеяние, добавил: — За совращение! Есть такая статья!..
Айзгануш этих слов уже не слышала. Уверившись, что Дзаку просто дурачит Панджо, она продолжила свой путь к парку Сталина, где в центре был поставлен ему мраморный памятник во весь рост. Вокруг памятника был разбит цветник, а напротив цветника стояла большая скамья, оттуда можно было любоваться цветами и памятником одновременно. Но, проделав в сторону парка всего лишь сотню шагов, она невольно повернула обратно. Какое-то смутное предчувствие стало тяготить ее. На дне души, словно осадок, мутилось содержимое и вызывало неприятное ощущение. Однако что, она не знала, пока не всплыло в памяти сновидение, посетившее ее под утро.
Ведя за руки Цилю и Габо, Айзгануш шаг за шагом восстановила сон и содрогнулась от ужаса, связывая его с тем, что услышала у лавочников.
«Домой! Скорей домой!» — говорила про себя Айзгануш, силой увлекая за собой своих подопечных. Тут же пророчество Дзаку оформилось и зависло зловещей птицей над ней, а голос, предупредивший ее во сне сегодня не выходить на улицу, ознобом остудил сердце.
Не останавливаясь нигде, Айзгануш добралась до дома и, заперевшись в нем, стала наблюдать в окно за площадью, где люди привычно ходили — кто на базар, кто с базара.
Во второй половине дня наступило затишье: замерли вдоль площади камфорные деревья. Распластав над городом свои крылья, ветерок стал парить бесшумной птицей, высматривая свою «жертву». Лавочники, набившие желудки обедом и сдобрившие его стаканом доброго вина, разомлели, бездумно откинувшись на спинки своих сидений. Лишь в лавке Панджо по-прежнему оживленно спорили, превратив пророчество Дзаку в шутку, которая еще к тому же выявила скотоложца. И продлись еще этот разговор вокруг Карапета или Мамия Малашхиа, как вовсе бы предали забвению давешнюю тревогу, посеянную с предвестьем Дзаку. Но вдруг все разом переменилось: затишье сменилось тревогой, и люди, до сих пор беспечно ходившие по площади, руководимые чутьем самосохранения, сами того не сознавая, стали покидать общественные места и спешить в свои жилища. А только что мирно паривший над городом ветерок сделался шаловливым и, раскачивая верхи камфорных деревьев, непочтительно стал трепать их за челки.
Почувствовав приближение гнева господня и его карающей десницы, Дзаку приосанился, настороженно вслушиваясь в малейшие шорохи.
Все четверо к этому часу находились рядом: Панджо, держа свою «арфу», чтобы воспеть по примеру своих далеких предков надвигающуюся стихию в гекзаметрах, выглядывал из лавки-ладьи. Андроник, здорово побитый общественным порицанием за Карапета, сидя за низеньким столиком перед лавкой в окружении Саида и Дзаку, время от времени обсасывал обвислые усы-подкову и был в большой обиде на мясника, взявшего на себя роль прорицателя.
— Разгневались карачаевцы!.. — чуть слышно процедил сквозь сжатые губы Дзаку и задрал голову. — Уносите столик в мой духан. Там будет безопаснее.
Дзаку не без основания гордился своим духаном, поднятым над землей на высоту трех ступеней.
Саид взвалил обеденный столик, за которым они уже несколько лет кряду обедали, отнес и поставил в просторный духан Дзаку, где над прилавком с железных крюков свисали куски говяжьего мяса, покрытые ажурной «шалью» внутреннего жира, чтобы не позволить мухам засидеть, и снова вернулся к своей компании.
— Начинается… — снова процедил Дзаку и, побледнев от суеверного страха, заерзал на месте, не зная как поступить — идти к себе или оставаться тут.
На небе, словно бессчетная орда завоевателей в черных бурках, сшибались тучи, перекатываясь друг через друга, круша на пути свет и клубясь.
И лавочники, онемевшие от страха, устремили глаза, на тучи, яростно наползавшие на город. И тут на глазах у них стало меркнуть светило, еще недавно палившее сверху, а мир — погружаться в преисподнюю.
И в это время, когда живое жалось к живому, Андроник встал, пошел к своей лавке на ощупь-наугад, так как внезапно спустилась мгла, и через несколько минут известил о своем благополучном прибытии в собственную лавку душераздирающей тоской:
— Ах, сирум, сирум…
— Воет как зверь! — недовольно заметил Дзаку, как бы уходя от ожидания того, чего с любопытством жуткого страха ждали все. — Глядишь, скоро помешается…
А из густой, стелющейся уже по городским дворам мглы все отчетливее с настойчивостью безумца доносилась та же тоска:
— Ах, сирум, сирум…
— Вот видишь, дразнит карачаевцев… — снова проговорил Дзаку и скрестил руки на груди в тайной молитве к богу.
— Послушай, Дзаку, — вдруг торопливо заговорил Панджо, — может, телеграмму отбить карачаевцам?.. Извиняемся, мол, просим не гневаться за оскверненную Карапетом кобылицу. Готовы всем миром послать на предмет взаимного удовлетворения двух кобылиц самых горячих кровей…
Закончив свою устную телеграмму в Карачаевск на языке одной из частей доминантства, Панджо, сам того не ведая, допустил оплошку со словами «на предмет взаимного удовлетворения», что, конечно, не прошло не замеченным Дзаку, бурно отреагировавшим на эту оплошку, сразу же выросшую до христианских амбиций…
— Ты в своем ли уме, старик? — подскочил на месте Дзаку, ужаленный за самое больное. — Как можно позволить этим мусульманским выкрестам осквернять христианских кобылиц? Ни за что на свете!.. Лучше пусть смоет всю долину…
Буря, грохотавшая в жилах Дзаку, сменилась наскоком порывистого ветра, ветер — стрелами косого дождя. Затем на карачаевской стороне разразился гром, прокатившийся божьим гласом.
— Начинается! — прошептал дрогнувшим голосом Панджо, ощущая, как в жилах беспощадно стынет кровь.
— Аэ! — подтвердил Саид, устремляясь зоркими глазами в недвижимую даль. — Начинается! — И с этими словами неожиданно сорвался со стула и бросился в кромешную темь.
— Саит! — едва успел прокричать ему вослед Дзаку, желая не столько пошутить в этот час, сколько не изменять своей привычке. — Вот, шельмец, утек! — Он приподнялся на согнутых коленях, прижимая к заду стульчик, кое-как протиснулся в проем лавки и устроился рядом с Панджо.
— Начинается! — повторил обреченно Панджо. Но его слова утонули в грохоте разорвавшейся грозы.
На небосклоне, словно гигантский Кодори со всеми своими многочисленными притоками, вспыхнула молния, рассекая бесноватыми лучами темное пространство. Эта небесная «река» хрустнула всеми суставами, прошивая оранжевыми стрелами крыши домов, и обрушилась ливнем.
— Нана чкими цода! — простонал Панджо и, больно прижимаясь плечом к рядом сидящему Дзаку, плотно зажмурил глаза. Но и сквозь плотно пришлепнутые веки глаза успевали отметить вспышку новых «рек», теперь еще с большей устрашающей силой обрушивающихся на город.
Гроза, сминая крыши домов своей тяжелой поступью, наконец громыхнула на окраине, вонзилась в пучину моря и залегла в его глубине, чтобы накатывать со страшным грохотом валы на прибрежную жизнь.
— Что это, Дзаку?! — дрожа всем телом, протяжно простонал Панджо, видя, как в мгновение ока с холмов устремилась вода по беззащитным улицам и уже подбирается к лавке, норовя сместись ее со своего трона.
— Возмездие за тяжкий грех человека перед природой! — убежденно ответил Дзаку. — Наступил час расплаты, Панджо, и уже не минует нас десница карающего…
А между тем десница карающего из невидимой небесной прорвы неистово-зло крушила землю безудержным ливнем.
— Потоп! — выдавил из застывающей гортани Панджо, постигая смысл этого слова онемевшими губами.
— Потоп! — ответил чужим голосом Дзаку и тут же умолк, нашаривая между ног поднятую водой тряпку.
— Вава чкими цода! — запричитал трепальщик, словно оплакивая тех далеких предков человечества, кому суждено было пережить ПОТОП.
— Тише, Панджо! — оборвал его Дзаку и, уставившись в сторону невидимой площади, стал напряженно ловить доносившиеся оттуда звуки, держа в поле зрения чуть приметный огонек, мерцавший сквозь пелену ливня.
По мере того как перемещался огонек, мерцавший светлячком и тут же умиравший, с той стороны площади летели невнятные звуки, но, натолкнувшись на ливень, падали замертво и уносились завыванием ветра, порывисто слизывавшего подслеповатое пространство.
— Слышишь, Панджо? — с замиранием сердца спросил Дзаку, убежденный в том, что звуки и мерцание огонька принадлежат дому сестер Мунич.
— Нет, не слышу, Дзаку! — так же с замиранием ответил Панджо, подспудно понимая, что сейчас должно произойти что-то страшное, необратимое.
В это время, разрывая шум ветра и ливня, донесся зловещий крик Айзгануш.
— Ци-ля!!! Циля!!!
Сорвавшаяся со всех холмов вода теперь бешеным аллюром устремилась вниз полновластной рекой к бушующему морю.
За площадью по-прежнему мелькал неумирающий огонек, нагнетая тревогу.
Приковав внимание к чуть приметному дыханию огонька, Дзаку чутко навострил уши, но ничего похожего на голос Айзгануш не услышал.
По-прежнему толчками билась шумливая вода о торец лавки.
Стульчик, на котором сидел Дзаку, уже утонул по самые ножки в воде, и от давления снизу готов был выскользнуть из-под него и плыть по течению вниз, туда, куда увлекала все настойчивее нагрянувшая стихия…
Панджо, плотно прижавшись к Дзаку, тайно молил бога уберечь его старую жизнь вместе со старенькой лавкой, принайтовленной проводами к железным крюкам, вбитым в землю.
А лавка между тем, как пойманная птица, билась об железные крюки, тревожно звеня проводами.
Дзаку привстал, отчего подскочил и стульчик, на котором он сидел, и стал вслушиваться в стихию, чтобы выхватить из-за ее шума уже доносившийся до него голос Айзгануш.
Панджо, почувствовавший отсутствие только что сидевшего рядом с ним Дзаку, а между прилавком и собой — вертящийся стульчик, отчаянно закричал:
— Дзаку, не оставляй меня!
Но Дзаку в это время спустил с лавки правую ногу, а когда сбросил и левую, лавка качнулась и оттолкнула его по самые бедра в воду.
— Держись, Панджо! — выдохнул Дзаку и, оглянувшись на лавку, увидел, как она, скользя по поднявшейся воде, раскачивается на проводах. Потом ему даже померещилось онемевшее лицо трепальщика, но это было всего лишь плодом его воображения.
Медленно нащупывая устойчивую почву под ногами, тут же вымывавшуюся, Дзаку пошел на мелькание огонька. Огонек вспыхнет, погаснет. Дзаку шагнет, замрет и снова продолжает путь. И вот наконец он достиг развороченного двора сестер Мунич. Лишь настежь открытые ворота говорили о том, что двор когда-то был огорожен дощатым забором.
Низенький домик по лестничную площадку ушел в воду, а потому ступеней видно не было.
Дзаку ногой нашаривал под водой лестницу в дом, но, так и не найдя, постучал в окно, за которым бледно светилась керосиновая лампа.
— Айзгануш! Открой окно! Это я, Дзаку!
Но за окном лился лишь бледный свет лампы и слышался сиплый вздох женщины. Затем Дзаку услышал отчаянный плач уродца.
Ливень, обрушиваясь на Дзаку, стоявшего под стоком крыши, еще с большей силой готов был повергнуть его, но, к счастью, в окне он увидел Басю и заколотил еще сильней.
— Открой окно! — кричал он из последних сил, захлебываясь водой и ненавистью к глухим жильцам.
Бася невидяще взглянула на Дзаку и спросила:
— Не нашли?
— Кого? — удивился Дзаку.
Бася шумно заплакала и, содрогаясь плечами от смертельного озноба, проговорила:
— Во время грозы стояли с Цилей на площадке лестницы… Я держала ее за руку, но она вырвалась и выбежала за ворота… — Бася зарыдала и метнулась, в комнату, откуда долетал крик Габо, искавшего Айю…
Дзаку тут же отлепился от горем дышащего дома и, уйдя по бедра в воду, пошел вслепую вперед в надежде где-нибудь наткнуться на исчезнувшую Цилю.
Сорвавшаяся с северного склона вода в низину мчалась во всю прыть, толкая в спину и торопя Дзаку в сторону бульвара, за которым в зверином рыке вздымалось разгневанное море, вышибая мощными ударами валов пресную воду на прибрежные дворы.
Дойдя до водораздела и ухватившись там за ствол уцелевшего дерева, Дзаку обернулся назад и с тайной надеждой прислушался к шуму ливня, теперь уже огибавшего город и уходившего в открытое море, отчего тут же в разрывах туч забрезжила синева неба, подсвеченная сбоку солнечным светом.
Дзаку трижды перекрестился и выдохнул молитву:
— Господи, спаси нас, грешных! Дети твои!
И действительно, вскоре мингрельский бог Туташхиа сжалился над своими неразумными детьми и, видимо, переговорив с карачаевским, решил осветить мир светом своим.
Разом осветившийся город вновь засверкал обломками зеркал, внушая его жителям силу и власть всевышнего.
Оглядевшись по сторонам, Дзаку увидел, как мощно напиравшая сверху вода уже слабеет.
По широкому коридору улицы все еще продолжали плыть предметы домашнего обихода, обретшие вновь свою ценность. И люди, дотоле где-то прятавшиеся, высыпали в погоне за своими и чужими вещами.
Дзаку бросил взгляд в море, над которым тоже проливался свет небесный, и увидел лодкой раскачивавшуюся лавку Габо, а рядом с ней — целый выводок шапок. Затем за спиной у высоких кустов камфорного насаждения Дзаку услышал голос и самого Габо, стонавшего от нанесенного потопом ущерба.
— Дзаку, спаси мою лавку! Спаси мои шапки!
— Не скули, Габо! — сказал Дзаку и впервые за время потопа широко заулыбался, глядя на уплывающую вглубь моря лавку, а за ней шапочный выводок. — Дай телеграмму Шамону! Он встретит их на том берегу!
Габо тут же умолк, видимо, соображая, что ничего в мире не пропадает, и, тоже слабо осветившись улыбкой, слез с кустов и пошел к Дзаку.
— Мартали[7], Дзаку! Мартали!
Теперь они оба, обогнув половодьем ревущую улицу, пошли ее задами к площади, где изрядно поредело число лавок и духанов. И вот, ступив на крыльцо примыкавшего к площади дома, они увидели, как перевернутая навзничь лавка Панджо вместе со своим хозяином держится на плаву, вертясь вокруг прежнего места, удерживаемая одной струной проволоки.
Ослепленный страхом Панджо таращился рачьими глазами вокруг, не смея ни кричать, ни сопротивляться стихии, так удачно распорядившейся трепальщиком.
— Калимера, Панджо! — вдруг весело выкрикнул Дзаку сидящему, как в лодке, в лавке трепальщику. Но лавочка в это время развернулась спиной, и рачьи глаза перепуганного «лодочника» устремились в противоположную от Дзаку сторону.
— Непе![8] — снова закричал Дзаку, когда лавка развернула лицо своего владельца к Дзаку. Но Панджо, помелькав перед Дзаку, вновь развернулся спиной. — Слышишь, непе, затопили нас карачаевцы из-за своей кобылицы! Затопили безбожники!..
— Вай чкими цода! — застонал повернутый спиной Панджо, и от вернувшегося к нему ощущения жизни, от ее хрупкости Панджо заплакал, прикрыв натруженными руками лицо, заглянувшее в глаза смерти.
А где-то вдалеке, в глубине поверженного города, слышалась скорбная песня. Пел ее Андроник. Пел с такою силой скорби и одиночества, что всем слышавшим его сделалось не по себе, как от воя собаки на обезлюдевшей земле…
Дзаку медленно сошел с крыльца и, колотя себя в грудь открытой ладонью, пошел навстречу скорбному голосу…
Бабушара,
1986
ЦЕНА ОДНОГО УРОКА
Памяти Т. Расшивалиной
Сразу по окончании института, определившего мне в зыбком подклассе молодых литераторов профессию литературного работника, я со всех ног бросился штурмовать редакции журналов, начав с самых толстых и авторитетных. Однако пыл моих атак стал заметно угасать, когда выяснилось, что бастион приступом не взять, как не взять, впрочем, и легких башен заводских многотиражек, сотрудники коих насмерть удерживают свои позиции, некогда отвоеванные в жестоких боях.
Испытывая определенное тяготение к городу как к некоему огромному светящемуся шару, к которому очертя голову тянулось все мое поколение из окрестных деревень и окраин, я стал с некоторых пор подозревать в нем с подкожным страхом недавнего крестьянина хорошо скрытое коварство. А потому, стараясь уберечь свои крылья от возможных ожогов, дабы окончательно не утратить способность к полету, принялся осмотрительнее приглядываться к намеченным точкам соприкосновения с городом и, не найдя в них достаточной гарантии для своей безопасности, в отчаянии залег в своей комнате, чтобы заспать всякую надежду на обретение какой-либо литературной работы. Но, к моему удивлению, уже через день мне позвонили с Чистопрудного бульвара и пригласили на переговоры.
Звонивший Пашка Кобяков, мой давний приятель по рыбалке на Клязьме, и некто второй, в чьих силах было существенно изменить мою экономическую устойчивость, в один голос звали к себе, намекая на то, что характер предлагаемой работы требует «конфиденциальности». И хотя это труднопроизносимое слово резало слух, я спешно стал собираться.
Выйдя через несколько минут на Садовое, близ которого жил я тогда в большой коммунальной квартире, где ее жильцы в постоянных яростных ссорах жареную треску с винегретом круто приправляли желчью беспощадных ироний, я направился к остановке трамвая и вскоре стоял у подъезда мрачноватого дома с приземистым входом со двора, на детских крохотных площадках которого весело ржали словоохотливые дети, терзающие бесконечными вопросами сонных мам и бабушек.
Дверь в коридоре на первом этаже открыли мне сразу. Открыл Кобяков, так как второму, сидевшему в инвалидной коляске, это при его чрезмерной грузной комплекции было бы нелегко.
Пока хозяин квартиры весело разглядывал меня, в общем-то, грустными тяжкими глазами, откуда-то сбоку послышался шепоток, как позже выяснилось, литдевственниц.
Их тени мелькали по комнате, любопытствовали и, странно, таили робость.
В комнате тени обернулись небольшой группой девушек с тетрадочками в руках, должно быть, исписанными почерком их жаркого возраста, начисто отвергающего педантизм канонического стихосложения, стесняющего своими рамками бурлящие чувства.
— Поэт! — как бы из первых достоверных рук сообщил Пашка Кобяков, тряхнув желтыми кудерьками в мою сторону, и, как человек, доподлинно изучивший истинные размеры моих поэтических дарований, добавил: — Но пока его не печатают, поскольку идет с опережением графика…
Покуда Пашка Кобяков ваял из меня бронзовую фигуру, которой только и оставалось что взойти на пьедестал и застыть, девы легким наклоном головы воздали честь ее живому прообразу и слегка отступили назад, предоставив возможность приблизиться коляске и ее пассажиру ко мне. Когда же она приблизилась и ее пассажир протянул руку, Пашка подмигнул девушкам, давая им понять, что аудиенция у Семена Семеновича (так звали человека в коляске) окончена.
— Зайдите через неделю, — бросил Пашка одной из девушек, после чего вся стайка выпорхнула в переднюю. Лязгнула входная дверь, застучали каблучки, но уже по асфальту двора, и началась конфиденциальная беседа, суть которой сводилась к тому, что нужно начать сотрудничать с Семеном Семеновичем по рецензированию стихотворений, присылаемых по почте в газету всесоюзного значения, в которой работал какой-то покровитель Семена Семеновича. Сам Семен Семенович уже несколько лет сотрудничал в этой газете, принял на вооружение несколько расхожих ответов и отсылал авторов на выучку то к Маяковскому, то к Демьяну Бедному. Однако времена изменились, требования к рецензиям ощутимо повысились, и влиятельный покровитель Семена Семеновича известил своего литконсультанта, что необходимо найти какой-нибудь выход, если он и в дальнейшем дважды в месяц хочет расписываться в ведомости. Сообщение расстроило Семена Семеновича, и, обсудив за чаем ситуацию (мою и конечно же Семена Семеновича), мы пришли к согласию, что я буду писать на профессиональном, как полагали Пашка и Семен Семенович, уровне, а Семен Семенович — добывать то количество стихотворений, которое могло бы содержать вновь создаваемый концерн.
Спустя два дня, вооружившись всевозможными самописками и иронией жильца коммунальной квартиры, я встретился с Семеном Семеновичем в условленном месте на бульваре.
На бульваре было уютно.
Деревья, тронутые легким багрянцем и усыпанные сонно нахохлившимися воробьями, тихо покачивались на ветру, затененные со стороны близких домов и высвеченные солнечными лучами с другой.
После продолжительного безумства всеиспепеляющего июля середина августа несла живительную прохладу, меняя облик города и уступая место первым вкрадывающимся в пряди листвы сединам.
Устроившись напротив Семена Семеновича в конце скамьи, слегка пригреваемой солнцем, я просматривал богатую почту, извлекаемую моим сотоварищем из-под сиденья.
Ясное утро, мелькание фигур, воркотня голубей и грохот трамваев благотворно действовали на меня, и я, улыбаясь оплывшему лицу Семена Семеновича, внушавшему покой и доверие, изготовился для работы, подложив под лист бумаги один из номеров журнала «Москва».
«Уважаемый Н. П. Петров!
Мы очень внимательно (мы — это, стало быть, я, Семен Семенович и отчасти Пашка Кобяков) прочитали Ваши стихи. Прежде всего они подкупают своей искренностью и свежестью восприятия, да и тема показалась нам интересной. Но, к сожалению, в целом стихи требуют серьезной доработки. Мы специально подчеркиваем строки, которые, на наш взгляд, грешат неточностями. Просим также обратить внимание на глагольные рифмы, слабые и неуклюжие. Редакция желает Вам в дальнейшей работе успехов. С искренним уважением!
Литконсультант С. Воробьев».— Кто у нас дальше на очереди? — сказал я, протягивая готовый ответ Семену Семеновичу.
Семен Семенович, удивленный скоростью, с какой я работаю, вчитавшись в лист, восхищенно хмыкнул:
— А не надо ему рекомендовать Маяковского?
— Дадим небольшой отгул! — сказал я с некоторой самонадеянностью, но, чтоб особенно не заноситься, добавил: — Отвлечемся и от Демьяна Бедного.
К обеду прибежал Пашка с Солянки, где он работал грузчиком в винно-водочном отделе гастронома, и принес большой пакет с горячими пирожками.
— Идет? — весело осклабился он от удовольствия быть причастным к такой работе.
— Идет! — гордо отозвался Семен Семенович и помахал кипой густо исписанных листов. — Гляди!..
Пирожки были горячие, и настроение у всех отличное.
— Когда все будет лады, — сказал Пашка, щурясь на Семена Семеновича, — надо будет отметить…
Но, как показало время, концерну не суждено было пить за здравие, потому что не далее как через месяц наш союз распался по вине покровителя Семена Семеновича, перешедшего на высокую партийную работу.
Я покружил еще некоторое время без дела, разлучившись с Семеном Семеновичем и предлагая свои услуги на товарных станциях, пока мне вновь не улыбнулась удача и не подвернулась работа в газете, правда, внештатная. Но и она вскоре ускользнула, и я оказался тем, кем был сразу по окончании института, то есть — гражданином СССР с конституционным правом на работу…
И вот потускнел здоровый румянец, с таким трудом нажитый сперва у Семена Семеновича, а затем на внештатной работе, и я снова залег в гнездовьях своей коммуналки.
Я глядел в крохотное оконце, выходившее по-над сквериком на Садовом, за которым начинался Строченовский переулок, и единственное, что поднимало мне дух, так это снование студентов института имени Плеханова.
Побыв несколько дней в безмятежном созерцании, я решил-таки посетить бюро трудоустройства, располагавшееся в здании райисполкома.
Мне не терпелось как можно скорее реализовать свои физические данные на каком-нибудь заводе или фабрике, сочетая личные интересы с общественными. Удалившись от своего крестьянского корня, я готов был восполнить еще более могучий рабочий, считая сочувствие двух этих классов друг другу продолжением их духовного родства.
Поднявшись на третий этаж исполкомовского здания и выстояв там свое право на прием, я прошел в кабинет, в конце которого в окружении ярких плакатов, призывающих к романтике дальних строек, за столом сидел белогривый мужчина с неприветливым выражением лица.
— Здравствуйте! — сказал я довольно учтиво, но выражая скептическое отношение к его занятиям по рекламированию.
Мужчина качнул седой головой и с враждебной недоверчивостью брызнул взглядом, излучая стужу январских метелей.
— Понимаете… — сказал я несколько вяло, сожалея о своем визите и догадываясь, что надо будет вывернуться наизнанку, чтобы вызвать доверие к тому, что я рассказываю. На сочувствие я уже не рассчитывал.
— Что у вас? — спросил тот резко чиновничьим голосом, отрезая всякую возможность откровенности. — На ударную стройку, что ли, просишься?
— Нет! Даже наоборот! — ощерился я и, чтоб не тянуть, выложил свои документы.
Он загреб их левой рукой и принялся ворошить, быстро пробегая записи.
— Откуда мигрировал?
Я промолчал, давая возможность самому разобраться в характере моей миграции.
— Прикидываешься этаким вежливым человечком?! Знаю я вас, слава богу, съел не одну собаку…
— Я не знаю, хорошо ли это… — сказал я, отгребая бумаги назад к себе.
— Что? — крикнул он. И тут приоткрылась дверь в кабинет, показав любопытствующих посетителей.
— Закройте! — прокричал кадровик пуще прежнего и, повернувшись ко мне, застрекотал по-домашнему: — Упакую! Отправлю! Я тебе покажу Москву! Я тебе дам красивых баб! — И, грохнув кулаком по столу, принялся куда-то звонить, пригвождая меня взглядом к месту. — Ведерников! Ты слышишь меня? Кто-кто?! Гурьянов — кто! Да проснись ты! Слушаешь? Ну ладно… Так вот… к тебе от меня придет человек — устрой его на тяжелую работу! Что? Нет, не верблюд! Никаких, понимаешь, «посмотрю»! Все, Ведерников… Сам все посмотришь…
— Спасибо! — зачем-то сказал я и поднялся.
Только что злое, холодное лицо потеплело, ледяные глаза оттаяли, — Гурьянов коротко посмотрел на меня и, ничего не отвечая на мое странное «спасибо», уткнулся глазами в стол.
Я вышел на мороз, пересек Валовую и дворами пошел, к заводу Орджоникидзе, разглядывая сквозь морозное небо подобие яичного желтка, размазанного по нему.
Ведерникова нашел я за стеклом отдела кадров.
Сидел он в ватнике меж двумя женщинами, мотая коротко стриженной головой, и вчитывался в бумаги сквозь тяжелые линзы очков, упавших на кончик закругленного носа.
Ведерников поднял голову, попросил меня подождать и подозвал человека лет пятидесяти. Тот был в спецовке, заметно нервничал.
— Дорохов! Ну как, одумался? — обиженно спрашивал Ведерников. — Не валяй дурака! Ты же лучший специалист на заводе! Подожди, Дорохов, не гони лошадей!
— При чем тут лошади?! — теперь в свою очередь обижался Дорохов. — Кончай, Игорь Павлович, уговаривать! Я тебе не пацан…
— А кто говорит, что ты пацан? Ты — лучший специалист завода! Где же, Дорохов, твой патриотизм? — наступал Ведерников, не веря своему голосу. — Ты, голубчик, завод и родной коллектив подводишь! Разве так можно?!
— При чем тут коллектив, завод? — парировал Дорохов, нервно вглядываясь в Ведерникова. — Война, слава богу, кончилась…
— При чем война?
— А при том, Игорь Павлович, что, можно сказать, в землянке живу! А у меня семья, дети уже взрослые… Из окна только ноги вижу! Может, мне уже пора людей в полный рост видеть! А говоришь, что я — лучший специалист… Не уважаете вы специалистов! Все уже квартиры получили…
— Эх, Дорохов, Дорохов! — устало выдохнул Ведерников. — Ничего-то ты не хочешь понять: где твое сознание?
Женщины, вслушиваясь в разговор, тихонько поглядывали на своего начальника, пытавшегося уговорить лучшего специалиста остаться на заводе.
— Ты же двадцать два года проработал… Неужели теперь завод оставишь… Бежать-то куда надумал?
— Туда, где жилье дадут!
— Эх, Дорохов, жилье не скворечник, быстро не построишь. — Ведерников умолк и, лениво поднеся руку к переносице, снял очки, отчего закругленный нос тут же сделался похожим на валенок. Затем, переглянувшись с женщинами, бесцветно проговорил: — Шут с тобой, Дорохов, валяй! Только не пожалей!
— Что жалеть-то, — обидчиво свесив нижнюю мясистую губу, проронил Дорохов с какою-то грустью.
— Зина, оформи Дорохову документы! — бросил Ведерников, принялся тереть ладонью лицо, но, тут же вспомнив обо мне, подозвал к стойке, уронил подбородок на выставленную ладонь и стал изучать очередного посетителя.
Ведерников, обладавший, наверное, в отличие от Дорохова, возможностью созерцать человека в его полный рост, хранил и представление, о мире куда объемней и шире и знал о нем много такого, чего не могли знать все взятые вместе Дороховы.
Я отвесил Ведерникову тихий поклон и пояснил, что направлен Гурьяновым для разрешения проблемы трудоустройства.
Ведерников нацепил очки, потом снова в каком-то раздражении отложил их подальше от себя и спросил мягко, без тени иронии или насмешки, но тогда этот вопрос прозвучал для меня обидным, и я не преминул ответить в духе той обиды.
— Откуда будешь-то? — спросил он тогда.
— Есть два предположения, — отвечал я, придавая себе вид историка-исследователя, — по одному мои предки начали свою родословную от шумеров, а по другому — от эфиопов…
— Стоп! — перебил меня Ведерников, учуяв в моих исторических экскурсах отклонение от курса. — Не надо шумеров и эфиопов! Я их не знаю, и они меня тоже! Я спрашиваю… Впрочем, уже не спрашиваю…
Во второй раз за день я разложил перед кадровиком бумаги, ощущая себя при этом как перед рентгеновской камерой, которой орудует женщина.
Ведерников нехотя нацепил очки, углубился в бумаги, а закончив, постучал костяшками пальцев по столику.
— Хоть прислал тебя сам Гурьянов, — сказал он, играя пальцами, — но взять на работу, голубчик, не могу! Нет пока такого закона! А как будет — милости просим! — Ведерников загнул указательный палец, объясняя причину отказа. — Во-вторых, образование — высшее, а во-первых — без пяти минут Гоголь! А Гоголи нам не нужны! Это опять же во-вторых…
— Во-вторых, — начал я, путая количественный отсчет, — почему вам Гоголи не нужны?
Ведерников стащил с носа очки, внимательно и устало уставился на меня и, что-то решив про себя, придвинул телефонный аппарат и стал звонить Гурьянову. Не дозвонившись, с облегчением выдохнул:
— Опять же во-вторых — хоть убей! — не могу тебя взять на работу: снесут на старости голову…
Так и не разобравшись, что «во-вторых», а что «во-первых», я покинул Ведерникова, застекленного в комнате с чужими трудовыми книжками и двумя женщинами по бокам, покружив по дворам, вышел на Валовую и по пути к себе столкнулся вдруг с Бенедиктом — поэтом и авантюристом, известным во всех молодежных газетах как стряпушник дежурных стихов.
Неожиданная встреча обрадовала меня, и я с радостью пошел на сближение.
Несмотря на шумный характер и еще кое-какие погрешности натуры Бенедикта, которыми он страдал с удовольствием для себя, мне было приятно повстречаться с ним снова после такой же встречи несколько месяцев тому назад у Елоховской церкви, когда он, поглядывая одним глазом на памятник молодому Бауману (таким, наверно, и был Николай Эрнестович в жизни), а другим на прогуливающуюся по скверу женщину, разыгрывал из себя приезжего ротозея.
Главным козырем Бенедикта, коим он поражал воображение «творческих личностей», среди которых толокся и я, было потенциальное его умение переводить с еврейского. Некоторые знатоки поговаривали, будто Бенедикт в своих переводах, пока еще немногочисленных, даже превосходит оригиналы. Но шли годы, и, хоть Бенедикт жил в ореоле своей эфемерной славы, потенциальные возможности все никак не воплощались в новые книги.
Высокорослый, красивый, с густо вьющейся шевелюрой, тронутой отдельными пучками седин, что еще больше красило его овальное лицо с лукаво поблескивающими карими глазами, Бенедикт был олицетворением демонической силы.
Жило демоническое существо, однако же, на Разгуляе, в деревянном ветхом домишке, в котором и родилось, и занимало теперь две комнатенки, оставшиеся от родителей с согласия ЖЭК, постоянно пользовавшейся его услугами в дни особых торжеств.
Бенедикт живее всех высмеивал свое ремесло и его результаты, развешанные по торцам и стенам стройплощадок. Но ремесло кормило его, и не так уж и дурно, коли не одно увеселительное заведение впускало его с многочисленными поклонницами его таланта.
Не касаясь великих планов на будущее, мы с Бенедиктом обменялись новостями, а затем, выдав друг другу по паре пошленьких анекдотцев, обратились к моим трудностям относительно работы.
— Ищу, старик, дела, но вот такие пироги… — Какие, я выложил в двух словах и замолк, рассчитывая если не на помощь, то хоть на сочувствие, которым, в общем, семью не накормишь…
Но Бенедикт был не тот человек, у которого можно было выпросить сочувствие.
— Замечательно, старик! — воскликнул он, выслушав меня и воспринимая весь рассказ как пойманный удачно сюжет. — Вот и опиши все как есть! Сюжет, как видишь, сам просится в руки… — Затем, дико осклабившись, раздумчиво посоветовал: — В общем, назовешь так: «Размышления молодого литератора из коммуналки…»
Бенедикт долго еще бормотал что-то пошленькое, но обижаться на него было немыслимо, он куда острее меня ощущал реальность, в которой как рыба в воде выбирал самые удобные заводи.
— Хочу работать! — с упрямством твердолобого повторил я.
— Ну что ж, — весело закатил глаза Бенедикт, — если ты непременно хочешь работать мускулами рук, то я могу пристроить тебя к моему дяде. — Он неожиданно рассмеялся. — Великолепный экземпляр… Впрочем, как и мои родители…
— Давай, старик, сосредоточимся на дяде. Он ведь жив и может помочь мне в делах!
Бенедикт оглядел меня с некоторым подозрением, как врач своего пациента, в котором углядел нездоровые симптомы.
— Зайдем-ка в аптеку!
В аптеке шагах в десяти от нас Бенедикт спросил Раю. Та вышла в наполовину расстегнутом белом халате и чепце. Он попросил у нее листок бумаги. Вышла Рая обратно, но уже в шубе и вязаной шапочке и протянула Бенедикту зеленый узкий листочек, больше похожий на игрушечный рушничок.
— Спасибо, — осклабился Бенедикт и, прося ее взглядом подождать, принялся что-то писать крупными буквами, обращаясь к своему дяде. Завершив записку крючковатою подписью, протянул ее мне и снова осклабился.
— Не забудь, старик, в своих рассказах упомянуть о моей шевелюре…
— Пошел ты к черту! — облегченно выдохнул я, приняв игрушечный рушничок, и вышел на улицу.
Забившись в угол между аптекой и гастрономом, я расправил записку и прочитал ее вслух, чеканя каждое слово, словно свиток был рассчитан на то, чтобы донести ее смысл до многолюдного схода.
«Дорогой Соломон Маркович! — читал я. — Очень, прошу Вас устроить моего давнего друга — молодого литератора — на мускульную работу в пределах подведомственной Вам конторы».
Внизу подпись Б. и далее синусоиды в полстроки.
Свернув послание в свиток, я отправился к Соломону Марковичу.
Контора, которой он руководил, затесалась в глухом дворе вблизи Ольховки, занимая деревянный домик с крыльцом, чудом уцелевший от сноса.
У входа и на крыльце, над которым наподобие мемориальной доски висела табличка «РЕМСТРОЙМОНТАЖ», не то № 15, не то № 45, стояли люди в рабочих спецовках — теплых стеганых штанах и телогрейках — и курили.
Не испытывая особого интереса к неодушевленным предметам, я не стал особо вникать в табличку, а тем паче справляться у рабочих. Мне нужна была мускульная работа, а табличка такого характера должна была стать гарантом.
Поднявшись в помещение, за обитою дерматином дверью я нашел Соломона Марковича и, извлекши записку, протянул ему и приготовился к объяснениям. Но Соломон Маркович, прежде чем принять ее, синеглазо уставился на меня из-под припухших век и отчего-то неожиданно погрустнел.
— Звонил Бенедикт. Погляжу-ка, что он написал! Ну и ну, дважды жид… — И, пробежав написанное, отложил записку, прощупывая меня взглядом в упор: — Все сделаю для кутаисца… — добавил он и слабенько улыбнулся.
— Но ведь, — поспешил я с некоторой горечью в голосе, — я не из Кутаиси!
— Как? Бенедикт утверждал… — И слабая улыбка, обозначившаяся минуту назад на лице Соломона, холодно примерзла к губам.
— Нет, это ошибка! Я в глаза не видал Кутаиси! — искренне признавался я, сожалея, что родился не там.
— И ты не бывал в Кутаиси? — Соломон Маркович облизнул шершавые губы, отчего улыбка оттаяла, помогая ему выразить удивление тем, что я бросился на север, не побывав вблизи своего гнездовья на юге. — И ты не знаешь даже Михако Давиташвили, который на свадьбе Како Уча всадил семьдесят четыре пули в ночное небо, сидя в окружении приглашенных милиционеров?
— Не знаю, не слышал! — едва слышно пролепетал я, боясь оскорбить слух Соломона Марковича.
Соломон Маркович снова взял в руки записку, сбежавшуюся в свиток, перечитал, но уже повнимательнее, отпихнул в сторону и, нервно постучав по столу ногтем мизинца, удивленно взглянул на меня.
— Скажи, — загорелся вдруг он. — Про Нателу Мирнели тоже не слышал?!
Было ясно, что я не могу ответить ни на один вопрос экзаменатора и схлопочу, стало быть, неуд…
— И про Мирнели Нателу тоже… — сказал я невнятно, не очень стремясь быть услышанным.
Соломон Маркович устало крякнул, тяжко вздохнул, вкладывая во вздох великую досаду и грусть, и, тут же потеряв ко мне интерес, поморгал белесыми ресницами, словно желая освободиться от наваждения. Но уже через минуту-другую, беря себя в руки, бухнул кулаком в стенку сбоку, на что оттуда ответили тем же, свидетельствуя о том, что сигнал принят и надлежащая реакция последует.
Не заставив долго ждать, в дверях показалась женщина и с готовностью мягко уперлась взглядом в начальника, стараясь предупредить его желания и намерения.
— Капа! — пребывая в какой-то задумчивости, отрывисто выкрикнул Соломон Маркович, хотя та, кого он звал Капой, стояла перед ним. — Надо у нас вот этого устроить… — указал он на меня взглядом. — Правда, он почти академик, но ты сама уж сообрази, как это сделать…
Пока Капа жалостливо разглядывала новоиспеченного академика, соображая, как же его пристроить, Соломон Маркович, понизив голос до заговорщицкого шепотка, на короткое «понятно, Соломон Маркович» процедил:
— Отведи его к Сашке. Пусть обмундируется по всей форме и приступает к научной деятельности… — И тут же, перебрав что-то в уме, пригрозил кому-то пальцем: — И без всяких там штучек…
Прикрыв за собой дверь, мы с Капой покинули Соломона Марковича, затренькавшего параллельным телефоном, и пошли к Сашке.
Сидел Сашка, завобмундированием, в раздевалке в отороченном полушубке чуть не с женского плеча. С его женственного лица струился взгляд бездельника, не знающего, к чему приложить руки и мысли.
Обмундировавшись по-зимнему — в ватные штаны, телогрейку и валенки, униформу гегемона, на котором, как утверждают, покоится надежда человечества, — я вышел на крыльцо и, скрывая смущение, в ожидании команды присоединился к собратьям по труду.
«РЕМСТРОЙМОНТАЖ», как стало позже известно, не отвечал ни одной букве названия, поскольку ничего не ремонтировал и тем паче не монтировал, а катался из одного конца Москвы в противоположный, развозя неким организациям стройматериалы.
Трудно сказать, какую выгоду извлекала контора из своей деятельности, ничего решительно не производя. Но мы наспех грузили контейнеры линолеумом, мелким набором инструментов да громоздкими болванками, пригодными разве что на металлолом.
Новые впечатления и знакомства убеждали меня в том, что если когда-нибудь я засяду за стол, то смогу воспроизвести множество вещей и явлений, скрытых за шорами времени.
Правда, контора не всегда функционировала в одинаковом ритме. Выпадали дни, когда, с утра до ночи теснясь в раздевалке, мы неистово обкуривали друг друга, дурея от скабрезностей и пустословия. В такие дни, как повелось, Соломон Маркович, дождавшись конца рабочего дня, задерживал Сашку и меня, а остальных отпускал домой. И мы, зная, чем это вызвано, начищали ботинки и готовились в путь за продуктами на Ленинский, где в одном из гастрономов была директором жена Сашки.
Снабженные длинным перечнем того, что надлежало купить, мы бросались выполнять поручение Соломона Марковича, полагавшего, видимо, что он льстит нам своим непомерным доверием.
Держа большой черный баул, в далеком прошлом — портфель, давно утративший первоначальную форму, и поеживаясь от смущения, я забивался в дальний угол вагона метро, дожидаясь, когда Сашка снизойдет до разговора со мной. Но Сашка и не думал облегчать мне смущение. Он явно стыдился наших баулов, да и, по правде сказать, они были не бог весть каким обрамлением его холеному облику.
Проехав таким образом чуть не до дверей гастронома, у которых нас встретил смугловатый человек, оказавшийся заместителем Сашкиной половины, мы прошли с ним в кабинет и повалились на обшарпанный диван перед столом, за которым сидела полноватая женщина в норковой шапке.
— Что, Саш, утомил тебя Соломон Маркович?
— Ой, не представляешь как! — Сашка провел указательным пальцем чуть пониже подбородка.
Вскоре вошел и зам, остановивший на мне долгий грустный взгляд из-под сросшихся густых бровей.
— Аршак, поговори с земляком! — сказал Сашка и перевел взгляд на жену, поясняя ей, что в моем лице контора не далее как на прошлой неделе приобрела фартового мужика. — Ну чего вы, говорите на вашем соленом…
И хоть потом Сашка очаровательно улыбнулся по-девичьи полноватыми губами в ожидании соленого разговора, он его так и не дождался, поскольку мы с Аршаком Айковичем глазами выяснили нашу принадлежность к разным народам.
Угостившись в гастрономе на скорую руку стаканом водки под квашеную капусту, обратный путь с Сашкой мы провели в нарушение его стыдливой автономии, прогибаясь под тяжеловесными баулами.
— И сколько же они там жрут… — пожаловался Сашка, приближаясь к конторе, на крыльце которой дожидался нас Соломон Маркович в обществе бессловесной Капы. — На той неделе мы с Андреем Скрипником тащили…
— Семья, наверное, большая, — ответил я, ставя в десяти метрах от конторы свой баул на снег рядом с Сашкиным.
— В том-то и дело, что нет…
Скрипя по снегу, к нам подошли Соломон Маркович и Капа.
— Сашка, ты не забыл передать Анне Григорьевне привет? — поинтересовался Соломон Маркович, спокойно разглядывая баулы.
— Передал, — соврал Сашка и спрятал в воротник морозное лицо.
— Сашка, — опять заговорил, но уже просительным голосом Соломон Маркович, — сгоняй за такси… Ты же знаешь, где его можно поймать?
Минут через пять мы всей компанией ехали в такси, завернувшем к трем вокзалам, где Соломон Маркович удалил две единицы из числа пассажиров. Ими оказались Сашка и Капа. Первой вышла на привокзальную площадь Капа, чтоб добираться дальше на общественном транспорте. За ней Сашка, поджавший чуть обидчиво губы. Собрался выйти и я, поскольку мне было безразлично, с какого метро добираться домой. Признаться, я не горел желанием очутиться в квартире раньше, чем все поужинают и разбредутся по своим ульям.
— Сиди, — сказал Соломон Маркович, когда вслед за Сашкой дернулся в дверцу и я. — Поможешь поднять сумки…
У «Маяковской» мы выскочили на улицу Горького и, повернув направо, покатили в сторону Ленинградского проспекта. И тут чуть подвыпивший Соломон Маркович, словно бы ждавший этого рубежа, доверительным тоном заговорил со мной о Бенедикте, о дочери, побывавшей за ним замужем, но недолго.
— А я-то думал, — сказал я, — что он ваш племянник…
— Какой я ему дядя! — прокричал Соломон Маркович, но, тут же успокоившись, даже отчего-то повеселев, с чувством выдохнул: — Порох девка! А твой друг — дважды жид! — ушел от нее… Говорит, извини, папаша, но твоя Бася душу не греет, а у меня, говорит, представь себе, и душа, помимо прочего, есть…
В голосе Соломона Марковича с грустью за Басю уживалась и привязанность к бывшему зятю.
Проехав часовой завод, машина подрулила к подъезду.
Вывалившись с тяжелыми баулами из такси на заснеженную улицу, мы сунулись в тепло подъезда. Нас предупредительно встретила Бася в обольстительном платье малинового цвета, белозубо похохатывающая.
— Видела, видела, как вы подъехали! — сказала она, несколько раз кокетливо заглядывая нам по очереди в глаза. — А ты, папа, в подконьячном соусе, кажется… Но об этом никто никогда не узнает…
— Бакалавр искусств… действительный член-корреспондент… — частил счастливый Соломон Маркович, представляя меня дочке.
Бася вновь залилась белопенным бесшумным хохотом, мерцая крупными глазами уроженки знойных сторон.
Я глядел на нее и не мог понять, что же все-таки не устраивало в ней Бенедикта.
— А между прочим, — несколько осторожно проговорил Соломон Маркович, читая в моих глазах удивление, — твой друг — развратный субъект! Да-да! Не спорь со мной, Бася! — Хотя Бася и не собиралась с ним спорить. Она любила Бенедикта и таким развратным, о чем свидетельствовала фотография, исполненная в классическом стиле, сложившемся на заре фотодела. Фотография стояла в прихожей на краешке трельяжа.
После короткого замешательства в прихожей, связанного с баулами, Бася провела меня в комнату и усадила в кресло, указывая взглядом на рыбок в аквариуме, а сама вышла и засуетилась в кухне, рядом с которой в ванной жужжал электробритвою Соломон Маркович.
Никогда не разделявший страсти горожан к коллекционированию рыбок, я равнодушно поглядывал на столик с большим голубым аквариумом, в котором, лениво помахивая разноперыми плавниками, как светские дамы прошлого века веерами, замерла мелюзга, я грустил и сам, ограниченный узким пространством.
Но тут вошел в комнату Соломон Маркович в белой рубашке, посвежевший, сияющий от предвкушения застолья.
Между тем Бася проворно накрывала на стол, время от времени жалуясь нам на мать.
— Как у меня день рождения — у нее дежурство! Будто уж единственный врач во всей «скорой»! Папа, если позвонит Элла Моисеевна, — так она называла мать, — скажи, что я укатила к Ритке…
— Скажу, — весело сощурясь на мясные и рыбные паштеты и холодную закуску из копченой и вяленой рыбы, пообещал Соломон Маркович, терявший терпение.
И вот наступил долгожданный миг.
Воспринимая отсутствие жены как знак полной свободы духа и плоти, Соломон Маркович переместился за стол, усаживая и меня подле себя и начиная грузинское застолье с кутаисским акцентом, украшая тосты грузинскими изречениями, смачно врезавшимися ему в память. А вскоре, воздав должное внимание виновнице вечера, то есть Басе, он ударился в воспоминания, выуживая из далекого прошлого дорогие имена Михако Давиташвили и самой ненаглядной красавицы Нателы, отныне жены Како Уча, того самого, на свадьбе которого в тесном окружении приглашенных милиционеров отстрелял семьдесят четыре пули лучший друг Соломона Марковича. И не просто отстрелял, а всеми семьюдесятью четырьмя угодил в самое сердце. Но Соломон Маркович, несмотря ни на что, любил их и пил за каждого, сдабривая тосты подробностями. И я, поддаваясь настроению рассказа, да и Бася, любившая россказни отца за их романтический налет, шалели от соприкосновения с чужою тайной и млели. А неутомимый наш рассказчик сыпал из волшебных рукавов волшебные истории, напоенные любовной истомой, и понемножечку хмелел от вина и от рассказа, словно одолеваемый ностальгией по далекой чужбине, куда нет больше возврата.
— Что ты со мной делаешь, Михако — спрашиваю я, — сыпал Соломон Маркович, удивленно тараща глаза на мнимого Михако за столом. — Разве лучшие друзья стреляют семьдесят четыре раза и прямо в сердце?
Бася, должно быть забавляясь экстазом отца, вопрошающего после слов еще и глазами, ежится в сладостной жути. Но уже подуставший Соломон Маркович выходит из пике и продолжает устало, почти буднично:
— Клянусь любимой навеки мамой, — отвечает мой лучший друг Михако Давиташвили, — я влепил бы в твою честь и все сто, если бы Како Уча оказался на твоем теперешнем месте… Но Како на то и Како, что голыми руками прибрал к себе Нателу. Ты же, Соломон, ждал, когда птенчик оперится! Вот и имеешь то, что имеешь…
Так, закончив свои воспоминания, связанные с милыми его душе именами, с Кутаиси, проникшим ему в плоть и кровь, он перешел наконец и к другой программе, к танцевальной, предусмотренной, видимо, программою вечера.
— Маэстро Бася! — выкрикнул он и, молодо сорвавшись со стула, напялив на голову кахетинскую круглую шапочку, едва уместившуюся на макушке, подошел ко мне, увлек на самую середину комнаты, дурашливо завертелся с кутаисским задором: — Маэстро Бася, бей-ка нашу!
И Бася, несколько лет тому назад закончившая «бить» в училище имени Гнесиных, выскочила из-за стола, опрокидывая на ходу стулья, скользнула в соседнюю комнату, откуда сквозь распахнутую дверь проглядывал краешек пианино, и неистово «ударила».
Соломон Маркович, уже успевший раскинуть руки, одну положил мне на плечо и, выдыхая горячо, что непременно придумает что-нибудь такое, чтобы сделать существующий закон незаконным, а меня, стало быть, слить с рабочим классом, резко отпихнул меня в сторону и запел, переходя на плясовую:
Нам, грузинам, все равно, Что Натела, что Тамро… Джаная, джаная, джаная, джа-аа…Вертелся волчком и я, подкручиваемый Соломоном Марковичем, и тоже орал несуразное, придуманное в хмельном бреду.
Кахетинский вино пьем, Знаем свое дело… Джаная, джаная, джаная, джа-аа…Кружась вокруг собственных осей с раскинутыми в стороны руками, мы напоминали громадный подсвечник с подброшенными кверху чашами…
И тут распахнулась входная дверь и в нее вкатилась женщина в белом халате и колпачке, напоминая собою ярчайшее полнолуние.
Соломон Маркович, продолжая пляску, подлетел к ней и, как-то просительно улыбаясь, чуть слышно пролепетал:
— Гость у нас!
— Вижу! — прогремело в ответ.
— Из Кутаиси, — пояснил Соломон Маркович, делая сложный пируэт. — Ну как, похож на Михако Давиташвили? Ну?
— Наверно, похож, раз ты находишь, — отозвалась она, улыбнулась мне, источая радостное сияние, прошла в соседнюю комнату и, поцеловав дочь в щеку и вручив ей хрустящий пакет, торопливо покинула квартиру, оставив морозную свежесть и дух валерьяны.
С ее уходом расстроилось и наше веселье. Отяжелевшие от пляски, еды и питья, мы стали прощаться и продвигаться к лестничной клетке, поминутно пожимая друг другу руки.
Наконец, крепко ухватившись за перила, я пошел отсчитывать ступени, как-то особенно приплясывая на каждой, пока не оказался перед неистово целующейся парой.
— Пардон! — сказал я, сблизившись с парой и стремительно вываливаясь за порог.
В своей тускло освещенной ночником комнатушке я застал своих земляков, сбившихся на полу, словно рыбы в консервной банке. Ничего не ведающие тела, заполнив собою всю комнату, издавали коллективный храп под тихое мерцание ночничка.
— Которые? — спросил я жену, растроганный ее слезами.
Она сидела с вязаньем, не желавшим вязаться, и роняла слезы, остро переживая последствия перенесенной болезни…
Не в состоянии держаться на ногах, я сел подле жены и так и уснул, помня и во сне о замечательной привилегии класса на физический труд. Собственно, моя привилегия была призрачной, на что время от времени намекал Соломон Маркович, пока в один из дней не объяснил всю сложность моего положения.
— Так что же прикажете с ним делать? — хмурил брови Соломон Маркович, вызвавший на беседу с некой комиссией меня в кабинет. — Человек работал… Сколько ты проработал у нас? — как-то мягко спросил он у меня.
— Два! — коротко ответил я, понимая, что с двумя этими месяцами истекло мое право на временный труд.
— Так вот, — продолжал Соломон Маркович, — человек работал два месяца, а на третий, нате вам, пожалуйста…
— В управлении… — тихо сказала Капа, плотно сжав губы. — Они сказали, что на постоянную ни в коем случае…
Соломон Маркович тоскливо взглянул на Капу, а затем, переведя взгляд на меня, неуверенно сказал:
— Ладно, не печалься! В беде не оставлю! — повернулся к Капе: — Иди, ты свободна! — И, пошуршав, порывшись в бумагах, отыскал «свиток» и, развернув его и отступив чуть ниже от первой записи Бенедикта, стал нервно черкать ручкой, а закончив, заявил, что мне лучше на время перейти в проектный институт, возглавляемый его старшим братом, Марком Марковичем. — Такая на данный момент ситуация… — заключил он, грустнея от неизбежности нашего расставания. — Закрепишься там, зачислишься в категорию служащих с соответствующей записью, а там вновь возьму тебя, комар носа не подточит…
Я принял из рук Соломона Марковича записку. Сложив ее гармошкой, чтоб наложенным листом заслонить первую запись, вышел на крыльцо проститься с рабочим классом и приготовиться к переходу в другое качество, которое сулило мне, по словам Соломона Марковича, теплую комнату и тихое шуршание бумаги.
«Уважаемый Марк Маркович! — писал Соломон Маркович своему старшему брату, видимо, повторившему облик их отца, в честь которого и звался. — Помоги всем, чем можешь, подателю этих записок трудоустроиться в своем институте в любом качестве. С. М.»
Внимательно перечитав обе записи по нескольку раз, я затрусил к остановке и, дождавшись трамвая, поехал задами-закоулками Ново-Басманной в сторону Елоховской церкви, сочиняя про себя на случай провала любезное послание «племяннику» Соломона Марковича — Бенедикту. Благо он жил здесь неподалеку. Поэтому, прежде чем отправиться домой по Садовому, я мог легко забросить свое послание в его почтовый ящик.
На Бауманской я выскочил из трамвая и, чуть вернувшись назад, пошел мимо памятника Бауману, потом мимо Елоховской церкви, на паперти которой ветхие бабушки с младенцами скармливали голубям хлебные корки.
Любуясь сочетанием белого и голубого, я снова пересек улицу, нашел, поднялся в проектный институт и представился Марку Марковичу, ничем не похожему на своего младшего брата.
Марк Маркович, колоритная личность с мясистым лицом, сидел за длинным столом, заваленным аккуратно сложенными чертежами в кальке, и расплывчато взглядывал на меня сквозь толстые стекла очков, удивляясь форме записок.
— Я от Соломона Марковича! — сказал я зачем-то, хоть это было понятно и так и, совершенно глупея от дурного предчувствия, добавил: — Он сказал, что поможете…
Марк Маркович тем временем прочел записи, снял очки и, держа их за дужку в руке, с любопытством уставился на меня.
— А что вы умеете делать? — вдруг спросил он, поражая меня глубиной заданного вопроса, поскольку сам я никогда им не задавался.
— Мм, — замялся я, обнаруживая всю бездну своей непригодности и конечно же полезности тоже.
— Чертить вы умеете? — уточнил Марк Маркович свой вопрос. — Или вы собираетесь заменить меня?.. — Грузная фигура Марка Марковича заерзала на стуле, выказывая категорическое нежелание уступать свое место.
Я между тем продолжал молчать, во всем полагаясь на инициативу своего собеседника.
— Ну… вы имеете хоть какое-нибудь представление о специфике нашей работы? — поинтересовался Марк Маркович, поняв, что на его должность я не претендую. — Здесь мы стишками не балуемся! Для подобных занятий по праздникам направляем желающих в стенную газету… А любовных посланий не сочиняем… Даже строго-настрого запрещаем…
— Извините… — сказал я. — Не по своей воле пришел. — И потянулся к «гармошке», хотя игра на ней тоже, как мне казалось, шла к завершению.
— Ах, Соломон, он все еще во власти далекого детства, — пробормотал Марк Маркович и, чтобы смягчить свой отказ, приступил к очередной записи на третьей ступени «гармошки», а закончив сей труд, задал, видимо, последний вопрос.
— Гвозди забивать умеете?
Я неопределенно моргнул глазами.
— Вот, возьми! — с оттенком безнадежности махнул листком Марк Маркович, заканчивая наше знакомство на более близком «ты». — Тебе там помогут. — И «гармошка» раскрылась на третьей складке.
С легкой руки Марка Марковича, ознакомившись с мастерской по индпошиву обуви и ее руководителем, я пустился бродить по Москве, забегая то на Покровку, то на Ильинку, то в Китай-город, смакуя очередные библейские имена и мысленно беседуя с Бенедиктом, положившим начало моему знакомству с работодателями, расположившимися на манер Ветхого завета: «Бенедикт родил Соломона, Соломон Марка, Марк…»
«Любезный друг и собрат Бенедикт Гершвович! Благодаря вашим стараниям, а особливо стараниям ваших родственников, — упивался я дорогой, — я изучил такелажное дело, соприкоснулся с образом несравненной красавицы — кутаисской Дульсинеи Нателы — и мужественного человека, всадившего в кутаисское небо семьдесят четыре пули Михако Давиташвили, побывал в городе Кутаиси, оказавшемся в пределах «Грузии печальной…». Засим, уважаемый король газетных виршей, разлюбезный отпрыск Гершва, спешу сообщить вам, что я овладел мастерством проектирования, то есть научился забивать гвозди в башмаки местного производства. Стоял под ружьем в древнем Китай-граде, чтоб в поликлинику закрытого типа не совались подозрительные типы без специальных бумажек, учрежденных министерством здравоохранения… И еще, Бенцион Гершвович, изучил в кинотеатре «Ударник» билетерское дело. Отсюда путь мой лежит уж на гору Синайскую, чтобы сверзнуться с ее высоты. Да отольются тебе, тиран-сластолюбец, слезы терпеливца Иверия! А также твоему богу Яхве, ненавистнику других народов!»
Не жалея ног, ходил я со своей «гармошкой», принявшей после очередных записей вид веселой тальяночки, пока не прибился к высокому подъезду на улице Кирова.
Подъезд был чист и высок, соответствуя статусу учреждения. В кабинете, обитом красным деревом и уставленном книгами классиков марксизма, сидел человек стерильного изготовления. Состоял он из добротного лоска и крахмальной белизны. Тщательно проглаженного, без единого намека на складки воротничка белой в полоску рубашки. Пучеглазых запонок на белейших манжетах, то и дело стыдливо выглядывавших из-под рукавов темно-синего костюма, должно быть, приобретенного в сотой секции ГУМа, куда ведет затейливая красивая лестница, существование которой известно далеко не всем посетителям. И весь сиял, проглаженный нежной негой подкожного здоровья, застенчиво розовевшего на спокойном интеллектуальном лице. Он ждал меня в кабинете, аккуратненький, как бюст (некрупный, как всякий интеллектуал), и сиял, и сиял чищенными особой пастой зубами, промытыми синеватой тепленькой водичкой глазами. Ждал, ревниво охраняемый за дверьми кабинета, в предбанничке, молоденькою особой, то и дело подмалевывавшей глазки, на дню раз по сорок щебечущей «нет» и только раз по пять «да».
Лев Львович, так звался стерильный, встретил меня внимательным взглядом, держа мою тальяночку на весу и на расстоянии.
— Странная вещица, — сказал он, сдержанно улыбаясь влажно сверкающими зубами и косясь на вещицу, приобретшую форму студенческой шпаргалки.
Я подтвердил замечание кивком, подыгрывая тону Льва Львовича:
— Вся начинена обращениями… и места не осталось…
— Да и этажей выше нет! — скромно заметил Лев Львович, подняв глаза к потолку с лепными фигурками амуров.
— В этом, собственно, здании… — уточнил я.
— Долгий, однако, путь, — задумчиво сказал Лев Львович и, спохватившись, указал мне на стул.
Я опустился на него, понимая, что Лев Львович привык взирать на посетителей в профиль.
— Странно, — тихо, с какой-то тоже тихой печалью в голосе продолжал он, чуть-чуть обернувшись на книжные полки с классиками марксизма в малиновых переплетах. — Конституцией нам гарантировано право на труд, а она (должно быть, конституция) не срабатывает… — Лев Львович слегка сдвинул брови, как бы обещая в ближайшую пятилетку разобраться с этим, и, чуть повеселев от такой решимости, добавил: — Мы с вами сейчас немножко отвлечемся от вашей проблемы, тем более что я уже вижу ее решение в пределах этого кабинета… — Лев Львович дважды нажал на звонок, вделанный сбоку в стол, и, на минуту прервав общение с моим профилем, напомнившим ему о муках недоедания, взял в руки синюю книжечку с белыми разводами на мягкой обложке, с без труда читаемым названием «ИУДАИЗМ» и повертел ею перед собой.
Тут в кабинет влетела быстроногая секретарша, расплескивая по пути с очень тугих бедер шелковое платье. Смачно подмазанные подглазья и вычерненные брови и ресницы придавали вполне классическому ее лицу, столь редкому в наше неклассическое время, мистический оттенок.
Она подлетела к столу и застыла в ожидании указаний, слегка скосив на меня взгляд с налетом божественной грусти.
Лев Львович со сдержанным интересом поглядел на представшую и, отметив какую-то волнующую для себя деталь в ней, поднял два пальца.
— Обычную…
— Погорячее? — не выходя из кабинета, скрылась она в какую-то дверь, плотно прикрытую тяжелыми занавесками.
— Не злоупотреблю ли я вашим временем, если немножко задержу вас? — поинтересовался Лев Львович, после того как мы вновь остались одни.
— Что вы!.. — отвечал я учтиво, больше думая о жениной болезни, оцененной профсоюзом в пять червонцев, и других неприятностях.
Секретарша вынырнула из-за занавесок с подносиком, уставленным бутербродами и кофейными чашечками, над которыми стоял аромат знойного лета.
Поднос быстро проплыл по кабинету и мягко приземлился на стол Льва Львовича, чуть-чуть подавшегося назад.
— Замечательно вы это придумали, — нежно сказал он, обращаясь исключительно к секретарше. — И как это удалось раздобыть икру?
Трудно было понять сразу, чего больше в этом «как» — иронии над доставшей или насмешки над черной икрой. Но секретарша, давно, видно, привыкшая к образу мышления начальника, сперва улыбнулась, а затем промурлыкала что-то вроде «Что вы, Лев Львович!».
— Посмотри, кто у нас в гостях!.. — продолжал в своем излюбленном духе Лев Львович. — Ну конечно же ты права. Писатель!
Между тем секретарша поставила передо мной бутерброд с черной икрой, кофе и сок манго в высоком стаканчике.
Чтобы не задерживать внимания на себе, я взял с блюдца ложечку и стал помешивать кофе, не позволяя себе притронуться к бутерброду.
В минуту, когда жена, уткнувшись в подол не верящей слезам Москвы, сидела, что называется, «на воде», в крохотной комнатушке, куда время от времени набивались мои земляки, поднятые паломническим ражем в христианскую Мекку на поклонение вещам, я не мог позволить себе такую роскошь — бутерброд с черной икрой. А потому составил компанию Льву Львовичу, ограничившись лишь черным кофе.
— Надеюсь, — сказал Лев Львович, прожевав первый кусочек бутерброда с какою-то мышиной аккуратностью и запив его кофием, — ты закрыла дверь и нам не помешают побеседовать с гостем?
— Ну что вы, Лев Львович! Конечно, закрыла! — отозвалась секретарша, продолжая стоять чуть поодаль и мягко улыбаясь каждому слову начальника.
Я больше всего не любил интеллектуальных бесед. «Интеллектуалы» обычно лишены практического знания жизни, где нет места красивому разглагольствованию. Однако, становясь им в оппозицию, я не раз оказывался вовлеченным в такую беседу, за что потом ненавидел себя, что дал себе так неосмотрительно увлечься. Нечто подобное затевалось и на этот раз.
— Скажите на милость, — вдруг ни с того ни с сего обратился ко мне с неожиданным вопросом Лев Львович, утирая белоснежным платочком губы, — вы хоть как-то знакомы с постулатами иудаизма?
Я отставил чашечку и подозрительно взглянул на Льва Львовича, чтобы понять: не шутка ли все это?
Нет, Лев Львович не шутил.
— На постулатах иудаизма поднялся фашизм! — сказал я в лоб, начиная увлекаться. — Иудаизм, как и фашизм, строится на исключительности одного народа, бога над всеми богами. И если затем с молоком матери иудеем усваивается исключительность своего происхождения на земле, то легко понять другие народы, которые, живя в лоне своих богов, не захлопывают дверей перед «чужаками», обособившись в гордыне своего сознания, ибо они считают, что бог неделим и что все равны перед ним.
Я говорил еще что-то, торопясь и волнуясь, подкрепляя свои суждения страстной жестикуляцией, вскакивая и вновь садясь на стул, приводя какие-то высказывания относительно иудаизма, а в конце своей пространной лекции, уставясь чуть сердитыми и вопрошающими глазами на Льва Львовича:
— Вот представьте теперь на минуту, что бог Яхве действительно бог всем богам!..
— Браво! — тихо захлопал маленькими ладошками Лев Львович и, приглашая секретаршу в сообщницы своего восхищения, потянулся к стакану с манго.
Я, чтобы не соблазняться соком, выражая к плоти равнодушие схимника, отставил его, ощущая легкое головокружение…
— Пейте! — сказал Лев Львович, опорожнив свой стакан и улыбаясь чуть померкшими зубами. — Он хорошо бодрит!
Я ничего не ответил, но и притрагиваться к стакану тоже не стал.
Лев Львович, воспользовавшись временной паузой, потянулся к телефону и, набрав нужный номер, стал терпеливо ждать, когда на том конце отзовутся, но, не дождавшись, попросил секретаршу связать его сразу же после перерыва с отделом кадров подведомственного ему учреждения, а затем, словно обходя какие-то подводные течения, вывел ладью интеллектуальной беседы к большому острову — Толстому.
— Меня очень часто занимает, — признался Лев Львович, сияя от сформулированного им внутри себя вопроса и выданного с таким блеском мне. — На чем основано вегетарианство Толстого?.. Какая философская концепция лежит в основе?..
Признаться, я не ждал такого помпезного вопрошания, да и знания мои не позволяли судить о серьезных побудителях толстовского вегетарианства. А потому от неожиданного вопроса и смущения я стал глухо буксовать на невнятном слове. Но вскоре, собравшись с кое-какими соображениями, робко сообщил что-то вроде того, что-де Толстой устал от вида крови и в каждой пролитой капле физически осязал живое существо. И затем, завершая свой ответ, в несколько резкой форме добавил:
— Вегетарианство было результатом его долгих размышлений, и он избрал его для себя, а не для всего человечества… И никому не предлагал следовать за собой, как это принято почему-то считать.
— Замечательно! — отметил Лев Львович, вкладывая в это слово какой-то обидный для меня оттенок.
Во мне с каждой минутой что-то натягивалось, как бы испытывая на разрыв и растяжение. Подмывало желание покинуть кабинет и бежать куда-нибудь на мороз, чтоб не видеть больше ни Льва Львовича, ни его секретарши, но мое крестьянское воспитание, замешенное на учтивости и долготерпении, удерживало меня на стуле. А дела между тем шли к развязке. Час обеденного перерыва иссякал, иссякали и известные всему миру истины: не проливай крови!
Было что-то глубоко грустное и смешное в нашей затянувшейся беседе, поскольку проистекала она не столько из желания души познать непознаваемое в одиночестве, сколько из желания высветиться друг перед другом. И игра эта, поставленная на мелком честолюбии, то и дело натыкалась на хорошо скрытые подводные «рифы» Льва Львовича, должно быть, про себя итожившего сделанные им дыры на моем зыбком «суденышке», потому как его чрезвычайно забавляло мое толкование толстовского непротивления…
— Да! — горячо отстаивал я его, почему-то загибая пальцы. — Вот смотрите, что получается…
— Смотрю! — весело отозвался Лев Львович и, как мне показалось, подмигнул секретарше, но я решил не реагировать на обиду.
— Итак, — продолжал я. — Толстой, чтобы остановить неразумную грубую силу, призывает не отвечать на нее силой и, что еще важнее, глупостью… Это удел сильного, чтобы внушить тому разум и подвигнуть к раскаянию, а с раскаянием спасти его достоинство…
— В общем, он предлагает не противиться, если кто-то покусился на тебя, а дать ему измордовать себя, пока тот не устанет и с усталостью не снизойдет к нему раскаяние?.. — сказал Лев Львович, не скрывая своей улыбки. — Утопия, сударь! Утопия чистой кастальской воды… Возможно ли физически выдержать столько тумаков? Как известно, всякая неразумность сильна именно физически… Надеяться, что она поумнеет скорее, чем стоик умрет и, раскаявшись в своем деянии, упадет на колени своей жертве, — это уже, простите, глупость… — Лев Львович вдруг погрустнел, выказывая равнодушие к дальнейшей беседе. Затем поднялся со стула, обошел стол и, разминая ноги, стал изучать меня с другой стороны.
Ожила и статуя, расплескалась шелковым платьем по сторонам, что-то убирая и расставляя по прежним местам.
Невольно встал и я, повернулся к Льву Львовичу в ожидании той самой развязки, которую я предчувствовал в самом начале нашей встречи:
— Так как же со мной?
Лев Львович вскинул голову как-то неожиданно резко и переспросил:
— Как же с вами? — Он подошел к столу и перевернул откидной календарь. — Так-так… сегодня у нас вторник… Значит, зайдите что-нибудь во второй половине, ну, скажем, в четверг. Нет, лучше в пятницу! В пятницу! А сейчас мне нужно срочно на совещание в верхах! Простите, позабыл!..
— Как?!
Лев Львович отвернулся от меня и стал уходить по направлению к шторам, скрывавшим боковую дверь.
Я машинально сдвинулся с места, под отчаянный испуг секретарши нагнал беглеца и твердо окликнул.
Лев Львович, должно быть не ожидавший такого удивленно обернулся:
— Что вам непонятно?
Я взял его за лацканы и с силой развернул к себе лицом.
— Вы, Лев Львович, ничтожная гнида! — И так же с силой отпихнул на прежнее место.
Крашеные ресницы секретарши, частоколом ограждавшие два ясных неба на ее испуганно дрогнувшем лице, нервно затрепетали.
— Вы… вы… — Задыхаясь в своей молодой и красивой ненависти ко мне, она приблизилась вплотную, по-прежнему продолжая ненавидеть меня. — Вы… вы… знаете, кто вы?
Жил я в те годы исключительно разумением сердца, зачастую захлестывающим через край. Жил под горячечную его диктовку, коверкающую мысль и речь, постоянно платя беспристрастному рассудку тяжелым раскаянием и тайными слезами в подушку.
И вот теперь я был унижен и растерт собственным поступком. Я презирал свою озлобленность, преждевременную изношенность, неумение жить и ладить со временем.
А тем временем Лев Львович стоял на прежнем месте и невозмутимо разглядывал меня в упор, не выказывая ни чрезмерной брезгливости, ни чрезмерного удивления, и, выдержав классическую паузу, спокойно обратился к секретарше:
— Пожалуйста, проводите писателя!
Не давая исполниться воле Льва Львовича, я сам покинул кабинет, поспешно вылетел на улицу и, поеживаясь от внезапного холода и внутреннего разлада, направился к бульвару, чтобы, пройдя его до конца, выйти к Новокузнецкой, откуда рукой подать до моего переулка.
Бабушара,
1985—1987
РАССКАЗЫ
ГАДАНИЕ СТАРОГО ЗОСМЭ
Жил этот старик с клубничным носом на самом краю деревни у заброшенной мельницы.
Его деревянный дом с позеленевшей крышей стоял в середине большого двора под высокими лавровишнями. За домом, под кривой яблоней, изувеченной грозой, неустанно журчал родник, зазывая прохожих утолить жажду и посидеть в тени.
Неухоженная усадьба одним боком подгнившего забора упиралась в мельничную запруду, а тремя другими выходила на дороги, ведущие в соседние деревни. Этому дому сама судьба определила самое оживленное место на распутье, чтобы дать уставшему путнику стакан-другой ключевой воды и ободряющую свежесть прохлады с беседой старого хозяина.
Обычно старик сиживал на маленьком стуле перед домом и дремал с приоткрытым ртом, издавая клокочущие звуки. Дремал он чутко, как старые дворняжки. Стоило кому-нибудь ступить на пыльные дороги, как тут же захлопывался рот старика и открывались глаза. Углядев зорким оком бредущего путника, он поспешно покидал свое место и выходил за ворота, чтобы затеять с прохожим беседу.
А если случалось, что у кого-то приболела корова или еще какая-нибудь живность и, как всегда, помочь им не в силах были наши ветеринары, которые избавляли животных от страданий в основном отсечением головы, то обязательно бежали к старику. Зосмэ в таких случаях не отказывал никому, так как за приготовленное им снадобье полагалось уплатить на месте, и чем щедрее, тем вернее действие…
Зосмэ за его общительный характер и за знахарские мудрости уважали в деревне и за эти же мудрости побаивались. Во всяком случае, к нему обращались лишь в крайней нужде.
Лечил Зосмэ людей от многих болезней. Но охотнее и лучше всего избавлял он детей от дурного глаза.
Благодаря его усилиям и заботам родительниц от пагубного влияния сглаза была предпринята своего рода «прививка» — каждый ребенок нашей деревни носил на груди ладанку, приготовленную руками сердобольного знахаря. Но этим далеко не исчерпывались познания старика: его основным призванием, принесшим ему славу непревзойденного искусника, было гадание на куриных крестцах. Тут он был чародеем. Как поп евангелие, читал он крестцы, предсказывая судьбу… Одним словом, слыл очень талантливым гадальщиком. О силе его волшебства ходили самые невероятные слухи. Рассказывали, будто бы старец указал одной приезжей женщине, где и в каком доме следует искать мужа, канувшего темным вечером в невидимые провалы страстей… И всякое другое, чему было трудно поверить, но верили, поскольку не терпелось испытать магическую силу старика на собственном опыте.
Самыми добрыми почитателями таланта Зосмэ были старухи.
Шли они к нему из отдаленных районов. Только им была по-настоящему известна божественность его ремесла.
Когда какой-нибудь засидевшейся девушке не терпелось заглянуть в свою судьбу с единственной целью узнать, скоро ли, черт бы его побрал, явится за ней неторопящийся жених, она приглашала Зосмэ на зажаренную курицу. Но если женщина интересовалась судьбой мужчины, она должна была принести в жертву петуха — этого требовал закон гадания.
Однажды случай сделал меня невольным свидетелем одного гадания Зосмэ.
Перед самой войной из глубины Мингрелии к нам приехала погостить двоюродная сестра моей матери. Ее звонкий смех и бойкий характер соответствовали духу моих далеких предков, заселявших знойные долины.
Нашу гостью, как вскоре выяснилось, как и многих наших родственников, живших в горах, тянула к нам неодолимая страсть к чернозему. И если их желанию так и не суждено было осуществиться, то виной тому война, открывшая жителям гор всю неприглядность долины во время воздушных налетов.
В ту предвоенную пору мою засидевшуюся тетю интересовали не только плодородная колхидская низменность и море, но конечно же жених. Здесь она надеялась поймать быка за рога. А для этого нужно было узнать, где валандается тот самый бык. И вот в один из прекрасных дней мая тетя пригласила к нам в дом Зосмэ.
В отсутствие моих родителей тетя выбрала лучшую хохлатку. И теперь на столе Зосмэ поджидала подрумяненная курица с горячей мамалыгой и бутылка черного вина.
Мне показалось, что тетя не имеет права гадать на себя, принося в жертву нашу курицу. Честно говоря, меня это даже расстроило. И я решил помешать тетиной затее. Я жаждал справедливой мести. Во что бы то ни стало я хотел отомстить за курицу и тете и старику одновременно. Но когда все мои попытки съесть курицу еще до прихода Зосмэ не увенчались успехом, я решил припугнуть тетю угрозами рассказать обо всем отцу.
— Я все расскажу папе, когда они приедут! — погрозил я тете.
Тетя хоть и улыбалась на мои угрозы, но было видно, что ей не хочется краснеть перед моими родителями, уехавшими в город в надежде, что за хозяйством будет присмотрено.
И я, как бы давая ей шансы на обдумывание своего поступка, а также предлагая компромиссное разрешение инцидента, мягко, но требовательно сказал:
— Тетя, отрежь ножку!
Но тетя с упрямством воспитанницы гор решила настоять на своем, взывая к совести:
— Неужели тебе не стыдно? Пожалел для тети курицу!
— Отрежь мне ножку! — тянул я настойчивее.
— И это говорит мой племянник?! — удивлялась тетя, стараясь взять меня нежностью. — И тебе не стыдно? Ай, ай, ай.
Мне было действительно неловко за мелочность. Но я очень хотел курятины и, преодолевая стыд, хныкал:
— Хочу ножку!
Курица лежала на боку, прикрывая бесстыдную наготу краями глубокой тарелки, и томила ребяческую душу.
Но вскоре ключ ко мне был найден.
Тетя обещала вызволять меня из-под надзора моих родителей, никуда не выпускавших со двора.
За усадьбой лежали небольшие лужайки, а за ними начиналось море — синяя долина вод. И я хотел гулять на тех лужайках, трогать руками грозное море. Мне всегда казалось, что мир, в который замкнули меня родители, гораздо хуже того, что ждал меня в будущем. Теперь я каюсь перед ними, что слишком рано вырвался из-под их опеки и пустился в тот мир, в котором не нашлось ничего такого, что могло бы заменить мне родителей.
Зосмэ не заставил себя ждать.
Он пришел сразу после того, как мы с тетей уладили наши отношения.
Старик был в свежей рубашке поверх черных галифе, на ногах мягкие азиатские сапоги. Борода и усы были аккуратно подбриты. В серых плутоватых глазах бегали неугомонные чертики.
Тихо отворив калитку, он поклонился вышедшей навстречу тете. Затем, оглядевшись по сторонам, засеменил по направлению к дому, время от времени взглядывая на тетю и улыбаясь сладостной улыбкой, должно быть вызванной запахом зажаренной курицы, а может быть, видом самой тети, поспешавшей за ним.
— Славная девушка! — похвалил Зосмэ тетю, очутившись перед высокой лестницей, ведущей в дом, и протянул ей руку.
Вид у тети был такой, словно она сейчас же собиралась схватить своего жениха за холку… Но тот, кто поднимался с ней рядом, опираясь на ее руку, не был похож на того жениха, который был нужен тете.
Поддерживая высохшую руку старика, тетя то и дело следила за мной тревожными глазами, чтобы я не скользнул раньше гостя в дом и не съел курицу.
Поднявшись в дом, Зосмэ тщательно вымыл руки и, поклонившись почему-то печке, а не распятию Христа, заточенному в бутыль и стоявшему на посудном шкафу, удобно уселся за стол все с той же улыбкой на лице, с какой вошел к нам во двор.
По правилам гадания, тетя должна была стоять в стороне и молча переживать свою судьбу, какой она выйдет, пока старик не поднимет на свет крестец, чтобы прочитать по красным прожилкам тетину долю…
Придвинув тарелку с курицей и убедившись в том, что мы занимаем правильную дистанцию, Зосмэ приступил к первому этапу гадания: с хрустом выкрутил ножки у курицы и положил в тарелку с томатным соусом, затем с треском оторвал крылышки и, сунув одно из них в рот, движением губной гармошки обглодал до костей. Потом мясо заел мамалыгой и, снова повернувшись к нам, не поддаемся ли мы искушению сатаны, продолжал волхвование — возбужденно урчал, как раззадоренный зверек, захлебываясь животным восторгом. А в моих ушах стоял хруст нежных куриных косточек, вызывая холостое движение кадыка. Мой завистливый взгляд был прикован к курице, которая теперь напоминала дерево со сквозным дуплом и обрубленными ветвями.
— Тетя, — не вытерпел я, — неужели он съест всю курицу?
Тетя наклонилась ко мне и тихо пожурила, не забывая при этом улыбаться старику.
— Я хочу курицу! — повысил я голос в надежде, что моя просьба будет услышана взрослыми.
Но вместо ответа тетя одернула меня, а вымазанная соусом борода старика с недоумением уставилась на нас…
Мне показалось, что Зосмэ весь ушел в курицу. Но вскоре, к своему удивлению, я заметил, что, наоборот, курица ушла в него и в нем проступил старый плутоватый мингрел.
Теперь он держал полный стакан с вином и шептал что-то такое, отчего становилось смешно и грустно моей тете, не знавшей, как поступить: смеяться или нет, поскольку и то и другое было глупо. Наконец старик поднял седую голову в редких волосах и движением руки подозвал тетю. Другой рукой он поднес крестец к глазам и, прищуриваясь то одним, то другим глазом, стал внимательно его рассматривать, тут же предсказывая жениха с какой-то сложной и запутанной дороги к ней — тете!
На что всякий раз, как только ее неведомый жених шарахался в какую-то крайность, непростительную для жениха такой невесты, как моя тетя, она вскрикивала и, всплеснув руками, молитвенно шептала:
— Сохрани его, господи, не дай погрязнуть во грехе неотвратимом!
Но тетю такое сообщение о женихе явно не удовлетворяло. Она хотела знать, где его носит и скоро ли он явится за ней, а по возможности хотя бы увидеть издали.
— Дедушка, скажите, в каких он краях? — спросила тетя, словно желая почувствовать своего жениха на ощупь. Мы, не дожидаясь ответа, так громко расхохотались, что старику сделалось нехорошо. — Мне бы, дедушка, только узнать, где он! Только бы раз увидеть! Ах, его нет, наверное, вовсе…
Зосмэ, удрученный приступом тетиного веселья, все еще продолжал держать крестец и глупо разглядывать, хлопая белыми, как у теленка, ресницами. Однако после некоторого замешательства старик взял себя в руки и, гася внезапный приступ тетиного веселья и отодвигая ее — тетю — на положенную дистанцию, строго заметил:
— Гадание не терпит кощунства! — Затем протянул крестец тете и добавил: — Береги его! В нем сокрыта твоя судьба…
Эти слова Зосмэ быстро охладили приступ веселья. Тетя робко протянула руку к крестцу и, виновато опуская глаза, проговорила:
— Простите, дедушка!
Тем временем, пока тетя приносила извинения Зосмэ, а он принимал их и потом в знак примирения оба выясняли значения кровянистых прожилок на крестце, я тихонько подобрался к тарелке. В ней еще оставался кусок, отделенный от крестца гадальщиком себе на ужин. Улучив минуту, я схватил его и выбежал во двор, жадно впиваясь в поджаристую курятину. Запретный плод пьянил мою ликующую душу. И, кажется, наш черный петух, сам только что испытавший это чувство с соседской, белой как снег курицей, разделял мою радость. Беспутно гогоча, словно пьяный гусар в старом фильме, он подошел ко мне и, вскинув голову, похлопал крыльями, что, как видно, означало: «Да здравствует вожделение! Да здравствует победа! Ликуй, мальчик! Только отбитый силой кусок имеет вкус неповторимый!» Потом метнулся в глубину двора и одним взмахом мощных крыльев взлетел на айву.
Через несколько минут мимо айвового деревца прошел Зосмэ, мечтательно поглядывая на петуха.
Старик, не получивший ни остатка от курицы, ни платы за гадание, что давали ему везде независимо от исхода, в общем-то, выглядел довольным, хотя мой дикий поступок должен был поиспортить ему настроение. Как-никак лакомый кусочек, оставленный на ужин, был уведен…
Тетя, держась рядом со стариком, по-прежнему выглядела легкомысленной. Слишком уж откровенно она веселилась, источая нерастраченную силу женского обаяния и темперамент горного жителя.
И я понял, что прав тот, кто умеет так весело ходить по этой невеселой земле.
Тетя, ласково поглаживая по спине старика, все пересыпала шуточками:
— Дедусь, а дедусь, если тебе попадется тот самый скакун, не забудь указать ему истинный путь…
Но предсказаниям Зосмэ и надеждам моей тети не суждено было сбыться. Вскоре началась война.
Теперь нечего было ей мечтать о замужестве — все женихи были призваны на фронт. И шансы укрепиться на благодатной колхидской долине были ничтожны. Но тетя вопреки здравому смыслу продолжала верить своему счастью. Всегда веселая и бодрая, она помогала матери вести хозяйство и была полна неутолимой жажды любви к своему неизвестному жениху, заранее горячо любимому. И эта любовь помогала ей легко переносить лишения и трудности военного времени. Однако любовь уступила место страху, когда со стороны моря на нашу благодатную долину посыпались проклятия из подводных лодок или еще из чего-то другого в виде разрывающихся снарядов… И это окончательно сломило веру моей тети и решило ее судьбу. Не выдержав этого ада, тетя собрала все свои приманки, с помощью которых собиралась пленить жениха, и подалась в горы. Оставаться здесь дольше и рисковать жизнью было бессмысленно, имея защищенный от врагов очаг в горах. Так бесславно закончилась попытка моей тети. Не схватив быка за рога, не обработав заветный кусок колхидской долины, она увезла разбитую мечту и вместе с ней неутоленную жажду молодой женщины, чтобы навсегда увязнуть в горах никем не замеченной.
Если с началом войны закатилась звезда моей тети, то этого нельзя было сказать о Зосмэ. Теперь его развозили по всем деревням нашего района и держали в почете не меньше самого доктора Попова. С ним, как и с Поповым, держались уважительно, заискивали, принимая руку двумя. Шли приглашения к Зосмэ из разных мест. Женщины, интересуясь судьбами мужей на фронте, непременно прибегали к помощи гадальщика. Зосмэ по мере возможности откликался на эти просьбы, что позволяло ему постоянно менять платье и носить бороду, пахнущую соусом и жиром курятины. Несмотря на беды, приносимые войной, и старания Зосмэ предотвратить эти беды, казалось, что куры в деревне не переводятся и Зосмэ может еще долгое время быть радетелем человеческих судеб. Однако это было обманчиво, так как в своих радениях Зосмэ был не одинок. Ему, и довольно успешно, в этом помогали и другие. Например, сам председатель сельсовета, считавший, что у этих глупых птиц довольно неглупое мясо. Если же Зосмэ угрожал только курам, то вышеупомянутый председатель сразу курам и их хозяйкам. Пока шла война, ничто не могло воспрепятствовать им — председателю и Зосмэ — в этом. Но война затянулась, а к истреблению пернатых подключились еще вышестоящие товарищи, и в деревне за короткое время, к удивлению Зосмэ и хозяек, куры перевелись: то ли учуяв опасность, то ли еще что, но совсем не слышно стало квохтанья во дворах, а горластые петухи осипли и перестали петь; жалкие остатки куриного царства вели себя осмотрительнее, как бы уйдя на нелегальное положение. Они допоздна отсиживались в садах и лишь с наступлением ночи вслепую двигались к своим шесткам.
Пусто стало и в нашем дворе.
Только одна потрепанная курица-голошейка возилась под разросшимися кустами фейхоа да черный петух, единственный на всю деревню, жалкий и трусливый. Теперь ничего в нем гусарского не было. Он дрожал за свою жизнь, унизительно хоронясь в темных местах на виду у единственной представительницы уцелевшего гарема. Петух хотел выжить даже ценой такого унижения, чтобы потом, взобравшись на крышу дома, смело, во все горло возвестить о завоеванном ценою унижении и огромных жертв мире…
У Зосмэ тоже были свои планы: во что бы то ни стало пережить тяжелое время войны с приятным вкусом во рту. Жестокая конкуренция значительно снижала шансы Зосмэ. Тем не менее он не думал легко сдаваться. Иногда ему удавались хитроумные уловки, и тогда кое-кому приходилось раскошеливаться — резать последнюю живность.
Однажды, когда прошли по деревне слухи о гибели отца, будто бы сложившего голову на Керченском проливе, откуда писал он свои последние письма, Зосмэ всячески стал подкреплять эти слухи видениями, посещавшими его во время чуткого полусна. И, чтобы научно обосновать эти опасения или же, наоборот, отвергнуть их, он требовал петушиного крестца, так как речь шла о судьбе мужчины.
Но мать, вместо того чтобы внять настойчивым опасениям Зосмэ, ночами молила бога сохранить нашего защитника целым и невредимым, не опускаясь до суеверных страхов. То ли она жалела петуха, то ли не верила гаданиям Зосмэ, но упрямо держалась подальше от него. Зосмэ же, умудренный опытом долгой жизни, ждал, не слишком торопя время. И порой как бы случайно заглядывал к нам во двор и осторожно начинал интересоваться письмами отца, словно желая пополнить новыми сведениями с фронта уже имевшиеся.
— Спасибо, Зосмэ, пишет, что скоро победят… — врала мать, и по ее глазам было видно, что и сама она начинает в это верить.
— Дай-то бог! — как бы усомнившись, говорил Зосмэ и, ничего не прибавляя к своим сомнениям, начинал рассказывать доверительным тоном о каком-нибудь солдате: — Бедная Маро… Она не ведает, что ее сын погиб под Сталинградом… Страшные дела творятся, Илита, страшные.
Таким образом изо дня в день сея страхи в сердце матери, Зосмэ исподволь приближался к нашему двору.
И вот, сломав упорство матери, он испытанным путем пришел к нам и теперь сидел у костра и потирал руки. Вид у него был далеко не из лучших: совсем потускнели водянистые глаза, вылез из сивой бороденки крючковатый нос с большими пропастями, поросшими длинными седыми волосами, поизносилось платье. Мокро и неуютно было обличье старика.
— Страшные сны одолели, Зосмэ! — осторожно начала мать, внимательно разглядев старика. — Боюсь за мужа… Может, погадаем, а с гаданием утешение придет…
Зосмэ, долго ждавший такого разговора, потрепал пухленькой рукой местами свалявшуюся бороденку и устало вздохнул:
— Не ты одна нынче тревожишься, Илита!
Мать раздула огонь под треногой, набрала в чугунок воды, пошла в дом и вышла оттуда с кукурузным початком, луща его в карманы халата.
Осенний день тяжело хмурился, нагоняя морскую сырость и туман. Порывистый ветерок налетал на костер, лизал языки пламени и умирал.
Зосмэ, сжавшись в маленький потрепанный комок, зябко водил плечами. Свалявшаяся бороденка, как шерсть на старой собаке, сухо шевелилась отдельными пуками, пригретая огнем. У ног старика покоилась бамбуковая палка.
Мать прошла в огород, пересыпая с ладони на ладонь кукурузные зерна, заглянула под мандариновые кусты и тихо принялась вызывать притаившуюся тут же курицу-голошейку.
Зосмэ вытянул в удивлении шею и оскорбленно проговорил:
— Почему курицу, Илита? Разве не на мужа гадаешь?
— На мужа! — тихо ответила мать дрогнувшим в страхе голосом. — А что?..
— Эта курица не наших кровей! — еще более сердито заметил Зосмэ.
Мать, испугавшись, что курица склюет все зерна, пока она будет спорить с Зосмэ, на всякий случай поймала неказистую голошейку и, держа ее за ноги, сделала еще одну попытку отстоять петуха:
— Разве у этой курицы не тот же крестец, Зосмэ?
Зосмэ, разглядывая жалкий трепещущий комок издалека, сморщился, брезгливо сплюнул в костер и, пытаясь встать, категорически отверг:
— Эта курица, уважаемая Илита, не нашего происхождения… Она не может стать предметом, пригодным для гадания…
— Ну, раз так, — сказала мать после некоторого раздумья и выпустила курицу. И уже без всякой хитрости добавила: — Но как поймать петуха? Он совсем одичал…
В котле вода уже весело булькала, требуя жертвы. Но жертва хоть и была определена, ее еще нужно было поймать.
Я сбегал в дом за шпагатом и, связав его петлей, разложил под кустами фейхоа, подбрасывая в круг кукурузные зерна.
Мать, стоя рядом со мной у конца шпагата, ласково подзывала петуха, чтобы уверить его в том, что ничего плохого с ним не собираются делать.
Петух после долгого упрашивания осторожно вышел из-под кустов и, издали покосившись на кукурузные зерна, не ринулся на круг, как того хотели мы, а шел не спеша, размеренно, с временными остановками, давая себе возможность подсмотреть, не таится ли опасность за этими зернами. Но вот наконец приблизился к петле, измерил расстояние до зерен взглядом и, встав прямо на бровку петли, с чуткой осторожностью принялся склевывать их, победно улюлюкая после каждого склеванного зерна.
— Дикий! — со скрытой радостью проговорила мать, оборачиваясь на Зосмэ, словно оправдываясь перед ним за поведение петуха. — В тяжелую годину дичают даже домашние птицы!
Она подбросила еще несколько зерен, ласково заманивая петуха в круг.
Увлекаясь этим своеобразным поединком с петухом — кто кого перехитрит, — сам того не замечая, я стал заражаться охотничьим азартом. Трусливое гоготание петуха вызывало у меня отвращение к нему. И я, совсем позабыв о Зосмэ, принялся усыплять его бдительность ласковым призывом, при этом ни на секунду не расслабляясь и держа конец шпагата наготове.
Петух, должно быть, как бывает с трусами и хвастунами, польщенный излишним вниманием, потерял бдительность и переступил бровку петли. Петля молниеносно затянулась на его ногах. И тут, когда дело уже было сделано, я понял, что стал слепым орудием мести в руках хитроумного Зосмэ. Но отступать теперь было поздно.
Мать тут же подошла к петуху и, подняв его, пошла к зловеще бурлящему котлу.
Гордость всех петухов, когда-то славивших наш двор, черный породистый петел жалко свисал с рук матери, схваченный за ноги.
— Это был один из лучших петухов! — сказала мать как можно жалостливее, подходя к костру, у которого сидел Зосмэ, и опустила голову петуха на полено, чтобы ударом топора отсечь ее последнему из лучших представителей фауны.
— Ничего, Илита, бог даст еще! — ответил старик с клокочущим волнением в горле.
Мать еще раз повторила:
— Породистых кровей, таких теперь не разведу!
Тем временем, пока между матерью и Зосмэ продолжался поединок, который явно заканчивался в пользу старика, петух, находясь во власти дурного предчувствия, неистово бился о землю, норовя клюнуть матери руку. Но все это было напрасно. Мать с силой придавила петуха к земле, и теперь беспомощно распластанное тело мелко подрагивало под ее руками…
— Неси топор! — сердито прикрикнула на меня мать. — Чего стоишь, иди!
Я ленивой походкой направился к сараю, сопровождаемый подавленным горловым хрипением петуха.
— Нету здесь топора! — отозвался я из-за сарая, держа в руке топор и норовя его куда-нибудь забросить.
— Ищи лучше! — подвергая мои слова сомнению, сказала мать.
— Нету здесь топора! — снова соврал я и размахнулся, чтобы зашвырнуть его в огород.
Но тут из-за угла сарая выросла мать с несчастным петухом на весу. Приблизившись вплотную с каменной суровостью во взгляде, она протянула ко мне свободную руку:
— Отдай!
Настойчивость матери заставила меня подчиниться.
Я отвернулся от нее и с ненавистью протянул топор.
И, унося в одной руке топор, а в другой — петуха, она пошла обратно к огню. Но не успела дойти, как вдруг неожиданно, грохоча колесами, у наших ворот остановилась телега. Затем скрипнула калитка и послышался знакомый голос, ошалевший от радости:
— Тетя Илита! Тетя Илита!
Это был колхозный извозчик, мальчишка лет тринадцати по имени Арсен. Он стоял в середине двора и продолжал звать:
— Идите скорей! С вас причитается за радостную весть.
Наконец, завидя нас, растерянно идущих на крик, сунул пальцы в рот и лихо засвистал.
Пройдя еще несколько шагов, я встал как вкопанный посреди двора. Непонятное чувство страха сковало меня.
За приоткрытой калиткой стояла колхозная подвода. Рядом с ней на одной ноге, опершись на костыли, возвышался отец. Обросший серебрящейся колючей щетиной, безрадостно озирался по сторонам. За плечами его болтался тощий армейский вещмешок.
— Иди, иди! — в порыве радости сказал Арсен, подталкивая меня в спину навстречу отцу, уже вступившему на зеленый двор.
Отец шел рывками, раскачиваясь на костылях и приземляя израненное тело на одну ногу через равные промежутки.
Не выдержав накопившегося горя, я заплакал в крепком детском отчаянии.
Мир входил в наш дом на одной ноге.
— Иди, сынок! — тихо сказала мать, как пораженная, стоя на месте, по-прежнему не выпуская из рук топора и улюлюкающего в страхе петуха. — Иди, отец ведь твой…
Арсен, по-взрослому скрестив на груди руки, широко улыбался, переводя взгляд от одного к другому. Затем, увидев идущего на шум Зосмэ, весело напомнил:
— Тетя Илита, не забудь про магарыч!
Мать, наконец опомнившись, бросила топор на землю, выпустила петуха и, тихо плача, пошла навстречу отцу.
А петух, стрелой пролетев мимо посрамленного гадальщика, взлетел на крышу дома, с крыши — на печную трубу и, встав на одной ноге, принялся воспевать непрочный мир человеческого бытия…
Москва,
1968
ГРОБОВЩИК
Габриэль был у нас единственным гробовщиком на всю округу.
И хотя покойники не выражали ему своих восторгов, но надо сказать, что гробы у него получались добротные и пользовались заслуженным успехом заказчиков. Никто другой не мог соперничать с ним по части этого ремесла. Неустанный кропотливый труд и необыкновенное волнение, с каким приступал он к очередному заказу, снискали Габриэлю славу взыскательного мастера. Имя гробовщика было широко известно даже за пределами нашей округи. Габриэль, на заре своей юности утративший всякое уважение к живому, тепло и сочувственно относился к покойникам.
Трагическая случайность, открывшая в нем незаурядный талант гробовщика, давно позабылась. Теперь мало кто помнил влюбленного юношу, бескорыстно сделавшего свой последний подарок любимой. А началось ведь именно с этого.
В один из майских дней шестнадцатого года трагически оборвалась жизнь красивой княжны Шервашидзе.
Тронутый скорбным известием девятнадцатилетний Габриэль, тайно любивший княжну, отважился войти в княжеский дом, чтобы проститься с любимой.
Аккуратно убранная княжна возлежала на персидской тахте и казалась заснувшей: не тронутое солнцем лицо ее было безмятежно чисто, веки тихо прикрыты, словно для того, чтобы соединить сон и явь невинной усмешкой.
Поднявшись на цыпочках в зал и приблизившись к княжне, Габриэль рухнул на колени, затем, легонько прикоснувшись губами к ее одежде, глухо, по-мужски зарыдал. Но тут чья-то твердая рука подняла его на ноги и вывела во двор, где убитый горем старый князь скулил, как раненый зверь. Габриэль, боясь княжеского гнева, в отчаянии покинул двор и, очутившись наедине с собой, молитвенно воздел руки:
— Господи! Обрати все это в сон! Не дай угаснуть надеждам…
Но бородатый лик господа, пригрезившийся Габриэлю, лишь мелькнул в разрывах туч и тут же растаял.
Возвратившись домой поздней ночью, Габриэль заперся в сарае. И, не притрагиваясь к еде, принялся собирать свой последний подарок княжне.
Дивились домашние, слыша стук молотка и шуршание фуганка. Раньше никогда они не замечали за Габриэлем тяги к столярной работе. Но вот отворилась дверь сарая и из нее показалось угрюмое лицо юноши, а затем и гроб.
— Везите мои убитые надежды! — проговорил он и упал лицом на молодую траву.
Так сработал Габриэль свой первый гроб для любимой.
Князь, узревший смертельную боль в этом скорбном домике для дочери, выполненном с таким тщанием, разрыдался пуще прежнего. А собравшиеся вокруг гроба знатоки дивились мастерству Габриэля.
Конечно, гроб нельзя назвать поэмой, но и в нем, как и в стихах, билось взволнованное сердце творца: инкрустации и другие украшения были отточены страданием молодого Габриэля.
— В этой работе, князь, излита скорбь нашей семьи! — печально проронил отец Габриэля, привезший вместе с гробом и безутешное сердце своего сына.
С этих пор Габриэль, не забывший о своей скорби, время от времени брался мастерить гробы. Его неотвратимо тянуло к верстаку. В глухом одиночестве, отдавая дань грустному человеческому обряду, он, с редким для себя наслаждением, упивался своею болью… Выставив собранный гроб перед мастерской, он обхаживал его со всех сторон и удовлетворенно щурился: «Справная опочивальня!» И тут же начинал тосковать по новой работе. Никакое другое дело теперь не привлекало его. С самого основания колхоза он был зачислен в плотницкую бригаду, но так и не приобщился к ремеслу по-настоящему — работал с прохладцей, без огонька и смекалки. Не лежало сердце и к хозяйству. Обширный сад и земельный участок после смерти родителей отчуждались, обрастая плющом и колючками. И сам Габриэль жил в отчуждении, жил своим ремеслом, когда кому-нибудь выпадала нужда смастерить вечное обиталище. Да и человек его интересовал теперь, лишь когда переставал быть человеком и превращался в странника, которого по обычаю надобно снарядить для вечного странствия…
И все-таки, несмотря на заботу, проявляемую к покойникам, Габриэль не избежал как-то серьезной ошибки. Вышла она по причине неправильного обмера. В подпитии он снял мерку с усопшего, но, как потом оказалось, что-то напутал и в результате гроб получился короткий. И сколько ни старались родственники втиснуть в него своего покойника, из этого ничего не выходило, так что гробовщика уже собирались поколотить. Но под утро Габриэль въехал во двор рассерженной родни с новым гробом, да таким, что вместо трепки получил дополнительную сотенную. Но если родственники покойного простили Габриэлю ошибку, то сам он ее себе не простил. Короткий гроб как немой укор своей совести он поставил в мастерской на самое видное место.
Мастерить гроб, как правило, Габриэль начинал лишь после тщательного осмотра покойника: с любопытством скульптора изучал он лицо усопшего, чтобы облечь его истинное выражение в надлежащую форму. Одним словом, покойники нашей округи, а иногда далеко и за ее пределами пользовались особым вниманием гробовщика, на какое вряд ли могли рассчитывать при жизни.
Семья, которую постигло горе, высылала за Габриэлем для осмотра покойника подводу.
Соседи, увидев приосанившегося гробовщика, едущего на подводе, тут же хоронились в домах, чтобы избежать его изучающего взгляда, словно адресованного потенциальному покойнику… Казалось, что даже деревья и те в ужасе отступали за ограду, когда Габриэль появлялся на улице.
Приехав в семью покойника, Габриэль, словно врач, знающий силу своего ремесла, спешил к очередному «пациенту» в сопровождении многочисленной родни.
Здесь, у смертного одра, где возлежал покойник, сохраняя одному ему присущее выражение полного отрешения, Габриэль, в отличие от притихшей родни, держался возбужденно: заходил то с одного, то с другого боку к умершему, что-то бубнил себе под нос. Оглядев покойника внимательно, присаживался у изголовья и с какой-то таинственностью начинал вглядываться в лицо. Наконец, уловив самое главное и характерное — озабоченно ли или печально, насмешливо или сурово выражение покойника, он доставал из кармана рулетку и приступал к обмеру. Правда, не так дотошно, как это делают портные в нашем городе, когда хотят сорвать лишку с клиента. Получив все три измерения, последнее почему-то от кончика носа покойного, Габриэль моментально составлял смету и тут же, на семейной сходке, объявлял ее в непоколебимых выражениях, что сбивало с толку даже самых прижимистых заказчиков. Ну а если среди них все-таки объявлялся таковой, Габриэль срамил наглеца неотступно.
— Если ты хочешь надуть дешевым гробом покойника, — говорил он в таких случаях, — то закажи его себе…
Но, к счастью, таких заказчиков было мало, и поэтому все, как правило, безропотно принимали условия гробовщика, зная наперед, что гроб будет сделан к сроку и самым лучшим образом. А для заказчика куда важнее вовремя преподнести свой подарок усопшему и проводить его в последний путь с чистой совестью.
Среди заказчиков предпочтение отдавалось дальним, поскольку они приезжали за Габриэлем на машинах, платили щедро и потчевали разными напитками, к чему он, как мастеровой человек, имел пристрастие. Но с годами такие приглашения становились довольно редкими. Причиной этих редких приглашений Габриэль считал свою жену Матро. И хотя он жалел, что связал с ней жизнь, но терпеливо молчал. Ему было за шестьдесят, когда Матро, выходившая его от воспаления легких, вошла к нему в дом, ища в нем спасения после прежнего мужа от привередливых снох. Теперь Матро вновь чувствовала себя покойно и легко. Окрестив новоиспеченного мужа ласкательным именем — Габриа, она всячески препятствовала его дальним поездкам. Приезжавшие на машинах заказчики встречали суровый отказ Матро. Так день за днем сокращались приглашения. Но если они еще выпадали Габриэлю и ему удавалось уломать Матро, то он весь преображался: его до морозца жесткий взгляд уступал место искрящемуся лукавству, а лицо начинало светиться. В такие минуты наивысшего подъема он вышагивал перед Матро длинными шагами и, собрав в черный потрепанный мешочек инструмент, закидывал его за плечо и громко кричал по причине сильной глухоты старухи:
— Матро, я уезжаю в Дундию! — Дундией Габриэль называл все дальние приглашения и произносил это слово так, словно Дундия лежала в песках Саудовской Аравии и он собирается проникнуть туда через Дарданеллы.
Старуха при этих словах Габриэля начинала тревожно суетиться, тепло повязывая ему горло шарфом, даже когда стояла невыносимая жара, и, глядя на мужа мелкими колючими глазами, строго-настрого наказывала:
— Не застудись в дороге, Габриа! И лишнего не перехвати, да долго не задерживайся!
Габриэль за эти ограничения порой не на шутку ругал Матро, но порой, когда у ворот его ждала машина, а в доме покойного угощение, он легко сносил слова старухи.
Привозили Габриэля из Дундии на четвертые сутки ночью.
Подвыпивший и счастливый, он поднимался на веранду, тянувшуюся во всю длину дома, и бухал кулаком в дверь, пока не поднимал перепуганную Матро из глухой комнаты, куда она забивалась, боясь ночного одиночества. Затем наступала тишина. И прежде чем предаться законам ночи, супруги шли в мастерскую. Впереди Матро с лампой в руке, за ней — Габриэль с трепещущей живностью в потрепанном мешочке. С волнением в крови они переступали порог мастерской, вид которой всегда отрезвлял гробовщика, каким бы хмельным он ни был, и гасил радость Матро при виде гроба, получившегося коротким из-за неправильного обмера. Дрожа от озноба, Матро просила Габриэля поскорее закончить неотложные дела, приведшие их сюда. Но Габриэль бывал неумолим. Он ходил из угла в угол, оглаживая каждый предмет чувствительной ладонью, пока не отходил сердцем. Потом он развязывал мешочек прямо на верстаке и вытаскивал на свет какую-нибудь живность. Чаще всего ею были куры, редко поросенок. И только после этого Габриэль шел в теплую постель жены, чтобы старой кожей почувствовать тепло чужой жизни…
В отличие от своих собратьев мастеровых, не придающих особого значения кухне — стояло бы вино на столе, — Габриэль был еще и большим гурманом. Жарить курицу или поросенка доставляло ему истинное удовольствие. Проживший большую часть своей жизни в одиночестве, он приобрел такие познания в кулинарии, что дивилась даже Матро, считавшаяся непревзойденной стряпухой. Габриэль, как никто другой, умел так удачно подобрать специи, так неподражаемо перемешать их с гранатовым соком, натереть чесноку с корешками сельдерея и всем этим обмазать курицу или поросенка перед жаркой да развести соус с кинзой и хмели-сунели, что от одного пряного запаха захватывало дух. Потягивая сладостный аромат, соседи раздували ноздри, восхищенно восклицая: «Ишь ты, как он!..» Даже теперь, когда в доме была такая стряпуха, как Матро, Габриэль по-прежнему любил готовить сам.
— Соус, — поучал он Матро, пробуя его с ладони, — необходим мясным блюдам, как хороший лак — опочивальне…
Обедал Габриэль, как правило, в мастерской. Уплетая лакомые куски и отмечая каждое глотательное движение упоительным прищуриванием, он тепло окидывал взглядом мастерскую и мечтал о новом заказе, который мог бы позволить избежать небольших погрешностей, какие еще подмечал он в завершенных работах. И думать об этом тоже было приятно. Но иногда, без видимой причины, вдруг находила на него «хмурь», как говаривала Матро, и тогда он во всех своих работах не видел никаких признаков совершенства. Совершенство, к которому он стремился, должно было стать результатом долгого труда. Но острые глаза его видели только изъяны. И им не было числа и конца. «Где же предел моим мукам?» — бормотал он, все больше грустнея от мысли, что не достичь ему желаемых результатов. Но какими они должны были стать и в чем выразиться, он не мог себе четко представить. Знал лишь, что ремесло его, при всей необходимости, служит лишь успокоившемуся дыханию… «Зачем они, эти гробы, если в конце концов все должно соединиться с землей?..» Но дальше этого открытия он не шел, пугаясь собственных мыслей, и, покинув мастерскую, бурей носился по саду.
— Ох, опять хмурь нашла! — шептала Матро, глядя на разбушевавшегося гробовщика. Но утешать его в такие минуты боялась.
Пошумев час-другой, буря постепенно затихала. И обновленный в борьбе с самим собой Габриэль вновь возвращался в мастерскую и, удобно усевшись в свое деревянное кресло, принимался за инжировую водку, которую ценил за чистоту и особый аромат. Пил он не спеша, возвращая привычное душевное равновесие, пил с удовольствием. А Матро, смертельно боявшаяся не только гробов, но и материалов для них, заготовленных впрок, бывала вынуждена время от времени навещать мужа, чтобы умерить его страсть к инжировой.
Входя в мастерскую с обедом или по другой необходимости, она в страхе начинала коситься на короткий гроб и, запинаясь, бранить Габриэля:
— Габриа, почему бы тебе не убрать его подальше?
Габриэль, понимая причину тревоги Матро, криво ухмылялся:
— Что, он тебе не нравится? А ведь в аккурат по росту… Во-во, покрестись, покрестись! Не каждому дано такое еще при жизни да на собственный гроб… — Обычно на этом месте Габриэль прерывал разговор, боясь вконец запугать старуху, сжавшуюся от брезгливого чувства к смерти. Но через минуту какое-то дьявольское озорство вновь просыпалось в нем, и тогда он не ведал пощады…
— Господь с тобой! Что ты говоришь, Габриа?!
— А что? Лучшего для твоей худобы и не придумать! — продолжал Габриэль, как бы примеряя на Матро свое бракованное изделие. — Ты посмотри, какой лак! Столько лет простоял, и ничего: ни моль, ни червь и не тронули…
— Чем так о других, ты бы о себе подумал, Габриа! Годов-то тебе немало! — обижалась Матро и поспешно покидала мастерскую.
— И то правда! — кивал он вдогонку. — Скоро и для себя затею. — И тут же вставал с места и приступал к подбору материала. — Красное дерево отложим, пойдет на инкрустацию. А этот каштан мы пустим на основу, продержится лет двадцать, а то и больше. — Гробовщик выстукивал каждую дощечку костяшками пальцев и сладостно щурился, словно речь шла не о гробе, а о любимой. — Мы сотворим такую красоту, что нам живые позавидуют! Позавидуют! — Чистота инжировой водки и ее особый аромат исподволь делали свое дело.
Но с годами это твердое намерение собрать отличный гроб на удивление живым все больше вызывало сомнений у Габриэля: а вдруг не успею или недостанет сил?.. А как подловить в облике живого облик покойника, без чего Габриэль не приступал к выполнению заказа? Удастся ли подглядеть в себе признаки покойника?.. Все это мучило его не на шутку и рождало сомнение. Удрученный подобными мыслями, Габриэль не раз затевал себе гроб, но не та бодрость духа была теперь в нем, да и силы не те. Куда-то подевалась и прежняя смекалка.
Проснувшись однажды поутру, Габриэль с твердой решимостью собрался в мастерскую. Накинул на плечи ватник и спустился во двор. Справив за домом нужду, он почувствовал такую слабость, что едва удержался на ногах. Кое-как докричавшись Матро, с трудом поднялся в дом и слег без сил.
— Куда это понесло тебя, старый, в такую погоду! Неужели не прожить тебе и дня без гробов? — тщательно укутывая озябшее тело больного, ворчала Матро. — Весь дом и так прочадил думами о мертвецах…
Обессиленный Габриэль мутно поглядывал на Матро, слушал зимний рокот моря и шум холодного ветра, нагонявшего в комнаты сырость и уныние, и мечтал о весне. Весной наливалось старое тело Габриэля новой силой и жаждой к труду. Теперь, лежа в постели, он по-прежнему возлагал надежду на весну. Торопил ее.
— Не март ли сейчас, Матро?
— Нет, Габриа, — отвечала Матро, вдыхая дух фасоли со специями. — Всего лишь середина февраля.
— Большой ли нынешний февраль или короткий? — вновь интересовался Габриэль.
— Нынешний — большой, — отвечала Матро.
— Как только потеплеет, — мечтательно тянул Габриэль, — я сошью себе деревянную одежку…
— Что ж, Габриа, — спокойно отзывалась Матро, помешивая разваристый фасолевый суп, — приспело, значит, и себе…
Такое равнодушие Матро обижало Габриэля. Ему хотелось услышать от Матро что-нибудь жалобное. Но Матро то ли не хотела понять тревогу больного, то ли была увлечена приготовлением, так что всерьез, как того желал Габриэль, к его словам не отнеслась. И Габриэль, скрывая обиду, думал о том дне, когда вместо него придет другой, моложе его, и возьмется за любимое ремесло. Он смертельно завидовал тому неизвестному, который займется его столь любимым делом. И, уставясь иногда в какую-то мертвую точку, рассеянно задавал один и тот же вопрос:
— Матро, вот если бы я взял и умер… Ты бы смогла запомнить меня?
— Господь с тобой! Опять за старое! — отвечала она, подозрительно вглядываясь в больного.
— Ну, вдруг, Матро, — взял и умер!
— С чего бы тебе ни с того ни с сего?..
Габриэль недовольно морщил лоб и, набравшись терпения, настойчиво продолжал допытываться:
— Ты бы смогла рассказать людям, каким я был, если бы спросили?
Такие вопросы заводили старуху в тупик и, напрягая лицо недоумением, принуждали говорить междометиями, так как и в самом деле ей никак не приходило на ум, каков ее Габриэль.
— Ну, Матро, — не унимался Габриэль, призывая на помощь всю хитрость. — Какой же я все-таки человек?
— Мм-мм, — запиналась Матро в растерянности, бессмысленно разводя руками. — Ну, такой…
И более ясного определения своей личности Габриэль, как ни старался, добиться не мог. Да и Матро ничего другого за время их совместной жизни извлечь из себя не могла. Габриэль и впрямь со всем его ремеслом и атрибутами удобно умещался в этом слове — «такой».
— Да черт знает что! — в ярости клокотал Габриэль. — Дура ты каменная! Неужели сказать тебе больше нечего?..
— Да ну тебя, Габриа! Ты и сам не знаешь, какой ты есть! — отвечала Матро и, пристыженно опустив голову, выходила из комнаты.
А Габриэль и впрямь не знал, какой он есть.
Ему во что бы то ни было нужно было узнать от другого, какой он есть живой, чтобы представить себя усопшего. Без такой ясности он не мог бы приступить к изготовлению собственного гроба. Он, как художник, собравшийся писать автопортрет, должен был увидеть себя вчуже.
Дождавшись весны, Габриэль, как и ожидал, пошел на поправку. И вскоре в один из теплых дней вышел во двор. Надышавшись во дворе ароматом расцветающего сада, он направился в мастерскую. В руках уже не было прежней силы, но сердце по-прежнему тянуло к верстаку, к запахам древесины и красок.
Зная, что в мастерской ждет его самая трудная, но вместе с тем самая приятная работа, он нарочно не спешил, чтобы продлить это удовольствие, ибо чувствовал, что другой возможности получить радость от общения с ремеслом не будет.
Габриэль прошелся ладонью по верстаку, как прежде, ощутив волнение, приподнял обструганную дощечку, предназначенную для основания гроба, и пристрелялся прищуренными глазами. Затем, отложив ее в сторонку, опустился на скамью, бормоча всякий вздор.
— Ну что же, дружище, взгрустнулось тебе? — лукаво подмигивая короткому гробу, продолжал Габриэль. — Ничего, твой создатель еще не кончился. Он соберет себе домовину! Габриэль не из жиденькой закваски! Дудки! Он еще поспорит с судьбой! Да, поспорит! Не веришь?!. — И ему чудилось, что и гроб отвечает тем же вздором, подмигивая многочисленными шурупами:
— Мне-то что, я грустный предмет отжившего! Чему же ты так радуешься, создатель? Разве от того, что ты соберешь еще одну домовину, прибудет тебе счастья? Нет, не прибудет!..
— Как ты смеешь, мошенник, так разговаривать со своим создателем?!
— Кому же еще, как не мне?
Габриэль замахнулся на гроб поленом, но чья-то невидимая рука остановила его.
Через неделю Габриэль мало-помалу освоился в мастерской и теперь, стоя над верстаком, заправски орудовал инструментом. Весело раздувал щеки, кому-то показывал язык, шумно шмыгал мокрыми ноздрями, вздыхая и выдыхая запах теса, как бы способствуя всем этим правильному движению инструментов. Время от времени резко останавливался, отходил в сторону и, оценивая издалека проделанную работу, приговаривал:
— Дудки! Габриэль не сдается!
Но уже через минуту обижался на самого себя, сделавшего всю эту работу, и сметал ее на пол…
— Ты мастер, а не мошенник! Опочивальню надобно делать, приличествующую твоему званию! — говорил он вслух короткому гробу, словно обращаясь к своей совести.
Но когда и новая попытка не давала нужных результатов, взыскательный гробовщик возвращался к скамье и, сидя на ней, принимался нарезать шурупы из красного дерева, которыми обычно украшал гробы, ввинчивая их в места сращения досок. Однако это занятие не увлекало его, он снова подходил к верстаку и пытался приручить тесовые доски. Казалось, что теперь все должно сдвинуться с места, но неожиданно что-то снова отказывало, Габриэль в сердцах покидал верстак и выходил во двор. Побродив по двору и отогревшись на солнце, он обретал спокойствие, пытаясь вновь и вновь взять барьер. С этой надеждой ложился он и вставал. Пролетали дни, недели, но работа по-прежнему не шла и не радовала былой радостью.
— Кончился я, Матро! — как-то проронил Габриэль за ужином и встал из-за стола, опечаленный гнетущими мыслями.
— Что ж теперь, Габриа, — как можно спокойнее сказала Матро. — Какие наши годы! Нет ничего вечного в подлунном! Упадет звезда, народится другая!
Габриэль с затаенной обидой взглянул на Матро и, ничего не сказав, ушел в соседнюю комнату и прилег.
Матро, глядевшая вослед уходящему Габриэлю, покачала головой и, когда тот скрылся за дверью, выдохнула:
— Подточил червь душу…
Габриэль, прикрыв глаза, думал свои невеселые думы: «Что же это мы так раскисаем? В трудные минуты старикам поздно искать поддержки извне… — Свои неудачи он связывал с неумением вглядеться в себя… — О, если бы я только смог, сделал бы одну из лучших домовин! Но, наверное, это мне не удастся. Нет! — злился Габриэль на себя и еще больше на Матро. — Может, нет во мне ничего такого, что могло бы броситься в глаза? — тревожился он, но тут же отвечал на вопрос с облегчением: — Быть не может, чтобы того?.. И даже в этой неопределенности весь до кончиков ушей, заросших паутинками вьющихся волос, проглядывал Габриэль.
На следующее утро Габриэль встал засветло. Растворил ставни и принялся разглядывать себя в зеркале.
— Все одно уловлю тебя! — бормотал он, грозя самому себе. — Нет, я еще не потерял способность быть самим собой! Я еще поскандалю с тобой! Я покажу тебе, что такое мастер! — Габриэль совсем было разошелся перед зеркалом, но, к счастью, постучалась Матро и прервала поединок Габриэля с его отражением:
— Габриа, ты вышел бы в сад… собаки там очень уж разошлись… может, буйволы разнесли забор…
Габриэль, презрительно взглянув на Матро, сорвал большое зеркало со стены и свирепо прошипел:
— Уйди с дороги, змея ядовитая!
Через несколько минут Габриэль осторожно доставил зеркало в мастерскую и повесил на стене так, чтобы оно могло отразить верстак. Затем смахнул с верстака заготовки и сам растянулся на нем, принимая позу усопшего. Но чуть-чуть приспущенные ресницы да чувствительный нос гурмана выдавали живого… Лежа в таком положении, Габриэль старался перехитрить себя, чтобы подглядеть собственные черты. Но, как он ни хитрил, ничего путного из этого не получалось: живой не хотел носить на себе печать мертвого. Желая любой ценой добиться своего, Габриэль перетащил гроб с ящиком прямо на верстак и улегся в нем. Но так как он был короток, ему пришлось подогнуть ноги и, упираясь ступнями, лежать в несколько неестественной для усопшего позе. Но делать было нечего. Сложив крестом руки на груди, он слегка поворотил голову, чтобы увидеть себя «мертвым» в зеркале. Но вместо «мертвого» увидел в своей позе нечто кощунственное и болезненно улыбнулся. В самом деле, если бы Габриэля перенесли в этой позе из гроба на тахту или на ковер, то он лукавым своим видом походил бы на восточного хитреца, а может быть, на лису, притворившуюся мертвой… Раздосадованный Габриэль поднялся из гроба и запустил в зеркало ореховым бруском. Зеркало хрустнуло и раскололось на множество мелких частей, показав гробовщику едва уловимое отражение «мертвого». Но эта мгновенная вспышка, мелькнувшая в сознании, не запечатлелась настолько четко, чтобы удовлетворить требованию, и Габриэль повторил бросок. Расколотое зеркало, еще чудом державшееся на стене, рассыпалось и рухнуло, унося в неизвестность и отражение самого мастера.
— Все! — прошептал Габриэль дрогнувшим голосом, поспешно покинул мастерскую и направился в сад.
Бесцельно бродя по саду, он набрел на инжировое дерево, росшее у колодца, и остановился: корни могучего дерева, судорожно обнимая землю, выступали из-под нее замшелыми горбами, рассказывая о своем упорстве и борьбе.
Раннее солнце, поднявшись из-за заснеженных хребтов, роняло первые лучи на купы далеких тополей, оперившихся нежными языками листьев. И сразу по саду пробежал сладкий весенний ветерок.
Габриэль, глядя на калитку в сад и входившую в нее Матро с ведрами, неожиданно для себя увидел четыре персиковых деревца. Они шли от калитки в глубь сада. Ветерок шаловливо перебирал их розовые лепестки. Ими был припорошен зеленый покров двора. Уже трудились и ранние пчелы.
Габриэль с грустной усмешкой слушал нарастающее жужжание пчел, держа в поле зрения и столетний дуб, буйно разросшийся за оградой усадьбы.
«Какой могучий и гордый…» — подумал он, все больше и больше грустнея от мутного предчувствия.
Вскоре его размышления были прерваны скрипом журавля у колодца.
Габриэль раздраженно посмотрел на Матро, грохотавшую ведрами, и выругался: «Даже здесь нельзя посидеть спокойно…» — а когда та пошла, расплескивая воду, немного успокоился и огляделся… Увидев на журавле раскачивающуюся дубовую бадейку, ронявшую через равные промежутки капли прямо на потемневшую челку травы, каким-то чудом пробившуюся из-под уложенных кирпичей на свет, улыбнулся ее стойкости. Капля за каплей, серебрясь на раннем солнце, падали на гибкие стебли и стремительно скатывались вниз. Небольшой пук травы покачивался из стороны в сторону и влажно шуршал. Габриэль почувствовал, как внезапно ударило сверху густым и вязким теплом солнце, ошарашивая золотистым волнением растительность. И вскоре увидел, как медленно, в усталом томлении поплыли сизые пары к горизонту, превращаясь в мерцающее солнечное марево.
— Господи! — прошептал Габриэль, не находя иных слов усталому изумлению. — Прости, господи… — Полегчавшая душа вдруг наполнилась такой невыразимой нежностью, что увлажнились слезами умиления глаза. Теперь он жалел, что Матро ушла и не может причаститься его радости.
— Матро! Матро! — прокричал он, устало опускаясь на замшелые корни инжира.
С остановившейся бадьи все реже падали капли. Угасал и слабый ветерок, прячась в опали. А солнце, завладев пространством, разливалось щедро и весело. Заглядывая в каждый цветок, оно полно раскрывало венчик, давая доступ к дурманящему аромату пчелам.
Вжимаясь спиной в могучий ствол инжира, Габриэль жадно и больно озирался по сторонам, ощущая бесконечное дыхание множества жизней… И на ущербе своих последних минут ему вдруг открылась неповторимая простота бытия, растраченного впустую в фанатической гордыне вдали от людей. Теперь, живя скорее кожей, чем сердцем, он был не в состоянии восстать, возмутиться, а поэтому плакал, как плачут старики в слабости отходящей жизни. Сморщенное сухое лицо его беззвучно страдало от нахлынувшего горя. И он на мгновение ощутил себя молодым и крепким, по-прежнему влюбленным в светлый и радостный образ княжны Шервашидзе.
— Господи, зачем ты надсмеялся над моей любовью… — прохрипел он от подступившего кашля и удушья. Габриэль рванулся было изо всех сил, чтобы встать с места, но силы покинули его, и жизнь, теплившаяся в груди, резко застыла, играя на устах усопшего улыбкой счастливого освобождения…
На следующий день, как и полагалось по местному обычаю, разослали по деревням горевестников, чтобы оповестить близких и дальних о смерти гробовщика, предварительно снабдив их списками тех, кого следовало бы пригласить на похороны. Но то ли горевестники оказались недобросовестными, то ли не нашлось ни близких, ни дальних родственников, на похороны Габриэля пришел лишь колхозный оркестр, добровольно пожелавший играть, и еще несколько человек из тех, что вечно страхуются у бога, чтоб заручиться тепленьким местом на том свете за христианское сердоболие, да дети, получившие доступ во двор гробовщика.
Лежал Габриэль в коротком гробу, поскольку так и не удалось закончить работу над собственным, сдавленный размерами. Голова его была высоко приподнята, ноги согнуты в коленях, плечи выставлены наружу.
За гробом сидела Матро, окруженная с двух сторон снохами, пришедшими бог весть из каких соображений проводить старого гробовщика в последний путь, и бесстрастно, заученно причитала…
Но бездыханное тело Габриэля было бесчувственно к стараниям Матро. Он спал вечным сном, играя бессмертной улыбкой прозрения…
И те немногие, что заходили взглянуть на гробовщика и убедиться, нет ли в его смерти какого-нибудь подвоха, были удивлены выражением радости на лице Габриэля, приобретшего человеческий облик и вернувшегося — пусть мертвым — в мир человека.
— Ишь ты, как его! — удивлялись они и медленно, молча брели по тихим улицам деревни, расходясь по домам.
Смерть, чья бы она ни была, никогда еще не приносила людям радости…
А за дальними виноградниками бывшей усадьбы князя Шервашидзе долго тлел большой холодный закат. И деревня незаметно погружалась в щемящую грусть сумерек…
Москва,
1968
О ЛЮБВИ, О ДОБЛЕСТИ, О СЛАВЕ…
Мой старший брат имел шестнадцать лет и бейный бас[9].
Он вставал рано утром и драил свой медный духовой инструмент. Потом, повернув огромное ухо этого чудовища на восток, принимался из него выталкивать утробные звуки. И когда наконец из-за синих гор начинало проглядывать кровавое лицо солнца, брат обнимал свое охрипшее животное, как любимую, и укладывал на кровать. Затем, окатившись холодной водой у родника, садился за стол.
Завтракать он любил плотно — несколько штук горячих квери[10] с мацони, хороший кусок свинины и бутылка черного вина… Черное домашнее вино вошло у него в почет сразу после ухода отца на фронт. Теперь все бочки нашего подвала находились в прямом и безоговорочном подчинении старшего брата.
За столом, как всякий гурман, он не отвлекался на постороннее. Ел всегда молча, как бы боясь нарушить взаимосвязь жевательной системы с подачей пищи. Перемалывая утренний рацион молодыми жерновами, он сообщал вращательное движение беспокойным яблокам глаз, остановка которых означала: один этап закончен, перехожу к другому. Но если глаза прекращали круговое вращение и начинали светиться блаженным спокойствием серебра, значит, пища производила желаемое действие. В таких случаях его хорошее настроение вставало из-за стола и, отпечатывая шаги по комнатам, насвистывало военные марши. Потом, отдав мне по-армейски честь резким поворотом головы, все тем же твердым шагом выходило за ворота, чтобы еще раз попытать счастья у военкома.
Мой старший брат ходил к нему каждое утро за пять километров и каждый раз возвращался оттуда усталый и кислый, как будто военком выколачивал из него дух юношеского задора…
Две его сильные страсти — стать героем, а потом повстречать хорошенькую девушку, гасли в кабинете несговорчивого военкома и вспыхивали с новой силой в стенах родительского дома.
Возвращаясь вечером домой, брат нарочно задерживался в проеме двери, чтобы бросить уничтожающий взгляд на мать еще с порога.
Мать, как правило занятая домашними делами, встречала его полувзглядом бокового зрения, завязывая с неудачником диалог глазами…
М а т ь. Ну, вижу… проходи и выкинь из головы глупость…
Б р а т. Ну что ж, пройду… но последнее слово за мной… И тогда мы посмотрим, как ты будешь встречать пустой проем двери…
М а т ь. Так думал бы о школе… скоро откроют…
Б р а т. Школа… гори она…
Затем мать поворачивалась к двери и строгим взглядом запихивала брата в комнату:
— Переодевайся! И не смей больше трепать чужую одежду! Человеку с фронта не во что будет одеться…
Напоминание о фронте сладостно пьянило душу моего старшего брата. В такие минуты он моментально забывал о своих неудачах и начинал широко расхаживать по комнате. Затем, хватая графин за горлышко, водил им по столу, гремя, словно гусеницами танка, идущего на вражеские позиции. Но и здесь мать ни на минуту не давала ему оторваться от земли, искусно выводя из мечтательного оцепенения и возвращая в узкий домашний мир вещей.
— Не греми! Ты не один в доме… — И как ни в чем не бывало приступала к чтению отцовского письма, в котором сквозило неуемное желание скорей вернуться домой к своему винограднику.
— Пусть подвязывает виноград, чего там сидит! — победно бросал брат, словно уличив отца в трусости, и, всучив мне граненый графин, приказывал спуститься в подвал.
Позже, значительно повеселев за ужином, он уходил на кирпичный завод в надежде вкусить от греха радость…
На заводе тогда в основном работали эвакуированные женщины, тугие и крепкие, как грецкий орех.
Мой старший брат пропадал там все вечера, чтобы как-нибудь раскусить один из орехов… Но, так и не раскусив его, благополучно покинул кирпичный завод. Так завершилась эта короткая история и началась другая.
Ранним утром, надраив в последний раз свой бейный бас, он вышел с ним на улицу, чтобы навсегда вычеркнуть из списка нашей семьи этого симпатягу. Зато к вечеру вернулся с новой гитарой под мышкой и с золотым обручальным кольцом на мизинце, что придавало ему вид заядлого гитариста, безнадежно больного неразделенной любовью…
Теперь по утрам брат выходил на веранду и, закинув ногу на ногу, начинал пощипывать струны. Гитара, усаженная на колени, как любимая, жутко и однообразно взвизгивала, отнимая у меня сладкие минуты утреннего сна.
Зарывшись с головой под одеяло, я посылал этой невыносимой психопатке и ее обреченному на грусть партнеру самые отборные проклятия, на какие только был способен восьмилетний мальчик. Правда, они так и не доходили до адресатов, но все-таки несколько облегчали мою участь. Иногда на помощь мне приходил наш колхозный бригадир. Ему частенько удавалось расцепить влюбленных — брата с гитарой — и, вытащив на улицу, отчитать как следует за увиливание от помощи колхозу. Но чаще всего счастливые утра выпадали благодаря недавно расквартировавшейся у нас группе по задержанию и разоружению диверсантов, за что я был ей особенно признателен. Не скажу, как у нее обстояли дела насчет задержания и разоружения диверсантов, но что касается моего брата, то она моментально вышибла его со двора на улицу. Стоило только долететь до его слуха задорному цоканью копыт, — это значит; по улице мимо нашего двора проплывала, лихо пританцовывая на тонконогих иноходцах, группа молодых всадников в черных архалуках, — как брат тут же бросал гитару и бежал к калитке, чтобы поглядеть вослед этим черноусым ребятам. Так порою он мог простоять до их возвращения.
Однажды вечером, когда группа возвращалась по нашей улице со спецзадания, брат перехватил едущего в голове красавца с ослепительной улыбкой и что-то сказал ему.
Предводитель весело осадил коня и перегнулся в сторону брата. И сразу за ним остановилась вся группа.
— С каким-нибудь важным сообщением? — спросил предводитель, стараясь говорить официальным тоном, но продолжая улыбаться.
Лошади, раскачиваясь под своими седоками, хрумкали уздечками.
— Не-ет, но… — ответил брат, скрывая набежавшее волнение. — Я хочу…
— Это невозможно, — сказал предводитель, не давая брату договорить. — Группа прошла спецподготовку! — и тронул лошадь.
— Погоди, начальник! — Брат загородил дорогу лошади. — Тогда выручи…
— Ясно! — понимающе сказал предводитель. — Тебе револьвер нужен! — И, внимательно разглядывая брата, добавил: — Желаешь перейти на самостоятельную работу…
Вместо ответа брат стащил с мизинца обручальное кольцо, отчего сразу же сошел с него вид заядлого гитариста, безнадежно больного неразделенной любовью, и протянул всаднику.
Тот, недолго раздумывая, втиснул в него безымянный палец, который тотчас заиграл на свету закатного солнца, и, обернувшись на группу, полез в карман за револьвером.
Группа одобрительно заволновалась на седлах.
— Золото — дело чистое! — усмехнулся предводитель, любуясь пальцем и вручая брату сверкнувший холодным блеском металла револьвер. — Только служит оно сразу и богу, и дьяволу…
— Хорошее оружие может заменить хорошая девушка или доброе мингрельское вино! — поддержал его кто-то из группы сиплым голосом, нуждающимся в похмелье.
— Неужто, парень, не водится у вас в доме вино, достойное нашего начальника?! — выступил другой всадник, на чалом иноходце, и встал перед братом.
И брат, чтобы не ударить лицом в грязь, распахнул ворота.
Группа незамедлительно въехала во двор, оглашая окрестность веселой мелодичной песней древних предков:
Одоиа, одоиа, одоиа…Через несколько минут в центре двора, словно крепко повздорившие женщины, стояли, подперев кулаками бока, два кувшина. За ними, образовав полукруг, пели черноусые всадники, принимая из рук брата полные кружки черного вина. Всадники пили, чуть привстав на стременах, и весело отдувались, расплескивая при этом вино на уши лошадей, отчего те недовольно фыркали и мотали головами. А брат, торопясь опорожнить кувшины еще до возвращения матери с ломки табака, вертелся между всадниками. К счастью брата и к несчастью нашего подвала, всадники из группы по задержанию и разоружению диверсантов, проделав оперативную работу по опорожнению кувшинов, благополучно выплыли со двора, гордо пританцовывая на чутких иноходцах.
Закрыв за ними ворота, мы с братом спустили кувшины в подвал и заняли обычное место на веранде.
— Когда придет мама, — сказал брат, прищуривая левый глаз и нацеливаясь револьвером на мнимого врага, — ты держи язык за зубами, если не хочешь… — Револьвер в вытянутой руке брата описал дугу и сухо щелкнул. — Ты меня понял?
Я кивнул головой и подсел к нему ближе.
С этого дня, проходя всевозможные тонкости военного дела, брат плохо спал ночами. Он вздыхал и ворочался в постели, тормоша в душе две сильные страсти — воинскую доблесть с крепким зудом любви, — и приправлял их горьким дымом бесконечных папирос. А на рассвете, одержимый военными занятиями, он снова приступал к отработке техники: ловил в эвкалиптовой роще подслеповатую лошадь и, вскочив ей на спину, пускал ее вскачь вдоль морского берега, соскакивая и садясь на бегу. Затем, оставив в покое лошадь, с оружием в руке принимался прочесывать кусты ольшаника. Иногда, увлекшись этим занятием, сам того не замечая, забредал в усадьбу знаменитого гробовщика Габриэля.
Жил этот суховатый и длинный старичина бобылем в большом деревянном доме почти напротив нашего. И то, что жил он в таком большом и почерневшем от времени доме один, и то, что был он гробовщиком, и то, что выражение брезгливости не сходило с его лица даже тогда, когда обычно радовались другие, не предвещало ничего хорошего человеку, отважившемуся войти к нему в усадьбу. Строгий взгляд, устремленный исподлобья на человека только лишь затем, чтобы точно определить, сколько понадобится теса на случай, если придется браться ему за свое ремесло, приводил в такое омерзительное состояние, что каждый спешил как можно скорее унести свою спину от измеряющего взгляда Габриэля. Хоть Габриэль слыл добросовестным гробовщиком, но любить его было не за что. И жил он один, угрюмый и тихий, в своей гордыне, уважая до нежной привязанности лишь покойников за их бессловесную кротость, и это уважение к ним выражалось в гробах, которые он мастерил с большим тщанием. По этой причине к нему заглядывали лишь в известных случаях… Даже мальчишки нашей деревни, слывшие грозой по всей округе, старались усадьбу Габриэля обходить стороной, хотя в ней было чем полакомиться. Усадьба Габриэля была большая, и росли в ней редкие фрукты, некогда завезенные его отцом, купчишкой третьей гильдии, из редких поездок в трабзунские земли. Перед самым домом стояло широколиственное авокадо с яйцеобразными зеленоватыми плодами. А вдоль всего забора тянулись инжировые деревья редких сортов и кусты фундука.
Но то, что встретил мой брат в этой усадьбе во время очередного прочесывания местности, никак не могло быть выращено трудом и усилиями старого Габриэля.
Это была девушка с голубыми глазами, с красотой которой не мог поспорить даже такой сад, каким был сад Габриэля.
В дом Габриэля она была поселена работниками роно в середине августа, чтобы первого сентября с первым звонком определить ее учительницей русского языка в открывающуюся у нас школу.
Подвез ее на колхозной подводе Арсен, молодой извозчик. Он весело осадил двух кляч у ворот Габриэля и трижды прокричал имя хозяина.
Девушка спрыгнула с подводы и, взяв небольшой чемодан в руку, с любопытством уставилась на двор гробовщика.
Вскоре показался и Габриэль. Он быстро подошел к воротам и, не проронив ни слова, взял у девушки чемодан. Потом, отстраняя взглядом Арсена, пытавшегося войти во двор, пропустил девушку и крепко захлопнул за собой калитку, тем самым красноречиво подчеркивая, что право открывать ее отныне будет принадлежать ему и этой девушке.
Высыпавшая на улицу деревня с замиранием сердца наблюдала картину заселения габриэлевского дома молодой особой и была удивлена таким неожиданным поворотом дела. Но, как бы там ни было, факт был налицо: Габриэль шел с чемоданом в руке, а следом — девушка.
Весть о случившемся облетела округу.
Народ зачастил к габриэлевскому дому, чтобы воочию узреть молодую учительницу. Но напрасно. И первым, кто отважился проникнуть в сад Габриэля, был мой старший брат. Этой храбростью он обязан был револьверу.
Повстречав ее в саду гробовщика, брат раз и навсегда понял, что само провидение послало ему подарок, о каком он давно мечтал бессонными ночами, тормоша беспокойные страсти молодого сердца.
Узнай тогда старый Габриэль, что его сад послужил местом встречи двух молодых людей, он никогда бы не простил этого человеческому роду…
В то счастливое утро мой старший брат забрел в сад Габриэля, держа в руке револьвер, хотя на этот случай можно было бы его убрать в карман. Но почему-то решил, что врываться в чужой сад, тем более в сад такого старого хрена, каким был Габриэль, так будет эффектнее.
И тут он увидел и окаменел. Потому что то, что он увидел, превзошло все его ожидания…
Откуда я об этом знаю?
Это очень просто! Такой мальчик, каким был я тогда, мог узнать не только об этом, но и о многом, о чем другие, хоть и считали себя совсем взрослыми, понятия не имели.
Так вот…
Стояла эта девушка в тени того самого широколиственного авокадо в легком ситцевом платьице, из которого вылезали округлые плечи, и, вытянув вперед беленькое лицо, обсасывала сочащийся плод сладкого персика. Ее волосы, посветлевшие от густого солнечного света, перебирал порывистый ветерок.
Когда девушка, обсосав мякоть, решила запустить коричневой косточкой в сторону ежевичных кустов, она увидела моего старшего брата. Точнее, они увидели друг друга.
От такой неожиданности брат окаменел. А когда прошло оцепенение, он сунул револьвер в карман и открыл рот…
Но она, измерив его быстрым взглядом, повернулась и зашагала к дому, волнуя ситцевое платье.
Брат невольно последовал за ней. Из приоткрытого рта его сыпались раскаленные угли знойного сердца и обжигали девушку. Когда же она остановилась, он протянул к ней руку…
Опыт, приобретенный на кирпичном заводе, оказал ему услугу…
— Эльвира, — ответила она мягко.
И тогда брат, глядя на нее, совершенно ясно понял, что разлучить его с ней может только гроб, который с удовольствием сделал бы для него Габриэль.
С этого дня начались тайные встречи моего брата с Эльвирой. Но брату эти встречи казались недостаточными; ему не терпелось знать, как себя ведет и чувствует она в часы разлуки в габриэлевском доме. Подмывало любопытство подглядеть состояние ее души. Но фланировать мимо усадьбы гробовщика он стеснялся. К тому же его могли уличить в желании подглядывать за девушкой соседи. Да и много ли можно было увидеть при всем желании за разросшимися деревьями во дворе Габриэля?..
Я сидел на ветке высокой черешни, наблюдал, как томится мой старший брат, и тихонько прыскал, понимая истинную причину его томления. Мне с верхотуры черешневого дерева хорошо было видно все, что делалось там, во дворе Габриэля. Я ел черешню и упивался страданием брата, выплевывая коричневые косточки на благодатную почву в надежде, что когда-нибудь из них потянется на свет молодая поросль…
— Лови, — крикнул я брату сверху и, отломив веточку, усыпанную спелыми плодами, отвел в сторону руку в ожидании. В голове у меня зрел любопытный план.
Брат, стоявший в глубине двора и не знавший, что я сижу на дереве, вздрогнул от неожиданности, но потом лениво пошел под дерево и протянул руки:
— Бросай!
А когда он поймал веточку и принялся обрывать черешню, я удивленно воскликнул:
— Вот это да-аа!..
— Что? — спросил он заинтересованно.
Я нарочно молчал, внимательно уставясь во двор Габриэля, хотя во дворе никого не было.
— Что ты там видишь? — томясь ожиданием, не выдержал брат.
— Аэродромное поле, — не сразу и несколько уклончиво ответил я, еще больше интригуя брата.
— Прекрасно! — почему-то обрадовался брат. — А что ты видишь ближе?
— Тебя и Белку!
Брат мучился. Он не хотел унижаться до признания своей слабости передо мною. Поэтому, страдая, но в то же время как бы превращая свое страдание в шутку, спросил:
— Что там делает наш гробовщик?
— Гроб, — сказал я. — Его не видно… но зато вижу учительницу…
Это было то, чем можно было врачевать сердце моего старшего брата. Но я, не дожидаясь следующего вопроса, стал спускаться. Это была уловка, с помощью которой я собирался прибрать томящегося к рукам.
В тот же день брат разрешил мне поиграть с револьвером в саду. И вот с этого молчаливого соглашения сторон — ты мне, я тебе! — мы и стали честно выполнять наши обещания, насколько это было возможно в условиях подозрительности и недоверия.
Теперь, чуть ли не ежедневно загоняя меня на дерево, на котором уже давно кончилась черешня и с которого начали облетать листья, он требовал от меня информации о событиях во дворе Габриэля, где ничего особенного не происходило. Мои репортажи с высоты дерева больше походили на арии, распеваемые на подмостках театров, где драматические перипетии подчеркиваются песнопениями. Распевались они по принципу что вижу, то пою. Именно такой метод передачи реальных событий и устраивал моего брата. Отправной строкой к моим импровизациям (мне не оставалось ничего другого за отсутствием событий) были одни и те же припевы из мингрельской песни, что заранее предопределяло насмешливый настрой. И самое главное — они уводили от любой подозрительности. Благодаря этим припевам все это занятие приобретало характер озорства. И, чтобы окончательно уверить в этом возможных слушателей, я еще и подменял собственные имена местоимениями, что гарантировало безопасность моему брату.
Затея начиналась примерно так:
Дидоудо нанина, дидоудо нанииа… Вижу: ходит там одна… нанаиа-нанина.Чтобы придать некоторую правдоподобность моим репортажам, я включал в свои песни предметы домашнего обихода, иногда, за отсутствием творческой фантазии, мои песни опускались до грубейшего натурализма, что резало и оскорбляло слух моего старшего брата, охваченного нежным порывом умиления к предмету своего сердца…
Дидоудо нанина, дидоудо нанина… Стоит с гробом наш сосед. Нанаиа-нанина.Случалось и так, что мои наблюдения оказывались напрасными, а любопытство моего брата неудовлетворенным. В такие дни он ходил сумрачный и не разрешал играть с револьвером, хотя моей вины в том не было. И тут мне стало ясно, что честное выполнение нашего соглашения зависит от сторон. И если одна сторона пренебрегает им, то незачем из кожи лезть и другой… Залезая в очередной раз на дерево, чтобы гарантировать себе обещанную мзду, я начинал безбожно врать, подавая нужную для нежного сердца брата информацию, бодро и весело выкрикивая:
Дидоудо нанина, дидоудо нанина… Груши ест в саду она. Нанаиа-нанина…Хотя Эльвиры и не было видно в саду Габриэля, но я продолжал, чтобы таким способом получить неустойку, которую не признавал брат:
Дидоудо нанина, дидоудо нанина… А теперь пошла к кустам… нанаиа-нанина…Затем, сам того не замечая, я оказывался в плену собственного языка:
Дидоудо нанина, дидоудо нанина… Вижу, как в кустах: пи-пи… нанаиа-нанина…Брат тут же прерывал мою песню и приказывал спуститься с дерева. И потом долго и нудно объяснял мне, что можно включать в свои песни и чего нельзя.
Я выслушивал его длинные нравоучения и пожимал плечами, говоря всем своим видом, что любое подсматривание, с какою бы целью оно ни велось, постыдно и чревато неожиданными последствиями.
Конечно, встреча с такой девушкой, какой Эльвира виделась моему брату, была большой для него удачей. Теперь, чтобы осуществить свою мечту, ему нужно было проделать всего-навсего несколько уверенных шагов в сторону гор и стать героем. Путь к Золотой Звезде лежал через перевал, откуда частенько докатывалась артиллерийская канонада.
И грош цена была бы моему брату, если б он отказался от высокой воинской чести даже во имя такой очаровательной особы, развлекаясь в саду Габриэля.
Однако будем последовательны.
Со дня состоявшегося знакомства мой старший брат не пропускал ни одного удобного случая, чтобы не завернуть в сад Габриэля. Здесь влюбленные грызли орехи, рвали сливы и, осторожно выбравшись из усадьбы, колхозными садами выходили к морю. На берегу они строили шалаш из ольховых веток и забирались в него, а отсидевшись там до наступления густых сумерек, пускались в обратный путь. И как ни старались пройти незамеченными, нет-нет да натыкались на группу по задержанию и разоружению диверсантов, которая почему-то неотступно поворачивала своих лошадей и следовала за ними. И было совершенно очевидно, что во всех этих действиях группы чувствовалась рука самого предводителя; желая вскружить голову девушке, он бросал ей ослепительную улыбку, порой довольно прозрачно намекая на то, что, мол, ежели приспичило влюбиться, не пора ли сделать выбор настоящего кавалера… Но ослепительную улыбку со всеми обольстительными оттенками девушка отвергала молчанием. А на нескромные вопросы относительно выбора кавалера отвечала приступом хохота, что само собой подтверждало всю нелепость этих вопросов. Затем, чтобы окончательно расстроить самонадеянного нахала, девушка вешалась на шею брата и осыпала его звонкими поцелуями. Оскорбленный в своих лучших чувствах предводитель, откашлявшись, круто разворачивал лошадь и временно отступал… временно, ибо он вскоре еще раз столкнулся с влюбленными и довольно убедительно продемонстрировал свое превосходство над братом, что в свою очередь подхлестнуло того пуститься в путь, который должен был завершить поединок с предводителем в его пользу.
Случилось это так.
За несколько дней до того, как открыться школе, мой старший брат с Эльвирой решили осмотреть ее, поскольку она должна была разместиться в бывшей птицеферме… Собственно говоря, школа-то у нас была, но в ней давно квартировала морская авиация. И птицеферма тоже была, но в ней уже не квартировала птица. И должно быть поэтому, в целях использования свободного помещения колхозные руководители пришли к выводу: открыть в ней школу, чтобы школьники могли получить возможность высиживать знания, как некогда здесь куры яйца. Имея за спиной длительный и вынужденный перерыв в учебе, мы нисколько не испытывали необходимости возобновлять ее. Но, к нашему несчастью, вышеупомянутая школа была найдена. Точнее, изыскано помещение под нее.
Стояла она на стыке двух деревень у безымянной речки.
Чтобы добраться до нее, нужно было прошагать через всю деревню, поднимая непрерывную цепь дворняжек, несших честную службу своим хозяевам.
Поэтому, избегая собак и встречных, брат с Эльвирой пошли к школе задами. Именно такой путь гарантировал безопасность нарушения издавна сложившейся традиции наших деревень.
В те времена не принято было парню с девушкой появляться на улицах вместе. И хотя этот закон остается в силе и сейчас, но молодым все же удается провести взрослых и влепить друг другу где-нибудь на табачном поле такой звонкий поцелуй, что, узнай об этом взрослые, наградили бы их за это не менее звонкими оплеухами.
Придя на бывшую птицеферму и будущую школу, где все еще стоял запах куриного помета и пыли, брат с Эльвирой, или моей будущей учительницей, как вам будет угодно, осмотрели помещение и вскорости вышли к речке. Простояв здесь до наступления темноты, они пошли улицей. И вдруг посреди дороги, когда до дому было рукой подать, перед ними выросла группа по задержанию и разоружению диверсантов.
Выстроенные в один четкий ряд лошади раскачивались под веселыми седоками, нетерпеливо хрумкая удилами.
Такая встреча не сулила ничего хорошего моему брату.
И он, сообразив это, смело пошел на сближение с неприятелем… Однако пройти сквозь конный ряд ему оказалось не под силу: лошади, учуяв недобрые намерения брата, свирепо преграждали путь.
— Довольно! — резко бросил брат конному оцеплению и крепко стиснул в своей руке руку Эльвиры.
Один из всадников засмеялся.
— Неужели, барышня, — продолжал смеявшийся, — вам так-таки никто не приглянулся из нашей группы? Может, есть среди нас такой счастливчик и он не знает об этом, а?..
— Довольно! — погрозил брат, но в этой угрозе было больше отчаяния и неуверенности, чем предупреждения пресечь злой замысел. — Что вы прицепились?.. — Это было совсем глупо. Потому что после этого он еще раз решил порвать оцепление. Но лошади сердито зафыркали на него.
— Неужели, милочка, — допытывался тот же всадник, — нет среди нас того счастливчика? Я имею в виду не этого мальчика, — указал он едва уловимым движением руки на брата.
Это уже было слишком. За такое следовало бы пустить этакому наглецу пулю в лоб. Но, к сожалению, револьвер моего старшего брата был пуст…
Предводитель, привстав в стременах, с высоты своего положения улыбался и правой рукой покручивал ус.
Во всяком случае, в такой ситуации он должен был держать левой поводья, а правой — покручивать ус.
— Хорошее оружие, парень, так же опасно, как и хорошая женщина! — сказал кто-то из всадников. — Поскольку и то, и другое способно поразить в самое сердце…
Тронутый таким тонким сравнением, предводитель поддержал сказавшего:
— Правильно, Гизо!
— Начальник, — не выдержал брат, — кончай этот глупый балаган, не то, клянусь богом, вышибу кому-нибудь мозги… — И, нащупывая в кармане револьвер без пули в стволе, подобный женщине, лишенной чести, побледнел от гнева и извлек его на свет.
В это время и прозвучала четкая команда предводителя:
— Задержать и разоружить!!!
Два проворных всадника из группы по задержанию и разоружению диверсантов моментально исполнили приказ начальника, показывая на деле навыки, приобретенные на ученьях.
Так был задержан и разоружен их первый диверсант в нашей деревне.
— Ну так как же, барышня, насчет того счастливчика? — хохотнул предводитель, пряча в карман кителя отобранный у брата револьвер и трогая лошадь.
Как потом выяснилось, в этих словах скрывалась та непоколебимая уверенность в победе, о которой не подозревал тогда мой старший брат.
Это было первое крупное поражение моего брата. Первое, но, естественно, не последнее.
В ночь перед открытием школы, гонимый чувством мести, мой старший брат сделал то, что он должен был сделать рано или поздно.
Вырвав из моей тетради, предназначенной для русского языка, лист, он нацарапал несколько слов карандашом и, сложив его треугольником, сунул мне под подушку, наказав завтра же вручить учительнице, когда она будет вести урок в нашем классе.
Видно, такое решение моего брата прежде всего было продиктовано желанием еще выше подняться в глазах любимой. И в то же время причинить ей боль неожиданностью решения. Боль должна была служить ей напоминанием о любви, о доблести, о чести…
И вот, не простившись ни со мной, ни с матерью, он вышел в глухую ночь и ушел добывать на поле брани воинскую честь.
После его ухода я долго ворочался в постели и не мог уснуть: мне чудились его уходящие шаги и долгие смачные поцелуи у ворот Габриэля. Потом все это сменилось тяжелым бегом лошади, отдаленным лаем собак и душераздирающим криком ночной птицы. И с грустью думалось о невозможности попасть на фронт и заставить страдать по себе учительницу, к которой я ревновал брата… И всякое такое, о чем не полагалось думать тогда мне по возрасту…
Утром, узнав о происшедшем, мать смахивала рукавом слезы.
А я, гордый за своего брата, вышел со двора и направился в школу, чтобы поразить неожиданным сообщением о брате мою учительницу.
Признаться, я не хотел, чтобы она больше думала о брате, чем обо мне. Записка лежала у меня в кармане. Я прочел ее. Она была совершенно неотразима своим содержанием и формой.
В ней говорилось что-то про любовь, что-то про единственную. И, кажется, еще про гробовую доску… А в конце было выведено — это извечная жажда всех влюбленных — «целую».
Я еще раз перечитал записку по дороге в школу и, довольный тем, что у брата хватило мужества сбежать на фронт в то время, когда некоторые мужчины нашей деревни поступали наоборот — бежали с фронта и потом моральную кривизну подпирали палками, — я вошел в класс. И здесь совершенно неожиданно пришло смелое решение — уничтожить записку. Вернее, переписать ее, а потом подписать своим именем и бежать вослед брату на фронт. Но тут я вспомнил, что в колхозе не осталось мало-мальски пригодной лошади, чтобы добраться до того места, откуда ухала артиллерия.
Пока я был занят этими размышлениями, ко мне подошла учительница и увидела в моей руке записку.
Мне ничего не оставалось, я протянул к ней руку с сочинением моего старшего брата.
Учительница, двигаясь между партами к своему столу, развернула лист и, шевеля губами, принялась читать…
Судя по тому, как она тут же села за стол, записка произвела сильное, как того желал мой брат, впечатление. Только большое усилие помогло учительнице сдержать подступившие слезы.
Спустя три месяца после этого тяжелого для нас испытания мы получили первое письмо от брата. В нем не упоминалось ни о битвах, ни о медалях и прочих делах. Было похоже, что он на своем подслеповатом уроде развозит то, за что не дают медалей или пока не дают. А к приходу второго письма положение моего брата пошатнулось и здесь…
Во-первых, группа по задержанию и разоружению диверсантов задержала колхозного сторожа, укравшего в ночное дежурство кукурузу из охраняемого амбара. Во-вторых, предводитель группы получил две какие-то награды, которые очень уж шли к его черным усам. Ну а в-третьих, он стал слишком часто появляться на противоположном берегу речки и с излишним любопытством смотреть в открытое окно нашего класса. Но самое позорное и непростительное в этой истории то (о, женское коварство!), что и моя учительница стала к нему проявлять интерес.
Однажды я уличил ее в измене.
Случилось это по прошествии всего лишь года с момента бегства брата на фронт.
Я сидел в классе и не мог дождаться, когда прозвучит звонок, чтобы пулей сигануть во двор и как следует отплеваться. Кислило во рту и слегка подташнивало. И вдруг я заметил, что на том берегу под кизиловым деревцем маячит знакомая фигура всадника. Он, как и прежде, интересовался нашим классом. Я встал из-за парты, не замеченный учительницей, подошел к окну и высунулся. Всадник продолжал стоять на виду и нахально таращиться на окно. Мне это не понравилось. И я показал ему рожки, на что он ослепительно улыбнулся, принимая это за игру. Я хотел показать еще и кукиш, но, узнав в нем предводителя группы по задержанию и разоружению, воздержался. Не знаю, видел ли он кулак… потому что моя учительница так быстро отстранила меня от окна и заняла мое место, что он мог и не заметить его. Зато я хорошо видел, как она любезничала с ним. А тот все посылал ей какие-то знаки. Она их повторяла, позабыв о том, что находится в окружении учеников. Вскоре все это кончилось тем, что она совсем бросила нас и через узенький мостик побежала к всаднику.
В это время, как грозное предупреждение, в горах ухнул тяжелый артиллерийский снаряд и так тряхнуло, что наша школа едва удержалась.
А учительница, широко раскинув руки, бежала, не чуя ног под собою.
Я отвернулся от такого зрелища. Это было слишком! Полное оскорбление семейной чести и, наконец, предательство… Нет, этого нельзя было оставлять так. Только лишь месть могла смыть пятно позора!
И я, мстя учительнице, перестал бывать на уроках, в чем вы можете легко убедиться теперь сами.
Что было дальше?
Лучше бы набрать в рот воды и молчать.
В начале сорок пятого, без всяких наград на груди, к моему великому разочарованию, вернулся мой старший брат с загипсованною рукою. Как выяснилось позже, это было даже не фронтовое ранение. Оказалось, что во время одного сложного перехода через перевал брат упал и разбил кисть правой руки. Теперь рука беспомощно висела как награда за нерасторопность и ничего хорошего не сулила.
Такого позорного исхода я не ожидал.
По всему было видно, что мой старший брат уже не может соперничать с предводителем. У того был бравый вид, резвая лошадь лучшей масти и пышные черные усы, к которым так шли две блестящие медали.
Но, должно быть, все влюбленные немножечко сумасшедшие!
Потому что, не принимая во внимание неотразимых преимуществ своего соперника, брат продолжал торчать на улице, стремясь любой ценой склонить мою учительницу на свою сторону. Иногда, чрезмерно усердствуя в своих стремлениях, он ставил себя в унизительное положение, что, честно говоря, бесило меня! Будь я на месте своего старшего брата, не раскисал бы так из-за девушки, предавшей жестоко… Но, видно, такова была участь моего брата. И он страдал, как последний слюнтяй!
Видя, что прогулки мимо габриэлевского двора не приносят ему желаемых результатов, он решил прибегнуть к хитрости… Вытащив со дна армейского вещмешка потрепанную гимнастерку, побывавшую во фронтовых переделках, брат надраил на ней пуговицы до золотого блеска и, прикрепив к левому карману чайную розу как свидетельство непреходящей любви, вышел. Упомянутая гимнастерка и чайная роза должны были выручить моего старшего брата. Выручить или погубить окончательно. И теперь он ждал удобного случая.
Вскоре такой случай ему представился.
Под вечер следующего дня брат навел блеск на сапоги, надел гимнастерку и вышел проводить меня на мельницу.
Я нес небольшой мешок кукурузы и насвистывал какую-то мелодию.
Мне хорошо было известно, что брат увязался проводить меня не потому, что очень соскучился по мельнице. Я-то знал, что он хочет поразить мою учительницу воинской доблестью и другими достоинствами.
Проходя мимо ворот Габриэля, я нарочно опустил мешок с кукурузой на край дороги и принялся его перевязывать, хотя он был отлично завязан.
А брат, делая вид, что вовсе не интересуется двором Габриэля, достал здоровой рукой армейский кисет и попросил свернуть цигарку. Однако, когда я протянул ему готовую цигарку, то заметил, что ему не раскурить ее. Он смотрел туда, где верхом на лошади посреди двора маячила моя учительница.
Ее плотно обтягивали кожаная куртка и синие брюки галифе.
Рядом с лошадью под лавровишней лежала черная дворняжка и нетерпеливо колотила хвостом о землю, время от времени радостно взвизгивая. Под зонтом крыши, на деревянной ступени, сидел предводитель группы и о чем-то говорил с Габриэлем. А Габриэль, заложив за спину костлявые руки, смеялся беззвучно, одними губами, стоя боком к собеседнику.
И тут, к своему удивлению, я увидел, что Габриэль в минуты душевного подъема благополучно выползал из сумрачного обличья гробовщика.
Брат, так и не раскурив цигарки, посмотрел на меня грустными глазами, словно желая спросить: не пора ли идти.
Лошадь, развернувшись к нам довольно непочтительно, крутила хвостом, как бы отгоняя непрошеных свидетелей чужого счастья…
Я поднял мешок и взвалил на плечи.
Брат бросил на землю нераскуренную цигарку и поник.
— Аллюр, Сатурн! — послышалась команда предводителя.
Но Сатурн, вытянув недоумевающую морду на своего хозяина, отрывисто всхрапывал, дробя копытами землю.
— Аллюр, Сатурн, аллюр! — настойчивее командовал мужской голос.
Наконец, повинуясь желанию хозяина, лошадь пошла описывать круг, высоко подбрасывая наездницу.
Мы молча переглянулись с братом и взяли курс на мельницу.
Лениво и грустно опадали потревоженные лепестки розы… А в глубине сада какая-то птица пела о любви, о доблести, о славе…
Москва,
1968
«МОДИСТКА»
В то лето нам с братом было по двенадцать, но из-за неимоверной худобы мы больше походили на восьмилетних, а может, и на еще меньших.
Распластавшись голыми костлявыми телами в тени умирающего инжира, мы убивали томительный голод и зной, ловя в безнадежно исчезнувшей прохладе остаток бодрящего дыхания.
Стонала и горела земля в ознобе засушливого лета. Дымилась и опадала вымершая трава, обнажая прах сухого песчаника с чахлыми фруктовыми деревьями на нем, питавшимися остатками младенческой влаги сморщенных завязей. Поднятые жестоким голодом люди, местные и пришлые, сновали по деревне в поисках пищи. Но деревня бедствовала и не могла прокормить их. Упала вода в колодцах; ее едва хватало для того, чтобы утолить жажду да сварить то жидкое варево, которое замешивалось изредка для откровенного обмана вспухающих животов.
Мы дремали с полуоткрытыми глазами, ощущая голыми телами едва уловимое дыхание моря, отчетливо сознавая, что все это не мучительный плод длительного полусна-полужизни, а самая что ни на есть лихорадящая явь. Чтобы не соприкасаться горячими телами друг с другом, мы лежали в разных концах тени и постоянно помнили об этом; полуспящие глаза регистрировали жизнь в нашем дворе и сами жили в этой работе, но не влияли на ее устои; задремавшего сознания хватало на то, чтобы мысленно делать работу, которую надлежало бы делать в обычных случаях, и тут же — снова впадать в обморочную невесомость. Душа легко и свободно витала над павшей в немощи плотью и хранила ее от случайностей лихолетия.
Трещала под нами земля, готовая рассыпаться в прах, обдавая дыханием смерти.
— Хозяин!
Глаза, подернутые полусном-полусмертью, смутно отметили у калитки высокого человека в длинной шинели, оперевшегося на костыль.
Наше сознание полетело к нему и померкло в пути.
— Хозяин! — Настойчивый, но вежливый окрик человека у калитки вновь вернул нам померкнувшее в пути сознание.
И мы, преодолевая слабость плоти, поднялись на ноги и поспешили к зовущему. Но и это оказалось лишь работой рассудка, а не физическим движением.
— Хозяин! — Магическая сила голоса подняла нас с земли. И, механически разглаживая на себе костлявыми пальцами вылинявшие трусики, мы пошли к калитке, опираясь раскаленными телами друг на друга.
Высокий человек в длинной шинели стоял у калитки, опершись на костыль, и внимательно разглядывал нас серыми водянистыми глазами. Когда наконец мы подошли на расстояние досягаемости слова, человек сказал что-то. Несмотря на чужеродность этих, никогда не слышанных слов, смысл их постепенно стал доходить до нашего сознания. Вернее, не смысл слов, а ощущение их смысла — тепло и надежность. Еще минута, и великая догадка, как разряд молнии, воплотилась во вспыхнувшем в нас слове.
— Модистка! — выдохнули мы с братом, ощущая значительный прилив сил.
Это волшебное слово — модистка! — в наших деревнях тех лет, стирая половые различия, объединяло всех, кто хотел и умел шить.
— Модистка! — воскликнули мы, узнавая приятный вкус этого слова из счастливого довоенного времени, так долго плутавшего по дорогам войны.
Через несколько минут к нам присоединилась и мать.
Изнуренная голодом и непосильным трудом, она едва носила себя. С ее бледного лица скорбно глядели черные глаза. Оглядев недоверчиво незнакомца, она тихо заговорила с нами.
Человек, внимательно слушавший ее грудное бормотание, не спускал с нее глаз, должно быть, по голосу определяя значение того или иного непонятного ему слова. Когда мать закончила с нами, она повернула голову к незнакомцу и спросила его:
— Чего вас надо?
Вопрос на ломаном русском оживил незнакомца.
Он выставил вперед костыль и принялся терпеливо и вежливо повторять те слова, которые были сказаны нам еще недавно.
— Модистка? — испуганно переспросила мать, прикрывая рот ладонью, словно боясь этого слова и запихивая его обратно.
Как всякая женщина тех лет, мать, знавшая цену вещам и питавшая к ним особую слабость, от невозможности подобного счастья всплеснула руками.
Обшивать деревню, пообносившуюся за долгие годы военных и послевоенных лихолетий, было в ту пору фантастической мечтой. И мечтать об этом могли только безумцы.
Мать разглядывала этого безумца откровенно и, тоже охваченная безумием, густо краснела.
— Модистка! — сказал человек, внося ясность в безумные глаза матери, поверившей в возможность такого счастья.
— Модистка! — прошептала мать и указательным и средним пальцами изобразила ножницы, словно режущие бахрому дорогого отреза. И, ничего никому не сказав, заспешила в дом и вскоре показалась вновь с отцом, бухающим по выжженному двору непослушным протезом.
Из разговора взрослых запомнились лишь: голод, засуха, смерть. Говорили в основном отец с матерью. «Модистка» же понимающе слушал их, глядя ясно и чисто, как утренний свет. Во всем облике этого человека жило неутраченное достоинство: он не унижал и не унижался до просьб.
— Живи! — сказал отец и открыл калитку.
И он вошел во двор с небольшим чемоданом и стал жить у нас.
Постель ему вынесли на веранду и постелили на деревянной тахте. Там же поставили стол. На стол — швейную машинку «Зингер». Затем все сбереженное добро вывалили на пол; армейскую шинель с отцовского плеча, испытавшую всю тяжесть керченской бойни. К шинели добавилось черное суконное пальто матери, как живое свидетельство молодости и силы. Теперь эти вещи, как их владельцы, были тусклы и ветхи, и казалось, никаким чудом не оживить их. Но «модистка» трогал эти вещи длинными исхудалыми пальцами, и вещи оживали, приобретая первозданный вид. Вывернутые наизнанку, а затем вычищенные тщательно щеткой и сшитые со вкусом, вещи веселили душу каждого, наблюдавшего за руками «модистки».
— Прекрасный материал! — хвалил «модистка», взяв в руки очередную старую вещь.
И мы с братом пороли эти «прекрасные» вещи, занимая сердце и ум работой и отодвигая засуху с ее невзгодами на задний план. Мы больше не валялись в тени, а крутились возле «модистки», учась у него гладить и наметывать заготовки. И вот первые радости — матросские брюки из перелицованного пальто матери. Они были сшиты по всем правилам: без ширинки, книзу клином, с пуговицами на боках.
«Модистка» постоянно хвалил нас за умение гладить свои вещи, за бережное отношение к ним. И в самом деле, наша одежда была всегда тщательно вычищена, проглажена. Нас никогда не покидало чувство новизны. Да, мы любили свои вещи, любили, как только любят то, с чем не расстаются даже во сне.
Обедали мы все вместе: «модистка» садился между мной и братом, а напротив нас — отец с матерью. Садились за стол торжественно и празднично, словно наш обед состоял из сплошных разносолов. Несмотря на неизменный суп из незрелых груш, варимых на разбавленном молоке, обед нам казался вкусным. Вылавливая вконец сморщенные в кипятке завязи, мы отправляли их в рот и потом долго и смачно жевали, словно довоенные вкусные куски жаркого.
Открытая веранда, на которой мы дружно обедали, хорошо просматривалась с улицы.
Вид благополучного семейства у военнопленных венгров, шатавшихся по деревне в поисках «уборки» — огурцов, — вызывал тихую зависть. Им было невдомек, что, съедая неизменный наш обед, мы одерживали победу над собственной судьбой, укрепляя дух, а стало быть, и тело. И хоть продолжалась беспощадная засуха, мы двигались, что-то делали.
Однажды, после долгих споров «за» и «нет», я был спущен в колодец для поиска водоносной жилы. По предположению «модистки», жила должна была проходить ниже. И я углублял колодец, выгребая из него сантиметр за сантиметром каменистый грунт. И вот под моими ступнями запела вода, журча и играя пузырьками. Она стремительно заполняла пустоту колодца живительной прохладой. Уровень воды рос с каждой минутой и покрывал уже колени…
Через полчаса мы всей семьей поили огород серебряно звенящей водой. На наших глазах скрученные листья ботвы начинали распрямляться и влажно шуметь. Вода в колодце резко падала, но тут же поднималась, давая возможность вечерами обносить ею и фруктовые деревья. После частых поливов огород наш красиво зазеленел; зацвела картошка, дали завязь огурцы и помидоры. И выхоженные общими усилиями овощи стали наливаться жизнью.
— Теперь скоро подоспеет картошка! — сообщил отец, проверяя мотыгой молодые клубни…
И действительно, спустя недельку мать варила в большом чугунке картошку. Разварив ее окончательно, она в это картофельное пюре нарезала молодого сыра и на шумящем огне перемешала всю эту массу, получая новое блюдо под громким названием — эларджи. И хотя этот эларджи не тянулся, как тянется приготовленный на кукурузной муке, но все же это было непередаваемо вкусно.
Мы в привычном порядке заняли места и выложили свои руки на стол в ожидании лакомства. На этот праздничный стол каким-то чудом попало полкирпича ржаного черного хлеба. Ноздреватый срез этого чуда дразнил воображение. Пахло овощами и бессмертием.
Вдруг отец, кривясь от резкой боли, счастливо улыбнулся:
— Будет дождь!
Круглые глаза, ошарашенные таким сообщением, сперва уставились на отца, а потом устремились в небо.
Отец тем временем растирал культю больно и счастливо:
— Обязательно будет!
И мы все разом увидели черные тучи над горами. Они стремительно приближались к нам. По мере того как они приближались, нарастал характерный шум. И вот пахнуло в лицо счастливой свежестью, и тут же шумно посыпались первые крупные капли серого дождя. Затем капли участились и перешли в сплошной проливной дождь.
Мы с братом тут же сорвались с мест и бросились во двор под шумящий ливень.
Вскидывая руки и кружась в танце, мы что-то громко выкрикивали, шалея от неожиданной радости, посетившей нас. Блаженствуя под освежающими струями долгожданной воды, мы видели счастливые лица взрослых. Мать, скрестив на груди руки, тихо плакала, забывая утереть слезы. Отец, важный и гордый, как бог, сидел прямо и смотрел куда-то мимо всех отрешенным взглядом. «Модистка», торопливо доставая из черного футляра скрипку, задумчиво шевелил губами. Затем, вскинув инструмент на плечо и касаясь его подбородком, ударил смычком. А когда полилась серебряная мелодия, как вешняя песня дождя, «модистка» запел со сдержанным лукавством, возвышаясь своим могучим ростом над обеденным столом. Пел он, как нам казалось, хвалу дождю. Хотя слова этой песни были непонятны, но их добрый смысл был в самой песне, и он не обманывал нас.
Такая песня могла зародиться у народа, долго путешествовавшего по выжженной пустыне:
Китэлее цвалталей, Хобис мами, цувис китэлей…Что это была за песня? Откуда она явилась в наши края? Так и подмывает подпеть ей:
Лейся, лейся, лейся, Лейся веселей…За долгие годы своего бродяжничества я повидал немало засух, людей; пел и слушал чужие песни, но нигде потом я не слышал эту! Может быть, мое произношение далеко от совершенства, но так эта песня врезалась мне в память:
Китэлее цвалталей, Хобис мами, цувис китэлей…И сейчас, спустя уже более тридцати лет с того дня, я часто вспоминаю наше далекое с братом детство. А полюбившиеся чужеземные слова щекочут мне губы, трогая их доброй улыбкой. И я, смущаясь своего голоса, начинаю тихо напевать про себя…
Кто он был, этот человек? Откуда и куда он шел? Какая боль шла по пятам за ним?
Я и по сей день не знаю его настоящего имени. Как смешно, наверно, звучит сегодня когда-то нас волновавшее слово «модистка»! Но память хранит его как нечто очень трогательное и близкое! Как свет в глаза!
В конце осени того же года он переехал в город и затерялся в городской сутолоке.
Встречал я его несколько раз: он был подтянут, строен и нес в себе тайну величия и доброты… Я не подошел к нему. Жили мы тогда с братом как-то странно, жили памятью плоти и ее жизнью, она требовала от нас борьбы в жестоком единоборстве со временем… Увлекаясь этой борьбой, мы подчинялись ее законам и делали то, что не отвечало нашему внутреннему содержанию. А душа, набираясь сил, пока дремала, чтобы потом своим окрепшим духом сломить неуемное упорство плоти и подчинить себе, взыскав с нас стыдом раскаяния…
Много я прошел по вязким дорогам жизни, много повидал жестокого и скорбел… Но сотворил ли я добро людям на горестных этих дорогах?.. Слишком долго уж зрела душа, чтобы рассказать об этом, объединив Память и Бессмертие в поздней любви к ближнему…
Бабушара,
1984
ТЕТЯ МАРТА
Во вторник вечером перед воротами предстал горевестник на черном иноходце и сказал…
И началась эта история.
Как потом выяснилось, довольно грустная и глупая, как многие другие истории в моей жизни.
Горевестник сказал:
— Безутешная родня извещает вас о смерти Басариа Марты и просит разделить скорбь по случаю безвременной кончины. Похороны назначены на воскресенье Несчастная Марта… — прошептал он в заключение голосом, давно проверенным в этих делах, и, держась скорбно, скорее из приличия, чем из жалости к умершей, с достоинством развернул своего черного иноходца и лихо заплясал по проселочной дороге.
Мать, растроганная сообщением о смерти тети Марты, медленно отошла от ворот и, скрестив на груди руки в знак печали, как и полагалось близкой родственнице, горько запричитала.
Неожиданное напоминание о быстротечности человеческого века исторгло слезы.
А в четверг, когда она собралась почтить покойницу, внезапно заболел отец. Открывшиеся фронтовые раны захлестывали его кровью, причиняя невыносимые муки.
Поэтому мать, как всякая христианка, воспитанная на почитании давно сложившихся обычаев, один из которых требует теплого и сочувственного отношения к умершему, поскольку далеко не каждый может рассчитывать на это при жизни, решила отправить меня на похороны, чтобы засвидетельствовать почтение нашей семьи многочисленной родне тети Марты.
Я пребывал тогда в том прекрасном возрасте, когда еще нельзя было назвать меня отроком, но и юношей пока.
Между прочим, самый опасный возраст для ребят, так как именно в этом промежуточном периоде начинают присматриваться к девочкам, находя каждую заманчиво красивой… Но вдвойне опасен такой период для девочек, поскольку они еще не подозревают о том, что, заигрывая с ребятами в этом возрасте, ведут постоянную игру с огнем…
Достойно прошедшие этот период девочки благополучно для себя и своих женихов приходят на брачное ложе.
Одним словом, я пребывал в том прекрасном возрасте, когда игра девочек со мной была опасна для них, как игра с огнем, так как мог всегда возникнуть тот самый пожар, которого так боятся взрослые…
В воскресенье утром, как и полагалось человеку, собравшемуся в дальнюю дорогу, я встал рано. Тщательно вымывшись под умывальником, не спеша прошел в сад. Там, напугав расчирикавшихся воробьев, стал насвистывать какую-то мелодию, но, вспомнив, что умерла тетя Марта, тут же перестал.
Теперь, когда я пишу эти грустные строки, чтобы принести свои извинения безутешной армянской семье за ошибку, вышедшую тогда по моей неопытности, ловлю себя на мысли: а как же тетя Марта? И как мне получить ее прощение, если ее давно уж нет среди живых? И, признаться, такая охватывает досада на себя за то, что я так и не смог увидеть ее даже на смертном одре и поплакать о ней. Но утешаю себя тем, что рано или поздно и сам прибуду туда и смогу получить ее отпущение, — это будет моей первой задачей на том свете. Ну а пока, поскольку я еще, слава богу, здесь, мне надлежит думать о здешних делах, хотя, честно говоря, ничего в них толком не смыслю.
Войдя в комнату, в которой стонал от боли отец, я на цыпочках двинулся к шкафу, чтобы одеться в дорогу.
Когда я уже был готов и пошел мимо старого запыленного зеркала к выходу, из него вдруг глянуло неуклюжее существо в засаленном галстуке. Оно напоминало молодого Габриэля из фотографии, когда, должно быть, он еще не был гробовщиком, но уже носил на челе налет предстоящей скорби.
Большой черный костюм и широкий галстук, похожий своим узлом на грязный кулак, поднесенный к кадыку, как-то неприятно сковывали мои движения, обязывая держаться по-взрослому глупо. Но делать было нечего. В то время даже такой костюм был редкостью и, если его еще одалживали, что тоже было невероятно, конечно же нужно было этому радоваться. И я, вполне сознавая великодушие такого человека, как гробовщик, принимал его жертвенность, но радости, как таковой, не испытывал, хотя костюм своим цветом и скорбным видом как нельзя лучше соответствовал моему положению родственника на похоронах, что в этих случаях предпочтительно выделяет из праздной толпы, пришедшей пропустить несколько стаканов сухого вина, чтобы затем под видом близкого родства нацеловаться с хорошенькими девушками.
Говорят, иногда на некоторых похоронах ребята так зацеловывают своих «родственниц», что те ходят пьяными до следующих похорон…
Выслушав последние указания матери относительно выполнения похоронного обряда, я с радостью выскользнул, на улицу, чтобы сейчас же прошагать мимо калитки Нуну.
Нуну была отличная девочка, но я никогда не говорил ей об этом.
Вообще делать такое признание вредно и опасно. Девушка после этого может не в меру возгордиться и, чего доброго, сочтет тебя рабом своей красоты. Лучше всего иметь это в виду и держать язык за зубами. Потому что все равно, если она и станет вам когда-нибудь женой, вы поймете, что совершили непоправимую ошибку, назвав ее хорошей. Ибо любая девушка, какой бы она расхорошей ни была, после того как она станет вашей женой, теряет все эти качества.
Правда, тогда об этом я еще не знал, но меня удерживала интуиция. Ну а теперь, если вы хотите знать все начистоту, скажу вам, что я ни одну женщину не удостаивал этого признания в здравом уме и трезвом состоянии. И знаете почему? А потому, что бродит в моих жилах кровь мингрельца! И это кое-что значит, если вы когда-нибудь имели честь жить в Мингрелии.
Поравнявшись с калиткой Нуну с той грустной печатью на лице, что облагораживает человека, у которого умерла тетя, я еще больше углубился в свое горе. И как раз в это самое время я заметил Нуну. Она стояла на улице перед калиткой и кормила поросят яблоками-падалицами.
Заметив меня, идущего степенной походкой в скорбном костюме, она шумно фыркнула, забрасывая челку на лоб:
— Здравствуй, Гоча!
Вместо приветствия я кивнул ей головой.
Мне, по обычаю, в день похорон моей тети не полагалось произносить приветствие вслух, поскольку приветствие на нашем языке означает победу — радость! Ни победы, ни радости в этот день быть не могло. И я, чтобы осадить легкомысленное поведение Нуну, сказал ей твердо, понизив голос до таинственного шепота:
— …умерла тетя! Еду на похороны…
Но Нуну, вместо того чтобы посочувствовать моему горю, непростительно расхохоталась.
О бедная тетя Марта!
Жила она где-то на отшибе наших родственных отношений… Потому что даже мать не знала точно, где пересекаются ветви, роднящие нас с тетей Мартой. О бедная тетя Марта, какое кощунство смеяться в день твоих похорон…
С этой грустной мыслью я перешел взлетное поле аэродрома и сел в автобус.
На нем я доехал до центра города и вышел. Пересаживаться тут же на городской автобус и ехать на окраину, где предстояло проститься с тетей Мартой, подарив ей на прощание слезы, было еще рановато. К тому же, располагая временем, я решил немного успокоиться перед тем, как приступить к выполнению обряда.
Мое положение родственника обязывало меня с честью провести все основные пункты нигде не записанных правил, что не так легко проделать человеку, не искушенному в этих делах, каким был я тогда. Прежде всего, войдя во двор, я должен был сорвать с головы шапку и в сопровождении двух почетных граждан следовать под навес, убранный ветками магнолии и сосны. Затем, подойдя поближе к покойнице, заплакать в голос над ней, извлекая из частых шлепков по лбу смачные звуки великой досады и скорби, потом легонько скользнуть мимо гроба от изголовья к ногам и, резко повернув налево, где стоят обычно члены семьи из мужчин, пожать каждому руку, шепча слова утешения. Таков погребальный обряд древней Мингрелии.
Городские часы показывали двенадцать.
Солнце уже припекало так сильно, что невозможно было ходить по улице без опасения получить солнечный удар.
Сомлевшие от жары горожане толпились у киосков с газированной водой, выстроившись в длинную очередь, и жадно пили стакан за стаканом. Всю эту вялую публику города оживляли молоденькие девушки, царственно проплывавшие мимо пальмовых рядов набережной с шоколадным загаром тугого и горячего тела.
Подойдя к киоску и опрокинув два стакана холодной воды с сиропом, я поплелся к тени дома и сел на свободный стул чистильщика. Правда, туфли не требовали вмешательства этого округлого и сонного человека, но, чтобы отдохнуть в тени, я решил дать ему на легкий хлеб.
Чистильщик пренебрежительно глянул на мою обувь, стукнул щетками по площадке своего сооружения и принялся чистить.
Сидя лицом к гостинице, я с удовольствием разглядывал спортсменку, стоявшую на балконе. Вскоре и она стала смотреть в мою сторону и мило улыбаться. А когда я переставил ногу по требованию довольно нудного чистильщика, понял, как она хороша в голубых брюках, хотя предпочитал девушек в платьях. И все же я так засмотрелся, что это не прошло не замеченным чистильщиком, на что он отреагировал глупой усмешкой. Усмешка кольнула меня тем, что напомнила Нуну. И тут-то я понял, что теперь одинаково люблю и Нуну, и эту девушку в голубых брюках. И еще я подумал, что глупо ограничиваться одной любимой, если ты в состоянии полюбить сразу двух или нескольких девушек.
Не знаю, что вы скажете на этот счет, но если хотите знать мое мнение, я и сегодня готов подтвердить свою прежнюю мысль.
Это неожиданное открытие, сделанное тогда, меня успокоило. И усмешка чистильщика теперь не казалась, как прежде, злой и темной, как он сам, и я простил его.
Но вдруг в милой улыбке девушки-спортсменки, свесившейся с балкона третьего этажа, я заметил еще и нахальную насмешку над дореволюционным покроем красовавшегося на мне костюма, линялый цвет которого прямо указывал на близкое родство с облезлой животиной. Заживо замурованный в костюм гробовщика Габриэля, я все же заслуживал скорее сочувствия, чем издевки.
И скромная спортсменка не должна была позволять себе насмешки над человеком, которому сегодня и так предстояло многое пережить.
Такт — это вторая скромность, когда недостает первой…
Чтобы поднять в глазах дерзкой свое крестьянское начало до уровня разбитного парня-горожанина, я подал ей знак спуститься вниз, чем рассмешил еще больше. Тогда, доведенный ее вызывающим хохотом до отчаяния, я послал ей один довольно популярный жест, совершенно запрещенный за свою откровенность в интеллигентных кругах, с приложением к нему воздушного поцелуя, на что девушка ответила кислой миной.
Она явно не ждала от человека, завернутого в облезлый костюм, такой осведомленности в столь щепетильном вопросе… А поэтому, несколько растерявшись, приложила указательный палец к виску и яростно покрутила им, что доставило немалое удовольствие чистильщику.
Я бы не обиделся, если бы это произошло не сегодня.
Но здесь я встал! Звякнул монетами в жестяную банку чистильщика, давая ему понять, что он полностью зависим от моей благосклонности, и с достоинством зашагал к автобусной остановке.
Вскоре я мчался в новом автобусе, окрашенном в голубой веселый цвет.
Миновав городскую пекарню, а затем и Беслетский мост, автобус повернул направо и выехал на окраину, где вдоль улицы большими группами шли мужчины и женщины. Во главе групп дети несли цветочные корзины и венки. Следом за венками шли женщины с распущенными под крепдешиновыми платками волосами, в траурных платьях. Автобус, убавляя скорость, обходил эти группы и наконец, проехав еще несколько метров, остановился у обочины.
Я сразу же выскочил из автобуса и, потянувшись за одной из групп, вошел во двор покойницы, откуда доносились плач женщин и дребезжащее подвывание духового оркестра.
Посреди большого зеленого двора, в тени грушевого дерева, стоял стол, заваленный шапками.
Я приблизился к нему и, сорвав с головы шапку, стал ждать своей очереди к покойнице.
Но брезентовый шатер был забит до отказа черными платьями…
Женщины толпились у гроба и кричали вразнобой. И весь этот нестройный хор голосов покрывал густой вздох духового оркестра, доносившийся справа, из сада.
Я был уже готов подарить тете Марте молодые слезы и проститься с ней… Я смотрел на большой портрет покойницы, висевший над входом, и на мужчину, старательно развешивавшего венки на красиво убранных свежими ветками магнолии и сосны столбиках.
— Что они там возятся… — услышал я шепот утомившегося ожиданием человека.
Я перевел взгляд с портрета на траурную ленту, натянутую под портретом, чтобы прочитать дату и имя покойницы, но не мог — надпись расплывалась перед глазами… А стоявшие вокруг волновались задержкой. И кто-то, пользуясь этой заминкой, бубнил своему дружку бесстыдные слова, показывая ему девушку:
— Вот ее…
— Хороша! — восхищенно тянул другой голос.
Но вот часть женщин вышла из-под навеса во двор и растеклась в толпе. Часть забилась в углы, а те, которые состояли в близком родстве с умершей, разместились за гробом, причитая то низкими, то высокими голосами.
И тут же к нам подошли два почетных гражданина и попросили выстроиться по четыре перед навесом.
Становясь, на правах родственника, в первой четверке, я разобрал расплывчатые буквы на траурной ленте, отчего меня бросило в жар…
На ней золотыми буквами была выведена армянская фамилия, сообщая всем жителям мингрельской деревни об утрате омингрелившегося члена армянской семьи, что редко, но случается в наших краях. Большие золотые буквы гласили: ХОДЖИКЯН АНУШ ГАИКОВНА, 1898—1949.
Так что я не встретил здесь фамилии тети Марты. Но отступать было поздно. Четверка, во главе которой я стоял, тронулась с места.
О бедная тетя Марта!
Какое кощунство оплакивать незнакомую женщину…
Подойдя к покойнице, я с размаху шлепнул себя ладонями по лбу. Затем повторил шлепок, но уже больнее. Я оплакивал покойницу по всем правилам нашего обряда и в то же время наказывал себя таким способом за оплошность. В такт моим всхлипываниям и частым смачным шлепкам отвечали пронзительные вскрики женских голосов и ленивое утробное урчание духового оркестра.
Не могу сказать, как долго длился обрядовый плач, но, кажется, я сорвал всякий регламент, как это делают некоторые профсоюзные работники на собраниях.
Стоя во главе четверки, я мешал ее продвижению к выходу, а также подходу новой четверки. Она туркалась сзади, не зная, каким образом протиснуться к покойнице. Но я, упиваясь своим и чужим горем, был далек от возникшей сумятицы. Мне нужно было выплакаться так, чтобы хватило сразу на двух умерших, и я требовал того же от остальных. Но двумя почетными гражданами, оценившими мое усердие, я был выведен из-под навеса и передан для утешения претолстой женщине в траурном платье.
И чем больше утешала меня эта женщина, тем больше я плакал. Не было никаких сил сладить с собой. На сердце лежала тяжесть сознания невыполненного долга перед тетей Мартой. Наконец, когда я все же приутих, как-то сладостно икая, женщина нежно погладила меня по голове и пришила к моему пиджаку маленькую фотокарточку с изображением Ануш.
Эта фотокарточка, насколько я понимаю, была мне выдана в награду за мои особые заслуги перед умершей… Теперь она привлекала внимание людей и вызывала у них ко мне сострадание…
Я до сих пор не могу забыть этого щемящего чувства сострадания к моему горю, на что, к сожалению, не могу теперь рассчитывать в трудные минуты жизни.
Я подошел к столу с шапками и, отыскав среди множества других свою, напялил ее на голову, хотя было жарко, и потащился к выходу. Мало-помалу я начинал приходить в себя, сливаться с толпой и глазеть на машины, стоявшие на обочинах и перед чьими-то двора ми. А люди все шли и шли живым потоком проститься с Ануш. Несли по-прежнему венки, портреты ранее умерших родственников. Кто-то из близких родственников вел духовой оркестр, который, подойдя к воротам, заревел, сообщая о своей солидарности другому оркестру, расположившемуся в тени сада. Недалеко через дорогу, где простирался колхозный сад, под брезентовыми навесами стояли столы в два длинных ряда. За навесами резали хлеб, разливали вино, варили макароны и фасоль в больших котлах. Проворные девчонки с подносами хлопотали под навесом, раскладывая соленья и хлеб.
Устраивать пышные похороны в обычае наших деревень.
Мингрелец и сейчас ничего не пожалеет для похорон, поскольку именно в них проявляется его широкая натура. Не найдете вы ни одной деревни, где бы в мингрельских семьях не делались традиционные приготовления к столу в день похорон. Славить последний день усопшего пышностью стола, в чем жестоко соревнуются семьи покойных, есть своего рода мера их любви и привязанности к нему… Иногда некоторые состоятельные семьи эти траурные столы дополняют еще и осетриной в ореховом соусе, что еще дольше продлевает память об умершем.
Я думаю, что если бы ввели обычай в день похорон не есть мясного, то, возможно, не стали бы столь редкими рябчики и фазаны.
Ревностно оберегают мингрельцы похоронные обряды, привнося в них с каждым разом все новое и новое, ошеломляющее человека формой увековечения памяти…
На столах в такие дни у самого бедняка подается хорошо разваренная фасоль, заправленная специями. Соленья и свежие овощи украшаются маслинами в оливковом масле. К концу траурной трапезы подается теперь плов с изюмом. Вино преимущественно белое, более крепкое. Белый пушистый хлеб выпекают пекарни по заказу за несколько часов до начала трапезы. Одним словом, здорово поставлены дела похоронные в Мингрелии. Специально для этих нужд выделен староста, который хранит необходимую утварь. По уже решенной сумме собираются денежные вспоможения семьям, которых постигло несчастье. Сумма вроде безвыигрышного займа, погашение которого может последовать за смертью…
Мне кажется, неплохо было бы избрать еще одного старосту — оказывать помощь живым, поскольку таковые нуждаются в ней больше.
Народ, постепенно вытесненный со двора вновь пришедшими, уже стоял у колхозного сада, под кипарисовыми деревьями, украшавшими ворота в сад, и вел разговор на самые разные темы. Здесь уже мало что напоминало о похоронах. Люди, давно не видевшиеся между собой, целовались, сообщая второпях семейные новости. Но если нет-нет да и долетали сюда женские причитания и вскрики, сливающиеся с мужским воем, то стоявшие в тени деревьев начинали расспрашивать об умершей, глубоко и горько вздыхать, говорить обычное в таких случаях — что-то о бессмысленности жизни — и тут же о сказанном забывать.
Я стоял совершенно один, прислонившись плечом к тутовому дереву, затесавшемуся между кипарисами, и тоже напряженно ждал вместе с другими.
В воздухе плыл приятный запах чуть-чуть подгоревшей фасоли, и от этого запаха кружилась голова, все настойчивее напоминая о мягком хлебе и холодном лимонаде… Мучила жажда.
Так уж устроена наша жизнь с чувством вечной жажды.
Но вот под кипарисами появился седоусый старик в хорошо начищенных высоких сапогах и мягким голосом, приличествующим приглашающему, попросил пройти к столам и почтить память…
Толпа, изрядно изнуренная жарой и ожиданием этой минуты, несколько смущенно потянулась в сад с затаенной полуулыбкой.
И вскоре весело зазвякали рукомойники. Затемнели намокшие полотенца, забегали девушки с ведрами желтоватой воды. Под навесами засуетились подавальщицы, раскладывая бумажные салфетки и другие предметы к столу. У входа под навес вырос мужчина в белом халате и принялся отсортировывать мужчин от женщин, рассаживая их за разными столами.
Не думаю, чтобы такой порядок был предусмотрен в целях отлучения их друг от друга. Скорее всего, это делалось затем, чтоб спокойнее отдать дань памяти в кругу сугубо женской или мужской компании.
Итак, мужчины проходили направо, женщины — налево, отделенные большим проходом в виде коридора, и, прежде чем разместиться за своими столами, они непростительно долго суетились, наполняя навес протяжным гулом.
Вообще женщины в Мингрелии склонны придерживаться левой стороны, в отличие от своих мужей, но это нисколько не мешает сохранению семейных уз…
Я вошел последним, и меня усадили за самый край стола лицом к лицу с высоким мужчиной с нарочито выпяченными в снисходительную улыбку губами и с орлиным носом над черными с проседью усами. Рядом с ним оказался мой знакомый Мустафа. Я чуть не подпрыгнул от радости, но, вспомнив, что он собачник и на его совести жизнь моего Шарика, погасил эту радость. Этот маленький человечек с чисто выбритыми тяжелыми щеками сидел в метре от меня и стрелял по сторонам хитроватыми глазами зверька, чтобы вовремя пресечь всякого, кто посмеет посягнуть на честь…
Мустафу в те послевоенные годы знали во всех деревнях. Он ездил на подводе, специально приспособленной для перевозки собак, которых ловил он искусно. Несмотря на то что вместо правой ноги у него висела деревяшка, подбитая грубой резиной, он ходил так быстро, что редко когда удавалось улизнуть от него очередной жертве. Одним ловким движением руки Мустафа набрасывал сеть на собаку, и в минуту она оказывалась в ящике.
Таков был этот маленький человечек, неизвестно откуда взявшийся в наших краях.
Его самым любимым занятием было ходить на похороны. За день он успевал побывать на двух, а то и на трех выносах, если деревни находились в непосредственной близости друг от дружки.
Позже я много раз сталкивался с Мустафой на похоронах и был свидетелем его трогательных прощаний с покойниками.
Не соблюдая никакой очередности, один, подходил он к гробу и резко падал перед ним на колени. Три раза поклонившись земле, целовал покойника в лоб, словно даря ему часть своего тепла, и выходил со слезами на глазах. Такую дань отдавал Мустафа каждому умершему, не выделяя никого, что, несомненно, делало ему честь. И все же Мустафу не терпели в деревнях, где он появлялся, за его ремесло собачника.
— Мустафа, — обратился к нему высокий мужчина, еще больше выпячивая губы в снисходительную улыбку и скрывая за нею неприязнь к собачнику. — Ты случаем не был там? — Он показывал в сторону своего плеча фалангой большого пальца. — У Марты…
Мустафа, привыкший за свою нелегкую жизнь к издевкам, не возмутился, но на всякий случай ощерился, оскаливая желтые зубы хищника.
— Был, — сказал он как можно спокойнее, — царствие ей небесное! — И обмакнув хлеб в вино, что означало поминание души усопшей, положил на край своей тарелки и принялся за еду.
Сосед, сверкнув на Мустафу холодными белками глаз, приосанился, как орел, чтобы клюнуть его в уязвимое место. Но Мустафа не показывал неприятелю своих уязвимых мест. Напротив, сам искал их в своем неприятеле, не выпуская его из поля зрения.
— А как с планом у тебя, Мустафа? — усыпляя его внимание спокойствием голоса, вновь поинтересовался человек с выпяченными губами. — Делаешь, или как?..
— Когда как, — солидно ответил Мустафа, поднимая на соседа зоркие глаза снайпера. — Спасибо, а как у тебя табак, не горит?..
— Пусть его горит! — весело ответил тот. — Я не курю!
— Пусть, — согласился Мустафа с удовольствием, наблюдая за девушкой, разливавшей возле меня горячую фасоль из эмалированного ведра в алюминиевые миски.
Мустафа, как, впрочем, все за столом, с аппетитом принялся за горячую фасоль, заедая ее соленьями и запивая вином. Потом он подналег на маслины, помня о своем неприятеле за столом, чтобы сразить его в нужный момент.
Тамада тем временем покрывал сиплым басом рев двух оркестров, доходивший сюда. Он говорил очередной тост витиевато и длинно в честь строителей вечного жилья — могильщиков:
— Те, которые добровольно возложили на себя это грустное дело и строят нашей Ануш вечное жилье, чтобы отныне никогда никому не строили его преждевременно. Пусть их рукам в будущем будут подвластны дворцы и иные добрые сооружения на радость людям…
За столом голос тамады слышали плохо, но согласно кивали, зная как заученный смысл всех подобных тостов. Некоторые уже покидали свои места, считая, что тамада увлекся славословием, и выбирались на выход. Другие же вообще никого не слушали, образовав свою обособленную компанию, вовсе не собирались прерывать застолье так скоро. Такие высиживают до захода все новых и новых групп, чтобы разделить поминальный обряд и с ними. И ничего тут не сделаешь. Такт на похоронах — превыше всего.
Мне тогда так и не удалось досидеть до того, чтоб отведать горячей фасоли, маслин и других поминальных яств.
Девушка, разливавшая за моей спиной фасоль, нечаянно обронила полную миску горячей гущи мне на плечо и смазала картину моей благопристойности.
Горячее варево так стремительно потекло вниз, к брюкам, что обожгло даже ногу. А когда я подпрыгнул от неожиданного ожога, то зацепил рукав за острие гвоздя, спрятавшегося на мою беду у самого края стола, и разорвал его повыше локтя буквою «Г».
Сидевшие рядом и напротив меня, вместо того чтобы как-то помочь мне выйти из дурацкого положения, весело заерзали, одаривая комплиментами виновницу моего несчастья.
Девушка же, поддерживаемая ими, прыснула в кулачок, стараясь спрятать смешок. Но это плохо ей удавалось. Однако, вскоре справившись с собой, она принесла мокрое полотенце и принялась размазывать фасолевую гущу по всему пиджаку.
— Пометила, значит, — хохотал высокий мужчина, уставясь на меня выпяченными вперед губами. — Теперь хорошо бы остудить его соленьями, а потом…
Но Мустафа, долго ждавший удобного случая для уязвления своего неприятеля, поймав его снайперским оком на мушку, выстрелил:
— Уважаемый Чичико, вытрите усы, а не то… — И, проворно потянувшись рукой за салфеткой, подмигнул мне.
Видя, что назревает скандал, я встал и вышел в сопровождении девушки, осрамившей меня. Уходил в то самое время, когда подавали горячие макароны в сахаре.
Пройдя садом, мы завернули в переулок и стали подниматься по крутому склону на дорогу, где вдоль окрашенного в синий цвет кладбищенского забора тянулись ряды кипарисов.
— Теперь уже скоро, — сказала моя спутница, показывая рукою на дом, в котором обещала зашить и вычистить мой костюм.
Мы преодолели довольно крутой подъем, и дорога вдруг выровнялась, подставляя то тут, то там темноватые бока уродливых каменных глыб. Слева, на кладбище, в двух разных местах стояли оголенные по пояс ребята и утоляли жажду красным вином, передавая друг другу полные стаканы. Вдоль уже выкопанных ям подсыхали горки из красной глины. На них лежали заступы, сделавшие свое нехитрое дело.
Когда мы поравнялись с железными воротами кладбища, один из могильщиков звонко прищелкнул языком. Потом он что-то сказал стоявшим рядом напарникам, отчего те, взглянув в нашу сторону, сразу же сверкнули зубами.
— Эй, красавица, заходи к нам! — сказал один из них, подняв заступ и опершись на него.
Могильщики, стоявшие у другой ямы, с интересом ждали, что скажет моя спутница, сохраняя при этом вид, вполне приличествующий такому месту, как кладбище.
А девушка приостановилась и, отвечая на улыбку улыбкой, крикнула:
— Ждите! Через сто обязательно!..
Один из могильщиков, должно быть самый искушенный в дерзости, почесал затылок и, не переставая улыбаться, сказал:
— Мы кое-что и другое умеем…
Девушка, переглянувшись со мной, слегка покраснела, но тут же нашлась что сказать:
— Вы не умеете главного — владеть собственным языком!
О бедная тетя Марта! Какая из этих ям будет вечным домом твоим?
В наших краях могильщиками становятся самые близкие соседи покойника…
Не подарив вечный дом другому — не заслужишь его сам! Так гласит мингрельская мудрость…
Если бы я знал, что своей скаредностью смогу избежать этой участи, никогда никому не делал бы подобного подарка в виде этого неуютного вечного жилища.
— Что все молчком да молчком! — проговорила спутница, заглядывая мне в лицо. — Как тебя зовут? Меня — Талико!
— Гоча! — выдавил я, глядя на деревянный дом, громоздившийся в конце длинного двора на кирпичном цоколе.
Поднявшись на веранду, Талико усадила меня на кушетку, выставленную сюда и покрытую желтой циновкой, а сама, достав из-под порога ключ, исчезла за дверью комнаты. Но через минуту вышла обратно, неся утюг и щетку.
В утюг она насыпала древесные угли, принесенные ею из кухни, и, облив их керосином, подожгла. А когда из приоткрытой крышки утюга вспыхнуло пламя, то сделало его похожим на маленький кораблик с алыми парусами, переставила его на цементную ступеньку, подсела ко мне и, вдевая в иглу нитку, голосом сварливой хозяйки сказала:
— Сними пиджак! И шапку не забудь!..
Я молча повиновался и, украдкой поглядывая на руки Талико, проворно зашивавшие разорванный рукав чужого пиджака незаметным швом, понял, что именно эта девушка должна занять самое большое место в моем сердце, несмотря на то что она облила меня… Было совершенно ясно, что перед ее стремительным лукавым взглядом и притаившейся в уголках губ улыбкой, готовностью в любую минуту осветиться радостью по самому незначительному поводу, не могли устоять медлительные и тяжелые движения Нуну, хотя обе они были одного возраста.
Нет, это не девушка, а огонь!
Или, как говорят в Мингрелии, одна из тех, кому удалось обуздать одновременно черта и дьявола: чертовски дерзкая и лукавая и дьявольски настойчивая и упрямая, а между тем самый нежный и теплый комочек самого таинственного в мире существа…
Зашив рукав действительно незаметным швом, таким, что вряд ли его теперь мог заметить Габриэль, Талико смочила щетку водой и принялась чистить пиджак, а закончив, повесила на столбик веранды и снова подсела ко мне, дерзя и подшучивая надо мной.
— Чего ты такой квелый, может, хочешь познакомиться с нашим садом?..
Я покраснел. И желание знакомиться с чужим садом тут же исчезло.
— Вот когда утюг перестанет дымить, я проглажу… — сказала она, продевая одну ногу в стремя черта, а другую — дьявола, забывая о том, что является нежным и теплым комочком самого таинственного существа…
Пожар возник внезапно, как, должно быть, возникают все пожары. А когда он погас, утолив свою жажду, в утюге тлели угли, покрытые серым прахом пепла; сквозь раскрытую крышку ветерок выдувал этот прах догоревшего жара и рассеивал в воздухе.
Накинув на себя непроглаженный пиджак, я вышел во двор и встал под инжиром. Сердце подступало к горлу и стыло при виде Талико…
Талико вышла не скоро и уже в другом платье.
И мы медленно и молча пошли, сперва мимо кладбища, потом садом. Она то всхлипывала, то беззвучно смеялась искривленными губами.
Войдя во двор, где по-прежнему кричали женщины (каждая из них, выплакав чужое горе, теперь оплакивала собственное) и вздыхали два совершенно охрипших оркестра, Талико прошла под навес и, встав среди плачущих у изголовья покойницы, сокрушенно заревела, время от времени поглядывая на меня, застывшего у входа…
Плакал и я.
Только плакал я потому, что плакала Талико. У меня на сердце не было и тени горя. Выражением радости и смутной тревоги были мои слезы, сладостно разрешавшие в молодом, еще до конца не проснувшемся теле заложенные самой природой муки…
Вскоре Талико растворилась в толпе плачущих женщин. Ее лица уже нельзя было разглядеть в траурной черной толпе.
Лишь поздним вечером я вернулся домой.
В доме горела керосиновая лампа.
Отец сидел на постели, облокотившись на подушки, и запивал легкий послевоенный ужин черным, как траур, чаем.
— О бедная Марта… — заплакала мать, рассматривая пришитую к пиджаку фотокарточку. — Несчастной судьбы сестра… — Затем, все еще продолжая причитать, она осторожно выпростала фотокарточку и спрятала ее среди других таких же снимков умерших в разное время родственников.
Я прошел в свою комнату и упал на кровать.
Я лежал, оплакивал рано наступившую юность и всем своим разгоряченным сознанием понимал, что не жить мне теперь без Талико…
Москва,
1968
СВЕТ И ТЕНЬ
В семи верстах от города, над шоссейной дорогой, за крутым поворотом в подъем, виднеется одухотворенное светом и солнцем деревенское кладбище, приткнувшееся железным боком ограды к мандариновым плантациям совхоза.
В глубине мимозовой рощи кладбища, на небольшом, густо обсаженном какими-то кустарниками зеленом дворике красуется беленький дом в два окна.
Говорят, что этот домик несколько лет назад построил один очень известный в нашем приморском городе человек для своей юной любовницы.
Но вы этому не верьте!
А повыше кладбища, там, где кончаются мандариновые плантации, на самом гребне холма, дико зеленеющего гигантскими эвкалиптами, пальмовыми аллеями и дымчато-голубоватыми кипарисами, образовавшими причудливую корону, выступают два великолепных корпуса с башенками, окрашенными в небесный цвет.
Эти четырехэтажные творения из белого камня и красного кирпича построил в давние времена заезжий богатый немец для больной чахоткой дочки.
И это правда!
Заботливый отец ничего не пожалел ради выздоровления любимой дочери.
Все комнаты были украшены самыми веселыми росписями.
Больная, сидя в одной из трехсот шестидесяти шести комнат, предоставленных ей по числу дней года, могла наблюдать за кропотливой жизнью близлежащих деревень и любоваться морем в солнечную погоду. Но все заботы отца оказались бессильными перед болезнью. Девушка вскоре умерла, так и не налюбовавшись всеми видами, открывавшимися из многочисленных комнат.
Теперь в этих зданиях располагается какая-то лечебница. Какая именно, затрудняюсь сказать. Но, судя по тому, с каким нескрываемым состраданием глядят вослед идущим по направлению к лечебнице мои добрые односельчане, там нет ничего такого, что могло бы пригодиться здоровому человеку.
Во всяком случае, даже старый кладбищенский сторож, седоусый Иорика, живущий непосредственно на кладбище, деля в домике по окну с беленькой женщиной Клавой, непревзойденной искусницей по венкам и первой обольстительницей мужчин нашей деревни, считает, что кладбище куда более предпочтительное место для службы, чем вышеупомянутая лечебница…
Мне, конечно, трудно судить, прав Иорика или нет, поскольку я, по известной причине, не имею чести служить ни в лечебнице, ни на кладбище, а от избытка времени занимаюсь сплетнями, что в некоторых серьезных кругах именуется еще писательством. Правда, как сами вы можете убедиться, я и здесь не преуспел, однако не теряю надежды понравиться какой-нибудь дородной женщине и вкусить наконец радость настоящего признания, хотя очень уж это дело обманчиво.
Иорика, наверное, прав.
Где еще в наше время можно найти более спокойное и надежное от всевозможных житейских бурь место службы, как не на кладбище?
Ценя свое место кладбищенского сторожа, Иорика не без гордости напоминает об этом время от времени Давиду, торгующему разбавленным керосином в лавке напротив кладбищенских ворот, через дорогу, на спуске.
Давид, как всякий человек, занятый созиданием «материальных ценностей», плохо понимает Иорику, хвастающего своим положением кладбищенского сторожа.
— Тебя послушать, — замечает Давид, брезгливо сплевывая себе под ноги, — ты создал самое справедливое общество: каждому по три аршина земли… Не пойму, чем тут гордиться — живешь среди могил…
— Уж ты того, Давид, — возражает Иорика, сильно кося глазами и не умея найти правильного ответа. — Ты уж чересчур того…
— Глупость говоришь, старик! Что значит — того? — Давид эти слова произносит в самом обидном тоне, сопровождая уничтожающей усмешкой, отчего сердце Иорики готово тут же выскочить из груди и отхлестать обидчика по щекам, но, не в силах этого сделать, так часто и сильно колотится в груди старика, что тот едва переводит дыхание.
А Давид, не желая на этом остановиться, продолжает потчевать своего приятеля в том же тоне и еще более обидными словами:
— Ох, дорогой мой Иорика, с каждым днем все больше и больше глупеешь, хотя сказать, что в молодости ты отличался умом, будет грешно…
После таких обидных слов, почувствовав себя в лавке лишним, Иорика машинально слюнявит кончики пальцев, чтобы потуже закрутить концы белых усов, и выходит, поклявшись в душе никогда сюда больше не заглядывать, если даже на всем белом свете переведется керосин. Но, дав такую поспешную клятву себе. Иорика вспоминает, что самое позднее через неделю нарушит ее, и от сознания собственной слабости сильно страдает его самолюбие.
— Ну, погоди, Давид! Будет еще весна! — бубнит обычно Иорика, покидая лавку. — Мы еще посмотрим, как ты проведешь меня на сей раз… Как-нибудь доживу до весны…
Это намек Давиду, что ему теперь по весне не наломать в отсутствие Иорики мимозовые деревца на могилах, не продать весенние цветы, пользующиеся в северных городах спросом, оптовым скупщикам.
Но Давид, хоть и торгует воспламеняющимся веществом, не вспыхивает, а, напротив, как и подобает продавцу разбавленного керосина, шипит, и сквозь его шипение пробивается слабый отзвук смеха. Затем, бросив беглый взгляд вослед удаляющемуся Иорике, торжественно кричит отсыревшим голосом потянувшимся мимо кладбища в лавку покупателям:
— Эй вы, ходячие трупы, пользуйтесь всеми благами жизни, пока смерть не отметила вам командировку в эту чудесную страну… — И, ударив молотком по пустой бочке, выставленной за порог, весело улыбается: — Жгите, сукины сыны, керосин и дуйте черное вино! А самое главное, не забудьте держать руки на бедрах красивых женщин! Поверьте мне, не найдете вы на том — будь он проклят! — свете ничего подобного…
Несмотря на то что покупатели бывают разного нрава, почти никто из них не смеет упрекнуть Давида в том, что тот разбавляет керосин или кладет наценку, если только не прибегает к тому и другому разом.
Происходит это, наверное, потому, что Давид слывет человеком веселым и к тому ж невезучим в карточной игре. И еще потому, что нет попросту другой керосиновой лавки ближе, чем в городе.
К нему, чтобы посидеть в лавке, приходят молодые ребята, прихватив с собой бутылку вина. Приходят школьники, чтобы спрятаться от докучливых школьных занятий, приходят покупатели керосина и даже те, кто за всю жизнь ничего не купили. Одним словом, в лавку приходят все те, кому негде убить тоску. И, как правило, сбор в лавке завершается страстной карточной игрой, в которой Давид проигрывает деньги так же легко, как и приобретает их. Зато на следующий день цена на керосин возрастает и не снижается до тех пор, пока проигранная сумма не возвратится к Давиду.
В такие дни окрестные жители стараются воздержаться от покупок, но поскольку воздерживаться иногда приходится долго (это зависит от проигранной суммы), то они бывают вынуждены пойти на уступки и тем самым положить конец керосинному голоду, хотя теперь не прежние времена и керосин в хозяйстве играет лишь вспомогательную роль. И тем не менее в некоторых местах, несмотря на газ, постепенно вытесняющий из быта керосин, именно ему, этому допотопному товару, вверено еще быть самым верным и надежным средством в поддержании семейного благополучия…
Помимо излюбленной привычки подзаводить ни в чем не повинного Иорику, что Давид делает больше от скуки, чем от злого умысла расстроить приятеля, непреходящими страстями его по-прежнему остаются карты и женщины, хотя последние с возрастом все чаще оказываются ему не по зубам… И вместо обычного ухаживания приходится ограничиваться шуткой или глубокими вздохами, брошенными вослед… А вот карты, пусть они отнимают немалые деньги, другое дело. Эта страстная игра доставляет Давиду много приятных минут, совершенно непонятных человеку, никогда не игравшему…
Как мне теперь кажется, азартные игры и любовь к женщине одинаково способны поднять человека со дна или бросить его туда безвозвратно, что — и то и другое — в общем-то, дело случая.
— В карты, — с сознанием своей слабости и своего превосходства подчеркивает Давид, сидя в тени эвкалиптового дерева перед лавкой за пустой бочкой, служащей столом во время игры, и бросая победный взгляд на Иорику, если тот уже успел простить недавнюю обиду и заглянул к нему под тень, ставя себя невольным свидетелем его страсти. — В карты, — говорит он, — я могу проиграть собственную могилу, ежели Иорика не осерчает на меня за это. — И снова, отодвигая Иорику на грань неминуемой развязки, о чем по своей доверчивости тот не может догадаться, Давид с головой уходит в игру, кутаясь в сизый, застывший в воздухе папиросный горьковатый дым, чтобы потом окончательно определить место Иорике…
Иногда по воскресеньям случается бывать в лавке и мне, чтобы после трудной и продолжительной недели, пропахшей чернилами и бумажной канителью, вдохнуть естественный запах мира и послушать новости, преломленные в умах моих односельчан, или попросту, сидя в тени между ними, помечтать о будущем. И пока я предаюсь столь заманчивому занятию и вдыхаю запах керосина, собравшиеся за карточной игрой режутся во весь дух, а на кладбище в центре двора над чем-то хлопочет Клава, должно быть, готовясь к встрече с Николаем Николаевичем, пасечником, человеком серьезным, медлительным и округлым добродушной округлостью, как, наверное, все пасечники. Скажу вам по секрету: Николай Николаевич после одного известного здесь случая, о чем я, может быть, расскажу, очень занимает меня. В его медвежьей неуклюжести есть что-то твердое и непоколебимое, смешное, но нужное для горного жителя и пасечника. Очень уж интересен этот Николай Николаевич.
Говорят, что Николай Николаевич ходил к Клаве с серьезными намерениями, желая навсегда вытащить ее из кладбищенских невзгод и поселиться с ней в Верхних Латах, что вряд ли произойдет теперь, после одного случая, обратившего жизнь Иорики и Клавы с Николаем Николаевичем в предмет насмешек со стороны безжалостного Давида, получившего для этого повод.
Насколько известно мне, Николай Николаевич перестал думать о женитьбе, хотя все еще продолжает носить, как прежде, в своем рюкзаке всякие склянки, должно быть, с медом или еще с чем-то очень вкусным.
Подойдя к кладбищенским воротам, он снимает неизменную соломенную шляпу и, обнажив облысевшую круглую голову с остатками шелковистых волос, неуклюже тычется в калитку и не может ее открыть, хотя сделать это не представляет особого труда. Досадуя то ли на калитку, не поддающуюся его рукам, то ли на свою неуклюжесть, Николай Николаевич долго топчется на месте, бормочет что-то такое, отчего прохожие не могут пройти мимо него без лукавой улыбки. Наконец, кое-как протиснувшись в калитку, медленно теряется среди могильных крестов и плит и возникает уже перед домиком, при этом непременно кашлянув, чтобы заблаговременно возвестить о своем благополучном прибытии… И действительно, окно, принадлежащее Клаве, моментально растворяется настежь, затем распахивается дверь и, показавшись из нее, взволнованная хозяйка летит по ступенькам вниз, готовая заключить своего пасечника в объятия, но, подойдя к нему, умеряет пыл, боясь такой горячностью обидеть Николая Николаевича. А там, если она заговорит, что долго тянулась неделя, Николай Николаевич потупится от стыда за Клаву и, комкая шляпу, и так достаточно искомканную, коротко произнесет:
— Такое дело вышло…
Потом Клава бережно возьмет у него шляпу, обернется на керосиновую лавку, нет ли среди посетителей Иорики, и, найдя его глазами, позовет его в дом, на что счастливый Иорика, руководимый чувством добрососедства, встанет и, сделав серьезную мину, пойдет…
А что уж происходит затем в домике, догадаться совсем не трудно. Пьют крепкий напиток в честь прихода Николая Николаевича.
Если верить Давиду, не раз бывавшему приглашенным Клавой к такому застолью, разговор там должен происходить примерно такой:
— Мне, Николай Николаевич, жизнь дала все, — начинает Иорика и, убежденный в своем благополучии и счастье, добавляет: — Только не судила, знать, семью…
Николай Николаевич, посчитав это за намек по его адресу, спешит перевести разговор в другое русло:
— Давеча в лесу много грибов пошло… Если еще даст теплого крапушного дождя, то грибов не пройти. — Застряв на этом и не зная, как выбраться из положения, Николай Николаевич густо краснеет.
Но тут Клава, желая вывести Николая Николаевича из затруднительного положения, возвращает его в прерванный круг разговора:
— Дорогой мой Коля! — Глаза Клавы от избытка чувств к Николаю Николаевичу наполняются слезами. — Не держи так близко к сердцу обиду… Я баба глупая, меня в крепких руках держать надо… Ей-богу, правда! Глупая я баба, но добрая…
Клава действительно женщина добрая, и если что в ней глупого, так это от мужчин, которых она знала.
Иорика, поворачиваясь к Николаю Николаевичу боком по причине все того же сильного косоглазия, за что и был прозван Давидом, понятиями диаметрально противоположными: Европа — Азия, смотрит одним глазом на пасечника, другим — на Клаву и хочет сказать им что-то такое, что могло бы внести в отношения между ними мир и любовь, но, не найдя таких слов, продолжает молчать…
А Николай Николаевич, как бы отвечая и Клаве, и Иорике, говорит медленно густым медовым басом:
— Такое, значит, дело вышло, вот. — И, сопровождая слова движениями рук, словно осторожно вынимая из улья соты и взвешивая на руках, добавляет: — Человеку голова потому и дадена, чтобы сердечные прихоти вовремя отсекать!.. — Решив, что сказал лишнее, Николай Николаевич умолкает, стараясь молчанием загладить вину.
Я не знаю, так ли это или нет, но ничего другого предложить не могу, а подслушивать чужой разговор, хоть в нем и заключается основная работа всякого пишущего человека, дело постыдное…
Иорика, как уже известно из первых страниц, живет на кладбище с самого возникновения на нем вакансии сторожа. Жил он сперва в ветхом домике, потом ветхий домик сменился хорошим кирпичным домиком, а вместе с Иорикой в него вошла молоденькая девушка Клава. Поэтому сказать, кому этот домик обязан своим возникновением — Клаве или Иорике, — теперь трудно, об этом никто толком не знает. Одно лишь совершенно ясно: что Иорика не мог родиться вне кладбища, чтобы потом стать его законным сторожем.
Давид тоже, как утверждают окрестные жители, явился на свет вместе с керосиновой лавкой и торгует в ней больше водой из речки, огибающей эту лавку и сильно пообмелевшей от чрезмерного усердия лавочника, чем керосином. Тем не менее в лавке, возникшей бог весть когда на спуске дороги напротив кладбищенских ворот, они не знают никого другого, кто мог бы так потчевать своего покупателя веселыми рассказами и всевозможными новостями, как это делает изо дня в день Давид.
С тех самых пор как Иорика и Давид заняли свои вакансии, люди поняли, что в их лице кладбищенского сторожа и керосинщика послал им сам бог, возложив на них земные обязанности — Иорике давать вечное успокоение от сует и трудов усопшим, а Давиду — тепло и свет живым. Но беда в том, что, возложив на них эти обязанности, жизнь породила между ними соперничество: чья работа более почетна и необходима? Этот невыясненный спор сформировал два противоположных характера…
Вот, судите сами.
Иорика, как того требует положение кладбищенского сторожа, человек серьезный, тихий, совестливый. А потому о людях говорит всегда уважительно и вообще не утруждает слух собеседника многословием. Любит животных. Ест больше вегетарианскую пищу. И, как вам уже известно, не умеет долго сердиться — отходчивый. Ходит он медленно, но легко, кося пятками вовнутрь…
Давид, напротив, косит пятками наружу. И подчас так сильно, что стачивает каблуки до задников. И характером он не похож на Иорику — очень уж шумный, смотрит на вещи весело, но трезво. Иногда заглянет вперед так далеко, что многих оторопь берет. Сердится Давид чрезвычайно редко, но зато на всю жизнь. В отличие от Иорики он не заботится о слухе собеседника. Говорит о людях снисходительно, смеется над ними в часы откровения, но не упустит возможности посмеяться и над собой, за что в его шутках не видят злого умысла. Рассуждает Давид много и всегда вслух.
— Кто мы такие будем? — говорит он и тут же отвечает: — Извольте: мы — большие муравьи! Бегаем взад-вперед, и каждый со своей ношей… Куда так торопимся? Чего хотим? Где конечная цель? — И Давид снисходительно улыбается. — Хотим весь земной шар, а причаливаем сюда, чтобы превратить там, у Иорики, ровное место в жалкий холмик… Так что пойдите полюбуйтесь на себя в будущем еще при жизни… Чего улыбаетесь, не так говорю? А ну попробуйте сделать это через сто лет… — И, повернув свои пророчества другим боком, протяжно хохочет: — Что же касается меня, я и там займусь своим делом — в аду керосин, наверное, тоже пользуется спросом… Только какую же должность получит Иорика в раю? Он-то наверняка попадет в рай… Всем безгрешникам постное место — рай!
Иорика, к своему несчастью, — я уверен, что у него выросли бы хорошие дети, — не создал семьи. По словам Давида, он даже не удостоился женской ласки. Но зато преданно и ревностно любит его ишиас. О чем мечтает Иорика? Больше о замужестве Клавы, чем об избавлении от недуга.
Давид, будучи человеком трезвого ума и расчета, выдавший трех дочерей замуж, мечту Иорики считает глупой и всячески препятствует браку Николая Николаевича с Клавой, хотя и без его вмешательства здорово порасстроилось это дело. И соответственно, мечта Давида более весома и материальна в отличие от мечты добрейшего Иорики. Давид мечтает как можно скорее увидеть свою керосиновую лавку выросшей до грандиозных размеров современных бензоколонок.
Вот, как вы можете убедиться сами, ничего общего нет между этими стариками, если, конечно, не считать, что оба они владеют паспортами, выданными одним столом и даже одним столоначальником. Нет ничего общего между ними, как нет ничего общего между кладбищем и керосиновой лавкой, если не считать, что оба эти старика одного возраста и любят один и тот же праздник — Новый год — за обилие яств. Новый год, однако, так редок, что можно было его не упоминать, если бы этот праздник как-то не связывал их трогательной детской привязанностью друг к другу…
Давид каждый такой праздник встречает особенно.
Подойдя к кладбищенским воротам в полночь, он протяжно и радостно прокричит:
— Эге-ге-гей! Еще одно чудо моей жизни!
Иорика, ждущий этого мгновения, быстро просеменит к Давиду и, встретив его за оградой, расцелуется с ним.
Но Давид даже в такой день остается самим собой.
— Что видишь, друг, в Европе, а что в Азии? — спросит он, тиская в объятиях своего приятеля.
Потом старики три дня гуляют за праздничным столом.
Хоть Давидова жена уже хворая старуха, она умеет вкусно приготовить. Да настолько вкусно, что Иорика шумно сопит, всецело отдаваясь праздничным разносолам… И вдруг с удовольствием вспомнит свой незабвенный ишиас и схватится за поясницу, на что Давид состроит серьезную мину и участливо спросит:
— Что с тобой, дорогой Иорика?
— Это старая болезнь — ишиас! — незамедлительно ответит счастливый Иорика, заранее зная, что за этим последует. Но ему все равно приятно ответить на вопрос именно так, как это хочет Давид: — Ишиас, ишиас, проклятый!
— Ишиас вылечивает ишиа-ак! — расплывается в улыбке Давид. — Поезжай-ка в Верхние Латы! Там, дорогой Иорика… только там можно найти ишиа-ак…
Но поскольку Новый год вечно продолжаться не может, то и разговор тоже меняется. О чем же они говорят все остальное время?
— Ну и расхвастался! — донимает Давид. — Мертвецами уже пропах, а все еще хвастает…
— Ты сам… того, керосином… — перебивает его Иорика, доведенный до отчаяния. — Ты мертвецов не трогай! Хоть они полвека тому померли, однако ж они и мертвецами получше тебя будут… Если не так, судите сами: у меня два генерала здесь имеются? Имеются! Один министр похоронен? Похоронен! А сколько другого почетного люда… Считай, что ты, когда того, помрешь, самый неприметный среди них и окажешься! Ты спасибо скажи, если еще на человеческое кладбище примут…
Давид, как читателю уже известно, чрезвычайно редко обижается. А на сей раз его такой разговор, можно сказать, даже развлекает:
— Ох, Иорика! От твоего кладбища уже мертвецы бегут… только ты засиделся…
Иорика редко, но умеет, когда к нему приходит озарение, в два счета посадить Давида в галошу:
— Попридержи, Давид, язык, а то Баху может услышать… Тогда несдобровать тебе!
Пока у них идет перепалка, я должен немножко вернуться назад и объяснить, о чем идет речь.
Около сорока дней тому назад в нашей деревне случились две смерти, послужившие причиной отчуждения Николая Николаевича.
Скажем прямо, что после этого случая, происшедшего на кладбище по вине Клавы и Баху, Николай Николаевич не появлялся в наших краях до прошлого воскресенья. И поговаривали, что уже больше ни Иорике, ни Клаве тем более не видать Николая Николаевича как собственных ушей, не говоря уж о нас, простых жителях деревни. Но дело приняло вдруг другой оборот. Пришел Николай Николаевич, как всегда, со склянками в рюкзаке, но уже не в качестве жениха, — нет, извините! — а просто любовника, наказав таким образом Клаву за измену и нас, посчитавших, что Николай Николаевич пришел восстановить прежние отношения жениха… Как бы не так!
— Так вот, умерли, значит, в один день два человека мужского рода: один — старик, давно переставший быть мужчиной, но все еще носивший брюки, другой — младенец, еще не истрепавший и пары брюк, но обещавший стать мужчиной. И оба были приравнены друг к другу — смерть неразборчива в делах своих — и оплакивались в один день, хоть и жили в одной деревне.
Похороны, как нарочно, совпали с днем свидания Николая Николаевича с Клавой.
Николай Николаевич обычно не пропускал ни одного воскресенья, чтобы не повидаться с Клавой, лишь за редким исключением, когда нужно было выкурить мед или проделать какую-нибудь срочную работу. Но и тогда Николай Николаевич находил способ сообщить об этом Клаве. Делалось это либо в виде открытки, либо через знакомых, часто бывавших в городе. И если уж случалось ему пропустить свое законное воскресенье, то в следующий раз он становился веселым и сентиментальным, что в другие дни счел бы за слюнтяйство.
После такой длительной разлуки Николай Николаевич позволял Клаве громко вскрикнуть от радости, обнять себя и даже поцеловать в маковку, что всегда с большой охотой делала счастливая Клава, наверное, считая, что голова пасечника начинена сладким медом, как и соты, которые он приносил.
Ничего этого могло не случиться, если бы не хоронили в то памятное воскресенье двух умерших из нашей деревни.
Николай Николаевич пришел почему-то с большим опозданием.
Солнце уже садилось, и Клава в такое позднее время его не ждала.
Ворота оказались распахнутыми (к счастью ли Николая Николаевича?!), так что не составило никакого труда беспрепятственно пройти к домику.
Подойдя поближе, он кашлянул. И тут… увидел сперва Баху в форме местной футбольной команды — в голубых трусах и в белой майке с черной, как траур, каймой, затем углядел Клаву…
Не имей Николай Николаевич обыкновения кашлем предупреждать о своем прибытии, трудно сказать, чем бы все это кончилось, хотя никто из нас не сомневается в благоразумии Николая Николаевича.
Случилось это вот как…
Могильщиками старика назвались два человека: Баху, красивый и молодой мужчина, но лентяй из лентяев, и угрюмый Григо, физически одаренный, но слабоватый умом человек.
Придя на кладбище с провиантом (могильщикам, по местному обычаю, дают с собой фасоль с соленьями, вино и хлеб), они начали копать могилу. Но, углубившись всего на один штык лопаты, они решили переждать солнце, когда оно перевалит на другую половину неба, чтобы не очень припекало, а там быстро вырыть могилу. И оба напарника отправились в дальний угол кладбища и легли в тени кипариса. И только Григо захрапел, как Баху не замедлил сбежать к Клаве, прихватив с собой провиант… И вот незаметно угас день, а Баху не возвращался. Проснувшийся от голода Григо подналег один, чтобы не осрамиться перед соседями. Но, как он ни старался, времени оставалось мало: процессия уже двигалась где-то совсем рядом, а могила была не готова. И тут пришел Николай Николаевич, и вскоре со стороны домика послышался молящий голос Баху… Но Григо не повел и ухом.
Баху, услышав кашель Николая Николаевича, подошедшего вплотную к домику, выскочил в чем был и бросился вон. Вслед за ним с ружьем метнулась Клава:
— Стой!!!
Летевший стрелой Баху был остановлен посреди двора страшным окриком Клавы.
Держа на изготовку ружье, Клава всем своим видом показывала Николаю Николаевичу, что час страшной расплаты Баху наступил и помешать этому ничего не может — оскорбленная женская честь требует возмездия…
Но Николай Николаевич, обиженный в лучших чувствах жениха, повернул обратно к распахнутым воротам, унося прокисший мед запоздалой любви и раскаяния…
А Баху, заслонив лицо руками, замер на чьей-то могильной плите, голыми ступнями ощущая смертельный холод…
Клава тем временем спустилась с лестницы, подошла поближе к Баху, держа перед собой ружье, отчего тот пришел в отчаянный трепет и взвыл о помощи, не понимая, почему вдруг к нему так сурово обернулось любовное свидание…
В это время процессия, сопровождаемая воплями духового оркестра, вступила на территорию кладбища и потянулась к могиле.
Воспользовавшись заминкой Клавы, Баху бросился со всех ног в сторону и, чтобы избежать пули, прыгнул в яму и угодил на спину замученного рытьем могилы Григо, за что тот избил его, предварительно оборвав на нем остатки одежды, и выбросил вон из ямы.
Подходившая к могиле процессия была вынуждена приостановиться, заметив столь необычное зрелище. Искалеченный Баху в чем мать родила, как заяц, скачками припадая на правую ногу, несся в сторону лавки, прикрывая на бегу ладонями стыд…
А теперь, когда вы узнали все, давайте вернемся в Давидову лавку.
Как хорошо отдыхать под сенью гигантских эвкалиптов, вдыхать любимый запах керосина и наблюдать за хлопочущей во дворе Клавой, должно быть готовящейся к встрече с Николаем Николаевичем, и невольно думать о разных разностях, о чем никогда бы не подумал, если бы с жизнью не соседствовало кладбище…
Как хорошо сидеть среди моих добрых односельчан, постоянно спорящих о политике, простых житейских невзгодах, о любви и смерти!
А вот и Давид, веселый грешник земли. Вот и Иорика, совестливый и честный служитель кладбищенской тишины… Он слюнявит пальцы, чтобы потуже закрутить концы своих белых усов. Наверное, причиной этому все тот же неугомонный Давид.
Вся жизнь наша — лавка да кладбище!
Москва,
1969
ПО ДРОВА
С утра разразился сильный дождь. От этого неуемного осеннего дождя в деревне стало зябко и грустно. За колхозным садом заходило море, обдувая окрестность туманной сыростью. Как-то сразу размякшие жители попрятались в дома и оттуда, из окон, глядели на улицу, на случайных прохожих с такой грустью, что, казалось, конца этой осенней непогоде не будет.
Во дворе небольшой усадьбы, перед кирпичным домом стояла, задрав рокочущую морду и мерно подрагивая, грузовая машина.
Молодой паренек, водитель этой машины Жоржи, весь перемазанный маслом и промокший до последней нитки, копался в моторе, время от времени смахивая со лба мизинцем щекочущие капли дождя, набегавшие с армейской фуражки.
Его мать, вышедшая во двор, с огромным черным зонтом над головой и в выцветшем пестром халате, — вид у нее был свирепый, какой, наверное, бывает от постоянного напряжения слуха у глухих, — распекала сына густым мужским басом, приводя в неистовое движение свободную руку:
— Сукин ты сын, не с тобой ли мать разговаривает, чего морду в сторону воротишь? Отвечай же наконец, когда в нашем доме будут дрова, чтоб ты сгорел на костре?! Видишь, как горы припорошило снегом? Чтоб тебя припорошило и занесло, окаянный! Мерзну, как бездомная собака, чтобы ты окоченел бездомной бродяжкой! Сколько мне еще ждать? Ишь ты, он и ухом не поведет, как будто не мать с ним разговаривает, а собака воздух травит…
Жоржи, пропуская слова матери мимо ушей, продолжал копаться в утробе машины, заставляя ее то выть зверем, то таинственно шептаться.
Но женщина стояла во дворе и накаляла воздух страстью глухой и безудержной родительницы, потерявшей от боязни холода ощущение пространства и времени:
— Люди сердечные! Выходила я этого негодяя без отца, выучила и в люди вывела. А он, вы посмотрите на него, как с матерью обращается… — Она выпалила все это на такой высокой ноте, что из некоторых домов выглянули соседи узнать, что там такое приключилось. — Убирайся со двора, чтобы глаза мои тебя здесь не видели, сукин ты сын! Не смей позорить мой двор! — не унималась она, отворяя ворота и повелевая жестом руки очистить двор.
— Ну, мама, куда же в такую погоду? — попытался было Жоржи разжалобить мать.
— В хорошую погоду и без огня прожить немудрено! — отрезала она.
И Жоржи ничего не оставалось делать, как тотчас же повиноваться матери и, выехав со двора, лететь во весь моторный дух по разбитой проселочной дороге, подбрасывая на ухабах кузов.
Ехать в такую погоду было рискованно, поскольку в дождь дороги размывались и становились скользкими, но иного выхода у Жоржи не было.
«Человек наступает на природу…» — Жоржи вспомнил чьи-то слова, услышанные то ли по телевизору, то ли на лекции. — Совсем еще недавно за дровами не нужно было никуда ехать… И она в свою очередь мстит человеку за безрассудство…» — невольно наплывали обрывки мыслей как подтверждение тому, что человек безрассуден…
Выехав на магистраль с нехорошим предчувствием, потягиваясь и зевая, Жоржи поглядывал по сторонам, на бегущие по кюветам дождевые ручейки. Затем, вспомнив вчерашний вечер, когда он почти против своей воли впервые в жизни сделал признание в любви очень хорошенькой учительнице, заметно повеселел. «Хорошая девушка! Была бы она хоть на год младше, не раздумывал, обязательно бы привел ее в дом. А то ведь старше меня на целых три года! Ребята засмеют, точно, засмеют. — Он достал папиросу, закурил, сплюнул в окно и улыбнулся. Потом с неохотой свернул налево, в переулок, и пошел трястись по булыжникам к подножию гор. — Хоть она и учительница, но дура, что так быстро позволила себя поцеловать. Что ж так быстро-то, а? — Жоржи сладостно зевнул, заново переживая приятную для себя минуту. — Нет-нет, она мне не пара! Может, переболею — и все, точка… — Он болезненно поморщился от этих мыслей. Было совершенно очевидно, что, думая так, он не желает переболеть очаровательной учительницей. — Пока подожду, а там время покажет…» — успокоил себя, хотя знал, что противостоять своему влечению не сможет — втюрился!
А дорога постепенно уводила выше и выше к горным деревням, поворачивая то налево, то направо. Потом она незаметно пошла по ущелью вдоль небольшой реки, и впереди сразу же показался густой зеленый лес, покрытый свинцовым маревом дождя.
Жоржи знал, что это только начало леса, а ему предстояло ехать вглубь, пробиваясь в чащу по бездорожью к избушке лесника, с которым доводилось видеться еще до армии.
Машина, буксуя и ревя, кое-как преодолела подъем и, выкатившись на ровную колею, тихо, обходя колдобины и валуны, покатила по деревне, поднимая собак с насиженных теплых мест. Наконец, проехав и этот рубеж под вой голосистых волкодавов, достигла места, где дорога круто сворачивала в сторону и стремительно падала вниз, петляя между кустарниками к густому лесу, четко обозначившемуся впереди.
Придерживая машину на тормозах, Жоржи медленно съехал и, проделав еще несколько трудных верст по низине, подкатил к избушке лесника и заглушил мотор.
Из приоткрытой двери избушки валил густой дым, лентой вился, курчавясь над купами ближних деревьев, и уносился вдаль. Трещавший в избушке костер время от времени жарко освещал грузную фигуру лесника, застывшего в проеме двери, веселыми всполохами огня.
Жоржи торопливо выскочил из кабины и направился к избушке, оглядывая окрестность — нет ли заготовленного топлива, — но, не найдя ничего подобного, втиснулся в дверь.
— Ну и погода! — сказал Жоржи, вкладывая в эти слова всю безнадежность своего положения, и прошел мимо посторонившегося лесника к костру.
Лесник, не расположенный к разговору, в особенности о погоде, только угрюмо взглянул на пришельца и, что-то раздумывая про себя, сел на длинную скамью и уставился в костер.
«Плохи дела…» — подумал Жоржи, глядя на лесника сверху оценивающим взглядом, и тихо проронил:
— Видно, зря притащился!
Он достал из кармана брюк промокшую пачку «Космоса», протянул хозяину леса.
«Что теперь мне делать — ума не приложу… Гиблое дело — совсем без дров остались!»
Лесник, не глядя на Жоржи, принял сигарету, медленно просушил ее над костром. Затем так же не спеша прикурил от головешки и, продолжая о чем-то думать, часто сплевывая в костер, спросил:
— Чей будешь?
Жоржи незамедлительно ответил.
— Не слыхал такого!
— Всех невозможно упомнить — людей на земле много! — пошутил Жоржи, стараясь разговорить лесника. — А положение у меня и впрямь безвыходное! Мать очень уж…
— Живому не следует тужить! — перебил его лесник, оттаявший немного. — Потому как у живого голова на плечах. — Он сделал несколько крепких затяжек и, выпуская дымок из прокуренных ноздрей и рта, после длительной паузы добавил: — Есть дрова, но трудно туда проехать по такой склизи… не знаю, как и помочь!
— Машина у меня, — зверь, по любой дороге пройдет! — горячо подхватил Жоржи. — Не сомневайтесь…
Мужчины покинули избушку и поехали по размякшей колее к заготовленным дровам. Получив каждый свое, они расстались на перекрестке дорог: лесник пошел к избушке, а Жоржи поехал домой.
Довольный своей удачей, а больше всего сознанием, что наконец-то отдохнет от каждодневного распекания матери, Жоржи благополучно преодолел крутой подъем в деревню и теперь осторожно тянул машину по извилистой и разбитой дороге, чтобы не ухнуться в колдобины. Машина, натужно ревя от бремени своего груза, медленно ехала по горной деревне, тревожа все тех же волкодавов. Еще два часа езды, и Жоржи, считай, дома. Он на какое-то мгновение размечтался и чуточку прибавил газу; машина вздрогнула и покатила нервно, ухаясь разом — правой и левой сторонами — в колдобины и, как зверь с перебитым хребтом, стала тут же оседать.
— Приехали! — грубо выругался Жоржи, подтягивая перебитое существо из металла к чьему-то двору.
Он был жестоко наказан за оплошность — с двух сторон полетели рессоры. Поняв это сразу, дал отчаянный сигнал бедствия.
Если бы Жоржи знал, что сигналом бедствия навлечет еще и новую беду на свою голову, он никогда бы не давал его, а сидел бы себе смирно в кабине до утра в ожидании случайной помощи. Но тогда он еще не подозревал, что дом, в который он послал сигнал, лишит его свободы…
На тревожный сигнал Жоржи быстро откликнулись. В доме, из которого ждал он помощи, отворилась дверь и вышел мужчина преклонного возраста, но еще крепкий и ладный.
Когда этот человек подошел поближе, Жоржи разглядел, что одна щека у него недобрита, помешал, как видно…
Мужчина обошел машину. Потом внимательно оглядел Жоржи, уже успевшего совершенно раскиснуть, и, цокнув языком, деловито скомандовал:
— Давай-ка, парень, вылезай! — И сам, ловко взобравшись на кузов машины, стал сбрасывать дрова, весело пересыпая пословицы и поговорки, как золотистые кукурузные зерна с ладони на ладонь счастливый сеятель.
Жоржи волоком тащил дрова во двор и, складывая там в штабель, ругал себя за оплошность в дороге:
— Поспешил — насмешил! Голова ты соломенная!..
А мужчина с недобритой щекой ловко сбрасывал дрова и грустно думал о своей дочке…
Почему бы человеку не подумать о дочке и не помечтать о хорошем зяте, глядя на такого паренька, как Жоржи, если у него мало шансов заполучить такового вообще?
Дело в том, что дочка у этого человека была уже взрослая, но совсем худая — одни стропила, — и не давала она ему покоя… Засиделась в девках… Сохла по мужской ласке! Замуж бы ей, да вот беда — мужчины отворачивались, не замечали, словно совсем ее и не существовало в этом мире. А родители, сколько ни старались, ни приданым, ни другими посулами не могли подыскать жениха. Слишком много вокруг хороших девушек!
Выйдет она к калитке и долгим взглядом печальных глаз смотрит на случайного мужчину, гася свои страсти горькими слезами.
А если какой-нибудь парень ненароком бросит на нее взгляд, вспыхнет как зарево, то потом медленно тлеет, как летний день, стыдясь себя и страдая одновременно…
Каких только дум не передумал отец, пока сбрасывал дрова на землю, а Жоржи их складывал, выказывая исключительный интерес не только к пословицам-поговоркам, но и к кое-чему серьезному…
Но Жоржи было не до пословиц-поговорок. Знай себе тащи да мокни под холодным осенним дождем. Пусть себе мелет, кому это во вред? А вот рессоры — как с ними быть? Как утихомирить мать? И вообще как жить, коль столько несчастий выпадает в этом мире на одну голову? Жоржи с грустью и болью думал о том, что ему еще раз нужно будет приехать сюда. А этого он никак не хотел!
— Не унывай, мужчина! — вдруг весело выкрикнул гостеприимный хозяин, как бы читая мысли Жоржи. — Все уладится! Давай-ка теперь загоняй машину во двор, а то кто его знает, что может случиться за ночь…
Жоржи обошел разгруженную машину, еще раз осмотрел рессоры и, убедившись в том, что они подвели, сел в нее и через несколько минут стоял уже за штабелями дров. То, что ему не уехать сегодня, было ясно. Да и ничего лучшего в этом случае придумать тоже нельзя. Промокший за день, он уже дрожал от озноба. За стеклом машины по-прежнему шумел дождь. Бежали мелкие по склонам ручейки, размывая глинистую дорогу и устремляясь в низины…
С наступлением ранних сумерек в горах становилось тошно от промозглого порывистого ветра.
В деревне в эти часы то здесь, то там на изгибах длинной дороги уже вспыхивали мерцающие огоньки, маня к домашнему очагу и уюту.
— Порядок! — сказал хозяин с сознанием выполненного долга, закрыв ворота и ведя своего случайного гостя в дом. — Ничего, парень, сейчас погреем кости.
Жоржи ничего не ответил. Шел он следом с ленцой обреченного: холод и голод так въелись в душу, что ворочать языком было лень.
Они поднялись по деревянной лестнице на широкую веранду и, отряхнувшись здесь, вошли в дом, где пахло сухими дровами и каминным дымком.
— Есть тут живые? — весело крикнул хозяин в пустоту комнаты, шаркая мокрыми ногами у порога.
Вскоре за дверью боковой комнаты послышался голос. Потом из нее выглянула полная женщина, должно быть хозяйка, и жестом руки пригласила мужчин в комнату, где в камине занимался огонь.
Мужчины вошли. Сняв головные уборы и повесив их на стене на проржавевшие гвозди, опустились на низкую скамью у камина.
— Ладо, может, ты добреешься? — сказала хозяйка и увлекла его с собой в соседнюю комнату.
Оставшись наедине с собой, Жоржи достал промокшие сигареты и принялся их просушивать у огня. С мокрой одежды стекала вода прямо под ноги; пригретое костром тело оживало, разливая сладостную негу полудремы. Чтобы не уснуть, Жоржи взял одну из сигарет и, оглядываясь по сторонам, стал ее раскуривать. И очень удивился, когда в глубине комнаты увидел девушку с вязаньем на подоле. Жоржи чуть-чуть привстал и поклонился ей, на что девушка ответила кивком, не сводя с него долгого взгляда.
У самых ног девушки, развалившись на спине, играл пятнистый котенок, по-глупому выпучив глаза и норовя поймать собственный хвост.
— Кис-кис! — позвал его Жоржи, маня пальцами.
Котенок повернулся набок, вытянул мордочку с белым носом и уставился на Жоржи, словно раздумывая, стоит идти к нему или нет. Потом он мягко подпрыгнул, выгибая спину горбом, и пошел к нему бочком, а приблизившись, стремительно бросился в сторону, объявляя начало игры.
В это время за домом, в небольшой пристройке, несмотря на отговоры хозяйки, Ладо вздернул отборную овцу и теперь с привычной сноровкой разделывал ее.
— С ума, что ли, спятил? Резать такую овцу ради этого шалопая! — убивалась хозяйка, глядя на увесистый курдюк. — Можно было бы и курицей отделаться…
— Курицей никак нельзя! — спокойно отвечал Ладо, стаскивая парную шкуру через обезглавленную шею, как рубашку. — Курицей-то никак нельзя такого гостя!.. Ты бы, чем здесь кудахтать, шла бы за соседями, да стряпней занялась! — Ладо измерил жену лукавым взглядом и улыбнулся, отчего та, чтобы не вскрикнуть, прикрыла платком рот и замахала рукой. — Ничего, ничего, отправляйся! Гость у нас необыкновенный!
Хозяйка, онемев от догадки, ушла прочь, затем, припав лицом к деревянному столбику пристройки, горько заплакала от щемящего стыда.
За ужином у Ладо собрались соседи. Их было человек пять — мужики-выпивохи, ровесники хозяину Как и полагается гостю, они не задавали лишних вопросов. Сидели и с достоинством молчали, хотя распирало любопытство.
Ужин был приготовлен на славу.
На тарелках большими кусками дымилась баранина в жемчужинах жира. В избытке стояли фрукты и овощи А над всем этим витал приятный запах только что подоспевшего сациви.
Гости сидели в зале у вновь растопленного камина, играющего алыми языками огня.
Жоржи, как самый почетный гость, сидел спиной к камину в пиджаке с хозяйского плеча. С места ему было видно, как мать с дочерью хлопочут в соседней комнате. Видел он отсюда еще и то, как, помогая матери раскладывать мамалыгу, хозяйская дочь украдкой расстреливает его взглядом.
«Чего все они так на меня уставились?» — подумал Жоржи и от неловкого своего положения почувствовал себя скверно.
— Такой хоро-оший, мама! — услышал он затем и шепоток из соседней комнаты и покраснел, поняв, что хозяйская дочь сказала это о нем…
Наконец, когда все уже было на столе, Ладо встал и спокойно, с достоинством хозяина, пояснил:
— Дорогие соседи, сегодня бог послал нам дорогого гостя, и мы не вправе не отметить это событие так, как это делали наши предки…
Витиеватость этой речи была налицо, но проголодавшиеся желудки да запахи на столе делали ее вполне приемлемой и ясной.
— Гость и бог, — сказал один из гостей и первый отщипнул от мамалыги, — равны на нашей земле! Так восславим же, товарищи, их! — Он обмакнул мамалыгу в сациви, проглотил первый кусок в честь гостя, второй — в честь господа и, поднимая полный бокал вина, встал.
За ним последовали остальные, славя гостя и бога, и осушили стакан за стаканом бело-розового вина целомудрия.
Застолье постепенно набирало силу, витиеватость — дух, а дух — материю. И вскоре, как водится, все превращения — силы, духа и материи — городили неразбериху, завязались ожесточенные споры. Сторонники силы методично и настойчиво ставили вопрос: что же все-таки происходит? Сторонники духа, напротив, — если что и происходит, значит, так оно и нужно. Третьи же — если так нужно, мол, то кому и в каком количестве?
— Убей меня бог, если я хоть что-нибудь смыслю!
— Какое тебе до этого дело!
— Я должен знать, что сколько весит и стоит!
Но вскоре все противоречия исчезли.
Закуска оказалась настолько вкусной, что гости, оставив все принципы в покое, разом умолкли, всецело отдаваясь нарастающему аппетиту, присутствие которого бывает так ценно в гостях.
Если аппетит, как говорится, приходит во время еды, то хорошим настроением мингрелец прежде всего обязан первому выпитому стакану доброго вина или же забрезжившему из-за гор солнцу, так как и вино, и солнце стремятся посвятить его в тайны своего зенита…
Как водится за столом, после первого штурма гости немного поостыли и начали подшучивать друг над другом и хохотать, хотя смешного рассказывали мало. (Но секрет вина как раз состоит в том, чтобы несмешное сделать смешным…) Затем, похвалив хозяина с хозяйкой, а вместе с ними и их дочь, они стали беспокойно ерзать на стульях в ожидании какой-то перемены. Тем более что радушие хозяина было полностью возмещено вниманием и добрыми пожеланиями… И теперь, когда пришло время наконец-то разобраться в происходящем здесь (одни считали, что идет помолвка, другие — более того — свадьба), гости, в меру своего понимания дела, решили спеть песню, соответствующую обряду. Тут и произошла неувязка, оказалось, что затянули разные песни. А поскольку так не могло продолжаться долго, загнали песни обратно в гортани и затеяли длинный спор, что именно сейчас надлежит петь за столом… Сторонники силы считали нужным спеть песню походно-боевую, сторонники духа — «Славь господа на небеси!», а сторонники материи — «Пребудет вечно земля наша!». Спор хоть и шел на очень высокой ноте, не привел ни одну из сторон к взаимопониманию и грозил перерасти в скандал. Но неожиданно на выручку застолью пришел сам виновник торжества, считая, что пора и ему внести свою лепту в общее дело.
— В моем гараже, — начал он медленно, но достаточно громко, чтобы всем было известно, что в «его гараже» завгаром — Сахокиа Георгий Иванович. Зато в парикмахерской, напротив того же гаража, парикмахер — Гохокиа Иван Георгиевич. Рассказывая о каждом из них, Жоржи называл и завгара, и парикмахера уважительно по отчеству.
— Хорошо, хорошо! — перебил его Ладо в нетерпении, не в силах выслушивать непоследовательный рассказ о каких-то совершенно не идущих к столу людях, и, подозвав к себе дочку, велел ей постелить гостю в маленькой комнате. — Приготовь и воду для ног! — сказал он в заключение.
Дочка, одетая по случаю высокого гостя в зеленое платье, — другое, наверное, ей не подошло бы, — быстро вышла в соседнюю комнату, объявляя матери, сидевшей у камина, «какой он хоро-оший», и принялась греть воду, предвкушая радость, что наконец пришел в их дом такой гость, которому она с удовольствием вымоет ноги.
И тут вот разошлись и соседи, и сразу же каждый из них затянул свою песню, стараясь перекричать другого.
Потревоженные ими собаки тоже мощно залаяли со всех концов, поднимая ночь на дыбы…
Поддерживаемый хозяином Жоржи был выведен во двор, где дул промозглый ветер с дождем, и оставлен на попечение громадного дуба…
Душа девушки, потревоженная ожиданием Жоржи, вспыхивала как ночной костер, раздуваемый ветром, и пылала пламенем высокого горения…
Возвратившись в комнату, где его ждала подогретая вода для мытья ног, Жоржи опустился на край постели и, морщась от электрического света, тут же уронил голову на подушку.
Вошедший за пьяным гостем хозяин подбросил в камин дрова, помог дочери разуть гостя и выключил свет.
— Мешает уснуть!.. Здесь достаточно светло от камина. — С этими словами он поцеловал дочь в темя, словно благословляя ее на женское причастие, и вышел вон.
Она с замиранием сердца слушала удаляющиеся шаги отца и дрожала от безысходной тоски разрывающейся жизни… Вскоре до нее долетела перебранка: мать протяжно и громко ругалась с отцом, но расслышать слов она не могла. Она ощущала клокотание негодующего сердца матери, и от смутного, но горького чувства у нее застывало дыхание…
Жоржи, обхватив руками плечи девушки, моющей ему ноги, бормотал свои пьяные признания, принимая ее за хорошенькую учительницу:
— Вот видишь, пьян… Ты не сердись! Я ведь хотел тобой переболеть! Глупый! Где еще такую я найду…
В соседней комнате все еще грозно шептались… Приглушенные голоса сердито бились в темноте ночи, но, смертельно устав, вдруг неожиданно потухли.
Горячо трещал камин, освещая комнату трепещущими бликами.
Жоржи надкусил плод и ушел в мерцающее тепло чужой жизни… А когда к нему возвратилось померкшее сознание, вместо своей хорошенькой учительницы он увидел рядом с собой хозяйскую дочь.
Жоржи встал в мрачном настроении и тут же, не дожидаясь помощи со стороны хозяина, от которого теперь ничего хорошего не ждал, бросился к машине и принялся перевязывать проволокой рессоры…
А в это время и в доме перевязывали узлы, но бельевой веревкой, готовя их в дорогу…
Когда Жоржи кое-как справился с рессорами и запустил мотор, перед ним возник хозяин.
Лицом он был добр и благожелателен:
— Что ж так рано-то? — И, не дожидаясь ответа, он повернулся к дому и крикнул: — Чего это вы там возитесь?!
Жоржи стало ясно, что его уже ничего не спасет, не спасет никакой мотор в жизни…
Через несколько минут с лестницы спустилась хозяйка, неся на подносе графин с чачей и легкую закуску.
«Благодарствую! — сказал мысленно Жоржи, видя безысходность своего нелепого положения. — Мы уже вдоволь и выпили и закусили! Извольте не беспокоиться!»
— Чего так рано! — сказала хозяйка, смущенно поздоровавшись с Жоржи. — Поставила варить мамалыгу. Может, подождете…
— Что вы, спасибо! — неожиданно для себя быстро пролепетал Жоржи. — Я и так злоупотребил вашим гостеприимством… — Однако рюмку пришлось одолеть и ждать своей дальнейшей участи, поскольку кругом был виноват.
— Насчет дров ты не беспокойся! — твердо заверил хозяин, как только хозяйка скрылась с подносом за дверью дома. — Я сам привезу! Не сомневайся! — И, задрав голову, озадаченно добавил: — Такой муравейник на небе, что не скоро все это кончится…
Жоржи тоже задрал голову, хотя несчастья он ждал здесь, на земле: несмотря на то что шел едва заметный дождь, все небо было обложено тучами и нигде признаков скорой перемены не наблюдалось.
— Ну и погода! — двусмысленно протянул Жоржи и сел в машину, тревожно косясь на дом. — Теперь никогда ее не будет!..
Хозяин, уловив в интонации Жоржи смертельную грусть, выдержал паузу и затем пояснил в своей излюбленной форме:
— Надкушенный плод — самому доедать! Иначе никто на него не позарится… глядишь, и пропадет! — Он тепло улыбнулся Жоржи, складывая губы ятаганом, и спросил: — Не так ли, парень, а? — И с этими словами сунул в кабину только что подошедшую дочь с узлами. — Ты не обижай ее… Будет тебе она и заботливой и верной женой. — И быстро пошел отворять ворота, у которых как память о неудаче были сложены в аккуратные штабеля дрова.
В дороге Жоржи молчал, глядя перед собой, и упорно не замечал свою спутницу, злился на мать, заставившую его выехать… Потом, вспомнив про свою учительницу, грустно улыбнулся: «Вот такие-то дела у нас, сударыня моя… учительница… Приятное воспоминание проносилось в голове, как далекий сон счастливого детства. — Переболел… дурак пеньковый. Теперь ребята засмеют, точно засмеют…» Он посмотрел направо и, встретив пронзительный взгляд своей спутницы, прищелкнул языком. Во взгляде девушки, полном благодарности, любви и преданности, сквозило материнское чутье, проснувшееся с первым опытом любви…
Жоржи остановил машину у своих ворот и в сердцах дал длинный сигнал, какой дают на мингрельских свадьбах перед воротами жениха, когда привозят невесту.
Соседи тут же высыпали на улицу, потревоженные таким сигналом, и застыли на месте, не зная, к добру или к худу то, что они видят.
Кузов машины был пуст, но зато в кабине, рядом с Жоржи, сидела большеглазая девушка с заостренными от страха чертами лица и боязливо озиралась по сторонам в ожидании близкой беды.
А беда уже приближалась к машине, не замечая того, что видят другие, и, сокрушая кулаками воздух, глядела на пустой кузов.
— Нет, вы посмотрите! Мой сыночек пожаловал! Глядите, матери дрова привез, чтобы он сгорел в костре и ветром его развеяло… Любуйтесь, люди, вот он, мой дорогой сыночек, чтобы глаза у него выкатились до следующего воскресенья… Как ты посмел, ирод, ехать с пустыми руками домой? Где дрова, сукин сын? Я спрашиваю или собака воздух травит, отвечай?! Он еще и выйти из этой рухляди не хочет! — Она подошла к кабине, отворила дверцу и дернула сына за рукав. — Скажи, ирод окаянный, как зиму зимовать надумал без огня! Расскажи соседям…
В это время соседи увидели, как с другой стороны кабины открылась дверца, из нее спрыгнула девушка и, раскланиваясь стоящим на улице, отчего те поспешно пустились бежать подальше от греха, направилась к матери Жоржи.
— Тише, мать! Ведь на улице стоим, — успокаивал ее Жоржи, глядя на приближающуюся к ним спутницу, которую еще не видела мать, и тихо добавил: — Пойдем в дом, там поговорим…
— Что мне улица, негодник! Я спрашиваю: где дрова? — не унималась глухая.
Тогда вышедший из себя Жоржи спрыгнул на землю и крикнул в сердцах:
— У меня есть дрова! — и кивнул в сторону уже подошедшей к ним девушки. — Вот дрова! Значит, будет и огонь, а ты как знаешь! — Он смачно сплюнул под ноги и твердой походкой пошел отворять ворота…
Москва,
1967
НА ЗАРЕ РАННЕЙ ЮНОСТИ
Всей своей плотью и сердцем молодого существа я любил одну девушку по имени Джулия. Но ей не нужна была моя любовь.
Жила она в семи километрах от моей деревни в поселке нового типа — ни то ни се — в деревянном особнячке с ярко-красными ступеньками.
Жизнь в этом особнячке с резными лошадками на фронтоне, с матерью и бабушкой со стороны матери, протекала на виду у всего поселка и волновала кровь его жителей черной завистью.
Из приоткрытых дверей особнячка с охрипшей иглы патефона постоянно лилась лукавая мингрельская песня, сообщая соседям по небольшому поселку о благополучии и достатке.
Бабушка Джулии, миловидная старушка с голубыми глазами блудницы, сидя на крашеной ступеньке, целыми днями читала библию, шевелила помертвевшими губами и после каждой прочитанной страницы, вытянув тоненькую шею, вглядывалась в силуэт поселка, чтобы сравнить соответствие божьего слова с действительной жизнью, открывавшейся ее глазам. Сама в свое время изрядно погрешившая и застившая смерти глаза плодом девичьего греха — красивой дочерью, у которой теперь была своя дочь, появившаяся на свет аналогичным путем, вне брака, — она заранее знала, чем кончится судьба ее внучки Джулии, но, не веря в смысл чужого опыта, молчала. Убежденная в том, что результатом того или иного шага являются не столько внешняя сторона жизни, сколько заложенные в крови задатки, она время от времени, поднимая грустные глаза на Джулию, вздыхала:
— Каждого по жизни водит своя кровь! У каждого — своя ноша!
Произнося эти слова, которые я тогда приписывал влиянию Библии, а не опыту ее лет, старушка как бы выражала сожаление, что весь ее клан унаследовал этакую кровь… Боясь, что эти задатки, идущие издалека, могут втянуть в драматические события и постороннего, предостерегающе шептала:
— Не ходи сюда! Джулия бессердечная девушка!
Но в то время я был обворожен ее внучкой, белозубой хохотушкой, и поэтому предостережения старушки не могли остановить меня.
Обольстительная наружность Джулии сводила с ума не только моих сверстников по вечерней школе, где мы с ней и познакомились, но куда более искушенных и опытных по возрасту ребят.
Не скрывая своих намерений, все эти ребята увивались вокруг Джулии и, сладострастно пялясь на нее, со вздохом закатывали глаза, разгоняя по жилам знобящую мужскую похоть…
Придя в вечернюю школу в расчете на педагогическое снисхождение из-за некоторых предметов, туго дававшихся мне, я скоро понял, что участи быть причисленным к неуспевающим не избежать и здесь. Мой ум не был устроен для решения математических уравнений, для геометрического расчета и всевозможных периметров и параллелей. Теперь, лицом к лицу с теми же трудностями, что и в дневной школе, неприязнь к этим предметам усугублялась волнующим дыханием Джулии, сидевшей под боком на одной параллели.
Теряя на уроках всякое чувство времени, я по уши увязал в молитвенной красоте Джулии, время от времени вздрагивая от открывавшегося мне смысла о параллелях.
Чтобы изменить общеизвестную истину о них, я всячески старался перехлестнуть наши с Джулией судьбы и тем самым привнести нечто новое в геометрию.
Аккуратно покрывая семь километров в школу и чуть более обратно, так как доставлять Джулию в сохранности домой было моей первоочередной задачей, я не жалел ни сердца, ни ног. И продолжалось это на протяжении целого года, пока моя тщетная попытка внести поправку о параллелях не закончилась полной неудачей.
Следуя по пятам за Джулией ее собственной тенью, я купался в лучах девичьего магнетизма и был этим горд.
Встав на путь самостоятельности, я копил деньги. Работа колхозного библиотекаря давала мне небольшие авансы.
Библиотека, постоянными читателями которой были два человека — председатель и я, — давала помимо трудодней еще и моральное право думать о женитьбе.
С колокольни шестнадцати лет жгучая мечта о ней питала меня, и я креп душою и телом.
Провожая Джулию поздними вечерами из школы домой, я развлекал ее рассказами, заимствованными из прочитанных книг. Иногда, чтобы представить ей широту накопленных познаний, пел с глухого голоса песни римских центурионов. Но главным оружием в покорении Джулии я считал стихи, которые сочинял в соавторстве с самим председателем. Они, как правило, были на предмет неразделенной любви, и не все их строки принадлежали исключительно мне. Но Джулия, как хитрый и сильный зверь, знающий силу своего превосходства, не одергивала меня, а наоборот, вступая в своеобразную игру, подпускала на ту дистанцию, которая была еще более мучительной из-за следовавшего за нею табу…
Возвратясь после очередных проводов домой замученный игрою Джулии, я замертво падал на постель, не в силах раздеться, и тут же засыпал, получая во сне разрешение плоти.
Ранним утром, жестоко обманутый и униженный сном, тайно от домашних я смывал последствия интимности и уходил в библиотеку, чтобы отравить молодую жизнь чтением любовных романов. А к концу дня, вновь получив неуемный заряд страстей в ребро, совал под мышку учебник по истории и спешил к особнячку с ярко-красными ступеньками, чтобы подготовить Джулию к заданному накануне уроку.
Слабость Джулии к истории была чрезвычайно велика, когда дело касалось каких-нибудь дворцовых интриг. В таких случаях она запоем читала весь раздел до тех пор, пока не доходила до сальных развязок. В остальных же случаях Джулию было не узнать. Она сонно листала страницу за страницей и ничего не могла запомнить. Но если кто-нибудь брался пересказать ей урок, она кое-как усваивала его.
Садясь на мягкий диван с овальным зеркалом на высокой спинке, я приступал к пересказу урока, вплетая в него тут же присочиненные интриги, что легко мне сходило, поскольку и сам историк слыл в этом плане большим сочинителем. И Джулия, как это ни странно, получала баллы выше, чем я, что она без ложной скромности приписывала своей незаурядной способности делать из чужого пересказа «пятерку». Такое положение конечно же ущемляло мое достоинство, но делать было нечего. История была тем единственным звеном в наших отношениях, которое скрепляло наш непрочный союз.
Сидя на диване как истый историк, я блуждал глазами по комнате, в которой, как правило, присутствовала бабушка Джулии, и был доволен, рассчитывая на расположение старушки в дальнейшем.
Бабушка и впрямь была ко мне тепла. Корила Джулию, если видела меня расстроенным. А когда мы с Джулией уходили в школу, неизменно напоминала:
— Надеюсь на тебя!.. После уроков не задерживайтесь!
Джулия, слыша эти слова бабушки, морщила нос, нисколько не признавая возложенную на меня старшими опеку, но не перечила ей.
А я, пользуясь официальным разрешением опекать Джулию, по пятам следовал за нею и не давал никакого послабления, за что она презрительно фыркала на меня на глазах у всей школы. Однако это нисколько не мешало ей поздними вечерами по пути к дому притискиваться знобящим телом к моему и с придыханием ухмыляться то ли игре, то ли моей слабости.
Нацеловавшись с ней до одури субботними вечерами, я плелся весь обратный путь за семь километров, чтобы как-нибудь дожить до понедельника, заранее зная, что в воскресенье дома не усидеть…
Звериная тоска по Джулии иногда воскресными вечерами водила меня в поселок, чтобы подглядеть из-за укрытия тень ее существа в свете керосиновой лампы. С клокочущим в горле сердцем я простаивал часами подле заветного особнячка и питал себя надеждой, что за все муки сердечные буду вознагражден ответной любовью Джулии.
Джулия с матерью работали в городе. И никто не мог похвастать знанием сферы их работы. Только можно было видеть, как изо дня в день ранними утрами уезжали они на кабриолете Союзтранса, а ко второй половине дня возвращались на «Победе» в сопровождении двух элегантных мужчин в галстуках.
Горбоносый водитель, высунувшись из кабины, въезжал в поселок, напоминая собой громадного попугая. Подкатив к особнячку, он первым вылетал из машины и настежь распахивал дверцы, сперва Джулии, кокетливо улыбавшейся на переднем сиденье, а затем и ее матери с противоположной стороны салона.
Вышедшие из машины женщины, отступив чуть в сторону, кивком прощались с двумя элегантными мужчинами, остававшимися в машине, и торопливо исчезали за воротами.
Порою в праздничные вечера, свободные от школьных занятий, мне удавалось подсмотреть, как в сопровождении знакомых мне мужчин вкатывалась в поселок Джулия вместе с матерью.
Несмотря на позднее время, я отчетливо узнавал каждого из них. Прощание в такие поздние часы длилось дольше обычного.
Не спеша выйти из машины, женщины о чем-то весело переговаривались с мужчинами, приглушенно похохатывая над чем-то.
Эти мучительные сценки, подсмотренные из-за укрытия, обрывали во мне всякую жизнь и заставляли бежать опрометью назад.
Под ногами через поле убегала узкая тропа, как затерявшаяся в мироздании надежда. Опоясав ночное небо, пылал Млечный Путь, как мое удаляющееся счастье. Тихий лунный свет серебрил купы далеких кипарисов над кладбищем и уходил за горизонт мерцающим маревом, усугубляя чувство одиночества и надломленной любви. Где-то спрятавшись в листве, надрывался соловей, изводя в плаче грудных младенцев.
Не в силах вынести пронзительного одиночества в ночи, я падал под деревом и беззвучно плакал, мечтая о смерти…
Ничто на свете не могло меня утешить! Никто не мог отвести от меня смерти! Но Джулии не нужна была ни моя жизнь, ни смерть моя!
Просыпаясь на заре от щекочущих лучей солнца с непросохшими ночными слезами на щеках, я вставал и нехотя шел на работу к своему единственному читателю, чтобы подобрать ему очередной роман, снабдив его изустной аннотацией.
Наши с председателем вкусы во многом сходились, поскольку мы оба страдали одной болезнью — безответной любовью.
Он, в отличие от меня будучи человеком, обремененным семьей — женой и тремя дочерьми, — так же как и я, был романтически влюблен.
Особа, которая так занимала его сердце, сидела через комнату в бухгалтерии и неистово щелкала костяшками счетов, костяшками легкими и пустыми изнутри, как и трудодни, которыми нас обкладывали в те послевоенные годы.
Страдая тайно и явно, — тайно потому, что об этом не догадывался муж этой особы, а явно потому, что об этом знали все конторские работники, — председатель прибегал, как и я, к одному средству — к чтению, понимая, что оно способно заглушить ту боль, которая в нас так свербела. Но боль, как и всякое другое явление, требующее выхода, находила такой путь и в нас посредством стихов, с помощью которых мы занимались самоврачеванием.
Выглядело это так.
Я брал очередной роман для председателя и, вложив в него лист бумаги с двумя начальными строками стихов, относил к нему и через два-три дня получал готовое четверостишие.
Ты говоришь: любовь — привычка! Отвыкнуть можно, коль не раб… Зачем советами нас пичкать, Коль сам к такой привычке слаб?Так однообразно и тягуче тянулись дни, недели, месяцы. И если председательскому увлечению не было видно конца, то моему уже тогда угрожала трагическая развязка: неуспехи — равно как и в школе, так и в делах сердечных — разрастались с такой быстротой, что очень скоро стало ясно, что мне не постичь сложных математических уравнений, не понять до конца, за каким чертом высчитывать углы всевозможных треугольников, определять их постылые периметры, а также — зачем двум рядом бегущим линиям так и бежать бесконечно рядом безо всякой перспективы когда-нибудь перехлестнуться…
Отчаявшись этими открытиями и не найдя никакого к ним противостояния, я изрек подсознательное слово, несшее в себе разрешение ото всего накопившегося в душе. Слово таило угрозу моей жизни через то действие, которое в нем было заложено изначально.
Владея этаким оружием и вынашивая его применение в сознании, я носил самого себя как человек, решившийся на безумный шаг, находя в нем спасение своему достоинству. Теперь с моего лица не сходила ироническая усмешка, рожденная обреченностью своего положения. Сгустившиеся зловещие тучи питали меня отравляющим ядом подозрения.
В особнячок Джулии я стал не вхож.
С некоторых пор диван с овальным зеркалом на высокой спинке был мне заказан, несмотря на то что Джулия, как никогда, нуждалась в моих пересказах. Она теперь все чаще и чаще получала неуды, но от моей помощи отказывалась наотрез. Запрещала и провожать себя после уроков. Да и сам я видел, что происходит что-то из ряда вон выходящее. Не видно было, как прежде, ее миловидной бабушки на ступеньке лестницы за чтением библии. Она хоронилась в комнатах, и лишь в свете керосиновой лампы угадывалась ее по-старчески костлявая фигура, мелькавшая за тоненькими занавесками. Старушка — в который уже раз — переживала трагедию своего клана. Сторонясь людей и их расспросов, она сиднем сидела в особнячке и во двор не показывала и носа. Глядя отчужденно и на меня, если я забегал к ней, чтобы разузнать об обидах Джулии, всячески избегавшей меня, она движением ладони требовала покинуть комнату.
— Что случилось? Где Джулия? — спрашивал я, норовя ослушаться старушку.
Но она тут же поднималась со стула и без слов, толчками в спину выталкивала меня во двор.
Только мать Джулии, как всегда, продолжала жить в обычном ритме: Союзтранс — «Победа», но уже без своей дочери рядом с попугаем-водителем. За внешним спокойствием женщины ощущалась напряженная работа рассудка. Хоть она по-прежнему и кивала головой двум элегантным мужчинам в знак прощания, показывая всем соседям, что ничего не изменилось в жизни обитателей особнячка, однако в этих торопливых ее движениях было что-то такое, что противоречило всему ее старанию. А тем временем, вопреки злорадствующим соседям, все чаще и чаще собиравшимся за сплетнями, из особнячка лились мингрельские лукавые песни с охрипшей иглы патефона. Теперь эти песни сжимали особнячок до мизерных размеров, чтобы оградить от сплетен соседей его обитателей.
Однажды, когда Джулия день за днем пропустила целую неделю, я после первых же уроков бросился к ней домой, несмотря на запрет бабушки.
Тихонько поднявшись по поблекшим ступенькам в особнячок, я постучался в дверь, не дожидаясь ответа, потянул к себе ручку и замер на пороге.
Перед зеркалом комода стояла обнаженная Джулия и тихо заливалась слезами, поглаживая в тусклом свете прикрученной лампы светящуюся белизной грудь с темно-оранжевыми сосками. Голова с распущенными волосами металась из стороны в сторону, рассыпая пряди по округлым плечам.
Умирая от красоты обнаженного тела, я тут же упал на колени, чувствуя в ознобе остановившееся сердце.
Ощутив присутствие волнующегося дыхания, Джулия в испуге повернула ко мне голову с расширенными зрачками и уставилась на меня с приподнятыми перед собой руками. Затем, после минутного оцепенения, бросилась ко мне, тоже упала на колени, тычась лицом в мои раскрытые для объятий ладони, и тихо заплакала:
— Погибла я, милый, погибла…
Я, уронив на обнаженное плечо разгоряченную голову, о чем-то заговорил. Но в это время скрипнула дверь и из соседней комнаты вышла растрепанная старуха в ночной рубашке. Подойдя к нам, она цепкими пальцами ухватилась за мой воротник, подняла на ноги и вытеснила за порог:
— Еще тебя здесь не хватало! Убирайся вон, чтобы ноги твоей не было…
Захлопнувшаяся перед носом входная дверь навсегда отстранила меня от того, что так жадно связывало с жизнью, отстранила и погнала по тропинке вниз, к заветному дереву.
А вослед по пятам бежали прилипчивые слова ночных сплетниц: «Это уже пятое поколение… И снова будет девочка, не владеющая своим телом…»
На пути к дереву я наткнулся на жалобно мычащую корову.
Она была привязана накоротке к ольховому кустику и, видимо, забыта нерадивыми хозяевами.
Поняв в один миг значение подвернувшейся веревки, я выпростал корову, а веревку, на ходу расправляя петлю, потянул за собой.
Внутренне я был готов отомстить судьбе и Джулии за всю их жестокость и, отныне вверившись тутовому дереву, жить его тихой жизнью.
Подойдя к дереву, вскарабкался наверх и подготовил все к тому, чтобы беспрепятственно осуществить замысел…
Спустившись на землю, я ждал зарю.
Ночное небо, низко склонившееся надо мной, глядело мерцающими глазами звезд и оберегало мое одиночество, готовясь принять меня в лоно своего бессмертного царства.
Час за часом растворяясь в тишине ночи, душа покинула плоть и встала в изголовье, охраняя бренное дыхание молодой жизни.
Грянувший на заре охотничий выстрел опалил молодую зарю запахом огня и сбросил с высоты дерева сраженную свинцом змею отчаяния…
Ужаленный стыдом за кощунственное малодушие, я покинул родные места и около шестнадцати лет блуждал по свету, волоча за собой постыдный хвост легкомыслия…
Возвратившись домой уже многоопытным человеком, познавшим и красоту и уродство, я был крепок душой и телом, чтобы впадать в уныние. Но то, что случилось по моем возвращении, смутило меня.
Печальное известие о гибели молодого парнишки, в отчаянии наложившего на себя руки, вновь заставило пережить давно миновавшие дни моей ранней юности.
Его имя упоминалось с именем девушки, по роковой случайности звавшейся Джулией.
Нелепая схожесть двух женских имен и судеб мужчин, во многом повторивших друг друга, поразила меня какой-то жуткой последовательностью. Безумный и дикий поступок представителя нынешнего молодого поколения, живущего больше рассудком, чем сердцем, никак не укладывался в голове.
Движимый смешанным чувством сострадания и любопытства, легко, как бывало в молодые годы, я отмахал семь километров, хотя теперь не прежние времена, чтобы убивать ноги, и вступил в поселок.
В самом начале поселка, уже сильно уплотнившегося из-за возросшего вдвое населения, на холме краснозема я нашел настежь распахнутые по случаю смерти ворота и вошел во двор.
В тихом молчании стариков, тронутых брезгливым сочувствием к умершему, читалось уважение к предку, строго запрещавшему предавать земле всевозможных самоубийц, надругавшихся над жизнью.
Усопший покоился на бархатной подстилке во весь свой могучий рост и был красив еще не совсем умершей жизнью…
Его спокойное лицо с чуть приоткрытыми ресницами, из-под которых угадывались голубые глаза, было беззащитно от врожденной нежности.
В день, когда в садах пестрели ранние розы, было чудовищно лежать бездыханным и омрачать земное счастье смертью.
Убитые горем родные скулили, как раненые звери, и не находили себе места.
Люди, пришедшие небольшими группами пособолезновать, тихо перешептывались между собой, двигались в сад к тому роковому дереву, где и разыгралась трагедия.
Высокая ольха с раскидистыми ветвями стояла в середине сада, возвышаясь над мандариновыми деревцами. Под прислоненной к ней лестницей были разбросаны окурки, туфли и сама веревка, спущенная с высоты на рассвете вместе с удавленным дыханием парня.
Люди, не решаясь прикоснуться руками к вещам, разбросанным под деревом, жадно впивались в них глазами и объясняли сами себе их расположение.
Некоторые из них, обладающие проницательным умом, вводили толпу в курс мельчайших подробностей, превращая психологический этюд в многоходовку детективного романа…
— Что же привело несчастного к такому шагу? — любопытствовали из толпы, желая немедленно получить однозначный ответ на вопрос.
И тут же выдавались ответы вроде этого:
— Сумма отрицательных эмоций, накопившихся к моменту…
— Может ли трус решиться на подобный шаг? — интересовался кто-то.
И в этом случае ответ оказывался лаконичным:
— Трус умирает еще задолго до смерти…
Покинув это скорбное место, я смешался с толпой во дворе и, побыв в ней несколько минут, вышел на улицу.
С отчаянием человека, решившегося на крайность когда не столь важна сама причина, побудившая его на этот шаг, в какой-то мере я был знаком.
Упиваясь жестокой мыслью как способом отмщения, он примеривается к своей участи и укрепляется в ней, чтобы сохранить в чистоте твердые убеждения… И нет, кроме трусости, силы, способной отказаться от принятого ранее решения. А идти на компромисс ради сохранения обездоленной плоти было бы выбором жалких…
Понимая это скорее сердцем, нежели рассудком, самоубийца заранее отрезает себе путь к отступлению, оставляя за собой время для того, чтобы сдержать свое слово перед самим собой.
Преодолев себя и оставшись в своей смерти чистым перед принципом, он как бы говорил: сомневались? А теперь вы верите?..
Выйдя со двора с тяжелым сердцем, против своей воли я потащился к особнячку с ярко-красными ступеньками, ощущая дыхание безвестного охотника-хранителя, опалившего зарю моей ранней юности спасительным стыдом раскаяния.
Особнячок оказался пустяковым.
Всего лишь небольшой домик на высоком цоколе из красного кирпича, с которого по-прежнему сбегали во двор мимо широко разросшихся кустов фейхоа и горели ярко-красным деревянные ступеньки. На одной из них, как в давние времена, сидела молодящаяся старушка в бежевом халате из вельвета и листала потрепанную библию, шепча лукаво улыбающимися губами какие-то откровения…
Я открыл калитку и прошел во двор.
Подойдя поближе к старушке, поздоровался кивком и спросил Джулию.
— Какую вы спрашиваете Джулию? Их две! — ответила старушка, внимательно уставясь мне в бороду. — Вы, наверное, давно не были в наших краях…
— Давно, — проговорил я, боясь выдать себя. — С детских лет…
Старушка захлопнула книгу и встала со ступеньки, предлагая пройти в дом.
— Я вас чуть было не приняла за приезжего, — вновь заговорила старушка, пропуская меня вперед. — Лицо ваше мне незнакомо…
Я промолчал.
Комната, куда меня ввела старушка, оказалась обставленной так же, как шестнадцать лет тому назад.
Диван, комод с зеркалом. На комоде вместо патефона — магнитофон, рядом кассеты той же фирмы.
Не дожидаясь приглашения, я опустился на диван с овальным зеркалом на высокой спинке, едва сдерживая улыбку, и стал шарить глазами по комнате. Но вместо бабушки Джулии, всегда присутствовавшей в комнате во время наших занятий, на ее стуле сидела мать Джулии.
— Вы мне не сказали ничего о Джулии, — заговорил я. — Дома ли она?
— А вы не ответили мне, какую вам Джулию, — игриво ответила старушка.
— Ваша правда, — улыбнулся я, принимая игру. И тут мой взгляд упал на фотографию бабушки Джулии, окантованную черным крепом. — Давно? — спросил я, не решаясь произнести слово «смерть».
— Вы знали ее? — оживленно спросила она.
— Да, я знал ее…
Старушка поднесла платок к глазам и тихо вздохнула:
— Третий месяц пошел… — И после минутного молчания пояснила: — Летом бы исполнилось восемьдесят шесть лет… Жизнь у нее была трудная. Она воспитывала меня, рано умерла ее мать, бабушка моя, я ее и не помню. Затем воспитывала Джулию — дочь мою, потом и дочь Джулии, Джулию-младшую — правнучку. — Она говорила тепло, с волнением в горле, как говорят дети о своих родителях, отошедших в мир иной, и была рада случаю поговорить о ней сейчас…
А у меня звучало в ушах святое благовествование: «Авраам родил Исаака; Исаак родил Иакова; Иаков родил Иуду и его братьев; Иуда родил…» — и так далее.
Было что-то утомительное и грустное в перечне имен.
Продолжая слушать старушку, я стал вспоминать имена этого женского клана по аналогии благовествования: Цицу родила Циалу; Циала родила Джулию; Джулия родила Джулию-младшую; Джулия-младшая родила?.
Старушка умолкла и, уставясь на меня блестящими стеклами очков, тихо улыбнулась.
— Вы меня совсем не слушали, — сказала она, но без всякой обиды в голосе. — Боже мой, как летит время! Теперь уже и я бабушка… Куда все уходит? Куда все девается? А ведь я вас узнала. Это же вы тогда…
— Да, я!
— Боже мой!..
Из боковой комнаты открылась дверь, и на пороге показалась девушка в джинсах и модной кофте.
Не решаясь войти к нам, она продолжала стоять на месте, повторяя в своем облике и прежний возраст, и внешность своей матери…
Разглядывая ее из далека своего опыта, я стал догадываться о смысле святого правила о параллелях…
Передо мной стояла чья-то роковая параллель…
Я поднялся со своего места, где когда-то мы с Джулией готовили уроки по истории, и стал двигаться к выходу, уверенный в том, что значение истории и самой жизни заключены в их повторении, в повторении предотвратимости…
— Вы уже уходите? — встревожилась старушка. — Посидите еще, скоро и Джулия подъедет… — И, поднимаясь со стула своей матери, потянулась за мной. — Как жаль…
— Загляну в другой раз, — заверил я, удивляясь легкости обещания.
Глядя из окна вослед нам, нас провожала глазами Джулия-младшая, зажав лицо ладонями.
Дойдя со мной до ворот, старушка простилась и горько выдохнула:
— Каждого в жизни водит своя кровь!.. У каждого — своя ноша!..
Обратный путь я шел тропою юности, неся за собой тяжесть своей нелегкой ноши…
Бабушара,
1984
Примечания
1
Ахчиг — девушка (арм.).
(обратно)2
Долма — еда вроде голубцов (арм.).
(обратно)3
Оркур — тетя (арм.).
(обратно)4
Калимера — приветствие (греч.).
(обратно)5
Вай чкими цода — горе мне, бедному (мингр.).
(обратно)6
Мурзук — лоботряс (мингр.).
(обратно)7
Мартали — правда (мингр.).
(обратно)8
Непе — грек (греч.).
(обратно)9
Бейный бас — местное название духового инструмента, баса.
(обратно)10
Квери — вареники с сыром или свежими фруктами (мингр.).
(обратно)
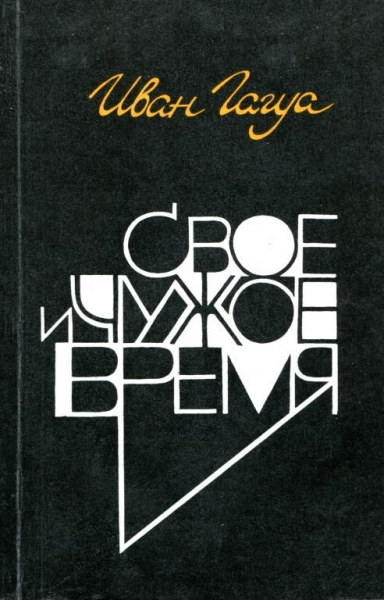



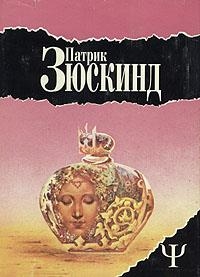








Комментарии к книге «Свое и чужое время», Иван Лаврентьевич Гагуа
Всего 0 комментариев