Коллектив авторов Дюжина слов об Октябре
© Рубина Д., 2017
© Геласимов А., 2017
© Евсеев Б., 2017
© Варламов А., 2017
© Авченко В., 2017
© Шульпяков Г., 2017
© Нестерина Е., 2017
© Жемойтелите Я., 2017
© Косяков Д., 2017
© Бабушкин Е., 2017
© Русаков Э., 2017
© Никулин П., 2017
© Оформление. ООО «Издательство «Э», 2017
Дина Рубина Дом Этингера Фрагмент из романа «Русская канарейка. Желтухин»
1
Да никакой балериной она не была! И не бывает балерин с такой грудью. Тоже мне хозяйство – балерина: полфунта жил на трудовых мослах. Нет, Эська заколачивала тапершей в синема, и заколачивала крепкими пальчиками, и востро глядела в ноты, читая с листа, а грудь у нее была, как две виноградные грозди («Песнь песней» в исполнении хора поклонников) – как виноградные грозди, созревшие свободно и сладко в ее неполные шестнадцать лет.
Спал ли некий Николай Константинович Каблуков под окнами ее дома? Вполне вероятно; да и кто бы пустил его спать в иное место? Много их околачивалось под ее окнами, любителей ноты переворачивать; возможно, кто и прилег с устатку.
Но в семье он запомнился: подаренный им кенарь по кличке Желтухин прожил ни много ни мало – да бывает ли такое?! – двадцать один год. Шутка ли? Двадцать один год, копеечка в копеечку, семья просыпалась под надрывную песенку «Стаканчики граненыя», высвистываемую Желтухиным с такими фиоритурами, что любой тенор позавидует. Немудрено, что эта песенка въелась в быт, нравы и эпос данного семейства.
Кстати, о теноре.
Изрядные голосовые достоинства (помимо прочего музыкального блеска) были присущи всем мужчинам «Дома Этингера», как говаривал сам Большой Этингер – Гаврила Оскарович, он же Герц Соломонович, но все тот же Этингер, хоть ты тресни. Так вот, немалые достоинства тенорового регистра демонстрировал и он сам, и его единственный, сгинувший в чекистском аду, но перед тем проклятый им сын Яша…
Вообще, если уж мы заговорили о музыке и о Доме Этингера, то надо бы захватить пригоршню времени поглубже и пошире, насколько хватит глаз; полновесной октавой взять, черпнуть глубоким ковшом, в который угодил бы даже и Соломон Этингер, тот николаевский солдат из кантонистов, трубач военного оркестра, запевала и буян, который всю жизнь утверждал, что его, десятилетнего мальца, пойманного «ловчиком» где-то в местечке под Вильно и увезенного в телеге с такими же перепуганными еврейскими мальчиками на Урал в живодерню кантонистской рекрутчины, спас только заливистый дискант, впоследствии излившийся в тенор, странно высокий для человека столь могучей комплекции; спас, подкормил и в люди вывел: «Ох, кабы не мой соловей-соловей-пташечка!»
После двадцати пяти лет военной службы (напоследок он оттрубил и отпел Крымскую кампанию) Соломон осел в местечке под Полтавой и женился на дочери местного раввина. Хроменькая девушка была и болезная по женской части, но все ж раввинская дочь. Да и он, если трезво глянуть: солдат, конечно, хуже гоя, невежа в райских кущах святых наших книг, но все ж георгиевский кавалер, да и сорок-то целковиков кантонистской пенсии от царя-батюшки тоже, поди, на земле не валяются.
И вот, случается ж такое чудо – мощь чресел библейских старцев! – прожив в бездетном браке десять лет, уже в преклонном возрасте ухитрился родить со своей хромоножкой глазастого и ушастого сынка Герцэле и обучить его не только игре на нескольких инструментах, но и способности к выдающейся мимикрии – во всем, в том числе и в такой мелочи, как перемена места жительства, привычного окружения и имени.
– Имена – вздор, – говаривал отставной николаевский солдат. – Я тебе на свист отзовусь. Когда нас, пацанов-кантонистов, крестил полковой батюшка (в баню загнали, якобы мыться, а после окатили всех холодной водой из шаек), мне имя дали Никита Михайлов, и служил я под ним царю и России двадцать пять лет. «Отче наш» во сне отбарабаню. Ну так что ж? Какая в том беда Дому Этингера?
Стоит ли говорить, что сын его Герц – Гаврила – был, как и положено по закону, обрезан на восьмой день своей жизни, и, прислушиваясь к звенящему крику младенца, его папаша, запевала и буян, одобрительно заметил: тенор, мол. И ведь в точку попал.
Но место в оркестре знаменитого Оперного театра города Одессы Гаврила Оскарович получил в свое время вовсе не как тенор, а как – поклон папаше-кантонисту – незаурядный кларнетист.
К тому времени он был удачно женат на Доре Маранц, дочери известного в Одессе биржевого маклера Моисея Маранца, члена правления кредитного общества и ловкого хлебного спекулянта, которого не могла разорить даже постоянная карточная игра. В приданое дочери, к нескольким недурным семейным драгоценностям, размашистый и громогласный папаша Маранц присовокупил шестикомнатную квартиру в новом доме на углу Ришельевской и Большой Арнаутской – великолепную фасадную квартиру в бельэтаже, со всеми новомодными «штуковинами»: электрическими лампами, паровым, но и каминным отоплением, ванной и туалетной комнатами и чугунной печью в просторной кухне, из которой деревянная лесенка взбегала на антресоль, в комнатку для прислуги.
* * *
Дора была женщиной изумительно стервячего нрава, зато обладала монументальным бюстом.
– Ге-е-ерцль!!! Где моя грудка-а?! – С этого начиналось каждое утро.
Обслужить этот бюст могла только знаменитая одесская портниха Полина Эрнестовна: каждый год она шила Доре Моисеевне специальный лиф, напоминавший бронированное сооружение со шнуровкой. Вот его-то Дора и называла «грудкой».
Каждое утро первый кларнет оркестра Оперного театра Гаврила Оскарович Этингер, бывало, уже и одетый, и при бабочке, сжав зубы, шнуровал супругу, упираясь коленом в ее обширную поясницу. Он ненавидел «грудку», ненавидел ежеутреннее шнурование и ненавидел Дору. В те минуты, когда его сильные пальцы профессионального музыканта тянули шнуры и вязали узлы, он мечтал оказаться вдали от супружеской спальни и от Дориной откляченной задницы, приложив к губам мундштук кларнета, искоса поглядывать в ложу второго яруса, где в бархатной полутьме, смутно белея истомной ручкой на пурпуре барьера, маячит белокурая Ариадна Арнольдовна фон Шнеллер, дочка антрепренера театра. Она всегда приходила на утренние репетиции, и ее тишайшее присутствие волновало сердца многих семейных оркестрантов. (Ну так что ж, скажем мы вслед николаевскому солдату, какая в том беда Дому Этингера?)
* * *
«Большим Этингером» Гаврилу Оскаровича за глаза почтительно называли все – коллеги, знакомые, соседи, жена, прислуга. Он и вправду был большим: два аршина двенадцать вершков росту, с красивой крупной головой, увенчанной весело рассыпчатым каштановым коком. На крышке концертного фортепьяно в гостиной стояла фотография в серебряной рамке: он с Федором Ивановичем Шаляпиным в дни гастролей того в Одессе – два великана, в чем-то даже похожих.
Была во всем облике Большого Этингера некая размашистая элегантность, непринужденная уверенность в себе, доброжелательная порывистость эмоций. Музыкантом был до кончиков длинных, нервных, с приплюснутыми «кларнетными» подушечками пальцев, и все интересы жизни сосредоточены только на ней – на Музыке! При всей оркестровой занятости преподавал в музыкальном училище по классу кларнета, состоял в попечительских советах трех благотворительных обществ, а кроме того, руководил хором знаменитой Бродской синагоги, куда на праздники и на субботние богослужения являлись даже и неевреи, даже и христианские священники – послушать игру немецкого органиста из лютеранской церкви, а также изумительные голоса, среди которых сильный драматический тенор Гаврилы Оскаровича вел далеко не последние партии.
Как известно, в начале двадцатого века Одесса была помешана на вундеркиндах. Помимо музыкального училища, в городе, как почки по весне, возникали и лопались частные музыкальные курсы. Чего стоил один только великий малограмотный Столярский со своей «школой имени мене», Петр Соломонович Столярский, часами стоявший перед детьми на коленях, ибо именно с такой «позитии» ему удобнее было наблюдать игру и исправлять ошибки.
Само собой разумеется, что детей своих, сына Якова и дочь Эсфирь, Гаврила Оскарович с детства приладил к занятиям музыкой: он всегда мечтал о семейном ансамбле.
Вообще, как все дети из приличных семейств, они, конечно, учились в гимназиях: Яша – в Четвертой мужской, на углу Пушкинской и Греческой, Эсфирь – в женской Второй классической, угол Старопортофранковской и Торговой (образцовое, заметим в скобках, учебное заведение). Кроме того, до Яшиных пятнадцати лет в семье жила Ада Яновна Рипс, дальняя родственница из Мемеля, обучавшая детей французскому и немецкому; заполошная старая дева, подверженная приступам внезапной и необъяснимой паники, она покрикивала на них то на одном, то на другом языке.
Дора считала этот метод идеальным, жизненным:
– Главное, чтоб за словом в карман не лезли!
– Неглубокий же тот карман! – иронически отзывался на это Гаврила Оскарович. Тем не менее дети неплохо болтали на обоих языках, чего не скажешь о самой Аде Яновне относительно языка русского. Несколько ее выдающихся фраз вошли в семейный обиход, намного пережив саму эту, похожую на встрепанную галку, старуху в пенсне. «Уму нерастяжимо!» – восклицала она, услыхав пикантную, радостную или горестную новость. Диагнозом чуть ли не всех болезней у нее было решительное: «Это на нервной почке!» Она путала понятия «кавардак» и «каламбур» («В голове у нашего Яши полный каламбур!»), «набалдашник» называла «балдахином», гостей и домашних провожала пожеланием «ни пуха, ни праха!», а когда в семейных застольях галантный и насмешливый Гаврила Оскарович неизменно поднимал тост за здоровье «нашей дорогой Ады Яновны, великой наставницы двух юных разбойников», – она столь же неизменно всхлипывала и страстно выдыхала: «Я перегу их, как синицу – окунь!»
Но все это общее так себе образование (включая гимназии) отец рассматривал исключительно как домашнюю уступку жене, как несущественную прелюдию к образованию настоящему. Ибо Гаврила Оскарович Этингер не мыслил будущего своих детей без музыки и сцены, без волнующего сумрака закулисья, где витает чудная смесь пыли, запахов и звуков: дальняя распевка баритона, разноголосица инструментов, рыдания костюмерши, которую минуту назад примадонна назвала «безрукой идиоткой», но главное, праздничный гул оживленной публики, заполняющей полуторатысячный зал, – тот истинно оперный гул, что, смешиваясь с оркестровыми всполохами из ямы, прорастает и колосится, как трава по весне.
Так что Яша сел на виолончель.
– Виолончель, – втолковывал сыну Большой Этингер, – это воплощенное благородство! Невероятный диапазон, потрясающий теноровый регистр, напряженная мощь звука. Да, из-за огромной мензуры на ней не звучит вся эта головокружительная скрипичная акробатика; да, виртуозные пассажи выглядят чуток суетливыми – вроде как дама габаритов нашей мамочки падает на руки партнеру в аргентинском танго. Но! Эта неуклюжесть с лихвой окупается качеством тембра. Никакие скрипичные «страсти в клочья» не сравнятся по накалу с яростным речитативом виолончельного parlando! И кто лучше виолончели создает эффект грусти? Ты можешь возразить: «А фагот?» Да, фагот потрясающе печалится. Но где ему, бедняге, взять красоту вибрации струнных! Нет, довольно Одессе батальона младенчиков-скрипачей, – заключал он, решительно прихлопывая огромной ладонью ручку кресла. – Все это мода и глупость, а вот хороший виолончелист, что в оркестре, что в ансамбле, всегда найдет себя на нужном месте.
Шестилетнюю Эсфирь, согласно этой практичной концепции, собирались усадить за арфу (арфа – вечная Пенелопа оркестра, прядущая свою нежную пряжу), и, надо признать, лебединый изгиб сего древнего инструмента очень шел к кольчатой волне Эськиных ассирийских кудрей. Но девочка была такой крошечной, что не доставала до последних коротких струн. Тогда, делать нечего, отец отправил ее на частные фортепианные курсы Фоминой в Красном переулке, где обнаружился и расцвел один из главных ее талантов: девочка поразительно быстро читала с листа, цепко охватывая страницу многозвучным объемным внутренним слухом. Так что именно Эська оказалась тем чудо-ребенком в семье, на которого стоило ставить.
Честолюбивый Гаврила Оскарович с двойным пылом, отцовским и педагогическим, бросился – как в свое время его папаша-кантонист на редуты противника – на муштру новоявленного дуэта.
По вечерам весь двор, засаженный каштанами, катальпой и итальянской сиренью, слышал из окон квартиры в бельэтаже трубный рев Большого Этингера:
– Вступай на «раз и два и»! Не тяни! Это ж уму нерастяжимо! Виолончель в твоих руках – как музыкальный гроб, шарманка надоедливая! Ну, вступил же, тупица!.. – И далее – мерный стук трости об пол и одиночные вопли Яши, пронзительным дискантом протестующего против музыкального насилия.
* * *
Но, между прочим, недурной вышел ансамбль – «Дуэт-Этингер»: что ни говорите – отцовы гены, отцова выучка, да и музыкальные связи отцовы.
Спустя пять лет упорных занятий на первом концерте в Зале благородного собрания, что по Дворянской улице (помещенье пусть небольшое, заметил Гаврила Оскарович, однако публика порядочная, все университетские люди), дети виртуозно исполнили довольно сложную программу – Третью, ля-мажорную сонату Бетховена для виолончели и фортепиано и виолончельную сонату Рахманинова, – заслужив аплодисменты искушенных ценителей. Сам трогательный вид этой артистической пары вызывал улыбку: долговязый Яша с долговязой виолончелью и малютка, едва достающая до педалей рояля фирмы «Братья Дидерихс»; улыбка, впрочем, при первых же звуках музыки сменилась уважительным и восхищенным вниманием.
Еще через год дети Гаврилы Оскаровича с успехом концертировали в разных залах Одессы: в Императорском музыкальном обществе, в Русском театре, в Городской народной аудитории. Уже шли переговоры Большого Этингера о летнем ангажементе в Москве и Санкт-Петербурге, уже Полина Эрнестовна сшила для Эськи настоящую концертную юбку со стеклярусом по подолу, а приметанный Яшин фрак ждал последней примерки у мужского портного. Уже отец прикидывал, каким шрифтом набирать на афише имена и какие давать фотографии, когда приключилась эта беда.
Никто из тех, кто знавал семейную жизнь Этингеров накоротке, кто хаживал к ним на обеды или заглядывал на чай, кто неделями гостил у них на даче, едва замечая тощего и очень застенчивого подростка-гимназиста, – никто не мог бы вообразить, что произойдет с этим юношей в самом скором времени.
А Яша переменился внезапно, необъяснимо и необратимо. В Одессе про такое говорили «з глузду зъихав». Мальчик стал совершенно несносен: грубил матери, на кухне перед Стешей нес, размахивая длинными руками, пылкую ахинею о каком-то «всеобщем равноправии свободных личностей» и, случалось, исчезал бог весть куда на целый вечер, манкируя репетицией. Причем с ним исчезал и футляр от виолончели, в то время как сама виолончель оставалась дома, точно брошенная кокотка, стыдливо приклонив к обоям роскошное итальянское бедро.
– Кого?! – кричал Гаврила Оскарович, воздевая руки и всеми десятью артистичными пальцами вцепляясь в каштановый, с седой прядкой кок надо лбом. – Кого он в нем перетаскивает?! Падших женщин?!
Между прочим, это замечание не лишено было некоторых жизненных оснований: окна спален просторной шестикомнатной квартиры Этингеров выходили в большой замкнутый двор, куда одновременно были обращены окна самого респектабельного борделя Одессы, так что музыкальный «Дуэт-Этингер» репетировал под ежевечерние возгласы: «Девочки, в залу!»
Всех «девочек» юные музыканты знали в лицо, а встречая во дворе, вежливо раскланивались: при свете дня и без густого слоя пудры и помады внешность многих «девочек» требовала уважения к летам. С утра они обычно отдыхали, а к вечеру тяжелые малиновые шторы волновал бархатный свет ламп; там двигались томительные тени, развязно и фальшиво бренчало фортепьяно, а из отворенных форточек разносилось по двору:
В Одессу морем я плыла на пароходе раз.Или:
Меня мужчины очень лю-у-убят, Забыла я победам счет, Меня ласкают и голу-у-бят, В блаженстве жизнь моя течет.Заблуждению по поводу Яшиных отлучек поддалась даже Дора, женщина недоверчивая и истеричная.
– Яша! – кричала она. – Меня убивает одно: неизвестность! Ты можешь сгинуть на всю ночь, но даже из борделя отстучи телеграмму: «Мама, я жив!»
Ее рыдающему голосу вторил игривый и наглый голосок из-за малиновых штор напротив:
Все мужчины меня знают, в кабинеты приглашают, мне фигу-у-у-ра позволяет. Шик, блеск, имер-элеган На пустой карман!Увы, какой там бордель! Яшу захватила совсем иная страсть, та, что в его боевых кухонных филиппиках перед оцепенелой в немом восторге Стешей именовалась «жаждой социальной справедливости» – во имя которой, твердил он явно с чьего-то чужого и лихого голоса, «в первую голову трэба устроить бучу повеселее».
Наконец, однажды ввечеру на квартиру Этингеров – в крылатке, в дворянской фуражке с красным околышем, «лично и между нами-с» – наведался пристав Тимофей Семенович Жарков, культурнейший человек, большой любитель оперы и почитатель Гаврилы Оскаровича, да и сам бас-профундо в церковном хоре. И тут неприглядная и отнюдь не музыкальная правда о похождениях виолончельного футляра грянула зловещей темой рока, знаменитыми фанфарами из Четвертой симфонии Чайковского.
Яша, как выяснилось, перетаскивал в футляре какие-то гнусно отпечатанные босяцкие брошюры возмутительного анархистского содержания. «Их и в руки-то брезгуешь взять! Полюбуйтесь: от сего манускрипта пальцы все черные!» И противу должности и убеждений, исключительно из душевной и музыкальной расположенности к Гавриле Оскаровичу – столь почтенное, ко всему прочему, семейство, и такой-то срам, чтоб одаренный юноша, виолончелист, многообещающий, так сказать, талант, прибился к босоте и швали! К налетчикам! Ведь в этой бандитской шайке известные подонки: тот же Яшка Блюмкин, и Мишка Японец, и какой еще только мрази там нет!
Вообразите, на Молдаванке, на Виноградной, у них школа щипачей, где эту голоту, шпану малолетнюю, на манекенах обучают!
На… на манекенах?
Так точно! Манекены с колокольчиками по карманам. Исхитрился вытащить портмоне, не зазвенев, – получи от «учителя» высший балл! Или по шее, коли не успел. Вот откуда себе вербуют хевру эти молодчики-анархисты. Вот с каким отребьем связался ваш Яшенька, дорогой Гаврила Оскарович.
Словом, пристав Тимофей Семенович настоятельно рекомендовал как можно скорее и скрытнее ото всех Яшиных дружков спровадить юнца куда-нибудь подале, к родне, под замок. И молчок. Так как на анархистов имеется предписание, а служебный долг – он, сами понимаете, голубчик Гаврила Оскарович.
Тимофей-то Семенович был, разумеется, встречен как родной, усажен в кабинете в удобное кресло (еще папаши-кантониста приобретение), ублажен коньячком и контрабандной сигарой и заверен наитвердейшим образом в том, что.
Последний солнечный луч из-за портьеры угасал в его правой платиновой бакенбарде, сплетаясь с сигарным дымом и чеканя печатку перстня на среднем пальце правой руки (левая была изуродована еще в октябре пятого года, когда анархисты «безмотивного террора» взорвали кофейню Либмана на Преображенской).
Гаврила Оскарович сам проводил пристава, минут пять еще что-то горячо обсуждал с ним вполголоса в полутьме прихожей, а когда за Тимофеем Семеновичем закрылась дверь, вернулся в залу с перекошенным лицом и впервые в жизни организовал выдающийся семейный скандал, потрясший Дом Этингера до основания.
И дело не в том, что в ход были пущены некоторые, много лет хранившиеся под спудом, неизвестные детям и Доре крепкие выражения его покойного отца, николаевского солдата Никиты Михайлова. Дело не в том, что впервые в жизни Яша получил по физиономии отцовой рукой опытного оркестранта, и новому ощущению нельзя было отказать в известной свежести. Дело не в том, наконец, что Дора была названа «безмозглой коровой», а Эська зачем-то заперта в своей комнате до выяснения ее осведомленности о безобразиях брата.
Яше велено было собраться и наутро быть готовым к отъезду в Овидиополь, к двоюродному брату матери, на неизвестный срок. Гаврила Оскарович собственноручно запер до утра все двери и даже окна.
– Ты у меня узнаешь, паскудник, как декларации провозглашать! Манекены?! Колокольчики?! Освободительная чушь?! Ты у меня услышишь колокольчики в Овидиополе!
Не все, как выяснилось, не все замки запер. И той же ночью, не дожидаясь ни допроса в полицейском участке, ни бессрочного прозябания у дяди в пыльном захолустье, Яша – ни пуха, ни праха! – бесшумно удалился через окно кухни (и надо еще разобраться, вставляла Дора, какую роль в том сыграла Стешка!), из денег прихватив только семейную реликвию – «белый червонец», редкую монету из платины (хотя выбито на ней почему-то было «3 рубли на серебро 1828 Спб»), подаренную все тем же николаевским солдатом сынку Герцэле на бар-мицву.
В своем последнем «прости», бессвязном и бредовом, нацарапанном карандашом на листке из гимназического календаря «Товарищъ», Яша объяснял свой поступок «освободительными целями и нуждами «Вольной коммуны», а также писал о «горящем сердце Данко» (вероятно, какого-нибудь босяка-цыгана с Пересыпи), что «рассек себе грудь и вырванным сердцем озарил людям тьму!».
Словом, «шик-блеск, имер-элеган на пустой карман».
Взбешенный Гаврила Оскарович смял и выбросил жалкий листок в корзину для бумаг. А зря: никогда вы не знаете наверняка, в какие моменты судьбы пригождаются нелепые излияния вашего непутевого сына.
Хорошо, Стеша потихоньку вытянула из корзины и расправила листок, поставив на него холодный чугунный утюг у себя на антресоли. Ведь там на обороте Яшиной рукой был неосторожно записан дивный стих (вообще-то Константина Бальмонта, но Яша на этом не настаивал), относительно коего у Стеши имелись некоторые основания для ночных вздохов и сладкого сердцебиения:
Хочу быть дерзким, хочу быть смелым, Из сочных гроздей венки свивать, Хочу упиться роскошным телом, Хочу одежды с тебя сорвать!..И далее в столь же неукротимом духе, аккуратно и до конца переписанное стихотворение, как ящерица хвост сбросившее подпись автора. Но ведь не это главное, тем более что Яша счел нужным сей шедевр усыновить, а псевдонимом взять солдатское имя деда: Михайлов.
Возможно ль такое, чтобы недалекая Стеша осознала необходимость сохранить пустобрехий листок, который через каких-нибудь пять-шесть лет послужит семье охранной грамотой в кровавой кутерьме бандитских налетов, в кипящей воронке революции и Гражданской войны?
Но до всего этого еще предстояло дожить, а пока многообещающий «Дуэт-Этингер» распался.
<…>
4
Морские кучевые облака дрожали и уносились в распахнутой створе окна отцова кабинета, которое надраивала Стеша. Она стояла на подоконнике босая, в ночной рубашке, в надетой поверх нее подоткнутой синей шерстяной юбке и, намяв в обеих ладонях по газетному комку, с двух сторон визгливо протирала вымытое стекло, навалившись грудью на раму.
…Эська сидела за ломберным столиком в двух шагах от Стеши и на уровне глаз видела на подоконнике босые Стешины ступни: крепкие, жилистые, с красными пальцами, с чуть набрякшими от напряжения голубоватыми щиколотками.
Эська писала письмо брату.
Как и подозревала покойная Дора, эта мерзавка Стеша была-таки замешана в его делишки, знала, где он обретается, и сейчас, растроганная горем семьи, выдала Эське под страшным секретом – «и ни единым духом папаше!» – адрес Яши в Харькове. Собственно, там и адреса-то никакого не было. Писать следовало на Главную почту, да еще и на имя другое: не на Этингера и даже не на Михайлова, а на какого-то Каблукова Николая Константиновича. Ну, Каблуков так Каблуков, так даже лучше, пусть Яше совсем станет стыдно за все эти недостойные штуки.
Она намеревалась написать брату высокомерное и отчужденное письмо, сухо сообщив о скоропостижной смерти матери, но сидела над листом уже час, а высокомерие куда-то улетучивалось, фразы лепились довольно жалкие, хотелось плакать и ужасно хотелось Яшку увидеть!
«…а еще, – писала она, – вот уж верно говорят: пришла беда – отворяй ворота! – папа недавно возвращался после концерта и в темноте ступил в собачью кучку, ну и – помнишь этот скользкий желтый клинкер мостовой на углу Итальянской и Ланжероновской? – растянулся и повредил руку! Сначала думали, пустяк, растяжение связки, ан нет, все куда серьезнее, и доктор Киссер со станции медицинской помощи считает, что связка порвана, а выздоровление – дело дальнее. Пока папе установили в оркестре небольшой пенсион по болезни, но сезон, конечно, загублен, и он ужасно огорчен, прямо убит. Он бы мог преподавать, но даже думать не хочет: говорит, что педагог, не способный продемонстрировать ученику то, чего от него требует сам, – мошенник и пустобрех. Я предложила продать мамины драгоценности – те дивные кольца, еще от прабабушки, помнишь? – но он уперся и твердит, что подобные вещи сохраняются в семье на совсем иные, какие-то “большие спасательные миссии”. И это уж прямо его фантазии! А ты же знаешь, какой он гордый человек! Как не мыслит своей жизни без музыки. Уверен и повторяет без конца, что на будущий год я непременно, во что бы то ни стало поеду к Винарскому в Вену. Все это грустно: на какие средства он рассчитывает? Если б Стеша не выросла в семье (да и идти ей некуда, и ни к чему она не приспособлена), то и она сбежала бы от таких затруднений: все дни напролет ходит в одной и той же юбке.
Но ты не должен за нас беспокоиться. Тут у одной “девочки”, ты ее помнишь, рыженькая, Лида, разговаривает так забавно, “вавакает”, брат – механик в иллюзионе “Бомонд”, и он меня туда предложил – о, не смейся, пожалуйста, актерство тут ни при чем! – на предмет музыкального сопровождения новой американской фильмы “Большое ограбление поезда”. Я сначала не могла играть: впечатление сильное, знаешь! Инструмент же совсем бросовый, разбитый и расстроенный. Садишься, и вначале кажется – легкие деньги, но к вечеру руки свинцовые, спина раскалывается. Ничего, заработок, однако, недурной. Я потерплю. А еще, Яша…»
Она задумалась. Вдруг вспомнила дачу на Шестнадцатой станции, которую ежегодно они снимали, эту летнюю веселую жизнь со спектаклями и розыгрышами, с толпой сменявших друг друга гостей, и «вечерних», и тех, что оставались неделями; и закружил теплый ветер с Босфора, смешавшись с запахом чистого сухого белья на веревке и горячих камней чисто выметенного дворика; возникли перед глазами круг желтого света от керосиновой лампы на вечерней террасе, солнечный переполох листьев в виноградной беседке, слепящая синь неба в отрепьях летящих облаков и слепящая синь моря в заплатках белой парусины.
Вдруг воссиял большой медный таз на огне: это в саду под яблоней Стеша колдует над вишневым вареньем. В самой середке густой багряной мякоти подбирается, подкипает крошечный вулкан лаковой вишневой пенки. И она, Эська, – восьмилетняя, босая, в цветастом сарафане – стоит с блюдечком в руках, ждет своей порции сладкого – сладчайшего! приторного! – приза. А Стеша месит палкой в тазу вулканическое озерцо, испуганно покрикивая: «Сдайте назад, барышня, ну-ка! Обвариться можно сию минуту, не дай боже!» Но девочка не отходит, завороженно глядя на вулканчик в центре раскаленного багряного озера, облизывая губы, словно на них уже запеклась вожделенная лиловая пенка.
И весь длинный летний день – шлеп и лепет, беготня, босая пересыпь маленьких ног по дощатым полам террасы – там за чаем папа демонстрирует гостям подарок, привезенный из Карлсбада дедушкой Моисеем: трость с золотым, как говорит Ада Яновна, «балдахином» в виде оскаленной львиной пасти. Набалдашник, конечно, не золотой, а фальшивый, но особый, с сюрпризом: отвинчиваясь, львиная голова ощеривается коротким, но мощным клинком.
– Элегантная вещица, – замечает кто-то из гостей.
– Чепуха, блеф, декорация! – фыркает папа.
Он всегда фыркает при появлении деда – веселого, легкомысленного и рискового человека с брюшком и курчавыми, как у Пушкина, рыжеватыми бакенбардами.
(Вот уж рискового, да. Года два как после банкротства переехал в квартирку на четвертом этаже под крышей и все болеет, болеет.)
Вдруг она с необычайной ясностью услышала двойную вьющуюся нить родных голосов: вечерами на даче Большой Этингер с сыном пели дуэтом. Начинал отец без предупреждения, когда после чая наступала пауза, Стеша убирала со стола, мама переходила в бамбуковую скриплую качалку, обессиленно падала в нее и прикрывала глаза. И папа тоже, прикрыв глаза, будто издалека начинал, с такой дорожной мечтательной грустью:
Од-но-звучно греми-ит ко-о-ло-кольчик… и до-ро-о-о…И томительно Яша подхватывал:
…И дорога пылится слегка-а-а…Дача на горе стояла, у самого обрыва, с террасы распахивалось море со своей безудержной переменчивой жизнью, с такими закатами, с таким багряным солнцем в багряных волнах. Два тенора взмывали и опускались, как два крыла, озаренные заходящим солнцем:
И уныло по ро-вно-му по-олю… разли-ва-а-а…А Яша:
…разливается песнь ямщика-а-а-а…Разные были тенора. У отца – глубокий драматический, очень чувственный, у сына – нежный и юный, переливчатый. Пели так только на даче, «на воле», где всё – как бы игра, понарошку, дурачество – лето… (Яша очень застенчивый был мальчик, чужих стеснялся.) Но сила чувств такая, что у обоих потом влажные глаза, и оба их одинаково прячут за небрежной улыбкой. Такая певчая пара была, казалось, тут не только домашнее, теплое, а что-то более глубинное, более мощное… голос рода, что ли… Вот оно, так ясно, так больно: закат, слабый рокот волн из-под обрыва, вспышки маяка вдали, а на террасе – круг желтоватого света от лампы. И два упоительно высоких голоса, взмывающих и парящих, как две чайки – над морем, над степью:
…и замолк мой ямщик, а дорога… предо мной далека, да-а-але-ка-а-а…Эське хотелось написать: «Яшка, возвращайся ты, ради бога, пожалуйста, Яшенька, вернись, мы с папой такие одинокие!» – но она упрямо поправила перед собой листок и продолжила: «Еще у меня появилась ученица. Внучка пристава Жаркова. Девочка, как говорила покойная мама, “запоздалая”, малоспособная, но старательная…»
В окне дома напротив раздернулись малиновые шторы, изнутри толкнули раму, высунулась растрепанная голова одной из «девочек».
– Во денек – шик! – крикнула она куда-то в комнаты. – Просыпайся, Ангеля!
Оттуда невнятно отозвался заспанный голосок, а другой, мужской голос густо прокашлялся и сообщил кому-то невидимому:
– Франца Фердинанда застрелили!
– Которого Фердинанда? Лысого? – донесся снизу, со двора, тонкий – сразу и не разберешь, женский или мужской – голос. – Кельнера с Ланжероновской?
– Та не, прынца венхерского. О тут пишуть: «Одна пуля пробила воротник мундира эрц… эрцхерцоха… и застряла ув позвоночнике. Другая пробила корсет херцохини и застряла ув правом боку. Скончался в беспамятстве».
– А стрелял-то кто?
– Какой-то Хаврила, тоже прынц. Не, Прынцып – то фамилие.
– Жид?
– А я знаю? Пишуть, студент.
– Значит, жид.
Стеша кончила надраивать стекло, ставшее совершенно невидимым, бросила на пол газетные комки и следом спрыгнула сама, в середку солнечной лужи, упруго и весело шлепнув босыми ступнями о паркет.
Эська приподнялась, захлопнула окно и продолжала: «…Девочка старательная, хоть и туповатая, так что в первую голову думаю дать ей упражнения на беглость пальцев».
5
Нет, Яша в то время никак не мог вернуться в родную семью. Яша был страшно занят: он и сам мог бы сыграть одну из главных ролей в киноленте «Большое ограбление поезда», и убедительнейшим образом сыграть, тем более что партнерами в этой умопомрачительной ленте у него были бы самые разные актеры: от Якова Блюмкина с его «железным отрядом революционеров-интернационалистов» до будущего батьки Махно в эпоху его третьего военно-политического соглашения с большевиками.
В Одессу Яша вернулся в незабываемые годы революционного разгула борьбы всех со всеми. Рассорившись и расставшись с другом Блюмкиным, он создал собственную боевую анархистскую дружину, которая входила в подпольный ревком, где каждой твари было по горстке – большевиков, анархистов, левых эсеров.
Вряд ли Эська узнала бы брата, столкнувшись с ним на улице или даже в подворотне собственного дома, где он, к слову сказать, не появился ни разу. Уже в то время он окончательно взял себе солдатскую фамилию деда, Михайлов, и вровень с фамилией полностью поменял облик – заматерел, оброс рыжеватой щетиной, вымахал до отцовской коломенской версты, полностью отринув отцовскую обходительность и щепетильность в вопросах морали. Видимо, Этингерова способность к мимикрии требовала перевоплощений в совсем иных декорациях эпохи.
А на бедность декораций в те годы актерам жаловаться не приходилось – кровавый, долгий, разрушительный шел спектакль: Одесса то становилась «вольным городом», то именовалась «Одесской республикой», то провозглашалась столицей «независимого Юго-Западного края». Казалось, сюда со всей простертой в безумии державы стекались отбросы, чтобы привольно гнить и бродить, вспухая язвами и вонью, изливаясь в Черное море реками крови и гноя. Бушлаты, гимнастерки, седой гармоникой сапоги, на Екатерининской – раздавленное пенсне в двух шагах от перевернутой мужской галоши.
В городе орудовали банды налетчиков и толпы вооруженных дезертиров; через него прокатывались гайдамаки, белые, красные, румыны, французы и сербы. Одних только анархистских союзов, федераций, групп и дружин насчитать можно было с десяток, и всем находилось дело: взорвать типографию, ограбить пакгауз, пристрелить прямо в ателье какого-нибудь фотографа с Большой Арнаутской – «буржуя, зажиревшего на крови рабочего люда».
И тут уж Якову Михайлову с его боевой анархистской дружиной нашлось где развернуться. Он имел разветвленную сеть осведомителей, лично завербовал нескольких офицеров деникинской контрразведки и – артистизм всегда был присущ отпрыскам Дома Этингера – своих ребят посылал на задания в форме Добровольческой армии. Председатель ревкома товарищ Чижов воротил разборчивый нос от дружины Михайлова – его, видите ли, коробила сомнительная репутация этих «ребят», по большей части одесских налетчиков. Зато когда тот же Чижов был арестован контрразведкой – кто выкрал главу ревкома с тюремной баржи в порту? А когда некий Александров, присланный в Одессу из самого ЦК РСДРП(б), сбежал с кассой ревкома – кто выследил и выудил его прямо из ресторации, где вор и предатель гулял с компанией подвыпивших деникинцев? Яков Михайлов, о чьей жестокости ходили невероятные слухи. С провокаторами Яша расправлялся лично, и самые крепкие из его «ребят» предпочитали отлучиться покурить, дабы не слышать, что за звуки извлекает бывший виолончелист из человечьих жил.
17 февраля 1919 года дружина Михайлова взорвала штабной вагон с союзными офицерами. Тут Яша счел разумным исчезнуть и далее всплывал самым неожиданным образом, как поплавок в бурном потоке времени.
Помирившись с Блюмкиным, подался создавать с ним ревкомы на Подолье, возглавлял один из партизанских отрядов в тылу петлюровцев и, в отличие от друга, не попал к ним в лапы, а успел бежать в последнюю секунду, голыми руками задушив несговорчивого путевого обходчика, не пожелавшего отдать беглецу свою кобылу.
* * *
Впервые он дал о себе знать семье в тот вечер, в иллюзионе на Мясоедовской, когда после вечернего сеанса перед Эськой возник и навис над стареньким фортепьяно детина в кожаном плаще, с кенарем Желтухиным в клетке.
– …А заодно привет от брата Яши, – сказал детина. И эти слова оглушили, полоснули и распахнули Эськино сердце, как рану.
Вначале она подумала, что посланник – а детину звали Николай Каблуков (тот самый Каблуков, на чье имя она писала когда-то Яше длинное наивное письмо, оставшееся без ответа) – просто воспользовался родством товарища для личного удобства: может, переночевать надеялся, кто его знает. Однако Эська была весьма строгих понятий: домой привела, чаем, конечно, напоила, а вот ночевать – извините, сказала твердо, это не в моих правилах.
Да и папе, как заметила она едва ли не с порога, гость почему-то не глянулся, хотя от кенаря папа пришел в неописуемый восторг: стал напевать отрывки из арий, пытаясь с ходу научить того сложнейшим модуляциям.
И тут гость, не присаживаясь, не сняв своего бронированного плаща, прочитал целую лекцию (вернее, это была вдохновенная баллада, так вибрировал и вздымался волной его голос) о том, что за диво дивное русская канарейка. «Соловьем разливался», – говорил позже Гаврила Оскарович с усмешкой.
Оказался Николай Каблуков страстным канареечником и дителем – ловцом певчих птиц. Впрочем, и лошадником тоже. У его отца прежде, «до событий», был, оказывается, конезавод. «Между прочим, наши всегда на скачках призы брали; и у вас тут, на ипподроме Новороссийского общества». В лошадях он понимал, любил их самозабвенно – поверите ль, ушел из конной бригады Котовского: не мог видеть, как губили там лошадей.
Стеша накрыла к чаю на ломберном столике в кабинете Гаврилскарыча (большой обеденный стол со стульями, с вензелями «ДЭ» – «Дом Этингера» – в изогнутых высоких спинках, остался в столовой, куда на днях вселилась семья какого-то портового начальника).
За чаем гость говорил много, охотно и вообще чувствовал себя как дома. Стешины знаменитые оладушки уплетал своеобразным способом: брал двумя пальцами целую, складывал вчетверо конвертиком и отправлял в рот, словно письмо опускал в прорезь почтового ящика. Стеша с минуту понаблюдала этот процесс, уважительным взглядом провожая плавное движение щедрой руки. Затем повернулась и отправилась на кухню – жарить следующую порцию.
– Страсть к лошадям – это у нас от предка-цыгана, – продолжал Каблуков. – Не простой был цыган, с тремя фамилиями.
– Следы заметал?.. – заметил Большой Этингер, со значением бросив на дочь свой говорящий «таранный» взгляд.
Эське же немедленно пришло в голову, что в ее семье тоже знают толк в смене имен, и она поспешила сойти со скользкой темы.
– А он заговорит? В смысле – птичка? – и кивнула на клетку с кенарем, который все прыгал и глазиком постреливал; и смутилась от того, как насмешливо, как ласково-снисходительно поглядел на нее Николай.
– Нет, – ответил он. – Увы, кенари поют, и этого вполне достаточно. Бывали случаи, когда они перенимали пару слов с хозяйского голоса, но это должен быть особый голос, чьи вибрации совпадают с птичьими.
– Такой? – спросил папа, глубоко вдохнул и легко взял самую высокую свою ноту, и держал ее так долго и привольно, слегка улыбаясь глазами, развернув кисть правой руки ладонью вверх, приглашая гостя взять еще оладушку, что тот даже рот разинул, будто примеривался ноту подхватить и проглотить. А Желтухин – тот страшно взволновался и пронзительно запищал, раскачивая клетку. Тогда папа, наконец, шумно выдохнул – как затекшую ногу переменил, – и все рассмеялись.
Но уже в тот первый вечер между отцом и Николаем Каблуковым произошла тяжелая сцена, которую и вспоминать не хочется: все дело в Яше, в его наглом поручении.
Каблуков называл его «деликатным», видимо, чуял, что миссия не из простых, дело семейное… И как на грех, вначале случилась еще одна заминка: гость достал из нагрудного кармана френча и торжественно выложил на скатерть монету – тот самый памятный белый червонец, который Яша прихватил, покидая отчий кров через окно кухни. Странный парламентер, он будто предъявлял монету вместо белого флага. Гаврила Оскарович нахмурился, усмехнулся и промолчал. На червонец не глянул. И гостю при такой реакции хозяина помолчать бы, погодить с дальнейшим поручением. Но тот не разбирал хозяйских настроений – человек сторонний, далекий от привычек и привязанностей Дома Этингера. Долил себе чаю из чайника, отправил за щеку целую сушку и, посасывая ее, невозмутимо продолжал с оттопыренной щекой.
Речь шла о трех книгах из семейной библиотеки – той, что положил начало еще старый кантонист, а продолжил собирать Гаврила Оскарович. Собрание было не так чтоб очень обширным, но отборным, большей частью музыкального толка: старинные клавиры, книги по композиции, по истории музыки, биографии великих исполнителей. Каждый фолиант помечен фамильным экслибрисом: могучий встрепанный лев, чем-то напоминавший юного Гаврилу Оскаровича, с лапой на полковом барабане, а на том раструбом вниз – полковая труба. И просторной аркой над ними буквы-кубики: «Дом Этингера».
Было и несколько ценных еврейских книг. А три среди них – прямо жемчужины: «Карта Святой земли», составленная Якобом Тиринусом и изданная в Антверпене в 1632 году, Пармский Псалтирь XIII века и редчайшая редкость, гордость коллекции старого солдата – книга неизвестного автора с забавным названием «Несколько наблюдений за певчими птичками, что приносят молитве благость и райскую сладость», причем название напечатано по-русски, но сам текст внутри – на святом языке. Весь изюм, однако, не в названии сидел, а в том, где книга напечатана: в личной типографии полоумного графа Игнация Сцибор-Мархоцкого – того вольнодумца, что еще в XVIII веке провозгласил в своих владениях на Подолии республику, чеканил собственные деньги, отпустил на волю всех своих крепостных и учредил у себя полную свободу всех верований. По свидетельству потрясенных современников, он разгуливал, облаченный в белую тогу, с венком на голове, и поклонялся богине плодородия Церере. А в домашней типографии печатал самые диковинные фолианты – в том числе вот и еврейские.
Эти-то бесценные книги и попросил у отца через своего порученца (скажем точнее, затребовал – просить он давно разучился) большой чекистский начальник Яков Михайлов.
Гаврила Оскарович пришел в неописуемую ярость.
– Что?! – крикнул он шепотом. – Ему наследства… наследства ему захотелось?! Да я ради образования своей прекрасной, своей наиталантливейшей… я… я их ради дочери не продал!!! Передайте этому негодяю!.. да нет, что там!..
Схватил червонец со стола и швырнул на пол, под ноги гостю. Вскочил и выбежал вон из комнаты, хлопнув дверью и топая так, что взволновалась и долго укоризненно качала подвесками любимая Дорина люстра.
Словом, чай тихонько допивали Эська с гостем вдвоем, если не считать Стеши, которая появлялась, чтобы добавить еще два-три кусочка колотого сахару на блюдечке (драгоценность!) или поспевшие оладушки. Она всегда, даже в голодное время, ухитрялась мастерить эти оладушки из самого бросового продукта, вперемешку с давлеными сухарями, а получалось восхитительно вкусно.
Каблуков же невозмутимо поднял червонец с полу и как ни в чем не бывало положил обратно в карман: мол, что ж поделать – на нет и суда нет, подберу-ка, чтоб не валялся. И сунул за щеку очередную сушку.
Так что, несмотря на душевный вечер, несмотря на жалостную и упоительную песнь кенаря про «стаканчики граненыя», Эська вскоре выпроводила гостя на ночь глядя, с наилучшими пожеланиями.
Но Николай Каблуков никуда не уехал, а наоборот, стал ежедневно приходить в иллюзион на последний сеанс, дожидаясь Эськи. Очень полюбил «Полонез» Огинского, и если стремительное действие фильмы не подходило под благородную польскую грусть милой его сердцу пьесы, Эська потом специально для него исполняла «Полонез» раза три подряд, в романтически пустом темном зале.
Они гуляли допоздна, чуть не всю ночь. На трамвае добирались до дачи Дунина, где с верхней площадки во весь дивный размах открывалась алмазная зыбь гаснущего моря, широкий угольно-малиновый закат. Вблизи у берега сновали лодки с рыбаками; подальше, волоча за собой четкий пенный след, проходил пароход какой-нибудь аккерманской или херсонской линии, а совсем вдали, на меркнущем сизокрылом горизонте восходил дымок парохода или призрачной бабочкой повисал парус каботажного судна.
От дачи Дунина брели по берегу до Аркадии. Шли мимо «скалок» – пластов рыжего ракушняка, источенного прибоем, обросшего водорослями, с бесчисленными пещерками – укрытиями рачков и крабов. Над волнорезами вскипали барашки легких бурунов; рыбья чешуя луны с наступлением темноты проблескивала в беспокойной волне.
Желтые всполохи маяка на Большом Фонтане равномерно обжигали черное глубокое тело воды, а в туманную ночь пронзительно кричала паровая сирена.
Николай скупо рассказывал про Яшу – в основном героические эпизоды, понимая, что сестре, да еще музыкантше, не стоит вываливать всей мужской революционной правды о брате.
Однажды – они гуляли на Приморском бульваре, где чуть не из-под ног стрижами вычиркивали мальчишки-разносчики с криками: «“Одесский листок”!», «“Одесская почта”!», «Требуйте свежую “Почту”!» – и на каждом шагу попадались лавки менял, а буфеты шли один за другим, и всюду торговали пампушками и булочками, – она спросила:
– А вы, Николай? Почему остаетесь здесь, а не возвращаетесь к Яше?
Он улыбнулся и с ответом замешкался, и на мгновенье она вообразила, что он выдохнет сейчас – из-за вас, мол, Эсфирь Гавриловна (позже, вспоминая эти дни и замкнутую улыбку в его на первый взгляд простодушных глазах, не могла простить себе доверчивой глупости).
Он сказал:
– Вы когда-нибудь вслушивались в птичий говор? Вон, голубки: они всегда начинают открытым звуком, а в конце проборматывают, заминают: «Якакразоттуда… якакразоттуда…» – И легко, но серьезно пояснил, и она видела, что он искренен: – Я, знаете ли, человек бездумный, бездомный, необязательный. Люблю сняться с места – вдруг; сам потом не знаю – что меня подняло. Проснусь утром и думаю – да что эт я тут задержался? скорей полечу-к дальше. Это от моего промысла такое беспокойство, понимаете? Я ведь – дитель, лошадник и зверолов. – И снова улыбнулся абсолютно невиноватой улыбкой и стал рассказывать, как пасутся в мглистых потемках луга расседланные кони, позвякивая и мерно шурша травой, – с таким влюбленным лицом, что становилось ясно: никакой невесты ему не нужно.
Была в этом великане, при всей угрожающей стати и грубоватых чертах лица, неожиданная птичья легкость в повадке и птичья нежность: в разговоре, в телодвижениях. Несмотря на военный прикид и даже маузер в деревянном ящике-прикладе под полой, он казался человеком из какого-то иного мира, не связанного с миром окрестным, насильственным, ежедневно предъявляющим права на твою душу и жизнь. Вдруг озадачивал каким-нибудь неожиданным наблюдением: уверял, что в Одессе выразительные водосточные трубы – смотрите-ка, вон одна, суставчатая, с обломком, и тот приставлен, как протез к колену. А та вон – как штанина, смятая в «гармошку».
Он ей нравился. Особенно в этом длинном плаще, что придавал ему полководческий вид: два ряда пуговиц, карманы-прорези, кожаный пояс с пряжкой и большой воротник под горло.
Однажды затащил ее в фотографию и уговорил сняться на карточку – а ведь она терпеть не могла всех этих ненатуральных поз! В центре большой пыльной студии громоздился желто-лиловый фанерный утес с проросшей у подножия пенной грядкой морского прибоя; над ним в полутьме что-то попискивало. Подняв головы, они обнаружили под потолком клетку со скучавшим кенарем. Николай умилился, потребовал клетку снять и за три минуты каким-то чудом – легкими нежно-вопросительными свистками – кенаря «разговорил». И упросил Эську сняться вместе с птичкой. Сетовал только, что это не великий маэстро Желтухин, а посторонний заурядный певец. Но девушка улыбнулась и ласково потянулась губами к птичке. Так карточка и вышла – ужасно манерная. Эська даже огорчилась: этакое дурновкусие!
– Хотите – забирайте ее себе, – сказала ему. Он и забрал.
Прижал к губам эту глупую карточку и положил в один из карманов бездонного своего плаща.
Она уже позволяла ему себя целовать – целовал он осторожно, будто прикасался к птенцу; звал ее уменьшительными именами смешным умиленным голосом. Перебирая ее пальцы, лежащие в его огромной ладони, изумленно растягивая:
– Па-а-альчики… – и, опуская глаза на крошечные и вправду обольстительно маленькие ее ступни в мальчиковых ботинках: – Но-о-ож-ки.
Тогда она, сердясь и смеясь, сильно стискивала его ладонь, а он притворно ойкал.
– Я – пианистка, – удовлетворенная экзекуцией, объясняла Эська. – У пианистов руки, как у борцов.
И уже волновалась, когда к концу последнего сеанса не видела в зале высоченной, как башня, фигуры, отбрасывающей на экран угрожающую тень.
Понимала, что все стремительно катится к чему-то банальному, но такому остро-счастливому, с прерывистым дыханием, со слезами в горле.
…пока однажды днем в перерыве между сеансами не выскочила из иллюзиона купить у торговки пирожков «на перекус» – и вдруг не увидела этих двоих. Поначалу решила – вздор, случайность, глупое совпадение. Но уже знакомая ей слитность фигур (что это было давно-давно? – ах да, папа когда-то, в ее детстве, с некой прильнувшей к нему дамой, так очевидно прильнувшей, что – гимназистка, соплячка – Эська все поняла).
Они оказались замечательной парой, и заметно было, что гуляют не впервые: Николай Каблуков, дитель и лошадник, и рослая Стеша с платиновым блеском в промытых косах и таким белокожим лицом, такими наивно-победными карими глазами, что Эська, впервые увидев ее на улице со стороны, только ахнула: Стеша-то у нас – красавица!
Вот только не стоило ей тащить концертную юбку из «венского гардероба»: шикарно просторная на Эське, с вихревым шелковым шелестом, юбка Стеше была и коротка, и тесна, а крепкие и набрякшие Стешины щиколотки явно стоило прикрывать. К тому же стеклярус по подолу, благородно праздничный под концертными огнями, так дешево и плоско блестел на полуденном солнце.
Оставив торговке кулек с пирожками, Эська спокойно и решительно двинулась к ним наискосок через площадь. Увидев ее, Стеша окаменела, забыв вынуть руку из-под локтя дителя. У него же в бровях возник некий птичий переполох. Наверное, мелькнуло у Эськи, голубчики сочли, что трудолюбивая малютка наяривает амурскую волну, не поднимая зада.
Ну что ж: вечерняя возлюбленная всегда романтичнее дневной.
– А ну, снимай! – тихо приказала Эська. – Снимай мою юбку!
Сказала просто так, чтоб оконфузить, – ну не стала бы она, в самом деле, позорить эту дуреху посреди улицы. Но запоздалая Стеша, всегда странно почтительная к «барышне», побледнела дивной сметанной бледностью и принялась обреченно стаскивать с крепких ляжек тесную ей юбку.
– Дура! – крикнула Эська, залившись краской, не глядя на Каблукова, щебечущего какой-то вздор. Впервые в жизни она так грубо обращалась со Стешей. – Иди домой, дура!
И не оглядываясь на этих двоих, не обращая внимания на вопли торговки, скрылась в дверях иллюзиона: любовь-морковь, а через пять минут начинался сеанс. «Трансвааль, Трансвааль, страна моя, ты вся горишь в огне».
* * *
…А Яша в те годы уже перебрался в Москву, поближе к чудесно воскресшему (переломанному, но недобитому петлюровцами) Блюмкину. Тот взорлил неожиданно и пугающе ярко: из эсера и анархиста – прямиком в начальники личной охраны и в секретари самого наркомвоенмора Льва Давидовича Троцкого! Приобрел столичный лоск Яков Григорьевич, оброс приятелями из артистической среды, сам, говорят, стишки пописывал, актрискам посвящал. Как-то успевал на всех фронтах – атлет, кутила и деляга, искусный надувала, неуловимый разведчик, беспощадной жестокости чекист, звезда московской богемы.
Но главное, там, в ВЧК, Блюмкин создал новый отдел – иностранный, внешней разведки, по сути – первую советскую шпионскую сеть за границей, и, едва добравшись до Москвы, Яша немедленно и жарко ворвался в вихрь этих лет: какое-то время крутился на орбите Блюмкина, даже уходил с ним в Персию, где под видом двух дервишей за четыре месяца они подготовили революцию в северных провинциях, свергли мятежного шаха и сколотили из сомнительных отбросов компартию, попутно провозгласив Гилянскую советскую республику.
Вообще, в те годы Яша редко наведывался в Россию. Его немецкий и французский (ау, милая старая кляча Ада Яновна Рипс!) отдавали простецкой прямотой, отличавшей незамысловатый люд. Так что, устраиваясь механиком в какую-нибудь берлинскую автомастерскую или шофером в текстильную фирму в Цюрихе, Яша всюду выглядел уместно и органично. Как говорила покойная Дора – «за словом в карман не лез».
…Три дедовых книги, изобретательно добытых Николаем Каблуковым из кабинета отца при помощи Стеши, Яша вовсе не считал наследством. Наследство – любое – он презирал, в старинных манускриптах большого толку не видел. Эта, по его мнению, местечковая ветошь, эта допотопная рухлядь (а похожие книги собирали товарищи по всей России, потроша синагоги, наведываясь даже в закрытые фонды Государственной библиотеки) должна была послужить наиважнейшему делу: по заданию начальника ИНО ОГПУ Меира Трилиссера Яков Блюмкин был заброшен в Палестину под именем Якуба Султан-заде, торговца еврейскими древностями. Приторговывая антиквариатом, он в короткий срок должен был создать большую разведывательную сеть и боевое диверсионное подразделение: молодая и цепкая советская власть намеревалась хорошенько потрепать англичан на Ближнем Востоке.
Какое-то время Трилиссер – а он предпочитал Якова Михайлова «этому трепачу и позеру» Блюмкину – склонялся отправить их в Палестину вдвоем, дабы Яша за Блюмкиным приглядывал. Но Михайлов вовремя учуял опасность и выкрутился: мол, ни иврита, ни арабского, ни фарси, на которых бегло говорил полиглот Блюмкин, он не знает; может провалить дело.
К тому времени, побывав с Блюмкиным в Монголии, где они помогали тамошним товарищам устанавливать советскую власть, Яша насмотрелся на выкрутасы дружка юности (без выпивки и наркотиков, к которым пристрастился в Афганистане, тот и дня не начинал) и вовремя отшатнулся. В отличие от хвастливого и упоенного собой Блюмкина, был Яков Михайлов угрюм и молчалив, взвешивал каждое слово, близкими приятелями и длительными сердечными связями не обзаводился. И после безобразной новогодней вечеринки в ЦК монгольской компартии, где перепивший Блюмкин блевал на портрет Ильича и призывал местных коммунистов пить за Одессу-маму, тем же вечером написал обстоятельное письмо Трилиссеру: подстраховался.
Яшу явно хранила судьба: очень вовремя он это письмо отправил и вовремя вновь расстался с другом мятежной юности – как раз перед поездкой того в Константинополь, перед его оплошной встречей с изгнанником Троцким.
Так что последующий арест Блюмкина и неожиданный, ошеломивший многих чекистов его расстрел («А ушел красиво, – одобрительно крякнув, рассказывал Яше один из исполнителей. – “Стреляйте, – кричал, – ребята, в мировую революцию!”») Михайлова не затронули ни в малейшей степени. Но многому научили. И в дальнейшем он мудро предпочитал заграничные командировки высоким назначениям в аппарате ГРУ.
И все же это изрядное чудо или просто Этингерова звезда, что Яков Михайлов уцелел аж до конца 40-го – и это в кровавых-то чистках, следовавших волна за волной, в калейдоскопической смене аппарата разведчиков! Возможно, высокое качество добываемой им секретной информации удерживало Центр от последнего шага. Во всяком случае, к тому времени уже были вызваны в Москву и ликвидированы большинство нелегальных резидентов, от которых и через которых шла информация о подготовке Германии к войне. Когда же Михайлов получил приказ срочно вернуться «домой», он недели три еще отбрехивался телеграммами о «чрезвычайной загруженности». Хотя уже прекрасно все понимал.
Спустя столько лет этот волк, гонимый тревожной памятью и обреченным предчувствием конца, решился напоследок повидать семью. Хотя от семьи в те годы остались Гаврила Оскарович, Городской Тенор, да Стеша, запоздалая голова.
Алексей Варламов Чистая Муся
Мусин отец Анемподист Тихонович Опарин был в Кашине личностью примечательной. По роду своей деятельности он ведал хлебной торговлей, сочетая при этом трезвый расчет с истинно российской страстью пускать пыль в глаза. Самодурство его доходило до такой степени, что в свое время он задумал покрыть только что построенный дом в центре города чистым золотом, для чего написал особое прошение в Петербург, но получил отказ. Это его не охладило, но весьма настроило против него кашинских обывателей. В семнадцатом году, когда купца лишили всех его богатств, многие испытали мстительное чувство удовлетворения, хотя хозяйственная жизнь в городе замерла, остановленная, как часы. Сам Анемподист Тихонович этого грабежа не перенес и умер от удара, оставив свою единственную дочь расплачиваться по его долгам.
Из особняка с мраморными лестницами и лепными карнизами, отданного под уездЧК, Мусю выселили и взамен дали крохотную комнатушку в бывшем странноприимном доме, построенном ее же батюшкой. Впрочем, этого уже никто не помнил, зато хорошо помнили пьяные кутежи и лихую купеческую тройку, не разбиравшую дороги. Мусе не могли простить того, что еще год назад перед ее отцом все ломали шапку, а теперь узнававшие ее в голодных очередях женщины смеялись над ней, отталкивали и плевались вслед, словно почитая виновной в нынешней разрухе. Муся сносила все плевки и унижения молча, продавала немногое, что осталось у нее из вещей, и вскоре кашинцы потеряли к ней интерес и привыкли к тому, что самая богатая некогда невеста работает на телеграфе.
Муся жила уединенно и тихо, посещала политзанятия, откладывала из своего скудного заработка на кинематограф и ничем не отличалась от обыкновенной служащей. Однако, несмотря на полную лояльность к новым властям, избирательного права купеческую дочь лишили. Бог знает отчего, но это обстоятельство девушку потрясло. Легко смирившаяся с тем, что ее ограбили и выкинули на улицу, она не могла снести этой последней несправедливости и стала ходить по советским учреждениям, добиваясь того, чтобы ей разрешили голосовать.
Ей всюду отказывали, но она не сдавалась, и тогда Мусю вызвали в дом, где прошло ее детство, и бывший кашинский аптекарь Давид Маркович Коган грозно спросил, с какой целью она мутит воду и отвлекает занятых людей по пустякам.
– Это не пустяки, – возразила Муся, но Давид Маркович велел ей сидеть тихо и пригрозил, что применит всю строгость революционного закона, буде она вздумает куда-либо еще обращаться.
Муся вышла из отчего дома не помня себя. Страшные мысли приходили ей в голову, и сама жизнь казалась невыносимой. На работе она была невнимательна и еле сдерживалась, чтобы не расплакаться. Но вдруг чей-то спокойный и ласковый голос, от какого Муся уже давно отвыкла, произнес:
– Не волнуйтесь вы так, милая барышня.
Девушка подняла голову и увидела мужчину лет тридцати. Он был одет очень просто, но Мусин глаз заметил странное несоответствие между одеждой незнакомца и его внешностью.
– У вас что-то случилось? – спросил он мягко.
Муся кивнула и расплакалась.
– Послушайте, – сказал он, наклонившись к ней, – почта уже закрывается, давайте я вас провожу.
Муся сама не могла понять, почему вдруг доверилась этому человеку и дорогой рассказала ему о своем несчастье.
Он слушал ее очень внимательно, и его лицо выражало недоумение и печаль. А Муся была благодарна своему провожатому за то, что в этот вечер оказалась не одна. На следующий день мужчина пришел на почту снова и принес Мусе цветы. Однако она о нем так почти ничего и не узнала, кроме того, что приезжий и зовут его Сергеем Александровичем.
Некоторое время спустя он уехал, пообещав вскоре дать о себе знать. Муся ждала его с обычным девичьим волнением, но ни самого Сергея Александровича, ни вестей от него не было. Он приехал только через полгода, исхудавший, бледный, со следами недавно перенесенной болезни, но с такой же нежностью в глазах. Муся всплеснула руками и, уже ни о чем не думая, привела его к себе.
В комнатке с купеческими шторами и зеркалом – единственным, что не продала она из прежних вещей – было уютно и тепло, лицо молодой хозяйки светилось радостью, и Сергей Александрович, откинувшись в кресле, вдруг тихо проговорил:
– Вы удивительная девушка, Мария Анемподистовна. На вас глядя, можно подумать, что ничего страшного, но если только не считать того, что вас лишили избирательного права, не произошло. Неужели вам не жаль той жизни?
– Нет, – ответила Муся, – я никому не обязана теперь, свободна…
– Свободны? – воскликнул он. – И вы можете это говорить?
– Да, – сказала Муся и опустила голову. – Батюшка мой был человек суровый, и хоть грех так думать, но с его смертью я вздохнула легче. А что до денег, то с меня довольно и того, что я зарабатываю.
Сергей Александрович хотел было что-то возразить, но потом тихо проговорил:
– Не знаю, может быть, вы правы. Но я в этой стране после того, что здесь случилось, жить не могу. И ни в какой другой тоже не могу, – добавил он задумчиво и вдруг улыбнулся какой-то детской улыбкой. – А вот у вас так хорошо, что и уходить никуда не хочется.
– А вы не уходите, – сказала Муся и покраснела.
– Я не смею этого сделать, – отозвался он печально, – потому что боюсь подвергнуть вас опасности лишиться не только избирательного права, но и всех других.
Муся вспомнила суровое лицо аптекаря, ей стало страшно, но быстро и глядя куда-то в сторону, она произнесла:
– Все равно. Это не важно.
Через месяц Муся и Сергей Александрович поженились. У него было немного денег, и они купили отдельный домик с небольшим садом на окраине Кашина. Муся была счастлива и, даже вспоминая былую роскошь, не чувствовала себя такой богатой, как теперь, когда у них появилась эта лачужка с куском земли.
Они жили покойно и мирно, выращивали в саду цветы, читали книги и гуляли вечерами вдоль речки Кашинки, и однажды, сидя на террасе и глядя на предзакатный городок с молчаливыми поредевшими церквами, Сергей Александрович задумчиво произнес:
– Странно, но люди так же живут, женятся, рожают детей и умирают, и никому нет дела, какая над нами власть. И мне, в сущности, тоже.
Муся улыбнулась и промолчала.
Так прошло несколько лет. Сергей Александрович располнел, отпустил бородку и вступил в профсоюз. Он все меньше язвил, читая советские газеты, и казалось, ничто не предвещало беды, но однажды в их дом постучался незнакомый Мусе человек.
Он выглядел так, как несколько лет назад ее муж: под обыкновенной одеждой чувствовалась офицерская выправка, и глаза глядели настороженно и хмуро. Увидев его, Сергей Александрович побледнел. Мужчины прошли в комнату, и, стоя возле двери, Муся слышала, как пришелец объявил о готовящемся выступлении. Сергей Александрович сперва молчал, а потом стал говорить, что всякая борьба давно уже бесполезна. Гость возражал и обвинял бывшего товарища в трусости. Потом в комнате раздался звук пощечины, и незнакомец вышел, не глядя на Мусю.
– Кто это? – спросила она с упавшим сердцем.
– Сильвио, – криво улыбнулся муж, но глаза его остались неподвижными.
– Он больше не придет? – произнесла Муся со страхом.
– Нет, – покачал головой Сергей Александрович, и Муся облегченно вздохнула.
Однако радость ее была преждевременной. День ото дня муж становился все более мрачным, курил и ворочался без сна, а потом объявил, что должен на время уехать.
– Куда? – спросила Муся, и все оборвалось у нее внутри от страшной догадки.
Он ничего не ответил, но у него вдруг дернулась щека, и Муся поняла, что все ее мольбы будут напрасными: ее муж снова превратился в оскорбленного дворянина, для которого не было ничего важнее собственной чести.
Месяц спустя Муся прочитала в газете, что в Москве раскрыт контрреволюционный заговор. Все его участники предстали перед трибуналом и были расстреляны. В их числе был ее муж.
Саму Мусю почему-то не тронули, но она об этом не задумывалась. Горе ее было так ужасно, что она не могла ни о чем думать и даже не пыталась понять, справедливо или несправедливо поступили с ее мужем. Вопрос этот был столь же нелепым, как если бы он попал под поезд или умер от внезапной болезни. Но ни зла, ни обиды в Мусином сердце не появилось.
Внешне ее жизнь изменилась мало. Она по-прежнему ходила на службу, отдавала, как и все трудящиеся, треть зарплаты на заем, но единственное утешение находила теперь в цветах, заменивших ей все прежние радости и живо напоминавших о счастливых днях, проведенных с Сергеем Александровичем.
Одному Богу известно, какие секреты знала несчастная женщина, но таких удивительных фиалок, анютиных глазок, пионов и георгинов ни у кого в Кашине не было. Каждое утро, просыпаясь, Муся первым делом шла в сад разговаривать с цветами. Она рассказывала им обо всех мелочах, жаловалась и просила совета, и постепенно боль в ее сердце стала утихать. Муся привыкла к тому, к чему, казалось ей, привыкнуть она никогда не сможет.
Не могла она смириться только с тем, что лишена возможности навестить могилу мужа, точно так же, как по-прежнему лишена права голоса, и два эти лишения странным образом слились в ее сознании в одно. Однако настаивать на их отмене Муся не смела: покойный муж своим ужасным деянием стоял между нею и всем миром, и Муся со смирением несла свой крест, надеясь на лучшую участь.
И наступил год, когда великодушная власть простила и признала всех своих подданных независимо от того, кем были они или их родственники в прежней жизни, и дала каждому священное право голоса. Узнав об этом, Муся заплакала. В ее застывшей душе шевельнулось чувство, похожее на то, что она испытывала к отцу в те редкие минуты, когда он ее ласкал. Повинуясь этому безотчетному порыву, забыв о совете мудрого, хоть и тоже не уберегшегося Давида Марковича не тревожить собою занятых людей, Муся написала в Москву письмо, умоляя сказать ей, где похоронен ее несчастный, заблуждавшийся муж.
Две недели спустя воронок с зарешеченными окнами, каждый день объезжавший безмолвный город, остановился возле цветущего сада на окраине, и Мусю увезли мимо поникших от утренников георгинов, так и не дав ей проголосовать.
Цветы в саду первые годы еще цвели, но постепенно они заросли бурьяном, потом началась война, дом обветшал, и покупателя на него не нашлось. Лишь много лет спустя в нем поселилась какая-то старуха. Грубыми, несгибающимися пальцами она вырвала все сорняки, засадила участок картошкой, кое-как залатала крышу и зажила обыкновенной жизнью одинокого, никому не нужного человека.
Но открылось вдруг одно странное обстоятельство, понять которое никто не мог. В дни выборов, когда кашинцы отправлялись голосовать, а заодно купить по случаю пряников или конфет, на старуху нападала тоска. Она забивалась в темную комнату, весь день никуда не выходила и голосовать категорически отказывалась. Одно время ей приносили урну на дом, просили опустить бюллетень, убеждали и даже пытались пригрозить, что лишат пенсии и отнимут дом. Старуха бледнела, сжималась в комок, но не то с печалью, не то с какой-то затаенной гордостью говорила, что она лишенка, и в конце концов ее оставили в покое.
Андрей Геласимов Либретто
Около полуночи швейцар отеля «Лотти» заметил на противоположном тротуаре дохлую крысу. Согласно его убеждениям ветерана и скромного человека, всю жизнь прожившего в квартале Менильмонтан, площадь Вандом и рю де Кастильон были совсем не тем местом, где парижские крысы могли позволить себе вот так бесцеремонно валяться, неважно – в дохлом или живом виде. Возмущенный швейцар покинул свой пост, где он любил топтаться на мраморном изображении льва, пересек улицу и склонился над тем, что он принял за несчастную мертвую тварь. Однако толком рассмотреть он ничего не успел. Дверь гостиницы хлопнула, швейцар выпрямился, но посетитель, которому он, вопреки своим священным обязанностям, не открыл дверь, уже поднимался по лестнице.
Портье, подсказавший позднему гостю номер нужной ему комнаты, безошибочно определил в нем русского офицера. Такие шинели и знаки отличия он видел летом 1916-го в Шампани, где два года спустя во время наступления в Аргонском лесу потерял правый глаз. Русский задержал взгляд на его черной повязке, коротко поблагодарил, а затем поднялся на второй этаж. Пройдя по роскошному коридору, он постучал в указанную ему дверь, куда был немедленно впущен, несмотря на неурочное время.
Там он пробыл ровно до четырех утра. За это время в номер дважды заказывали сельтерскую воду и крепкий чай. Пожилой австриец, бывший при постояльцах номера в услужении, просил горничную особенно проследить за тем, чтобы чай был заварен крепко. В самом начале пятого ночной гость прошел мимо портье, коротко кивнув ему на прощание, а затем растворился в моросящем дожде за стеклом и позолотой массивных дверей. В номере, откуда он вышел, спать в эту ночь никто уже так и не лег. Дежурный стюард, обычно загруженный работой только в первую половину ночи, вынужден был три раза подниматься со своей раскладной кровати, чтобы сменить у русских постояльцев переполненную пепельницу, открыть большое окно и достать завалившуюся за туалетный столик рубиновую запонку. Всякий раз, когда он входил, разговор в номере прекращался, и оба собеседника – маленькая хрупкая женщина с темными глазами, не поднимавшаяся из глубокого кресла, и напряженно стоявший посреди комнаты мужчина с высоким лбом и густыми усами – отводили взгляд в сторону, как будто им не хотелось смотреть друг на друга и присутствие постороннего человека наконец позволяло им освободиться от этой тяжкой обязанности.
Вышедший утром на свою смену шофер отеля подал старомодный «Сизер-Нодэн» к подъезду ровно в семь, как ему и было предписано, однако пассажиры спустились из номера лишь в половине восьмого. За эти тридцать минут водитель успел вздремнуть, как привык делать это в окопах, и даже увидеть короткий сон, который с упорной периодичностью беспокоил его последние пять лет. Ему снилась удивительной красоты девушка из батальона снабжения Алжирской дивизии, прибывшей под Ипр накануне газовой атаки немцев. Во сне эта девушка успевала сказать ему свое имя и всегда оставалась живой, жалуясь лишь на то, что в Бельгии весной очень холодно.
По дороге в Венсенский лес бледные от бессонной ночи пассажиры молчали, глядя каждый в свое окно, и только однажды мужчина с густыми усами посетовал вслух на то, что водитель часто кашляет и как-то странно сипит. Впрочем, сказал он об этом по-русски, и шофер не обратил на его слова никакого внимания. Женщина с темными глазами тоже ничего не ответила своему спутнику. Она пристально смотрела на проплывавшую в этот момент мимо них за пеленою дождя башню Лионского вокзала, как будто пыталась прочесть на ее циферблате чью-то судьбу.
В большом деревянном ангаре, рядом с которым остановилось авто, эту бледную пару ждали три человека. Хмурый юноша с изможденным еврейским лицом наигрывал на фортепьяно фокстроты, беспрестанно переходя с одной мелодии на другую. Коротко остриженная девушка в старом и явно чужом пальто время от времени поднималась со своего стула, чтобы сделать несколько танцевальных движений. Она вставала, когда музыка начинала особенно нравиться ей и когда она точно знала, как хороша она будет в этих движениях. Потом девушка снова садилась, продолжая курить и щурить свои широко расставленные, как у черепашки, глаза. Небольшой, аккуратно одетый толстячок нервно расхаживал вокруг инструмента и безостановочно говорил по-русски, убеждая юношу в том, что тот – гений, что синематограф – это ключ ко всему и что не стоит обижаться на аристократов за пустячное опоздание. Когда юноша хлопнул крышкой, объявив о своем уходе, дверь скрипнула и в ангар, шелестя платьем, вошла приехавшая в авто женщина. Секунду она помедлила на пороге, чтобы привыкнуть к темноте, а затем ровным красивым шагом направилась к просиявшему толстячку, который тут же бросился ей навстречу. Ее спутник тоже вошел в ангар, но остановился у самого входа.
Исполнив на бегу странное подобие танца, толстячок жарко расцеловал маленькой даме обе руки и в полном восторге обернулся к хмурому юноше.
«Они приехали! – закричал он по-французски. – Вот видите! А вы не верили».
Дама приблизилась к юноше, глядя ему прямо в лицо, в то время как толстячок у нее за спиной уже торопился представить их друг другу.
«Матильда Кшесинская! – торжественно и нелепо прокричал он. – Димитрий Кирсанов!»
Юноша слегка поморщился от его резкого голоса и протянул руку.
«Простите за опоздание, – сказала Кшесинская, протягивая свою. – Сегодня ночью мы получили тяжелые известия из России… Андрей Владимирович вообще настаивал на том, чтобы никуда не ехать».
Она обернулась и посмотрела в ту сторону, где, скрестив на груди руки, стоял ее спутник.
«Но я обещала. Поэтому мы здесь».
Кшесинская обвела взглядом пустынное помещение. Единственная горевшая лампа висела на длинном проводе прямо над фортепьяно, а все остальное пространство за конусом света лишь угадывалось в холодной и гулкой полутьме.
«Вы здесь будете ставить свой фильм?»
Толстячок тут же вмешался, уничиженно и предсказуемо распинаясь о том, что великая балерина, конечно, привыкла к другим сценам, но Кшесинская не сразу ответила ему. Она взошла на небольшой подиум, зябко поежилась в мертвом электрическом свете и остановила наконец излияния толстячка, подняв маленькую ладонь в серой перчатке.
«Поверьте, мне совершенно все равно, что вы думаете о моих привычках. Давайте перейдем к делу. Вы хотели поставить фильм об одном из моих балетов, и я обещала принять решение – какой именно это будет балет. Однако сегодня ночью многое изменилось. Многое утратило всякий смысл. И старые балеты, мне кажется, в том числе. К чему заниматься новым и дерзким искусством, опираясь на устаревшие образцы? Позвольте мне рассказать вам балет будущего, по сравнению с которым эксперименты Нижинского покажутся публике детской забавой».
Юноша, внимавший балерине все с большим волнением, прервал ее речь аплодисментами.
«Я вижу, господин режиссер меня вполне поддерживает, – улыбнулась Кшесинская. – Значит, сегодня я, а не Миша Фокин буду вашей новой Шехерезадой. И впереди у нас еще одна ночь».
Она отошла от края невысокой сцены чуть вглубь, как будто приглашала своих слушателей последовать за нею, затем обвела пространство вокруг себя завораживающим плавным жестом и заговорила уже без остановок.
«Представьте, что мы на школьном дворе. Школа небольшая, одноэтажная. Сейчас поздний вечер. Вот здесь, посреди двора, стоят четыре подводы. На одной из них несколько человек в солдатских шинелях. На коленях у них – оружие. Еще несколько солдат стоят рядом с крыльцом школы. В окнах мелькает свет керосиновых ламп и тревожные тени. В отсветах большого костра, который горит примерно вот здесь, невысокий человек в штатском и в пенсне что-то счищает щепкой со своего ботинка. С крыльца школы торопливо сбегает молодой человек. Это начальник охраны, или центурион, как хотите. На ходу натягивая шинель, он приближается к человеку со щепкой и сообщает о том, что узники уже собрались. Но человек в пенсне не обращает на его слова никакого внимания. Он продолжает счищать что-то, налипшее на его ботинки. Из школы выходят два солдата с большими зажженными лампами в руках. Такие бывают, знаете, у путейцев, когда они осматривают вагоны по ночам. Следом за ними показывается первый узник. Назовем его «князь», или нет – пусть это будет «Сергей». Он одет в светлое летнее пальто, в руках у него дорожный саквояж, на голове элегантная шляпа. За ним на крыльцо выходят еще несколько узников, среди которых мы видим двух женщин в монашеском одеянии. Все они держат в руках дорожные сумки. Человек в пенсне, или «Префект» – ведь мы можем и так его назвать, велит им оставить все свои вещи, а затем по одному спускаться во двор, чтобы вот здесь выстроиться в шеренгу, рядом с подводами. Узники послушно опускают свои баулы на крыльцо. Ждут, пока человек в пенсне назовет каждого из них, и проходят на двор».
Кшесинская на мгновение замерла, кутаясь в плащ и прислушиваясь к дождю, который снова забарабанил по металлической крыше. Девушка, танцевавшая до ее прихода фокстрот, шепнула режиссеру, что она ничего не понимает по-русски, но тот лишь кивнул, как будто это так и должно быть и всё в полном порядке.
«В следующей сцене мы попадаем в здание школы. Здесь у нас будет широкий коридор, куда ученики выходят из классов после занятий. У одного из окон, выходящих во двор, стоит кухарка. Она смотрит на то, как рядом с подводами выстраивается короткая шеренга из безмолвных, послушных людей. Напротив окна у противоположной стены, где-то вот здесь, возможно, стоит вынесенная из учебного класса школьная доска. На ней мелом нарисована танцующая балерина и что-то написано по-французски… Пусть фраза гласит… Ну, например: «Нет, нам не кажется…» За спиной у кухарки по школьному коридору торопливо проходит начальник охраны. Далее мы следуем за ним… Простите, мы ведь можем позволить себе такое в вашем искусстве?»
Она вопросительно посмотрела на режиссера, и тот кивнул.
«Чудесно. Итак, заглянув к себе в класс, на скорую руку переоборудованный в казарменное помещение, центурион снимает со стены висящую на гвозде портупею, надевает ее, быстро застегивает ремень и направляется к выходу. Кухарка, которая продолжает смотреть в окно, оборачивается на стук его сапог. Ее беспокоит ужин, который она приготовила для тех, кого увозят куда-то в ночь. Никто из них не успел поесть, и, следовательно, вся еда пропадет. Кухарку это тревожит. Центурион успокаивает ее тем, что к утру можно будет устроить целый пир, однако тут же замечает нарисованную на классной доске балерину. Схватив тряпку, висящую на доске, он раздраженно стирает рисунок, от которого остается лишь тонкая рука балерины, приподнятая в прощальном взмахе. Далее мы снова оказываемся в школьном дворе… Послушайте, мне определенно нравится ваше искусство. Это прекрасно, что мы можем с такой легкостью менять место действия. Как было бы замечательно… Впрочем, неважно. Итак, мы снова в школьном дворе. Человек в пенсне, или Префект, как мы его назвали, неторопливым шагом подходит к шеренге людей, выстроившихся рядом с подводами, и начинает срывать с них нательные кресты. Он словно лишает их всех последней опоры. Сорвав крестик с того, кто стоит первым, Префект расстегивает нагрудный карман его френча и достает оттуда какие-то документы. Сергей, который стоит через одного, тут же вынимает что-то из внутреннего кармана своего пальто и прячет зажатый кулак у себя за спиной. Между ними – пожилая женщина в монашеском одеянии. Своим убором она прикрывает большое распятие у себя на груди, но Префект с полным осознанием своего права спокойно отстраняет ее руки и резким движением срывает крест. Женщина смиренно показывает, что она все равно будет молиться о своих мучителях. Человек в пенсне пожимает плечами и переходит к Сергею. Он требует показать, что у того в руке. Сергей вытягивает руку вперед, однако кулака не разжимает, глядя при этом прямо перед собой. Префект секунду медлит, затем вынимает из кармана своего пиджака револьвер. Сергей опускает взгляд на оружие, а затем снова смотрит на два маленьких стеклышка, за которыми прячутся невыразительные глаза. Человек в пенсне ждет, ничем не выражая угрозы, затем взводит курок и уже без промедления стреляет князю в руку. Тот хватается второй рукой за простреленную кисть, кривится от боли, стонет, однако кулака своего так и не разжимает».
У входа в ангар зашипела и вспыхнула спичка. Кшесинская замолчала, глядя на приехавшего с нею мужчину. Андрей Владимирович прикурил и вышел на улицу, после чего трое оставшихся слушателей одновременно повернули свои головы, готовые к продолжению рассказа. Французская девушка, ни слова не понимавшая по-русски, успела к этому моменту не только смириться с тем, что никто ей не переводит, но уже в полной мере была заворожена одними перемещениями балерины по сцене, ее голосом и движениями.
«Далее мы оказываемся в ночном поле, – продолжала Кшесинская. – Тряские подводы, на которых сидят узники и солдаты с большими путейскими лампами, движутся в темноте по разбитой дороге. Женщина в монашеском уборе негромко читает молитвы. С нею рядом сидит скрючившийся от боли Сергей. Простреленную руку он прижимает к животу. Вторая женщина осторожно касается его плеча и предлагает перевязать руку своим платком, но князь отвечает, что это уже не нужно. Он поднимает голову и смотрит в ясное звездное небо, прислушиваясь к молитвам келейницы».
Кшесинская перекрестилась.
«Величая, превозношу Тебя, Господи, ибо призрел Ты на смирение мое и не заключил меня в руках врагов, но спас от бедствий душу мою…» Слыша эту молитву, сидящий рядом с монахиней пожилой солдат машинально осеняет себя крестным знамением».
«Прошу прощения, – прервал балерину молодой режиссер, – но, боюсь, в таком виде эту сцену снять невозможно».
«Вас беспокоит молитва? Не веруете?»
«Моя вера здесь ни при чем. Проблема строго техническая. Молитву мы пустим в титре, с этим ничего сложного нет, а вот подводы… Как же нам снять их движение в поле, когда съемочный аппарат стоит неподвижно? Мы не можем его трясти».
«Но вам совершенно не обязательно снимать это в поле и на ходу, – ответила Кшесинская. – Речь идет о балете. Все очень условно. Вы, вообще, когда-нибудь бывали на балетном спектакле? Впрочем, неважно. Если хотите, можем пропустить эту сцену. А сейчас обратимся к прошлому. Давайте перенесемся на двадцать пять лет назад. Это мы можем сделать?»
«Думаю, да. Просто переоденем и загримируем артистов».
«Чудесно. Итак, мы в просторном светлом фойе императорского театрального училища в Петербурге. Молодой Сергей в припорошенной снегом шинели вбегает с улицы. Он очень спешит, потому что опаздывает на выпускной спектакль. Однако, вбежав, он в недоумении останавливается. Прямо посреди фойе две юные девушки в балетных костюмах устроили весьма своеобразное представление. Одна из них – та, что поменьше, – изображает мужчину. На голове у нее мужская шляпа, под носом роскошные усы запорожского казака. Усы то и дело отклеиваются, поэтому она вынуждена придерживать их рукой, а поскольку обе юные балерины сильно смеются, усы норовят упасть каждую секунду. Девушки пародируют сцену знакомства Лизы и ее неудачливого жениха из балета «Тщетная предосторожность». Юная танцовщица, исполняющая женскую партию, принимает жеманные позы, а та, что изображает мужчину, совершает вокруг нее довольно нелепые прыжки, резко прижимается к своей партнерше всем телом, всячески имитируя любовную страсть, переходя, в общем-то, границы дозволенного и выкрикивая при этом вне всякой связи итальянские слова: «Аморе… Андьямо… Пердитта…» Внезапно исполнительница женской партии замечает застывшего на пороге великого князя в распахнутой парадной шинели. Она останавливает свою подругу, та оборачивается и тут же приседает в глубоком книксене, узнав одну из особ императорского дома. Левой рукой она продолжает автоматически придерживать театральные усы, а правой снимает шляпу. Сергей едва удерживается от смеха. Девушки извиняются. Они думали, что все гости уже собрались. Та, что поменьше, давайте назовем ее «Маля», поднимает на князя немного испуганный, но все же очень проказливый взгляд. Сергей чуть дольше, чем этого требует ситуация, смотрит ей прямо в глаза, а затем идет через фойе, приближаясь к двум застывшим в реверансе танцовщицам. Маля не сводит с него внимательного взгляда. Когда он проходит мимо, обе девушки наконец выпрямляются. Сергей, пряча улыбку, спрашивает – за что они так ополчились на итальянцев, и Маля отвечает, что итальянские артистки, конечно же, хороши, но русский балет славой русских балерин будет превознесен. Сергей с ироничной улыбкой принимает эту дерзость и спешит по коридору в зал, откуда ему навстречу уже летит бравурная музыка. Потом останавливается, снова смотрит на Малю, на небольшой медальон у нее на груди и просит разрешения взглянуть на него поближе. Маля с готовностью снимает медальон, подбегает к великому князю и в грациозном поклоне протягивает ему свое скромное украшение».
Кшесинская на секунду замерла перед своими слушателями в поклоне, о котором только что говорила, и в этой паузе отчетливо и протяжно скрипнула дверь в ангар. Вошедший с улицы Андрей Владимирович сощурился, чтобы привыкнуть к полутьме, негромко покашлял и, наконец, направился к сцене. Усаживаясь на обшарпанный стул рядом с француженкой, он слегка приподнял шляпу, то ли здороваясь с ней, то ли извиняясь перед Кшесинской за свое вторжение.
«Далее мы снова оказываемся в ночном поле, – продолжала она, дождавшись, когда ее спутник перестанет скрипеть стулом. – Подводы с узниками останавливаются неподалеку от жерла заброшенной шахты, которое представляет собой просто огромную дыру в земле. Пусть это будет вот здесь. Над этой дырой в темноте виднеются остатки разрушенного подъемного механизма. С головной подводы спрыгивает человек в пенсне. Он указывает пальцем на самого молодого узника. Солдаты стаскивают с телеги обреченного юношу, и голос келейницы, которая продолжает молиться, звучит громче. К ее молитве присоединяется и вторая женщина в монашеском одеянии. Это великая княгиня Елизавета Федоровна. Вдвоем они все быстрей и быстрей повторяют: «Аще бо и пойду посреде сени смертныя, не убоюся зла, яко Ты со мною еси». В дрожащем свете ламп, отблески от которых прыгают по темным, будто застывшим лицам, юношу волоком тащат к широкому отверстию в земле, а потом сталкивают туда, как ненужный груз. Из черной глубины долетает жалобный вскрик. После этого Префект указывает на Сергея, но тот не дожидается, пока его стащат с подводы, и сам спрыгивает на землю. Солдаты хватают его под руки, однако Префект останавливает их властным жестом. Он приближается к Сергею со словами о том, что ему поручено сделать великому князю некое предложение, но Сергей не дожидается конца фразы, едва заметно покачав головой. «Как знаете», – говорит Префект и снова вынимает из кармана пиджака револьвер. Сергей Михайлович отворачивается от него к Елизавете Федоровне, которая по-прежнему сидит на телеге. Он ловит ее взгляд и, не отрываясь, смотрит в ее широко раскрытые глаза, как будто ищет в них окончательной силы и окончательного покоя, а она словно впускает его в новый и неизведанный мир. Лицо ее не меняется даже тогда, когда стоящий позади великого князя человек поднимает свой револьвер и направляет его тому в затылок. В следующее мгновение звучит выстрел, и тело убитого князя падает в траву. Простреленная рука его наконец разжимается, в мертвой ладони блестит испачканный кровью небольшой медальон».
Балерина замолчала, и все ее слушатели так же молча продолжали смотреть на нее. Спустя две-три секунды француженка улыбнулась, не понимая, закончился ли рассказ и надо ли аплодировать. Кшесинская подошла к самому краю площадки.
«Если медальон понадобится для вашего фильма, то вот он, – вынув украшение из кармана плаща, она показала его режиссеру. – Сегодня ночью нам передал его следователь Соколов, приехавший из России».
Андрей Владимирович поднялся со стула и застегнул пальто.
Василий Авченко «…Только дни наши – вьюга». На СМЕРШ поэта
Странный он выбрал себе псевдоним: «Несмелов».
Каким-каким, а несмелым он не был.
Но таким образом поручик Арсений Митропольский, закончив свою войну и сняв погоны, решил сохранить память о друге – белом офицере, погибшем под Тюменью.
Подписавшись «Арсений Несмелов», он и в литературе прописался под этим именем.
«Германская» и Гражданская
Родом поэт Несмелов – из войны. Об оружии он пишет не просто со знанием дела – почти с нежностью.
Вот о пулемете:
На чердаке, где перья и помет, Где в щели блики щурились и гасли, Поставили трехногий пулемет В царапинах и синеватом масле. Через окно, куда дымился шлях, Проверили по всаднику наводку И стали пить из голубых баклаг Согретую и взболтанную водку…О винтовке № 572967:
Две пули след оставили на ложе, Но крепок твой березовый приклад…О револьвере:
Ты – в вытертой кобуре, Я – в старой солдатской шинели… Нас подняли на заре, Лишь просеки засинели…Или вот, из прозы: «Смерть… пришла бы к нему в подвале местного ГПУ, ударив ему в затылок обряженной в никель пулькой из ствола автомата». Имеется в виду револьвер-«автомат», офицерский «самовзвод», курок которого не нужно было взводить вручную после каждого выстрела. В текстах профессионального военного много подобной невыдуманной конкретики.
Арсений Иванович Митропольский родился 8 июня 1889 года (сам он иногда почему-то указывал 1892-й) в Москве. 2-й Московский кадетский корпус, потом – Нижегородский Аракчеевский. Мир, война, снова война…
Его литературные родственники – и Денис Давыдов, и Лермонтов, и современники из разных окопов (прежде всего Гумилев – но и Тихонов, и Луговской…). Не в том дело, кого куда определила история, а в поэтическом первородстве, принадлежности к русской литературной традиции, которая выше разделения по баррикадам.
На «германскую» Митропольский попал в августе 1914 года в чине прапорщика – тогда это было первое офицерское звание. В составе 11-го гренадерского Фанагорийского полка воевал с австрийцами. В 1915-м награжден орденом Св. Станислава 3-й степени «За отличие в делах против неприятеля» (впереди будут еще три награды). В том же году выйдет первая книжечка – «Арсений Митропольский. Военные странички», хотя, по большому счету, это еще черновики…
В марте 1916 года Митропольский получает звание подпоручика, в ноябре становится начальником охраны штаба 25-го корпуса. Был ранен, 1 апреля 1917 года отчислен в резерв.
В российской прозе Первая мировая, попав в тень последовавших за ней событий, отразилась слабее, чем в западной, где были Ремарк, Хемингуэй, Гашек, Олдингтон, Селин, Барбюс, Юнгер… У нас «империалистическая» появляется у Алексея Толстого, Шолохова, Пастернака, Горького, Пильняка… – но как бы в неглавной роли, периферийно.
Военные рассказы Несмелова – замечательное исключение. Он оставил о Первой мировой суровые и крепкие, как военное обмундирование, тексты. После Великой Отечественной заговорят о «лейтенантской прозе», а здесь какая – «прапорщицкая», «поручицкая»? Именно Несмелов кажется предтечей советской «окопной прозы». Великолепный «Короткий удар», «Полевая сумка», «Мародер», «Военная гошпиталь», «Тяжелый снаряд», «Контрразведчик», «Полковник Афонин»… В них – детальное изображение военной реальности, психологии убивающего и умирающего. Исповедальная искренность – и в то же время какая-то офицерская, мужская сдержанность, осознанная скупость на «страшные» детали, юмор сильного человека. Пришедшие поколением позже Виктор Некрасов, Казакевич, Бондарев, Василь Быков, Константин Воробьев, Курочкин едва ли могли читать несмеловские рассказы – и тем удивительнее находить очевидную связь, родство биографий, интонаций, эмоций.
Сам Несмелов, в свою очередь, наследовал Куприну. Он даже учился в том же самом кадетском корпусе (только позже) и посвятил Куприну рассказ «Второй Московский».
Осенью 1917 года Митропольский участвует в антибольшевистском восстании юнкеров в Москве.
Потом около двух лет воюет у Колчака. Становится поручиком, адъютантом коменданта Омска, где публикует стихи за подписью «Арс. М-ский» в газете «Наша армия». Дальше – Сибирский ледяной поход, трагическое отступление с войсками Каппеля от Омска до Читы…
О Гражданской он напишет тоже. Изобразит уличный бой в Москве, мятеж в Иркутске («У Никитских ворот», «Кадетское восстание», «Аш два О», «Трудный день поручика Мухина»)… Здесь Несмелов созвучен и газдановскому «Вечеру у Клэр», и булгаковской «Белой гвардии».
Это честная проза. В ней нет лишнего (и часто фальшивого) пафоса, самогероизации… Разве что красных партизан Несмелов порой изображал уж совсем какими-то звероподобными людоедами – но, бывало, и советские авторы изображали белых примерно теми же красками.
Несмелов сверял свою жизнь с судьбой Николая Гумилева. В стихах «Моим судьям» даже предрекал собственный расстрел. Чуть ли не надеялся на него, веря, что насильственная смерть смывает вольные и невольные прегрешения…
Не угадал. Его не расстреляли, как Гумилева. Но и Несмелов не просто умер – все-таки погиб.
Балаганчик на далекой окраине
Вскоре после падения Колчака Митропольский попадает в еще не советский Владивосток.
Город, наводненный интервентами, трясет от переворотов. Кто только не мелькал здесь – от будущего изобретателя телевизора Владимира Зворыкина до разведчика и писателя Сомерсета Моэма и другого разведчика – создателя самбо Василия Ощепкова. «Скромный окраинный город был тогда похож на какую-нибудь балканскую столицу по напряженности жизни, на военный лагерь по обилию мундиров», – писал востоковед Константин Харнский. Несмелов: «Военные корабли в бухте, звон шпор на улицах, плащи итальянских офицеров, оливковые шинели французов, белые шапочки моряков-филиппинцев. И тут же, рядом с черноглазыми, миниатюрными японцами, – наша родная военная рвань, в шинелях и френчиках из солдатского сукна».
Митропольский приехал во Владивосток из Китая по фальшивому документу на имя писаря охранной стражи КВЖД («Писарем в штабе отсиделся…» – позже говорил балабановский Данила Багров). Денег не было. Продал браунинг, симулировал сердечный приступ и получил передышку в госпитале у Гнилого Угла.
Вскоре случилось «японское выступление»: «Мимо госпиталя… потянулись в сопки отряды красных, покидающих Владивосток, чтобы превратиться в партизан. Ночью застучал пулемет. Завизжала и забухала шрапнель. Японцы разоружали оставшиеся красные части». В эти апрельские дни 1920 года японцы схватят во Владивостоке Сергея Лазо, Алексея Луцкого и Всеволода Сибирцева. Вскоре их сожгут в паровозной топке. В Спасске-Дальнем получит ранение в бедро двоюродный брат Сибирцева – юный комиссар Булыга, он же – будущий писатель Александр Фадеев…
Митропольский погон уже не носит и в боях ни на чьей стороне не участвует. На госпитальной койке он просматривает газеты и удивляется обилию стихов. Вспомнив о своих московских опытах – он ведь немного публиковался еще до войны в «Ниве», – выпрашивает у фельдшера рецептурной бумаги и пишет стихи «Соперники» («Интервенты»), навеянные обилием иностранных мундиров на владивостокских улицах. Не самые сильные его стихи – зато впервые подписанные новым псевдонимом.
Их через считаные дни опубликует местная газета «Голос Родины». Так весной 1920 года появился на свет поэт Арсений Несмелов. Во Владивостоке в 1921, 1922 и 1924 годах выйдут три его книги: «Стихи» (в Приморье еще была в ходу старая орфография, и на титуле значилось: «Арсенiй Несмѣлов»), «Тихвин», «Уступы».
А тогда он сидел с этой самой газетой в саду у памятника Невельскому, улыбался… Рядом присел японец, заговорил. Это был Реноскэ Идзуми – издатель японоязычной газеты «Владиво-Ниппо». Предложил Несмелову редактировать русский выпуск. Безработный бывший офицер согласился.
Он будет об этом вспоминать со свойственными ему откровенностью («…пусть врут другие. Мне не хочется») и юмором, не пытаясь казаться лучше, чем есть: «Русский листок при японской газете… стал официозом японского оккупационного корпуса… Из числа девушек, с которыми перезнакомился, я выбрал самую грамотную (и хорошенькую) и сделал ее корректором. Из огромного количества лиц, посещавших редакцию с предложением услуг, я оставил себе одного полковника кроткого вида и посадил его за писание статей, целью которых было доказать, что без японских оккупационных войск Владивосток погиб бы. Боже мой, как нас “крыли” оставшиеся в городе красные газеты. Особенно доставалось нам от Насимовича-Чужака… редактировавшего тогда коммунистическое “Красное знамя”. Асеев, писавший стихотворные фельетоны в левой “Далекой окраине”, тоже не однажды пробовал кусаться. Мы отбивались не без успеха: я – стихотворными стрелами, полковничек – тяжелой артиллерией своих статей…». Критиковали то красных, то белых – для «равноудаленности». Тут, как и позже в Харбине, поэту было не до брезгливости.
Но газета скоро надоела, ею больше занимался полковник. Пришло лето, Митропольский купался, загорал…
В эти годы Владивосток был одной из культурных столиц России. Революционные вихри заносили на край пылающей империи поэтов, артистов, музыкантов. В конце 1917 года во Владивосток – «город, высвистанный длинными губами тайфунов, вымытый, как кости скелета, сбегающей по его ребрам водой затяжных дождей…» – попал поэт Николай Асеев, мобилизованный на «германскую» и попросту бросивший службу. Полуазиатский город показался ему чуждым, но скоро он освоился, начал писать стихи о морепродуктах и оборудовал в подвале на углу Светланской и Алеутской знаменитый «Балаганчик», где проводила время богема. В городе объявились поэты Сергей Третьяков, Давид Бурлюк… Здешний журнал «Творчество» заметили Брик и Маяковский.
«Во Владивостоке в то время было около пятидесяти действующих (как вулканы) поэтов», – вспоминал Несмелов. Одни партизанили в сопках, другие бурлили в «Балаганчике»: Алымов, Венедикт Март, Юрий Галич, Алексей Ачаир, Леонид Чернов… Партизан Петр Парфенов в начале 1920 года написал во Владивостоке стихи «По долинам и по взгорьям». Позже их отредактировал Сергей Алымов, и они стали песней о событиях уже не 1920, а 1922 года: «…Штурмовые ночи Спасска, Волочаевские дни».
Несмелов бывал в «Балаганчике». Печатался. В его стихах появился Владивосток, причем непарадный:
Я шел по трущобе, где «ходи» Воняли бобами, и глядь – Из всхлипнувшей двери выходит, Шатаясь, притонная…Это о «Миллионке» – кварталах, где ютились китайцы, курился опиум, прятались контрабандисты, процветали притоны.
Напишет он и о владивостокской эпидемии чумы 1921 года: «По утрам, выходя из своих домов, мы наталкивались на трупы, подброшенные к воротам и палисадникам… По ночам родственники умерших выволакивают мертвецов на улицу и бросают подальше от своих домов… За трупами приезжает мокрый от сулемы грузовик». Несмелов подшучивал над Асеевым, не выходившим из дома без респиратора.
Третьяков уехал в Пекин, Асеев – в Читу, Бурлюк – в Японию. В октябре 1922 года во Владивосток вошла армия Дальневосточной республики под командованием Иеронима Уборевича. Многие потянулись в эмиграцию, в основном в соседний Китай – как писатель, летчик и фотограф Михаил Щербаков, написавший о тех днях: «Вся прежняя Россия, найдя себе отсрочку на три года, микроскопически съежилась в этом каменном котле, чтобы снова расползтись оттуда по всем побережьям Тихого океана».
«Россия отошла, как пароход», – напишет Несмелов об уходе флотилии адмирала Старка.
Сам он остался. Потом думал: почему? Чтобы получше понять тех, с кем воевал два года?
Еще до прихода армии ДВР Митропольский с компанией друзей наткнулся на островке Коврижка в Амурском заливе на двоих партизанских связных. И у тех, и у этих было оружие, но разошлись мирно: «Злоба гражданской войны уже угасла в нас, хотя почти все мы еще недавно были офицерами». Слишком ласковы были море и небо, слишком «обмякли» офицеры от стихов и богемного образа жизни… Уже не вышло бы убить так естественно, как выходило два года назад, а значит, решил Несмелов, убивать и не надо.
Поэт-«харбинец» Валерий Перелешин потом напишет: Несмелов сразу «угадал… смысл японской интервенции в Сибири и понял, что целью вмешательства была вовсе не борьба с коммунизмом». Японцы хотели попросту аннексировать Приморье и Приамурье. Возможно, с этим связаны неожиданные для Несмелова стихи «Партизаны» – сочувственные по отношению к этим самым партизанам:
…А потом японский броневик Вздрогнет, расхлябяснут динамитом. Красный конь, колеса раздробив, Брызнет оземь огненным копытом. И за сопки, за лесной аул Перекатит ночь багровый гул…Хотя сам-то он с японцами сотрудничал – из насущных, конечно, соображений, даже не пытаясь искать себе оправдания в виде «священной борьбы с красной заразой» или «роковой ошибки».
Когда один из последних белых правителей края Николай Меркулов сказал Несмелову, что Приморье скоро станет японским генерал-губернаторством, тот пожал плечами: «Я ничего не имел против японского генерал-губернаторства».
Были ли у Несмелова вообще политические взгляды? И обязательны ли они? Он мог называть себя хоть монархистом, хоть фашистом, но возникает ощущение, что все эти «-измы» были ему по большому счету безразличны. В отношении к смене власти он порой кажется фаталистом.
Он, конечно, ярко-«белый» – но в его случае, тем более сегодня, деление на белых и красных вообще теряет смысл. Как сформулировал чтимый Несмеловым Маяковский, «багровый и белый отброшен и скомкан».
У Несмелова был безупречный слух поэта, чутье на пошлость. Последние белые правительства не могли вызвать у него сочувствия уже чисто по эстетическим соображениям: «Трагедия борьбы белых с большевиками в то время на Востоке уже выродилась в комедию. Не “опереточными” ли правительствами называла владивостокская пресса всех этих Медведевых, Меркуловых и, наконец, Дитерихсов с их “воеводствами”, “приходами” и прочим…» Не потому ли он не ушел с Дитерихсом и Старком в эмиграцию осенью 1922 года, а задержался во Владивостоке еще почти на два года?
Без компаса
До поры ничего страшного с «бывшими» не происходило. Ходили отмечаться в ГПУ (дальше пригородной Угольной уезжать было нельзя) как представители белого комсостава с соответствующей отметкой в паспорте. Работали – кто где…
«Владиво-Ниппо», выйдя после прихода красных еще два-три раза, самоликвидировалась. Редактор «Красного знамени» (главной приморской газеты вплоть до перестройки) Рахтанов, «милейший из коммунистов», предлагает Несмелову заведовать литературно-художественным отделом. Тот соглашается, пишет стихотворные фельетоны, нимало не смущаясь сменой приоритетов: «На другой день я выругал Меркулова и сделал это не без удовольствия».
Рахтанова вскоре уволили за «слишком большой интерес к владивостокским ресторанам» (после чего он умер от заворота кишок), а новый редактор, узнав о прошлом Несмелова, работать с ним не захотел.
Чтобы получить работу, нужно вступить в профсоюз, но туда Несмелова не принимают. «Жизнь в городе стала мне не по карману. Я перебрался за Чуркин мыс, за сопки, в бухту Улисс. Где жить, мне стало уже безразлично: у бухты этой, по крайней мере, красивое имя…»
Это была тихая окраина. Несмелов бродит по Морскому кладбищу, начавшемуся с захоронения матросов «Варяга». Пишет стихи:
И прячется в истлевшие гроба Летучая свистящая ватага… Трубит в трубу – тайфун его труба – Огромный боцман у креста «Варяга».Его уже не печатают. Вскоре закрылась последняя некоммунистическая газета – тот самый «Голос Родины». «Зимой я стал жить тем, что, пробив луночку во льду бухты, ловил навагу. Профессия, ставшая модной во Владивостоке среди «бывших». Моим соседом по луночке был старый длинноусый полковник. Таскали рыбку и ругали большевиков, а десятого числа каждого месяца являлись вместе в комендатуру ГПУ», – вспоминал поэт.
Я у проруби, в полушубке, На уступах ледяных глыб – Вынимаю из темной глуби Узкомордых крыластых рыб…(Не могу не провести историческую параллель: в 1993 году, в пору новой смуты, ту же самую навагу ловил во Владивостоке мой отец, когда его зарплаты доктора наук перестало хватать на семью. Мы с ним потом продавали эту рыбу на рынке…)
Неслучившийся вариант несмеловской судьбы – жизнь Владимира Арсеньева. Арсений и Арсеньев познакомились во Владивостоке в 1920-м. Несмелов высоко оценил таежные повести Арсеньева, увидел в них тонкую поэзию…
Вероятно, Арсеньев, скончавшийся в 1930-м от воспаления легких, подхваченного в экспедиции на нижний Амур, не пережил бы репрессий конца 30-х, когда под удар попадали не только «бывшие», но и ортодоксальные красные командиры. Вдову Арсеньева Маргариту в 1938-м расстреляли как участницу контрреволюционного заговора, будто бы возглавлявшегося ее покойным мужем (при этом книги Арсеньева – причуда эпохи – продолжали выходить, в 1945-м во Владивостоке появилась и улица его имени…).
Но тогда до трагических развязок было еще далеко. Бывшие офицеры выбирали.
Арсеньев выбрал одну судьбу, Несмелов – другую. Или можно сказать так: их выбрали разные судьбы.
Царский офицер, разведчик, ученый… – Арсеньев не участвовал в Гражданской и принял новую власть.
Несмелов, наверное, мог бы жить при любом режиме, если бы ему не перекрывали кислород. Не ушел же он в 1922-м, когда таял последний островок прежней России… Он был далек от любого фанатизма. Жил, работал, воевал там, где выпадало. Люди тогда оказывались в разных окопах, а нередко и меняли сторону баррикад в силу стечения самых разных обстоятельств, из которых идеология стоит далеко не на первом месте.
Тем более война закончилась. Казалось, нация мирится сама с собой, и вот уже белый генерал Слащев – прототип булгаковского Хлудова – преподает на курсах красных командиров «Выстрел»…
А Митропольский думал о том, как и на что ему жить. Придумать не мог.
…Раз бывшие офицеры сидели в матросском кабачке «За уголком». Пили водку, закусывая почему-то мороженым. Кто-то – может быть, Митропольский – вдруг сказал: «Господа, драпанем в Харбин!»
И – драпанули.
Митропольский продал свой «Ундервуд». Пошел к Арсеньеву – тот заведовал во Владивостоке краеведческим музеем, ныне носящим его имя. Автор «Дерсу Узала» обнаружился у чучела тигра, под которым еще несколько лет назад спали французские интервенты. Отвел поэта в уголок, чтобы не услышал сторож, изложил соображения о маршруте и, рискуя, дал Несмелову карту и компас.
Есть легенда, что поэт ушел в Китай, узнав о том, что готовится его казнь. Это не так. Когда Несмелов пришел в последний раз отметиться в ГПУ, ему сказали, что готовы снять его с учета, если за него поручатся двое членов профсоюза (того же Арсеньева сняли с учета как раз в 1924-м). Тогда Несмелов смог был поехать в Москву, где у него были знакомые…
Но пишущая машинка была продана, новые ботинки торопили ноги в поход, да и Харбин тогда был не совсем заграницей. Как писал сам Несмелов:
Инженер. Расстегнут ворот. Фляга. Карабин. «Здесь построим русский город, Назовем – Харбин»…Правдами и неправдами он выпросил в типографии Иосифа Коротя полсотни экземпляров своих «Уступов», за печать которых еще не было заплачено. Тут же продал часть знакомым, часть взял с собой, а еще часть разослал тем, чьим мнением дорожил, – например Пастернаку. Потом, уже из Китая, Несмелов завяжет переписку и с Цветаевой. Это важно: он не рвал связей с родиной. Ниша местечкового эмигрантского поэта была ему тесна. Главное русло языка оставалось в СССР. Вряд ли Несмелов надеялся или тем более намеревался вернуться. Но ручеек, даже превратившись в старицу, по-прежнему чувствовал свою принадлежность к большому потоку.
В стихах «Переходя границу» он напишет, что берет с собой на чужбину –
…Да ваш язык. Не знаю лучшего Для сквернословий и молитв. Он, изумительный, – от Тютчева До Маяковского велик.Нетипичное для «белого» упоминание. Несмелов даже посвятил «гению Маяковского» стихи «Оборотень». И Маяковский его заметил, передал привет через Третьякова…
Уходили в конце весны или летом 1924 года.
По прямой от Владивостока до Китая – недалеко: перебраться через Амурский залив (10–15 км), потом еще километров 40 тайгой и сопками нынешнего Хасанского района.
Чтобы не привлекать внимания, пятерка друзей добралась на поезде до Седанки – малонаселенного пригорода. Отсюда на заранее нанятой китайской лодке «юли-юли» переправились на западный берег залива и пошли к границе.
Блуждали 19 дней с приключениями. Вечером у костра шутили, с кого именно тигр начнет их поедать. Арсеньевский компас в первый же день потеряли. «Все мы в качестве таежных путников… представляли собою весьма комичную картину… Все мы были мечтателями и в житейском отношении большими разгильдяями», – писал Несмелов. Сам он шел в ночных туфлях. Ботинки нес за спиной – берег.
…Наверное, он мог бы стать заметным советским литератором. Другой вопрос – пережил бы 1937 год? Сослагательного наклонения история не терпит, но вопросы-то остаются.
Так или иначе, Несмелова вытолкнуло в Харбин, и он получил отсрочку.
В затонувшей субмарине
Проживший в Харбине 21 год, Несмелов – больше харбинец, чем житель какого-либо другого города.
Харбин стал восточным центром русской эмиграции. Он и до революции был городом скорее русским, чем китайским, поэтому и притягивал «бывших». А уже отсюда судьба несла эмигрантов дальше – в Европу, Америку…
В Харбине действовали литературные объединения, выходили русские журналы, книги. Здесь печатались поэт Валерий Перелешин, анималист Николай Байков, Борис Юльский – «Джек Лондон русского Китая», Алексей Ачаир, Леонид Ещин, Марианна Колосова, Ларисса Андерсен… Сюда заносило таких людей, как идеолог национал-большевизма Николай Устрялов и ученик Рериха – мистик-теософ Альфред Хейдок.
Несмелов активно публиковался в «Рубеже», «Луче Азии», «Рупоре»… «Выписал» из Владивостока жену и дочку (но семья скоро распадется; была у него где-то в СССР и другая жена, с другой дочкой…). В 1929 году в Харбине выходит сборник стихов «Кровавый отблеск», в 1931-м – «Без России», в 1938-м – «Полустанок», в 1942-м – «Белая флотилия». В 1936-м в Шанхае изданы несмеловские «Рассказы о войне». В 1941-м он составляет и издает в Харбине «Избранные стихотворения» Блока. Пробует силы в крупной форме, начинает роман «Продавцы строк»…
Несмелов был одной из ведущих фигур литературного Харбина, но держался особняком. Его считали слишком независимым, даже надменным. Да он был и старше большинства харбинских литераторов. Одни называли его циником, другие видели под маской циника – романтика…
Не раз белоэмигранты обвиняли его в симпатиях к большевикам.
«Он воспринимал революцию и Гражданскую войну как возмездие за всю историческую вину нации и был лишен иллюзий, какими жила изрядная часть эмиграции», – указывает литературовед Александр Лобычев.
Неодобрительные по отношению к Февралю стихи Несмелова «В этот день» вызвали раздраженные отзывы в эмигрантской печати. Поэт считал, что империя погибла именно в Феврале, который и привел к Октябрю:
В этот день страна себя ломала, Не взглянув на то, что впереди… …В этот день в отпавшем Петрограде Мощного героя не нашлось… …Неужели, Боже, нет прощенья Нам за этот сумасшедший день!И это он же, колчаковец Несмелов, писал об СССР:
…Но по ночам – заветную строфу Боюсь начать, изгнанием подрублен, — Упорно прорезающий тайфун, Ты близок мне, гигант четырехтрубный! … Я, как спортсмен, любуюсь на тебя (Что проиграю – дуться не причина) И думаю, по-новому любя: – Петровская закваска… Молодчина!(«Четырехтрубный» – потому что сначала СССР состоял из четырех республик: Российской, Украинской, Белорусской и Закавказской).
Мог ли кто-то еще из его окружения так написать?
В 1925-м в газете «Советская Сибирь» вышла поэма Несмелова «Декабристы». До 1927 года он редактировал в Харбине советскую газету «Дальневосточная трибуна». В СССР его печатали вплоть до 1929 года – например, в «Сибирских огнях», и даже присылали гонорары (советские рубли имели хождение на КВЖД). На родине вышли и «Короткий удар», и «Баллада о даурском бароне» – об Унгерне:
К оврагу, Где травы рыжели от крови, Где смерть опрокинула трупы на склон, Папаху надвинув на самые брови, На черном коне подъезжает барон…Из-за всего этого (а также из-за подозрительно легкого ухода в Китай) кое-кто в Харбине считал Несмелова агентом Москвы.
Мог ли он вернуться, как Куприн? Думал ли об этом?
Харбинские рассказы Несмелова уникальны описанием взаимопроникновения русского и китайского. Особое его внимание вызывает маньчжурский «пиджн»: «бойка» (прислуга – от boy), «полиза» (полиция), «машинка» (мошенник)… Появлялись и новые слова-мутанты. Например, слова «шанго» («хорошо»), как писал Несмелов, нет ни в русском, ни в китайском: «Китайцы думают, что это русское слово, мы – что оно китайское».
В рассказе «Драгоценные камни» главное – не авантюрный сюжет, а сама жизнь русских в Китае. О том же – рассказ «Ламоза» (так звали окитаившихся русских), в котором действует «русский хунхуз»…
О русском мальчике, уже не знающем русского языка:
…В этом – горе все твое таится: Никогда, как бы ни нудил рок, С желтым морем ты не можешь слиться, Синеглазый русский ручеек! До сих пор тревожных снов рассказы, Размыкая некое кольцо, Женщины иной, не узкоглазой Приближают нежное лицо. И она, меж мигами немыми, Вдруг, как вызов скованной судьбе Русское тебе прошепчет имя, Непонятное уже тебе!Сдержанно-печален несмеловский взгляд на судьбу русской эмиграции:
Мы – не то! Куда б ни выгружала Буря волчью костромскую рать – Все же нас и Дурову, пожалуй, В англичан не выдрессировать! Пять рукопожатий за неделю, Разлетится столько юных стай!.. … Мы – умрем, а молодняк поделят Франция, Америка, Китай.Или:
Сегодня мили и десятки миль, А завтра сотни, тысячи – завеса. И я печаль свою переломил, Как лезвие. У самого эфеса. Пойдемте же! Не возвратится вспять Тяжелая ревущая громада. Зачем рыдать и руки простирать, Ни призывать, ни проклинать – не надо.Стихами «В затонувшей субмарине» он отвечает гумилевской «Волшебной скрипке»:
Облик рабский, низколобый Отрыгнет поэт, отринет: Несгибаемые души Не снижают свой полет. Но поэтом быть попробуй В затонувшей субмарине, Где ладонь свою удушье На уста твои кладет.И все-таки Харбин был пока еще русским городом, где поэт мог жить, хотя и не всегда на литературные заработки, – случалось Несмелову работать и ночным сторожем на складе.
Но вот в 1931 году Маньчжурию оккупируют японцы. Они создают тут государство («марионеточное», как неизменно подчеркивалось в советских источниках) Маньчжоу-го. СССР готовится к большой войне, которая, как казалось тогда, начнется именно здесь – на Востоке. К Японии отходит КВЖД. В Китае рушится система русского образования. Русские теряют работу, уезжают – в Тяньцзин, Пекин, многоязычный Шанхай, в Европу… Харбин становился все менее русским. Многие эмигранты делались «оборонцами», не принимая «ниппонской» (теперь под страхом наказания нужно было писать «Ниппон» и «ниппонцы») оккупации, начинали с симпатией смотреть на СССР, думали о возвращении на Родину…
Наверное, мог стать «оборонцем» и Несмелов, которому теперь приходилось перебиваться сочинением рифмованных реклам для зубных врачей («Даже откровенная халтура, совершенно нечитабельная в исполнении некоторых коллег Несмелова по цеху, под его пером обретала некий шарм», – писал литературовед Владислав Резвый).
Но вышло иначе: поэт вступил во Всероссийскую фашистскую партию Константина Родзаевского. На заказ писал партийные марши и прояпонские стихи («Великая эра Кан-Дэ»), придумал себе псевдоним-маску – «Николай Дозоров». В 1936 году его поэма «Георгий Семена» вышла со свастикой на обложке, а сборник стихов «Только такие!» предваряло предисловие Родзаевского (фигура интересная и драматическая – чего стоит его покаянное письмо Сталину, не спасшее «фюрера» от расстрела, и добровольная сдача СМЕРШу).
В 1941-м Несмелов поступил на курсы политической подготовки, организованные японцами при разведшколе в Харбине. По окончании курсов его зачислили в Японскую военную миссию сотрудником 4-го отдела. Имел псевдоним «Дроздов», преподавал на курсах пропагандистов основы литературно-художественной агитации. В мае 1944 года Дроздова перевели в 6-й отдел миссии, где он служил до занятия Харбина Красной армией в 1945 году.
Несмелов всегда интересовался советской литературой, а теперь как сотрудник японской миссии получил доступ к прессе СССР – не за тем ли он и пошел в пропагандисты? Высоко отзывался о Маяковском, Симонове, Маршаке… Даже пробовал писать рассказы из советской жизни («Маршал Свистунов»).
На лодке «Удача» с другом ходил по Сунгари на рыбалку. Пил водку, которую готовил местный грек по русскому рецепту. Писал роман в стихах «Нина Гранина». В 1944-м или 1945-м хотел издать новый сборник стихов и даже закупил бумагу, но потом впал в апатию…
Приближался 1945-й, ставший для СССР победоносным, а для Несмелова – роковым. Отсрочка истекала. Мина замедленного действия – сотрудничество с японцами, начатое во Владивостоке и продолженное в эмиграции, – стала на боевой взвод.
«До самой смерти ничего не будет»
«В Харбине ничего интересного со мной не происходило», – завершил Несмелов свои записки об уходе в Китай, словно сбивая пафос. Но сама судьба поправила его, поставив символическую и трагическую точку.
Впрочем, Несмелов прав: все самое интересное и самое страшное действительно происходило с ним на родине, которая так его и не отпустила.
Его арестовали в Харбине 23 августа 1945 года. Мягко говоря, не без оснований, – едва ли здесь можно предъявить СМЕРШу какие-то претензии.
Он не скрывался, не бежал. Сценарист Андрей Можаев – сын писателя Бориса Можаева, которому о Несмелове рассказывал вернувшийся в СССР «харбинец» Всеволод Ник. Иванов, – приводит легенду о том, что Несмелов ждал ареста по-гумилевски спокойно. Отдал честь и револьвер советскому офицеру, выпил рюмку водки и попросил расстрелять его на рассвете.
Расстреливать не стали – повезли в СССР, в Приморье.
Под стражей Несмелов держался бодро, развлекал арестантов рассказами и анекдотами.
«До самой смерти ничего не будет», – то и дело говорят персонажи его рассказов: авантюристы, сорви-головы, вояки… Не поспоришь.
Несмеловская смерть – послесловие, с четкостью оружейной детали примыкающее к рассеянным по эмигрантским изданиям стихам и рассказам. «Как красива может быть смерть и как глупа, безобразна жизнь!» – однажды написал он.
6 декабря 1945 года 56-летний Арсений Митропольский умер на цементном полу пересыльной тюрьмы пограничного поселка Гродеково от инсульта.
Дата эта в известной степени условна. Что дата, если от Несмелова не осталось ни архива, ни могилы, ни приличных фотографий…
Не расстрел – но все-таки высшая мера. Приговор, вынесенный поэту без суда, – по крайней мере, земного.
Рукописи, особенно опубликованные, горят неохотно. Однако Несмелову не повезло, как мало кому.
Он и при жизни был слишком независим, одиозен, не для всех приемлем… А после смерти вообще будто угодил в провал. В СССР по понятным причинам его не публиковали, за рубежом харбинцы и шанхайцы как-то тоже забылись после рассеяния «восточной ветви»… Владивосток и Харбин – не Москва и не Париж. К тому же ряд заметных эмигрантов считали Несмелова «близким к советским поэтам», что было таким же приговором к забвению по ту сторону рубежа, как антибольшевизм – по эту. Несмелов вновь, теперь уже после смерти, оказался на обочине.
Оправданием всех его вольных и невольных прегрешений стали тексты, а не «обряженная в никель пулька». Кадет, герой мировой войны, колчаковский офицер, авантюрист, фашист, японский пропагандист… – ничего не вычеркнуть, даже если кому-то и хотелось бы. Но теперь-то не важны ни фашизм его (да и отличался «русско-китайский» фашизм от европейского, пожалуй, серьезнее, чем итальянский от немецкого), ни работа на японцев. Все растаяло, как туман; нет больше ни Дозорова, ни Дроздова, ни даже Митропольского. Остался писатель Несмелов и не растворенные временем кристаллы его стихов и прозы. Рассыпанные по эмигрантским журналам, бережно собранные Евгением Витковским и другими подвижниками, они в 2006 году были изданы в двух томах владивостокским «Рубежом».
Написанного – не вычеркнуть.
Прожигает нежные страницы Неостывший пепел наших строк!…В 1999 году, как раз к натовской бомбардировке Югославии, певец Валерий Леонтьев исполнил песню на музыку Владимира Евзерова: «Каждый хочет любить, и солдат и моряк…»
Ее текст – те самые «Соперники», превратившие во Владивостоке поручика Митропольского в поэта Несмелова.
В оригинале стихотворение начиналось так:
Серб, боснийский солдат, и английский матрос Поджидали у моста быстроглазую швейку. Каждый думал – моя. Каждый нежность ей нес И за девичий взор, и за нежную шейку… И присели – врагами взглянув – на скамейку Серб, боснийский солдат, и английский матрос.Заканчивалось:
Каждый хочет любить, и солдат, и моряк, Каждый хочет иметь и невесту, и друга, Только дни тяжелы, только дни наши – вьюга, Только вьюга они, заклубившая мрак. Так кричали они, понимая друг друга, Черный сербский солдат и английский моряк.Для эстрады текст несколько поправили: «Югославский солдат и английский матрос…»
Можно по-разному относиться к Леонтьеву, поп-культуре, к тому, что несмеловский текст тронули без спроса…
А все-таки и это – возвращение.
Борис Евсеев Чукотан Отрывок из повести
Первый ревком
Ровно в полдень, 16 декабря 1919 года, Безруков-Мандриков еще раз собрал большую часть ревкома в новом, непривычном месте. Дом на окраине принадлежал сочувствующему купцу. В сенях, в двойной позеленевшей от времени медной китайской жаровне, тлел олений кизяк. Шум ветра, донимавший прохожих на улице, поутих. Оглушение было всеобщим и неожиданным:
– Выступаем в четыре пополудни. Главное – арест кровопийц-колчаковцев. Всех вас, сюда пришедших, разбиваю на тройки.
– И двух хватит, Михайло!
– Нет, товарищ Фесенко! Нет! Двоих будет мало… Делимся так: Берзинь, Кулиновский, Мандриков – арестуют начальника уезда Громова. Фесенко, Гринчук, Клещин – возьмут полковника Струкова. И поосторожней с ним: хитер, опасен! Остальные – возьмут Суздалева и Соколова, а уж в самом конце – дурака Толстихина.
В четыре пополудни выйти не удалось. Задержались из-за дикой метели и туманящей ум северной вялости. В плотных сумерках, уже около семи часов, по нерасчищенному снегу, напрямик, двинулись к дому Громова.
– Вам предъявляются следующие обвинения… – начал сосредоточенно Берзинь.
– Чего слова даром тратить! Ясное дело: с-с-сплутатор! Народ обобрал до нитки! Я т-тебе! – Всегда выдержанный, невысокий и малосильный чуванец Кулиновский вдруг сам себя испугался и убрал в карман выхваченный револьвер…
В дальней комнате – все двери были настежь – заплакала громовская жена. Все пришедшие знали: она больна, возможно, доживает последние дни. Берзинь прошел к Громовой, стал потихоньку увещевать:
– Вы, Евдокия Павловна, из комнаты этой уйдите, Христа ради. Для общей пользы – встаньте и уйдите. Случился переворот. Но мы никого не тронем. Жили вы раньше спокойно – так и дальше жить будете.
Громова отковыляла на кухню. Подойдя к окну, увидела: на улице топчутся – то сходясь, то расходясь – трое вооруженных солдат в длинных тулупах. Евдокия заплакала в голос.
– Ан-н-нархисты, одиночки, – услышав плач, Громов обвел взглядом стоявших порознь ревкомовцев, – хоть жену пожалейте!
– Ее не тронем, – выступил вперед вошедший чуть позже и еще не отдышавшийся после быстрой ходьбы Мандриков. – А вот денежки, те придется сдать.
На улице грохнул выстрел. Мандриков кинулся к окну. Стрелял один из солдат оцепления, то ли сдуру, то ли для острастки. Никого чужих во дворе не было.
– Деньги вываливай, сволоч-чь! – сам себя не узнавая, зашипел вдруг бывший матрос. Но тут же спохватился, сказал равнодушно: – Сейчас опись имуществу вашему сделаем. Все чисто опишем. Вы, горе-правитель, еще и расписочку нам дадите. Где и пропишете красивым почерком: «Деньги, мол, сданы по требованию Анадырского Совета рабочих депутатов».
– Денежки вам понадобились, у, смутьяны! – Громов привстал, но тут же рухнул на широкий, обитый полосатой материей стул…
Остальные представители прежней власти – строго по списку ревкома – были арестованы без возгласов и драм. Штурм анадырских твердынь был краток и совсем не походил на отзвуки штурмов, доносимых из далекой России. Этой ловкости и краткости Мандриков затаенно улыбнулся. Удачное дело следовало продолжить!
На следующий день, 17 декабря, собрали сход. Пришло тридцать четыре человека. Мнения разнились. Многие были за немедленный расстрел «колчаков». Но были и противники. Мандриков, выбранный на сходе председателем ревкома, выступая, кричал:
– Социалистические идеи не требуют крови! Оставим всех колчаковцев и даже полковника Струкова, если вы того сами пожелаете, до весны под арестом!
Спешно создали следственную комиссию для перечня преступлений арестованной верхушки. Потом сразу перешли к другим делам. Долги отменили, коммерсантам, угольщикам и владельцам рыбалок – огромных рыбных хозяйств – погрозили кулаком.
Однако внезапно все эти дела показались Мандрикову ничтожными, жалкими…
После схода, уже ночью, он услал каждого из ревкомовцев – всего их теперь было одиннадцать – спать, а сам, вернувшись в занимаемый дом и неустанно думая про Елену небесную, сел писать воззвание к телеграфистам уезда.
Воззвание не давалось. Но потом как прорвало.
Брызгаясь чернилами, предревкома писал вкривь и вкось:
«Люди голода и холода! Третий год рабочие и крестьяне Сибири и России ведут беспощадную борьбу с наемниками богатых людей Америки, Франции и Англии, которые хотят затопить в крови трудящийся народ.
Япония выслала в Приамурье 200 000 солдат, которые заняли все деревни, безжалостно убивают детей, стариков. Они думали кровавым террором убить русскую революцию, но ошиблись… Последние уцелевшие остатки армий интервентов поняли обман своих правительств и требуют ухода с русских территорий! А мы требуем… А я… я требую любви…»
Мандриков встал. Потом снова сел и зачеркнул две последние фразы. Чернила ни к черту не годились. Фразы продолжали быть видны, лезли настырно в глаза. Холод усиливался. Ночь продолжалась, хотя по счету времени настало уже скупо-свинцовое чукотанское утро. Писать расхотелось. Но закончить нужно было непременно.
Скребя задубевшими валенками по мерзлому полу, Мих-Серг – как в день знакомства назвала его Елена – прошел к столу, брызгая лиловыми каплями, без всякой связи с предыдущим записал: «Цель переворота – свергнуть власть колчаковских захребетников. Власть должна стать делом! Не должна она быть ленью и баловством…»
– Остальное Куркутский поправит. Если надо, и допишет, – проворчал предревкома и стал поспешно одеваться.
Он сперва сам не понимал, зачем это делает: все никак не кончалась ночь, пост Ново-Мариинск спал мертвым сном. Смущенно и нагловато улыбаясь, на ходу обматывая лицо бабьим, случайно попавшим под руку платком, Мандриков колобком выкатился на улицу. Ноги сами понесли его к знакомому одноэтажному дому, который снимала чета Биричей. По пути он снял с поста двух вышагивавших у ревкома часовых, жестом позвал за собой.
В доме Биричей спали. Мих-Серг стал стучать руками и ногами, хотел кричать, но не смог: сразу осип, охрип. На помощь пришел один из часовых, моторист Булат:
– Выходи по одному, контрики, щас по очереди в паровые котлы опускать вас будем. – Голос у моториста был зычный, иногда взлетавший до фальцета.
Голос враз пробил стены, отворились наружные двери, отворились и двери в покои внутренние…
Павла Бирича с конвоиром отправили в арестный дом. Елену Мих-Серг увел к себе: «для дознания».
«Дознание» началось резко, с надрывом души и рваньем белья. Елена такому дознанию нисколько не противилась – наоборот, что есть сил сбитому с панталыку председателю ревкома помогала, а потом и сама начала верховодить.
…длилось такое «дознание» сорок шесть дней, сорок пять ночей…
* * *
Наутро Михаил Мандриков, новый председатель Анадырского ревкома, помолодевший лицом, но помутневший глазами, произнес перед чукчами и чуванцами, а также перед несколькими ревкомовцами, свободными от дел, краткую речь.
– Товарищи – граждане Ново-Мариинска! Товарищи – граждане Анадырского края! В результате ревпереворота все сейчас в наших с вами руках. Вы теперь – хозяева края. Вы – повелители власти! Бывший морской пират Свенсон и разное другое жулье скопили мильоны долларов на нашем с вами Чукотане. Они обобрали вас, товарищи охотники и рыбаки, они построили себе дома в Сан-Франциско и еще черт знает где. Но теперь – все другое! Книга долгов уничтожается, все записи ликвидируются! Продовольствие будет распределено по справедливости!
– Всем, однако, не хватит…
– Хватит всем и хватит каждому! Аккуратно и сытно будете кушать, товарищи. У богатеев на складах – всего до черта!..
Говорить о продовольствии и о реквизиции было легко. Но когда дошла очередь до расстрелов, в горле стало черно и сухо.
Убаюканный ночной революционной любовью, расстреливать контриков Мандриков не хотел. Однако следствие провели быстро, провели – ухмыляясь в усы и кривя губы – без него.
– Ты там пока поплавай в облаках, а мы тут все сами решим.
Следствие велось три неполных дня. Решено было всех, кто имел касательство к власти, расстрелять. Снова собрали сход.
– Присутствуют тридцать четыре человека и гражданина, – выкрикнул в зал Игнатий Фесенко.
Мандриков опять выступил со своим, кое-кому уже надоевшим:
– «Сосилистиские идеи не требуют крови! – передразнивал Мандрикова мрачный Фесенко. – А моей крови колчаки почему требывали?!»
Посередь низкого урчания и свиста Мандриков попытался вспомнить Елену и вспомнил. Попытался сказать что-то утешное про свою жизнь и не смог. Махнув на все рукой, на время покинул сход. Он уходил от здания ревкома – выстроенного буквой «г», деревянного, приземистого, очень крепкого, с четырьмя кирпичными трубами – развалистой морскою походкой. Но и что-то новое – осторожное и даже вкрадчивое – в его движениях появлялось.
Елена небесная ждала его в холодноватом дому! Она несла ему невиданный восторг. Но среди этого восторга его вдруг резко било под дых какое-то неясное горе. Казалось, вроде нужно обмануть судьбу, заодно обмануть и Елену…
Но это – потом! А пока нужно было греть жаровни, топить печь, кипятить воду, нашаривать под скатертью крохи вчерашнего ужина. И вообще нужно было спешить: почему-то прямо здесь, во время разговоров о расстреле Елена представилась легко уязвимой, как дым, летучей, подверженной всем опасностям холода и голода…
Мих-Серг едва не кинулся домой, но вовремя остановился: нужно было довершить дела на сходе.
А сход рычал и пофыркивал, как зверь, уже убивший добычу и теперь лишь примерявшийся: с какого боку начинать рвать и кромсать ее.
Подходящее время Мих-Серг проворонил: теперь вступаться за арестованных было бесполезно. Только что, перекрикивая тех, кто был недоволен медлительностью новой власти, огласили три предложения.
Первое предложение звучало так. Оставить заключенных под стражей до весны (предложение товарища Бесекирского, коммерсанта).
Второе. Всех расстрелять (предложение следственной комиссии).
Третье. Передать арестованных в полное распоряжение ревкома, который и решит, как с ними поступать (предложение товарища Пчелинцева).
Большинством голосов (19 – за расстрел, 15 – за предложение Бесекирского, 1 – за предложение Пчелинцева) постановили: Громова, Струкова, Суздалева и Толстихина расстрелять.
Однако тут же следственная комиссия устами Тренева внесла новое предложение: полковника Струкова, как полностью раскаявшегося и готового делом доказать сочувствие красной власти, оставить под арестом до весны.
Мандрикова предложение взбесило, он кинулся с кулаками на Тренева. За руку удержал туманный латыш:
– Остынь, не сейчас…
– Если кого и расстреливать, так это мерзавца Струкова! – вырывался из рук мечтательного Августа разъяренный Мих-Серг.
Крик не подействовал. Приговор оставили без изменений.
Той же ночью приговор в отношении трех подследственных был приведен в исполнение. Струкова под конвоем увели на другую сторону реки Казачки, в Арестный дом.
* * *
Подлинная книга судеб – книга долгов.
Следующим утром привезли долговую, с трудом разысканную книгу.
Книгу везли на нартах: так велика была. В ревкоме книгу, в которой для удобства записаны были и долги коммерческие, и долги казне, подпалили сразу с четырех концов. Но горело плохо. Обшитая выдубленной лахтачьей шкурой, слабо-желтый огонь книга переносила легко. Не сумев спалить, решили утопить. С криками и смехом семь-восемь человек вальнули на улицу, погрузили долги на нарты, двинулись гурьбой к Анадырскому лиману. По дороге книгу долгов снова резали и секли, по-шамански визжа, пинали ногами.
Ерошка-юрод – русский, молодой, с гноящимися глазами, звонкоголосый – танцевал без сапог, в онучах. Черная пятка мелькала над взрыхленным снегом, Ерошка то скидывал, то напяливал на себя снова трухлявый тулуп.
– Так ее и разэтак! Сон у меня подтибрила! Яиц лишила! Чтоб ей, книге, ни добра, ни путя! Чтоб ее на том свете нечистая сила в бабу загнала, в печке сожгла и пепел проглотила, а потом пепел срыгнула, рыготню изо рта ледышкой выдернула, и тех, кто долги наши записывал, – ледышкой по голове, по голове! А ледышка растет, растет, а головы, как скорлупки, трещат, трещат!.. А не выписывай, чернильное семя, наши долги, выписывай долги свои перед богом страшным!
Лахтачья шкура от битья и порезов делалась только крепче. Поорав всласть, книгу вывалили у незамерзающего, покрытого лишь тоненьким ледком проду́ха, оставленного близ косы Русская Кошка, в мелководном, не слишком холодном лимане для тюленей. Привязав к долгам плоский валун, книгу спустили под лед.
Долги – канули. Встала железной дурой жизнь иная: без корявых записей, без жестоких долгов. Правда, кое-кому долгов стало жаль. А кто-то попросту испугался. Старый Кмоль даже заплакал:
– Без долгов – какая жизнь?..
Покончив с долгами, остались горлопанить на берегу. А Ерошка-юрод, полчаса назад наглотавшийся неразведенного спирту, вмиг протрезвел. Вроде и ум к нему вернулся: следовало бежать к Арестному дому, выручать хозяина, полковника Струкова. Не чуя смазанных медвежьим жиром и кое-как обтянутых онучами ступней, Ерошка сыпанул от Русской Кошки прочь.
Он торопился в Арестный дом неровной проваливающейся походкой и по временам подпрыгивал, как ошпаренный. Что по снегу, что по летней каменистой земле юрод всегда ходил, показывая: мол, не в себе, не в себе он! А уж если приходит в ум – так ум этот в облаках витает. Филерская натура и нутро соглядатая сразу в два уха ему нашептывали: «Ты гений сыска, Ерофей Фомич!» А маска юрода, измысленная когда-то в Генеральном штабе, позволяла рубить правду-матку, позволяла вслух издеваться над властями, клясть правителей, вождей. Позволяла ругательски ругать даже американца Иглсона, который Ерошку присматривать здесь за происходящим и поставил. «Смотри, Юрошка, – переиначивал имя капитан Иглсон… – Смотри в обе дырки, мерзавес-с-с!»
И только чукчей не смог провести Ерошка.
– Шибко врет, дурак русский, – сказал как-то старый Кмоль, – шибко омманывает! Не божеский он человек. Предаст всех, однако…
* * *
О перевороте в Ново-Мариинске необходимо было сообщать незамедлительно, сообщать всем и каждому: Чукотану, Камчатке, Америке, чуванцам, ламутам, русским. Утаивание революционного положения было недопустимо. От невозможности сообщаться с далекими друзьями предревкома сильно нервничал: чужедальние радиотелеграфисты противились очевидному, отмалчивались, отпихивались, злобно трубили о победах Колчака.
Сперва Мандриков решил действовать персонально. Для начала письменно предложил заведующему рацией Наяхана передать праздничную революционную весть в Охотск и Владивосток. Наяхан-заведующий отказался. Тогда Мих-Серг опять взялся за перо, чтобы привычно обратиться ко всем, всем, всем.
Воззвание получилось кратким и душевозвышенным.
«Товарищи радиотелеграфисты, – писал Мих-Серг, – вы перначи нового мира! Крыльями слов и волной эфира возвестите всем своим братьям: житель Севера – русский, эскимос, чукча, ламут – восстал против купцов-мародеров. Раньше радио было прислугой спекулянтов, пусть же теперь оно смоет с себя пятно позора, засияет арктической чистотой…»
46/45
Чукотка – ледяной рай. Революция – палящий жар. Чукотан – медлительность и расслаба. Революция – прыжок и уцеп. Казалось, вместе им не срастись. Но ведь срослись, соединились!
– Это краденая Елюся, жар и ледяную печаль собой соединяет. Волшебница она, ведунья… – проговорил вполголоса Мандриков.
Он провел ладонью над лицом, ключицами и грудью спящей Елены: пальцы обдало теплом. В холодной комнате от груди ее шел слабый, но все же ощутимый жар. Даже, показалось, лучистое сияние исходило. Именно так: сияние! И совершенно точно – от груди. Не от чела, не от щек и губ…
Что Елюсе неведом стыд, Мих-Серг понял давно. Но понял он и другое: не бесстыдство, а нечто высшее, ни ему, ни ревкомовским крикунам не подвластное, было в этом божественном отсутствии стыда, в прикосновениях слегка порочной, чуть увлажненной, но всегда остававшейся лучезарно-упругой плоти. Плоть дышащая, лучистая душой Елены, кажется, и была.
«Без порока – нет святости», – вспомнились внезапно ее слова, сказанные без всякой причины на нижней палубе парохода «Томск». Тогда шумел океан, гомонила-стучала в ушных раковинах кровь после двух соитий, и на эти слова он внимания не обратил. Теперь – вспоминал.
По утрам в одноэтажный на кирпичном фундаменте дом, отданный Мандрикову в полное владение, сквозь метель пробирались ревкомовские. Елена, поздоровавшись, уходила в смежные комнаты. Шла неспешно, замедляя шаг. Ревкомовские на Мандрикова косились, а в сторону Елены тихо поплевывали. Елена с ними почти не говорила. Иногда роняла:
– Я – графиня Чернец. Революцию вашу подлую на дух не выношу. Но вас, ее сотворивших, ценю безмерно.
Стягивая на груди меховую, привезенную из Владика накидку, она уходила к себе за занавески. И только с Чукотанчиком – малорослым и резвым Выкваном, притянувшим ее кривоватым лицом и смешным, уже наполовину беззубым ртом, только с ним, забегавшим едва не каждое утро, чтобы сообщить Мандрикову новости из отдаленных стойбищ и попросить у него американского консервированного мяса, – она степенно, подражая одной из своих классных наставниц, беседовала.
Мясо вяленое, буйволиное, Выкван начинал жевать уже на ходу и отвечал Елке-Ленке с набитым ртом. Слов от жевания у него во рту становилось все меньше и меньше, да и те хлюпали слюной. Строгую наставницу это смешило, но и трогало до слез.
Однажды, смахнув слезу, послала Чукотанчика с запиской к бывшему, как она теперь считала, мужу, которого, несмотря на возмущение Мандрикова, все же выпустили из Арестного дома. Выпустил опять-таки Тренев, бывший коммерсант, ныне ревкомовец. Сообразив, зачем Тренев это сделал, Мих-Серг сразу утих, но решил, когда будет нужно, догадкой своей воспользоваться…
Муж, Павел Бирич, сидел в доме тихо как мышь. Вернуть Елену не пытался, думал о чем-то другом. Елене это было ясно как день, и такая ясность, томя, пугала. Без всяких объяснений она вдруг попросила Павла прислать с маленьким чукчей японскую шкатулку, письма и кое-какие драгоценности. Бирич, боявшийся Мандрикова как огня, не отказал…
Хрустнул и громадным торосом в последней своей трети надломился декабрь. Уже кончались двадцатые числа, когда Елена нежданно-негаданно пригасла, потускнела. Мандрикову сразу втемяшилось: затосковала по мужу! Дело, однако, было в другом. Получив от Павла шкатулку и вмиг перепрятав старые письма, Елена стала вытряхивать прямо на обеденный стол всякую всячину. Среди прочего вытряхнула перстень-печатку с буквами на плоском кругляше и мелкими голубыми бриллиантами по расширявшемуся к печати витому ободу. Присмотревшись, увидела: один из камней блещет пламенем синевато-багряным… Поколебавшись, надела перстень на средний палец.
До этого перстень вспоминался каждый день. Как тот охранник-самурай в японской школе, он дурил ей голову, звал к себе, прокалывал насквозь лучистыми зрачками. А потом перстень стал навевать мысли иные. И почти всегда эти мысли приводили к Верховному правителю России Александру Васильевичу Колчаку, с родственниками которого, а потом и с ним самим был по одному из южнороссийских дворянских собраний знаком отец Елены.
В отблесках перстня, при гаснущей свече, Колчак Железная Рукавица проходил по краешку видений-снов. На виске у Верховного зияла страшная рана. Он приближался к столу, брезгливо трогал приготовленный Еленой для самой себя широкий бинт, потом ловким и быстрым движением мизинного ногтя выковыривал из перстня все мелкие камни, кроме того, который блистал багрецом, и, спрятав перстень под бинт, обматывал себя тугой, закрывающей и рану, и половину лица повязкой.
Облегченно вздохнув и одернув китель, Верховный сдержанно Елене кланялся и – как уверенный в себе циркач по круто подымающейся от пола к потолку еле видимой проволоке, бодро ступая, – уходил.
Перстень-печатку подарил Елене свекор. Икая, проворчал при этом что-то невнятное: «Каторжане перстень лили, каторжане печать вырезали. Не будешь сына мого Павла Хрисанфовича… ик-ик… обожать – перстень накажет: и в тебя войдет жизнь каторжная!»
После того как перстень снова оказался на пальце Елены, она тускнеть и стала. Однажды после исступленной любовной ночи, содрав перстень, швырнула его под кровать. Притворявшийся спящим Мандриков зажег лучину, мелькая исподним, полез в темноту, перстень нашел, залюбовался: под свечой сине-багряно рдел огонь революции!
Перстень в руках значил совсем не то, чем был он на пальце Елюси. Он вдруг становился революционным морским фонарем, исправно работающим на китовом жире: выправлял путь, приказывал следовать по волнам жизни за ним, только за ним.
– Отдай, подари мне…
Мих-Серг всем телом лег на Елену: не для ласк – для смиренных просьб.
– Это не кольцо, это перстень-печатка. Кто знает, чья печать на нем высечена?
– Баской перстенек, революцьонный… Мой, мой это перстень!
– Да я сама не знаю, как от него избавиться.
– Так избавляйся, на мизинный палец нацепить помоги!
Вдвоем перстень кое-как напялили. А вот снять, как Мих-Серг ни пытался, было невозможно. Обрадованно, но так, чтобы не слышал Мандриков, Елена по ночам шептала: «Господи, теперь совсем ничего на мне нет, нагой в мир пришла, нагой уйти готовлюсь…» Будущая смерть в наготе и чистоте вдруг ей представилась сладкой, возвышенной.
Избавившись от перстня, Елена снова расцвела, стала прежней: неимоверно свежей, зеленоглазой, смешливой… Как-то под Рождество, успокаивая Мандрикова, сказала то, во что сама не верила:
– Перстень нам разлучиться не даст.
Мандриков сперва в слова эти не поверил, но потом, ни с того ни с сего, верить в неразлучность себе разрешил…
Перстень исподволь менял жизнь.
Мих-Серг замечал, но лишь кривил в усмешке губы. Прибыв в Арестный дом допрашивать Струкова, невзначай упомянул о перстне. Струков глянул на мизинец с ухмылкой, обещал вспомнить все, что знает о перстнях-печатках, и опять предложил строгую полицейскую помощь в деле утверждения революционного порядка. Мандриков чалдонистому полковнику не верил, но отдать приказ о расстреле Струкова почему-то никак не мог, хотя ревкомские дела шли ни шатко ни валко и расстрел такого пещерного зверя, как полковник Струков, мог революционную работу сильно оживить.
И было ведь что оживлять! Недострелянные «колчаки» потиху-помалу приходили в себя. На радиостанции зрел бунт, теперь уже против ревкома. Мандриков многого не замечал. «Обуржуазился с графинькой туфтовой», – пожирая Елену глазами, рявкал временами моторист Фесенко.
Сумрачный коренастый Фесенко предлагал меры. Меры касались и «колчаков», и «графиньки». Мандриков от Игнатовых мер отбивался как мог. Ему больше не хотелось расстрелов и крови, хотелось подручным машиниста на крейсер «Олег», в очищенное от плавучих льдов Балтийское море. А через три-четыре месяца – прыг из морского похода под одеяло к Елюсе!
Хрипя и посапывая под тройными кожухами, как росомаха, жадно ощупывал он полуголую Елену, стараясь и во сне не выпускать из рук ее плотно-пружинистое, или, как сказал бы Август Берзинь, если б мог Елюсю потрогать, «эластическое», тело. Короткими предъянварскими утренниками Мих-Серг – раздражаясь от собственных нюнь – впервые в жизни начинал ждать лета.
Чуя нежданные перемены и ясно понимая: перстень с багряным отсветом Мих-Серга доконает, Елена стала потихоньку молиться. Молитв почти никогда не доканчивала: хотелось говорить с Богом своими словами. Но своих не хватало, а обычная молитва, как ей казалось, здесь не подходила. Отводила душу в разговорах с Выкваном-Чукотаном: в сенях толковала ему про Берингийскую сушу, которая теперь скрылась подо льдами и под водой, но которая когда-нибудь обязательно выставится наружу. Чуть погодя, вдосталь натешившись над наивным Чукотаном, шла варить пахучую оленью похлебку.
Похлебка была жирной, дымовитой, была гуще и слаще утренне-вечерней жизни. А вот по ночам жизнь была другая: призрачная, мокро-холодная. Просыпаясь в темноте от неясных томлений, Мих-Серг и Елена про перстень старались не говорить. Зато Верховный возникал в их ночных перепалках часто.
– Под ноготь его! Зажился на этом свете Колчак-паша!
– Не паша, а Железная Рукавица, Мишенька!
– Откуда слова такие про него знаешь?
– Училась кой-чему…
– Врешь! Брешешь, графинька ты липовая…
– А вот не вру. Сам обманщик! Помнишь, как обманывал меня на «Томске»? Мол, университетский курс кончил!
– Чего ж тебя, дуру, не обмануть было? Разве не понравилось, что обманул?
– Понравилось, Мишенька, ох как понравилось… Только, боюсь, и после обманешь…
Постельный рай исчез в один миг. Все разбилось вдрызг! Сорок пять дней, сорок шесть ночей были расколоты десятком жестов, уничтожены ледяным молчаньем, сожжены вспыхнувшими внезапно ссорами и вслед им – грянувшим штурмом ревкома.
Ответный прыжок
За несколько дней до штурма, 20 января 1920 года, затеяли передачу «в собственность народу» богатых рыбалок. Поздней осенью их владельцы перегородили устье Казачки сетями, чем поставили окрестных жителей в тяжкое положение. Рыба ушла, запасы ее, сделанные загодя, кончались. Безрыбье вело к уничтожению собак, а значит, грозило неминучей смертью оленным людям, охотникам ближних и дальних стойбищ.
Еще через несколько дней, в самом конце января, чукчи привезли из Залива Креста письмо для бывшего пристава Смирнова, теперь подавшегося в коммерсанты. Отдав письмо Смирнову, прибывшие пошли в ревком и пожаловались Мандрикову: близ Залива Креста творится что-то неладное, вроде бы убит – хотя трупа никто не видел – председатель местного Совета Киселев, и убил его один из сподручных Смирнова.
Михаил Мандриков и еще трое кинулись к Смирнову, выяснять. Потребовали предъявить письмо. Вместе с письмом дома у бывшего пристава изъяли шестьдесят четыре патрона и револьвер. Смирнова той же ночью увели в ревком для допроса. Пока препирались, кому допрашивать, бывший пристав, остававшийся в комнате один, выпрыгнул в окно, но напоролся на охрану. Ему кричали: «Стой, Смирнов, стой!» Тот продолжал бежать. Тремя выстрелами в спину бывший пристав был убит…
31 января, в ответ на обобществление рыбалок и убийство Смирнова, увеличив запас оружия и патронов почти втрое и окружив здание ревкома со всех сторон, верные Колчаку люди – четверо полицейских, несколько бывших солдат регулярной армии, коммерсанты, приказчики, горнорабочие – начали штурм.
Штурм был скор и походил на прыжок разъяренного зверя.
Елена, пришедшая в то утро к Мандрикову мириться – несколько ночей они провели врозь, – начало штурма приняла почти равнодушно. Что-то большее, чем революция и контрреволюция, вырастало в ней самой, вырастало вокруг. Чукотка вдруг начала казаться если не раем, то хотя бы его преддверием. «Ну да, конечно! Рай всегда обтыкают пальмами, обвешивают лианами, заселяют змеями и обезьянами! А тут – снег, первозданность, простор! Таким и должен быть рай земной, где-то во льдах переходящий в рай небесный: диким, чистым, холодным! Вымораживающим тело, зато до белизны очищающим душу…»
Входя в ревком, Елена оглянулась. Вдруг показалось: близ одного из сараев мелькнул Бирич. Никаких весточек от Павла, пытавшегося в последние дни что-то ей передать, даже написать, в последние сутки не было. Его, как и выпущенного из Арестного дома Струкова, еще две недели назад выслали на угольные копи, расположенные на другом берегу лимана, в нескольких километрах от Ново-Мариинска. Не раз и не два Елене приходило на ум: прежняя власть что-то затевает. Пыталась сказать об этом Мих-Сергу, тот досадливо отмахивался: «Знаю! Только пупок у них развяжется».
Почти сразу после того, как Елена, войдя в ревком, ласково и примиряюще поговорила с Мандриковым, вбежал кто-то незнакомый, заорал благим матом:
– Две нарты уходят на рыбалку Грушецкого! За подмогой! Колчаки на телеграфе и в доме Бесекирского! Там бойниц понаделали, штурм готовят!
Мандриков сник, потом нашелся, крикнул:
– Возьми двоих, Иван, перехватите нарты!
Как только трое с винтовками наперевес выскочили на улицу – началась пальба. Стрельбой по ревкомовским окнам руководил кто-то опытный, беспощадный. Стреляли с четырех сторон – кроме позиций на радиостанции Учватова и в доме Бесекирского заговорщики организовали еще две: в близлежащих домах Сукрышева и Петрушенко. И того и другого Елена знала, бывала у них с Павлом не раз…
Равнодушие стало потихоньку исчезать, и Елена почувствовала: тут им всем и конец. Не слишком-то сочувствуя революционным переменам, она все же плотно приписала себя к Мандрикову, а значит, и к ревкому. К мужу назад не хотела, липких губ свекра остерегалась даже во сне… Кинувшись в комнату, где заседали ревкомовские, она суматошно обняла и поцеловала Мандрикова, тот досадливо отстранился. Не обращая внимания на выстрелы, целовала еще, еще…
Новый залп раскидал ревкомовцев по углам.
Отстреливались редко, вяло.
– Конец, – хрипло зареготал вдруг Игнатий Фесенко. – Ну, Мандрик, ну, кобель наш недорезанный. Все из-за твоей бабы!
– Цыц, Игнат! Не баба дорога мне, революция!
– Ну, если бабы тебе не жаль… А пошли ты ее к ним на переговоры… Хошь, я с ней пойду? Хоть раз по дороге пошшупаю…
– Здесь, здесь, Игнашка, останешься. А вот ее я и пошлю, может…
– Давай, командуй, матрос, горячей! Или бабу свою с белым флагом скорей посылай, – не унимался Фесенко.
– Куда стрелять? У них с четырех сторон укрытые позиции…
Мандриков вспомнил: еще в конце декабря на заседании ревкома моторист Фесенко настаивал: «Бросай ты, Мандрик, свою сожительницу! Она графинькой только прикидывается. И что обожает тебя – врет. Утка она подсадная… Крякает им потихоньку…» – «Ну ты, потише тут!» – замахнулся тогда на Фесенку Мих-Серг. «А что? Самого Степан Тимофеича Разина княжна проклятая сгубила! А тебя графинька – в два счета погубит. И хрен бы с тобой: весь ревком под ножи она пустит!»
Мандриков тогда же хотел вывести Фесенко из ревкома. Но вывел позже, когда узнал, что Фесенко среди рабочих угольных копей не раз и не два говорил: мол, некоторые большевики Ново-Мариинска, захватив власть, не только отбирают чужое имущество – чужих жен присваивают!
– С энтими женами и с награбленным добром в Америку драпать собираются!
Выведенный из ревкома Фесенко продолжал, однако, рьяно во всех делах участвовать…
Пальба из винчестеров возобновилась. Елена разговор про белый флаг слышала, приготовилась к худшему. Но снова как-то отстраненно, даже ей показалось, над всем происходящим все сильней и сильней восходя. Впрочем, это возносящее вверх чувство не помешало ей во время последнего залпа отскочить за кирпичную печку, вытолкнув оттуда прятавшегося ревкомовца Клещина.
«Жизнь ведь не кончается? Нет? Хорошее и дурное только началось?» – спрашивала она себя.
Мандриков почти в такт ей шевелил сухими губами:
«Послать Елюсю? Неясно, поможет ли. Но время можно выиграть. Эх, Берзиня бы сюда!.. Так нету его… Пойти самому? Послать кого из наших? В здании – восемь бывших солдат, все участники боев. Нет, командиру нельзя… Да и меньше на одного станет… А она сама-то под пули полезет? В одночас застрелить могут… Потом скажут: фактическую жену свою с белым флагом на смерть предревкома отправил».
«Колчаки» дали новый залп. Стреляли разом, с четырех сторон.
– Уходить некуда! Только на радиостанцию. Может, не успеют перебить по дороге. А лучше – отправляй парламентера.
– Тебя, што ль, Игнашка?
– Эту свою отправляй… Говорил же тебе: подсадная она!
Фесенко наставил наган на Мандрикова.
Слова про подсадную утку резанули, как сталь. Елена, выскочив из-за печки, ударила сидящего на полу у стола Фесенку коленкой в лицо. Игнатий наган выронил…
Про подсадную утку Мандриков слышал не раз, но вслух сильно не возражал. Думал, Тренев «подсадной». А раз так, пускай Тренев знает: и предревкома на свою бабу думает…
Вдруг неожиданно для себя Мих-Серг, как в беспамятстве, рявкнул:
– Елюсь, давай! Не убьют – хоть ты жива останешься!
* * *
Стрельба легла гуще. От окон и дверей откалывались щепки, куски.
– Слышь, Елюсь… Сходи за печку, от белья моего егерского кус оторви. Нижняя рубаха там сушится… Переговорщицей, кроме тебя, идти некому. Скажешь им: «Нужна власть – берите. Мы просто контрольным органом будем…»
– Зацем бабца посылаешь? – крикнул Кулакутский. – Ись цего удумал! Сам иди! Или я пойду.
– Тихо, ты, на ней все как есть проверим! – Клещин замахнулся на Кулакутского.
– Опоздали мы с ней… Давай прорываться, Мандрик.
– Не прорвемся, Игнатий. А она, глядишь, поможет…
– Цем здесь поможешь? – едва не плакал Кулакутский.
– Отвлечет она их на время, а мы тут обмозгуем одно дельце. Денег я им посулю. Много денег! На трех нартах не вывезут!.. Для спекуляторов деньги – первое дело…
Елена вышла из-за печки с белой в желтых пятнах, еще непросохшей нижней рубахой. Стояла молча, витая мыслями в снегах, во льдах. Мих-Серг, пригибаясь, сбегал за шубой, напялил кое-как на Елюсю, привязал к деревянному бруску егерское белье, толкнул переговорщицу в спину…
От мих-серговского прикосновения Елена вдруг успокоилась, с нежданной радостью навалилась на дверь, выходя, споткнулась, упала на одно колено, быстро поднялась и вдруг, высоко вздымая брусок с егерским бельем, ровно-гордо пошла к дому Сукрышева, прямо на стрелявших…
* * *
На полчаса стрельба прекратилась. Еще перевязывались и заграждали окна перевернутыми столами, когда поднырнул под крыльцо, а потом через собачий лаз проник в сени карлик-ламут, которого нападавшие, скорей всего, приняли за любопытного мальца. Ламут завизжал:
– Сидите тут? А в доме Сукрышева над Елкой-Ленкой надругались… Теперь – хвастают. Сдавайтесь, а то обещали всех побить к такой-то матери: и вас, и нас!
Через минуту-другую стрельба возобновилась.
– Все, выходим, не продержаться. Раненых – вперед, может, по ним палить не станут…
По одному двинулись к изрешеченной, теперь едва висящей на соплях двери.
– Все здесь? – озирнулся Мандриков.
– Не все. Я тут… Тут остаюсь.
Сидевший на полу Игнатий Фесенко, моторист и сеятель слухов, опираясь спиной о ножку стола, сожмурил веки и, держа наган двумя руками, выстрелил себе в рот.
Мандриков с досады плюнул под ноги.
Тут же ему почудилось: земля уходит из-под ног, снег голубеет, чернеет, а потом становится грубо-жестким, костенеет…
Кости, одни желтовато-белые кости, хрустели у него под подошвой в ревкомовском доме, чуть пересыпались под ветром на улицах Ново-Мариинска, расстилались широко дальше, дальше: до Анадырского лимана, до океана!
Его еще раз, как когда-то на плывшем в Ново-Мариинск «Томске», сладко и страшно качнуло. Но тут же земля выровнялась, снова покрылась бесконечными чукотскими курящимися, как белые дымочки, снегами…
Чуть постояв на месте, он двинулся вслед за остальными.
Через секунду-другую моторист Фесенко упал на бок, глухо ударился о деревянный настил головой…
Вышедшие аккуратно складывали винтовки и револьверы на крыльце. Мандриков зачерпнул горсть чистого, не издырявленного мочой снега, протер щеки, приложил снег к вискам. Странный полукрик, полухохот клокотал у него в горле: «колчаки» стрельбу по ревкомовцам так и не открыли!
* * *
Мандрикова расстреляли через два дня на третий. Поруганную Елену Струков, словно в насмешку, отвел домой, к Биричу. Павел Бирич принимать бывшую жену не желал, полковник настоял.
– Ты у меня не только жену примешь, ты у меня, как Гришка Распутин, калий циан бокалами глотать станешь. Знаю твои делишки и намерения твои сучьи знаю…
Через несколько дней ссадины на лице и порезы на теле начали заживать, Елена смогла говорить, сразу спросила у Павла:
– Мне уходить? Или расстреляете?
– В Ном, на Аляску тебя возьму. Чтоб там все время мучилась. И прислуга красивая на первое время мне в Америке нужна будет…
Глеб Шульпяков Балансир и флюгарка
На той стороне дороги тормозит замызганная «девятка». Через стекло видно, что за рулем паренек в рабочей куртке, а заднее сиденье завалено рулонами рубероида. Из машины появляется долговязая фигура. Не глядя по сторонам, человек переходит к нам через улицу.
– Худолеев, – здоровается он. – Старший научный. Из краеведческого.
Мы по очереди пожимаем руки.
– Готовы? – он ищет глазами старшего. – Сейчас только жене скажу.
Он возвращается к машине, и когда парень за рулем снимает кепку, я вижу, что это девушка. Сам Худолеев одет в голубую, с белыми оспинами, «варенку», такие носили лет двадцать назад. На голове короткий, с проседью, ежик, переходящий в щетину, отчего голова выглядит по-кошачьи круглой. На носу узкие очки.
Мы садимся в машину, и Худолеев достает мобильный. Под его крупными пальцами кнопки хрустят. Разговаривая, он поглаживает себя по щетине.
– К губернатору сам, – густые брови сдвигаются. – А завтра пусть он.
В ответ трубка шелестит и лязгает.
– Знаю, что ляпнет, – Худолеев отстраняется. – Там можно.
История в Долговом, куда мы приехали на съемки, обычная – на реставрацию нет денег, земля под памятником продана, глава города и местное купечество выступают против музейщиков, решающее слово за губернатором, тот обычно в доле, то есть финал предсказуем. И «старший научный» Худолеев об этом знает, конечно. С железнодорожной архитектуры, которой он занимается, он переходит на байки:
– И пошел царский поезд в другую сторону, – говорит он присказками, – да не в Петроград пошел и не в Царское, а на Дно пошел, в расход, прочь с дороги истории.
В машине жарко, и он расстегивает джинсовку.
– Знаете, почему мы город? Почему Временное правительство одарило статусом? За перевод стрелки! За то, что беспрекословно выполнили приказ, – он поочередно оглядывает нас. – Все мы тут исполнители. Потомки стрелочников.
Нечто похожее, про нехорошую судьбу Долгового, я читал перед поездкой на интернет-форумах. Мне немного странно, что Худолеев, историк по образованию, повторяет эти вымыслы.
Машина едет по центральной улице. Кричащие вывески мобильных операторов, крылечки Сбербанка, партийные приемные; «ДвериЛэнд», «Коси и забивай», «Нью-Йорк пицца»; аптечные кресты, которых в этом городе больше, чем магазинов. А между этими напоминающими наспех сколоченную декорацию фасадами – пустыри или пепелища; кое-где даже торчат остовы русских печей. Такое ощущение, что город недавно сожгли или разбомбили.
– Вы знаете, – я называю Худолеева по имени, – мы разное видели, правда, Всеволод Юрич?
Поворачиваюсь за поддержкой.
– Но такого, как здесь… – я пытаюсь найти слово.
– Убожества?
– У вас тут просто семнадцатый год какой-то, – говорит Сева. – Продолжается.
– А у вас? – Худолеев охотно поворачивается. – А в стране?
– Ну что страна, – отвечаю я. – Здесь вы всё сами…
– Сами, сами! – он снова ёрничает. – С царской стрелки приемлем судьбы удары. За то, что не довезли царя-батюшку. Покорно несем бремя, да-с.
Слушая Худолеева, я не понимаю, шутит он или нет.
– Здесь, здесь поворачивайте!
На лесной прогалине видны семафоры и три-четыре товарных вагона. Торчит красная водонапорная башня. Хлопнув дверью, Худолеев берет нашего режиссера под руку; вместе с дядей Мишей они уходят в сторону станции. Худолеев жестикулирует, а Михал Геннадич кивает и даже разворачивает сценарий. Станция, куда он привез нас, – одноэтажный длинный дом с резными наличниками и башенкой-фонарем на углу. Боковая стена вся в плюще; палисадник, обнесенный бордюром из покрышек; сам Худолеев подпрыгивает на платформе, демонстрируя, как хорошо она утрамбована.
– Как говорится, до плотности садовой дорожки.
На фасаде видны следы сбитых «ятей». Сохранился знак царской нивелировки, керосиновый фонарь и столбы «телефонки».
– Шестьсот четвертый без остановки, будьте внимательны. Без остановки, – сипит из пустоты репродуктор.
…И молодой подлесок, обступивший полузаброшенную станцию, и жухлая трава, съевшая большую часть путей и откосов, и сами пути, ржавые и кривые, и заброшенная башня с гранитным цоколем, торчащая в поле, как форпост исчезнувшей армии, и тишина, какая бывает только в глухих, удаленных от магистралей местах, никак не вяжутся с поездом, который по-театральному медленно плывет вдоль перрона. В этом поезде всего четыре вагона, но даже четыре вагона старый тепловоз тянет еле-еле, поминутно выплевывая в прозрачный осенний воздух ошметки черного дыма. Вагоны мерно, торжественно стучат. В окнах дребезжит фанера, которой они заколочены. Вагоны полупусты.
– Снимут, – Худолеев протирает очки. – Кого возить? Мертвые деревни.
Когда последний вагон поезда-призрака исчезает, просто сливается с бурым подлеском, теряясь среди деревьев, как медведь или лось, – рельсы еще тихо полязгивают. Но потом и они стихают.
Это обычная механическая стрелка, такую каждый хотя бы раз в жизни замечал из окна поезда. Правда, большую часть таких стрелок давно заменили на электрические. Сева достает платок и протирает рукоятку. Рывок, другой – безрезультатно.
– Она, – Худолеев оглядывает механизм. – Изменившая ход истории.
Он снова насмешничает.
– Можно? – Я перешагиваю через рельсы.
Худолеев показывает:
– Сначала балансир, – он поднимает за рукоятку груз, а другой рукой толкает рукоятку. – А потом флюгарка. Фонарь.
Стрелка с лязгом передвигает рельсу.
– Фонарь – это сигнал машинисту, что поезд направлен на главный путь, дорога свободна.
– А если повернуть его другим боком?
– Тогда тупик.
Я протягиваю Севе перчатки:
– Давайте.
Дядя Миша и остальные удаляются за камеру.
Начали!
Рукоятка балансира ледяная и обжигает пальцы. Перед тем как сдвинуть груз, я представляю железнодорожника, который перевел царский поезд. Хорошо, что история не сохранила его имени.
После съемок – чай.
– А вы, – спрашиваю Худолеева, – сами-то в эти байки верите?
Сушка каменная, и Худолеев показывает, что лучше размачивать.
– Какие?
– Про стрелку и ход истории. Самобичевание. Вы меня извините, но, по-моему, это ерунда. Вы же историк.
Худолеев продолжает помешивать чай, а дядя Миша от неожиданности замер с чашкой.
Пауза.
– Послушайте, ну кому сегодня нужна история, – наконец отвечает Худолеев. – Людям не история нужна, а оправдание собственной лени и глупости. И пьянству. Отсюда и самобичевание.
Он продолжает, глядя в чашку:
– Прошлое – это планка. Или вытаскивай себя за волосы и соответствуй, или перепиши к такой-то матери. Почему гибнут памятники?
Он показывает чашкой в окно.
– Потому что указывают на наше ничтожество. А кому охота, чтобы его каждый день тыкали в собственное ничтожество?
По тому, как зло звучат его слова, как безапелляционно он произносит их, видно, что его мысли – это безутешный итог, в котором он себе признался, но редко говорит вслух, поскольку в провинции, и мне это хорошо известно, за такие разговоры можно вылететь с работы с волчьим паспортом.
– Виктор Вадимыч, но как же? – спрашивает дядя Миша. – На самом-то деле как было?
– А вы хотите?
Наши шумно придвигают стулья.
– Как вы, наверное, знаете, после роспуска Думы в феврале 17-го в Петрограде начались волнения. Поскольку законная власть оставалась лишь у императора, тот приказал выслать на столицу карательные отряды с целью подавить возмущение. Сам же он выехал из Ставки чуть позже.
– А где находилась Ставка? – дядя Миша.
– В Могилеве. Оттуда утром 28 февраля выходит свитский литерный поезд «Б». За ним следует литерный «А», то есть царский. Оба поезда идут в Петроград через Смоленск, Вязьму и Лихославль. Это кружной путь, и он пересекается с Николаевской дорогой как раз на нашей станции.
– А почему по окружному? – Сева.
– Прямой держали для карательных частей, они шли в Петроград. Точнее, должны были идти. А наши двигались следом. Первые полдня ехали без приключений, губернские города, где о беспорядках в столице не знали, встречали императора со всеми почестями. Только в четыре часа вечера со свитского в царский пришло сообщение, что в Петрограде образовался Временный комитет членов Государственной думы и некий депутат Бубликов по поручению этого комитета занял Министерство путей сообщения. Он теперь передает по железнодорожному телеграфу подписанные Родзянкой воззвания.
– Что это значит – «захватил»? – Сева возмущен. – Кто он такой?
– Сейчас, сейчас. – Худолеев словно сам едет в этом поезде. – На этом надо бы подробнее. С вечера 28 февраля судьба царского поезда зависит от двух людей, занявших телеграфный аппарат в министерстве. От этого самого Бубликова и его помощника, члена инженерного совета по фамилии Ломоносов. Следуя их указам, в ночь на 1 марта царский поезд мечется с ветки на ветку. Да вот здесь, собственно, в этих местах.
За окном тот же осенний пейзаж, но теперь мы смотрим на рельсы, словно с минуты на минуту покажутся голубые вагоны.
– Как это ни комично, судьба империи оказалась в руках Бубликова с Ломоносовым. Эти ребята берут под контроль связь по всем направлениям, то есть всю страну. Более того, в лице начальников станций Ломоносов и Бубликов получают прекрасных осведомителей. Говоря по-нашему, только у этих людей в империи есть Интернет, только они знают, что реально делается в Петрограде и его окрестностях, и только они могут рассказать об этом народу. Или не рассказывать. Или дать ложную информацию. И Бубликов отправляет по всем станциям телеграмму, в которой оповещает начальствующих, что по поручению Комитета Государственной думы он, Бубликов, занял Министерство путей сообщения и теперь будет объявлять приказы председателя Государственной думы по всем станциям. И что первым указом будет следующий… сейчас…
Худолеев достает электронную книжку.
– «Железнодорожники! Старая власть, создавшая разруху во всех областях государственной жизни, оказалась бессильной. Комитет Государственной думы взял в свои руки создание новой власти. Обращаюсь к вам от имени Отечества – от вас теперь зависит спасение Родины. Движение поездов должно поддерживаться непрерывно с удвоенной энергией. Страна ждет от вас больше, чем исполнение долга, – ждет подвига»…
– Ведь что такое эта депеша? – Худолеев поднимает глаза. – Это заявление на всю страну, что в Петрограде революция. От Могилева до Владивостока, от Мурманска до границы с Персией эта телеграмма теперь на каждой станции. Старая власть пала, ее больше нет, говорит она.
– Постойте, – Сева словно очнулся. – Но ведь еще не было отречения. Что значит «пала»?
– В том-то и дело! – Худолеев встает. – За двое суток до официального отречения царя сместили. Представили события, которых еще не было. А вторым распоряжением Бубликова была телеграмма о недопустимости передвижения воинских поездов ближе двухсот пятидесяти километров от Петрограда. На столицу шли войска, и они это предвидели. В тот же час Бубликов исчезает, уходит спать. Нет его. И на сцену заступает Ломоносов. В министерстве звонок, это начальник нашей станции. Спрашивает, как быть с царским литерным «А», который имеет назначение Лихославль – Тосно – Александровская – Царское Село. Само собой, Ломоносов не хочет брать на себя ответственность, бежит к Бубликову. А тот уже спит, дрыхнет – буквально. «Разбудить его нет никакой возможности», как он потом в дневнике напишет. Что остается? Звонок в Комитет председателю Родзянке. «Императорский поезд в Малой Вишере! – докладывает Ломоносов. – Что прикажете делать? Везти в Царское? В Петроград? Держать в Вишере? Ждать? Чего и сколь?» Но Комитет тоже не хочет брать на себя решение такого дела. Там тоже не знают, что делать с поездом. И решение принимает сам поезд. Он отправляется на Петроград, не дожидаясь разрешения. Но уже через несколько часов из свитского, который впереди, в царский летит депеша: «Малую Вишеру заняли мятежники, проехать в Петроград нет никакой возможности». Инженер Керн, находящийся при царском, решает ради безопасности государя вернуть царский поезд на нашу станцию.
– На самом деле там просто буфет разграбили, – неожиданно вставляет наш оператор. – В Малой Вишере. Одно выстрела было бы достаточно.
Худолеев радуется как ребенок:
– Вот вы знаете! Тогда дальше. Утром первого марта Ломоносову сообщают, что царский поезд вернулся. Тот передает информацию в Комитет. Что прикажете делать? – спрашивает он Родзянко. Задержать поезд до приезда в Долговое на переговоры, приказывает тот, – то есть на неопределенный срок. То есть делает сложную ситуацию патовой. Чисто русский метод, не правда ли? Но тут опять неувязка, в ответ управляющий дороги доносит, что из царского поезда раньше поступило требование дать назначение на Псков. Что ему делать? Кого слушаться? Ломоносов понимает, зачем царю нужен Псков, там штаб армии генерала Рузского, которого царь держит за надежного человека и на чью армию рассчитывает. Комитет на запросы не отвечает, Родзянко самоустранился. Ломоносов вынужден принять судьбоносное решение на свой страх и риск. «Ни в коем случае не выпускать поезд!» – телеграфирует он. Но тут снова зигзаг, телеграмма опаздывает. Империя получает шанс. В телефонной записке, которую приносят Ломоносову, сказано, что поезд литер «А» уже вышел на Псков, причем «без назначения», самовольно. Все! Момент упущен, царь ускользнул. Ломоносов проиграл, и теперь он обычный преступник. Как спасти шкуру? Нужно перехватить поезд по дороге, задержать на пути, на любом разъезде – на ближайшем, на станции Дно, например. К этому времени на сцену возвращается проспавшийся Бубликов, и Ломоносов спешно передает дело с рук на руки. Пусть и Бубликов станет соучастником. На кону такая ставка! И он телеграфирует начальнику Виндавской дороги с требованием не пускать царский поезд дальше станции Дно, для чего разрешается применить – внимание! – любые действия вплоть до крушения. Вот текст этой телеграммы.
Худолеев снова открывает электронную книжку:
– «По распоряжению Исполнительного комитета Государственной думы благоволите немедленно отправить со станции Дно навстречу царскому поезду два товарных, чтобы занять ими какой-либо разъезд и сделать физически невозможным движение каких-либо поездов в направлении на Дно – Псков. За неисполнение или недостаточно срочное исполнение настоящего предписания будете отвечать как за измену перед Отечеством».
Такое же предписание у начальника станции Дно. Тот подчиняется и отправляет со станции Дно, как ему и приказано, два товарных состава на перегон Дно – Полонка, то есть в лоб царскому поезду. Казалось бы, крушение поезда и убийство царя неизбежны. Но! Игра не окончена, Империя получает еще один шанс, теперь уже в лице путевого стрелочника. Этот стрелочник – обычный железнодорожник – ничего не знает о революции и просто не переводит стрелку, резонно решив, что наверху либо спятили, либо перепились. Ошибка, оговорка! Нельзя же в трезвом уме приказывать пустить один поезд на путь, по которому шпарит встречный? Никак невозможно, нет у честного железнодорожника такой инструкции. И поезд, в котором спит царь, благополучно доезжает до станции Дно, а потом и до Пскова, где его встречает генерал Рузский.
– Значит, – Сева трет переносицу, – стрелка его спасла.
– Его, но не империю. Если бы царь погиб при крушении, никакого отречения на следующий день не было бы, престол просто переходил к наследнику. На передачу ушло бы время, а время в те дни решало все.
– Но вообще они зря старались, – говорит Сева. – Слабым звеном оказался тот, на кого царь больше всего рассчитывал. Генерал Рузский. Это же он сделал все, чтобы произошло отречение.
– А это не странно, – спрашиваю я, – что одних людей возмездие находит, а других нет? Что стало с Ломоносовым, например? С Бубликовым?
Теперь все смотрят на меня.
Пауза.
– С большого человека большой спрос, – отвечает Худолеев.
– А что стало с генералом? – это Витя.
– Его казнили через год на пятигорском кладбище, – говорит Сева. – Его и других бывших. Красные. Сначала заставили вырыть яму, а потом зарубили шашками. Экономили на патронах.
Тишину в комнате наполняет зуд электрической лампы. Слышно, как в печи догорают угли. Худолеев, подперев рукой небритую щеку, несколько секунд смотрит в стену.
– Яму копал кладбищенский сторож… – говорит он. – Но в целом вы правы, могилу они вырыли себе сами.
Елена Нестерина Красные дьяволята (ремейк) Отрывок из повести
…Нелегко приходилось повстанческой армии. Батька помнил о своей мечте – и потому, как могла, армия воплощала ее. Устанавливала местную власть – из тех, кто считался самым умным и уважаемым в городке, селе или станице, делилась с народом хлебом, возвращала отобранных другими лошадей и скот. За то и любили батьку и его войско – за то на всей огромной территории, которая мыслилась батьке крестьянской республикой, были верные ему люди.
Или награбят, бывало, его бойцы горы всякого добра – в смысле, отобьют у красных, белых или каких банд обоз, а то и просто город возьмут. Натешатся, а потом и устроят раздачу этого самого добра. Подходи, рассказывай, что тебе надо, в чем имеется нужда, – и получай. Крестьян и рабочих запрещалось грабить – за это батька сам лично расстреливал. Без суда, потому что предупредил об этом когда-то. Но за всеми не уследишь – и не раз батьков секретарь, увидев подобное, бросался воспитывать негодяев. Он был уполномочен – и это все знали – творить над ними суд и расправу. Но что один человек, пусть и идейный да справедливый, против дорвавшихся до чужого добра мужиков? Чудом успевали Мишка и Ли на помощь индейскому брату. А так бы давно сложил бы Овод голову, получив в нее пулю.
Впрочем, Овода это не останавливало – и при активной поддержке друзей и самого главнокомандующего брат Овод продолжал борьбу за дисциплину.
Правда, много имелось в армии и таких, кто не знал цены горам имущества, не стремился нахапать имущества. И прежде всего – таким был сам батька.
– Сколько человеку может быть надо? – не раз говорил он, навешав на себя дорогих украшений, устелив тачанку шубами и размахивая золоченым канделябром. – Немного на самом-то деле. Тепло, сытно и удобно, вот и вся история. Живешь, работаешь, душа твоя свободна, и тело никто не угнетает. А появится страсть, когда будет тебе черт под руку толкать: купи больше, нарядись побогаче, скопи добра, чтоб… чтоб просто было. Вот и будешь под его дудку всю жизнь плясать, за богатствами – чтоб лучше, дороже, чем у других, было – гнаться. Скучно это. И баста!
С такими словами батька скидывал шубы в руки крестьянок, ссыпал золотые бирюльки ребятишкам. Да и устраивал широкое гулянье – с песнями и танцами.
Война не позволяла долго останавливаться на одном месте. А потому, после очередного заседания в штабе повстанческой армии, вылетел Овод из штабной хаты и помчался к своим друзьям.
– Выступаем! – подскочив к Мишке и Ли, что практиковались в сабельном бою, сообщила Дуняша.
Решено было собрать последний совет краснокожих на полюбившейся костровой площадке в лесном овраге. Ведь там, в отличие от обычной военной жизни, в которой оказались ребята, было все таким сказочным, таким индейским. А вдруг там, куда отправится повстанческая армия, уже не окажется такого славного леса, негде будет уединиться и развести индейский костер?..
Мишка и его сестра уже разожгли огонь – времени на все про все было мало. Вождь держал дымящуюся трубку. Дуняша, которая так и не смогла привыкнуть к дымной горечи, отвела от нее взгляд. И как раз в это время будто из-под земли возник у костра Ли – надо же, тихо как подобрался. Настоящий индеец!
– Ли пришел, – отрапортовал Ли.
Вид у него был такой несчастный, такой потерянный, что старый разговор поневоле возобновился.
– Скажи, наш индейский брат Чингачгук, – после того, как трубка прошла круг и вновь вернулась в его руки, начал Следопыт, – совет нашего племени давно не видел тебя таким тревожным. Что случилось?
– Наш брат Чингачгук не хочет уходить из этих краев? – предположил Овод, пристально и с волнением взглянув в глаза Чингачгуку.
– Ой, не хочет… – признался Ли, склонив голову. Его лицо исказилось душевной мукой. И даже слеза выкатилась на атласную щеку.
– Мы знаем, – сказал Следопыт, покосившись на сестру. – Нам с братом Оводом кажется, что брат Чингачгук боится… кого-то оставить здесь. А потому и уходить так не хочет.
– Боится… Не хочет… У-у-у…
Ли страдал. Он выдрал из земли всю затоптанную жухлую траву вокруг себя, но это не помогало. Он страдал все равно.
– Наверно, это девушка, которая живет в селе. Ее брат наш Чингачгук и не хочет оставлять… – предположила Дуняша неуверенным и пару раз сорвавшимся голосом.
Забыв, что надо сидеть, сложив ноги кренделем, Ли вскочил и, бросившись к Оводу, отрицательно замотал головой и горячо заговорил:
– Нет, нет! Брат Овод, нету девушка! Веришь?
– Да мне-то что… – бедный брат Овод не выдержал такого натиска и отполз подальше.
Однако вождь Следопыт от Чингачгука не отставал.
– Ну теперь-то, когда мы уходим отсюда, ты можешь сказать, куда ты убегал от нас все это время? А, Ли? Не скажешь?
Слезы брызнули теперь из обоих глаз смуглого красавца.
– Командир, у Ли тайна, – упрямился тем не менее он. – Очень важная тайна!
В это время послышались команды: «По коням!» Те, кто должен был выступать первыми, уже выезжали на дорогу.
Как ни хотелось услышать, что же за тайну скрывает Ли, нужно было бежать. Дуняша махнула головой в сторону села.
– Слышали команду? Надо заканчивать наш совет… Все, уходим.
Ли закрыл лицо руками.
– Ой, горе-горе! Ли не может уходить! – выл он, раскачиваясь из стороны в сторону.
Мишка выколотил трубку о землю. Ясное дело, тайна Ли тоже интересовала его. Но на нет и суда нет…
– Наш брат Чингачгук, ты не с нами? – спросил он осторожно.
Видеть, как мучается бедный Ли, было тяжело. Но и как помочь ему, Овод и Следопыт не знали. Вот чего он упирается? И оставлять его совершенно, ну просто никак не хотелось!
– Брату Чинга… Чунга… – бормотал Ли, умоляюще глядя то на Овода, то на Следопыта. – Ли надо остаться. Он не один.
– А кто у него? – в один голос воскликнули брат и сестра.
И тут Ли, славный героический брат Чингачгук обвел руками воздух вокруг себя – широко, сколько хватило рук. И сказал:
– Слон.
– Кто?! – снова в один голос охнули ребята.
Индейский индиец как-то сразу обмяк, стал словно в плечах уже и ростом меньше. И заговорил, помогая своей неуклюжей речи мимикой и движением пальцев:
– Слон. Индийский слон. Надо кормить. Слон сено любит. Много сена. Беня давал сено, деньги давал. Ли работал, чтобы кормить слон.
– Врешь! – хлопнул себя по ногам Мишка. – Где же этот слон? Откуда?
Ли сразу оживился. Видимо, слон все-таки был правдой.
– Капитана, Ли – не врет! – заговорил Ли. – Слон в лесу! Тайна. Только Беня узнал, Ли сено брал на поляне, сено Бени. Беня сказал, уведет слон, продаст слон. Слон – много мяса.
– Слона – на мясо?
– Нет, нельзя на мясо! – свирепо рявкнул Ли.
И поведал ребятам такую историю, что юные краснокожие забыли обо всем на свете, не прислушивались к тому, как уходила без них независимая армия, как бойцы искали их, крича и стреляя.
Оказывается, Ли, когда тот был совсем крошкой, привезли в Россию из далекой Индии и отдали в цирк. Где он и вырос, и начал выступать в номере с настоящим индийским слоном, которого любил, как самое родное существо на земле. С гастролями они объехали всю страну. И, когда занесло цирк в эти края, слон Слоня вдруг заболел. Холодно было той зимой, и сена добыть очень трудно – никто не хотел продавать. А слону много нужно сена, очень много. Болел и болел Слоня, а цирку нужно было срочно делать ноги из этих мест – такие бои тут разыгрывались, что лучше не вспоминать. Так что решили владельцы цирка – пока слон еще живой, забить его, а мясо, огромное количество мяса, продать. А что – чем плоха слонина? Почти что солонина. И тем самым заработать на этом слоне. Правда, уже в последний раз… И тогда Ли…
– Угнал слона! – ахнул Мишка. – Ух, кто коней угоняет, а ты слона!
– Да, – стыдливо, но явно довольный своим поступком, согласился Ли. – Увел слон в лес, в цирке сказал: умер. Цирк уехал. Ли и слон тут остался. Ой, слон болел-болел-болел… Ли вылечил. Есть Слоне надо. Сено надо. Нельзя, чтобы кто-то знал, что слон. Убьют…
Где-то недалеко играла походная труба. Схватив Ли за руку, Дуняша взмолилась:
– Ли, не бросай нас! С батькой правда, батька за народ! Ты и слон – это тоже народ. Пойдем с нами! Слона мы будем тайно вслед за армией переводить!
Мишка тоже подскочил к Ли вплотную.
– Я все придумал! – уверил он. – Под покровом ночи! Тайная индейская операция! Мы будем вести его ночью, понимаешь? И прятать! Никто не заметит. И ты будешь с ним!
– Слон кушать хочет, – развел руками Ли, но радостный огонь уже зажегся в его глазах.
– Да для батьки никто фуража не жалеет! Ты же сам видел – куда бы мы ни пришли. Прокормим! – Нет, недаром Мишка-Следопыт был вождем. – Слушайте мою команду: ты, брат Овод, отправляешься к своему штабу, скажешь, что мы пойдем в самом арьергарде. Ты, брат Чингачгук, ведешь слона через лес, а я буду связным между вами, чтобы ты, Ли, с пути не сбился, но и тебя никто не приметил. Так мы и будем передвигаться.
– Хорошо, мой капитана! Я к Слоне! Я с вами! – с этими словами Ли умчался.
Дуняша и Мишка понеслись в другую сторону.
Стучат копыта, гремят колесами тачанки – изобретение повстанческих умельцев, слышится походная песня, гимн, который придумал кто-то:
Споемте же, братцы, под громы ударов, Под взрывы и пули, под пламя пожаров, Под знаменем черным гигантской борьбы Под звуки «Набата» призывной трубы… Их много, без счету судьбою забитых, Замученных в тюрьмах, на плахе убитых, Их много, о правда, служивших тебе И павших в геройской неравной борьбе…Пошла дальше армия крестьянских повстанцев. Громко поют хлопцы. И что-то уж очень печальная у них песня. Готовы и они все погибнуть, как гибли до них. А победа? Неужели победить они не надеются? Ничего не понятно.
Только слон отвечает им из леса трубным ревом. Однако мало кому ясно, кто это трубит и зачем. Дуняша-Овод, что едет верхом возле командира, это понимает, а потому улыбается.
Вперед и вперед идет людской поток по стране.
Шла армия с боями, двигался за ней и слон. То Мишка, то Ли ехали на нем. К зиме, чтобы было теплее, стали обвязывать Слоню тюфяками и матрацами, а для того, чтобы не поранила его во время переходов шальная ночная пуля, для верности прикручивали к бокам, ногам и голове жестяные корыта – и потому вид у зверя был устрашающий.
Трудно приходилось повстанцам. И белые, и красные ставили их вне закона. Народ, что был за них всей душой, часто уничтожался террором и тех, и тех властей целыми деревнями. Иногда даже на всякий случай: а потому особенно жалко было повстанцев, оставшихся в своих селах и хуторах – надо же кому-то и землю было пахать! – тех, кто когда-то насмерть стоял вместе с красными войсками против белых (а такое не раз случалось, пока батька не разуверился окончательно в красных и перестал иметь с ними дело). Их расстреливали безжалостно – ведь если они так храбро бились с белыми, что им, бывшим бандитам, мешает поднять оружие против красных – и наоборот?..
Много оказывалось и таких, кто, повоевав с батькой, переходили к его врагам. Где народу больше, где власть сильнее, провизии больше, туда и я, вместе со всеми. Так они считали – да так и большинство людей думает. Самосохранение – важнецкая штука. Кто сумел это понять и грамотно использовать – тот сам себе и молодец.
И если к белым крестьянина было особо не заманить, хоть зачастую белые лучше умели воевать, то к красным шли гораздо активнее. Сильнее и пронзительнее была у красных агитация – так что не захочешь, а поверишь таким славным обещаниям государственного хлеба, свободной жизни и равенства.
А потому трудные времена испытывали повстанцы. Терзали летучие отряды холод и болезни, мучило предательство перебежчиков. Конечно, многие, хлебнув лиха и кое-чего скумекав, возвращались. Но общей картины это не меняло.
Видеть-то видел лихой батькин штаб, что хоть и помогли крестьяне своей стихийной массой в движении революции, но ждать им хорошей жизни поздно. Но ни батьки-командиры, ни Овод-секретарь, ни сам батька не знали, как объяснить, что нужно теперь делать и к чему стремиться. Еще чуть-чуть – и станут крестьяне сельскохозяйственным пролетариатом. А потом уже будет поздно дергаться… Пролетариатом, у которого, как говорится, нет ничего, кроме своих цепей, – то есть кроме себя и своих умелых рук. А у крестьянина-то есть и должно быть – и земля, и скот, и прочее хозяйство, за которое он отвечает. По-другому на земле жить нельзя. Но вдруг получится?
Горькие думы одолевали предводителя повстанцев. Может, прав не он, а другие? Но сдаваться не хотелось – и особенно не хотелось, чтобы милых его сердцу крестьян врезали в рамки, унизили и заставили забыть мечту о крестьянском рае, которая зрела на Руси, наверное, тысячу лет. И показалась реальной в революцию. А потому перед очередным наступлением сказал батька своей армии так:
– Все мы с вами – простые крестьяне. И ведем мы борьбу за свое счастье, за возможность жить хорошо и вольно. Умереть или победить! Вот что стоит перед нами.
«Умереть» вызвало угрюмый ропот среди войска. Вроде все и так умирать готовы, но чтобы об этом вот так впрямую говорить…
Но не такой человек был батька их великий, чтобы призывать к смерти.
– Но все мы умереть не можем – нас слишком много, – улыбнувшись, продолжил он. – Мы – человечество. Следовательно, мы победим! Победим не затем, чтобы, по примеру прошлых лет и революций, передать свою судьбу новому начальству. А затем, чтобы взять ее в свои руки и строить жизнь своей волей, своей правдой! Разве не имеем мы на это права?
– Имеем! – гаркнули тысячи глоток. Победа нужна была как воздух.
И она случилась, эта победа. Огромный город был взят, белые, которым приходилось удаляться все дальше и дальше от центра, к Крыму, оказались выбитыми оттуда. Но сколько, сколько может быть еще побед, с которыми сопряжены смерти, увечья, лишения и разлуки? Когда она начнется, эта счастливая жизнь после заключительной, самой главной победы?
…Зашевелились веселые пропойцы, вернее, те, кто лишь раньше назывались верными людьми батьки Иваныча. А теперь – его предатели. Потянулись они в штабную хату, поднялись с лавок, оторвали зады от пола, да и двинулись на батьку, отталкивая в стороны тех, кто, опоенный травленой горилкой, валялся без движения. И помочь своему командиру не мог…
И в первых рядах кто? Сероштан, что, кажется, был человек уж вернее некуда. Именно он первым шагнул к сидящему за столом батьке. Пистолет в руке Сероштана чуть подрагивал. Еле заметно.
– Спокойно, батя, – проговорил Сероштан. – Все, кончилась твоя власть.
– Поднимай лапы, – добавил Мироха, придерживая разлюбезный свой цилиндр и тоже надвигаясь на батьку с оружием.
Батька не был бы бесстрашным батькой, если бы и сейчас не сумел произнести спокойно:
– Вот, значит, как оно получилось. А говорят, что в России шакалы не водятся. Чем же, Сероштан, вам моя власть не по нраву?
– Разгуляться ты не даешь. А мне воли хотца, – от себя лично начал Сероштан.
Но Мироха прервал его, толкнув локтем.
– Важные люди тобой интересуются, батька. Так что не кобенься.
– Разберемся, – дернул плечом батька. И снова обратился к бывшему своему вояке: – А ну скажи мне, Сероштан, зачем ты тогда в мою армию вступил?
– Хе, армию… – усмехнулся кто-то.
– Разве не за народное дело биться? – продолжал батька, оглядывая собравшихся. – И вы сами-то, Сероштан, Мироха, не народ, что ли?
– Народ, народ… – как с дурачком разговаривая, качнул цилиндром Мироха.
– Только у красных сейчас этого самого народу больше, – развел руками Сероштан.
Мироха аж подпрыгнул.
– Погоди, у каких красных? Мне его велено как раз таки к белым отвести! – воскликнул он. И отдал команду: – Ребя! Хватай батьку! Его другие люди… Это… оплатили!
Иваныч усмехнулся. Тем временем кто-то уже начал рыться по всей хате, поднимать самые завалящие бумажки, пролистывать книжки. Очевидно, отыскивая что-то важное.
А Мироха и Сероштан направили пистолеты друг на друга. И, чуть ли не рыча, схлестнулись.
– Ша! – вопил Сероштан. – Мы отводим его к красным!
– Дудки! – показывал ему кукиш Мироха. – К белым. Там батьку люди ждут. Для разговору.
– Да пошел ты…
– Нет, друг, пошел ты!
– Да скажите же ему! – ища поддержки, обратился Сероштан к повстанцам. Те не знали, как реагировать.
Приземистый Сероштан толкнул долговязого Мироху. Но стрелять они пока не решались. Дружба, видать, все-таки…
И это послужило сигналом. Ребята, что заняли разные позиции – кто за Мирохиных белых, кто за Сероштановых красных, устроили отчаянную потасовку. Батька не пытался воспользоваться этим и убежать – и лишь с усмешкой смотрел на то, как не могут его поделить. Оставшиеся верные батьке люди, которых, надо сказать, все-таки оказалось изрядное количество, попытались отбить его. Что им не удалось: объединившись, спорщики дружно всех их постреляли. Хотя, казалось бы, во скольких боях вместе были, сколько вместе перетерпели. А нет…
Неприметный человек в неприметной одежде, перешагнув через труп бойца, остановил побоище. Да, собственно, и убивать-то уже особо некого было. Тем более что люди, которых и на гулянке-то видно не было, еще более новые, незнакомые, как-то незаметно просочились в штаб-хату во время разбирательства. Рассредоточились – и взяли всех на мушку.
– Спокойно теперь, – встав напротив батьки, заговорил их руководитель. – Угомонились? Что там кому велели – не важно. Сейчас уважаемый бандит идет со мной. Только вот одна загвоздка… Сам скажешь, где твои бумаги, – или меня будешь задерживать, а, батька?
Иваныч поправил очки и отвернулся. Бывшие его люди, которых теперь держали на прицеле какие-то неведомые деятели, были не согласны с таким положением вещей. Все-таки сам же батька приучил их быть свободными и не признавать никакой чужой власти. Доприучался. И теперь они шумно потребовали у него отдать бумаги. Чтобы не угнетало чужое оружие, наведенное на них.
– Тихо, тихо, не шумите, любезные, – хлопнул в ладоши неизвестный. – Я со всем разберусь. Мы же люди, правильно? А он – наш враг. Мешает нам жить спокойно и строить хорошую правильную жизнь. Нужна вам та власть, за которую он агитирует? Нет. Вот я тоже так думаю. Ну, тогда все хорошо, все понятно. Все свободны. Проводите меня.
С этими словами он вышел. Вслед за ним, подталкивая батьку в спину, двинулись его люди и бывшие повстанцы.
Овод-Дуняша влетела в хату. И, натолкнувшись на толпу, в ужасе ахнула. Не поверив своим глазам. Потому что не могло, просто не могло такого быть!
Бросившись к батьке, что остановился, заложив руки за спину, она закричала:
– Батя! Что это? Что такое?
Вмиг ее сбили с ног, так что приблизиться к батьке у нее не получилось.
– А вот и наш умный ординарец, – криво усмехнувшись, пропел Мироха. – Тоже мастер речи говорить. Чего орешь?
Дуняша поднялась с пола и оглядела своих. Ей по-прежнему это казалось жутким сном. И где же Мишка с Ли? Батька дал им какое-то задание – точно! И без них, без нее тут случилось такое… Но как же остальные? Как они посмели? Что значит все это?
Она снова попыталась броситься к батьке, но ее схватили за руки, вывернув их, так что у преданного Овода не было возможности даже пошевелиться.
– Как же так, батька? Это же наши люди! А мне казалось… – от волнения Дуняша даже задыхалась. – Казалось, что мы все вместе. А оно вон как случилось. Как же так?.. Меня не было рядом… Прости, батька…
Батькин верный секретарь низко склонил голову. От этой картины даже у самых отъявленных и прожженных бандитов закололо в носу и быстрее забилось сердце.
– Не печалься, – раздался в тишине голос Иваныча. – Видишь, меня оплатили… Выгодно, значит. От выгоды до предательства не шаг, а полшага. Буржуев боялись, купцов-фабрикантов, что продают-покупают, добра наживают. А мы хотели, чтобы не рабы больше у них. Рабы, значит, не мы… Только бояться-то надо было самих себя… Погодите, вот народ поймет, что все на свете продается, – тогда и настанет амба. Вернее, нет – все хорошо-то еще будет! Будет! Голод пройдет, разруха сменится красивыми домами с электричеством, люди заживут по-новому, свободно заживут. Но если начнете вы продавать – и друг друга, и все то, что должно быть общим, тут-то вы снова рабами и станете. Купят вас со всеми потрохами – и не выкупиться уже обратно. Поздно будет. Не получилось у меня власти народной… Прощай, брат Овод. Хороший ты мальчишка.
– Иди, вестник Европы.
Иваныча увели. Вся толпа вывалила на улицу вслед за ним. Неизвестный тип поднял голову Дуняши, которую Мироха и Сероштан продолжали крепко держать, внимательно присмотрелся и спросил:
– Это ординарец его? Душу вытрясите, а узнайте, где батька бумаги свои держит. Он без карт и архива особо-то и ни к чему. Кто привезет, тот будет молодец. Со всеми последствиями. Жду на закате в дальней балке!
Мироха и Сероштан переглянулись. Ведь у каждого был в этом деле свой интерес. А про бумаги ничего им до этого не говорилось.
Встряхнув тощего секретаря как следует, Сероштан и Мироха бросились добывать информацию.
Но, естественно, ничего им индейский воин Овод говорить не собирался. С предателями какой разговор?
– Говори, прихвостень!
– Нет!
– Скажешь, как миленький!
– Не скажу.
Овод стоически терпел, когда Мироха с Сероштаном били его, даже когда разбитое лицо его залила горячая кровь. Но когда Мироха взмахнул кнутом и крикнул:
– А вот что ему сейчас поможет, язык-то развяжет! Сероштан, тащи с него черкеску! И рубаху долой.
Батькин ординарец вдруг забился и отчаянно завопил:
– Не надо!
Стало понятно: вот этого он боится. А раз боится, значит, сломается.
– Ага! Не любишь товарища кнутовищева? – обрадовался Мироха, вытаскивая лавку на середину. – Никто не любит, все боятся. Ну, где бумаги?
– Не скажу! Но не надо! Пожалуйста! – отчаянно вырываясь, кричал в руках Сероштана, что тащил с него одежду, любимец предводителя.
Сероштан хихикал, срывая черкеску.
– Ой-ой, заныл-то как. Трусливый у батьки был мальчик на побегушках…
Слетела шапка, разметались спрятанные косы. Но как только на Дуняше остались лишь шаровары и сапоги, Сероштан разжал руки и замер.
– Ой! Мать честная!
Мироха нетерпеливо подбежал к нему, ведь всех делов-то: швырнул на лавку, отходил кнутом – любой расколется.
– Мироха. Глянь! Это ж девица, – пробормотал Сероштан в полнейшем удивлении.
Мироха – тоже от удивления – выронил кнут. Дуняша метнулась за своей черкеской, накинула ее и отползла в стратегически удобный угол – к двери. Ведь индеец, известно всем, в любой ситуации постарается удрать. Даже сейчас романтическая Дуняша не могла не думать о прекрасных краснокожих…
А бандиты тем временем ошалело переговаривались:
– Как девица?! Вроде всегда парень был! Звали они его еще как насекомую какую, уж больно мне не нравилось… Муха…
– Да не…
– Слепень…
– Овод! – вспомнил Сероштан.
Подскочил к Дуняше, поднял с пола, встряхнул, оглядел. Та попыталась выбить из его кармана пистолет. Что, впрочем, ей не удалось, только черкеска слетела.
– Ну. Мальчишка и был. А тут… – Хмырь в цилиндре по-журавлиному наклонился над Дуняшей.
– Оборотень! – бросив батькиного любимца на пол, ахнул Сероштан и перекрестился. – Ведьму мы держали у себя под носом!
– Точно – ведьма! Отдай мужчинскую одежду! – С этими словами Мироха вырвал из рук девушки злосчастную черкеску и, приметив на одной из лавок белую рубашку с кружевом, метнул Дуняше.
Гневно дрожали ноздри Сероштана. Волновался казак…
– Из-за тебя у батьки беды начались! Из-за тебя мы батьку нашего… – всхлипнув, проговорил он, – золотого нашего, на расправу отдали…
– Не ври, продажная ты шкура! – вскочив белым привидением, гневно воскликнула Дуняша. – Продали батьку. Бандиты вы поганые!
– А ну цыть! – стараясь прогнать испуг, рявкнул Сероштан. – Сжечь ее надо. От греха.
– Долго возиться, – подобрав кнут, возразил Мироха. – Сыро. Дров-то сколько надобно.
– Давай пристрелим, – вынув пистолет, предложил Сероштан. Но покачал головой и снова перекрестился. – Э, на ведьму серебряная пуля нужна. А нету…
– Да давай повесим, – тоже перекрестился Мироха. – Это верное дело. И возни никакой. Чистенько.
Сероштан, почувствовав свое могущество, толкнул Дуняшу.
– Слышал? СлышалА. Да. Не хочешь помирать? Тогда показывай, где батька архиву свою спрятал.
– Нет.
Мироха махнул рукой.
– Мы и без архива хороши будем. Сдалась нам эта балка…
Подхватив Дуняшу под руки, они выволокли ее на улицу. К жидкой рощице – вот куда лежал их путь. По дороге они прихватили отличную веревку и шаткий ящик.
– Это, может, твоим комиссарам и хороши, – бубнил Мироха. – А мне б лучше с документой какой заявиться.
– Погоди, а тебе разве не в балку к этому упырю идти? – поинтересовался у дружка-приятеля Сероштан.
– Не-а. Я думал, это твой, красный.
– А я думал – твой…
– Да шут его теперь разберет – то ли белый, то ли красный! – махнул рукой Мироха. – Я пойду, куда собирался.
– Это куда? К белякам? – усмехнулся Сероштан. – Губу-то закатай. Они тебе тут же пулю в лоб и влепят.
Мироха немного подумал и тоже усмехнулся:
– А тебе твои красные не влепят? Не, Сероштан, я так чую, тикаˆть надо до какого другого батьки. Я парень вольный. Я икс… экспропри… пограбить люблю. А разве ж господа-белогвардейцы дадут вольной душе разгуляться?
Оба остановили свой ход и переглянулись.
– Не дадут, – решил Сероштан. – Это ты прав. Надо в какую другую банду подаваться.
– Надо. Ну а все-таки, что за крендель батьку-то увез? Может, мировой буржуазий? – предположил Мироха.
– А может, он батькин клад ищет… Недаром же говорят, что у батьки несметных кладов везде зарыто. Богатства…
– Так вот зачем архива-то нужна! Карты, где клады отмечены…
– О-о!
Слушать разговор этих шакалов было противно. Клады, буржуазия…
– Презренные трусы, бандитские рожи! – как только ее бросили под высоким деревом, воскликнула Дуняша. – За то, что вы продали нашего героического батьку мировой буржуазии, вас ждет…
Но Мироха, уронив цилиндр, в испуге зажал ей рот.
– Тихо ты, накаркаешь!
Сероштан тем временем уже прилаживал один конец веревки на шее Дуняши.
– Мироха, а может, мы ее тоже продадим? Кому оборотень по дешевке? – предложил он.
Долговязый Мироха, накидывая другой конец веревки на толстый сук, покачал головой:
– Некогда.
Спустя некоторое время Дуняша уже стояла на ветхом ящике. Руки ее были связаны за спиной, на шее держалась крепкая петля.
Сероштан в последний раз поинтересовался:
– Ну, милка, может, скажешь, архива-то где имеется?
– Вы от меня ничего не узнаете, – чуть слышно проговорила Дуняша.
– А я понимаю почему, – догадался тут Мироха. – Потому что нету у нее никаких бумаг-то! И она не знает, где они. Где два других его… Тьфу! Ее! Дружка?
– Кудой-то поехали, – пожал плечами Сероштан.
– Вот то-то. Давай так. Ведьму в расход… А тех подождем, хлопнем да и обыщем.
Мишке и Ли угрожала серьезная опасность. Как же быть? Ведь они ничего не знают о том, что случилось! Кто поможет им? И кто ей – даже не ради спасения жизни, а хотя бы ради того, чтобы она, Дуняша, смогла предупредить брата и славного Ли! Позвать Слоню? Но как? Он в лесу – в этой роще его не спрятать, вот и отвели так далеко… А если Следопыт и его индейский брат уже возвращаются? Услышат они сигнал? Дуняша напряглась и что было сил тревожно закричала по-кукушечьи – предупреждая об опасности.
Сероштан и Мироха, не сговариваясь, в испуге перекрестились.
– Ведьма кричит – умирать не хочет? – взволновался Сероштан. – Или знаки подает?
– Кто ее знает… – произнес Мироха и опасливо оглянулся. – Скоро, ух, скоро вороны сюда слетятся, глаза ее клевать… А может, дружки ее – тоже оборотни?
Сероштан отрицательно затряс головой. Меньше оборотней – меньше страхов.
– Не, я с ними сколько раз в бане мылся, – вспомнил он. – И еще думал тогда: а где ж их третий, чего не в бане?.. Так грязный и ходит?
– А может, они тогда в парней специально превращались?
– Чтобы помыться?
«Ку-ку, ку-ку!» – закричала опять Дуняша, ведь кукушка не кукует осенью, Мишка и Ли сразу поймут, что это она кричит.
Сероштан тревожно дернулся:
– Не болтай…
– Ну, Бог помощь! – решился Мироха, подходя к ящику. – Прощайся давай-ка с жизнью.
«Хи-и-и-юп-юп-юп-яй-я!» – сменив позывной на боевой индейский клич, пусть и не совсем подходящий к этой ситуации, зато громкий, подала сигнал Дуняша. Она вложила в этот крик все свое горячее желание жить. Если ребята близко, они не могли ее не услышать, а других индейцев в округе и быть не может. Ни с каким другим сигналом они ее крик не спутают, хоть один из них, да услышат.
И точно! Не успел Мироха махнуть своей длинной ногой и выбить ящик из-под Дуняши, как с ответным «Кукареку!» отчаянным галопом влетели в рощу верховые Ли и Следопыт. И не успели оба бандита вытащить оружие, как меткие выстрелы сразили их.
Жива! Это чудо – и оно всегда происходит в самый отчаянный, в самый последний миг!
И вот уже перерезаны веревки, сброшена петля. Дуняша упала в руки брата.
– Дуняша! – не помня себя от счастья, закричал Мишка, обнимая сестру.
– Я жива, Мишка! Как вы вовремя…
Ли, бросившись на холодную землю рядом, не решался приблизиться.
– Это ты? Брат Овод, это ты? – с потерянно-счастливым лицом удивлялся он.
– Я, – улыбнулась Дуняша, вытирая разбитое лицо и стесняясь его.
– Жив! – схватив ладонь Дуняши и прижав ее к своему лицу, повторил Ли.
– Да, да.
Радостное изумление не сходило с лица индийского парня, который, не отрываясь, смотрел на растрепанные длинные волосы Дуняши, на ее белую рубашку с кружевом.
– Видишь ли… – заметив это, начал Мишка, пытаясь объяснить, почему они с Дуняшей и от него скрывали свою историю.
– Видит Ли, брат Следопыт! – воскликнул Ли, обводя руками воздух рядом с Дуняшей. – Очень красиво! Брату Овод так лучше!
Дуняша снова смутилась, поспешно вскочила на ноги и отвернулась.
– Скажешь тоже…
Мишка и Ли тоже поднялись.
– Это была наша тайна. Как у тебя Слоня, – запинаясь, обратился к Ли Мишка. Он, как вождь их маленького племени, решил взять объяснения на себя. – Война ведь… Мы никому не говорили, что Дуняша – девочка.
– Правильно! – горячо поддержал его Ли. – Но только не брату Ли! Значит, Ли не болеет! Он не любит мужчин, значит. Потому что он любит… Дуняша. Как хорошо, мой капитана!
Теперь смутился Мишка. И отошел подальше – к лошадям.
А Ли бросился к Дуняше.
– Ли не может сказать, как он сильно любит брата Овода! Но он – очень! – прижав руки к сердцу, со всей страстью бесхитростной души произнес он.
Дуняша счастливо улыбнулась. Нет ничего приятнее для девушки, чем услышать подобные слова от того, кого любит и она сама.
– Овод тоже любит своего индейского брата Ли. То есть… – проговорила Дуняша. И запнулась. – И не только Овод. Меня зовут Дуняша.
– Да, слышал, Дуняша, – повторил Ли и взял девушку за руку. – Ли никогда не уйдет. Он всегда будет рядом. Он любит навсегда.
– Ли, я тоже тебя люблю, – сказала она. Но снова смутилась. – Только я хотела сказать тебе об этом не сейчас… А тогда, когда мы победим и наступит всеобщее счастье!
– А сейчас? – В глазах Ли появился испуг, которого до этого никогда не замечалось.
– А сейчас… – Дуняша положила руки на плечи Ли и нежно поцеловала его.
Всего один поцелуй успел вернуть ей Ли, как раздался голос командира Мишки:
– А сейчас нужно уматывать отсюда. И поскорее. Видите, кто-то скачет сюда. Так что уходим.
– В лес? – отступив от Ли, спросила Дуняша.
– Да.
Наведавшись в разгромленную штабную хату и прихватив обмундирование брата Овода, который не хотел с ним расставаться, а также собрав оружие убитых бандитов, Мишка с Дуняшей верхом на одной лошади, Ли на другой поспешно ускакали в сторону большого леса.
И снова горит костер в темной чаще. Три человека – Следопыт, Чингачгук и Овод, грустные и потерянные, сидят возле него. Неподалеку стоят их кони, где-то рядом поджидает Слоня.
Это индейский военный совет. Вот и трубка. Но что-то сейчас совсем не до игры, не до церемоний.
Вождь Мишка первым прервал молчание.
– Так расскажи, что же случилось, брат Овод? Кто здесь побывал? Бледнолицые, красные шакалы или еще какие коварные койоты?
Трудно и больно было рассказывать Дуняше о том, что произошло в отсутствие ребят. Слезы текли по лицу стойкого Овода, и этих слез не хотелось стесняться.
– Стало быть, наш батька, наш Черный Лис в плену! – с трудом сдерживаясь, произнес Следопыт. – Но как его освободить? Где он? У кого?
– Кто же его увез? – добавил брат Чингачгук.
– Говорю же, непонятно, – развела руками Дуняша. – Не белые, не красные. А, я так думаю, кто-то… Кто против революции. Хитрованы какие-то.
– Батька словно чувствовал…
– Бумаги спрятать велел.
Верный помощник предводителя повстанцев горестно воскликнул:
– Да, его предали! Но почему? Если бы установить власть, какую хотел батька, люди бы зажили хорошо и счастливо! И все бы было по-честному! Власть – народная. Закон – на месте… А теперь народу только война и разорение. Нет власти. И батьки нет. Других-то батек много. Но они только под себя гребут.
– А наш честный был, – морщась от тоски и душевной боли, воскликнул Ли.
– Да, по науке, – кивнул Мишка-Следопыт, вспоминая стопки книг, что он часто видел в штабе. Какие-то это были книги не про приключения, а научные или политические, и потому интереса они у Мишки, в отличие от сестры его, не вызывали. А, наверно, зря. Может, если бы он их читал, сейчас что-то понятнее было. Но что теперь горевать в пустой след…
– Хорошая наука его. Для людей. Ли верил… – вздохнул Ли.
Ледяная ночь кусала их за спины, и ребята жались поближе к огню. Пусто, тоскливо и бесприютно было им. Одни они остались. Без веры в идею счастливого крестьянского будущего, без предводителя, которого они уважали и с чьими убеждениями были согласны. А теперь? Во что им верить теперь? Куда податься? К белым? С ними, к сожалению, простому человеку «своим» в жизнь не стать, там или благородный господин, или быдло. Или живешь, или прислуживаешь. А все господами никогда не станут. Не может такого быть. К красным? Были уже. Красные своих как мух убивают. Теория у них хорошая. Удобная. Да только куча всякого сброда к ней прицепится, будет свои темные делишки светлыми идеями прикрывать… Позор. Не хотелось в этом участвовать. Страшно даже было подумать, что вот сделаются начальниками над народом обычные хамы из того же самого быдла – ушлые, с крепкими локтями, острыми зубами и шершавыми языками подлиз, и будут упиваться своей властью. Чем они лучше надменных господ?
Так что наступила глубокая ночь, а военный совет наших краснокожих все продолжался.
К лихим ребятам-бандитам податься? С бандитами тоже было не по дороге. Страшные они люди, потому что беспринципные. Никогда не знаешь, что от них ждать… Где выгодно, где власть ослабла и надзор размяк, там они и выползают…
Конечно, наверняка Следопыту в диких лесах и прериях Северной Америки восемнадцатого века было проще! Там – краснокожие, тут – бледнолицые. И он – герой. Все понятно. А здесь-то, у нас, – как? Как выбрать самую правильную дорогу, не растерять своих принципов и остаться верными светлой идее?
И только к утру, когда уже прогорел костер и над лесом стало подниматься неспешное солнце, брат Чингачгук, славный добрый Ли, что прожил свою короткую жизнь в труде, невзгодах, лишениях и унижении, по-индейски поднял руку, и когда взоры братьев обратились на него, произнес:
– Все на свете ждут. Ждут героев. Что придут они – и помогут людям. Такие герои, как из сказки. На кого еще может надеяться простой человек? И в Индии, и тут. Везде. Когда совсем не на кого надеяться, герой приходит и делает так, как надо. Давайте и мы так будем.
Да, это было хорошо. Мишка и Дуняша поняли его.
Ведь сколько ни прочитал книг брат Овод, вывод оказывался только один: выходило всегда так, что на бумаге одно, а в жизни совсем другое. Что правильнее, что важнее? Как люди хотят, как планируют: по науке жить – или так, как просто хочется? Никто так и не дал понятного ответа.
Сколько ни наблюдал за людьми брат Следопыт, выходило, что прав всегда сильный и наглый, а бедным, добрым и слабым лучше бы и вообще на белый свет не рождаться. Но ведь их вон на самом деле сколько – и как сделать так, чтобы им тоже хорошо жилось?
А уж страданий, которых видел – своих и чужих – горемыка Ли, оказалось столько, что сотни тетрадей мало, чтобы записать их все мелким почерком. Так что он чужие беды понимал особенно тонко, а потому за всех несчастных страдал, как за себя.
Так что пусть в политике они не специалисты. Зато просто в жизни ребята кое-что уяснили. А потому определили так – просто помогать людям в каждом отдельном случае. Где кому подсобить? Где восстановить справедливость? Кому утереть слезы? Кого защитить, избавить от обидчика и притеснителя?
На все на это решили отдать свои молодые силы храбрый Следопыт, стойкий Овод и верный Чингачгук.
А чего еще мудрить?
Так что, заканчивая военный совет и приняв решение, вождь маленького отряда поднялся с холодной земли и торжественно скомандовал:
– Ну вот, мы определились. Таким и будет наше дело. Я уверен, что это хорошо, честно и справедливо. Родина у нас одна, и народ один. Да мы и сами народ. Так что выводи боевого слона, брат Ли! Поедем мы на нем по России-матушке! Хау, я все сказал!
И вот юным хрустально-чистым утром в лучах восходящего солнца из сумрачного леса на широкий простор русского поля вышел слон. Три небольшие фигурки мерно раскачивались у него на спине.
Дрогнула земля – как, наверное, всегда, когда происходит что-то важное. И, наверное, по городам и весям поняли: что-то случилось. Удивительное, героическое, мощное. Так оно и оказалось – Мишка, Дуняша и Ли сделали свой шаг в вечность.
Яна Жемойтелите Мир в чугунке Сказка-быль
Памяти моей бабушки Анастасии Никитичны Осиповой
Что ни осень, ни пестрый лист, на Симеона-летопроводца[1], как подует с Севера злая морянка, доставала Марья берестяные, мужнины еще, поршни[2] и ранехонько утром отправлялась с коробом за плечами через все Койкинцы – тридцать дворов, что вдоль Дырозера раскиданы, – по грибы да по ягоды. Настёха, Марьина девка, сны доглядывает, лишь перед самым материным уходом голову приподымет, глаза приоткроет – знает уже, что мамка накажет: «Пецьку цёб стопила. Да смотри – дыму не напусти», – строгая была.
Гриб – не хлеб, ну и ягода – не трава. Шла Марья через лес к самому болоту. А места-то жуткие; редкий койкинский мужик в этакую глушь забредал. Медведь обойдет, так леший заворожит, закружит. Случилось, мальчонка соседский, Яшка, по ягоды ушел да и сгинул. Три дня мужики по лесу искали – на четвертый только нашли; к порогам завел его леший, на утес заманил и бросил. Сидел Яшка весь синий, однако живой. Ничего, отпоили, только заикаться стал с того случая. А леший, рассказывал Яшка, мужичонка собой гниленький, вроде койкинского попика, но босой и волос на пробор не чешет.
Против медведя брала Марья с собой берестяной факел. Как войдет в лес, засветит факел над головой – ни один зверь не тронет. А лешего покорила Марья необыкновенной своей смелостью. Как-то увидал леший, баба здоровая, красивая на болото идет, да как загоготал под кустом – другой бы и коньки кверху, но Марья не растерялась и лешему в ответ: «Холера тебя забери!» Того аж пот прошиб, никак не ожидал от бабы такой наглости. С тех пор больше не приставал: уважает.
Осень-то матка – кисель да грибы, а весной сиди да гляди! Как помер Никитка, Марьин мужик, так и надрывалась она с утра до ночи – за себя по дому, за рыбака Никитку на озере. И детям своим, Настёхе с Фаддейкой, спуску в работе не давала. Фаддейка взрослый уже, а девка – горох, косички что мышиные хвостики. Однако гарусное платье Настёхе к осени справили. Все лето Настёха за платье на огороде спину гнула. «Береги, не носи», – наставляла мамка.
Девка кости широкой, поморской – в мать. Марья с мужиком своим ростом вровень была, а Никитка не худосочный, в дверь заходил – кланялся, вежливым почитали. Кольцо мамкино венчальное Фаддейка как-то примерил, да на пальце не удержал. Соскользнуло кольцо, бочком об пол ударилось… Наползался Фаддейка – у мамки один разговор: чуть напроказят – отходит по спине скалкой или отцовским ремнем. Настёха тогда кольцо отыскала – в щель закатилось.
Так потихоньку, от осени к осени, от урожая до урожая, прирастало в Койкинцах, как на всем Божьем свете, веку двадцатого.
Уже ворчать начинала мамка: Фаддейке года жениться пришли, и промысел рыбный знает, а он только гармошку растягивает да девок смешит, а то накупит конфет и Настёхе целую пригоршню насыпет.
– Ты бы луцце Васенью Солонину конфектами накормил, – сокрушалась мамка. – Ладна девка, и на тебя, паразита, поглядыват.
Отмахивался Фаддейка:
– Все девки ладны, да отколь берутся злые жены?
– За Васенье в придано-то швейну машинку дают. Германку.
– У твоей Васеньи левый косой, во!
– Так ты справа встань, и не видать.
Всем хороша была ядрена девка Васенья: белолица, коса большая, пушистая, да и глаз совсем немного косил. Последняя у матери осталась; брат в Сороку плотничать подался, сестры давно своих по лавкам сажали. А эта строптива: плечом поведет, хмыкнет – не подступись. Только издали на Васенью и любоваться. Ну, под вечер мамка гармошку в сундук, а сама чуть зазевается, Фаддейка тут как тут: «Выручай, Настёха!» Настёха канючит:
– Когда ж ты меня, Фаддейка, с собой возьмешь?
– Подрасти пока. Да и боязно мне; уведут сестренку-то.
– Ага, подрасти. Зацем тогда платье шили? Ты вон женишься скоро, с кем же я на игриша ходить буду?
Фаддейка скорый: гармошку под мышку – и на улицу. А Настёха на сундуке пристроится, вроде как прикорнула. Мамка глядь – нет Фаддейки. Настёху растормошит:
– Платье-то цё ново затаскала? А ну, снимай!
Разворчится, как Фаддейка вернется:
– У, змеи, опять мне обманули! – И за свое, про Васенью.
А Фаддейка подпевать:
– Нацинается рассказ про Васенью косой глаз. Жениться, мамка, не долго. Только Бог накажет – долго жить прикажет.
– Ну тя, Фаддейка, к лешему!
От любопытного Настёхиного носа прятала мамка в буфете баночку леденцов. Заповедную, на всякий случай. Открыла Настёха баночку – ба! – целое богатство. Потихоньку, по штучке, а фантик скатает и обратно положит. Так однажды фантики одни от конфет и остались. Сунулась мамка воскресным днем заначку проведать:
– Андель-андель, кто ж это? – Ахнула да и враз к Настёхе.
– Это, мамка, мыши, – сообразила Настёха.
Поверила вроде мамка, чуть успокоилась, походила. А как за блины-то сели, мамка вдруг хлоп по столу! Да так, что верхний блин чуть к потолку не прилип:
– Цё мыши-то, говоришь? А, Настёха? Это мыши на леденцах все фантики развернули? Вот сцяс как тресну!
Фаддейка выручил:
– Ладно, мамка. Это я девкам скормил.
– Девкам! Мало ты конфет накупашь без спросу-то брать?
– Так я, мамка, тебя боюся. Строга ты больно.
– Дурите свою мамку…
Помолчала…
– Цяю-то наливайте. Блин брюху не порця.
Настёха и рада: обошлось.
– Мамка, расскажи сказку, – чтобы мамка вконец простила.
– Жил-был царь Тофута, и сказка вся тута. Ты цё, маленька?
– Да-а, как игрища, так ма-аленька, – и уже губы кривит.
– Не реви только, ладно. Подрасти с годок-то.
Отпив чаю, набрала мамка грудью воздуха, будто над столом воспарить собиралась, но тут же выдохнула:
– Жила как-то баба Евдокия. Всем хороша и родней богата: пятеро деток, мужик здоровый, кудрявый, мамка опять по соседству, три сестры да брат. Жили сытно, ладно, промеж собой не дрались, никак беды не цяяли. Да беду не клицют – сама приходит. Отправилася как-то Евдокия в лес по грибы, набрала целое лукошко, возвращается было назад довольна, глядь: а изба-то пуста. На сеновале пусто, в хлеву корова стоит, «му-у» – тоскут. Никого! Кинулася к брату – и того нет. Ни мамки, ни сестер родных. Заметалася Евдокия по деревне, а тут навстрецю ей дед хромат: «Родню твою, Евдокия, змей поганый унес. Прилетел, огнем дышит, лапами огород когтит. У, проклятый, всю картошку мне перелопатил! Народ-то попрятался, а твои горды. Ну, змей их в пасть – и назад». Пуще прежнего Евдокия рыдат, а дедка ей: «Не реви! Ступай к поганому-то. Может, он их еще не съил, а на зиму, до голоду, приберег».
Делать нецё, собралась Евдокия в дорогу: пирожков положила в лукошко, горшоцек сметаны взяла да банку варенья. Долго ли шла по лесу, нашла, однако, горушку. На вершине избушка стоит враскоряцьку, а в окне видать – змей цяй пьет, в блюдце дут. Ну, бежать Евдокия к избушке, в дверь колотит, а змей и говорит:
– Цё надо-то?
Вошла Евдокия. В избе дух поганый: пауки, тараканы, а в углу опята растут. Змей-то Евдокии:
– Цё надо?
А она ему:
– На цяй пожаловала и вареньица принесла.
Удивился змей:
– Может, у тебя и пироги к цяю-то?
– Как же! С грибами, с капустой и сметанка к ним.
– Андель-андель, я поисть люблю. А то третий день цяй пустой дую.
Села Евдокия со змеем цяй пить. Змей цяю отпил, пироги подмел, сметану из горшка вылизал, отвалился и говорит:
– Хитра ты, баба. Прямо будто сестра мне, из хвостатых. Сказывай, зацем пришла.
– А зацем, змеюшка, – спрашиват Евдокия, – родню мою унес?
– Ах, вон ты! Ну, цё забрал, то мое, – отвецят. – Не проси, не верну. А вот в жены тебя я б сосватал. Избу прибирать. Видишь, грязь каку развел, самому противно.
А Евдокия ему:
– И рада бы, змеюшка, нравишься ты мне. Да вот не могу.
– Это как это? Это цё, свой мужик у тебя? Так я его съим.
– Нет, змеюшка, ты сам меня сестрой назвал. А на сестре жениться видан ли грех? Слово-то силы назад не имеет.
Змей, как курица, под потолок взлетел:
– Ну, баба! Ну, умна! Ладно, одного кого-нибудь отпущу. Выбирай!
Задумалась Евдокия: то-то задаця, не цюжие ведь, жалко.
– Брата, – говорит, – отдай.
– Как брата? Да ты цё? – удивился змей. – А деток не жаль? А мужика своего? Баба ты или нет?
– Жаль, змеюшка. Только мамку взять – она уж в могиле одной ногой. Сестер взять – замуж выйдут, как и нет их. Мужика взять – так я себе еще другого найду, опять и детки пойдут. А вот брата полнородна у меня больше не бут.
– Ну, баба! – охнул змей. – Ну, умна! Всех бери! Ради такой бабы ницё не жалко.
Воротилася в деревню вся Евдокиина родня, и зажили себе не хуже прежнего. А змей еще три года по Евдокии вздыхал, да куды ему!
С рукомойника сорвалась в пустую лохань капля, загудела. Мамка тронула большой рукой мокрое пятно от чая на скатерти…
– Понравилася сказка?
Рот Настёхин скривился, вниз растекаться стал:
– А поцему мамка одной ногой в могиле?
– Так мамки все помират. Ну вот, опять готова реветь. Погоди, я же не помираю еще. С вами помирать – и платья нарядна нету.
– Хитра мамка про меня сказки социнять. – Фаддейка щурил глаз довольным котом.
– Как про тебя?
– А куды, мол, змею до Васеньи?
– Так баба-то Евдокия, а не Васенья.
– Так змей – то ж я. Зря ты, цё ли, змеями нас ругашь? И грязь, мол, тоже я развожу.
– Тьфу, Фаддейка, Васенья с ума у тебя нейдет, так хоть меня не путай. Сосватал бы этой осенью, и делу конец.
Тринадцатую осень от начала века задувала морянка. Рябина в тот год рясно цвела – много овса будет…
Обиделся вроде Фаддейка:
– Ты, мамка, думашь, совсем я никудышный. А у тебя, помнится, браги в заначке – пьяной, овсяной…
– Ой, ты цё надумал-то? Браги, а?
– Много ли осени осталося? Васенью сватать пойду.
Мамке смешно:
– Шути, кувшин, поколе ухо оторвется.
– А вот я пойду и сосватаю! – сказал, как топором отрубил.
Тут струхнула мамка: дело, кажись, серьезное.
– Погоди, парень, кто ж так делат?
– Васенья, небось, дома чай с пирогами пьет, а тут я!
– Фаддейка! Да разве можно? Стой, Фаддейка!
Куда там! Середка сыта – концы играют. Хватанул Фаддейка полведра браги и – в решето ветер ловить. Бежит, дороги не разбирая, через огороды. Поспеть бы, пока храбрость с хмелем не вышла. Без браги-то нет отваги! Добежал до калитки Васеньиной – не заперто. На собаку цыц! И в дом, дверь рванул, нежданным-то гостем. Стал на пороге, запыхался, дышит. А Васенья и впрямь чай пьет. Мать ее – толстая, большая, сидит себе бочонком, пирог с клюквой надкусила, да так и застыла с куском в зубах.
Молчит Фаддейка. И Васенья с матерью молчат, смотрят.
Солнышко последнее по самоварному боку – пых. Еще горит бабье лето, еще тепло, жарко, но вот-вот потухнет, обернется угольком, пеплом, ничем. Опоздавший лист коричневой бабочкой прошуршал за окном, и ветер унес его дальше в осень…
Хватил Фаддейка картуз о колено:
– А замуж за меня пойдешь?
Мать Васеньина пирогом поперхнулась, тут же запить хотела – обожглась, руками машет. А Васенья спокойно ответствует:
– Кто же так сватат? По девке хоть бы подарок принес.
Тут мать отошла маленько, на дочку зашикала:
– Помолци! Цяй не молоденька. Ишь, порядок завела – женихов отваживать.
– Это ли мне женихи? Это так, женишонки да женишишки.
– Дура ты. Много свататся, да одному достанешься.
Васенья чуть на лавке подвинулась:
– Садися. Цяю с нами попьешь.
Мать как зашипит:
– Придумала невеста цяевницять! Уж где сватано, там и пропито. Ну-ка, водки Фаддейке налей да сама поднеси.
А Васенья ну капризничать:
– За мной мамка швейну машинку дает. На тако богатство не то рыбацкий сын – любой позарится.
Злость Фаддейку взяла. Чует, понесло. Хмельной что кривой; рот нараспашку, язык на плечо:
– Врешь ты все, Васенья, про машинку-то!
Опешила Васенья:
– Это я? Это цё вру-то? – И уже руки в боки.
– А вот нет у тебя машинки! Не верю!
– Как это не веришь? Я сцяс по кумполу тресну, так сразу поверишь!
– А все равно не поверю! Нетути!
Васенья чуть не ревет:
– Мамка! Фаддейка-то пьяный!
А мамка серьезно:
– Пьяный не больной, проспится, так пригодится. А жениться тоже не лапоть надеть. Машинку-то покажи, дура, а то и впрямь не поверит, сбежит.
Призадумалась Васенья, а ведь верно!
– Ну, пойдем, покажу.
Завела Фаддейку в материну, самую дальнюю комнату, тряпицу цветную с сундука сдернула: андель-андель, стоит себе машинка. Германская, новенькая. Блестит. Только на машинку эту Фаддейка едва посмотрел. Оглянулся быстро – хмель хмелем не выбьешь – Васенью крепко за плечи схватил, к себе притянул, расцеловать хотел крепко девку, а она вырвалась да по морде ему, по морде! Видали таких: не кормил, не поил, а целоваться лезет! Раскричалась. Мать на крик бежать, да по дороге ведро ногой задела, упала – вопит. Ну, пока шум, Фаддейка, себе не вольный, машинку-то на плечо и прочь из избы. Мать пуще вопит, и Васенья в визг, выскочила за Фаддейкой, на всю улицу голосит, в юбках путается. Да куда ей за Фаддейкой угнаться! Он с машинкой на плече через все Койкинцы – к озеру. Собаки за ним увязались, ажно пыль столбом, лают… Фаддейка машинку в лодку, успел только от берега отгрести, где поглубже только – и в воду ее, германскую! Прибежала Васенья, запыхалась, да поздно. Сидит на берегу, воет.
Фаддейка в лодке на озере переждал, пока Васенья весь голос выкричит, пока с воя на плач перейдет, заодно и сам отошел чуток. Подплывает к Васенье, на берегу рядом сел, обнял за плечи:
– Не реви! От рыбацка сына рыбе и подарок. Цёб богаце ловилася. А нам того богатства не надо, которо спеси сродни.
– Изыди ты, постылый! Мало вас на цюжо богатство зарится?
– Ой, Васенья, на рожу смазлива, а умок-то незрел. Дура ты, так дура и ессь. Зацем же так о людях думашь, цё каждый всюду выгоду ищет, под себя копат?
– Кому я теперь нужна?
– Цё ж ты, девка, и цены себе не знашь? Да хоть вконец окосей, я тебя всяку любить буду.
– Отколь я знать могла про любовь?
– Ну вот и узнала. Теперь пойдешь за меня?
Не успела Васенья ни «да», ни «нет» Фаддейке ответить, как глядь, из-за пригорка мать Васеньина поспешает, уткой переваливается. А за ней урядник – собой короткий, брюхом трясет, усы тараканьи по сторонам – ух! Мать-то как обозрела картинку: Васенья зареванная с Фаддейкой в обнимку, так и просекла: «Потопил!», и опять в визг. Вцепилась в Фаддейку, кулаком норовит по глазу съездить. Урядник давай оттаскивать.
– Совсем спятила баба. Кого потопил? Жива вона твоя девка, сидит.
– А, ирод окаянный! Если б он Васенью, так ить он машинку швейну изницьтожил.
– Каку машинку?
– Да цё я Васенье в придано берегла. Сама-то и не пошила на ней.
Урядник сразу государственный вид принял:
– Так-с, происшествие.
Почесал за ухом, обошел Фаддейку кругом, – сам Фаддейке чуть выше пупа, с лица завернул – и ну подскакивать:
– Я те покажу безобразия нарушать!
Васенья сладостным голоском, лисичкой:
– Ой, парень-то пьяный. Помилуйте! Пьяный-то цё не сотворит?
– Так и я пьяный бывал, а ума не пропивал. Ну-ка, сын рыбацкий, гонор дурацкий, признавайся, зацем девкино придано в воду кинул?
Фаддейка петушится:
– А кому дело како? Я эту девку сосватал. Придано, знацится, ко мне перешло. А уж я с ним цё хоцю, то и делаю.
– Ишь ты, – хмыкнул урядник. – Правда, цё ли, сосватал он тебя?
Васенья потупилась:
– Сватал, – и так покорно головой кивнула.
Низкий ветерок растрепал траву, прядку волос Васеньиных выдернул – и бросил, утих. Русая коса солнечной искоркой занялась, глаза золотятся – тёмный мед…
Проняло урядника по самые пятки:
– Таку и я бы сосватал…
Ух ты! Ух ты! Мать Васеньина всполошилась:
– Да кто же это сказал, цё девка просватана? Нет на то моего согласия! Видано ли дело цюжу машинку в воду швырять?
Плюнул тогда урядник:
– Ну и дурна же ты, братец, дурак впритруску!
– Это кто из нас тут дурак? – взбеленился Фаддейка. – А ну, повтори! Кто дурак-то? Думашь, больно тебя боюся, коротышку?
Урядник побагровел:
– Ты! Я тя сцяс арестовывать буду! Ницце, умнее тебя в тюрьме сидят. Там из тебя умишко-то выколотят.
А Васенья свое:
– Пьяный он! – заметалась промеж козлов. – Да парень-то пьяный!
– Пьяный проспится, дурак никогда. Проуцить, видно, придется. Подь-ка сюды!
Поманил урядник пальцем Фаддейку, а тот как попер:
– И откуда ты такой храбрый? Погоны-то нацепил, возгордился, больно испугал! Да тебя, коцерыжку, из-под погон не видать!
Хвать! И урядниковы погоны как ветром сдуло.
Присудили Фаддейку по политической в ссылку на Белое море. На прощание отходила мамка сынка до синяков самоварной трубой, а потом ревели три дня в голос на пару с Настёхой. Да что сделано, назад не отплачешь. Поцеловались, и укатил Фаддейка на край земли. Туда, где родилась каждую осень злая морянка.
В начале века времени еще на все достаточно было. Главное, точно знать, когда за дело взяться, когда завершить.
С зимнего Егория по Николу[3] сетное полотно рыбаки вязали, снасти к новому лову готовили. Дело не женское, а есть-то хочется. Мамка сама над собой смеялась: ни ростом, ни статью в артели от мужика не отличишь, и который год в заблуждении пребывал водяной, никак не желая признавать за мамкой женской волшебной силы, и рыбой кормил отменно. А вот Настёха… в девке силы колдовской поболе спрятано, да ладно, маленькая еще, авось не попортит снастей.
Долгими зимними вечерами, когда дышал со двора в окошко кто-то белый, слепой, залезал и дул в трубу или шумом распахивал двери в избу, желая войти в тепло вместе с мамкой, но тут же отступал, оставляя терпкий запах дымка – вязали сетное полотно молча, как свершая древний обряд, смысл которого уже непонятен. Но даже ругаться себе на тот срок запрещала мамка, а то в «шумные» сети не пойдет рыбёха. Перед сном весь мусор под икону в уголок сметала. Зачем? Да Бог его ведает, только так испокон веку рыбаки поступали. Рыба, что ли, кучно пойдет. А как были снасти готовы, и тут дела хватало – принимались за промысловые рукавицы и носки без пятки. Фаддейкину одежу мамка подальше припрятала, зря не травить Настёху. Видела же: сидит в уголке смирно, вяжет, а и всплакнет бывало: где-то там есть Фаддейка?
Незаметно в том году и весна подоспела. В ночь со Страстной среды на Великий четверг Пасхальной недели сходила мамка в лес срубить заветную деревину, которая должна заставить рыбу саму плыть в сети. Жертвы кой-какие, угольки-косточки, принесла водяному, да только Настёхе на то глядеть не велела: нельзя девке, еще отпугнет «хозяина».
Весной в рост Настёха пошла, глаза-то в синь, а коса в ночь. Как стаял снег, платье гарусное, что к прошлой осени шили, из сундука достали, а и не влезть Настёхе в него, чуть по швам не поехало. Расстроилась, конечно, а мамка:
– То-то беда, не выносила. Зато когда из сундука достанешь, а оно и не стирано, новенько.
Большая вымахала девка, да словно чужая: скулы высоки, глаза холодны, что льдинки, рот великоват. И телом в кости мощна, а мяса нет – жилистая, сильная. К зеркалу подойдет, развернуться попробует, как настоящей девке и подобает – плавно, мягко, ан не выходит. Движения резкие, скорые, руки еще растопырит: сосна-сосенка. Ладно, не всем красотой славиться.
– А по платью не плаць! – обещала мамка. – Мы тебе ещё полуцце справим. Да взросло, лентами шито.
Они еще собирались жить по-прежнему, не торопясь, в своем времени: весна-лето-осень… Но лето четырнадцатого года опустилось внезапно душным и так застыло – долгое, без ветерка, без движения. Последнее лето старого крестьянского мира тревогу в себе томило, грядущий ужас нового века, чтобы к августу разразиться огромной войной от моря до моря: «За Царя, за Отечество!» Стон пошел по-над лесами, над весями. Вот тебе и платье, лентами шитое, вот тебе и сережки в уши. Негоже девке нарядничать, когда парни в обмолот пошли. Не к овсяной жатве – к кровавой поспевала рябина. Да что еще про войну писать? Всякая война от супостата идет, а наше дело – сказывать сказки.
Ну, где сказка, там чудо дивное, поперек войны-то является. Мамка три дня не верила, так ведь вон оно, чудо – на ладони лежит, никуда не девается. Конвертик такой махонький, беленький. То письмо Фаддейкино из самой тюрьмы архангельской. Андель-андель, а в тюрьму-то неграмотного отправляли! Да что с этим письмецом поделаешь – как ни верти… Мамка даже понюхала – запах знакомый, водорослей, такой морянка за собой приносит. Грамотея какого искать приходится, да к чиновьему люду не сунься; письмо-то из тюрьмы пришло, а дурь Фаддейкина премного известна, что он там нацарапать мог. Думала мамка.
– А пойдем-ка, Настёха, до Яшки-блаженного.
– До Яшки-дурашки? Которого леший водил?
– Ну. Говариват про него, в том цисле и цитать умет. Ежели не разуцился.
– Так откуда блаженный грамоту знат?
– А то откуда? Откуда вся премудроссь берется? От лукавого, ясно. Добра от премудрости еще никто не видал. – Мамка предусмотрительно погрозила Настёхе пальцем. – Ну, ежели сболтнуть Яшка вздумат, мало ли цё блаженному на ум придет, а письмо-то я схороню.
О-ой-то – и боязно к Яшке обращаться, а все занятно: парень он не то чтобы совсем с ума свихнутый, а боле смурной, из дому носа не кажет. Пробовали его разговорить – ответит так, что затылок чеши.
Пошли все-таки.
Сидит Яшка, кота гладит, не торопясь, от ушей до хвоста. Сам опрятный, волосы льняные прядями чесаны, а лицо простое, круглое. Парень как парень, глаза только выдают – спокойные, блеклые и в себя внутрь глядят. Изложила мамка просьбу свою, письмо протянула Яшке осторожно, тот как пальцами взял да вдруг засмеялся, громко так, в голос, щелка между передними зубами открылась:
– Д-да цё ко мне-то с этим пожаловали?
– Тише ты! – осадила мамка, заговорщицки потянулась через стол к Яшке. – То и пожаловали, цё в тюрьму сажат у нас за всяки тайны дела. И не только сажат, но и умертвить могут, во!
– И цё это за тайна така, ежели за нее люди гибнут? – нараспев, глядя в потолок, протянул Яшка.
– Цё? – мамка резко свела брови.
– Я т-того говорю, цё ни одна тайна целовецей жизни не стоит.
Приоткрыв рот, мамка продолжала глядеть на Яшку:
– Да все одно я блажи твоей не пойму!
– Цё тогда за блаженный, ежели его кажда баба понимать станет?
Яшка, не торопясь, аккуратно расправил письмо, прокашлялся:
– Знацит, доверяете мне? – На оконный свет зачем-то сквозь листок поглядел, пошевелил губами… Сердце Настёхино подняло изнутри к самому горлу, – и вдруг гладко прочел: – «Здравствуйте, родна мамка и сестренка Настёха».
– И-и-и, – вырвалось у мамки как-то тоненько, – Фаддейкино-от письмо!
– «Отписыват вам руганый сын Фаддейка, – продолжал Яшка, – из славна города Архангельска. Живем мы тут вольготно, прямо так по улице гулял, и за решетку нас никто не сажат».
– Ой, это как хорошо! – обрадовалась мамка.
Листок в Яшкиной руке нервно дрогнул.
– «…никто не сажат, но крестьянска мужика среди ссыльных немного, боле все уцителя да работный люд. А поскольку дела особа тута нету, вот один уцитель в оцьках и науцил меня грамоте. Похвалил еще, цё я талантлив. Те товарищи ссыльны на многие вещи меня просветили, и стал я думать инаце. Ой, и дурят же кровопивцы рабоце-крестьянина! Помнишь, мамка, как дармоеды тебе зерно погано на семена продать хотели и как ты на них бранилася и шумела, а они тогда и забегали. Вот так и надо с ими поступать всегда. Била ты меня, мамка, цё я в ссылку попал, а теперь вроде и ладно сделалося, цё я всю войну проклятущу в Архангельске просижу. Вам, небось, говорят, цё за Отецество воевать, так то все неправда и вы не верьте. Может, Царь и целовек хороший, только я его в глаза не видал ни разу, нецё тогда за него и на войну идти…»
– Эй, ты цё тако говоришь? – возопила мамка и сильно дернула за рукав Яшку.
– Так то разве я? То ж у Фаддейки писано.
– Врешь поди. Социняшь.
– Куды мне? – хмыкнул Яшка. – До того мудрено писано.
– И верно, – согласилась мамка. – Ну, дальше.
– «Дё ещё про Архангельск писать, так море тут знатно. И сельди богато в нем, и сига, и трески. Видал я также моржа, который усищами своими и наглой мордой на урядника нашего сильно смахиват. А в порту суда таки огромны, цё у нас в Койкинцах и сравнить не с цем, и всяка заморска купца со своим товаром, а в городе цело купецеско собрание стоит, и настоящи дамы нарядны ходят. Море-то Бело и не бело вовсе, а зелено – это вот паразиты опять нас обманывали, но вода в нем верно горька, пить нельзя. Цё ещё писать, так я уже сообщил, цё занятия особа у меня нету, а как со товарищами ссыльными поговоришь, так и вообще ницё делать не хоцется. Поэтому решил я в артель рыбацку податься, должны меня взять взамен на войну ушедших. Сообщаю также, цё я здоров, цего и вам премного желаю. С поклоном и поцьтением к вам пребываю, Фаддей Осипов».
Конечную фразу Яшка выделил особо, баском, и умолк.
– Всё, цё ли? – после паузы спросила мамка. – Вот я всегда говорила: с умом народился Фаддейка, а какой дурень! Жаль: хороший мог полуциться мужик. Слышь, Яшка, про Царя да про войну цёб никому ни звука, а спросят – скажешь, поклон, мол, шлет.
– А кто мне и поверит?
– То-то же. Сама бы не поверила. Да уж больно толково писано.
Всю обратную дорогу Настёха тесно прижимала к груди Фаддейкину весточку и дома уже дотемна изучала листок, пыталась смотреть, как Яшка, на свет, разглаживала, а на ночь сунула под подушку. Но все-то удивление Настёхе: неужели эти палочки-закорючки мысли и слова Фаддейкины в себе заключают?
Такого занятия Настёхе на неделю хватило, а как-то раз навстречу попался Яшка. Встал поперек дороги – не пройти.
– З-д-д-дравствуй, – только и сказал.
И вот стоит – ни назад, ни в сторону. Еще как-то смотрит хитро, с прищуром, не в самые глаза, а чуть повыше, промеж бровей.
– Цё ж тебя, Настёха, в гости не дождаться? Я думал, зайдешь.
Вроде как стыдно стало Настёхе за свое удивление, покраснела:
– Так… цё без дела-то шастать? Письмо одно полуцили, а больше и нет вестей.
На то хмыкнул Яшка:
– Гляжу я, ты будто нездешня. Глаза-то сини, а коса будто в смолу обмакнута и скользка, блестяща. Дозволь, Настёха, косу твою потрогать.
Обомлела Настеха, да вроде косу потрогать – чего дурного?
– Трогай, ежели охота.
Забрел Яшка осторожно Настёхе с затылка, косу тихонько ладонью ухватил – высоко, у самой шеи, к глазам поднес.
– Ну и косища. Жестка, цё конска грива, – дышит Настёхе в шею тепло, щекотно. – Волос у тебя вроде татарского. Знашь, татары-то от коней происходят, потому у них и волос жесткий.
– Ой, да неужто мне кобылка сестрица?
Засмеялся Яшка как-то по-детски, щелочку опять между зубами открыл, косу выронил:
– Это же оцень давно было. А у тебя, верно, в роду татарин какой затесался, отсюда и волос. Да ты не расстраивайся, я коней люблю, добры они…
Зырк – бабка Гордеиха на пригорке мелькнула, вьщернулась – и нет ее, пестрой юбки. А была ль? Или это осина на ветру всполохнулась, сердце Настёхино захолодила?
– А тогда наши-то, койкинские, откуда взялись?
– Наши? Ясно дело: из Бела моря вышли. Потому мы без воды и прожить не можем.
– Так разве тварь кака без воды проживет?
– Представь себе, – назидательно, как на проповеди, принялся вещать Яшка, – цё ессь на свете целы города без озера всяка, без рецьки, а то и целы страны – один песок вокруг.
– Андель-андель, – изумилась Настёха. – Так это они никогда и цяю не пьют! Кому сказать – не поверит.
– Ну нет, без цяю-то разве можно? – Яшка задумался на минуту и радостно продолжал: – А они воду из-под земли церпат. Там, под твердью-то, океан целый ессь, и цюдища всяки невиданны, и даже коровы.
Никогда прежде Настёха речей таких не слыхала:
– И где это ты премудрости столько набрался?
– Знамо где, – важно произнес Яшка. – Только говорить про то лишнего не следут.
Настёха прикусила губу, понимающе закивала.
– Да ты, Настёха, не стесняйся, заходи как-нибудь без дела, просто так.
Пожала Настёха плечами.
– Ну, как знашь. Провожать не буду – бабы тут языкасты.
Как ни берег Настёху Яшка, а от злого жала не спрятал. Скора на сплетни бабка Гордеиха оказалась. Чуть Настёха к калитке, а в окне уж мамкин взгляд тяжелый маячит, брови сплошной чертой:
– Ты цё это с блаженным гулять удумала? Или мало драли?
– Ой, уж и встретился на дороге. Цё мне его цюраться? А ежели беседовать с ним интересно?
– Интерес-то весь его от нецистого. Видала ещё у кого таки глаза? Будто цюжие на лицо прилеплены. Уж кто с лешим дело имел, тот умом тронулся.
– А тебе, мамка, не доводилось лешего видеть?
– Ой, нет, нет, – замахала руками мамка, – вот только, помнится, раз на болоте голос подал. Ты совсем маленька тогда была. Ну, лесной он, да все же мужик. А у меня с мужиком особый толк. – Тут мамка подтянулась и пригрозила кулаком кому-то в окно. – Пуссь только попробут сунуться, век неповадно бут!
После встречи той на дороге, после разговора с Яшкой сделалось что-то с Настёхиными руками: никакая работа не ладилась. То метелка грязно метет, то каша подгорит, а за шитье возьмется Настёха – два стежка прометает и иголку в ткань воткнет, сидит, задумалась. А там уж и вовсе шить расхочется.
Однако скоро же опять на дорожке встретился Яшка, на том самом месте. Стоит себе под деревом праздный, в пальцах соломинку теребит.
– А ты будто меня поджидал! – почему-то обрадовалась Настёха.
– Может, и поджидал. Или боишься?
– Я-то не боюсь, да вот мамка меня ругат. Нецё, говорит, с блаженным знаться.
Будто резанули Яшку слова Настёхины, сморщился:
– Так я блаженный?
– Не-е, я-то думаю, зря тебя блаженным прозвали.
Повеселел, хохотнул:
– Каждой деревне свой блаженный нужен.
– Это зацем?
– А затем, цё кажда деревня на манер малого мира скроена, – назидательно, упирая на «о», произнес Яшка. – Буде кто в хозяйстве сметлив, кому-то и в дурацьках ходить, для всеобща равновесия, – и опять хохотнул.
– Цё в тебе-то дурацкого?
– Дурак не дурак, а с роду так. Заикаюсь, быват. Вот и вся моя странность.
Настёха смекнула:
– Нет, Яшка, не языком, а умом больно ты странен.
– Как? Умом, говоришь? – Яшка вскинул смиренные, будто слепые глаза. – Верно. Ума еше никому не прощали.
Зябко, холодом дохнула морянка, грозди на рябине качнула. Стоит Настёха, в платок кутается, и странно ей так стоять-молчать, а Яшка будто нарочно: соломинку покусывает, про себя бормочет что-то. Вдруг соломинку оборвал, рукой махнул.
– Ты цё? – вздрогнула Настёха.
– А то, цё скуцно мне в нашей деревне, тесно. Заранее вся жизнь наперед расписана, до креста последнего. Знамо даже, где мне в землю лець.
Зло сказал.
Испугалась Настёха:
– Так разве можно инаце?
– Инаце? А инаце мне дурацьком не быть. На войну я пойду. Белый свет смотреть да с армией по Европе шагать. А как до самого океана доберуся – тебя к себе выпишу. Хоцешь на океан-то, китов поглядеть?
– Ой, океан… Так на войне-то еше и убьют.
– Хм, кого и убьют. А мне слово тако заветно ведомо, цё вокруг меня будто броня вырастат.
И так хитро опять промеж бровей Настёхиных глянул: забыла, с кем дело имеешь?
Как сказал Яшка, так и сделал. Ушел, не простился даже. А через месяц весть недобрая прилетела: положила Яшку германская бомба в первом же бою. Разорвала да по миру развеяла, одни сапоги остались. Вот был дурак себе на погибель.
Мир: на севере море Белое, по нему корабли ходят, а где-то как раз напротив, по другую сторону мира, есть море Черное. А может, и нет его вовсе. Зато на востоке – всё страна Россия, а на западе – страны дальние. Посреди мира деревня стоит Койкинцы. Под ногами тверда земля.
Был мир, да вдруг исказился, сам в себя перетекать стал, сузился. И оказалось, что война не в странах далеких, а как бы она изнутри растет и какое-то отношение имеет к мамке, к Настёхе, к бабе любой, велико пытая извечное терпение и преумножая скорбь. Уже возвращались домой покалеченные солдаты с той войны – из краев, куда раньше никто не хаживал, и в первые трофеи, рогатые немецкие каски, придумали бабы нужду справлять. Поначалу из презрения, а там и удобно выяснилось. Все вокруг: горшки, мужики, лошади – стало одной большой войной.
Терпели от письма до письма Фаддейкина. Жив, и ладно, чего ещё-то желать? Так нечитаными в коробчонку и складывали. Время разомкнулось, устремилось по прямой вперед – от вчера в завтра, отнимая за деньком годки у мамки, прибавляя Настёхе. И каждый вечер чесала Настёха смоляной волос частым костяным гребнем: расти, коса, до пояса, не вырони ни волоса, расти, коса, до пят, пусть все глядят… До колен успела дорасти косища, а там – надоела война, измучила, ох! Вот и довоевалась матушка-Россия, что сама без мужика, без царя-батьки осталась. Револю-у-ция… Плакала тогда мамка сильно: как же без царя? Кому царь-то жить помешал?
Январь-просинец крышу зиме поставил, течь кой-где подлатал. В декабре день белый совсем было помер, а в январе и воскрес. Пробился из-под снегу веку восемнадцатый годок. Потекла скрута будня – тишь да гладь пока. Бабьи каши отъели, отпекли пироги с клюквой. Пришла пора – забот гора, спину разогнуть некогда, поглядетъ-послушать свежие вести.
Но тот ездок всем приметен был. На зависть конь – огромный тяжеловоз, лоснятся бока. «Си-ивушка!» – гикал мужик в санях. Молодой, собой статный, бородка курчава. По дороге прохожие с перепугу кланялись: и тулупчик новый на нем, и шапка лисья, а сани полнехоньки. Как только не ограбили? Видать, себе верили разбойники-воры, долго вслед мужики глядели, глаза протирали.
Как вошел Сивушка в Койкинцы, бабы по обе стороны дороги рты поразевывали, а у кого аж челюсть на сторону вывело, так и стояли они, кривомордые. А мужик-то прямехонько к избе Марьиной. «Тпру!» – весело с саней спрыгнул, смеется: вдоль улицы каждое окошко что мухами – бабами улеплено.
Только хотел мужик к избе направиться, да вдруг замешкался. Глядит, девка вышла на крыльцо – косища черная, что змея, толщиной в руку. И вот тоже стоит девка, из-под ладони мужика разглядывает.
Помолчали.
– Так это цё за деревня бут? – Мужик растерянно руками развел.
– Да вроде Койкинцы, – девка с крыльца ответствует.
Ещё больше удивился мужик:
– Сплю я, цё ли? Ты кто така?
– Живу я тута.
Мужик шапку стянул, пот со лба рукавом вытер:
– Погоди, а звать-то тебя как?
– Настёхой клицют.
Тут мужик шапку о землю швырк, вдруг загнулся с кряком да вприсядку по двору. Скачет:
– Настёха, ой… Настёха-ха-ха!
Привез Фаддейка из Архангельска товару богато: муки пшеничной пуда четыре, соли полпуда, чаю в достатке, конфет и прочих сластей. Такожде сапоги хромовые, панталоны дамские с кружевом – всякое добро в хозяйстве сгодится, мамке ткани на платье в звездочку, а Настехе – бусы. Товары Фаддейка аккуратно так разложил, по-хозяйски, чего на столе, а мешки вдоль по стенке в горнице выстроил рядком. То-то радость Настёхе, конфеты кидала в рот. А мамка молчит. Руки грубые на груди скрестила, наблюдает за сыновней работой. Как управился, «Всё?» – только спросила, да с размаху кулаком Фаддейке в лоб. Учить дураков – не жалеть кулаков, знай мамку!
От мамкиного тумака отлетел Фаддейка к стене, на мешок плюхнулся.
– Это, во-первых, за грамоту, – пояснила мамка. – А во-вторых, за разбойны действа, церез которы ты богатство добыл. В тюрьме хорошему не науцят!
– Мамка, ты цё? – приложил Фаддейка пясточку ко лбу. – Вот те истинный крест, цестно заработано. Я ж про то отписал.
– А писанное твоей золотой руценькой мы в коробоцьку складывали да подальше припрятывали. Потому как стыд кому тако показывать. Ну, признавайся, где лошадь добыл?
– Да на ярмарке архангельской, – протянул Фаддейка. – Купил. Вру я, цё ли? Ты ж меня знашь. Или под истинный крест всё цё угодно говорить можно?
Призадумалась мамка:
– Купить цё вошь убить. А деньжата отколь?
– Эх, мамка. Кинул я не палку, убил не галку, ошипал не перья, съел не мясо. Треску продал, во! В путину така удаця пошла, цё наловил я трески с гору, ажно сети порвалися. Да все крупной. Отборной. Цясть на месте купили, цясть в засол пустил. С улова того и конь, и проций товар.
– Ну, дал Бог рыбу, даст и хлеба, – не могла не верить мамка Фаддейке на слово да под истинный крест. – А цё еше за сундуцёк такой с руцькой?
– А вот это само ценно дело и ессь, – хитро начал Фаддейка. – Отписывал я вам помимо всего, цёб вы передали Васенье, цё обиды я не держу, от слов своих не откажуся и сразу замуж ее возьму. А в доказательство верной своей любви купил я Васенье машинку швейну, да ещё луцце, цем изницьтожил…
– Впредь на это ума купи, – перебила мамка. – Каков купец, такой и товар… Курица я стара! Кулёма! Сердилася да про письма твои молцяла. А тут как раз сосед Васеньин хромой с войны-то явился. У их с Васеньей уж дети малые народилися.
Масленица грядет мокрохвостая – шуба нараспашку. Запалят блины в печи, круглы, словно солнце. То-то праздник! Под самый конец зимы случилось мамке явление. В окошко заприметила мамка: к избе мужик незнакомый шагает, в сапогах. А голова у мужика гладкая, что яйцо, и от этого кажется он на снегу голым, аж глядеть срамно.
В дверь постучал осторожненько, в кулачок покашлял.
– Здравствуй, – с порога сказал мужик, – Марья Осипова.
– Во здравии пребывай, батенька, – поклонилась Марья.
– Уполномоченный, – представился мужик. – Товарищ Курицын. Из самой Сороки.
Состряпала мамка чаю. А Курицын этот странно так чай-то пьет: отхлебнет, кружку у губ задержит, губами почмокает… Наконец отозвался:
– Хорошим чайком балуешь незваного гостя.
– Цяем доселе никто не отравился, – срезала мамка.
– Занятие какое, Марья, имеешь?
– Бабой родилася, и занятие бабье.
– Корова, говорят, у тебя и лошадь в хозяйстве?
Никак Марья уразуметь не могла, чего товарищ от нее добивается, потому принялась говорить громко, будто с глухим, и руками размахивать.
– Раз корова да лошадь в хозяйстве, какого лешего занятия тебе недостает. Сам-то цем занят?
– Уполномоченный…
– Уполномоценный… – Потрясла мамка пальцем над головой, а потом постучала по лбу. – Так занят-то ты цем?
– А вот познакомиться пришел, – растекся товарищ в улыбке, аж лицо на лысину заплыло. – В хозяйстве сейчас первейшая задача – строгий учет и контроль.
– Ну так в своем хозяйстве я сама сосцитаю, – не сдавалась мамка. – Не уци рыбу плавать!
– Считать мы все научены, – отхлебнул товарищ чайку, поглядел на мамку сошурясь, как на самовар в лавке.
А в окошко дух весенний, сырой, всякой твари Божьей на любовь, на радость, на вечную работу…
– Крутая ты, Марья, баба. И по хозяйству, и в разговоре…
«Андель-андель! – пробрало мамку. – Сраму-то, стыдобушки. Сватать пришел, подлец!»
– Вот я сцяс коцергой по маковке съезжу, так и сцитать забудешь!
Подпрыгнул Курицын с места: не баба – скала.
– Да я… ты… – Хотел было грудь выпятить для устрашения, да пузом вперед вышло.
– Сосцитал! Корова да лошадь, да в работе крута! – расходилась мамка. – А на себя оборотися. Сам-то больше съишь, цем наработашь. Сватат он!
Ну товарищ хохотать! Хохочет, а смех раскатистый так с губ горохом и сыплется:
– Уморила! С вами, бабами, познакомься – со смеху голова заболит.
– Голова болит – заду легце.
– Да я ни на корову твою, ни на свободу женскую покушаться не думаю.
– Толкуй! Зацем еще мужика леший носит?
– Уполномоченный я. Сорокским совдепом! К сыну твоему пришел. Я Фаддейку еще в архангельской ссылке встречал.
– В ссылке? – прикусила мамка язык: всяк начальничишко обидеть норовит, да и схитрить решила. – Так то, верно, не Осипов Фаддей-то был, а… Матвеев.
– Как же! Матвеев Федот, сапожник. Не Фаддей, а Федот… – осекся товарищ, на мамку уставился. – Да я, баба бестолковая, про Осипова Фаддейку тебя спрашиваю. Славный парень, собой видный, красивый. Он еще к рыбакам в артель вкупился.
– Ну, ежели славный, так то сын мой и ессь! – согласилась мамка.
– Слыхал я про Фаддейкины подвиги, как он с вредным элементом на месте расправился, как массам революционную идею разъяснял.
– Цё? – скривилась мамка.
– Выношу тебе, Марья, от совдепа благодарность за беззаветную борьбу с царским самодержавием, – потряс Курицын мамкину ладонь, подивился про себя Марьиной хватке, – зажжет Фаддейкин революционный пыл койкинского крестьянина.
Уходил Курицын от избы к калитке, вялый снег сапогами в комки лепил, а от курицыной башки исходило будто внутреннее сияние – двумя бликами на лысой макушке, будто лысина сама на мамку глазела.
Досталось Фаддейке за мамкин позор:
– Рассказывай, как в Архангельске с царем воевал!
– С каким царем, мамка?
– А врать не подавишься! С таким, цё про свои подвиги нацяльнику расписал.
– Да какому нацяльнику?
– Приехал из Сороки нацяльник. Лысый, курицын сын. В одной тюрьме, говорит, с Фаддейкой сидел.
– Курицын, цё ли? Да пусти! Был у нас Курицын, нацяльником, знацит, стал.
– Ну да. Главным в Сороке коров сцитать.
– Ишь ты, – удивился Фаддейка. – Ну, целовек уценый, несколько книжек процел.
– Тьфу! – фыркнула мамка. – Хоть бы собой мужчину являл. Так, облезло место. А ведь подоврался же под него, герой – штаны с дырой! Супротив царя воевал!
Застеснялся Фаддейка, потупился, и от стыда воспылали Фаддейкины уши.
– Приврал, с кем не быват. Политицеских всё больше за книжки ссылали или за листки запрещённы. Неужто признаться, цё я по пьяни уряднику мундир спортил? Совестно. Да не больно-то и доврал. Сказал, мол, цё притеснения да страдания одне местному труженику от урядника выходили, а я, знацится, того проуцить решил.
– Ой, уж совестно. Ну, ещё-то поври, зубы выбью! Ты хоть за любовь пострадал, а те-то работу себе сыскали – бумажки раскидывать. От безделья ум у них разбежался по дуростям. Дурь-то вся происходит от безделья и скуки!
И тут понесло мамку говорить всякие бранные слова на товарища, на Фаддейку да на всю власть советскую.
Тем же вечером выволокла мамка на середину стола, на почетное место, машинку, что Фаддейка для потерянной невесты приберегал, черный бок машинкин похлопала нежно, полюбовалась, а потом из сундука достала мамка ткани – опять же архангельской, в звездочку, да коробку пуговиц разноцветных. И все-то до темноты отрез этот на себя прикидывала, и так, и сяк примеряла, аж зеркало проглядела. А когда натешилась мамка вдоволь, наказала Настёхе платье модное ей смастрячить, и чтоб по всей груди складки, а на рукавах рюши, да материи не жалеть, до кусочка в дело пустить. До тех пор только глаза Настёха таращила на мамкину прихоть:
– Всю-то жиссь наша мамка скромницяла, да вдруг вздумала мамка нарядницять.
– А твое дело сшить, – отозвалась мамка.
Ладно, следующим днем Настёха села за шитье.
Капризная оказалась мамка: то рукав плохо сидит, то в вороте жмет, а еще машинка не слушается новой хозяйки, сколько ниток извела Настёха, уф, измучалась. Однако за неделю было платье готово, как мамка заказывала: в складки да в рюши. Прикинула мамка:
– Ну-ка?
Да и рукой махнула:
– Куда в таком? Узкое!
Заставила в боках разбавить. Зато в другой раз примерила и собой-то в зеркало залюбовалась:
– Красота!
– Никак нашу мамку сосватали, – подмахнул Фаддейка.
– Всяка невеста для своего жениха родится. – Мамка горделиво задрала подбородок. – Я как за Никитку шла, двенадцать платьев, жемцюгом шитых, в сундуке держала.
И вдруг сникла мамка, устало присела:
– Душе-то с телом мука…
Под самое утро разбудил мамку тихий стук в окошко. «Пора», – подумала мамка. Накатила весна, каждый уголочек-бревнышко пронзила, изо всех щелей тянет, за крыльцом туманом снег ест. В исподнем двинулась мамка в сени, холодом подышала. А потом по внутреннему велению смело шагнула из избы в утро. «Сваты пришли», – дохнул в самое ухо кто-то темный.
Глядит мамка: андель-андель, шагает себе прямиком к родному крылечку незабвенный муженек Никитка. Тихо идет, веселый, на локте корзину держит.
Опомнилась мамка: сама-то нечесаная, босая! Кинулась было обратно в избу, а Никитка:
– Куды ж ты? Тута я пряников тебе несу…
Хоронили ее в новом платье, красиво. И платок в крапинку подобрали. Вот потек с полей последний снег, а вместе с ним растворилась мамкина душа в мире. Стала хлебом, сеном, теплым молоком. Все, что доброго есть на земле, мамкину душу вобрало.
Вышла вечером Настёха на крылечко – сколько звезд понасыпало!
– Глянь, Фаддейка, это ж мамка по небу платок свой раскинула.
– Ну, знацит, в рай нашу мамку взяли. Да и как инаце? Жила себе, никого не обидела.
А сколько годков ей было – никто не считал. Морщинок-то, верно, нажить не успела.
Словно каша из чугунка, летом восемнадцатого мир края свои перетек да великим походом на Койкинцы двинулся. Приносила морянка с Севера вести тревожные, слова чужие, красивые: «интервенция, Антанта». Когда на святой Руси бывало жить хорошо? Да своим привычно. А чужакам и соваться не след. Нет, поперли.
Но вся печаль состояла в том, что через силу жить приходилось дальше, лямку свою тянуть. Худо-бедно жить, да по совести, как еще наставляла мамка.
Мамка не сгинула, не пропала, а будто в сыру землю ушла могучим корнем, чтобы по сю пору питать и крепко держать из земли Настёху – как молодой ствол, которому ещё в рост до неба. Но оставалась у Настёхи от жизни прежней мечта заветная, детская, в самом дальнем уголке схороненная.
– Слышь, Фаддейка, хоцю я тайну у тебя выпытать…
– Это каку же тайну? Никака мне тайна не ведома.
– Не-е, то бабам тайна не ведома.
– А ты отколь тогда знашь? У кого язык цё коровий колокол?
– Не скаци ты, шило в заду! Испугался! Я про буквы вызнать хотела, как из них слова лепятся.
– Ах, ты про грамоту! – засмеялся Фаддейка.
– Засмеешь, вот ить знала!
– Посильна беда со смехами. Грамоте я тебя выуцю, кабы охота была.
– А может, правду мамка сказывала, церез премудроссь-то худо одно выпадат? Ныне много грамотных, да мало сытых.
– То-то глупости, предрассудки бабьи.
– О-ой, боязно…
– Как у пеци шуровать, цёрт болотный с тобой не сладит, а полы скребешь – так будто мстишь кому.
Порылся скоро Фаддейка в шкатулке, выудил клочок бумаги с карандашом да и принялся что-то любовно чертить-вырисовывать.
– Буковка эта зовется «веди», – потыкал Фаддейка ногтем в листок, – а цитать следут «вы»: влассь советска. А ну повтори.
– Вы, – удивленно повторила Настёха.
– Верста, вино, ветряк… Эх, нам бы только с интервентом расправиться, а там такой отгрохам – все до зернышка Койкинцы перемолоть.
– Так цем антервент ветряку ажно из Мурманска помешат?
– Так это когда интервент в Мурманске был, – терпеливо, учительским тоном продолжил Фаддейка. – А за лето успел интервент в Архангельске высадиться да буржуазно правительство во главе с Миллером уцьредить. А намерение интервент имеет нову влассь метлой поганой погнать и старый режим себе обустроить, цёбы мы опять в холопах ходили.
– Так видано ли дело, цёб когда поганы супостаты сквозь нас прошли? – проняло Настёху. – Я сама в воротах встану да как топором размахнуся…
– Правильно рассуждашь, – поднялся Фаддейка в печь поленьев подкинуть. – Только с топором на них не пойдешь. Давно хотел рассказать тебе, Настёха, тайну, которую бабам выдавать не положено, поскольку в бабе, цё в дырявом решете, ни один секрет не задержится. Ино сболтнет – не воротишь. Но ты у меня больно сурова – не выдашь.
– Так кому выдавать? – испуганно зашептала Настёха. – Разве корове-белохе на ухо.
– И ей нельзя! – убежденно сказал Фаддейка. – Ибо велика эта тайна ессь.
Фаддейка замолчал. Подхватил огонь свежих полешек, лицо Фаддейке красным мазнул.
– Идет на нас с Севера войско велико. И всяка враждебна народа в войске том по тьме собрано: аглицян, американцев, французов… Да премного у войска этого амуниции с собой заграницьной и довольства взято.
– По тьме! – охнула Настёха. – Да где же мы их хоронить-то станем?
– А вот слушай, – приблизился Фаддейка к самому сестриному уху. – Думали мы с мужиками об том же, а посыльный от нас в Сороку ездил до Василия Солонина, цё в Сороке теперь председателем.
– До брата Васеньина?
– Ну. И добыли мужики шпиёнски сведения, цё со снегом двинется вражье войско на захват Мурманской железной дороги. Так вот, как буржуи Сороку захватят, основной удар направят дале на Койкинцы, потому как церез Койкинцы коротка дорога на Питер оказыватся.
– Да пройдут сквозь нас супостаты!
– Не только не пройдут, но и не дойдут, – успокоил Фаддейка. – Внемли, Настёха, в оба уха да перебивать не смей. Решили мы буржуям Сороку без боя сдать, будто надоела нам советска влассь, цё моценьки терпеть больше нету, и встретить торжественно, и повести церез лес на Койкинцы. А в лес поглубже зайдут, там уж и яма огромна вырыта да стропилами укреплена – со всех деревень окрестных, цё по берегу Дырозера раскиданы, созыват Василий Солонин мужиков на дело свято, постоять за землю родну. Прежде семь дней мужики топорами стуцяли – звон стоял такой, цё на три версты окрест зверь лесной попрятался-разбежался, а как топоры ступилися, поднатужилися мужики, пни могуци – двоим в обхват – выкорцевали, на месте пожгли. А теперь с лопатами понаехали, и вот с цетырех сторон яму копат огромну, вниз залезешь – ни дерев не видать, одне облака вверху. Под самы заморозки, сцитай, и плотникам дело найдется. Быстро артель стропила поставит, а сверху яма та по стропилам лапником еловым позакидана бут. Так цё и не видать её, только снег припорошит – вроде поляны под снегом. Стоит только войску зайти на ту поляну, а уж позади да со всех сторон мужик-то наш из лесу как ахнет! Да пушка как грохнет! Тут вражей рати погибель наступит. Провалятся со всем снаряжением в общу могилу. А когда на месте том свежий лес нарастет, ни следа, ни духу погана на земле нашей не останется.
– О-ой, это-от хорошо, кабы всю саранцю одним махом, – подивилась Настёха хитрой мужиковской затее. – На большу яму больше и хламу. Да где вы только пушку таку возьмете, цёбы грохнула, так и клоцьки в стороны?
– А пушку нам пролетарьят Петровского завода к снегу отлить обещал. Цёбы и мощна, и невелика собой была, в воз-то с сеном для конспирации умещалася.
– Только б вам до снегу успеть. Времени-то совсем немного осталося.
– Ницце, артелью работать не привыкать.
Уродил по осени добрый Боженька ягод да каждую рябину забрызгал. Желтый лист с деревьев слетел, бурый… Остывал ноябрь, а рябина в сок, тут и пташкам пожива: капли крови Боженькиной в чистый снег роняли.
Валенки Настёхины скрип да скрип, топ да топ по снегу, по рябине-ягоде. Горька ягода, и душе несладко. Молчит Фаддейка. Мужики койкинские молчат смурные. Про себя думают. Мыслят. Засыпала теперь Настёха тревожно: половица в сенях скрипнет, вдруг да пора?
И вот сон явился Настёхе больной. И будто бы снился ей едино волосатый нос. А под конец того сна приходила к Настёхе мамка в платке. Нестарая, из детства. «Мамка», – только хотела позвать Настёха, да вдруг очнулась: в избу красно солнышко светит, день зажигает. Разлепила Настёха глаза: андель-андель! За окошком-то снег, ярко, избы по крышу в сугробах.
А посереди стола чашка с чаем. С не допитым Фаддейкой чаем. «Зацем цяй?» – поверх ума успела смекнуть Настёха. И вдруг будто бы сами слова чужие, заговорные с губ полезли:
– Сниму я колецько, пушу катиться. Катись, мой колецько, на север да на юг, нарисуй охранный круг. Жив будет родный брат, а мой смертный враг угодит во мрак да в овраг.
Хотелось Настёхе бежать. Да куда бежать-то?
До полудня промаялась-прослонялась Настёха по пустой избе из угла в угол, от окна к печке. То косу спешно заплела, оделась, к двери подскочила… Сивушка у ворот стоит. Один из лесу воротился. Разворочено в санях за Сивушкой сено, по клочкам разодрано. Храпит коняга, гривой ледяной трясет.
Принялась тогда Настёха бежать – вдоль по улочке, платком обернута. Бежит, в валенках запинается, а вокруг-то пусто! Никогошеньки на белом свете!
– Лю-уди! – зовет Настёха. – Лю-уди!
Что не выйдет никто на крылечко, занавески не дрогнут?
Стоит Настёха посереди белого мира. Кричит.
– Цё кричишь-то? – Глядь, а за спиной Настёхиной Васенья стоит. Толстая, в платке по самые брови. – Цё кричишь-то? Попрятались все. Сама к мамке иду.
– Сивушка из лесу воротился один, – Настёха плачет.
– Пушку вёз Фаддейка. Нашим мужикам. Не довез. Выдали Фаддейку, – говорит Васенья отрывисто, что топором слова рубит. – Сгинули мужики. Все в яму провалилися. Котору сами себе вырыли.
Глядит Настёхе в лицо равнодушно, тупо:
– А хромой меня уважал и велицял Вассой.
– Про яму отколь ты знашь-то? – опять Настёха в крик.
– Генералы ихни в избе сидят. Наш да аглицький. Ступай к им-то, выспроси. Может, жив Фаддейка.
Земля под снегом ровно дышала, спокойно. Земля по небу ход привычный вершила, пошла Настёха навстречу Земле. Вязко идёт Настёха – Земля мешает. Пока до избы на самой околице добралась, по колено в Земле увязла, не идут ноженьки. Правый валенок дернула – не идет, левый – не идет. Земля держит. Рассердилась Настёха на валенки, на коленки плюх – и ползком через сугробы к крыльцу. Ползет, рукавами снег загребает: отпусти, Земля-мамка, брата полнородна из плена выручать иду. Послушалась Настёху Земля, отпустила. Вскочила Настёха с колен, снег отряхнула, смело на крыльцо – да в избу!
С силой земной совладала, а уж супротив людской-то власти храбрости не занимать. С порога огляделась Настёха: так и есть, сидит у окна озябшего генерал – в усах, в погонах. И не старый ещё, поганец, и человек приятственный вроде. А рядом с ним басурман треклятый, офицер аглицкий – ногу на ногу позакинул, уже пьянёхонек. Балалайку теребит, играть пытается. А харя у аглицкого белая, девичья, ноздри вывернуты – аки у кобылы какой. Храпит ноздрищами-то. Тьфу, нехристь, смотреть тоскливо!
Потопала Настёха валенками, платок скинула, офицеров синим взглядом своим полоснула. Генерал усмехнулся:
– Ишь ты, – то ли про Настёху, то ли про себя, к разговору бывшему. – Целая волчица. Как величать-то тебя?
– Настёха.
– А меня Николай Николаевич. Чем служить горазд?
– А… дай, Николаиць, сковороды да сковородницька, муки да подмазоцьки, вода в пеци, хоцю блины пеци.
– Ну? Благодарствуй, коли не врешь.
– Вру, батенька. Как на духу, истинно реку: вру!
– Так что правды не скажешь?
– Правду горьку про запас пряцют. А где блины да оладьи, там и сладко, и ладно. С голодным-то мужиком толковать цё пусты жернова толоць – треск один.
– С каким мужиком? – не понял генерал.
– Да с тобой, Николаиць, с тобой. Неужто аглицьку образину за мужика поцитать?
Аглицкий-то как оторвался от балалайки, весь аж задрожал, от лавки отклеился. А в глотке у аглицкого как заклокочет – картофелину, что ли, горячую хватанул, во рту перекатывает, не проглотит. А то вдруг как зашипит! Господи Иисусе!
Генерал Настёхе с хохотком, с ухмылкой:
– Поразила ты заморского гостя красотой своей в самое сердце.
– Эх, Николаиць, сама знаю, цё уродилась неладна. Всё-те праздны реци вести, а мое дело не терпит.
Принялась Настёха за блины. Сковороду накалила. Огромна сковорода, кругла, вроде мира под луной, под солнцем, где всем покуда места хватало. Ну, держи, генерал! Первый блин в роток, второй за вороток, третий сороке на хвосток. Фр-р, полетела…
– Зачем пришла-то, красавица?
– Изыди, не мешай, тута блины подгорят.
Генералу один блин с бахромой, с погонами, аглицкому – худой да бледный, на просвет звезды видать. Генералу поджаристый да румяный, аглицкому – с дыркой. Пасть-то распахнул, аки змей какой. Вона тело твое сейчас замешу да портрет с тебя вылеплю, так и судьбишка твоя во власти моей будет. На, змеюка, жри!
Проглотил аглицкий десятый блин и враз растекся.
– Кароший баба, – говорит довольный.
Генерал как чаю глотнул, так в блюдце и прыснул:
– Ой, Настёха, он же по-русски говорить стеснялся, выучила.
– Да цё ты мне эту заразу, холеру нездешнюю пихашь? Налетело нецисти во цюжу землю.
– Нечисть и в своей земле родится.
– А сам-то ты, Николаиць! Не стыдно? Змею поганому на водке продался. За морем, небось, набасурманился, свое и нелюбо.
Крутанул генерал ус щегольской, острый:
– Мне-то все на войну списано будет, ни стыда, ни любви не помню. Но тебе какой интерес?
– А такой, – посуровела Настёха, глаза синие потемнели, – цё оставь-ка блины до другого дни. Бабам тесто месить, мужикам ломтить. Всего-то двое нас было из мамкина теста слеплено: я да братец Фаддейка…
– Ах, вон ты! – перебил генерал.
– Война войной, да брат не блин, другого не испецёшь. Отдай Фаддейку-то, Николаиць. Перед Богом праведников нет, все грешны.
– Да с чего ты взяла, что я его прячу? – удивился генерал. – Не надобно мне Фаддейки.
– Нет, знаю. В плену у тебя Фаддейка. Пушку супротив змея вез, с пушкой в лесу и взяли.
– Пушку? – приподнял генерал мохнатую бровь. – Сестра, выходит?
– Сестра. Отдай Фаддейку-то, Николаиць. Вместе цяй пили, не цюжие теперь вроде.
– Што она гоурит? – встрепенулся аглицкий. – Што она гоурит?
Зарекотал генерал аглицкому в ответ. Рекочет да ус крутит. Поглядывает на Настёху искоса, недобро.
– Не томи ты, скажи по-нашему.
– По-нашему не скоро выходит. – И опять реготать, рукой воздух рубанул…
Стоит Настёха ни жива ни мертва, чует только, как пошла напирать изнутри нее сила неведомая, жуткая. Давит в груди, растет, вот-вот хребет лопнет.
– Не отдашь Фаддейки, – хриплым голосом проговорила Настёха, – в клоцьки растерзаю да кровь твою погану вылакаю, а змеюку аглицьку…
Вдруг стены избяные вкривь да вкось поехали, пол под ногами заплясал, вздулся. Пальцы Настёхины когтями волчьими изогнулись, спина сгорбатилась, из-за ворота шерсть густая полезла, шея вперед вытянулась – и пошла серая, крутолобая, на генерала усатого. Рычит, пасть оскалила, хвостом в ярости бока свои волчьи хлещет.
…С недосыпу, с перепою, от дыма печного, от дома чужого – то ли чудится? Зажмурился генерал, поморгал, распахнул глаза:
– Стой, морока, песий род! Будет зверю голодуха. С голодухи – пуста брюха брата волка сам сожрёт.
Убрала волчица клыки. Заглянула генералу в лицо влажными глазами.
– Так и быть, волчица, слушай, где братец твой нынче. По сорокской дороге сосна обгорелая на развилке стоит… Съезжали мы на рассвете волчий след, стали у развилки неводом, круг урезали, на поляну волка загнали. Поняла? Там он и остался. Набежит сородичей к ночи на падаль, будет им угощение.
Ветер холодный дохнул в избу, сыпанул снегу к порогу – только и мелькнул в дверях волчий хвост. Побрела волчица со двора вон – мягко, неслышно.
Дело наше вечное, человечье, волчью шкуру долой, руки из тела Настёхинова растут. Быстро, скоро шагает Настёха, легкие саночки по колее прыгают: только обоз прошёл на Сороку, по свежему следу. Успеть бы, пока светло, в темноте-то попробуй сыскать. Ловко шагает, пружинят крупные Настёхины ноги, но не попирают землю, будто чуть земли и касаясь. Всё бы мужикам ломтить-молотить, бабам рожать да хоронить, рожать да хоронить. Да что это за война, что за генерал, чтоб покойника, как ворону, в лесу кинуть? Фаддейка! Солнышко золотенькое! Есть ли ты где – под темными лесами, под ходячими облаками?
Уж и сумерки опустились, а дорога всё стелилась вперёд свежим следом. Вот уже проступил на небе мамкин звёздный платок. Выкатился погулять над лесом лунный колобок, осветил Настёхе дорогу. Колобок, колобок, на работу не ходок, часты звёзды хороводишь, за собой по небу водишь, сверху видишь целый лес, подсказал бы мне с небес. Молчит колобок. Шагает Настёха. Не одну версту отмахала, но вот наконец пронзила небо черным штыком обгорелая сосна.
Остановилась Настёха. Лес с обеих сторон – дремучий, высокоствольный, недобрый. Такой лес, что в небо дыра! Стоит Настёха – то ли ей на дерево влезть, может, увидит где поляну, то ли наобум идти в самую чащу.
Стоит Настёха. Руки-ноги коченеть стали. Вдруг слышит: «Апч-хи!» – вроде зашевелился кто под корнями. Вылезает из-под снегу мужичок. Какой-то весь шерстяной, встряхнулся вроде собачки, по бокам, по ушам похлопал себя: «Пожалел батька шапки: почетно, да уши мерзнут». И тут только Настёху приметил.
– Андель-андель, – удивился, – Настёха.
– Мужицёк! – охнула Настёха.
– Кто как называт. Цё ищешь-то, говори сразу.
– Ищу я, мужицёк, в лесу поляну…
– Ну, цей лес, того и пень. Цё те на той поляне?
– Брата моего, Фаддейку. Сказывали мне, там искать.
– Правильно сказывали, шёл-нашёл-потерял. Цё ж, Настёха, – говорит мужичок, – отвел бы я тебя к Фаддейке, да только ходить по лесу – видеть смерть на носу!
– Я не боюся, мужицёк. Одна шла – не боялася, а с тобой и то не страшно. Ты, видать, добрый.
– Это я-то? – усмехнулся мужичок. – Ну, пошли, ежели так.
И вперед попрыгал, трусит себе босой. Только шагов через десять всякий раз остановится – пока там Настёха поспеет, ножкой потрясет, снег скинет и дальше прыгать.
– Страшно небось, Настёха? – приговаривает.
– Лес как лес, цё бояться?
– Смотри, а то назад поворотим.
– Веди, мужицёк.
Ближе друг к другу жмутся сосны, сквозь кроны колобок не видать. Такой темнотой обступает лес, что лучше не знать, что за такой темнотой и кроется. Ухнула вдруг, сорвалась ночная птица, тяжело взлетела по веткам.
– Испугалася, Настёха? – хохотнул из темноты мужичок.
– Птицы лесной чего бояться? Веди, мужицёк.
Наконец засветило, забрызгало впереди белым, лунным – поляна.
Провалилось Настёхино сердце, а на том месте, где оно некогда росло, – дыра во всю грудь. Наползает белое спереди на глаза, в спину темнота гонит: греби, девка, по снегу живей, проглочу!
Фаддейка!
Нашлась по Фаддейке невестушка – девка костлява, в придано избенку дают, да больно тесна. Рассекла Фаддейкину головушку черной бороздой острая сабля. Что ж ты, смертушка, вечная молодуха, кудри жениху слепила, не приголубить? Ты его под венец, а он сосну обнял, не идет!
Потрепала Настёха варежки одна о другую, плечи расправила, как перед обычной женской работой. Выдернула сильными руками Фаддейку из снежной могилы, усадила в санки, руки-ноги по сторонам, веревкой прикрутила потуже: «Ну, поехали, цё ли, Фаддеюшка?»
И потянула Настёха по снегу санки со своей поклажей. Только мужичка-то её провожатого и след простыл. Не видать, не слыхать, ни нюхом сыскать. Однако огонёчек зелёный во тьме мерцает и будто подмигивает Настёхе. Делать нечего, поверила огоньку. Долго ли блуждали навзрячь промеж сосен, а над лесом вой гнусавый, скучливый, да эка невидаль волки, небось не сожрут. Вывел огонёк Настёху на дорогу и поскакал впереди неё до самых Койкинцев, а там покружил вихорьком у калитки и в землю ушел, в снег.
Всякому герою смертушка рада, тут и сказке конец.
Перенесла Настёха Фаддейку в баню, посадила пока на лавку, сама воды натаскала, дров… А как баня топилась, приготовила Фаддейке лучшую одёжу: рубаху, ещё мамкой шитую, сапоги хромовые, что Фаддейка из Архангельска привез, картуз нашла, в котором он на игрища бегал. Хотела гармошку с собой дать, да подумала, в гробу лежать тесно. За тем занятием и баня поспела. Принялась Настёха Фаддейку мыть-оттаивать. Тот прежде заледеневший сидел, как в лесу нашла. Потом вдруг рука упала, за ней другая. Будто ожил Фаддейка, распрямился, лёг.
А когда заполоскала за окном робкая зорька, снарядила Настёха Фаддейку в путь, картузом рану на голове закрыла. Сама рядом пристроилась:
– Да Фаддеюшка у меня красивый, да Фаддеюшка нарядный…
Облаков натянуло, отзвездило, за ночь снегу нового намело. Наконец скрипнула дверь, появилась Настёха из бани, два шага ступила и на месте стоит.
– Я его мою, а костоцьки у него в голове тоненьки…
Глянула Настёха сухими глазами по-вокруг: деревенька спит белая, чистая, вся порошей укутана. Зорька крыши домов цветит. Будто и нет на свете Божьем никакой беды, ни войны. Побрела, тяжело ступая, к одинокой своей избе.
Ложился на чистый покров за Настёхой рыхлый широкий след.
1986–1992
Дмитрий Косяков Поэтический номер
Лето подходило к концу, в любой день можно было ожидать сюрпризов погоды, так что чиновники торопились с проведением уличных мероприятий. Концерт под названием «Любимому N-ску» был организован на театральной площади, где по воскресным дням любили прогуливаться горожане.
Гранин посмотрел на циферблат городских часов. Он явился на площадь заблаговременно, чтобы успеть оценить обстановку и подготовиться к своему выступлению. У крыльца театра была оборудована небольшая сцена, на которой уже громоздилась звуковая аппаратура. Рядом стояла синяя палаточка звукооператора, и около нее топтались участники. Гранин попросил своего спутника Кольку немного подождать и подошел к сцене. Отыскать того, кто его пригласил, было легко: гитарист Тимофей отличался высоким ростом. Буквально вчера он, увешанный цепями, скакал по сцене местного рок-кафе под песню собственного сочинения «Я вольный волк», а сегодня в белом костюме и бабочке готовился выйти к публике с эстрадными хитами. Вид у Тимофея был прилизанный, даже пришибленный, хотя он и напускал на себя важность.
Они пожали друг другу руки.
– А не боишься допускать меня на сцену? – шутливо спросил Гранин.
– Ну, я надеюсь, ты не собираешься материться в микрофон, – в ответ пошутил Тимофей, но загадочный вид поэта насторожил его: в самом деле, он ведь, в общем, не знает, что за стихи пишет этот Гранин. Они часто пересекались на разных рок-фестивалях. Поэт выступал на них с мелодекламациями. Но участники обычно не слушают друг друга… А вдруг сматерится? Хотя столько времени прошло, теперь им уже по тридцать, пора бы и поумнеть. Сам Тимофей, например, возмужал и понимает, что можно, а что нельзя. Тем более… тем более…
– Смотри, сегодня мэр обещал быть, – добавил он для пущей убедительности.
– Может, будет мэр, а может, дождь – одно из двух… Будь спокоен, ругаться я не буду, – пообещал Гранин.
У гитариста несколько отлегло от сердца:
– Вообще тут полная свобода. Я, видишь, и сам не с классической, а с электрогитарой пришел и даже, – он понизил голос и заговорщически подмигнул, – собираюсь вставить в свой номер один пассаж из Клэптона.
– Да ты, я смотрю, диверсант, – улыбнулся Гранин. – Ладно, покажи мне звукорежиссера.
Тимофей подвел поэта к немолодому дядьке с испитым лицом. Гранин протянул ему флешку и указал нужные файлы с минусовками:
– Сначала это, а потом это. Я махну рукой, когда переключать.
К Гранину подскочила пожилая, но бойкая женщина из молодежного центра, которая участвовала в организации мероприятия. У нее в руке был длиннющий список.
– Вы у нас кто?
– Гранин. Меня Тимофей пригласил.
Она стала водить пальцем по списку, где под каждой цифрой значилась фамилия и название исполняемого произведения. И только напротив фамилии Гранина стояли три вопросительных знака.
– Что будете исполнять? – спросила она.
– Стихи.
Тетеньку это совершенно успокоило, и она пометила около фамилии Гранина: «Поэтический номер».
– Поймите, наш концерт – это праздничная феерия. Мы никого не представляем, все сами выходят друг за другом в режиме нон-стоп, то есть без каких-либо пауз и объявлений, чтобы был искрометный, непрекращающийся каскад номеров, понимаете?
Она говорила так, будто сегодня должно было произойти нечто выдающееся, а не стандартное отчетное мероприятие, однако Гранина не заразил ее энтузиазм. Он заглянул в список:
– Короче, я двадцать первый, выступаю после тимофеевской «бесамемучи». Минимум час я могу гулять.
Он повернулся, чтобы уйти, и сразу натолкнулся на двух старушек. Одна из них была известная в литературной тусовке исполнительница авторской песни, а вторая, как выяснилось, начинающая поэтесса: на склоне лет она стала сочинять стихи о любви. Бардесса все еще молодилась – ярко красилась и надела для концерта красное обтягивающее платье. Она подхватила Гранина под руку и своим громовым голосом стала расспрашивать, куда он пропал из поэтических кружков, и рассказывать, какой номер она приготовила сегодня:
– Ну, мы дадим жару – исполним нашу студенческую «Эй, веселей!».
Дряхлая поэтесса скромно держалась в сторонке. Для нее весь этот мир был внове: музыканты, поэты, певцы и даже два обсыпанных блестками танцора… Все они обменивались редкими фразами, но, в сущности, были заняты мыслями о своем предстоящем выходе. Профессионалам хотелось не уронить своего достоинства и продемонстрировать, какая пропасть отделяет их от прочих; а любители витали в розовых мечтах и надеялись, что этот концерт станет ступенькой на их пути к славе.
Гранин рассеянно пару раз кивнул собеседнице и поспешил с ней расстаться. Воссоединившись с Колькой, он исчез в ближайшем дворе. Тимофей с сомнением посмотрел вслед парочке. Гранин не вздумал даже принарядиться для концерта – это дурной знак. А вдруг все-таки сматерится?
Когда через сорок минут поэт с приятелем снова появились на площади, на сцене как раз были танцоры. Пара искусно вертелась среди микрофонных стоек и проводов, ничего не роняя, и эффектно трясла ляжками под «латину». Около сцены уже собралась небольшая группа прохожих. Дождя не предвиделось, но и мэром, конечно, не пахло. Впрочем, последнее обстоятельство почти никого не расстроило. Гранин и Колька встали чуть поодаль от зрителей и от участников и шушукались о чем-то своем.
После танцоров вышел паренек с песней Элвиса Пресли. Гранин узнал его: он все скитался по разным молодежным группкам, был очень скучен и вечно одинок; его единственной страстью в жизни был Элвис, и, надо сказать, он приучился копировать его песни один в один. Проходили годы, в культурной жизни города ничего не менялось – парень пел Love me tender, танцор вертел танцовщицу, театральные певцы исполняли романсы… Вот на сцену вышла старушка-поэтесса. Прижав кулачки к иссохшей груди, она читала стихи о юном принце, который «лобызал ее в ночи». Публика все переносила стоически, а Гранин мучительно морщился:
– У меня такое чувство, будто я случайно зашел в женский туалет или присутствую при медицинском осмотре. Профессионалы – черт с ними, но эти… До чего же может исковеркаться человек! Просто хочется расстрелять кого-нибудь или повеситься.
Колька ничего не ответил.
Вот и долгожданная «бесамемуча». Тимофей под минусовку в стиле ресторанного караоке начал играть на гитаре, покачивая грифом и выпячивая губы, как будто от большого наслаждения. Гранин оставил свой рюкзак товарищу и зашел за сцену.
– Давайте, зажгите их, – дежурно подбодрила его организаторша.
– Попробую, – пожал плечами Гранин.
Не успели стихнуть жиденькие аплодисменты, как он был уже на сцене. Кинул взгляд на слушателей: обыкновенные люди в легкомысленной летней одежде. Несколько пожилых, какие-то девочки в стандартных модных нарядах, парни в чем-то спортивном или в джинсиках, подростки с электронными устройствами в руках – в общем, городская воскресная публика. Они, в свою очередь, оценивали представшего перед ними молодого мужчину скромного вида, казавшегося по сравнению с артистами в концертных костюмах почти неряхой. Но это предварительное знакомство длилось пару секунд.
– Я прочитаю вам свое стихотворение «От Февраля до Октября».
Зрители переступили с ноги на ногу и настроились на «сезонную лирику», пожилые дамы в задних рядах блаженно причмокнули. А Гранин кивнул звукооператору – минусовка стала отмерять ритм, в который поэт стал вплетать свой зычный, взволнованный голос:
Когда корона укатилась Из рук кровавого царя, Тогда эпоха устремилась Потоком в русло Октября. И не глядел никто обратно И милостей не ждал с небес, Кому они нужны, тираны, Хоть с конституцией, хоть без.Он видел, как у прохожих распахиваются глаза и застывают лица. Первой их реакцией было удивление: они столкнулись с чем-то непривычным, выделяющимся на фоне остальной благостной программы. Голос чтеца был не ласковым, но резким, требовательным, почти угрожающим… Но вот о чем он говорит?
От Февраля до Октября Россия двигалась, горя, Октябрь окна отворил, О, сколько воздуха для крыл!Да ведь это же история… или политика. Неужели этот парень говорит о политике? Вот те раз… забавно…
Гранин видел, как морщились некоторые лбы. Они пытались понять, что он хочет сказать им. Пара молодых кавказцев поднялась с лавочки и подошла поближе. Это уже хорошо… Но откуда им сегодня знать события 1917 года, каждый месяц которого вмещал больше, чем иные десятилетия и века истории России? Откуда им знать, а главное, как им объяснить, как передать ту суровую науку, которую мучительно, путем разочарований, надежд и болезненных ошибок, постигали народы умирающей империи?
И все, что грезилось в тумане, Надежды мира и земли, Бойцы, рабочие, крестьяне Республикою нарекли. Сперва еще не различали Большевиков, меньшевиков, Но все уверенней качали Тяжелый маятник веков. От Февраля до Октября Две революции подряд. Октябрь тесто замесил, А дальше – сколько хватит сил.Он старался выделять отдельные пассажи, говорить максимально разборчиво и отчетливо, чтобы донести, перелить в эти открытые глаза свои мысли, свою боль, свою ненависть к скотскому обывательскому существованию и тоску по настоящей жизни, жизни для людей и вместе с ними.
И сам великорусский пахарь, Опора церкви и царя, Сказал: «Романовых на плаху, В расход их, проще говоря». И навевала всем свобода Демократические сны, Но что такое власть народа, Нам лишь Октябрь объяснил.Он читал и чувствовал, что стихотворение не совсем удачно, что слова его непонятны, что половина того, о чем ему хотелось сказать, остается по ту сторону слов. Но вместе с тем он чувствовал, что некоторые как будто откликаются на его эмоциональный призыв, на тембр, на ритм его голоса, на нетерпеливый взмах руки. Как будто в них или в некоторых из них есть нечто родное и близкое его волнениям, но между ними стоят слова, термины, определения…
Неужели они не поймут? Вот не далее как на прошлых выходных он гостил у своего отца, который после сытного ужина принялся рассуждать на свою любимую тему – что все люди, в сущности, звери и живут вовсе не разумом, а инстинктами. «И это правильно, – поспешил отец повысить голос, увидев, что сын надумал возражать. – Борьба обеспечивает выживание и размножение наиболее сильных особей. То же и с государствами».
Остальные снисходительно улыбались: «Ох уж эти мужчины – вечно они о политике». Но, в конце концов, им было все равно. Гранин же не мог молчать, поскольку, как известно, молчание – знак согласия.
– Но ведь война – это величайшее несчастье. Зачем же всем людям непрерывно воевать между собой? Наоборот, надо сделать так, чтобы все люди помогали друг другу.
– Понимаю, – перебил папа. Он был толще, и голос у него был громче. – Ты опять хочешь намекнуть на своих большевиков. А знаешь ли ты, что они были евреями и что они специально были подосланы немцами? Не знаешь, так слушай. Недосмотрели там в Союзе русского народа, надо было с жидами построже поступать. Да и Адик многое в жизни не успел доделать.
Адиком папа ласково называл Гитлера. Гранин оторопел: и так говорит человек, чьи оба деда воевали на Великой Отечественной с фашистами – один был убит, другой тяжело ранен; это говорит человек, выросший и получивший высшее образование в стране, родившейся из Октября, и, надо сказать, только поэтому он, сын, внук и правнук крестьянина, сделался городским жителем и получил свое высшее образование, благодаря которому по сей день не бедствует. И вдруг – «жиды» и «Адик». Откуда все это?
– Как тебе не стыдно, папа? – вот все, что он нашелся ответить ему тогда.
Вернувшись домой, он было сел читать, но, не выдержав, взялся сочинять стихи. По мере работы чувствовал, как не хватает знаний и насколько проще писать о несчастной любви.
И вот теперь Гранин обрушивал со сцены на слушателей ворох зарифмованных аргументов, фактов, терминов. А публика смотрела, разинув рот, и видела перед собой странного молодого человека, который метался по сцене и нес какую-то заумь. Конечно, надо отдать ему должное, говорит он складно, уверенно и, похоже, искренно. Так непривычно и пикантно было слышать все эти слова – конституция, демократия, власть народа – не в теленовостях и не по радио, а здесь, на площади, да еще в стихах…
До Октября от Февраля Эпоха целая легла, Октябрь – это колыбель Заветных чаяний людей.Гранин выпустил в толпу последнюю очередь лозунгов и поднятым кулаком попрощался со слушателями. Все неистово зааплодировали. Они и сами не понимали, чему хлопали, – наверное, тому, что этот человек отнесся к ним не как к детям, с которыми сюсюкают и которым читают сказки, а говорил с ними на равных. Вот только о чем это он говорил?
Пока они хлопали, на сцену снова выпорхнули танцоры, и получилось, что овация предназначается им. «Праздничная феерия» продолжалась. За сценой организаторша трясла Гранину руку:
– Просто замечательно! – тараторила она. – Такие рифмы у вас хорошие, и читаете выразительно – сразу чувствуется опыт! Обязательно позовем вас еще. У Тимофея есть ваш телефон?
Гранин слушал эти похвалы с растерянным и уязвленным видом. Он вышел из-за сцены; сердце его все еще бешено стучало в ритме прочитанным им стихов, но глаза людей, с которыми он только что говорил, уже следили за движениями танцоров.
– А ты ожидал чего-то другого? – спросил его Колька, когда они шли к остановке. – Думаешь, они в один миг должны были измениться?
– Да ничего я не думаю. Просто если кто-то пишет стихи, то кто-то ведь непременно должен их услышать.
Вослед им неслась очередная «латина».
Осень 2014 – осень 2016. Красноярск
Евгений Бабушкин Красные белые
Наши с Татой прадеды зарезали друг друга за холмом, за холмом, где кончается земля.
Татиного прадеда, наверно, закопали целиком, а моего не целиком, а кое-как.
Ее был за белых, мой за красных, патроны кончились, ну вот и все, примерно так, нож в ухо.
Воевали годы, без новостей, дул этот резаный ветер, шел этот резаный дождь и приносили мертвых иногда.
Тем летом у белых не ели людей: поспели ягоды. А у нас тогда голодали, и прадеда – в суп. Пришел комиссар, надавал подзатыльников:
– Картошку – пополам. Или будет вариться вечность.
Это дед мой видел сам. Видел, как варили похоронник. Я и сам его умею, с курицей, конечно. В хороший похоронник добавляют бузины. Хороший похоронник варят с песней про победу. Про нашу, конечно.
Наутро прадедов проводили. Когда в поединке нет победителей, мы миримся на день и хороним рядом.
Дед тогда впервые видел белых. Убив красного, белый вышивает листик на мундире. Генерал их был как роща. Убив белого, красный вышивает звездочку. Комиссар наш был как небо.
На могиле прадеда поставили рожок, чтоб ветер дул. На могиле его врага бросили барабан, чтоб дождь бил.
Мы с Татой так и встретились, на соседних могилах. Я к своему пришел, она к своему, послушать музыку. Но барабан истлел, рожок украли, цветмет же.
Стояли незнакомые. Не знаю, как она, а я все думал, зачем воевали. Дед говорил так: белые были, чтоб было как было. Красные были, чтоб было как не было. Я за красных, конечно.
Звать ее, сказала, Татой, как пулю из пулемета. «Тата, нет ли выпить?» – спросил я, а Тата спросила, чего бы я хотел на своей могиле.
– Пусть посадят рябину и положат камень. А на камне высекут «Эти ягоды можно рвать».
– Рябину.
– Горькая.
– Облепиху.
– Колючая.
– Кизил.
– Капризный.
– Вишню.
– Черешню.
– Вишню.
– Иргу.
– Я люблю вишню.
– Но ты будешь мертв. Извини, конечно.
Вот раньше была работа: выковыривать мох из букв, драть лишайник с крестов, стричь кусты на холмиках. Теперь все заросло совсем. Кладбища становятся лесами, если их не подкармливать.
– Хорошо, что война кончилась.
Или что-то вроде этого кто-то из нас сказал.
Дед мой жив и все знает, но ничего не видит: белые сожгли его глаза. Показал ему Тату, ноздри у него вздулись и остались так. Тата почуяла и вздрогнула.
– Нет, – сказал дед, – женщин мы не убиваем. Или некому будет смеяться на наших похоронах. Дай сюда лицо. Никогда не трогал белой.
Наши с Татой правнуки тоже друг друга зарежут. Это правильно. Войну так просто не того. Не кончить.
Но вот что я сделаю прямо сейчас: брошу печатать, возьму ее за руку, пойдем сквозь чертов этот лес, без ножа, как нормальные, ну вот и все, примерно так, никому не предки, не потомки, никакого ветра и дождя, ничего такого, и будто вовсе все иначе, чем было и не было.
И, кстати, все-таки рябину.
Эдуард Русаков Октябрь, медовый месяц
«А прошлое кажется сном…»
Мой дедушка Василий Осипович не дожил до Великой Октябрьской социалистической революции совсем немного – он умер от чахотки (пардон, от туберкулеза) летом семнадцатого года, на Западном фронте, где служил ветеринарным фельдшером в кавалерийских войсках. А с бабушкой они познакомились в октябре девятьсот пятого года. Дедушку я, разумеется, не мог знать, а вот бабушку очень даже хорошо помню. Поэтому мой рассказ будет не о революции, а о любви.
Давно хотелось рассказать про юность моей бабушки. Хоть немного, хоть чуть-чуть, – кусочки, осколки, рассыпавшаяся мозаика чужого прошлого… Нет, не чужая, не чья-то, не ваша – моя любимая старая бабушка. Преклоняю колени, собираю осколки бережными руками, осторожно сдуваю пыль с пожелтевшего снимка, где гордый молодой усатый дедушка и бабушка рядом – юная, светловолосая, круглолицая, и глухой ворот белой блузки, и круглые часики на груди, на почти не видной серебряной цепочке…
«…За последние несколько лет, после завершения строительства Сибирской магистрали, наш город неузнаваемо преобразился в лучшую сторону. Население Кырска увеличилось до 50 тысяч, повсеместно возникли новые фабрики, магазины, в центре города воздвигнут прекраснейший собор и начинается строительство современнейшего мукомольного завода. Неумолимая цивилизация в силу железных фатальных законов…»
(Из статьи В. Немкова «Кырск и неумолимая цивилизация», «Сибирский альманах», 1904, стр. 57.)
– Оглохли вы все, что ли?! – страдальчески прохрипел Трофим Загадов, а потом вскрикнул, побледнел – и медленно осел на кафельный пол, прижимаясь к зеркальной стене. Из-под распахнутого атласного халата (райские птицы на пальмовых ветках) – голое дряблое тело, заросшее седыми волосами. Дверь в уборную оставалась приоткрытой.
– Доктора… скорее зовите доктора!..
– Что случилось, мой дорогой? – закричала, вбегая в ванную комнату, мадам Загадова (капот из лилового кашемира, папильотки, вытаращенные глаза молодящейся истерички). – Ах, бедняжка, ты такой бледный…
– Где Ольга? – тихо спросил страдающий Загадов, с отвращением глядя на жену. – Разбуди ее… пусть бежит за своим докторишкой…
– Что с тобой, милый?
– Дура!.. Геморрой… будто не знаешь…
«…а вчера завершилось возведение изысканной железной ограды вокруг шикарного особняка одного из богатейших кырских магнатов – купца Загадова. Как известно, особняк Загадова был построен в 1903 году модным московским архитектором А. Шюхтелем. Это тот самый Шюхтель, который проектировал в Москве особняк архимиллионера Прушинского. Архитектура оригинальнейшего кырского сооружения выдержана в новейшем стиле модерн. Запоминаются изысканные линии растительного орнамента. Кривизна железных решеток ограды и изгибы оконных переплетов соединяются в прихотливый болезненный узор. Неумолимая цивилизация в силу железных фатальных законов…» (Из репортажа Б. Боера, газета «Кырские ведомости», 1905, № 27.)
Моя юная бабушка сладко спала, по-детски обняв подушку руками, а часики тикали рядом, на комоде. Бабушке снилось то, о чем наяву мечталось: порывистый ее жених, молодой и усатый, капризно и требовательно вздергивающий плечом. А потом снился отец – неразборчивое детское видение: на берегу Енисея, рядом, вдвоем, рука в руке (маленькая – в большой), и поющий отец, и она слушает, замерев от восторга, и прекрасная песня переполняет детскую душу (а слова невозможно вспомнить даже во сне), и темная река с далеким синим берегом, и горы, и сосны, и лазурное небо…
«Мой отец был священник. Он умер, когда мне было восемь лет. Меня взял на воспитание купец Загадов. Я закончила епархиальное училище, жила у Загадова, обучала его сына арифметике и грамматике, а потом…» (Из автобиографии, которую моя бабушка писала в 1936 году, когда ее хотели уволить из школы, где она работала учительницей начальных классов. И уволили.)
– Тише… пожалуйста, тише. Васичка, не шуми. Разбудишь свою матушку.
– Матушка – это у попа супруга, – дрожащим от радости голосом пошутил мой дедушка. – А мать мою пушкой не разбудишь. Садись, Оля, садись… Лампу зажечь?
– Не надо, Вася. Я на минутку.
– А я уж думал, совсем сбежала от своего Змея Горыныча. Думал, навсегда пришла.
– Да нет, Вася, я по делу. Трофим Петрович просил, чтоб срочно пришел… у него опять… – смутилась, – ну, геморрой, что ли…
– И ты из-за этого так бежала? Вон, запыхалась вся…
– С ним ведь правда плохо. Весь белый… лежит, еле дышит.
– Я, вообще-то, ветеринар – коров лечу и лошадей.
– Ох, Вася!..
– Авось не помрет. А помрет, нам же лучше – скорей поженимся.
– Что ты, Вася, что ты?! Разве так можно? А если и впрямь?.. Ведь грех так говорить.
– Да шучу я, шучу. Беда мне с тобой, Оля. Ну, когда же мы будем вместе? Без попа никак не можешь? Непременно желаешь венчаться?
– Непременно. Ты уж меня прости, Вася… но иначе я не могу.
– Хорошо, моя милая. Пусть будет по-твоему. Ну, чего же ты плачешь? Все будет хорошо, девочка моя сладкая, умница моя, родная моя… все будет, как ты захочешь… как прикажешь…
И горячие пальцы сплетались во мраке, и трепетали мягкие девичьи губы, и кололи нежную шею жесткие усы… и звенел в ушах золотой венчальный звон…
«13 октября 1905 года рабочие кырских железнодорожных мастерских объявили о своем присоединении к Всероссийской политической стачке, не выдвигая при этом собственных требований…» («Хроника революционных событий 1905 года в Кырске».)
– Раба божия Ольга, согласна ли ты стать женой раба божия Василия?
– Да. Согласна.
– Раб божий Василий, а ты согласен ли взять в жены рабу Ольгу?
– Почему рабу? Почему?
– Отвечай: согласен?
– Да! Да! Да!
…Счастливые, молодые, нетерпеливые, рабы божии, влюбленные рабы… это ж надо – вопреки всем запретам!.. а где ваш приют, где ваше райское рабское гнездышко, подумали вы об этом?.. И огромная Соборная площадь, и яркое солнце, и снег, снег, первый, быстротающий снег, октябрь, медовый месяц, и звон, счастливый звон в ушах, золотой венчальный звон, звон, звон…
«Как стало известно из достовернейших источников, воспитанница купца Загадова некто Ольга М. вчера тайно обвенчалась с бедный ветеринаром неким Василием П. Это скандальное происшествие вызвало жестокий гнев «благородного» опекуна, который запер дерзкую ослушницу и держит ее под замком. Таковы их «нравы»! Однако мы надеемся, что несчастные влюбленные сломают все замки и порвут все цепи. Ибо не те времена! Крепостная эпоха давно миновала, и если «загадовы» до сих пор этого не осознали – тем хуже для них! Мы бесстрашно выставим на суд гласности все их купеческие замашки! Неумолимая цивилизация в силу железных фатальных законов…» (Из заметки Ю. Евграфова в газете «Утренняя кырская заря», 1905, № 31.)
От купца Загадова всегда вкусно пахло, даже если он был с похмелья. Этаким душистым перегаром. Да еще ликерчиком, лимончиком, кофейком. Ароматными сигарами. Парижским одеколоном.
Он стоял на пороге своего особняка, гостеприимно раскинув руки. А по мраморным ступенькам поднимался заморский гость.
– Добро пожаловать в мою хижину! – басил Загадов, уступая гостю дорогу и приглаживая скользкие морщинки на шелковом белом жилете. – Очень рад и сочту за честь. Об этом я мог лишь мечтать: великий путешественник – и в моем скромном жилище! Прошу, прошу. Для вас уже приготовлены три смежные комнаты. Располагайтесь, милостивый государь, как дома.
– Большое спасибо, – произнес господин Д. почти без акцента. – Я весьма рад, что мне представилась такая возможность.
Англичанин, высокий блондин, сорок пять лет, худощав, строг, высокомерен.
– У нас тут, конечно, не Лондон, не тот комфорт, – продолжал ерничать Загадов. – Но уж постараемся угодить дорогому гостю… А вот, позвольте представить – моя супруга.
– О, миссис Загадова. Очень рад.
– Мерси. И я очень рада. Очень-очень.
«Как говорится, не было бы счастья, да несчастье помогло! Знаменитый английский путешественник, покоритель Сахары и Арктики, неутомимый господин Д. направлялся по Сибирской железной дороге на Дальний Восток, где был намерен обследовать тамошнюю флору и фауну. Однако вследствие стечения роковых политических обстоятельств, а именно по причине забастовки рабочих железнодорожных мастерских, которые узурпировали власть на железной дороге и потребовали прекращения всего пассажирского движения, – так вот, именно в результате всех этих трагикомических обстоятельств мы получили возможность приветствовать дорогого гостя. В наши дни, когда Россия на волнах происходящих демократических преобразований готова войти в семью европейских цивилизованных государств равноправным членом, мы особенно рады визиту…» (Из репортажа А. Кузьмичева в газете «Кырские ведомости», 1905, № 30.)
Любовь второпях, объятия наспех, словно ворованное счастье, райская смесь: горечь и сладость, радость и боль.
Прерывистый шепот влюбленной сиротки:
– Васичка, страшно… мне нужно вернуться домой до утра…
– Оля, девочка, чего ты боишься? Этот купец совсем тебя запугал. Ведь я не бродяга, я врач, уважаемый в городе человек… и потом, наконец, я твой муж! Оставайся у нас насовсем. Мама про нас все знает. Оставайся.
– Нет-нет, я пойду. Я боюсь. За тебя боюсь. Уже поздно…
Кругленькие часики на серебряной цепочке – на стуле, на сброшенном платье, рядом с дедушкиным разорванным крахмальным воротничком… тикают еле слышно.
– Васичка, милый… пусти! Я должна идти…
Часики тикают, тикают.
– Господи, Вася!.. Уже четыре часа утра!
«…даровать населению незыблемые основы гражданской свободы на началах действительной неприкосновенности личности, свободы совести, слова, собраний и союзов…» (Из манифеста «Об усовершенствовании государственного порядка», 17 октября 1905 г.)
Сверкающий октябрьский полдень. Солнце, свежий воздух, снег, скрипящий под сапогами.
Трофим Загадов и британский гость совершали предобеденную прогулку по кырской набережной.
– Прекрасная река, могучая, – произнес, вздыхая, знаменитый путешественник. – А какие величественные горы! Должен признаться, Саяны давно меня интересовали…
– И меня, – кивнул Загадов. – Думаю, не заняться ли горнодобывающим промыслом? Да… Во-он, гляньте, у дебаркадера – моя баржа стоит…
Мимо них прошла шумная ватага рабочих с красными нарукавными повязками. Они возбужденно о чем-то спорили. Один из них слегка задел господина Д. плечом.
– Извините, – привычно обронил путешественник-джентльмен.
– Вот еще! – удивился Загадов. – Что это вы перед ним извиняетесь?
– А я извинился перед колесом истории, – шутливо сказал господин Д. и быстро подумал: «Не забыть записать потом эту фразу».
– Какая там история! – огрызнулся купец. – Временный бунт. Их скоро раздавят, как тараканов.
– Сомневаюсь… Русская революция уже началась. Поверьте мне. Со стороны заметнее. Вы видите в этих людях хамов и разбойников, а я – практических осуществителей исторического прогресса. Конечно, в России все будет протекать по-особому. Русские – сложный народ…
– Чего уж там сложного, – фыркнул Загадов.
– О-о, со стороны, опять же, виднее… Русский человек – это айсберг, большая часть которого скрыта под водой.
– Однако я не против… это весьма интересно, – хмыкнул Загадов, будучи слегка польщен, ибо тоже был русским.
«Не забыть бы записать потом эту мысль насчет айсберга», – заботливо подумал господин Д.
Проходили мимо двухэтажного каменного дома, и Загадов, не останавливаясь, шепнул таинственно:
– Вот здесь, в этом доме… только, ради бога, не оглядывайтесь!.. в этом самом доме – их логово! Их паучье гнездо! Их бандитская малина!
– О ком вы? – не понял путешественник и все-таки оглянулся. – Какая малина? Где? Не вижу никакой малины… Дом как дом.
– Здесь заседают эти, социал-демократы. Главные заводилы. Я знаю! Я все про них знаю!.. Тс-с-с. Не оглядывайтесь.
– А что это за дом?
– Фельдшерско-акушерская школа. Для видимости, для конспирации. А на самом деле – все их главари здесь собираются. Называются – доктора!.. Все они такие… хир-рурги. И наш тоже хорош. Ветеринар! Коновал! Ольгу одурачил, опоил сонными порошками – и под венец! Будто я не знаю. Все знаю! Все! Я ее кормил, поил, одевал, в чистоте держал, а он, докторишка, цап – и под венец!
– О ком вы?
– Да так, об одном… – отмахнулся Загадов.
Подошли к особняку. Нажали кнопку электрического звонка. Вошли в прихожую.
– У вас прекрасная шуба, – заметил путешественник. – Так и сверкает.
– Пошли за мной, – сказал грубовато Загадов, распахивая, но не снимая шубу. – Пошли, пошли.
Зашли в комнату, вдоль стен которой стояли высокие шкафы. Загадов стал распахивать шкафы – один за другим.
Шубы, шубы, шубы. Меха, меха. Соболь, норка, куница, песец. Беличьи дамские шубки, медвежьи мужицкие шубы.
– О-о, какая прелесть, – прошептал господин Д.
Он гладил меха – и под пальцами вспыхивали звездочки искр.
– Это просто сокровищница, – бормотал путешественник. – Пещера Али-Бабы.
Загадов был счастлив. Приглаживая бороду, играл глазами, лоснился румяным лицом.
Господин Д. был бледен, светлые усы поникли, ладони взмокли.
Загадов стянул с левой руки перчатку, разорвал ее в клочья, разбросал куски кожи между шуб. Потом и со второй перчаткой – так же.
– Чтобы моль не сжирала, – объяснил он.
– Нет слов… нет слов… – бормотал господин Д.
Загадов вынул из шкафа роскошную соболью шубу и накинул на подломившиеся британские плечи.
– Носи, брат. Помни Загадова!
«Долг всякого интеллигентного человека – призывать к вооруженному восстанию. Товарищи! Не верьте лживым словам буржуазных либералов. Представители буржуазии хотели бы нашими рабочими руками достать из огня нужные им политические каштаны, а вовсе не…» (Из листовки кырского комитета РСДРП, 19 октября 1905 г.)
Гостиная сверкала электрическими огнями. Звенели хрусталь бокалов, серебро вилок и ножей. Собралась пестрая публика, но на первом, конечно, плане – Загадов, мадам Загадова, господин Д.
И светлая женщина, почти девочка (моя юная бабушка) – в платье из белого шелка либерти, покрытом вуалем линон – притаилась среди гостей. Сидела тихо, глаз не подымала.
– В конце концов, я не против революции, – продолжал рассуждать захмелевший Загадов, – если она, ваша революция, будет способствовать расцвету русской промышленности и торговли.
– А как же иначе! – воскликнул свободомыслящий журналист Ю. Евграфов. – Именно в этом и заключается смысл современных событий. Вы внимательно прочли «Манифест»? Там прямо сказано насчет русского парламента, а ведь это значит…
– О да, это по-европейски, – одобрительно кивнул путешественник.
– Это сулит возрождение России! – И Евграфов вскинул руку, даже манжет вылетел наружу. – Ренессанс! Наконец-то мы станем настоящими европейцами.
– А я вот боюсь – не масоны ли тут мутят воду? – И Загадов насупился. – Как бы нам в этаком деле не промахнуться… Не их ли это жидомасонские происки? Они ведь давно мечтают Россию прибрать к рукам!
– При чем тут масоны? – отмахнулся Евграфов. – Неумолимая цивилизация в силу железных фатальных законов…
– Ладно, уговорил. Нехай будет революция, – и Загадов поднял бокал. – Дорогой господин Д.! Предлагаю выпить за улучшение торговых отношений с вашей страной, владычицей морей!..
– С удовольствием, – поддержал тост путешественник и осторожно снял мизинцем икринку с усов. – Торговля, насколько мне известно, ведется и нынче… но это, конечно, не тот масштаб.
– Не тот размах, – кивнул Загадов.
– Господа, господа! Это скучно, в конце концов! – воскликнула хозяйка дома. – Предлагаю начать танцы. Оленька, душка, заведи граммофон!
Оля (моя бабушка) послушно встала и вышла в другую комнату. Принесла коробку с пластинками. Граммофон стоял в углу, на ломберном столике. Большой, с огромной трубой вишневого цвета. Бабушка завела граммофон блестящей ручкой, спросила:
– Какую пластинку?
– «На сопках Маньчжурии»! – предложил Евграфов.
– Ну нет, – возразил Загадов. – Только не эту. Сей вальс ранит мое русское сердце… я каждый раз вспоминаю гнусную японскую кампанию. Цусима, Порт-Артур… Стыдно.
– Ах, дружок, какой ты чувствительный!
Он обжег супругу ненавидящим взглядом.
– А что слышно о судьбе адмирала Рожественского? – спросил господин Д.
– Шут его знает…
– Я знаю! Его будут судить, – злорадно сказал Евграфов.
– Так какую поставить пластинку? – повторила бабушка.
– Давай «Белую акацию», – распорядился Загадов.
Закрутилась пластинка, запел сладкоголосый тенор. Великий путешественник пригласил на танец мадам Загадову, журналист Евграфов сунулся было к бабушке, но та отказалась, сославшись на недомогание.
Евграфов надулся, отошел в сторону.
Белой акации Гроздья душистые Вновь арома-атом полны-ы-ы!.. —заливался с пластинки певец.
Танцы получились вялые.
Пластинка кончилась. Мадам Загадова шаталась и таращила блестящие глаза. Какое счастье – она танцевала с великим Д.! Села. Грудь ея вздымалась. Роскошное платье из розового атласа с черной бархатной отделкой. Прическа с шиньоном, покрытым венецианской шапочкой из жемчужной сетки.
– Сибирь мне очень понравилась, – продолжал светскую болтовню путешественник, присаживаясь рядом. – Бескрайние степи, леса, горы… Сибирь – континент будущего!
Мадам Загадова хотела ответить, но от волнения внезапно зевнула – судорожно и сладко – и изо рта ее брызнула тонкая струйка слюны. Британец в ужасе замер при виде искаженного дамского лица.
– …а я усматриваю в ваших словах покушение на принцип гласности, – обиженно возражал Загадову журналист Евграфов. – Для чего же тогда высочайшим манифестом разрешены разные партии?
– Не должно быть никаких партий! – И Загадов схватил Евграфова за спадающий крахмальный манжет. – Дружно жить надо, одной семьей. Кто постарше, кто поумнее – тот и командовать должен. Вот я, например. Крепостным был когда-то, а сейчас – миллионщик!
– Миллионер, – поправил Евграфов.
– Миллионщик! Думаешь, легко было? Ох, нелегко. Начал с небольшого магазинчика, спекулировал мануфактурой… а уж особенно повезло, когда Сибирскую дорогу строили. И ведь сам, все сам! И так каждый может, как я, если башка варит. Партий никаких не должно быть! Слабый человек всегда в партию тянется, одному-то ему страшно. А сильный – любит сам по себе. Я – сам партия. Мое дело, мои магазины, моя фирма – вот моя партия. Ишь, детские забавы придумали. Поли-и-итика!.. Нет никакой политики – один обман.
– Позвольте, а как же цивилизация? – воскликнул Евграфов. – Вам не удастся отмахнуться от законов прогресса! Неумолимая цивилизация в силу железных фатальных законов…
– Барышня, вас доктор в прихожей спрашивает, – шепнула горничная, склонившись над бабушкой.
– Спасибо… – И бабушка (Оля!) выскользнула из-за стола.
Выпорхнула. И полетела к нему, к жениху, нет, к мужу, к желанному и любимому, пахнущему лекарствами и снегом, стоящему у дверей в распахнутом черном пальто.
– Мой родной! – заплакала бабушка, падая ему на грудь. – Мне так тяжело среди них. Мне так плохо без тебя. Мой любимый. Ничего не боюсь, не стыжусь… никого! Хочу быть с тобой. Ты мой доктор – спаси меня!
– Для этого я и пришел, – сказал дедушка, целуя ее в соленые глаза. – Не плачь, успокойся. Собирайся быстрее, чтоб никто не заметил – и ко мне! Извозчик ждет за углом.
– Ба! Кого я вижу! Молодой супруг! – закричал Загадов, появляясь в прихожей.
– Милостивый государь, не думаете ли вы, что моя жена – ваша собственность? – дрожащим голосом произнес дедушка и вздернул плечом.
– Жена? Она еще девочка!
– Мне восемнадцать… – пролепетала бабушка, боясь поднять глаза.
– А я вот пожалуюсь архиерею, – сказал Загадов. – Но ведь, однако, поздно жаловаться-то… а? – И он лукаво подмигнул.
– О чем вы? – покраснел дедушка.
– Ой, доктор. Знаешь, о чем. Скажи, ведь поздно?
– Милостивый государь!
– Фу ты, ну ты. Чем я тебя обидел?
– Я вам не мальчик! Что за амикошонство? Да я с вами драться буду! Я на дуэль!..
– Ну, ну, ну. Ради бога, извините, молодой человек. Вовсе не хотел вас обидеть, – притворно пугаясь, сказал Загадов и протянул руку к его плечу, но быстро отдернул. – Уй, какой горячий. Даже завидно… Эх, молодой человек. Не такой уж я страшный деспот. Просто мне обидно. Нехорошо как-то вышло – ни помолвки, ни свадьбы… Нехорошо.
– Перестаньте, я вас прошу. Оставьте Ольгу в покое. Она моя жена, это бесповоротно.
– Да разве я вам враг?! – воскликнул Загадов и посмотрел вокруг, но в прихожей никого не было. – Разве я враг Ольге? Я ее воспитал, помог ей учиться, я хотел ее за достойного человека выдать…
– Вы опять меня оскорбляете!
– Извините. Пардон. Поймите старика. Ольга мне – как дочь. Я ее отца хорошо помню. Бог ты мой, как он пел! – И Загадов даже прослезился. – Мой костер в тума-а-ане светит!.. Как мы с ним пели! А пили!.. Вы безжалостный человек, доктор. Жестокий вы ветеринар. Вы просто палач!..
– Пьяный бред, – брезгливо пробормотал дедушка и твердо добавил: – Ольга пойдет со мной.
– Конечно, пойдет. А как же! Но не сейчас же прямо, не сию же минуту? – Загадов раскинул хищные и щедрые руки. – Прошу дорогого гостя к столу! Заходите, молодой человек, я вас очень прошу.
– Зайди, Вася, не спорь, – шепнула бабушка. – Хоть на пять минут. А потом уйдем вместе…
Дедушка нахмурился. Потом скинул пальто и прошел в гостиную.
Все были пьяны. Даже у путешественника голубые глаза плыли в разные стороны. Оглушительно гремел граммофон, но никто не танцевал. Мадам Загадова пила на брудершафт с журналистом Евграфовым.
Бабушка и дедушка сели рядом. Молодожены.
– Доктор, а вы мне стали нравиться, – неуклюже пытался продолжить беседу Загадов. – Вы случаем не революционер?
– Я простой русский интеллигент, – отчеканил дедушка. – Политикой не занимаюсь.
– Это вам кажется, – вмешался Евграфов. – Вам только кажется, что вы не занимаетесь политикой. Вы же типичный либерал.
Дедушка пренебрежительно вздернул плечом.
Бабушка нашла под столом его руку, ласково сжала, погладила, и дедушка расслабился, улыбнулся, прерывисто вздохнул.
– Что с вами? Вам плохо? – спросил Евграфов, следя за его лицом.
– Нет, мне хорошо. – И дедушка нежно сжал тонкие пальчики своей ненаглядной.
– Я тебя очень люблю, – шепнула она. – Не огорчайся. Потерпи.
Дедушка даже прикрыл глаза.
– Возможно, я плохо разбираюсь в ваших русских делах, – продолжал произносить свой монолог господин Д. – Но минимальные свободы необходимы, без этого никак нельзя. Цивилизация и деспотизм – несовместимы. Когда в России будет создана демократическая республика, – вот тогда ваша страна пробудится от многовековой спячки, как… ну, как Илья Муромец! Расцветут наука и культура, промышленность и…
– И мореплавание, – насмешливо добавил дедушка.
– Да. И мореплавание.
– Доктор, скажите, пожалуйста, посоветуйте, – зашептал Евграфов на ухо дедушке, – какое есть лучшее средство от…
– Ну?
– Ах, догадайтесь сами, доктор… неловко произносить… бич двадцатого столетия, порывы грешного тела… посоветуйте, доктор!
– Гонорея, что ли?
– Тише, ради Христа! Подскажите радикальное средство, умоляю…
– Купите в аптеке кубеноль, – брезгливо морщась, сказал дедушка. – Купите коробку, в ней пятьдесят капсул. Два рубля с чем-то.
– Беда России заключается в том, что это – слишком огромная страна, – неторопливо говорил господин Д. – Слишком большая… Трудно создавать цивилизацию на демократических началах в такой большой стране.
– А Северо-Американские штаты? – возразил Загадов.
– Ваше замечание было бы верным, если бы Северо-Американские штаты создали аборигены, индейцы. Но вспомните, кто заселил и освоил Америку? Белые люди! Сильные личности. Авантюристы, дельцы, фантазеры. Лучшие представители человеческой породы! Потому что для создания нового государства, новой цивилизации лучших людей не сыскать. Переселенцы были идеальным материалом для этого эксперимента. И американский эксперимент, я считаю, удался. С небольшими дефектами, конечно… Но в основном – удача. А вот ваш, русский эксперимент, который вы только что начинаете осуществлять… тут есть много поводов для опасений…
– А вы за нас не бойтесь, – запальчиво сказал дедушка. – Россия обойдется без варягов.
– И в этом я не уверен… ведь раньше не обходились. Мне кажется, что вообще вся ваша огромная империя развалится, расползется, рассыплется, как только установится парламентский строй. Ведь империя и демократия – несовместимы. Такие провинции, как Польша, Финляндия, Украина, они сразу же поспешат оторваться от ненавистной России…
– Почему – ненавистной?!
– Потому что вас никто не любит, разве это секрет?.. – И знаменитый путешественник снисходительно улыбнулся.
– Да почему же?
– А за что вас любить? Запад вас презирает и боится – вы же азиаты! Ну, а колонии… порабощенные вами народы, естественно, вас ненавидят.
– Нельзя под одну гребенку стричь всех русских! – волнуясь, сказал дедушка. – Разве у иностранцев и у этих, ну, хотя бы поляков, разве у них к русским только ненависть? Должны же они понимать, что царь и крестьянин, фабрикант и рабочий, вельможа и простой врач – это разные люди!
– Вы, случайно, не социал-демократ?
– Нет. Я беспартийный. Я уже говорил.
– Странно… вот вы – врач, а совсем не учитываете человеческих эмоций, – улыбаясь, сказал господин Д. – Эмоции первичны. Ведь на войне сражаются и убивают друг друга не императоры и президенты, а простые мужики… что, разве не так? И если мужика убил мужик – почему же в предсмертный свой миг умирающий будет проклинать русского царя? Нет, он будет проклинать просто русского.
– Это софистика! – сорвался дедушка. – Вы не любите Россию, вот и все.
– Я же сказал: вас никто не любит.
– Постойте, господа, послушайте, я вот что надумал, – вмешался окончательно охмелевший Загадов. – Ваши слова, господин Д., насчет Северо-Американских штатов сильно меня задели. И я вот подумал: а не образовать ли нам свои, Сибирские штаты?! А? Чем черт не шутит? Ха-ха-ха!.. И столица – в Кырске! А?! Как вы на это смотрите, господа?
– Тише ты, дурачок, – прошептала мадам Загадова и больно ущипнула мужа. – Чего орешь? Ведь за такие слова – на каторгу!..
Знаменитый путешественник, покоритель Африки и Арктики, бесстрашный мореплаватель, был пьян. Лицо его покраснело, светлые усы потемнели и намокли от шампанского, глаза блестели. Дедушка смотрел на него с неприязнью.
– Ничего у вас не получится, – сказал господин Д. – И революция ваша не получится. И цивилизация ваша не получится… Из России вообще не выйдет проку. Придется когда-нибудь устанавливать над вами мировую опеку…
– Это почему же? – бледнея, спросил дедушка и даже приподнялся над столом.
– Да потому, что вы – страна рабов! – И путешественник засмеялся, утратив над собой контроль. – Все вы рабы, начиная от вашего царя и кончая последним нищим. Лентяи, болтуны, нытики. Склонность к рабству у вас в крови… еще со времен монгольского ига… Ничего никогда у вас не полу…
– Подлец! – крикнул дедушка. – Не смейте оскорблять русский народ!.. не позволю… вы… вы… на дуэль! Вызываю вас на дуэль!
Путешественник протрезвел.
– Доктор, доктор, опомнись! – испугался Загадов и схватил дедушку за рукав. – Не дури. Это же мой гость. Ну, чего ты разошелся?
– Молчать! – завопил дедушка, ударяя кулаком по столу. – Я не позволю глумиться над русским народом! Только кровью! Только кровью он смоет свое оскорбление! Варяг! Морской пират!
– Васичка, Вася… не надо… – шептала бабушка. – Зачем ты так? Он же просто пьян… это пьяная шутка… Ведь он – иностранец…
– Оставь меня, Ольга! Иностранец! Я никому не позволю! Тем более – иностранцу! На дуэль! Слышите, вы? Завтра же! Сейчас же!
Господин Д. внимательно выслушал дедушку, вздохнул.
– Возможно, я сказал что-то лишнее…
– Это все слова! Слова! А я требую сатисфакции!..
– Что ж, я согласен, – кивнул господин Д. – Мне все это совсем не нравится, тем более завтра я собирался ехать дальше… но я не из пугливых. Принимаю ваш вызов.
– Господа, господа! Это безумие! Чушь какая-то. Бред собачий! Какая еще дуэль? В Кырске никогда дуэлей-то не было… Это ты, докторишка, затеял? Скандалист! В тюрьму захотел?
– Попрошу быть осторожнее в выражениях, – грозно предупредил дедушка.
– Ох, господа. Как глупо… глупо-то как!.. Помиритесь, пожалуйста. Ну, доктор, ну, простите нашего гостя.
– Нет.
– Как, где и когда? – спросил господин Д.
– На пистолетах, завтра утром, на Караульной горе. Возле часовни.
– Какие еще пистолеты? – чуть не плача, воскликнул Загадов. – Подрались бы на кулачках… Господа, ну что вы, ей-богу. Или на саблях. У меня есть как раз две турецкие сабли. А пистолетов в Кырске ни у кого нет. Только у офицеров. Скажите, где я вам достану пистолеты?
– Пожалуйста, не беспокойтесь, – сказал господин Д. – У меня есть пистолеты. Они не дуэльные, но это даже вернее.
«…нет, нельзя успокаиваться на достигнутом. Товарищи, мы призываем всех к вооруженному восстанию! Ошибается тот, кто думает, что царь и буржуазия сами подарят нам свободу. Не верьте лживым обещаниям! Будьте бдительны! В городе бесчинствует банда черносотенцев во главе с Афанасием Сидоровым. Дадим отпор черной сотне!..» (Из листовки Кырского комитета РСДРП, 20 октября 1905 г.)
Под ногами дуэлянтов, там, внизу, распластался спящий город. Был виден Енисей, сквозь утренний туман громоздились синие предгорья Саян на правом берегу.
Противники встретились на Караульной горе, возле часовни. Секундант был один на двоих – Загадов. Больше никто не согласился, не смогли уговорить. Даже проныра Евграфов уклонился от участия в этом «варварстве».
Ольга (бабушка) осталась дома. Ей запретили идти.
– Башка трещит, спасу нет, – бормотал Загадов – бородатый, красноглазый, в медвежьей лохматой шубе.
– Где пистолеты? Давайте ближе к делу, – нетерпеливо произнес дедушка.
Ему было холодно на ветру, он поднял узкий бархатный воротник пальто.
– И что за дурная привычка – устраивать дуэль обязательно рано утром? – проворчал Загадов. – Надо было выспаться, позавтракать, а потом уж стреляться…
– Я могу опоздать на поезд, – строго сказал путешественник, со звоном захлопывая серебряную крышку карманных часов. – Господин Загадов, надо спешить.
– Сейчас, сейчас… я вам сейчас барьерчики намечу. По какой системе изволите стреляться?
– Мне безразлично, – сказал Д.
– Я вам объясню! – быстро сказал дедушка («Хочу как Лермонтов!..»). – Между барьерами должно быть пять метров, и чтобы до барьеров сходиться с пяти метров. А стрелять – когда кто захочет!.. после вашего счета, разумеется.
– Мне совершенно все равно, – повторил путешественник.
– Хорошо, понял, – кивнул Загадов и стал отмерять шагами расстояние. – Ох, доктор. Почему вы такой кровожадный? Ведь вы врач… где ваша гуманность?
– Пожалуйста, прекратите ерничать. Делайте дело.
– Хорошо-с. Доктор, а нет ли у вас с собой ничего от головной боли?
– Нет. Надо было утром опохмелиться. Не мне вас учить.
– Ой, ой, болит башка невыносимо.
– Глотните, – предложил господин Д., протягивая плоскую фляжку. – Здесь бренди.
– О, сенкью! – И купец жадно припал к фляжке. – Сенкью вери мач. Кстати, у вас голова не болит, мой дорогой гость?
– Нет, благодарю. Но у меня почему-то изжога.
– Очень странно, – огорчился Загадов. – С чего бы это могла быть у вас изжога? Кушали все первосортное – икру, рыбу, свежайшие соусы, помидорчики из личных моих парничков… Очень странно.
– А мясо было свежее? – вдруг спросил Д.
– Вы меня обижаете! – воскликнул Загадов. – Неужели я буду кормить заморского гостя тухлятиной?! Вы хоть знаете, что вы вчера кушали? Вы кушали специально для вас приготовленную телятину, тушенную на английский манер!
– Было очень вкусно, – холодно сказал Д.
– Еще бы! Еще бы не вкусно! Могу научить, слушайте внимательно. А еще лучше – запишите в книжечку.
– Я и так запомню.
– Не-ет, запишите. Дома научите свою супругу. Значит, так. Берете очищенную заднюю часть и кладете в горшок вместе с зернами английского и белого перца… да! и не забудьте несколько ломтиков лимона…
– Господа! – возмутился дедушка. – Мы будем стреляться или нет?
– Ах, доктор, не перебивайте. Так вот, все это надо залить белым вином с водой, взятым по равной части. По прошествии двух-трех дней вынимаете и процеживаете жидкость, а мясо – слушайте внимательно! – мясо надо тушить в масле и крепком бульоне, сваренном из мяса и дичи. А уж потом, когда жаркое будет готово, его надо облить соусом. И еще не забудьте…
– Да что же это такое?! – чуть не плача, крикнул дедушка. – Вы издеваетесь, что ли? Зачем морочите нам голову? Я замерз, у меня пальцы окоченели.
– Пардон, пардон.
– Надо начинать, – строго сказал путешественник. – Я могу из-за вас опоздать на поезд. Господин Загадов, вы есть очень плохой секундант.
– О нет, господа. Я есть очень хороший секундант. Вы еще в этом убедитесь. Ну, что же… вот все и готово. Вы встаньте вот здесь, у этой черты. А вы, доктор, здесь… ага, все верно. Берите пистолеты. Можете проверить. Слушайте внимательно! Когда я скажу «раз, два, три», вы начинаете сходиться, но не ближе, чем до барьера.
– А стрелять когда? – спросил господин Д.
– Когда вам будет угодно, хоть сразу после моего счета, но не раньше.
– Я понял.
– Давайте же скорее! – трясясь от холода, крикнул дедушка.
– На тот свет успеете, – и Загадов хохотнул.
Господин Д. сбросил шубу (недавний подарок Загадова), размял плечи, встал в позицию.
Дул сильный ветер. Целиться было трудно, слезились глаза. Пистолет был тяжелый. Дедушка поднял руку с пистолетом, рука тряслась.
– Внимание! – крикнул Загадов. – Приготовьтесь! Раз, два… три! Сходитесь!
Дедушка сделал первый шаг, второй, третий… Рука вдруг перестала дрожать, дедушка даже удивился. Он прицелился в лоб противника, потом решил, что промахнется, опустил ствол ниже, решил целиться в грудь. И вдруг испугался: «Ведь я же могу его убить! – и тут же сердито возразил сам себе: – Разумеется. А для чего ж ты затеял все это? Убить… но за что? За какие-то пьяные слова… Фу, чепуха. Стреляй же! Стреляй! Скорее… Нет, не хочу… Нет – выстрелю непременно!.. Стреляй!..»
В этот момент господин Д. выстрелил, дедушка выстрелил тоже. Оба промахнулись.
Господин Д. отбросил пистолет и выругался по-английски, а дедушка продолжал идти и продолжал бессмысленно нажимать на спусковой крючок.
– Ага! Ага! – зачем-то кричал дедушка.
– Эй, доктор! – окликнул его Загадов. – Куда это вы разбежались? Выстрел сделали, черту барьера прошли… да стойте же, черт!
Дедушка остановился. Встряхнул головой. Фу… стыд-то какой.
– Извините, – сказал он, избегая смотреть на противника.
– Что, увлекся? – засмеялся Загадов. – Я думаю, чего он все прет и прет?.. А он увлекся… драчун!
– Стойте, погодите! – закричала подбежавшая бабушка. – Прекратите, я вас умоляю! Вася, не надо!
Вцепилась в него, повисла на нем, прижалась к нему.
– Зачем ты пришла? – рассердился дедушка.
– Я боялась, я умирала от страха! – И бабушка расплакалась.
– Перестань… стыдно… да перестань же!
– Господа, пора ехать на вокзал, – вмешался господин Д. – Я иду в коляску.
Коляска стояла за часовней.
– Ольга, тебе было приказано оставаться дома, – сказал Загадов.
– Вы не можете приказывать моей жене! – вспыхнул дедушка.
– Эй, господа, подите-ка сюда! – позвал англичанин. – Взгляните, что там происходит?
– Где?
– Ну, там, внизу. На улицах вашего города. Вы только взгляните!
Дедушка, утешая бабушку, не отозвался. А Загадов подошел к путешественнику.
Был виден весь город. Сверкали купола собора и нескольких церквей. Слева дымила электростанция, справа дымили железнодорожные мастерские. Все станционные пути были забиты поездами. На Соборной площади невнятно гудела огромная толпа.
– Доктор, идите сюда! – позвал Загадов. – Хватит вам миловаться. В городе происходят исторические события, а вы думаете лишь о себе. Эгоист вы, доктор!
Дедушка с бабушкой подошли к обрыву.
– Демонстрация, что ли? – высказал дедушка предположение.
– Сейчас увидим.
Толпа двинулась по Славянской улице. Доносились густой гул, обрывки выкриков. Потом послышалась песня.
– Эге! Уж не революция ли начинается? – сказал Загадов.
– Продолжается, – уточнил господин Д.
– В нашем зачуханном Кырске – и революция?.. – скривился Загадов. – Значит, всерьез? Митингуют, кричат… скоро магазины мои начнут громить! Поглядите-ка, так и есть – идут к моей «Галантерее»!
Толпа прошла мимо загадовского магазина. Остановились возле Народного дома. Песня звучала громче. «Долго в цепях нас держали, долго нас голод томил!» – вот что пели демонстранты.
– Сейчас там будет митинг, – сказал дедушка.
– Где? В Народном доме?
– Конечно. Где же еще?
– Все это весьма интересно, – и господин Д. полез за часами. – Однако мне пора ехать… Когда уходит поезд?
– Через час, – сказал Загадов.
– Что ж мы тут стоим? Поехали, господа! Пошли в коляску.
– Васичка, я боюсь… – прошептала бабушка, прижимаясь к дедушке.
Он посмотрел на нее.
– Чего ты боишься, глупая?
– Сама не знаю…
Он улыбнулся. Ему вдруг стало очень хорошо и легко. У бабушки было светлое юное личико, в невысохших еще слезах. Он осторожно вытер пальцем эти слезы.
– Пойдем, Оля. Надо ехать.
– Смотри, смотри! Красные флаги! Ой, сколько флагов!
«…прыжок из царства необходимости в царство свободы…»
Ф. Энгельс– …а на прощанье я хотел бы помириться с вами, – осторожно произнес господин Д., звонко постукивая ногтем по коньячной рюмке.
Вчетвером сидели в зале вокзального ресторана.
– У меня нет к вам личной неприязни, – хмурясь и не поднимая глаз, сказал дедушка. – Я вас даже готов уважать… но зачем было оскорблять русский народ? И это теперь! В настоящий момент!
– Господа, господа! – поморщился Загадов. – Опять вы о том же?
– Дорогой доктор, приношу вам свои извинения, – чуть склоняя голову, сказал Д. – Мне приятен ваш патриотизм, ваша горячность, запальчивость… да и русский народ мне симпатичен, но… как бы это помягче?.. Я в нем сомневаюсь.
– Вот видите! – воскликнул дедушка.
– За что же вы сердитесь на меня? За мою искренность? Почему вы так нетерпимы? Впрочем, я понимаю. Молодость всегда нетерпима…
– При чем тут моя молодость!
– Вася, перестань, – взмолилась бабушка, боясь, как бы дело не дошло до новой дуэли.
– Оля, но ты же знаешь мои принципы!
– И чем вы намерены заняться на Дальнем Востоке, дорогой друг? – обратился к путешественнику Загадов.
– О, программа очень обширная. Флора, фауна… этнографические исследования. Меня все интересует. А группа уже давно поджидает в Хабаровске… В дальнейшем хочу направиться в Японию. Планов много, очень много.
– Ну, что же. За ваши успехи!
– Благодарю.
Звон изящных рюмок, оранжевый свет коньяка.
К столику, боязливо оглядываясь, подошел дежурный по станции. Склонился возле Загадова. Тот выслушал, молча кивнул. Дежурный отошел в сторону.
– Вам пора, – сказал Загадов англичанину. – Пойдете с дежурным, а мы останемся здесь. Мне с вами нельзя – все в Кырске знают мою рожу, а там, на перроне, толкутся патрули вооруженных рабочих… До Иркутска придется ехать в товарном, уж извините… Вот канальи! Они, вишь ты, запретили движение пассажирских поездов. Запретили, а? Как вам это нравится? И вот знаменитый путешественник вынужден ехать в товарном вагоне. А что поделаешь? Обязательно сообщите об этом безобразии в Лондон, господин Д., обязательно изобразите в сатирических красках сей постыдный инцидент и нас не жалейте…
– Хорошо, хорошо, – перебил путешественник, вставая. – Мне пора. До свидания, господа. Рад был с вами познакомиться. Я вам очень благодарен за гостеприимство.
Дежурный стоял, прижавшись к пыльной колонне. Серое лицо его корчилось от страха и тоски.
«Кто не верит в победу сознательных смелых рабочих, тот играет в бесчестно-двойную игру…»
К. Бальмонт, ноябрь, 1905 г.Коляска плавно катилась по Воскресенской, мимо закрытых магазинов и лавок. Тротуары забиты возбужденной толпой. Возле Народного дома – митинг, кто-то размахивает красным флагом.
– Ишь, разыгрались, – буркнул Загадов. – Сейчас бы на них казаков с нагайками.
– Как вы можете? – возмутился дедушка.
– А вы думали, я радоваться буду? Эти горлопаны на частную собственность посягают… воры!
– Это же революция!
– Бросьте, какая еще революция? Есть русское слово «бунт». Смута. Смутное время. А вам, доктор, я бы вообще советовал помолчать, умерить свой мальчишеский пыл. Вы мне, кстати, еще спасибо должны сказать…
– За что? – удивился дедушка.
– За благополучный исход дуэли, вот за что! Англичанин – первоклассный стрелок… могли бы догадаться. Он вас не то что с пяти – и с пятнадцати метров подстрелил бы как цыпленка. Это я вас пожалел, зарядил пистолеты холостыми патронами… А сейчас вижу – зря пожалел.
– Как?.. как… как вы сказали?.. Стойте! Остановитесь! Остановитесь!
– Да что с вами, доктор?
– Сейчас же остановитесь! Как вы смели так посмеяться надо мной?! Разыграли комедию и довольны? Как вы могли? Как вам не стыдно?
– Вася, Вася, Вася, – шептала бабушка, хватая его за руки.
– Стреляться! Сейчас же! Немедленно! Я буду драться с вами! – выкрикивал дедушка как в лихорадке.
– Эй, доктор, да вам самому лечиться надо, – брезгливо заметил Загадов и остановил коляску. – Ну зачем мне с тобой стреляться, щенок? Я ж тебя одним щелчком могу прихлопнуть. Пшел вон! А ты, Ольга, останься.
– Нет, я с ним, я с ним, – воскликнула бабушка и спрыгнула на мостовую.
Загадов выругался, грубо толкнул дедушку в плечо – и тот вывалился из коляски в мокрый снег.
– Чтоб я вас больше не видел! – крикнул Загадов, не оборачиваясь.
Коляска умчалась.
Бабушка помогла дедушке подняться, но он пошатнулся и вновь упал на колени. Бабушка встала на колени рядом с ним, и обняла за шею, и прижалась.
Так они и стояли, на коленях, лицом к лицу, в слякотной грязи, несчастные молодожены.
На них оглядывались прохожие, над ними смеялись, и кто-то бросил в них рыхлым снежком.
Только в мире и есть, что тенистый Дремлющих кленов шатер, Только в мире и есть, что лучистый Детски-задумчивый взор… А. ФетВ ателье было сумрачно, лишь где-то в дальнем углу павильона мерцала горящая свеча. Фотограф Нудельман устанавливал аппарат, заряжал кассету.
– А это не дорого? – засомневался дедушка.
– Кто гонится за дешевкой – тот платит дороже, выбрасывая деньги на ветер, – сказал седовласый Нудельман.
– Ну, хорошо. Где нам встать?
– Советую в лодке. Символ семейного счастья и согласия. Пожалуйте в лодочку, мадам и месье. Мадам, склоните головку. Вот так. Месье, возьмите весло. Очень славно. Так и стойте. А я сейчас…
– Я люблю тебя, – прошептал дедушка, и бабушка задохнулась от счастья.
Дедушка стоял в бутафорской лодке, с веслом в правой руке, а левой сжимал тонкие холодные пальцы бабушки.
– Я подумал, может быть, вы наденете шляпу? – предложил Нудельман.
Шляпа – блюдо с цветами.
– Нет, – испугалась бабушка. – Не хочу.
Тогда, тогда… давным-давно… много лет назад.
– Посмотри на меня – у меня чистое лицо? – тихо спросила бабушка.
– Чистое. А у меня?
– И у тебя… Ах, Васичка… если б ты только знал, как я тебя люблю… Мне, кроме тебя, никто-никто не нужен…
– И мне… и я…
– Внимание, господа! Примите позы! Не мигайте! Снимаю! Та-ак! Оч-чень славно…
«…и мне весьма прискобно предполагать, дорогая моя Ольга Николаевна, что Вы заподозрили во мне чрезмерный избыток гнусного сребролюбия. Будучи уведомлен своими конфидентами о печальном событии, случившемся с Вашим супругом, я посылаю Вам эту фотографическую карточку и прошу принять ее как ничтожный подарок. О каком-либо денежном вознаграждении не может быть и речи…» (Из письма А. Нудельмана к моей бабушке, январь 1906 г.)
На фасаде здания – крупными буквами: «Пушкинский Народный Дом».
Пьяный черносотенец пытается сорвать с подъезда красный флаг. Рабочие дружинники отгоняют его. Двери распахнуты. Народный дом переполнен. И в большом зрительном зале, и в зале для народных устных чтений, и в библиотеке-читальне, и даже в чайной комнате – всюду толпятся люди. Тут и либералы-интеллигенты, и рабочие, и гимназисты, и солдаты. Все кричат, спорят, перебивают друг друга, кто-то безуспешно пытается произнести речь.
Дедушка с бабушкой пробились в большой зал. На сцене выступал пышноволосый смуглый человек в пенсне.
– Товарищи! Граждане! Свободные граждане свободного Кырска! Вам принадлежит власть, сумейте распорядиться этой властью! – говорил человек в пенсне. – Ваш сибирский провинциальный город превратился в настоящую республику! Так будьте же последовательными и принципиальными борцами…
– Кто это? – спросила бабушка.
– Не знаю, – и дедушка обратился к гимназисту с веснушчатым лицом: – Кто это выступает?
– Урицкий. Тихо, не мешайте слушать!..
Но тут поблизости послышались выстрелы, крики. Кто-то объявил гулким басом:
– Там черносотенцы! Без паники! Сохраняйте порядок, товарищи!
Однако многие заметались, бросились к выходу. Толпа вынесла бабушку с дедушкой на улицу.
Возле Народного дома беснуются черносотенцы. Размахивают хоругвями, царскими портретами, патриотическими лозунгами. Затеяли драку с дружинниками, пытаются ворваться в здание. Бьют случайных прохожих.
На ступеньках лежит окровавленный рабочий с посиневшим лицом.
– Вася, мне страшно!
– Не бойся, нас не тронут. Пошли отсюда.
– Что, барышня, свободы захотелось? – спросил незнакомый молодчик, хватая бабушку за воротник пальто.
– Руки прочь! Мерзавец! – И дедушка бросился на обидчика.
Тот рассмеялся, оттолкнул дедушку и вытащил из кармана гирьку на цепочке. Стоял в распахнутом полушубке веселый красавец, мокрые кудрявые волосы из-под сдвинутого картуза, голубая косоворотка, ненавидящие глаза.
«А за что?!» – вдруг тоскливо подумал дедушка. И вскинул руку, чтоб защититься.
Красавец с размаху ударил его, сбил с ног, а потом стал топтать и пинать лакированными сапогами.
Кто-то толкнул бабушку кулаком в спину – она упала, ударилась лбом о случайный кирпич, потеряла сознание.
…а потом она очнулась и встала, и долго искала дедушку, и нашла его, избитого до полусмерти, а потом она долго его выхаживала и выходила, а потом у них родился сын и три дочери, а потом началась война – и дедушку призвали врачом-ветеринаром, и там, на фронте, он заболел чахоткой и умер летом семнадцатого года. А потом, спустя много лет, родился и я, неумелый рассказчик, все помнящий и почти ничего не понимающий в холодном окружающем мире…
Эпилог
У меня в руках – пожелтевший лист бумаги. Это прошение, с которым моя бабушка в 1917 году обратилась к губернскому комиссару Временного правительства Владимиру Крутовскому:
«Прошу выдать мне пенсию или единовременное пособие от казны за безупречную службу мужа Василия М-на, умершего от чахотки в воинском чине старшего ветеринарного фельдшера. После его смерти я осталась одна с четырьмя малолетними детьми без всяких средств к существованию и нуждаюсь в оказании материальной помощи».
Резолюция:
«Просьба не может быть удовлетворена, ибо срок службы Василия М-на недостаточен для предоставления его вдове пенсии или единовременного пособия.
Губернский комиссар Временного правительства
Владимир Крутовский».Вот так моя бабушка Ольга Ивановна осталась в разгар революции совсем одна, без копейки денег, с четырьмя детишками на руках. Родители дедушки, проживавшие в далеком Кунгуре, от нее отступились, а ее собственные папа с мамой задолго до этого умерли, не оставив наследства. Да и какое могло остаться наследство от сельского священника? Библия, «Часослов», церковный календарь, две иконы, два золотых крестика на медных цепочках и три золотые монеты. Да еще большой кованый сундук с музыкальным замком, набитый всякой рухлядью.
Бабушке пришлось рассчитывать только на себя. И она справилась! Работала учительницей в школе, дома стряпала, стирала, шила. Сын и дочери (одна из них – моя мама) подрастали, становились ей помощниками, приучались к самостоятельности, к тому, что надеяться в этой жизни можно лишь на себя.
От государства (любого) не стоит ждать ничего, кроме неприятностей. И даже лучшие люди (одним из которых, несомненно, был известный гуманист и общественный деятель Владимир Крутовский), оказавшись на государственном посту, незаметно для себя превращаются в бездушные рычаги бюрократической машины.
Павел Никулин Сегодня мне повезет
Большой палец правой руки впивается в лак, покрывающий спинку скамейки передо мной. Я ковыряю ее так сильно, что куски ДСП вонзаются в мясо под ногтем. Палец саднит и слегка кровоточит.
Резко провожу ногтем снизу вверх и слева направо.
Потом сверху вниз слева направо.
Потом снизу вверх справа налево.
Надо пересечь первую линию.
В какой-то момент становится невыносимо больно – ноготь цепляется за вбитый в лавочку гвоздь.
Боль пронизывает всю руку. Кажется, я слышу, как в мозге кричат и перегорают нейроны. Из-под ногтя хлещет кровь. Несколько ярко-алых капель падают на джинсы.
Провожу пальцем слева направо, стараясь провести линию параллельно полу.
Резко провожу ногтем против часовой стрелки, рисуя неровный круг. На кроссовку падает стружка. На пол падают кровавые капли.
Я высасываю из-под ногтя кусочки дерева и смотрю на криво выцарапанный и смоченный кровью символ анархии. Я чувствую сладковатый привкус крови во рту, и мне очень хочется, чтобы резкая боль не проходила. Потому что, когда она пройдет, будет сложно отвлекаться от монотонного бормотания судьи.
Судью зовут Иван Сергеевич Одинцов. Ему сорок, женат, двое детей, трехкомнатная квартира на Фрунзенской в сталинской высотке. Третий подъезд, предпоследний этаж, металлическая дверь. В подъезде часто толпится всякий молодняк и ночуют бездомные – домофон все время ломается.
Точнее, его ломают.
Еще точнее, его ломаю я.
Я делаю это, чтобы в любой момент суметь попасть в подъезд судьи.
Судья Одинцов покупает еду в «Азбуке вкуса», редко моет машину – старенький «Форд Фокус» синего цвета. Изменяет жене со своей однокурсницей, ведет секретную страничку «ВКонтакте». Ничего криминального. Фотографии с дачи, рыбалки, охоты.
Дача судьи в Полушкино – пара часов на электричке с Белорусского вокзала. Столько же по Минскому шоссе. Одинцов гоняет туда каждые выходные. Я видел его дачу. Скромный домик, сигнализации нет. В одном месте забор из рабицы незаметно отходит от столбика.
Кто-то его подрезал так, чтобы можно было попасть на участок.
Этот кто-то – я. Я сделал это для того, чтобы пролезть на участок незамеченным. Я даже смогу вскрыть дверь в дом. Я пробовал.
Судья Одинцов мало что обо мне знает. Для него я всего лишь парень, который ходит на суды по резонансному делу ячейки анархистов. Сегодня Одинцов будет оглашать им обвинительный приговор. Сомнений в том, что он будет обвинительным, нет, а значит, этим вечером я должен буду убить Одинцова.
Я давно к этому готовлюсь.
Я знаю все, что должен буду делать, до мелочей.
И все же сейчас я не хочу смотреть на судью.
Я боюсь, что не смогу его убить.
Убить судью я хочу ради парней, которые сидят в клетке. Их четверо. Им грозят большие сроки. Все, что судья говорит про оружие, убийства, подготовку терактов и экстремистское сообщество, – чистая правда.
Парни в клетке – действительно анархисты. Они действительно раздобыли стволы и действительно собирались убивать ментов на улицах, пока хватит сил и патронов. Я это знаю, потому что должен это все проделывать вместе с ними. Они тоже знают, что я должен проделать это все вместе с ними. А вот следователи и прокуроры не знают обо мне ничего.
…За оружие отвечал Борян. Как только в Украине полыхнула война, Борян сразу поехал туда. Он умудрился повоевать за обе стороны, наладить какие-то контакты в ополчении Луганска и переправить в Москву пять пистолетов.
Один для себя.
Второй для Сереги – нашего идеолога, тихого тридцатилетнего парня, который всю свою жизнь просидел в пыльных библиотеках и книжных магазинах, пытаясь всеми силами найти аргументы против любых насильственных действий. Кажется, Россия в этом смысле сломала Серегу. Он не нашел ни одного способа мирным путем приблизить анархию. Теперь он сидит на скамье подсудимых.
Больше всего я уважаю Серегу за то, что он всегда был последовательным человеком. Еще до того, как предложить нам всем встать на тропу городской партизанской войны, Серега съездил в Питер и прямо на улице грохнул курсанта академии МВД.
Зарезал ублюдка кухонным ножом.
Несмотря на резонанс и ситуационистский подход, Сереге повезло – это дело долго не могли раскрыть.
Идея Сереги была в том, чтобы расшатать в стране политическую ситуацию перед Седьмым ноября. Серега очень любил всякие банальные исторические параллели.
Он говорил, что надо апеллировать к коллективной памяти.
Он говорил, что надо эксплуатировать исторические символы.
Анархисты, нацисты, большевики – народ не понимает разницы, рассуждал Серега.
Он говорил, что народ надо научить.
Он даже напечатал листовки. В них он восторженно объяснял, что большевики-революционеры и анархисты-революционеры не так уж сильно и отличаются друг от друга. Он объяснял, что революция – это что-то вроде особенного состояния сознания человека. «Революционер – человек обреченный», и вот это вот все.
Серега много раз описывал мне, как все будет: 2017 год, сто лет Октябрьской революции. Ментов и чиновников убивают на улицах. Отличный отклик в медиа. У нас сотни сторонников! Баррикады на центральных улицах крупных городов, отделы полиции захвачены, воинские части бунтуют. Озверевшие толпы людей освобождают политических заключенных из следственных изоляторов, на Красной площади проходит грандиозный митинг, собравшиеся требуют суда над президентом, а Серега выступает перед ними с Мавзолея и зачитывает любимые отрывки из Кропоткина. В левой руке он держит томик «Хлеба и воли», в правой сжимает свой пистолет.
Третий пистолет предназначался Мише. Мише двадцать. Когда за парнями пришли, Миша успел свалить в Финляндию. Жил нелегалом и толкал транки. Он все-таки попался местным ментам. Финны, узнав, что Миша в международном розыске, просто выслали его в Россию.
Четвертый пистолет – это пистолет Яна. Красавчику Яну двадцать восемь. Он спортсмен, с отличием окончил «Вышку». Ян – единственный, кто успел применить оружие по назначению, и теперь ему грозит пожизненное. Когда за ним пришли, он стал отстреливаться. Не то чтобы он был удачным стрелком, но пуля как-то совсем нехорошо срикошетила в одного из спецназовцев. Он умер в больнице.
На суде Ян пытался доказать, что это было непредумышленное убийство.
Как же.
К нему пришли первому, я думаю, что его кто-то сдал. Благодаря пистолету Яна вышли на Боряна. Оказывается, все пистолеты, которые продавали луганские вояки, были на учете у ментов.
Официально сообщалось, что Боряна арестовали на территории ЛНР. Чушь, конечно. Я знаю, что его взяли в Москве, а уже потом перевезли в непризнанную республику. Что с ним делали в подвалах ЛНР, я не знаю. Борян стал дурачком. И, очевидно, рассказал все или почти все. Взять остальных было делом техники. Их и взяли. Всех, кроме меня. Я не знаю, почему так вышло.
Последний раз мы говорили с Боряном, когда он отдавал мне мой пистолет. Пятый пистолет. Этот пистолет лежит в моей съемной однушке на «Нагорной». Я его спрятал за трехлитровыми банками с соленьями на антресоли. Следователи до сих пор ищут пистолет и его владельца. Они знают, что им владеет некое неустановленное лицо. Что неустановленное лицо будет делать с пистолетом, следователи не знают.
Неустановленное лицо стоит в зале суда и слушает приговор. Неустановленное лицо готовится убить судью Одинцова. У неустановленного лица слегка сорван ноготь на большом пальце, из-за чего палец кровоточит. Кровь неустановленного лица капает на линолеум в зале суда.
Я смотрю на Яна, Мишу, Боряна, Серегу. Я думаю, что до сих пор не могу объяснить Яну, почему его девушка не ходила в суд.
Из-за ареста Таня была подавлена и просила меня проводить с ней время. Ходить гулять, обедать, все такое. Мы гуляли обычно в моем районе. Ничего живописного, но я не любил далеко уходить от дома.
О деле ребят Таня говорить не хотела, поэтому мы просто молчали. В один из таких вечеров Таня попросила остаться на ночь. Я постелил ей на диване на кухне, но не успел заснуть, как она оказалась со мной в постели и сразу полезла мне в трусы. Ее не смутило, что у меня не было презервативов.
– Я ем таблетки, и вообще у меня аллергия на латекс, – сказала она.
Через некоторое время я понял, что Таня меня обманула.
Никаких таблеток она не принимала.
У нее случилась задержка.
Пиздец. Мы уже съехались.
Я надеялся, что она сделает аборт. Все-таки я собирался убить судью и, возможно, еще пару полицейских. Я был революционером. Человеком с особым состоянием сознания. Анархистом-революционером, который был ментально близок большевикам.
По крайней мере, так было написано в листовке. Я верил в это. Я ничего не планировал на будущее. Пока ребят не поймали, я даже к зубному не ходил – не было смысла. Я знал, что я обречен.
Отцовство с этим слабо сочеталось.
Таня сказала, что оставит ребенка.
Таня сказала, что не скажет ничего Яну.
Таня сказала, что ей на него наплевать.
Она сказала, что на меня ей тоже наплевать, но я должен буду ее потерпеть, пока она не родит ребенка. Для которого, как она сказала, я стану примерным отцом.
Я примерно прикинул дату рождения. Годовщина Октябрьской революции.
Злая ирония, мрачное совпадение.
Таня сказала, что Ян не хотел быть примерным отцом, поэтому они постоянно ссорились.
Вот так новость.
После этого разговора мы перестали трахаться. Через неделю мы перестали разговаривать. Мы не ссорились. Просто Таня превратилась в натянутый нерв. В струну, которая еле заметно подрагивает, издавая неслышимый ухом, но раздражающий психику звук. Находиться с ней в одном пространстве было невыносимо. Про таких людей обычно говорят: «От них фонит».
От Тани дико фонило.
От нее веяло беспросветной тоской.
Я стал избегать ее. Я стал спать на диване на кухне. Я старался как можно меньше ее видеть. Я пару раз даже подумывал покончить с собой.
Серьезно.
Я хотел повеситься.
Я даже купил веревку.
– Зачем тебе веревка? – спросила Таня.
Иногда она удостаивала меня вниманием.
– С ее помощью я планирую убить судью, – мрачно отшутился я.
Если бы Таня спросила, как именно я с помощью веревки собираюсь убить судью, я бы не ответил. Но она не спросила. Он была слишком занята своей депрессией и растущим животом. Всерьез она это не восприняла. О моих делах с Яном и остальными она была не в курсе. Или почти не в курсе.
Чем заметнее становился Танин живот, тем больше она меня ненавидела. Чем больше она меня ненавидела, тем больше я шпионил за судьей. И чем больше я шпионил за судьей, тем на более поздний срок откладывал убийство.
Я был плохим революционером.
Сейчас Одинцов оглашает приговор. Я не запоминаю их сроки. Меня тошнит. Я еду домой.
Неустановленное лицо, неспособное застрелить сорокалетнего судью в парадной, неспособное наладить отношения с любовницей, неспособное покончить с собой. Если бы я убил судью в начале процесса, я бы не считал себя предателем.
По-хорошему надо было найти стукача, конечно. Но я понятия не имел, какая гнида могла сдать Яна и подвести под статью Боряна, Мишу и Серегу. Поставить под угрозу мою жизнь. Жизнь анархиста, который в скором времени станет отцом. Жизнь революционера. Или жизнь предателя. Это как посмотреть.
Неустановленное лицо едет в метро по красной ветке, на «Библиотеке имени Ленина» переходит на серую, выходит. Кутается в пальто, мерзнет. У неустановленного лица саднит палец. Неустановленное лицо шлепает по лужам, оно хочет заболеть. Желательно менингитом, но сойдет и простуда.
– Сойдет и простуда, – бормочу себе под нос и набираю развороченным большим пальцем код на домофоне. Очень неудобно, но я не хочу, чтобы дверь открылась с первого раза.
В подъезде не работает лифт, но даже если бы он работал, то я бы пошел по лестнице. Настолько мне хочется отсрочить встречу с Таней.
Может, я не смогу застрелить судью, но со своей бывшей любовницей я смогу совладать. Я никогда всерьез не думал об этом, но сейчас мне стало кристально ясно.
Единственным возможным стукачом могла быть только она. Вряд ли у нее был злой умысел. Скорее, она хотела прочнее привязать Яна к себе. Она как-то обмолвилась, что видела у него пистолет. Действительно. Откуда ей было знать, что он будет стрелять в ментов?
Я хочу отсрочить встречу с Таней, потому что иду ее убивать.
Я запнулся на лестнице. Дыхание перехватило.
Господи, она же еще и беременна! Неужели я способен убить беременную?
Дверь не заперта, вхожу в прихожую. В нос бьет запах мочи. Включаю свет и вижу на уровне лица женский лобок. Лобок мертвой женщины. Лобок Тани. Делаю шаг назад и смотрю на нее. Синие ноги, синий вздувшийся живот, перекошенное лицо. Торопливо запираю дверь, блюю в туалете, чищу зубы. Моюсь, одеваюсь в чистое. (Для этого приходится пару раз виртуозно обогнуть висящее в петле тело.)
Тащу с кухни табуретку и начинаю копаться на антресоли, двигая банки с соленьями. Я тороплюсь, я хочу успеть на электричку до Полушкино.
Сегодня я убью судью Одинцова.
Если повезет, еще пару полицейских.
Учитывая все дерьмо, которое происходило со мной последнее время, мне должно здорово повезти.
Примечания
1
14 (1) сентября.
(обратно)2
Род гнутых сандалий, надеваемых поверх сапог.
(обратно)3
С 26 октября по 6 декабря.
(обратно)




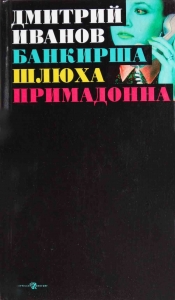


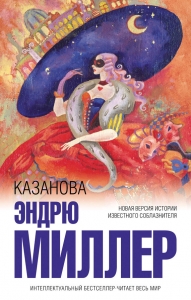


Комментарии к книге «Дюжина слов об Октябре», Яна Жемойтелите
Всего 0 комментариев