Николай Прохорович Крыщук Пойди туда – не знаю куда. Повесть о первой любви. Память так устроена… Эссе, воспоминания
© Крыщук Н., текст, 2017
© Арьев А., предисловие, 2017
© «Геликон Плюс», макет, 2017
О сопряжении слов
Кажется, не бывало в России такого времени, на которое бы, «подводя итоги», отечественный писатель смотрел без грусти. Да и в других странах, кого сыщешь, не Шекспира же и не Кафку? Естественный взгляд творца, интеллектуально одаренного, тем паче пожившего не один десяток коварных лет. Таковы неизбывные условия существования художника, настигнутого изматывающим его душу миропорядком.
Сегодня, когда живешь в мире, в котором прежде всего поражает, зачем и почему люди ежечасно лгут – и не только люди публичные, – становится ясным, с какой стати искусство слова оттесняется в нем на обочину развлекательными программами, замещается «зрелищами», тем, что верно именуется «боями без правил». По этой причине заранее отдаешь предпочтение художнику, в таинственном сопряжении слов находящему больше смысла, чем в разгадывании кремлевских ребусов.
Валерий Брюсов наставлял поэтов: «И ты с беспечального детства / Ищи сочетания слов». Марина Цветаева рассердилась: почему это «слов», а не «смыслов»? Со свойственным ей лирическим нетерпением она – точь-в-точь как толстовский герой из «Войны и мира» – недослышала: за словом «сопрягать надо» не различила «запрягать». Брюсовскому «сочетанию слов» предшествует мысль о необходимости «запрягать» их как лошадей – для странствия по кругам рая и ада. Всякий настоящий художник, полагает Брюсов, подобно Данту, является на землю с обожженным «подземным пламенем» лицом. Что и побуждает его искать «сочетания слов»: без них осмысление увиденного невозможно, «персональное» не становится «всеобщим».
Любое детство «беспечально», если иметь в виду неизбежные коллизии дальнейшей человеческой жизни. Ленинградское послевоенное детство поколения Николая Крыщука и его самого «беспечальным» никак не назовешь. Что только упрочивало способности к выработке собственных суждений. Речь заводит Николая Крыщука в такие, не предусмотренные обыденным житейским укладом закоулки, в какие никакая социология, никакой сыск хода не имеют – за неумением обращаться ко вторым, третьим и бесконечным смыслам художественных речений.
Есть у Николая Крыщука не включенный в настоящее издание «роман-фантасмагория». Первоначально он назывался «Ваша жизнь больше не прекрасна». И это, кажется, единственно достоверный сигнал, передаваемый современному человеку через атакованные вирусом прогресса подмигивающие дисплеи.
Автор переменил заглавие романа на другое, заведомо простое, ускользающее от обозрения и публичности – «Тетради Трушкина». Это важно: роман теперь посвящен «биографии внутреннего человека», к каковой клонятся вообще все сочинения Николая Крыщука, в том числе хорошо представленные в настоящем издании документально-эссеистические жанры. Прозаическое в них тесно спаяно с поэтическим, строчки норовят стать строками стихотворения, – черта характерная для писателей с невских берегов, взявшихся за перо после 1956 года. Речь у них идет о людях не на своем месте, о мнимой смерти и мнимой жизни, о ее дурной бесконечности: «Что сказать мне о жизни? Что оказалась длинной…»У Крыщука действие накатывает валами из разных исторических пространств, обнажая разные философские пласты – при том, что автор твердо дает понять: он-то живет сегодня, живет среди нас, и наши треволнения и беды ему не чужды.
Вряд ли подлежит сомнению: проза Николая Крыщука – философская. Но без обязательного для этого жанра априорно заданного смысла и удушения читателя цитатами из малоизвестных философов.
В эссе о совершенно реальной и всем известной личности, Александре Володине, Крыщук заметил: «Биографы зря стараются», ибо существен лишь «внутренний человек». Чтобы внимание к нему не пресекалось, прозаику удается находить часто сразу запоминающиеся, строго пригнанные друг к другу слова, как, например, в книге об Александре Блоке: «Был в нем какой-то нравственный регистр, неповрежденное чувство правды».
«Правда» – она и есть предмет рефлексии писателя Николая Крыщука. Драма и счастье человеческого сознания, драма и счастье «внутреннего человека» состоят в том, что правда не универсальна. Универсально лишь то, чего мы не знаем. А то, что мы знаем – не универсально. Здесь точка отсчета и точка поисков современного художника, такого, каким мне представляется Николай Крыщук – в этой книге особенно, потому что в ней слиты его основные, произрастающие из единого корня, ветвящиеся от одного ствола жанры – прозаика, филолога, журналиста.
И не только в этой. Таковы вообще его «ненаблюдаемые сюжеты» при наблюдаемой психологической тонкости их трактовки. Например, предшествующий «Тетрадям Трушкина» роман «Кругами рая» на том и стоит, что внутренний мир персонажей, мотивы их поступков или, что еще сложнее, бездействия, даны со скрупулезной психологической достоверностью. Тема романа традиционная – драма «отцов и детей». Тем сильнее впечатляет оригинальность ее трактовки: вместо сведения счетов, персонажей тянет друг к другу «взаимное непонимание», фатально их связующее, обусловливающее жизнь.
В первый круг «рая» входит открывающая книгу повесть «Пойди туда – не знаю куда» – рефлексия об утраченной любви двух достойных друг друга существ. Их тихая драма заключается в том, что каждый из персонажей искал не то, что другой. У героев не получилось ничего, зато у автора получилось все: сказочное «неведомо что» нашел он. В этом радость, в этом художественный успех. Потому как художник призван творить именно «неведомо что», по-своему мерцающие для каждого читателя смыслы.
Пожалуй, в большинстве, а в скрытом виде и во всех, коллизиях, рассматриваемых петербургским прозаиком, найдешь неосязаемый промельк счастья. Влюбленность, его атрибут, у него – «нормальное состояние». Но состояние, переживаемое интимно, в повести выраженное через изящную внешнюю примету – «немого попугая», мелькнувшего в финальной сцене. В сотнях изложенных самыми разными авторами историй, если попугай и является, то непременно «говорящий». А вот у Крыщука «немой». Должен был что-то произнести внятное. Но нет, не произнес. Также и героиня – могла бы прийти, но – о, судьба! – не пришла… Да – судьба: «Из того, что она не пришла, сложилось счастье моей жизни». Дальнозоркий Николай Крыщук автор. Следовательно, понимающий, что в искусстве к чему. То же обречение на влюбленность автор «повести о первой любви» распознал в душевных устремлениях таких разных писателей, как Владимир Соловьев, Чехов и Александр Блок.
«Где найти меру неотменяемости общего и меру независимости личного?», задает устами Лидии Гинзбург вопрос Николай Крыщук. Вопрос этот – онтологический, тысячелетиями стоящий перед мыслящим тростником: в каком пункте «общее» становится «частным»? Неясно до сих пор даже то, не следует ли вопрос ставить в перевернутом виде: где кончаются «единичные сущности» и начинаются «универсалии»? Гармония, видимо, таится в этой безначальной области, обследуемой Николаем Крыщуком.
Имя Лидии Яковлевны Гинзбург помянуто здесь – как и в самой книге – не всуе. По благоприобретенной профессии ее автор – филолог, участник знаменитого Блоковского семинара Дмитрия Евгеньевича Максимова. Несколько раз издавалась его книга «Разговор о Блоке».
На минуту остановимся: написан «Разговор о Блоке» в вольной художественной манере, не предающей изначальной приверженности автора к поэтическому слову, следовательно и к эстетическому своеволию. Крыщук принадлежит к тем не часто встречающимся филологам (из тех, о ком он пишет, на ум приходит Самуил Лурье), кто предпочитает, прежде всего, вступать с изучаемым автором в диалог равноправно – не теряя дара речи. Силою вещей из старших отечественных литераторов Лидия Гинзбург ему ближе других. Она, как Крыщук и сам понимает, была слишком художник, чтобы следовать заветам академической науки, и слишком ученый, чтобы выражать свое видение мира в ореоле метафор и метонимий. Конечно, она в первую голову – аналитик, эта склонность привела ее к художеству, у Крыщука же интеллектуальное развитие шло по встречной дороге. Понятно, что и его путь – преодоление той же дистанции. «Если представить все написанное Гинзбург как одно распространенное высказывание», размышляет он, то в нем «присутствует та нерасчленимая, аналитически не вычисляемая тайна, которая была передана ему личностью автора». Если автор и умирает в своем творении, то мы тем более хотим узнать, что собой представляет нетленный мир, в котором он жил и живет. Памятники для этой цели пригодны мало.
У каждого художника есть свое «всë», определяющее меру вещей бессознательное. Какое бы оно ни было, оно не врет, являя собой то единичное качество, которое врать не в состоянии – ему не перед кем врать в своем стремлении как-то воздействовать на свою телесность. Поэтому изначальное впечатление никогда не победит последующего разочарования – думает Николай Крыщук. Хотя бессознательному и безразлично, думаю я, приводит ли его воздействие к драме или к просветлению? До той поры, пока оно не прорывается в сферу всеобщего. Так возникает то, что мы именуем «судьбой».
Размышление о судьбе приводит к осознанию смертности, как данности личного опыта, не преодолимого никакими прельщениями разума. Смерть никогда не подводит. В тех же «Тетрадях Трушкина» отчет об опыте небытия записан симпатическими, то есть художественными, чернилами. В первом приближении пульсирующая фабула этого романа может быть расценена как социальная. Важнее, однако, что всякая социальность имеет у автора этих записок экзистенциальное измерение. Призывы, «возделывать свой сад», во времена Вольтера были меньшей утопией, чем сегодня.
Николай Крыщук задается вопросами, каковы неизгладимые приметы нашего нынешнего существования? В какой момент в нас атрофируются человеческие чувства? Отчего жизнь похожа на небытие? Но если большинство писателей, поставив подобные вопросы, уходит от ответов в фантастику, умозрительные конструкции, мистику, сказку или сюрреализм, то Крыщук, с помощью своего «маргинального», «несвоевременного», «нелепого» героя-рассказчика, решается дать и убедительные ответы. Этой прозе, при всей свойственной автору иронии, передается отвага наивного прямоговорения избранных им героев. Их внутренняя жизнь полнится позабытой, живущей поперёк и вопреки духу времени верой, что человек выстоит. Порукой тому и одна из самых скромных героинь «Тетрадей Трушкина», выводящая рассказчика из царства нежити на поверхность жизни.
Каждое из этих произведений сводится к простой истории человека, который хотел жить, любить и быть понятым. Со щемящим чувством мы можем узнать в героях самих себя, а, следовательно, принять и мир этих вещей в целом. Это не столько приговоры времени и обществу, сколько исповеди сыновей века, героев утраченного страной времени. В поисках рая они все время попадают на дороги, ведущие в ад. Его-то существование несомненно. Ибо он – на земле. Там же, где и жизнь райская. Совсем неподалеку.
Иногда кажется, что душевная откровенность, роскошно свежий, метафорически насыщенный язык Николая Крыщука в состоянии воссоздать нам новых Панглоссов и князей Мышкиных. Въяве их вряд ли можно было увидеть и в «добрые старые времена», но их образы у человечества уже не отнимешь. Так что, думает Николай Крыщук, «жить можно» и сегодня. Во всяком случае – еще можно. И уж несомненно «В Петербурге летом…», как сказано в заглавии одной из его книг. Плюс к тому «надо бы еще послужить человечеству» – с этим очень характерным для писателя ироническим «надо бы…» Каждому человеку много еще чего «надо бы». Реально же сюжеты Николая Крыщука сводятся к тому, что у выведенных в них персонажей «словно пропадает фокус», настроенность, позволяющая им целеустремленно ориентироваться в шутовском хороводе жизни. Но сам-то автор ориентируется в нем прекрасно, его фокус не сбит: «Солнце слепящими стрекозами застревает в царапинах стекла». Кто это написал, может быть, Юрий Олеша? Владимир Набоков? Они-то могли бы. Но не это главное: когда Николай Крыщук рисует подобные, придающие повествованию естественную живость, пейзажи, его воображение отталкивается не от книг, а от реальных видений. Суть тут – в органической природе его художественного зрения. Филолог-интеллектуал, он все же больше дорожит дарованным ему ниоткуда правом на спонтанную метафору, на радость устремления: «Случайно на ноже карманном найди пылинку дальних стран…».
В былые допечатные времена, когда никакой частной литературной собственности не существовало, автор, обнаружив, что просящееся наружу слово уже произнесено другим, более достойным творцом, с благодарным облегчением копировал чужой текст, продлевал его существование, как усердный иконописец веками передаваемый прообраз. Вот и ясобирался начать эти беглые заметки с цитаты из Пушкина, указать на его мнение о Евгении Баратынском, соответствующее, на мой взгляд, предполагаемым дальнейшим соображениям о Николае Крыщуке. Теперь вижу, что лучше этим мнением начатое дело завершить:
«Он у нас оригинален, ибо мыслит. Он был бы оригинален и везде, ибо мыслит по-своему, правильно и независимо, между тем как чувствует сильно и глубоко».
Андрей Арьев
Пойди туда – не знаю куда Повесть о первой любви
Часть первая
…ПЕРВОЕ МОЕ «ПЕРВОЕ СЕНТЯБРЯ» было опрыснуто дождем. Дождь прошел утром, и, когда я вышел на улицу с новеньким портфелем, голуби, лепившиеся под крышей крыльца, как раз вылетели размять крылья. Тогда голуби только появлялись в городе после блокады и вообще только входили в моду.
Помню, что, несмотря на облака, утро было ярким, серые блики на жирных, искривившихся от старости листьях слепили глаза. А я шел чистенький и невесомый, как после бани. В школу. В первый раз.
На мне был черный костюмчик, который мама перелицевала из старого отцовского. Впервые в этот день вылез я из привычной вельветовой куртки и чувствовал себя торжественно. Я еще не знал, что в таких неформенных костюмчиках будет всего три человека. На весь класс.
В начале пятидесятых для мальчиков-школьников изобрели серого цвета форму, наподобие военной. Форма шилась двух видов: суконная и хлопчатобумажная.
На суконную форму у мамы не хватило денег, но она все же надеялась купить мне ее позже и поэтому не хотела тратиться на «хэбэ». Стремление «быть как люди» и чтоб «не хуже, чем у людей», – как знакомо это мне с самого детства! Матери долго не удавалось почувствовать себя горожанкой, и от этого-то, вероятно, она еще больше старалась походить на нее. Правда, от половиков и дорожек, вывезенных из деревни, она отказаться не могла. Но вот когда у соседки появился шифоньер, то есть, попросту говоря, трехстворчатый шкаф с зеркалом (у большинства были двустворчатые и без зеркала), мать стала копить деньги на шифоньер. Так же в свое время появится сервант, потом тахта… И все с опозданием на годы, и всякий раз мне было неловко от очередной покупки, как будто она выдавала какую-то нашу тайну.
Форму купили мне только после ноябрьских, и, облачившись в нее, я мгновенно ощутил превосходство над теми, кто ходил в «хэбэ»: их форма уже давно скаталась ватными катышками и выглядела уныло. Но и с теми, кто с первого дня ходил в сукне, я все равно не встал на равную ногу: перед ними я стыдился новой формы так же, как нового шифоньера перед соседями.
Помню, ровно через год, первого сентября, мы узнали, что погиб Коля Ягудин – один из «хэбэшников». Рассказывали, что он удил на речке, поскользнулся и упал прямо в воронку.
Двоечник, «хэбэшник» Коля Ягудин после своей нелепой смерти превратился для меня в образ фатальной незадачливости. Он пугал меня, этот образ, я боялся стать таким, как он. Я хотел быть хорошим и страдал оттого, что у меня это не получается. Я хотел быть хорошим, чтобы меня никто не трогал, а уж тогда-то я буду таким, каким мне хочется.
В стенгазете «Колючка» я изображал Ягудина верхом на двойке.
Когда Коля был жив, я боялся оставаться с ним наедине, чтобы нас не сочли друзьями, теперь, когда его не стало, я боялся, что займу его место.
У Коли было прозвище Дохляк. Он и сейчас вспоминается мне миниатюрным долговязым старичком – первоклассник. Но, может быть, сутулым Коля казался из-за выбившейся из-под ремня и вздувшейся на спине гимнастерки? Лицо Коли было землисто и нездорово. Наверное, он жил в подвале. Тогда еще многие жили в подвалах. Но добрые влажные глаза Коли никогда не выражали собачьей жалкости, может быть, только грусть.
Ни в безвольной нижней губе его, к которой, как шутили, прилипали комары, ни в тоскливо свисавшем «хэбэ», ни даже в нелепой смерти не было никакой предопределенности. Не-бы-ло!..
Зачем же я, маленький застенчивый «сатирик», рисовал его в стенгазете «Колючка» верхом на двойке: сброшенным брыкливой двойкой на землю, погоняющим отару двоек?… Зачем я так старательно рисовал его свалявшееся «хэбэ»?…
Но я еще иду в первый класс, я еще не знаю Коли Ягудина. В моей душе нет зла. Голуби мира взлетают из-под моих ног и садятся впереди, затрепетав крыльями и на мгновение отразившись в мокром зернистом асфальте. На мне черный костюмчик, а в руках букетик ноготков. Они красивые, на живописно корявых стеблях, запах – сердцевинный запах осени. Они похожи на маленькие подсолнухи.
Я еще только иду в первый класс и не знаю, что ноготки – цветы клумб, а не оранжерей – дешевые, второсортные цветы. Что эти карлики перед господами офицерами гладиолусами?
Мне не нравятся гладиолусы, будто проглотившие перед генералом аршин и вертикально навинтившие на грудь ордена. Мне они не нравятся. Но я не могу не признать их породистости. И когда в вестибюле девчонка-первоклассница, неся их над головой, как какой-нибудь канделябр, громко шепчет про мои ноготки: «Календула! Нарвал, наверное, на улице», – я весь словно погружаюсь в горячую воду. Как предательски засовываю я свои цветы-карлики в тесноту чужих коленей и рук. Бедные мои «подсолнухи»: с хрустом сломалась сочная корявая ножка, посыпалась на каменные шашечки огненные лепестки. Теперь они кажутся мне толстыми крашеными мотыльками.
Не это ли первое маленькое предательство пробудило во мне тогда неожиданный сатирический талант?
Не помню, были ли в тот день цветы у Коли Ягудина?…
УЯЗВЛЕННЫЙ ЭТИМ ВОСПОМИНАНИЕМ, пытаюсь вспомнить себя до Коли Ягудина, до того «Первого сентября»… Но и там обнаруживаю себя тиранчиком с обиженной губой, мучающим на подоконнике мух.
Дальше, дальше!..
Я вижу сад, освещенный хозяйской верандой. К ночи напряжение в сети падает, свет на веранде тусклый, как при керосиновой лампе. Там пьют чай, играют в карты, покрикивают на детей, входят и выходят, погружают пальцы в волосы и смеются… Интересно, знают ли они, что они счастливы?
Я вижу мальчишку в коротких штанишках с оторванной лямкой. Он усердствует около таза, подсовывая ломающийся в воде пальчик пленной и обреченной рыбине. Это я. Из кресла молодо поднимается моя мама и говорит… Ну, говорит, например: «Щуку будем жарить на завтрак, отойди, пожалуйста, от таза». Или: «Ложись, милый, спать, утром пойдем на гору за орехами».
Черное, нарушаемое ветром кружево крон временами смывает эту картину. От земли тянет первым прелым листом осины. Я пасусь в этой ночи как коровка на длинной привязи. В отмытой от ночной сажи полоске зари, в темном, освещаемом верандой саду – что-то от пейзажей Ромадина, от довоенных фильмов об отпускниках, от скоротечного блаженства послевоенных июней, июлей, августов, которые с детских лет проводил я с матерью в Дудергофе.
«Ну, иди, милый, иди», – повторяет молодая женщина, и мальчик покорно идет в свою постель. Необходимость покидать все и всех ради сна – первая несправедливость, которой он по-взрослому покорился. Он, конечно, совсем не хочет спать, но уснет мгновенно. Ведь он тоже не знает, что счастлив, ему еще незнакома эта забота. Даже встречу, которую жизнь приготовила ему к утру, память отложит в самый дальний тайничок, о существовании которого он еще не подозревает.
АНДРЕЙ ПОМНИТ СЕБЯ СТОЯЩИМ У КУСТА. Бледные листочки его до желтизны просвечены солнцем. Утро. Он только что вышел из дома, еще только привыкает к зябкости утреннего воздуха. И тут замечает на кусте бабочку-капустницу и произносит слышное ему одному: «Ах!..» Бабочка прекрасно притворяется листиком. Она тоже салатная и тоже покачивается от ветра. Но Андрей все же заметил ее и горд. Нерасчетливым движением тянется он к кусту, берет бабочку в кулачок и в этот миг сзади раздается голосок:
– Отдай. Это моя бабочка.
Андрей поворачивается и видит перед собой девочку. У нее огромные серые глаза с подрагивающими веками. Они так невыносимо огромны, что, кажется, присели на минутку, а вот надумают, снимутся с места и полетят.
– Это моя бабочка, – повторяет девочка, глядя то в сачок, то на него. – Я уже час жду, когда она проснется.
– Зачем? – кажется, спросил он.
– Чтобы ловить.
Взглянув на него умоляющими глазами, она отбросила сачок и схватилась за его кулак обеими руками, пытаясь вызволить из чужого плена бабочку.
Он сдался. Он разжал потный кулачок. Ладонь обдало холодным ветром. Бабочка упала и стала торопливо перебираться по траве. Ее сдвоенное крыло нервно покачивалось, как маленький лодочный парус.
Андрей поднял голову и увидел в Сашиных глазах слезы.
Потом, конечно, и Саша и Андрей не раз сверяли свои воспоминания, и выходило, что столько уж им обоим было сказано в самом еще детстве, что даже удивительно теперь, как можно было это сразу не разгадать. Но может быть и так, что все это только романтические забавы. Сведи каждого из них жизнь с другим, и тогда не было бы недостатка в символах.
Что до символов, то вот уж действительно, в чем никогда не было и нет недостатка. Тут память затаскивает и еще дальше, где ей, собственно, и делать нечего. В детство матери, например, в жизнь ее до него.
Как ни смотрите, а жизнь родителей, даже и до нашего рождения, никак нельзя назвать по отношению к нам случайной и посторонней. Один-два эпизода – и, кажется, наш собственный облик начинает уже в некоторой мере прорисовываться, уже хмурый зародыш его обретает свое местечко в пространстве, уже из множества вариантов жизнь отложила для него небольшую колоду. Не довод, что и в двадцать лет колода эта кажется нам невообразимо огромной. Теперь с каждым днем она будет уже только уменьшаться, каждый день будет уносить безвозвратно еще вчера доступные варианты.
Впрочем, об истинном своем начале мы обычно и понятия не имеем; кто знает, в какой древности его и разыскивать.
МАМИНО ДЕРЕВЕНСКОЕ ДЕТСТВО ПРОХОДИЛО ПОД ЗНАКОМ ВЕДЬМЫ. Родилась она за два года до революции, когда домовым, ведьмам и лешим еще не пришла пора исчезнуть под светом нового дня. Ведьмой была отцова мачеха, а ее неродная бабка. После смерти второго мужа всю свою зловредную силу обратила она на пасынка, для начала отделив ему с семьей и двумя дочками камору. В ней долгое время и жили они, а с ними – невыветриваемые запахи чеснока, конопли, зерна и перламутровых связок лука.
Редко встречалась Паша с блескучими глазами бабки, но чуть ли не всякое появление ее и разговор о ней были связаны с каким-нибудь, по большей части, страшным чудом. Отец говорил, что бабка задумала извести весь их род.
Появилась она как-то в каморе – ласковая, села у недавно прорубленного окна, пергаментным лицом своим тускло отражая разыгравшийся закат. Выпила кружку молока, утираясь, пошептала в ладонь, улыбнулась на прощанье и вышла. Только сели они вечером ужинать, а вместо молока в кринке – вода.
На следующий день Паша и Дарья стали расшатывать из мести колья, торчащие из стены каморы. По ту сторону стены держались на них полки с ведьминой посудой. Бабка затаила обиду. Мать рассказывала, будто вечером тогда пристала к отцу в поле бешеная собака с бабкиными глазами. Отбился он от нее палкой, рассадил голову за ухом. Утром уже повстречался с бабкой и заметил у нее рану в том месте, что и у бешеной собаки.
Паша, конечно, боялась бабку, но что-то ее к ней и тянуло. Сила влекла, чудо. Бывало, даст она им с Дарьей по прянику. Дарья тут же выкинет его и Паше накажет: «Не ешь, он поганый». Убежит Паша в кукурузу, съест там ведьмин пряник. Страшно, конечно, но еще вкусней оттого, что страшно.
Были случаи, что и помогала им ведьма. Так, впрочем, по пустякам. Пошел как-то отец взять после ночной пастьбы коней. Шел он по лугу, еще полному росы – утро было раннее, помахивал уздечкой. И так эта уздечка в траве промокла, что не мог он ее, как ни пробовал, просушить. Отдал бабке. Поглядел вечером: та сидит задумчиво во дворе над уздечкой, а из уздечки… молоко течет. Утром вернула сухой.
Трудно сказать, что больше отложилось в младенческом почти сознании Паши: то ли страх перед непостижимой властью ведьмы, то ли предчувствие того, что жизнь полна чудодейственных превращений и когда-нибудь и ее судьба может счастливо перемениться.
В ЛЕНИНГРАД РОДИТЕЛИ АНДРЕЯ ПЕРЕБРАЛИСЬ ПОСЛЕ ФИНСКОЙ. Первые месяцы, пока муж был в летних лагерях, жили в маленькой деревушке Тервайоке. К тому времени у них уже родилась дочь Валя (она умрет в блокаду, съев неостывший студень из казеинового клея).
Поселились поначалу в огромном доме. Дом был пустой, хоть волков гоняй, Прасковья боялась оставаться в нем с дочкой одна. Со своим супом в чайнике, который остался от прежних хозяев, бежала она к соседнему дому. Этот был заселен плотнее. Перед домом разложен костер, над ним на кирпичах – лист железа. На жести готовили еду.
С людьми было не так страшно. Запах костра напоминал деревню.
К зиме им дали в Ленинграде маленькую комнатушку. Привезли туда из Тервайоке кровать с никелированными шарами, финскую тумбочку из карельской березы и трофейный радиоприемник «Stern-Radio».
Комнатка была оклеена газетами. Были среди них совсем старые, дореволюционные. Иногда вечерами Прасковья читала их, ожидая мужа.
Особенно любила она объявления – эти затерявшиеся во времени позывные. Например, в1914-м какие-то жильцы с Лиговки решили через газету продать белый новый рояль. Белый рояль она видела в фойе театра, куда ее однажды водил муж. Рояль напоминал стоящего на упертых ножках бычка. Она подумала тогда, что в доме он может служить обеденным столом.
Уложив спать дочку, Прасковья представляла, как заявится вдруг по этому адресу на Лиговке: «Вы продаете белый рояль?» – «Продаем». Старушка откладывает книгу и приглашает ее в комнаты. «Это муж из-за границы привез, – говорит старушка, – очень нужная вещь. Можно играть, если умеете, можно в качестве обеденного стола использовать. Если б деньги не нужны были…» – «Да, деньги, – кивает Паша. – Куда ж в городе без них». Замечая Пашин взгляд, на мгновенье отвлекшийся на голубой стеклянный куб, старушка спрашивает: «А вы, собственно, по объявлению?…» – «По объявлению, по объявлению, – успокаивает ее Паша. – Прочла тут в газете… А и кубик этот можно? – спрашивает она неожиданно для себя. – В придачу к роялю. Я заплачу».
Она рассматривает рояль с видом знатока. В их комнату его можно втащить разве что боком, и то если ножки спилить. Вот кубик… Кубик бы она, пожалуй, и отдельно, без рояля, купила.
Представляя, как она приходит торговать рояль, Прасковья тихонько смеялась. Ей было забавно думать, что вот с тех пор две войны прошли и революция, и она из деревенского стручка превратилась в жену и мать, в горожанку, а рояль все еще продается.
Дело было, конечно, не в белом рояле. Сдался он ей. Другой раз она собиралась купить кадку для цветов или ковер. Всякий раз, мечтая о покупке, Прасковья представляла, что с ней изменится и ее жизнь. Говоря же совсем честно, она ждала, что вместе с вещью перейдет к ней секрет чужого счастья.
О счастье она стала мечтать, казалось, еще до того, как начала думать. Населялось счастье медленно. Первыми поселились в нем человеко-деревья и человеко-звери, вылетавшие по утрам из ее сновидений. Позже Паша догадалась взять с собой сестренку, маму и отца: сестренку – когда та разговаривала с коровой или когда они с утра до заката собирали шелковицу, маму – когда она ткала на станке дорожки для полов и относилась к их шалостям терпеливо-равнодушно, отца – когда он собирал яблоки или нарезал, смешно отпустив нижнюю губу, к приготовленному стаканчику сало.
Запахи здесь играли тоже не последнюю роль: первый земляной запах, когда сходил снег, запахи огурца, смородины, вечерней полыни, запахи горелой ботвы, дождя, выскобленного и вымытого с мылом стола – все это тоже бережно отправлялось Пашей в счастье и жило там в ожидании ее.
Бывало, происходили и в ее счастье кое-какие перестановки. Одно время жила там соседская Васька, но после неизвестно из-за чего разгоревшейся ссоры Васька была из счастья изгнана. Ее место, по мере того как Паша взрослела, занимали то бычок Рыжик, то ночное купание в пруду, то Стасикова жалующаяся на что-то гармошка, то песни, которые они пели с бабами, то молодой председатель, присланный к ним из города, – она видела однажды, как он стоял на крыльце, подставив солнцу закрытые улыбающиеся глаза.
Однако постепенно Паша стала забывать, что счастье, о котором она столько мечтает, ею же самой и создано и что все оно – из примет той жизни, которой она каждый день живет. Ей стало казаться, что счастье – это та жизнь, которая не по ней сшита, которую даже и видеть ей нельзя, а она тайно подсмотрела ее. Совсем как барский дом, в который девчонкой ей так хотелось проникнуть.
Она была еще маленькой, когда барин вместе с семьей удрал за границу. Паша хорошо помнила этот день.
Помещичий дом стоял в саду на горе, важно опоясан деревянным забором. Сквозь забор было видно, как у крыльца величаво прогуливаются цветные птицы с маленькими головками. В окна виднелись красивые обои. В то время обоев в деревенских домах не было.
Мать Паши выпекала барину и всей его дворне хлеба и, бывало, притаскивала душистую буханку домой. Девочка представляла, что весь барский дом пропах, наверное, вкусным хлебом, и тихо завидовала маме, которая снова назавтра отправится туда.
Не сразу связала она с этим хлебом набухшие вены на маминых руках, ее болезненные причитания по ночам. Как-то Паша поняла из разговора, что женщины в пекарне, изнемогая от работы, придумали хитрость. Одна из них разувалась и месила тесто ногами, другая сторожила у входа. По первому знаку месившая тут же исчезала в уборную, а третья, отдохнувшая, в это время окунала руки в тесто.
С тех пор барский хлеб уже не казался Паше таким вкусным. Но дом и цветные птицы за оградой влекли с прежней силой.
Вместе со всеми побежала она в тот день, когда хозяева сбежали, к барскому дому. Уже издалека увидела в раскрытые ворота толпу баб и мужиков. Кто-то раскачивался на раме, кто-то вытаскивал из дома кадку с пальмой, мальчишки копошились вокруг паровой молотилки…
Не к дому – к себе испытывала в тот момент Паша жалость, к своей неисполненной мечте повидать внутренность усадьбы в ее красивой, беззаботной, отдельной от села жизни. С пустым сердцем взошла она на крыльцо и, не успев углубиться в темную галерею, сразу же за дверью в стене увидела окно или, быть может, другую дверь, из которой навстречу к ней выходила… Паша.
Девочка вскрикнула и выбежала вон.
Уже в избе она поняла, что наткнулась на прислоненное к стене зеркало. Больших зеркал в деревне не было, и себя со стороны Паша до этого видела только в озере.
В хате Паша застала сестру. Та уже побывала в барском доме, и теперь ей представлялось, что в пустых и темных коридорах ее хватает за плечи кто-нибудь из не уехавших молодых помещиков. В тот момент и случись Паше обнять сестру за плечи. С Дарьей произошел нервный припадок…
С тех пор Паша боялась зеркал, помня фосфорический обман того, первого, его колдовскую вредность и последовавшую затем болезнь сестры.
Уже став взрослым, Андрей по своей привычке искать во всем символический смысл пытался как-то истолковать этот мамин рассказ. Почему, например, пойдя на встречу с чужим счастьем, мама встретилась там со своим отражением. Именно это почему-то дальше всего уводило его мысль.
Мы стремимся к счастью, как к совершенству, думал он, потому-то и видится нам здесь чудо. Но в действительности и в любви и в счастье каждый стремится к себе или, вернее, к себе подобному, хотя этого и не сознает. Поэтому и собственный лик ужасает несоразмерностью и уродством по сравнению с ожидаемым чудом. Это, наверное, и называют разочарованием.
Он снова и снова расспрашивал маму о ее детстве. Но то ли память мамы стала к старости слабой, то ли вопросы он задавал не те…
Как-то прочитал, что проектировщики электростанции попросили старожилов описать давнее землетрясение. Необходимо было узнать, какой сейсмической устойчивостью должен обладать фундамент станции. Зашли в дом старика. «Сильное, дедушка, было землетрясение?» – «Потрясло», – отвечает. «Ну как сильно? Светильники качались?» Кивает головой: «Качались». – «Здорово качались?» – «А что такое светильник-то?» – «Да вот же – лампочки». – «А… Нет, не качались. У меня лампочек тогда не было».
Вот так примерно и они с мамой часто разговаривали. И тягостно ему после этих разговоров было – как будто не она, а он сам чего-то не может вспомнить.
Но проходили недели и месяцы, и снова он приставал к маме с расспросами. И опять то же: лампы – светильники.
Шли годы. Уже и о его детстве стали вспоминать как о давней давности. И он, оказывается, не все уже мог вспомнить. Когда и было оно, детство?
ХОТЯ СОБСТВЕННОЕ ДЕТСТВО ПРЕДСТАВЛЯЛОСЬ ЕМУ, конечно, ярче и наряднее. Вспоминалось оно временами подробно, даже до невероятного подробно. Послевоенное детство с еще не везде восстановленными домами, очередями за мукой и воскресными винегретами. Они не знали еще о том, что предшествовало их появлению на свет, а потому и свое существование воспринимали как должное, в войну играли беззаботно и увлеченно и уже любили посмотреть на эту бесценную жизнь сквозь цветное стеклышко.
Помнит он, например, голубой стеклянный куб, купленный мамой по случаю, сквозь который любил рассматривать комнату и улицу через окно. Вещи и деревья – все переламывалось в гранях кубика и застывало, как в пантомиме, словно бы желая что-то выразить. Он вертел кубик перед глазами, наслаждаясь послушным перепрыгиванием вещей. Белые слоники с их немецкого(?) радиоприемника покорно выскакивали в окно; в посеревшей листве купалась фарфоровая статуэтка балерины, к лицу балерины тянулся мордой пластмассовый олененок… Над ним оранжевой сферой зависал абажур, дергался, как на ниточке, угрожая накрыть собой весь этот голубой театр. Но так и не дотягивался до балерины и до слоников, и мальчик откладывал кубик с тревожным чувством того, что театр будет продолжаться там без него.
Но это воспоминание так, пустяк. Настоящие же воспоминания – о моментах пробуждения. Они-то и есть жизнь, они-то и важны.
Интересно в этом смысле, что следующий эпизод опять связан с Сашей. Если все же принимать в расчет некий умысел судьбы, то этот был уже вовсе из ряда вон и не делал чести ни ее вкусу, ни чувству меры.
Они с Сашенькой увидели друг друга в бане.
Какой же он, должно быть, еще маленький был, если в баню ходил с матерью, и стало быть глаза его еще не были открыты для женской наготы.
В баню ходили рано, к самому открытию. На стенах, пригревшись за ночь, спали тараканы. Они смотрели в разные стороны, словно сухие блестящие брызги. Мать обливала их из шайки кипятком. С этого и начиналась баня.
Он садился на скамейку, которая не походила на теперешние, мраморные, а вся была какая-то пестрая, словно из орехов, залитых коричневой смолкой. Похожа на плитку казинак. Шайки гремели, как неведомые ему музыкальные инструменты, глухо звучали голоса.
И вот в этот банный гул отворилась дверь и вошла Сашенька. Взглянув на нее, он вдруг впервые туманно постиг смысл того, что они оба нагие. И что оба они разные. И что уж совсем непонятно – ему стало стыдно своей наготы.
Сашенька смотрела на него, улыбалась и ничуть не собиралась прятаться. Он же, глядя на Сашу, вспомнил вдруг, как они с мальчишками весной снимали с ольховых веток кору, нежно-зеленую, почти белую изнутри. Под корой обнаруживалась сама ветка. Она была гладкая, сочащаяся, с приоткрывшимися вдруг изгибами и плавными углублениями. И понял он тогда, что это красиво.
ДЕЛО, ОДНАКО, В ТОМ, была ли там в бане действительно Саша. Чем дальше он уходил от этого дня, тем меньше в нем оставалось уверенности. Как и в том, с Сашей ли он боролся за бабочку.
Эти воспоминания память вложила в него уже потом, когда он точно знал, что Саша – это Саша. И они стали один к одному. Но нет-нет, и думал: а что, если все же не Саша?
Тогда ведь и всего выстроенного в воображении здания не было, или оно должно было бы в этом случае быть другим. В его комнатах можно, конечно, жить, принимать друзей, испытывать радость с женщиной, но чего-то оно будет всегда лишено. Первоначальной простоты замысла, что ли? За день в нем должны скапливаться необъяснимые запахи, а по ночам сниться дурные сны.
Сама Саша, кстати, не помнила ни куста с бабочкой, ни бани. В ее воображении вставало что-то совсем другое, чего, в свою очередь, не помнил он. Например, медношерстный ирландский сеттер с заиндевевшей мордой и глазами, не умевшими выражать радость. Они почему-то вместе играют с ним, прижимаются к его жестким дымящимся бокам, пролезают под животом и садятся на спину. Вкус закушенной варежки, запах собачины и снега – новогоднего цирка.
Как ни старается, он не может этого вспомнить. Во всей жизни он знал только одного сеттера, который принадлежал отцу его школьного приятеля. Тот погиб где-то на Дамбае, и даже тело его не вернулось в дом. Когда кто-нибудь из друзей приходил навестить убитую горем мать, собака с лаем бросалась на звонок. Она кусала пришедшему ботинки, визжала, подпрыгивала к лицу, шумно принюхивалась и, скоро убедившись в ошибке, скорбной трусцой убегала в глубь коридора. Однажды, бросившись, как всегда, на звонок, она отчаянно рванулась мимо пришедшего в приоткрытую дверь и больше не возвратилась.
Но этот сеттер никак не мог быть тем, о котором вспоминала Саша.
НА МОЕМ ПОДОКОННИКЕ ЦВЕТУТ ЯБЛОНЕВЫЕ ВЕТВИ. Вчера я нарезал их в купчинском саду. Время от времени я подхожу к ним. Тот цветок, который накануне начал раскрываться, уже смотрит на свет реснитчатым глазом. Вокруг еще несколько матово-зеленых мохнатых бутончиков. Часа через два бутончики побелели, потом вздулись, подхожу – один из них уже выбросил белый лепесток.
Жизнь моя видится мне такими же вспышками и эпизодами, как и те изменения, что происходят с ветками, вставленными в бутылку, из которой еще вчера я пил молоко.
Все дело, как известно, в соотношении частей. Может быть, поэтому мне вспоминается сейчас та часть жизни, в которой никогда не было Ее. Вернее, в которой Она была без меня.
Я ВИЖУ СВОЙ ДВОР НА ФОНТАНКЕ, один из самых старых в Ленинграде. Кажется, я мог бы написать о нем оду.
Еще до революции в нашем дворе располагались солдатские казармы. Два огромных серебристых тополя в саду были в ту пору подростками, а роскошного сада вокруг них, быть может, и вообще не существовало. Возможно, раньше на месте сада находился плац или солдатские беседки с углублениями для костра.
Тыльной стороной двор выходил на Загородный проспект, как раз к тому пустырю перед ипподромом, на котором совершалась гражданская казнь Чернышевского. Теперь на этом месте спиной к ТЮЗу сидит на огромном стуле Грибоедов и сквозь пенсне без стекол вглядывается в проезжающие трамваи.
Двор был буквально перенаселен прошлым. До самого конца пятидесятых часть двора занимал пересыльный пункт, или, как мы его называли, «пересылка». Отсюда в годы войны солдаты уходили на фронт. Здесь в блокаду мама стирала военным белье и получала за это миску похлебки. Немцы бомбили этот дом с особой прицельностью – все-таки воинская часть. Однажды, пройдя два этажа, бомба упала в нашей комнате и… не взорвалась.
Мать не знала, что благодарить она должна наших военнопленных, которые изготовляли такие вот не разрывающиеся снаряды.
Нам нравилось, прицепившись к грузовику, пробраться в расположение «пересылки». Особенно на воскресное кино. Солдаты принимали нас добродушно, сажали на колени, угощали семечками. Любимые запахи моего детства: запах кирзы, махорки и терпкий запах потного обмундирования. Так же, вероятно, пахло от моего отца, когда его батальон уходил с «пересылки» на фронт.
Наши солдаты, наверное, совсем не думали об этом, не подозревали они и о том, что когда-то на их месте стоял мятежный Московский полк. Да и мы узнали историю двора случайно, когда к нам приехали снимать фильм «Две жизни».
Жизнь двора между тем шла своим ходом. Около дровяных сараев на пыльном пустыре мы играли до изнеможения в футбол, пока посланный свечой мяч не пропадал в незаметно потемневшем небе, давая понять, что день окончен. В то время как матери наши стирали в прачечной белье, мы поджигали в лужах карбид или, забравшись на доски, жевали вар, который, по рассказам отца, партизаны использовали вместо зубного порошка. В августе, не дождавшись срока, мы дружно обирали деревья полуспелой кратеги, набив карманы и рты мучнистой несладкой ягодой.
При дележе деревьев нередко возникали потасовки, в которых я всегда проигрывал. Но в целом, живя в окружении ватаг с Лештукова и Ивановской, мы держались сплоченной стаей. Иногда между ватагами случались крупные выяснения отношений, и тут я становился неузнаваем: пропадали страх и неуверенность, а на смену им приходило вдохновение и желание бороться за коллективную справедливость.
Взрослую жизнь мы наблюдали до времени со стороны. Помню идиллические сборы взрослых на кухне за вечерним лото. Создавая дилижанс из стульев и одеял, мы слышали, как позывными спокойствия и уюта до нас доносились названия лотошных бочонков: «туды-сюды» – 69, «топорики» – 77, «барабанные палочки» – 11. А с каким воодушевлением выходили мы всей квартирой на покатые крыши домов, забирались в сохранившиеся с войны наблюдательные будки, чтобы увидеть первый искусственный спутник Земли.
Жизнь «коммуналки» при этом совсем не была похожа на идиллию. Вскипевшие семейные страсти нередко из комнат перемещались на ту же самую кухню. Сколько глухих размолвок, сколько ссор, заканчивающихся драками. Были здесь местного масштаба Тартюфы и усердные Яго, страдающий печенью полковник, из бравого вояки превратившийся к старости в мизантропа, и образумившаяся Манон, которая на наших глазах изумительно легко преображалась в домашнего тирана.
Метаморфозы этого мира были непостижимы, порой дики. Днем, например, мы любили заходить в столярку к Матвею, подышать запахом древесного спирта, выклянчить какой-нибудь звонкий брусочек. Не было человека добрее, чем Матвей, когда он работал. Но мы знали уже и другого Матвея – озверевшего от водки, бегающего с топором за женой и обещающего порешить ее.
Вглядываясь утром в лицо Матвея, мы пытались уловить в нем признаки вчерашнего преображения и не могли.
Но вся эта частная, непонятная, страстная жизнь словно бы умалялась и меркла два раза в год – осенью и весной, когда двор выходил на субботник. Что-то детское появлялось в лицах людей, словно эти женщины в окопных ватниках, мужчины в офицерских галифе, – каждый, кто брал лопату, погружался памятью в необыкновенные времена.
Да и для нас это были счастливейшие часы. Бегая с носилками, разжигая костры, забрасывая землей саженцы, мы чувствовали себя так, будто принимали участие в событии мировой важности.
Я уже знал и о Чернышевском, и о братьях Бестужевых, выводивших из нашего двора Московский полк на Сенатскую площадь, и о военнопленных, изготовлявших на фашистских заводах невзрывающиеся бомбы; в день субботника я словно оказывался в их ватаге.
С наивной хитростью оттягивали мы момент возвращения в полумрак комнат. Казалось, день этот будет тянуться месяцы, годы и никогда не кончится.
Но он, разумеется, кончался.
Я возвращался в жизнь, в которой не видел ни пафоса, ни смысла. Учеба наскучила. Я выстроил оборону из четверок, и меня не трогали. Книги читал беспорядочно. Закадычных приятелей не было. Отец умер, когда мне не исполнилось и двенадцати лет, а матери, не утратившей надежды на устройство своего счастья, стало не до меня.
Образом этой комнатной жизни представляются мне мглистые вечера. Я один. За два-три моста от нашего дома прямо напротив окон опускается в Фонтанку обморочное солнце. Пыль тонким лешим перемещается по квартире. Мне грустно. Из вечерней мглы одно за другим возникают фантастические видения. Иногда я воображаю себя разведчиком из кинофильма, спасающим попавших в плен товарищей. Постепенно я снова преисполняюсь отваги и совершенства, чувствую свою призванность, и от подвига меня отделяет мгновение. До сих пор мне кажется, что в эти вечера Она уже была со мной.
Однако как же долго тянутся эти вечера… Скоро восторг сменяется чувством одиночества. Поначалу я и в нем пытаюсь найти какую-то отраду, но ненадолго. Мне скучно с самим собой. Из темноты смотрит магниевым глазом репродукция «Последнего дня Помпеи» – след тяги родителей к красоте. Мне страшно заснуть. Кажется, все эти статуи и колонны обрушиваются на меня, и только усилием воли я удерживаю их на полотне.
Страх этот сохранился на долгие годы. Я боролся со сном, пока он насильно не сваливал меня. Но уже через мгновение вновь пробуждался в потном испуге оттого, что уже похоронен под римскими обломками.
Не открывая глаз, я прислушивался к звукам. Сквозь двери слышался одушевленный ропот и похрапывание воды из плохо прикрытого крана, громкое, как хруст грецкого ореха, потрескивание кирпичей в остывающей печке… Я начинал ощущать драгоценную работу своих легких, чудодейственную способность слуха и с новой остротой – что все это когда-нибудь исчезнет.
Когда мать уходила на работу, я вставал и замирал против зеркала, которое до краев было наполнено утренним светом. Лицо виделось неотчетливо, над губой был пушок, пуговицы куртки блестели головками львов. Я представлял, что меня уже нет, а это мой портрет, то есть тот я, которого уже не было и которого поэтому я мог бесконечно жалеть и любить.
САША НЕ ПОМНИЛА, когда это в ней определилось и произнеслось впервые, что она Его любит. Конечно, когда-то это началось, но оттого, что она не умела вспомнить начала, ей иногда казалось, что она прямо-таки родилась с этим, впервые с этим чувством и проснулась к жизни.
Его двор был минутах в двадцати от барака, где жила она со своими родителями. Она приходила туда к Ленке Шпаликовой, с которой занималась до пятого класса в хореографическом кружке. Там она и увидела его впервые.
Небольшие его серые глаза на правильном лунообразном лице казались всегда грустными, а, может быть, рассеянными. Он словно что-то отыскивал вдалеке. Когда взгляд его падал на Сашу, и они встречались глазами, тело ее покрывалось колючим жаром. А он как будто спрашивал: «Ты не притворяешься? Все притворяются. Чтобы не скучно было. Сейчас вот и я начну». И тут действительно начиналась такая трепотня, что хотелось то смеяться, то затыкать уши.
Но глаза его подводили.
А эти мягкие волосы, которые ветер укладывал и трепал, как ему вздумается…
Может быть, тогда она впервые поняла, что любит его. Что, наверное, любит. Случилось это классе в пятом или шестом.
В бараке под ними жила бабка Вера. Жила она одиноко, ходила в просторных коричневых и черных платьях. У нее, кажется, не было родных. Сына, погибшего на войне, вырастила она одна и теперь получала за него пенсию, на которую и жила.
Сколько Саша ее помнит, бабка Вера копила на матрац. Принеся домой пенсию, она отдавала первым делом долг процентщице Капитонихе, а остальные раскладывала всегда одинаково:
– Это на матрац, а это на леденцы.
На леденцы значило у нее – на жизнь. Хотя леденцы бабка Вера действительно любила и даже со своей маленькой пенсии угощала ими ребят. «Щас вот, погоди», – завидев кого-нибудь из детей, говорила она и, улыбнувшись голубенькими глазками и насупив седые усики над губой, лезла в карман.
Эта приговорка хранилась у нее на все случаи.
– Бабка Вера, у тебя нет случайно фитиля для керосинки?
– Щас вот, – скоро отзывалась бабка Вера и скрывалась в комнате.
– Бабка Вера, неси тарелку, у нас сегодня суп с клецками.
– Щас вот, – с удовольствием отвечала та и бежала за тарелкой.
И даже перед сном, уже в темной комнате, с кряхтеньем устраиваясь на постели, бабка Вера мечтательно приговаривала:
– Щас вот, щас вот…
Саша дружила с бабкой Верой. Всякий раз, как та помоет в тазике голову, а потом просушит волосы перед раскрытой печкой, стуком швабры в потолок она звала к себе Сашу расчесать, как она выражалась, кудри. И вот однажды, когда бабка Вера сидела распаренная перед печкой, а Саша вдоль бабкиной спины проводила по волосам толстым гребнем, что-то ей как будто вспомнилось. И тогда она вдруг со всей ясностью подумала о Нем. Ей захотелось, чтобы он провел гребнем по ее волосам так же, как она делает это сейчас бабке Вере, и тут же стало стыдно этого желания, отчего оно разгорелось еще сильнее.
– Баб Вер, – попросила Саша, – а проведи-ка мне вот так гребешком.
Баба Вера улыбнулась так, как будто для нее не составлял секрета смысл этой просьбы.
– Садись-ка, – сказала она, – щас вот. – И, тяжело встав со стульчика, посадила на него Сашу.
Саша закраснелась от жара, доходившего волнами из печки. Вслед за прикосновением бабкиного гребня по голове начали бегать мурашки и добегать до плечей, отчего она ими легонько передергивала.
Небо еще догорало за окном, словно обугливая стволы и ветви деревьев, и костерок в печке попыхивал: то вздернется пламенем, то побежит ниткой вдоль последней головешки. Саша, не уставая, поворачивала голову то на огонь, то на закат, словно сравнивая, какой из них быстрее гаснет.
– Ну, хватит, что ли? – спросила, наконец, бабка Вера. Саша засмеялась, повернулась на стульчике к бабе Вере и уткнулась лицом в ее толстый живот.
Саша так привыкла к мыслям о Нем, что будто он и действительно всегда был рядом. Забудется, например, у окна – дождевые капли слетают с крыши, разбиваются о булыжники, зависают серебряными груздями – и покажется, что они видят это вдвоем. Увидела однажды, как ест Капитонихин козел: отрыгнет кусок и снова потянется к нему длинной мордой, и затрясет мелко бородой, пережевывая; засмеялась на эту мерзкую повадку, приглашая и Его вместе посмеяться. А кругом пусто.
Тогда она, странно сказать, начинала представлять себе их будущее вдвоем, какую-то сельскую утреннюю дорогу, по которой они идут рука об руку. Будущее – единственное из времен, которое протекает согласно законам высшей справедливости.
С наслаждением думала Саша о том, как будет рассказывать Андрею обо всем, что происходило с ней, пока они еще жили каждый своей отдельной жизнью. Например, о буйных, нелепых соседях с обидной фамилией Суки.
Однажды в новогоднюю ночь Суки позвали их посмотреть на елку с зажженными свечами. При них поставили елку на патефонный диск, дядя Ваня зажег свечи и пустил ход. Обернувшись пару раз, как сарафанная красавица, елка тут же вспыхнула, и они вместе тушили ее половиками.
Она хотела рассказать Андрею о Капитонихе, у которой в комнате висит доска с меловыми записями долгов соседей. Саша однажды прокралась, пока Капитониха готовила свинье корм, и стерла все долги мокрой тряпкой.
Саша мечтала о том, что когда они поженятся, то обязательно купят бабке Вере матрац и детям своим все время будут покупать шоколадное масло, а фикуса у них в комнате не будет. Потому что вчера она узнала, что он вредный – по ночам выдыхает углекислый газ и можно задохнуться.
Все, что понравится ей, она тут же прописывала в их будущей жизни. У соседей стали появляться шелковые абажуры – она решила, что у них в доме будет абажур. Потом стали входить в моду пикейные одеяла, и она мысленно загнула еще один палец. Чернобурки, румынки, крепдешин, пальто с пелеринкой, которое купили Маше Зайцевой, – все это она примерила на себя. А ему они сразу же купят двухколесный велосипед. Она уже знала, что он мечтает о велосипеде.
Саша проявляла чудеса смекалки: льстила, выслеживала, входила в доверительные отношения с его соседями, друзьями и с друзьями его друзей и скоро знала о нем все, что в силах знать один человек о другом, не умея проникнуть в его мысли и сны.
Но пришел день, и Саше открылось, что то, в чем привыкла находить она столько радости, называется несчастьем.
День этот запомнила она на всю жизнь. За руку пришли сразу две беды.
По дороге из школы ее догнал соседский Толик – долговязый парень с рыжими ресницами и бровями, по прозвищу Моль. Покрываясь на ее глазах крупными пятаками, под каким-то дурацким предлогом он открыл ей тайну родителей. Так Саша узнала, что живет с неродным отцом.
Никогда не забыть ей эти пятаки на рыжем лице и подрагивающие в улыбке червячки губ. Как ни странно, больше всего угнетало Сашу то, что это известие принес ей Моль. Вспомнился эпизод из детства. Ей было лет семь, ее не выпускали на улицу после воспаления легких и устроили баню прямо в комнате – в оцинкованной ванночке. Вдруг раскрылась дверь, и из коридора потянуло сырым холодным воздухом. Она обхватила руками плечи и обернулась: в дверях лежал притворно упавший Толька-Моль и улыбался. Может он из вредности сделал это, чтобы напустить в комнату холод? Никогда в жизни, даже к Капитонихиному козлу, не испытывала она такой брезгливости. И надо же было случиться, чтобы именно Моль рассказал ей сегодня правду об отце.
Дело было весной. В воздухе арбузно пахло оттаявшей стружкой и опилками, которые наносило ветром с «Катушки».
Саша пыталась что-нибудь подумать о своем родном отце. Настоящей в ней была сейчас только обида на родителей. Она понимала, что никогда не посмеет спросить их о том, что узнала сегодня, и от этого становилось еще тяжелее.
Не заходя домой, Саша пошла к пристани. С Невы дул ледяной ветер. Он мгновенно прогнал из тела последнее тепло, и глаза ее сроднились со всем на этом выстуженном берегу. В стороне с баржи сгружали гравий, высвеченный солнцем до последнего зернышка. Рядом возвышалась желтая гора песка. Еще недавно они съезжали с нее на санках. Двое мужчин большими сачками ловили с торцов корюшку. Мальчик разбивал булыжником кирпич. Все они, и несколько берез на пригорке, и поваленный дуб, и перевозчик в лодке с красными руками существовали как бы отдельно в этом ледяном сквозняке, стараясь безуспешно сохранить остатки тепла внутри, и все поэтому были близки и понятны ей.
Ютка и Шиндя тоже оказались на месте у перевоза со своим раскрытым деревянным чемоданчиком. Он – маленький, в армейских галифе из диагонали и в ватнике, она повыше, худенькая, в лисьей короткой шубке с улыбающимися плешинами, в резиновых полусапожках. Так и остались они в памяти Саши виньетками детства, присевшие как грачи у своего переносного магазинчика.
Сегодня в чемодане у них Саша разглядела красные глиняные свистульки, раскидаи, бумажные веера и петушки из жженого сахара на палочках от эскимо.
Она купила одного петушка и стала сосать его. Скоро Первое мая, подумала девочка, школа пойдет на демонстрацию с собственным духовым оркестром, который будет играть недавно разученную песню «Солнечный круг», и они станут петь ее до хрипоты и раз, и два, и три, а мальчишки будут пускать раскидаи.
Почему-то именно эта картина праздника вызвала у нее первые за день слезы. Вдруг вспомнилось, как однажды в ЦПКиО отец купил ей эскимо, а сам полез прыгать с парашютной вышки. Отвлеченная эскимо, она отпустила его спокойно, но, увидев, как маленький отец ползет в середине вышки, заплакала, закричала, умоляя его спуститься. И отец увидел ее сверху, и улыбнулся ободряюще, даже помахал рукой, но не спустился. В тот день ей было просто страшно, и больше ничего, казалось, что отец может разбиться и она останется на газоне одна, с липкими от эскимо руками. Но сейчас, вспомнив это, Саша подумала, что так мог поступить именно неродной отец, родной спустился бы непременно.
Подумав так, она еще сильнее заплакала, но не от обиды на отца, а оттого, что могла так о нем подумать.
Домой Саша вернулась словно бы другим человеком. Слезы высохли. Ей надо было решить пять вариантов к завтрашней контрольной по алгебре. Надо выпустить полетать по комнате щегла. К тому же сегодня ее очередь надраивать веником пол в коридоре.
Но не зря говорят, что беда не приходит одна.
Не успев скинуть в прихожей пальто, Саша почувствовала беспокойство. «Пека, – позвала она щегла, – голубчик, ты что молчишь?» Однако и на голос ее Пека не ответил, не запрыгал с жердочки на жердочку, как обычно. Саша вскочила в комнату, и поначалу ей показалось, что клетка пуста, но, подойдя поближе, она увидела Пеку. Он лежал на спинке, лапки его были поджаты, а восковые крылышки чуть отвалились от тельца.
– Баба Вера! – закричала Саша и бросилась вниз.
Баба Вера, разводившая в корыте щелок, поворотила на девочку снизу светлое лицо, и оно показалось Саше равнодушным.
– Баба Вера, – сказала она со странной, словно навязанной ей улыбкой, – Пека умер.
Ни слова не говоря, покатилась с ней вместе баба Вера, словно пыльный дождевой шарик, к бараку; увидев щегла, прижала к груди руки и две слезинки выкатились из ее глаз.
– Ах, сирото ты мое…
Сашу не оставляли испуг и оцепенение.
– Наверное, он объелся, – сказала она машинально.
– Им объедаться-то, махоньким, нельзя, – согласилась баба Вера, вытирая слезы. – А может, по щеголке стосковался…
– Я хотела к лету выпустить, – сказала Саша.
– Конечно, – закивала баба Вера, и Саша услышала в этом: «Не терзайся, я ж знаю…»
– Щас вот, давай мы его, бедного, схороним, – сказала баба Вера. Она открыла клетку и небрезгливо, нежно вынула из нее Пеку.
Саперной лопатой вырыли они у барака ямку, завернули щегла в тряпочку, присыпали землей и могилу приложили камнем, чтобы коты не разрыли.
– Им только дай, – сказала баба Вера, и видно было, что котов она тоже любит и не сердится на них.
Саша бродила возле барака, и нехорошо ей казалось ступать на землю, в которой лежал теперь Пека. А на земле этой щепки сосновые, и первая травка из нее потянулась, и металлические пластинки буквой Ш валяются, разбросанные, и кое-где куриным пометом как изморозью их обметало. Смотрит Саша на землю и не в силах взгляда от нее оторвать.
То, что сообщил ей сегодня Моль, казалось, навсегда отняло у нее ее легкость, но она чувствовала, что как бы и укрепило ее. Но нет, нет – она забыла о Пеке, о смерти. Теперь сама ее готовность жить, любить, терпеть, прощать показалась Саше странной и ненужной.
Глупые куры, вздергивая шеями, прохаживались возле Пекиного камня, и надо было бы их отогнать. Но она не сдвинулась с места.
Где-то в районе мыловаренного завода, возвращая ей слух, сипло свистнул паровоз. Птицы перед наступлением темноты были особенно возбуждены и торопливы. Артемовы по-летнему распахнули окно, и из него доносились звуки трубы. Она еще не успела принять то, что вернуло ей зрение и слух, но почувствовала, как в душе что-то начало оттаивать и легонько заныло. И тут впервые за целый день Саша вспомнила о Нем, и уже одно то, что она может сейчас увидеть Его, представилось ей спасением.
Саша нашла его в саду. Их сидело человек десять на сдвинутых скамейках. Они подбрасывали по очереди спичечный коробок, ожидая своей очереди играть в настольный теннис «на мусор».
Первой ее заметила Ленка Шпаликова.
– Привет, – сказала Шпаликова. Была как раз ее очередь кидать коробок. Она подцепила его ногтем большого пальца – коробок перевернулся и упал этикеткой вниз.
– Пять, – сказала Ленка и подцепила коробок еще раз. – Пусто. Ты будешь? – обратилась она к Саше.
Саша отрицательно покачала головой.
На Нем был сегодня с широким воротником серый свитер, в котором он ей особенно нравился. Он то и дело прятал в воротник подбородок. Когда она отказалась играть, он посмотрел на нее своими грустными глазами, и Саша попыталась в ответ улыбнуться. Но улыбка ее опоздала – он уже подбрасывал коробок.
– Ого, двадцать пять! – воскликнул кто-то, когда его коробок стал на попа. – Давай еще.
– Десять, – сказал Он.
– Даешь! – протянул тот же завистливый голос.
– У нас как в швейцарском банке, – улыбнулся он.
Саша подумала, что совершенно не знает, какие, собственно, у них с Ним отношения. Может ли она, например, сейчас подсесть к нему, отозвать в сторону или нет. И поняла, что не может. Мама бы сказала, что они просто малознакомые люди. Саша не посмела бы даже пригласить его на свой день рождения.
Но кто же тогда ее близкий знакомый?
«Пусто». – «Тоже пусто!» – «Пять!» – слышала она голоса, которые казались ей такими же неодушевленными и бессмысленными, как удары теннисного шарика о ракетки.
– У меня Пека умер, – сказала вдруг Саша тихо. «Ну же, ну же, ты слышишь?!» – крикнула она про себя. Он один из всех оторвал глаза от прыгающего коробка, будто не задевая чужого слуха, слова ее перенеслись прямо к нему.
– Эй, мастера, какой у вас десяток? – спросил Дзюба.
– Игра до двух, – ответили ему. И тут же: – Все. Следующий.
Следующим был Он. Разыгрываясь, он то и дело, как бы прося прощения, поглядывал на нее. Саша смотрела на него не отрываясь.
– Кто такой Пека? – спросила Шпаликова, натягивая юбку на свои угловатые коленки, из-за которых год назад ее выгнали из балетной школы. Саша повернулась к ней недоуменно – откуда она знает про Пеку? Потом сказала сдавленным голосом:
– Щегол. – И тут же снова повернулась к Нему. Он внимательно взглянул на нее, но уже шел счет, он был увлечен и на нее больше не посматривал.
– Птиц держать в доме – варварство! – сказал Дзюба. – Эй, мастера, какой счет? Сейчас возьмет ракетку король пинг-понга, – добавил он, явно имея в виду себя.
– Пунк-пинга, – иронически сказал Он.
– А собак – не варварство? – спросила Ленка, зная, что у Дзюбы живет овчарка.
– Собака другое дело. Собака – друг человека!
– А Дзюба – друг собак, – добавил кто-то ехидно.
– А по самовару? – вскинулся Дзюба.
Саша почувствовала, что вот-вот разрыдается.
«Господи, неужели он не понимает, что я к нему пришла, – думала она. – Ну, проиграй, проиграй! Что тебе стоит? Ну, пожалуйста!»
Но он выиграл. Обыграл он и короля пинг-понга, и Ленку Шпаликову, и Славика Данакина, который, считалось, играл гораздо сильнее его. Он был в азарте, раскраснелся, скинул свитер. Народ стал понемногу расходиться, оставив надежды на реванш.
– Этот теперь, пока под стол не свалится, своего места не уступит, – заметил кто-то неодобрительно.
– Пошли, что ли? Уже шарика не видно, – сказал очередной проигравший.
Но тут вскочил Данакин, крикнул:
– Контровую?
– Битте-дритте, – сказал Он.
Небо темнело, подрагивая зелеными всполохами. Ветер утих, и стало неожиданно тепло, даже душно.
Саша вышла на улицу и увидела, что в дальнем конце ее, прямо на асфальте стоит огромная, с обеденный стол, луна. Фонари копошились на ней белыми светлячками. Луна была совсем близко, и Саша подумала, что до нее, наверное, можно доехать на трамвае. И тут, словно в ответ на ее мысли, одинокий вагончик сбросил у Сашиных ног сноп искр и раскрыл двери. Она вскочила в пустой вагон. Как только вагон тронулся, луна начала медленно подниматься над улицей.
У КОГО ИЩУ ПРОЩЕНИЯ? ЧЕГО ХОЧУ? Кто наградил меня этим поздним зрением, позволяющим сочинять правдоподобные небылицы о той, которая была для меня то тайной, то тоской, то мыслью, то прихотью, то раскаянием? Хочу заплакать, а тороплю слово к слову.
Потом кто-нибудь поймет причину моей смелости или трусости, и окажется, быть может, что только в ней, в этой причине, все дело. Но и тогда, я думаю, не поймут возгласа датского принца, притворяющегося безумным: «О боже! Заключите меня в скорлупу ореха, и я буду мнить себя повелителем бесконечности, только избавьте меня от дурных снов».
…Есть воспоминания, подобные навязчивому сну: чем больше хочешь забыть их, тем чаще они проникают в им одним заметную щель и вновь возникают перед тобой – до жути осязаемые и оснащенные подробностями.
Я болен. Зимой у меня обнаружили порок сердца – следствие перенесенного на ногах гриппа. Три месяца пролежал я в постели, не чувствуя даже легкого недомогания и то и дело собираясь вскочить и пробежаться по комнате. Только боязнь того, что я буду веревками привязан к постели, как обещали врачи и родители, останавливала меня.
Я сходил с ума. Язык уже с утра был шершавым от лекарств, будто я наелся хурмы. Бодрая песенка: «Бери коньки под мышку – и марш на каток!» – действовала сильнее пыток. Я стал выключать радио. Но тут же начинал слышать отрывистые голоса мальчишек за окном. Они возникали и исчезали, как брошенные в пропасть камешки. Яблочный запах снега из форточки обжигал ноздри.
Оставались книги. Читал я почему-то украдкой, как будто и это мне было запрещено. А книги были важные, те, что не по возрасту. «Осуждение Паганини» Виноградова, «На воде» Мопассана и его же «Милый друг». Герои их – гений, философ и любовник – и каждую книгу я воспринимал как их исповедь. Доза этих преждевременных для меня откровений оказалась не смертельной лишь потому, что я, видимо, не все умел понять, казался себе то одним, то другим, то третьим, оставаясь обыкновенным школьником, у которого обнаружили порок сердца.
Комната, в которой я лежал, была длинная и темная. Угол у печки отгораживался вишневой занавеской с белыми цветами. За ней стояла изъеденная древесным жучком фисгармония. Как раз перед болезнью я упросил родителей забрать ее у соседей, собиравшихся выбросить инструмент на чердак.
По ночам из-за занавески ко мне выходил глиняный лысый доктор. Он подолгу разговаривал со мной, брал меня за руку, и мне казалось, что этот огромный улыбающийся доктор зовет меня к смерти.
Ключ ко многим видениям детства утерян навсегда. Не знаю, почему это был доктор, почему он был глиняный. Да и глиняный ли? Если и глиняный, то до обжига глины, пока она еще легко поддается деформации: собрать морщинки на лбу, улыбнуться, совершить плавное движение кистью руки. Но почему я боялся его? Ведь он был добр…
Когда никого в комнате не было, я вставал с постели, садился за фисгармонию, половина клавиш которой западала, и, не имея никакого представления о нотной грамоте, подолгу импровизировал. Уже одним тем, что решался входить за занавеску, я бросал вызов глиняному доктору.
Чувствовал ли я себя в тот момент творцом? Вряд ли. Хотя… Клавиши руководили моими пальцами, фисгармония вздыхала, когда в слепом повиновении ей я погружался в дремучие звуки и вдруг вплывал в быстрое течение случайной мелодии.
Комната, в которой я пролежал всю зиму, с вышитой на белой скатерти девушкой, бесконечно протягивающей мне ложечку с микстурой или манной кашей, с запахами лекарств, густо замешанными на запахе душной герани, – все преображалось музыкой. Тупые удары некоторых молоточков о деку были так же необходимы здесь, как и все остальное.
В эти дни я часто думал о Ней.
Случалось, особенно вечерами, какая-то теплота проходила волной по телу, становилось радостно и уютно, будто я – шарик, удачно попавший в лузу. Зрение начинало играть. Так бывает при высокой температуре: путаются масштабы предметов. Маленький троллейбус за окном катился бесшумно и, казалось, вот-вот въедет на подоконник и обронит на пол лиловые искры. А тени длинных плоских кактусов на занавеске, напротив, напоминали высокий тропический лес, в котором ползают огромные черепахи. Черепахами были непомерно крупные божьи коровки. В комнате прибавлялось теплых коричневых теней, как на старых картинах. Я видел ее картиной комнаты и комнатой, то есть как бы и видел и вспоминал одновременно.
В такие вечера я начинал осторожно искать нужное мне воспоминание. Знал: если правильно вспомнить, радость станет полнее.
Так вот – таким воспоминанием часто оказывалась Она.
Смешно сказать: в эти годы мы еще, по существу, не были знакомы. Я не знал, где она живет, есть ли у нее братья и сестры. О чем она любит думать перед сном – я ничего про нее не знал. Сначала она просто была из круга тех, кого знаешь в лицо, потом перешла в другой, где у всех уже были имена, затем, встречаясь на улице, я стал говорить ей «привет», но не останавливался.
Но вечерами далекость эта казалась неважной, одной из тех преград, которые теряют силу для больных и влюбленных.
Наутро в импровизациях появлялась Ее мелодия, с ней я чувствовал себя в безопасности, она легко побеждала мелодию глиняного доктора.
В марте мне разрешили снова пойти в школу. В первый же день я почувствовал себя в классе чужим. Дело даже не в том, что за непонятными мне шутками стояли какие-то приключившиеся без меня истории, без меня произошли невидимые перемены в отношениях, образовались новые, соперничающие между собой кружки. Главное – я сам был другим. Эпидемические веяния, вследствие которых у всего класса вдруг появлялись щелкалки, изготовленные из фотопленки, или начиналось повальное увлечение Жюлем Верном, который всегда казался мне скучным, теперь мало меня интересовали.
Одноклассники моментально почувствовали это. В первую же неделю меня почему-то не предупредили о намеченном на следующий день срыве нулевого урока.
Наутро один из всего класса я пришел в школу. Во всю жизнь не забуду себя в пустом классе. Я смотрел из окна на кошку, которая нескончаемо долго бежала к мусорным бачкам, оставляя на фиолетовом снегу черную пунктирную дорожку, и чувствовал, что, как только кошка добежит до своих бачков, я расплачусь. Два моих неестественно белых лица отражались в незамерзшей части стекол.
То, что обо мне забыли, было страшнее презрения или насмешки.
В класс вошла Варвара Михайловна, географичка. Она все поняла без слов.
– Ну, хорошо, посиди, повтори пока что-нибудь, – сказала она, наконец. Я услышал в интонации холод и неодобрение.
«За что?» – подумал я тогда.
Запах карболки, мастики, мокрой тряпки и снежного воздуха из окна – запах покинутости и непоправимого несчастья.
Не за Колю Ягудина ли отплакалось мне тогда?…
Помню, что уже в то утро вместе с обидой во мне мелькнуло желание быть как все, окончательно забыть о фисгармонии, снова стать благополучным, любимым и глупым. Я держался еще некоторое время в роли отверженного, но, в сущности, это уже было поражением. Свое повзросление я воспринимал как тайную болезнь. Я ненавидел себя за то, что не могу жить как прежде, что школьная жизнь, о которой во время болезни мечтал я как о счастье, теперь кажется мне обузой.
Настоящая встреча с Ней теперь казалась еще более неосуществимой, чем до болезни.
Я чувствовал себя совершенно несчастным. Гений, философ и любовник, пришедшие ко мне из книг, сбили меня с привычной колеи, но не наставили на новый путь.
И вот, помню, уже перед летом я спустился после уроков, как всегда в стороне от всех, в школьный вестибюль. Солнце, ворвавшись в окна, подняло клубы розовой пыли. Тонкие наши тени пересекали пол и с ртутной проворностью втекали на противоположную стену. Ослепнув от солнца, все говорили громче обычного, смеялись. Девчонки крутились у зеркала. Вокруг меня кипел и извивался веселый школьный ад.
Вдруг между горящими лицами девчонок со светящимся вокруг их лбов рыжим волосяным дымом я увидел в зеркале свое лицо, погруженное в чью-то тень. Оно поразило меня свечечной бледностью. Глаза смотрели угрюмо. Мне показалось, что несколько девчонок с досадой обернулись в мою сторону.
Пытаясь скрыть слезы, я выскочил на улицу. Солнце ошпарило глаза. Я прищурился и увидел ожидающую меня вдалеке маму. Она стояла в старомодном крепдешиновом платье с плечиками, пояском и широкими, еще и ветром вздутыми рукавами. На руке у живота висела большая плоская сумка с громким металлическим замком. Зимой, когда я еще лежал в постели, она сделала новую прическу – корзиночкой, к которой я неосознанно ревновал.
Сейчас же острая жалость к себе неожиданно перешла в жалость к маме.
Мама помахала мне рукой. Я машинально ответил и вдруг (что со мной случилось?) бросился навстречу ей вприпрыжку, поддал кому-то портфелем, пропустив мимо удивленный взгляд, и еще издалека закричал: «Привет!»
От меня разило здоровьем, беззаботностью и уверенностью в себе. Мама должна была подумать, что у ее сына много обожающих его друзей, что все мне дается с лету, и ей остается только гордиться мной.
До сих пор не могу понять, как тогда, на школьном крыльце, родился во мне этот жест, в каких потемках сознания совершился. Одно очевидно – тогда совершилось непоправимое. На школьном крыльце я узнал о существовании лазейки, в которую теперь мог убегать и которую никогда уже не выпускал из виду.
Я бросился наверстывать упущенное за время болезни. Гордость уступила место тщеславию, а оно насыщалось уже только тем, насколько мне удается быть похожим на других и быть из них лучшим. Я брался за все. Как ни далека мне была техника, я, повинуясь моде, стал вместе с другими мастерить радиоприемники, часами простаивал у магазина «Пионер» в поисках ферритов, триодов, панелей и вскоре преуспел в этом деле.
Только перед глиняным доктором я по-прежнему чувствовал себя беззащитным, только при встрече с Ней оставался беспомощен.
Временами мне казалось, что она совсем не замечает меня, и я из кожи лез, чтобы завладеть ее вниманием. При ней я навязывался в заведомо безнадежные поединки и часто побеждал. Я мог при ней перепрыгнуть с одного ряда сараев на другой в том месте, которое еще вчера казалось площадкой для самоубийц. Одно время я стал замечать, что они с подругой подолгу сидят у теннисного стола, наблюдая игру мальчишек. Уговорив приятеля, я стал тренироваться по утрам, до начала уроков, чтобы однажды поразить ее. Но часто, уже бросившись в очередную авантюру, я затылком чувствовал, что она даже не смотрит в мою сторону.
Однако куда было страшнее, когда она все же обращала на меня внимание. Почему-то это случалось именно в те моменты, когда я забывал завоевывать ее.
…Мы разбиваемся на команды для игры в казаки-разбойники. Уже все парами подошли к атаманам: «Мать, а мать – чего тебе дать?…» Остались почему-то только мы. Она берет меня за руку и тянет в сторону:
– Или ты не будешь?
– Буду.
Она смотрит на меня, будто выпивает глазами. Взгляд – долгий глоток. Потом, словно от перенасыщенности, глаза наполняются усталостью, почти страданием и умирают под большими веками, но уже через мгновение возникают вновь для нового долгого глотка.
Я теряюсь под этим взглядом, я кажусь себе обманщиком. Мне радостно, но еще больше страшно. Я уже забыл, что вступал вместе с ней за вишневую занавеску. Выходит, боялся я не ее взгляда, а себя самого?…
И вот мы стоим с ней перед атаманом, и уже она говорит:
– Мать, а мать, чего тебе дать – кошку или собаку?
И нас, только что брошенных волной друг к другу, атаманской прихотью разводит по враждебным командам, и мой названый враг смотрит на меня из-за пограничной черты своим невозможным взглядом.
В КЛАССЕ УЖЕ СВИРЕПСТВОВАЛА ЭПИДЕМИЯ ВЛЮБЛЕННОСТИ. Влюблялись бурно и невпопад. Андрей внезапно влюбился в Фаину.
Фаина жила на Бородинке в отдельной квартире. Отец ее был доктором биологических наук, а мать… Мать – просто красивой женщиной.
Как-то по весне его вместе с Леной Винокуровой послали навестить долго болевшую Фаину. Лена на следующий день сама свалилась в постель, и он, не найдя попутчика, отправился один.
Встретила его Фаинина мать, в переднике, с белыми от муки руками. Лицо ее излучало радость, отсвет которой случайно попал и на него, и ему сразу же захотелось подольше задержаться в этом доме.
– Проходи, – сказала Фаинина мать, прикрывая дверь локтем и не переставая улыбаться. – Фаина в этой комнате. Только осторожно – там темно.
Он представил, что увидит сейчас лежащую в постели Фаину и рыбу-ночник и у ночника пирамидку лекарств. Но не было ни ночника, ни лекарств, ни даже запаха лекарств, а посреди комнаты в ванночке плыл кораблик с елочной свечкой вместо трубы. Он еще не успел разглядеть Фаину, когда услышал ее голос:
– Привет. – Андрей робко подошел к кораблику. – Садись прямо на ковер, – сказала Фаина. – Ну, поворачивай же его ко мне. Это вчера папа из ГДР привез.
Он повернул упершийся в стенку кораблик, и тот сам поплыл к противоположному берегу, где его ждала Фаина. Под днищем кораблика слабо светился сумрак воды.
Они играли, изредка перекидываясь словами.
– Математичка наставила вчера восемнадцать двоек, – сказал он.
– Она, по-моему, просто истеричка, – отозвалась Фаина равнодушно.
– Опять кричала, что мы катимся по наклонной плоскости.
– Ну да, – жеманно усмехнулась отличница Фаина.
– Какая-то тупость, – сказал он.
– Ее, конечно, жалко, – сказала Фаина. – Попробуй научить чему-нибудь Дзюбина. Легче научить зайца зажигать спички.
– А что у тебя? – спросил он.
– Не знаю, – Фаина пожала плечами. – Субфибрильная температура держится.
Он не знал, что такое субфибрильная температура, но переспрашивать не стал.
Кораблик время от времени подплывал к Фаине, освещая ее склоненное лицо. Оно было матовым и почти несуществующим. Казалось, свет и темнота, пока кораблик дрейфует в его водах, заново придумывают его, добавляя в него все новые и новые черточки.
– Ну, все, хватит, – сказала вдруг Фаина и задула свечку. Лицо мгновенно исчезло, как будто подтвердив, что и впрямь было колеблющейся выдумкой.
Щелкнул выключатель, и он увидел Фаину в домашнем фланелевом халатике, румяную, в пятнах от хрустальных камешков люстры. Это была первая девочка из класса, которую он увидел в домашней обстановке. Халатик его доконал.
Он принялся тупо разглядывать стенку оцинкованной ванны, которая напоминала ему бок небрежно очищенной рыбы. Фаина стала показывать комнату: это папина библиотека, «Жизнь животных» Брема, Диккенс, ну и всякое… Это диорама какого-то там восстания – папе китайские студенты подарили. Это…
– Бери конфеты. – Конфеты были, видимо, тоже немецкие, с одеколонным привкусом. Этот одеколонный привкус, как и все в комнате и в Фаине, показался ему необыкновенным.
Стол был покрыт бархатной скатертью с вышитыми сценами охоты.
Их позвали пить чай. Игорь Семенович из-под нависающих косматых бровей посматривал на них весело и что-то рассказывал про Германию. Андрей уже в тот вечер не мог вспомнить что. Помнил приятно надтреснутый голос и почему-то фразу:
– Что же меня убеждать, например, что сероводорода нет, когда, если пукнуть, я первый ощущаю его запах. – Наверное, оттого запомнил, что никто даже в шутку не укорил Игоря Семеновича за этот детский прозаизм. У них в коммуналке было принято держаться более чинно. Эта чинная корочка проламывалась только в моменты ссор. Так же как не мог он вообразить подобный разговор у них на кухне: невозможно было представить, чтобы в Фаининой семье ссорились так, как ссорятся его соседи. Вместо крика и ругани здесь, наверное, происходят иронические пикировки. И болеют в коммуналке совсем иначе – тяжело и коротко, – не так, как Фаина.
О чем-то еще они говорили в тот вечер, о чем-то… Да. Тогда только что прошел фильм-опера «Евгений Онегин».
– Тебе понравилось? – спросили его.
– Да.
– И кого же тебе больше в этой истории жалко?
– Онегина, – ответил он неожиданно для себя.
Голос Игоря Семеновича зазвенел:
– Ты, брат, не иначе, родственную душу пожалел.
А по улице мел сухой снежок, и ветер фантазировал на ледяном асфальте.
Андрей словно бы выпал из Фаининой квартиры в томительную паузу дня, в мерцающие весенние сумерки. Вода в Фонтанке лилась выпуклым светом. У театра Горького зажглись два фонаря. «Не иначе, родственную душу пожалел», – повторял он, смутно ощущая в этих словах впервые открывшееся ему право на характер.
Ад влюбленности, как и полагается, имел свои круги, в которые была заключена вся тогдашняя жизнь. Фаина была только одним из них.
У нее были черные блестящие глаза и руки, полные у локтей. Она производила ими жеманные движения, поправляя мешавшую ей резинку нарукавников. Ему хотелось схватить эти полненькие локти и больно стиснуть их.
Однажды в вагоне электрички, просвеченном солнцем и наполненном серой пеной от пробегающей за окнами листвы, он ощутил запах, наполненный воспоминанием о счастье. Не сразу заметил он в руках у девушки с сонными глазами букетик пламенных флоксов и, только выйдя на перрон, вспомнил, что так пахло в Фаининой квартире.
Круги ада… Это и девушка с флоксами, уплывавшая от него в окне электрички, и одноклассницы в белых футболках, которые бегут вдоль шведских стенок, отбрасывая в стороны ноги; это запретные игры в «бутылочку» с обжиманиями и поцелуями в жестких кустах, это поющая за стеной соседка, с которой только что пил на кухне молоко с колотым сахаром, это попавший на глаза черноморский рапан с глянцевито-эластичным зевом, от которого вдруг приливает к лицу жар. А сладкий ананасный запах липовых почек, приведший их однажды с приятелем к низким окошкам раздевалок школьного бассейна? Словно равнодушные жуки, бродили они около них, нащупывая ослепительную щель. То, что они увидели там, надолго повергло их в молчание и дрожь. Все это пока не имело названия, как не имело еще отношения к душе.
Все словно бы в заговоре против тебя, все обращается к инстинкту, зазывает блаженством, словно вода под обрывом, и кричит: «Не будь дураком, прыгай!» А эхо отзывается: «Ату его!..»
Хитрые и похотливые невольницы из «Тысячи и одной ночи», Митина любовь, отданная в шалаше деловитой крестьянке, и, конечно, зачитанный до дыр Мопассан, в историях которого участвовали, сами того не зная, десятки иногда лишь мельком виденных искусительниц, испытавших вместе с тобой все бездны порока.
И во всей этой гонке по кругам ада то и дело мелькает одно и то же лицо – то молящее, то укоряющее, то восторженное, то злое. Хочется остановить, рассмотреть его. Но страшно остановиться.
В эти месяцы он видел Сашу редко, она почти перестала бывать в их дворе. Оба они незаметно переступили невидимую черту и перешли в другой возраст. По ту же сторону черты люди должны знакомиться заново.
Он не раз пытался подчинить ее своему воображению, но Саша не давалась, словно бы не желала вписываваться в его фантазии. Не раз он мысленно сталкивал их с Фаиной, испытывая странное удовольствие от их несовместимости.
Но каждое утро Фаина, пахнущая флоксами, неизменно оказывалась рядом, Саши же не существовало вовсе.
И вот настал тот день. На влажном доминошном столе Васька Мясников разложил перед ним только что отпечатанные, искривившиеся, как осенние листья тополя, фотографии незнакомой голой женщины. Глаза ее были скрыты черной полоской.
Через несколько минут он уже был в жарко натопленной комнате, за вишневой занавеской, где на сундуке покоились днем одеяла и подушки. У неплотно прикрытой заслонки сипло постанывал ветер, пахло раскаленной краской. Молчал ящик фисгармонии, звенел над головой мохнатый сверчок.
И вдруг, в тот момент, когда совсем уже, было, пропал он для себя, мелькнуло перед глазами лицо Саши. И было оно словно ставший зримым звук. С тех пор исчезло оно надолго из его памяти и, быть может, самую живую, самую трепетную часть ее унесло с собой.
НА БАЛКОНЕ ОН СПРАШИВАЕТ, РАЗГЛЯДЫВАЯ ЦВЕТЫ:
– А эти как называются?
– Это львиный зев, – отвечает мама.
– Странное название, – говорит Андрей. – Но пахнут как! Я с детства запах помню. А эти?
– Это петунии.
– Петунии, – повторяет он машинально.
У него нет памяти на имена. И на цветы. Вот уже который год он так выходит на балкон и заново узнает у матери их названии, и радуется им, и запоминает, чтобы тут же забыть.
– Я пойду погуляю, мама, – говорит он, чувствуя, что фраза вышла чужая. – Пойду прошвырнусь, – добавляет он.
– Иди – говорит мама, – ты совсем не отдыхаешь в последнее время: тетрадки, педсоветы.
Он уже второй год работает в школе.
И мамин ответ он слышит тоже как бы вчуже, как будто в переводном фильме, где фразы так меланхолически и странно соотносятся с движением губ говорящего.
Одинокие шатания стали привычны ему. По вечерам он прогуливал свою тоску. А может быть, правильнее сказать, сам он тащится на поводке у тоски. К концу прогулки тревога обычно переходит в чувство необъяснимого грустного удовлетворения, в спокойствие и почти счастье.
Сегодня он направляется к парку, в глубине которого мощным волчком гудит мототрек. Сначала он проходит мимо «машинного кладбища», разглядывая в прорехи бетонного забора чрева полуторок и «эмок», трактора с облупившейся оранжевой краской, экскаваторы, ковши которых напоминают разинутые челюсти доисторических животных.
Рядом с «машинным кладбищем» тянется канал. Стоячая вода его густа как мазут. В ней застыли перламутровые разводы нефти. Ему представляется, что художник, писавший закат, окунул сюда по ошибке свою кисть.
Камень падает в канал глухо, не образуя кругов, лишь на миг усиливая и без того резкий запах.
Скоро канал кончается. Нужно только пройти по доске, середина которой погружается под ногой в воду, переступить через залитые смолой трубы, и начнется парк. Видно, что он давно уже растет сам по себе. Наверное, когда-то здесь был склад. Стоят насквозь просматриваемые амбары, жутко поскрипывая распахнутыми воротами.
В парк можно войти через один из этих амбаров. Но он боится вспугнуть обитающих там птиц и идет дальше.
Справа в конце коридора, образуемого густой бузиной, видна калитка, а за ней почти совсем закрытый зеленью дом. Он никогда не подходил к калитке и не знает, кто живет в этом доме.
В конце бузинной аллеи можно еще увидеть кусты с красивыми белыми цветами. Он не знает, что это кусты жасмина, и уже в который раз хочет описать кому-нибудь эти цветы и спросить их название, но всякий раз забывает.
Вообще весь этот парк напоминает пейзаж его жизни. И амбары, дальние ворота которых выходят прямо в небо, и разинутые доисторические челюсти экскаваторов, и этот дом, в который он никогда не зайдет, и цветы, название которых он не знает, – все это не просто что-то значит, не просто намекает, например, на какие-то неисполненные обещания, но является как бы панорамой его жизни, развернутой в виде этих невнятных аллегорий. Он не может объяснить этого до конца, но знает: в пейзаже не только его прошлое, а и будущее.
Домой он приходит поздно. Мама ждет и все же вздрагивает, когда он открывает дверь своим ключом.
– Я не сплю, сынок, заходи – говорит она.
Глаза у нее совсем больны – катаракта. Она уже давно живет на лекарствах, не может вязать, не может долго читать или смотреть телевизор. Поэтому ждет его в комнате, не включая света. И все время помаргивает, как будто испуганно прогоняет ресницами кружки сна. Он порывисто целует ее и обнимает, и ему уже не кажется, что он все это наблюдает с экрана. На мгновение ему представляется, что он, наконец, открыл ту калитку и вошел в дом, и оказалось что там его ждет мама. И что там было гадать и мучиться, когда только так и могло быть и лучше этого ничего быть не могло.
– Пойдем на балкон. – говорит он. – Что мы здесь с тобой коптимся.
Они выходят на балкон. На улице влажно.
– Табак раскрылся, – говорит он. Название табака он почему-то помнит. – А это что? Эти тоже к вечеру раскрываются? Я их раньше не видел.
– Что ты, – тихо говорит мама. – Они давно распустились. Ты просто не замечал.
– А как называются?
– Царские сапожки.
– Забавное название, – говорит он. – А похожи на фригийские колпачки.
– Что это за колпачки? – спрашивает мама. – Я о таких цветах не слышала.
– Фригийцы – это древний народ, – говорит он. – Они еще до нашей эры жили. Фригийские колпачки – это не цветы.
Мама прижимается к нему. Гладит его по голове. И он понимает, что значит сейчас эта ласка. В ней удивление перед тем, как могли люди узнать о колпачках, которые носил какой-то давно исчезнувший народ, и гордость оттого, что ее сын причастен к этому таинственному знанию и оно как бы даже так легко для него и привычно, что он говорит ей сейчас об этом мимоходом.
Он прижимает к себе голову мамы. Он не сдвинулся с места, но внутренне уже торопится с балкона. И думает о завтрашнем дне в школе, о ребятах, которые должны ощущать всегдашнюю уверенность учителя.
Он вспоминает о цветочном кусте за той калиткой и думает о том, что сейчас можно было бы спросить у мамы, как он называется. И не спрашивает.
Однако вернемся, как диктует последовательность событий, в Отрочество, когда кажется, что жизнь вот-вот может оборваться, а через секунду – что она будет длиться вечно, когда за каждым поворотом мерещится бездна, а оказывается – земля и долгий, долгий путь по ней.
СКОРО СТАЛО ИЗВЕСТНО, ЧТО К ОСЕНИ ОНИ ПЕРЕЕДУТ, барак обещали снести и на месте его развести парк.
Саше казалось, что не только люди, но и сам барак, и деревья, и даже куры чувствовали, что всему этому уголку на земле скоро придет конец. Вишня под окном вышла цветом – в июле листья стали сворачиваться и чернеть, и ягоды сохли прямо на ветках. Куры залетали в окна, и хозяйки, что ни день, резали к обеду куренка.
Бабку Веру увезли ночью с приступом стенокардии, а через два дня она умерла в больнице, не дождавшись новоселья. Рассказывали, что за час до смерти она уже ни с кем не говорила и никого не узнавала, а только шепотом приговаривала что-то в ожидании облегчения. Саша не простилась с бабкой Верой и несколько дней все принималась плакать. Особенно по ночам, когда барак пел на разные голоса и постанывал, как человек.
Ей представлялось, что все эти скрипы и запахи, небо в черном, нарушаемом ветром кружеве листьев, все это обреченное, шумное, жестокое и милое ей сообщество людей уже исчезло и не существует, а только кажется. А настоящая жизнь барака происходила теперь только в ней самой, она взяла ее на память и ходила теперь по двору, улыбаясь курам, которых не было, разговаривая с домом, дыша в жару привычным речным запахом цемента. Все они были уже одним длинным, подробным, приятным и хлопотным ее воспоминанием. И когда клен под окном засветился от тайного источника оранжевым и стойким пламенем, Саша и этому улыбнулась, как будто и его свечение она успела опередить своей волей и теперь это была только удачная ее находка – засветить его в условленный час, и только его, клена, послушание.
Не то чтобы Саша не радовалась предстоящему отъезду – отъезд был неизбежен и не нуждался в ее заботе. Радость совершалась в ней сама собой. Они уже получили смотровые и съездили поглядеть новую квартиру на пятом этаже в блочном доме. В ней было светло, пахло новым полом и клеем. Саша несколько раз крикнула в потолок: «Ау!», и эхо всякий раз накрывало ее звонким облаком. Отец ползал с сантиметром в руках, решая, как помирить в одной комнате комод и кровать. Мама радостно причитала над газовыми горелками. А из дома напротив доносились патефонные звуки вальса.
Скоро и элегическое прощание с бараком оборвало свою песню. Что-то, быть может, очень многое кончалось с ним, и вместе с тем оставалось ощущение, что оно не довершилось, и, пока оно не довершилось, уезжать нельзя. До отъезда оставались считанные дни, а Саша чувствовала, что ее словно несет на полной скорости с горы и она хватается за мелкие кустики, пытаясь остановиться. Ей даже снился не раз этот кромешный полет с горы, и она в ужасе просыпалась.
Она решила во что бы то ни стало встретиться в эти оставшиеся дни с Андреем и обо всем ему рассказать. Несколько дней Саша сторожила его вечерами. Садилась на дворницкий ящик наискосок от его парадной и ждала. По многу раз проговаривала про себя все, что должна ему сказать. Но слова и фразы будто полировались от частого употребления, и она начинала придумывать новые. А через некоторое время и это проходило, и она уже ничего не сочиняла, а просто ждала. Но его все не было.
Однажды ей почудилось, что он смотрит на нее из лестничного окна, но, едва она приподняла голову – он исчез, и, сколько ни вглядывалась в отсветы стекла, больше ничего не удалось разглядеть.
Саша так никогда и не узнала, что там, в окне, она видела действительно лицо Андрея. За несколько дней до этого Андрей заметил Сашу, поджидающую его у школьного крыльца. Он сразу понял, что она ждет его. В ней чувствовалась какая-то необычайная решимость. И Андрей испугался: но не отсутствия в нем нужных слов, а вот этой именно силы Сашиной решимости, которая, пойди он ей навстречу, увлекла бы его во что-то неизвестное. В конце концов, он решил, что эта девчонка надоела ему своей привязчивостью, и радовался разгоравшейся в нем бодрой, самодовольной злости.
В последний день Саша не пошла к дому Андрея. Сидела на берегу, смотрела на воду. Она уже думала о новой школе и о новых друзьях. И уже была рада, что они уезжают из барака. Договаривалась сама с собой, что в воскресенье нарвет цветов и поедет на могилу к бабе Вере.
Цвет реки все время менялся. Вода стала сначала лимонной, потом ослепительно синей, потом фиолетовой и, наконец, погасла.
Уже к ночи вернулась Саша в пустую комнату. Родители были в гостях. Посреди комнаты стояли чемоданы. Белье и посуда были увязаны в широкие черные платки. Казалось, все это кто-то свалил в спешке, спасаясь бегством. Только белеющие в темноте постели говорили о том, что здесь живут. Из распахнутых дверей шкафа пахло нафталином, сухой булкой, засахаренным малиновым вареньем, но и это уже были запахи покинутого жилья.
Саша легла, голова ее закружилась, и ей представилось, что она плывет. Рубашка приятно холодила плечи, Саша ощущала свое здоровое гибкое тело, как оно постепенно нагревается, и думала о том, что впереди ее ждет, наверное, много хорошего и что это теперь ни от кого не зависит, кроме нее самой.
На полу и на вещах подрагивал светлый квадрат окна: он был тоже забыт кем-то, и кто-то скоро должен был за ним вернуться. Слева за стеной тетя Нюра ворчала на сына: «Погоди вот, никотинщик, умру раньше времени или вот уеду. Это для тебя-то я старая…» В комнате справа дядя Ваня ремонтировал приемник, и вместе с дымом сквозь паклю и порванные обои просачивался терпкий, почти съедобный запах канифоли и горячего олова.
Но все это существовало сейчас как бы помимо ее сознания. Она лежала, смирно вытянув ноги и боясь спугнуть находивший на нее сон.
Утром, едва открыв глаза, Саша увидела, как отец, наклонившись в постели над мамой, передает ей из губ в губы косточку абрикоса, и, еще не успев понять, что это значит, почувствовала, что от вчерашнего покоя в ней не осталось и следа.
Губы родителей были глупо округлены, как у мальчишек, которые любят дуть в дворницкий шланг или пить из него воду.
Прямые волосы матери рассыпались на подушке, глаза были скошены и счастливо дрожали. Мать выпускала косточку, а отец втягивал ее в себя, и у него худели щеки.
Саша вдруг поняла, что ее нет сейчас с ними. «Как же они смеют, чтобы им было хорошо без меня!» – подумала она. Но эта мысль мелькнула и исчезла.
Они с подругами не раз уже говорили о пугающе привлекательной близости между мужчиной и женщиной, но мысли об Андрее были для Саши чем-то совсем другим. Даже когда она мечтала о том, что у них будут дети, и тогда это не представлялось ей следствием той физической близости, о которой они говорили с девчонками. Собственно, эта сторона жизни и вообще никак ей не представлялась. Она была твердо уверена, что у них это будет иначе, чем у других, она не знала как, но иначе, лучше.
И вот сегодня в том, что она увидела, эти ее несовместимые представления противоестественно соединились, и ей захотелось плакать. В этом своем чувстве великой досады она сознавала себя взрослее и лучше родителей. Но как еще не хотелось ей быть взрослее и лучше их!
Утро было солнечное. За окном шумел ветер. Тени листьев перебегали по лицам и плечам. Саша представляла, что все это происходит под водой, и от этого ей становилось еще стыднее и неприятнее.
Она не выдержала. Высвободив из-под подушки руку, уронила, словно ненароком книгу. И увидела, как мать неловко освободилась от отца, улыбнулась ей и с незнакомой горловой нежностью в голосе проговорила:
– Доброе утро, доча.
«Врет», – решила Саша. И не ответила.
Во всем в это утро виделись ей улики двойного существования родителей. Обида притворились послушанием и равнодушием. Она не смотрела в глаза, но внимательно наблюдала исподтишка. И вскоре стала замечать то, что хотела заметить.
Первое ее открытие заключалось в том, что она знала все слова в разговоре и при этом часто не могла уяснить смысла его, словно отец и мать договорились понимать под каждым словом не то, что понимают под ним все. Но еще удивительнее оказалось другое: они и молча не переставали разговаривать друг с другом. Разговаривали, вытираясь двумя концами длинного полотенца, передавая тарелку супа, встречаясь глазами в зеркале.
И тогда напускная деловитость покинула ее. Она заскучала. Через час должна была прийти машина за вещами. Не принимая участия в последних суетливых сборах, Саша уселась у окна и принялась обмакивать в цветочную воду палец и пускать по стеклу капли наперегонки. А когда отец мокрой после крана рукой провел по шее дочери, ее передернуло, и она закричала, с ненавистью глядя ему в глаза:
– Не смей меня трогать! Ну!
У НИХ ЗАБОЛЕЛА МАТЕМАТИЧКА, и первые два урока неожиданно оказались пустыми. Подняв воротники, они с мальчишками вышли из школы и остановились на крыльце, раздумывая, что делать с внезапно выпавшей и, казалось, совсем ненужной им свободой.
Начинался ноябрь. Белая заря предвещала заморозки. Некоторые закурили, и сразу стали ощутимы запахи табака и промерзших за ночь листьев, возбуждавшие в организме чувство матерого нетерпения.
– Пойдем к баракам. Бить стекла, – предложил Дзюбин, шпановато опустив лошадиную челюсть.
– Тебе, Дзюба, лишь бы по чему-нибудь вдарить, – сказал Перелыгин.
– А ты чо, понял? – повернулся к нему маленький Дзюба, резким взмахом руки спровоцировав защитное движение Перелыгина. – За испуг – сайка.
Приняв великодушно сайку – легкий удар пальцами и тыльной стороной ладони в плечо, – Перелыгин сказал:
– Да ладно, пошли. Делать-то все равно нечего.
Заводской район, где стояли бараки, несмотря на близость с их домом, казался Андрею чужим, неизвестным городом. Он редко бывал в нем. Здесь, выезжая из заводских ворот, поезда пересекали улицы, и это уже само по себе казалось фантасмагорией. В воздухе, особенно когда сеялся дождик, остро пахло гарью и формовочной землей. Это была окраина, город в городе, где все друг друга знали, и чужой, в случае ссоры, всегда мог рассчитывать на коллективный отпор. Бараки же Андрей и вовсе старался обходить стороной. Ему казалось, что в них живут какой-то непонятной для него породы и судьбы люди. Лишь иногда, когда кто-нибудь выходил по вечерам мучить гармонику, ему хотелось подойти к баракам поближе. Так же потом тянуло выйти на полустанке, когда видел из вагонного окна дом в лесу, и побитые дождем розы за забором, и девочку, поившую корову, и не просто, не безмятежно выйти, а словно испытать судьбу, но он так ни разу и не решился.
Сейчас он впервые так вот близко подходил к бараку. В окна его глядела оголенная дранка. На стенах таял ночной иней.
Андрей осторожно, словно боясь вспугнуть нежилую тишину, вошел внутрь. Здесь в коридоре валялись куски мешковины, слабо пахнущие бензином. В глубине виднелась разинутая пасть сундука, в который Дзюба тут же забрался.
– А чего? Уютно, – сказал он, глуповато улыбаясь. Его попробовали закрыть в сундуке, но после суматошной борьбы тот Дзюба выбрался.
Комната направо была Сашиной. Он зашел в нее вместе с другими. Здесь было светло. На полу валялся флакончик из-под духов и пустая пачка гематогенных таблеток. Когда он был еще совсем маленьким, они употребляли эти сладковатые таблетки вместо конфет. Но потом, узнав, что те приготавливаются из бычьей крови, Андрей больше никогда их не ел.
В углу на обоях осталось темное пятно от небольшого коврика. Рядом с ковриком виднелся темный тонкий след в форме остроносой восточной тапочки – вероятно, для иголок и ниток. У матери висел на стене такой же.
Он поднял флакончик. Исходивший от него запах показался тоже знакомым. Но он никак не мог его вспомнить.
Запах этот был действительно знаком ему: запах чубушника, который рос кое-где у них во дворе, и из которого Саша вместе с подругами приготовляла духи.
Грусть и сожаление почувствовал, вероятно, каждый из них при столкновении со следами этой будто испарившейся из дома жизни. Но в этот момент все услышали звон разбитого стекла.
– Парни, давай сюда, – закричал с улицы Дзюба.
И тут Андрей почувствовал (так же, как и другие почувствовали), что грусть перешла в ощущение необычайной легкости, и то состояние матерого нетерпения, которое пришло на школьном крыльце, снова вернулось, подталкивая к действию.
Они выбежали, остановились в длинной тени барака и стали набирать камни. Звонкий стук их в ладонях напомнил далекий пересвист птиц.
Еще раз бросил Дзюба – промазал. В нерешительности улыбаясь, переминался с ноги на ногу долговязый Толя Хайкин. Прищурившись, замахнулся Перелыгин, и вдруг неизвестно откуда выскочила Саша, схватила Перелыгина за руку и крикнула:
– Не смейте!
Слезы выступили у нее на глазах, и они стали вертикально продолговатыми и жалобными. Она, вероятно, не сознавала, что больно держит Перелыгина за руку.
– Иди ты, дура! – вскрикнул Перелыгин и вырвал руку. – Кому они теперь нужны?
Звон разбитого стекла заглушил Сашин плач. Игра началась.
Андрей ощутил вдруг во всем теле вялость и равнодушие. На мгновение показалось, что он слышит, как поднимается из-за барака солнце. Это был, наверное, страшный, невозможный и только из-за большого расстояния не губительный шум. Казалось, что само время вместе со светом наваливается на них, еще минута – и они оглохнут, накрытые им, и время понесет их с собой, не спрашивая… Но все это были как бы чужие ощущения, и он о них тут же забыл.
Дом стоял с яркими и пустыми, как бывают у стариков, глазами и смотрел на них.
Часть вторая
– МОГУ ДЛЯ НАЧАЛА УГОСТИТЬ ТЕБЯ ЛОЖЕЧКОЙ КОФЕ, – сказал он, открывая дверь и пропуская вперед Сашу.
– Мерси, – улыбнулась Сашенька. – Я скину туфли?… Нет-нет, я босиком. – Саша при этом чуть покраснела, а он почувствовал себя вдруг стесненно, как будто не Саша к нему, а он пришел к ней в гости.
Андрей включил радио, и в квартиру вошел тихий стук метронома. «Черт! Обед у них!» – подумал он. Это была хоть и маленькая, но неудача.
Саша прошла босиком с букетом лиловых гвоздик на кухню, налила в пол-литровую молочную бутылку воды и, поглядывая, как кипящая муть, волнуясь, поднимается к горлышку, принялась раскладывать на клеенке цветы и подрезать ножницами стебли. Губы ее были старательно напряжены, а знакомые глаза изредка поглядывали на хозяина со смущенной улыбкой и в то же время как будто дразнили его.
«Неужели она решила оставить цветы у меня?» – подумал Андрей. Он чуть ли не с первой минуты приревновал Сашу к этим цветам. Но, выходит, если она так запросто расстается с ними, не столь уж они ей дороги.
Андрей представил на миг того, кто, может быть, подарил Саше эти цветы, и натянул воротник бадлона на подбородок. Увидев краем глаза этот знакомый жест, Саша еще упорнее сосредоточилась на цветах.
Ему захотелось спросить ее о чем-нибудь из того далекого, общего их времени, но он понял, что это ему сейчас не по силам.
– Где ты взяла ножницы? – спросил он. – Я их всякий раз ищу.
– На холодильнике, под книгой, – сказала Саша. – Теперь бери их всегда там.
Они оба рассмеялись.
– Прелесть, – пропела Саша, устроив, наконец, букет. – Я, пожалуй, и кофту сниму – жарко.
Она отнесла в прихожую кофту и вернулась в белой, заправленной под джерсовую юбку блузке с широкими кружевными воланчиками, в которых почти скрывались ее ладони. Эти воланчики показались ему театральным дополнением к Сашиной мальчишеской фигуре, к ее быстрым и уютным движениям, и ему было не только приятно любоваться Сашей, но и еще больше, быть может, сознавать, что что-то до такой степени может ему в ком-то нравиться.
Час назад они встретились на Невском после почти шестилетней разлуки. Впрочем, была ли это разлука? – подумал он сейчас сентиментально. Просто они оставили, забыли друг друга в том возрасте, в который возвращаются только за воспоминаниями.
«Неплохо сказано. Осталось заблеять от умиления», – призвал Андрей, как всегда, на помощь остужающий голос своего сокурсника Тараблина, и мысли его вернулись к Саше.
Саша, конечно, вспоминалась ему, но редко и скорее в ощущениях, чем в деталях. Главных два. Первое, что взгляд ее как бы предъявлял к нему требования, которым он тогда не соответствовал и которые сейчас, напротив, были по силам ему, и поэтому теперь этот взгляд был бы ему скорее приятен. Второе, что это был счастливый взгляд, и источником счастья был как будто он.
Зажигая газ, доставая из шкафчика чашки, Андрей смотрел, как Саша прохаживается по кухне, ласково дотрагиваясь до вещей, и вспоминал сегодняшнюю их встречу.
Он скинул в университете зачет и решил пройтись пешком. Уже второй день в Ленинграде стояла неправдоподобная азиатская жара. Прохожие двигались какой-то скользящей ощупью. Одуревшие собаки смертельно медлили перед колесами наезжавшего на них транспорта.
Ветер на мосту откидывал волосы, словно по творческой прихоти создавал из них варианты бетховенской гривы, и Андрей, покусывая губы, то невольно улыбался, то хмурился, стараясь подумать о чем-то важном.
Он свернул от Александровского садика на Невский, который, как длинная труба, всосал его в себя и перемешал с цветной толпой. Эта затерянность в толпе была ему сейчас приятна: здесь, среди вызывающе веселых шеренг, старушек в панамках, долго, как в прошлое, заглядывающих в свои довоенные сумки, среди папиросного дыма, смеха и ругани он интуитивно угадывает свой коридор, и идет независимый, в современном рыжеватом бадлоне, на который многие оборачиваются с завистью.
Настроение было спокойное и радостное, то есть то настроение, которое почти не покидало его в последнее время и для которого он всегда легко находил новые и новые поводы. Сейчас ему вспоминались стихи, которые он написал вчера:
Иду, мне никуда не деться От ветерка бесшумных пуль, Что налетели, как из детства, И вдруг сказали, что июль, Что середина назначенья, Что вроде бы еще не все Герои вышли для вращенья По памяти…Забыл, что там шло дальше, и сказал сам себе, как говаривал, прекращая чтение, кто-то из гениальных: «Ну и так далее…» Из всего стихотворения ему больше всего нравился «ветерок бесшумных пуль», хотя он и не смог бы объяснить, что, собственно, имел в виду.
Недавно Андрей опубликовал в стенной газете «Филолог» подборку своих стихотворений, хотя уже понимал, что стихи ему не писать. И когда его хвалили, он тоже все время помнил, что он не поэт, и то, что он был выше этих похвал и умел иронически отнестись к своим стихам, было ему приятнее, чем сама публикация.
Весной он сделал первое сообщение в СНО. Доклад в сокращенном виде обещали напечатать в студенческом сборнике. Назывался он «Оксюморные сочетания в лирике А. Блока».
Впрочем, в последнее время Андрей стал произносить не оксюморон, а оксиморон, после того как встретил это написание у Тынянова. С какой-то новой для него радостью он подчинил язык непривычному произношению. Так же с недавнего времени стал подчеркнуто произносить, например, конкистадор вместо конквистадор, Бальмонт и Пикассо с ударением на втором слоге. И то и другое было правильнее и говорило о знании оттенков.
Это следование норме было в некотором роде знаком исключительности на фоне полузнания и приблизительности, он этот парадокс отметил про себя и испытывал то же примерно чувство неестественного удовольствия, которое испытывает человек, недавно вставивший пластинки для выпрямления зубов.
Но все же и хмель некой «причастности», и реальные успехи были так – угольки костра. То же, что составляло самую суть огня определения не имело.
Андрей был убежден в существовании некоего феномена, выражающего, по его мнению, духовную суть времени. Слово «убежден», впрочем, необходимо взять в кавычки. Скорее, если такое возможно, это было убеждение чувства.
Феномен, сознаваемый им как некое единство всех проявлений времени, лишь в малой степени был доступен познанию. Он был раздроблен в явлениях жизни. Между ним и реальным человеком никогда нельзя будет поставить знак равенства. Но именно стремление к наиболее полному воплощению в себе современного феномена Андрей ощущал как свое тайное призвание.
Эпитет «современный» в эти годы потеснил все остальные. И самое удивительное, что покрывал этот эпитет все – от тончайших проявлений духа, открытий в области астрономии, биологии или физики до покроя одежды, тембра голоса и манеры поведения. Андрей вовсе не знал, да и не думал о том, что из всего этого должно получиться, но следование стилю времени было его главной и постоянной заботой. Снобизмом это назвать, вероятно, нельзя, потому что дело не сводилось к копированию внешнего рисунка.
Главным распорядителем в этом доморощенной феноменологии был противительной союз «но». С его помощью от некоего положительного свойства отсекалась крайняя степень проявления. Например: смел, но не безрассуден, тонко чувствует красоту, но не рафинирован.
Дело также в оттенках. Например, сказать «красивый, интеллигентный, серьезный мужчина» – это одно. Это из другой эпохи. Другое дело – «настоящий мужик». Это взятое из крестьянского лексикона выражение меньше всего означает домовитость или же умение работать. Настоящий мужик физически, конечно, силен, но это далеко не все. Он от своей силы весел и добр, его ум и благородство скрыты под иронической усмешкой, некоторая небрежность и простота в обращении оттеняет духовный аристократизм. Он скорее всего бородач (не до бритья). Голос немного грубоват. Он из тех, кто выплевывает косточки черешни перед дулом наведенного на него пистолета, а оказавшись третьим лишним, выбегает в магазин и не возвращается. Он и вообще не любит долгих проводов и мелодраматических сцен.
Он любит простой разговор, короткую фразу, в которой вдруг повисает слово со значением. Чуть-чуть чудаковат, да, но, пожалуй, лишь от сосредоточенности на главном.
До чего же легко целиться в середину своего возраста и попадать в яблочко. На пятнадцать лет назад яснее видится, чем на час вперед. Все это было не так смешно. Гораздо серьезней и трогательней, уверяю вас. К тому же, это лишь абрис роли, лишь режиссерская установка на нее. Теперь надо приноровить ее к своему масштабу, талантам, привычкам, увлечениям, к своей памяти, к своему бюджету, темпераменту, мечте. Система Станиславского? О, да!.. Изобретите себе трубку, купите капитанский табак, и скоро вы должны уже будете соответствовать и трубке и табаку.
Так, в том радостном состоянии, в котором, повторяю, пребывал он почти все последнее время, шел Андрей по многолюдному Невскому, думая о моменте, когда окажется дома один, примет душ и уляжется на тахту с книжечкой И. Кона «Социология личности», которую ему дал Тараблин до следующего экзамена и которая лежала у него в портфеле.
Тенты у Пассажа душно пахли парусиной. Автоматы с газировкой прокалились до нутра, и к ним никто не подходил; только пожилая узбечка робко протягивала к щелке медную монетку.
Стало душно. На город набегала вторая за сегодняшний день гроза. Не успел он свернуть на Малую Садовую, где тень сохраняла еще сырой запах стен и торговали черешней и квасом, как увидел прозрачную и тут же начинавшую клубиться испарениями стену дождя, которая летела на них с Фонтанки.
Уже первые разрозненные капли взволновали людей и произвели беспорядок в их сонных рядах. Одни стремительно вбегали в первый попавшийся магазин или парадную, другие, остановившись там, где их застигла капля, поспешно раскрывали зонт, и на них с руганью наталкивались те, кто пытался спастись бегством. Очередь за квасом колебательным хвостовым движением переместилась к стене и сразу приобрела стройность. В это время ударил дождь, и запахло теплым мокрым асфальтом, обнаженной штукатуркой, черешней, ржавчиной.
Последней, в бежевых «лодочках», чуть по-мальчишески сутулясь, прикрываясь капроновым мешком и букетиком лиловых гвоздик, перебежала к стене тоненькая белокурая девушка. Андрей поспешно встал с ней рядом.
– Вы последняя за квасом? – спросил он.
– Я, – сказала девушка. Она выставила ладонь под дождь, искоса, как смотрят на летящий самолет, посмотрела на небо и засмеялась: – Сумасшедший день.
И тут он узнал Сашу.
– Саша! – окликнул он.
Она повернулась, опустив сумку и цветы, ее бледные губы были полуоткрыты, она смотрела на него и вместо ответа кивала головой. Наконец, сказала, улыбнувшись:
– Ни за что бы не узнала.
Эта почти ничего не значащая фраза, как бывает, вдруг объяснила ему ту степень наивности и самообольщения, в котором он столько лет пребывал и в которое нередко впадают люди, живущие воображением. Попросту говоря, он понял, что Саша жила и менялась без него все это время и что, если он и оставил ее в том отроческом возрасте, то это совсем не означало, что она в нем осталась. Именно такие простые соображения приходят обычно внезапно и с большим опозданием. Одновременно он понял, что мимолетные воспоминания об этой полузнакомой девочке были, быть может, значительнее и важнее для него, чем он сам до сих пор думал.
Он взглянул невидящими глазами на букетик гвоздик: они оплавились, превратившись в светло-лиловые угольки, которые, казалось, через секунду звонко посыплются на мостовую. Но тут глаза его снова обрели зрение.
Дождь обрызгивал Сашины голые щиколотки и икры, и она растирала щекочущие капли, потирая ногу о ногу. Он поймал себя на том, что пристально смотрит на Сашины красивые ноги, подошвы которых были спрятаны в кукольные «лодочки», и этот инстинктивный мужской взгляд, который давно уже превратился в некий способ самоутверждения и игры, сейчас впервые поразил его своим сокровенно-откровенным смыслом и показался неприличным. Он незаметно переменил положение и, взглянув на небо, сказал бегло и буднично:
– Это, может быть, надолго.
– Нет, – ответила Саша и прижалась затылком к стене. – Это скоро пройдет.
Фразы, произнесенные им и Сашей, тоже вдруг показались ему полными особого смысла, и то, что он не мог понять его, лишь усиливало впечатление.
Они замолчали, поглядывая друг на друга и усмехаясь, как усмехаются незнакомые и симпатичные друг другу молодые люди, делая в танце первые шаги. «Он ли это, – спрашивала себя Саша, – из-за которого я столько плакала, о котором мечтала и которому хотела рассказать всю свою жизнь?» И с радостным волнением сознавала, что ничего не может ответить себе на этот вопрос. Это был он и не он, как и сама она была все той же девочкой из барака, раздувавшей в себе свою несчастную любовь к незнакомому мальчику, и в то же время совсем другой – узнавшей, например, силу своей красоты.
По неуловимым признакам Саша поняла, что и Андрей попал в ее силовое поле. Перемена ролей забавляла. Но в то же время та влюбленная несчастная девочка в ней мешала Саше почувствовать себя хозяйкой положения, и колебания между тем и этим, прошлым и настоящим, узнаванием и не узнаванием и было причиной того особого волнения, которое она в себе ощущала.
Дождь толстыми подрагивающими струями стекал с крыши. Саша снова высунула руку, как бы пытаясь раздвинуть их.
– Как китайская соломка, – сказала она.
– Сегодня уже вторая гроза, – зачем-то сообщил Андрей.
– Да, сумасшедший день, – повторила Саша.
– Шедший, шедший и дошедший… – сказал он.
«Ну что, попалась?» – почему-то весело подумала Саша. Ей вдруг показалось, что еще минута – и она окончательно устанет быть независимой и беспечной и как последняя дурочка прислонится щекой к его груди.
Гроза между тем кончилась. Тучи разорвались над ними неровно, как дряхлая бумага, и поодиночке унеслись в сторону Петропавловки.
Когда они снова встали в очередь, он присвистнул:
– Ого, какой хвост! – И неожиданно для себя предложил: – Может, не будем стоять?
На это неожиданное «мы», которое подразумевали его слова, Саша чуть заметно улыбнулась, но сейчас ее улыбка только придала Андрею смелости.
– Пойдем ко мне, – сказал он. – Матушка на даче у подруги…
– Классическая ситуация, – засмеялась Сашенька чуть не плача. – И это не опасно?
– Опасно, – сказал он. – Очень.
В метро они снова замолчали. Каждый подумал о том, что рядом с ним, в сущности, совершенно незнакомый человек, и осознал странность того, что они вместе. «Откуда у нее гвоздики? – неприязненно подумал тогда Андрей. – Что за самовлюбленность – таскаться по улицам с цветами».
А Саша в это же время почувствовала острое недовольство собой. Как бы ни было мало или велико то место, которое он занимал в ее воспоминаниях, но появление в ее жизни кого угодно больше бы ужилось с мыслью о нем, чем реальная встреча с ним. Саша чувствовала, что в его присутствии она потеряла верный тон и то и дело ловила себя на совершенно несвойственных ей мыслях. То ей казалось, что он обратил внимание на ее туфли на гвоздиках, которые уже вышли из моды, то представляла, как расскажет ему, что завалилась при поступлении на французское и работает лаборанткой в школе, и он сочтет ее неудачницей.
Давно, давно Саша не ловила себя на подобном малодушии. Со школьных, пожалуй, лет. И вот теперь эти мысли и то, что она покорно поехала к нему, означали, что она начинала терять самостоятельность и легкость, и Саша принялась придумывать, с какими следующими словами обратится к нему и что сделает.
Так, например, ей захотелось, придя в квартиру, остаться босиком, и она задумала, что непременно так и поступит. И действительно, сделав это, Саша и все остальное стала делать заметно увереннее и почувствовала себя так же почти естественно и легко, как и обыкновенно.
И вот она сидит теперь в его квартире, подперев одной рукой щеку, а другой играя с толстым старым котом, и ей хорошо и спокойно.
– Прости, я не спросил – ты, может быть, хочешь есть? – сказал он. – Яичницу с колбасой?
– О нет, я, знаешь ли, из общества сыроедов, – ответила Сашенька. – Если можно – вот эти листья салата.
– И все?
– Ну и еще сметана. Если есть.
Они быстро приготовили и так же быстро уничтожили все, что было из еды в квартире, и медленно потягивали «ложечку» кофе. По радио уже отговорили последние известия и поставили какую-то знакомую музыку.
– Слушай, а мы случайно не в Париже? – спросила Сашенька.
– А что…, – ответил он.
Саша раскраснелась, волосы, стянутые в конский хвост, растрепались и спадали на щеки, она поправляла их и сонным домашним взглядом посматривала на него.
– Ну, рассказывай, – сказала она, и бледные губы ее чуть дрогнули в незаконченной улыбке.
Он вспомнил, как рекомендовался герой одной пьесы и сказал:
– Совершенно отрицательный тип: не сидел, не выезжал, не имею, не владею, не был…
– Да, да, – закивала Саша, – не имею, не владею, не был.
Он по инерции продолжал:
– Не пью, люблю свою жену…
– Ты женат? – с заметной поспешностью спросила Саша.
– Да нет, – сказал он, с удовольствием отметив Сашино смущение. – Это у Евтушенко, в «Нежности», не помнишь разве: «Не пью, люблю свою жену (Свою, я это акцентирую). Я так…»
– Помню. Я помню. Просто сразу не сообразила, – прервала его Саша голосом, горловым от смущения.
– То-то же, – зачем-то сказал он.
– Ой, ну вы меня купили, сеньор, со своим Евтушенко, – сказала Саша, снова засмеявшись верхним неестественным смехом и вытирая слезы. – Прямо стыдно.
В этом смехе и словах ему почудилось что-то вульгарное и в то же время простодушно-привлекательное, и он сам невольно засмеялся.
– Ну а ты? – спросил он сквозь смех.
– Что я?
– У тебя-то что?
– Я тоже не пью, – вызывая новый приступ нервического уже смеха, сказала Саша. – Ой, ну хватит. А то живот заболит.
Прикрывая глаза рукой и вздрагивая от проходящего смеха, они скоро успокоились.
– А сыроедение?… – спросил он.
– А, – махнула рукой Саша. – Баловство. От нечего делать. Есть у меня знакомая семья – фанатики. Сагитировали, решила попробовать.
Говоря это, Саша принялась перебирать в бутылке гвоздики, с удовольствием после смеха погружаясь в безотчетно грустное состояние.
– Это со свидания? – спросил он.
Саша снова как будто согласно и задумчиво покачала головой. Потом старательно, как представляют образец ответа на иностранном языке, сказала:
– Цветы, сударь, я купила себе сама. На Кузнечном.
Теперь настала его очередь смутиться.
Однако все эти непопадания и вызванные ими смущенности и смех словно бы подтолкнули их друг к другу, и они оба это почувствовали. Саша занялась котом, который подпрыгивал к ней с пола и хищно-ласково разевал пасть.
– У-у, котяра, – напевала она, подсовывая ему палец и резко убирая руку. – Как его?
– Бася, – сказал он.
Глядя, как Саша по-мальчишески озорно играет с котом, повторяя его хищные гримасы, он подумал с нежностью: «Чистый Гаврош!» И снова ему захотелось спросить Сашу о чем-нибудь из прошлого, и он опять малодушно от этого отказался.
– Не пью, не владею, не имею, – повторяла Саша, смеясь. – Ты, Бася, совершенно отрицательный тип. Ого! – Кот ухватил-таки ее за палец. – Мы голодные?
На пальце выступила кровь.
– Я йод принесу, – сказал он, радуясь возникшей необходимости действовать.
– Не надо, – остановила его Саша. Она высосала кровь, потом прикусила палец и еще раз высосала, как будто продолжала играть теперь с пальцем.
– Иди! – сказала она коту притворно строго. – Зачем вы держите этого людоеда?
Как только отлученный кот покинул кухню, к обоим вернулась неловкость. «Сейчас мы должны заговорить уже по-новому, – думала Саша. – Без кокетства, без этого общего тона. Сейчас начнется самое главное». – «Вот черт, – думал он в то же самое время. – Нам, оказывается, кот нужен. Без кота мы никуда!»
– Хочешь, посмотри пока в комнате книги, – предложил он. – А я здесь все быстро приберу.
– Конечно, – сказала Саша, едва скрыв разочарование. Выход, предложенный им, поражал убийственной банальностью. Она снова призвала на помощь скрывающегося где-то кота: – Пойдем, Бася, хозяин нас высылает в библиотеку.
– Ссылка, надеюсь, будет приятной, – сказал он, с раздражением улавливая в своем голосе фальшивый звук.
– Хоть и приятная, а все равно ссылка, – ответила Саша уже из коридора.
Она внезапно ощутила в себе прилив веселой злости, ей хотелось дразнить уже не кота, а его хозяина. Ей хотелось посчитаться с этим ангелоподобным существом за свои детские обиды. Что ж с того, что он ни в чем не виноват? Тем хуже для него.
Однако эта веселая злость блеснула в ней, как возможность, скорее веселая, чем злая. Ей вдруг самой нетерпеливо захотелось посмотреть его комнату.
Комната, в которую она вошла, была похожа на миллионы комнат, в которые она могла бы войти. На всем были видны следы того же, что и у всех, вырастания из стиля 50-х годов.
Новая мебель была сплошь полированной, прямоугольной, экономичной. Создатели ее, следуя духу времени, стремились делать универсальные модели. Вместо оттоманки – кресло-кровать или диван-кровать, гибрид книжного шкафа и стола – секретер.
Секретер стоял справа около окна. Рядом, страдающий одышкой, примостился пузатый комод. Видно было, что скоро придет и его черед идти на свалку со шкафами из красного дерева и старыми буфетами, которые с наступлением стиля «ретро» снова стремительно возрастут в цене, но об этом пока никто не знает. Двойное заграждение окна из штор и тюля говорило о том, что мать много сил отдавала созданию уюта. Но Саша сразу направилась к секретеру – это была его родина, его полянка, по которой ей не терпелось побродить.
Здесь был тот замечательный беспорядок, в который ей тут же захотелось погрузить свои пальцы, чтобы сделать его еще беспорядочнее, только на свой лад. Книги лежали так и сяк, листки с черновиками текста пестрели графически мемориально, как будто их разложили музейные работники. Между стекол было воткнуто гусиное (пушкинское) перо. С правого боку кнопкой в белой пластмассовой одежке был приколот эстамп «Лист вяза», на котором до последней черточки отпечатались сухие прожилки; с левого – маленькая гравюра «Старая мельница». За стеклом белел календарь. На нем крестиками отмечался, вероятно, ход подготовки к экзаменам, а рядом на тетрадном листке фломастером было выведено:
Я злу отдам усталую от мук душу, Коль не пошлешь ты мне ячменных круп меру. Молю не медлить. Я из круп сварю кашу. Одно спасенье от несчастья мне: каша!Гиппонакт
Эта античная строфа неизвестного ей Гиппонакта заставила Сашу тихонько засмеяться. Вопль о помощи, переписанный, быть может, в период экзаменационной сессии, еще больше расположил ее к хозяину секретера. Путешествие продолжалось.
Под плексигласом, на откинутой крышке секретера, ее внимание привлекла программка студенческой конференции, где среди прочих стояло и его имя. Слово «оксюморон» было незнакомым, и Саша повторила его про себя, чтобы запомнить. Здесь же хранилось множество фотографий. Некоторых из тех, кто был на них снят, Саша знала. Молодой Есенин, Цветаева. Газетная фотография Вана Клиберна. Паустовский у заросшей цветами веранды. Андрей Вознесенский на эстраде с вдохновенно поднятым кулаком. Между сервантом и окном на стене – большая фотография улыбающегося Хемингуэя, с аккуратной седой бородой, в крупновязаном свитере, который с его легкой руки вошел в моду и назывался хемингуэевским.
Однако другие лица были Саше незнакомы.
Собственно, реликвии секретера больше говорили об увлечениях времени, но Саше именно это и нравилось. Сама она была только понятливой дилетанткой в этом мире литературы, а здесь, казалось ей, было оно само. Например, Саша совершенно не знала, где другие добывают столь редкие фотографии, и человек, обладающий ими, уже казался ей посланцем другой жизни.
Его первенство Саша признала молчаливо и сразу. Ей показалось, что именно у таких секретеров рождается то серьезное, что потом до остальных (до нее) долетает искаженным звуком моды. Во всем взгляд ее улавливал черты, которые чем больше напоминали общие для всего их поколения, тем больше казались Саше родными и не похожими ни на кого.
– Ну как? – спросил он, входя в комнату.
– Это кто? – Саша указала на одну из фотографий.
– Андрей Платонов, – сказал он. – Ты не читала?
– А это?
– Юрий Тынянов.
– «Кюхля». Я читала. Это?
– Макс Волошин.
– Знакомый?
– Нет, что ты. Художник. Поэт. Критик. Вообще личность серьезная.
Он стал показывать ей книги. Доставал с полок, вытаскивал из стопок на полу, скороговоркой упоминал авторов, читал наизусть стихи. Ему казалось, что все, что он сейчас говорит, он говорит именно ей, Саше, хотя в действительности его общение с книгами обладало свойством самовоспламеняемости, и он мог бы с таким же успехом говорить сейчас то же самое кому угодно.
Саша уловила происшедшее в нем преображение, и оно невольно передалось ей. Она не успевала следить за ходом мысли, но видела только, как, словно у ребенка, улыбка довольства вползала на его лицо, и он, как ребенок, прогонял ее, напружинивая губы и нервно стягивая брови к переносице.
Она поняла вдруг, чего так хотелось ей тогда, девчонкой, и чего так остро захотелось теперь – ей хотелось пожалеть его. Да, именно сейчас, когда она восторгалась им и чувствовала его силу, ей неизвестно почему хотелось его жалеть. А он продолжал упиваться потоком своей речи, не подозревая, что не в тех, о ком он говорил как о своих хороших знакомых и к которым Саша даже не испытывала сейчас ревности, а в ней, в ее жалости источник его силы и, быть может, спасения.
Андрею, видимо, передалось как-то Сашино состояние. Он узнал этот ее взгляд. Нет, он ошибался, полагая, что теперь этот взгляд будет по силам ему, осекся, сказав что-то вроде: «Ну, в общем вот так…» – и отошел к окну.
Окно выходило в яблоневый сад, по их северным темпам только еще зацветавший. Солнце пропитало его розовым теплом, но за железной дорогой в районе парка Победы уже собиралась новая гроза. «День гроз и зноя, гроз и зноя», – произнес он про себя.
– Мне кажется, мы с вами где-то встречались, – сказал вдруг Андрей и почувствовал необыкновенное волнение, будто признался в любви. Страшно было повернуться от окна и взглянуть на Сашу.
Он повернулся.
Саша сидела, обхватив колени, и смотрела перед собой. Он присел на корточки, пытаясь заглянуть ей в глаза.
– Да? – спросил он.
– Нет, – сказала Саша, коротко засмеявшись своим «верхним» смехом. – Нет, вы меня с кем-то путаете. – В глазах ее выступили слезы.
– Саша, – позвал Андрей и взял ее за руки. – Эй!
– Нет, нет, – замотала головой Саша. – Говорю же!.. – Она смахнула пальцами слезы и улыбнулась. Ее большие веки подрагивали. Андрей поцеловал Сашины руки и торопливо заходил по комнате, как будто разминая тело после сна. Потом остановился и спросил намеренно бодро:
– Еще ложечку кофе?
– И покрепче, – ответила Саша.
После третьей за сегодняшний день грозы зелень пахла по-банному душно. В траве шевелились прибитые дождем бабочки. По лужам мальчишки гнали крючками кольца. Схватив Сашу за плечи, Андрей оттащил ее подальше от лужи, и водяной веер покорно лег у ее ног. Уже совсем не грозные облака пенились на горизонте и оседали, превращаясь в янтарный закат. Казалось, там шло большое пиршество. А может быть, боги заметили их и подняли кубок за их счастье.
Когда они порядочно отошли от его дома, Саша, усмехнувшись, сказала:
– Что-то сегодня день какой – снова есть хочется.
– Давай зайдем в кафе, – сказал он. – Тебе чего хочется?
– Мяса! – сказала, как отрубила, Сашенька.
– Сырого?
– О, нет! – засмеялась она. – Сырое ест только ваш барс.
Проводив Сашу до дома, он вышел на улицу, вычислил ее окно на первом этаже и увидел, как Саша включила свет и задернула шторы. То, что она не выглянула в окно, вызвало в нем досаду – его уже не было с ней. Ему захотелось вернуться и навсегда забрать Сашу, но он только еще раз взглянул на слабо освещенное в белом сумраке окно и медленно пошел домой.
Андрей перебирал в памяти события дня, и во всем, что сегодня произошло, виделся ему прекрасный умысел и таинственное обещание чего-то необыкновенного.
Он привык верить своим предчувствиям. Ему казалось, что если относиться к жизни с серьезно, то можно подстеречь судьбу, увидеть, как природа и обстоятельства плетут нить твоей жизни. И вот ты уже вовлечен в игру и мчишься неизвестно куда, и главное, что от этого влечения к тому, что ждет тебя за поворотом, уже никуда не деться, – в этом-то и состоит главная упоительность всего. Наконец приходит момент, когда вступает в силу голая неизбежность, происходит внезапное отключение воли, и человеком овладевает пугающее и прекрасное чувство неумолимости жизни.
Этот миг, когда уже невозможно уклониться, быть может, и наступил теперь.
Тут же он попытался осадить себя и дал слово ироничному Тараблину. «Романтический предрассудок – атавизм – милое наследие золотого, что уж говорить, века русской литературы!..» – «Предрассудок, – отвечал он Тараблину, – разумеется. Но ведь факт!»
Андрей вдруг подумал, что они в СНО, анатомируя текст, рассуждая о композиции, детали и прочее и прочее, слишком мало говорят да и думают о том, что как раз и есть главное: счастье, смерть, любовь… Выходит так, будто все, над чем бились те, кого холодновато называют классиками, теперь уже разрешилось и давно выяснено, и главный интерес представляет не «что», а «как». Играют с классиками в «классики». Всякий боится всерьез подойти к главному, всякому кажется, что он ростом не вышел. Тут надобна личная смелость. Да, личная!..
Таким представлялось ему сейчас все это простым и ясным, и, казалось, уж оттого, что он это понял, он в миг перерос на голову своих коллег и вступил на тропинку самостоятельной мысли.
«Вот, например, хоть я сейчас, – думал Андрей. – Счастлив? Пожалуй. С другой стороны – что такое счастье? Прыгающий в груди щенок? И может быть, собачья радость – имя этому восторгу. Что я знаю про счастье? Что все про него знают?»
Но, что же тогда делать, снова подумал он. Как сказано в сказке: «Пойди туда – не знаю куда, принеси то – не знаю что».
Когда он впервые прочитал эту сказку, его поразило, что и сам царь не знает ведь, куда нужно идти и что добыть. А в то же время непреклонность его воли говорила, что он как бы и знает то, чего не знает, и нужно Ивану Царевичу идти не просто, куда глаза глядят, а именно в то заповедное место, о котором никто не имеет представления.
Вот что оно такое – счастье.
А почему Мефистофель отнял у Фауста жизнь именно тогда, когда тот захотел остановить мгновение? Да, если счастье – это блаженство, то погружение в него всегда влечет за собой гибель. Однако вот же я иду и – никакой потусторонней силы за плечами. И завтра снова, если захочу, могу увидеть Сашу. И вот же – мозоль на ноге чувствую, и правый ботинок промок, и хочется спать… Какое уж тут блаженство.
А может быть, счастье – это чуть-чуть, малая малость, тополиная пушинка, которая нарушает мертвое равновесие весов? Стоит ли о ней думать, когда она есть, а когда ее нет – и тем более.
Но, что же это я рассуждаю? Или мне чего-то еще недостает?
Ему стало досадно, что он столько рассуждал о каком-то счастье вместо того, чтобы думать о Саше. «Сколько времени потерял даром, дурак», – сказал он вслух и принялся думать о Саше. И все, что он ни вспоминал о ней, все ему нравилось. Он находил ее и остроумной, и деликатной, и умной, и красивой. «Зачем вы держите этого людоеда?» Он рассмеялся, но тут же сам себе зажал рот и оглянулся – не напугал ли кого из прохожих.
«Нет, друзья, это судьба, что мы с ней встретились, – одержимо бормотал он. – Это, уж извините, не ваших рук дело. Не обижайтесь, но вы бы так не сумели. Тут, видите ли, замысел просматривается, который нам с вами не понять. Пенять. Шпынять… Судьба, господа, судьба, а она, как известно… Да-с. Два-с. Ай, хорошо, ай, хорошо», – напевал он, подпрыгивая и поднимая колени.
И вдруг ему вспомнилось, как совсем еще несмышленышами встретились они с Сашей у куста и она просила его отдать бабочку, и вспомнилась бабочка, нервно подрагивающая сдвоенным крылом, и то чувство стыда, которое он испытал, увидев Сашу в бане. Он впервые вспомнил об этом, и полузабытые эпизоды выстроились сейчас в ряд, и ряд этот поразил его своим пугающе ясным смыслом. Как же он не вспомнил об этом сразу. Надо завтра же, завтра же рассказать об этом Саше.
Но он тут же понял, что они далеко еще не перешли на тот язык, которому было бы это подвластно, слишком много условностей стояло между ними, и то, что он чувствовал к Саше, ему еще необходимо до времени таить. Но эта затяжка была принята им с юмором и ничуть не поколебала оптимизма.
Дома он сразу прошел на кухню и, не зажигая света, долго смотрел на букет оставленных Сашей гвоздик. Дотронулся до стеблей, будто тронул Сашины пальцы. Вдруг ему вообразилось, что что-то помешает им встретиться с Сашей. Втайне он сознавал, что это вздор и что он зря мучит себя, но ему хотелось себя мучить.
Едва положив голову на подушку, он явственно услышал, что в подушке звенит гроздь маленьких колокольчиков. Поднял голову – звон исчез. Лег – звенят. Он потряс подушкой, покачал тахту, вынес на кухню вазу с вставленными в нее ветками сухого проса. Но как только снова приложил голову к подушке, тут же не ухом даже, а виском снова услышал колокольчики. Андрей успел еще подумать, что это слышится, наверное, струение крови по сосудам, успел с улыбкой усомниться и в этом, и в таком зыбком равновесии явственности и догадки исчез из мира.
«ТАРАБЛИН, ДРУГ ТЫ МОЙ ЛЮБЕЗНЫЙ! Как же забыл ты сдать мои книги в библиотеку? Мне из-за этого хотели придержать стипендию – едва упросил. Не друг ты после этого, а свинья. Я свинья по гороскопу, а это совсем другое дело. Мы – гороскопические (гороскопские?) свиньи – как раз отличаемся большой верностью в дружбе. Потому и пишу тебе, видимо, как обещал, хотя надо бы через бюро добрых услуг послать тебе дубинку и попросить, чтобы ею отколотили тебя.
Что тебе сказать – я в Тарусе, в этой подмосковной Мекке. И не один. А с кем, ты уж, верно, догадываешься. Мы с Сашей сняли веранду у милой женщины Ольги Осиповны.
Не буду прибавлять к классическим описаниям свой рассказ о Тарусе. Скажу только – здесь лучше, чем можно было ожидать, прочитав того же Паустовского. Кстати, он, говорят, в Ялте и сильно болен, но его дом на Пролетарской показали нам мальчишки. Здесь все его знают и любят, фамилию произносят на свой манер – Пустовский.
Дом загорожен мрачным сплошным красным забором, и к нему не подступиться. Это немного огорчило нас. Гения красит демократизм и открытость. Хотя, думаю я, не писатели – слава воздвигает заборы, это ее и только ее забота. Будем же, Тараблин, наслаждаться пока своим бесславием. Кто знает, что ждет нас впереди, может быть, тоже забор – то-то скучно будет.
Были на могиле Борисова-Мусатова со „Спящим мальчиком“ Матвеева. Она заросла шиповником. Ездили в Поленово – там замечательно.
Что еще? Хожу пить пиво и слушать разговоры в шалмане на берегу Оки. Пиво, сказать правду, припахивает водой, но зато пейзаж удивительный. И люди и разговоры… Не могу сказать, чтобы все это, „превозмогая обожанье, я наблюдал боготворя“. Нет, этой умильности во мне нет ни на грош, я и в Б. Л. ее не люблю. Но скажи-ка, когда мы с тобой впервые подумали обо всех этих людях „они“ вместо „мы“? Дело не в том – лучше-хуже… Но разрыв этот вреден и нам и им (вот опять!). А главное, „они“ – это ведь и родители наши.
Таруса расположена на высоком берегу, и гулять по ней – удовольствие. Лодки на Оке с высоты кажутся поплавками, а невидимые лески от них уходят в небо.
Я подумал: приедь я сюда лет на десять раньше, один из этих рыбаков мог оказаться Заболоцким. Помнишь ты у Заболоцкого:
И я, живой, скитался над полями, Входил без страха в лес, И мысли мертвецов прозрачными столбами Вокруг меня вставали до небес.И дальше там что-то о „птицах Хлебникова“ и о том, что в камне проступал „лик Сковороды“.
Если и хочется чего мне в это лето (потому что полное отсутствие желаний и мыслей о том, что находится за пределами нашей тарусской жизни, – вот особенность моего состояния), так это…
Впрочем, я, пожалуй, возвышенно завираюсь. А сказать серьезно – боюсь умереть, больше ничего. Умереть сейчас было бы нелепостью и свинством (куда большим, чем твое). А потому этого и не будет.
Опять завираюсь, потому что философствовать совсем не хочется. А мысль какая-то зреет внутри, помудрее, может быть, чем у философов. Только это и не мысль, вот в чем дело, и мне ее тебе никогда не передать.
Ты уж, я чувствую, потираешь руки и из простодушия моих невежественных разглагольствований вывел то, что только и можешь вывести: влюблен.
Да, друг мой Тараблин, влюблен. Я спокойно произношу это слово, потому что оно ничего не в силах объяснить и потому совсем не затрагивает ту область моей жизни, которая не твоего едкого ума дело. „Пища, полезная одному, не годится другому“. Это из старинной книжицы, которой мы развлекаемся вечерами, если не играем с хозяевами в карты. Называется она „Карманная книга французско-немецко-русского разговора по Эдуарду Курзье“, а вышла в Санкт-Петербурге на следующий год после смерти Пушкина. Саша готовится к поступлению на французское отделение к нам в университет, обложилась учебниками. А Курзье, конечно, больше для развлечения.
Ну, прощай, Тараблин. Как твоя экспедиция? Следующий год, может быть, поедем в Архангельск вместе. А уж встретимся по осени, и тут бы я с тобой „побился кое о чем“ (Курзье!).
Пока живи. Андрей.
P.S. Конверт со штемпелем тарусским сохрани. Ты, я знаю, без сантиментов, ну так мне подаришь».
ПОЧЕМУ С ТАКОЙ ЖАДНОСТЬЮ ЛЮДИ ЧИТАЮТ ВСЕ, ЧТО ПИШЕТСЯ О ЛЮБВИ? Ведь никто еще не сумел воспользоваться простосердечием чужих исповедей. Ни один не встретил собственное отражение в зеркале чужой любви. Может быть, даже так, что, занимая ум какой-нибудь историей, мы только и ждем момента, чтобы воскликнуть: это не про меня. И чем больше узнаем себя в другом, тем отраднее для нас пусть одно, но решительное несовпадение.
Тут угадывается подобие закономерности. Подозреваю, что никто из нас не хочет ясности в любви. Быть может, потому тайне этой, чтобы остаться тайной, не требуются обеты молчания. Все только и делают, что говорят о любви, но никто, как ни старается, не может проговориться.
Однако так же, как упорно мы отказываемся что-либо понимать в этой прекраснейшей из катастроф, так же по-птичьи улавливаем малейшие ее признаки в себе самих или в ком-нибудь рядом. Если возникает между двумя любовь, то ощущают это каким-то образом все вокруг. Такое силовое поле, что ли, возникает, которое, пусть краем, но задевает каждого.
САША И АНДРЕЙ ВИДЕЛИ, что многие из тех, с кем им приходилось сказать хоть слово, менялись на глазах: как будто людям доставляло удовольствие отвечать на их вопросы, уступать, шутить, советовать, помогать, и каждый с удивлением обнаруживал, что он остроумен, и каждому хотелось подольше задержаться возле них, чтобы продлить это состояние. Они догадывались, что причиной подобных перемен были они сами, и быстро и беззаботно к этому к этому привыкли.
Веранда, в которой они жили, широкой своей стороной выходила в хозяйские вишни, а боковой – на тихую, заросшую травой улочку. По стеклам ее спускались листья дикого винограда, почти на метр от земли ощипанные козой.
Вставали они поздно, просыпая обычно утренний рынок. Мылись в саду. Саша выливала из умывальника нагретую солнцем воду, и Андрей приносил из колодца свежей. Иногда сразу шли на речку. Особенно хорошо было купаться после ночного дождя. Раздевшись, они проходили к реке под кустами ольшаника, и листья морозно оглаживали их спины и роняли на теплую кожу электрические капли. Смеясь и вздрагивая всем телом, Саша и Андрей словно только теперь пробуждались. Ступая в витые русла ночных ручьев, они ощущали голыми подошвами теплую корочку песка, проламывая которую пятка погружалась во влажный холод.
Саша первая бросалась в воду и устремлялась наперерез течению к другому берегу. Плавала она прекрасно. Он же влезал в воду боязливо, осваивался, нырял, яростно боролся с течением, намечая себе цель в виде какого-нибудь поваленного дерева или мыса, потом отдыхал, раскинув руки, но на другой берег не плавал. Саша махала ему с далекого пригорка, а он вдруг начинал волноваться, осознав пространство реки как разлуку, и смотрел на Сашу, вызывая ее молчаливым криком, и, как будто почувствовав его зов, Саша ловко сбегала в своем синем купальнике к воде и плыла к нему.
Иногда после завтрака они переправлялись паромом на другой берег и там загорали или просто сидели у парома. А то, исходив пешком всю Тарусу, садились отдыхать в сквере у гостиницы.
Над головами отцветали поржавевшие уже кое-где гроздья мелкой сирени. За Таруской в карьерах ухали взрывы, поднимая в небо черные вороньи тучи.
Им было легко молчать друг с другом. Казалось, что каждый видел и чувствовал то же и так же, что и как видел и чувствовал другой. И оба думали, что дело вовсе не в их внезапном согласии, а в том, что именно теперь они видят мир таким, каков он есть на самом деле. Если Андрей, например, показывая солнечные блики на реке, говорил: «Смотри, как будто мальчик с золотыми пятками бежит», то Саше казалось, что Андрей прямо-таки сорвал у нее с языка эту самую фразу.
Бывало, посреди разговора кто-нибудь из них замолкал, и они смотрели друг на друга, словно птицы, попавшие во встречный поток ветра. «Ну же», – говорили ему Сашины глаза. «Да?» – переспрашивал он. «Да, да!..» – отчаянно говорила Саша. Как бежали они к своей веранде, резвые и бесстыдные.
Солнце копошилось в листьях винограда, безуспешно пытаясь отыскать зрелую ягоду. Хозяйская Светка проверяла, приложив ухо, звонок новенького велосипеда. Стекла веранды напитывались предвечерней лиловостью.
Им обоим казалось, что они совершают сейчас что-то такое же обычное, как цвета, звуки и запахи этого дня, но только самое лучшее. Все вокруг пропадало на мгновение и снова плавно входило в сознание, потом опять для самого главного, самого лучшего им нужно было пропасть, чтобы появиться вновь… Распущенные волосы Саши пахли речкой, голова была откинута назад и набок, а глаза спали…
– …А из чего огонь? – спрашивала Саша, вызывая его из полудремы.
– Из апельсина, – отвечал он. – Из охры. Из поцелуя.
– Андрюша, – говорила она, – а кто будет после людей?
«Кто-то уже об этом спрашивал, вот так же, – думал он. – Но вот каков был ответ?»
– Не помню, – отвечал он. – Что-то не припомню.
Дни шли однообразно счастливые, словно давно кем-то загаданные, тем, видимо, кто распорядительно менял дождь на зной, вливал молодую кровь в поспевающие вишни и задаривал их обоих причудливыми великолепными снами.
Чуть ли не каждый день Саша что-нибудь изменяла в своей одежде, и эти внезапные тесемочки, ремни и кофты волновали его, как метаморфозы знакомого пейзажа, как неожиданный поворот в разговоре. Он, однако, считал нужным отмечать это сдержанно и с долей иронии.
– Серая кофточка на обед тебе очень удалась, – говорил он, например.
– Не обольщайтесь, сударь, – отвечала Сашенька. – Это я не для вас, а для ветра.
Никогда еще не казалось им таким легким и обычным делом проникновение в чужую жизнь. Случалось, из одного взгляда или слова в голове рождались целые повести.
– Он не был там, в своей деревне под Киевом, двадцать лет. С тех пор, как продал дом. У него же в войну всех родственников немцы убили. Там, конечно, уже большой поселок, ничего нельзя узнать. И вот, представляешь, в первом же доме, едва он открыл калитку, его узнали: «Надюша!». А он уже и забыл, что его так звали в детстве.
Это из разговора двух женщин, которые в халатах прогуливались с ними в одном направлении. Они уже обогнали этих женщин и никогда, видимо, не узнают ни начала, ни окончания разговора.
– Как это, наверное, трудно вот так возвращаться, – сказал он. – К доминошному столику, воздвигнутому, быть может, над безымянной могилой.
– Не говори так, – сказала Саша.
– Это, знаешь, это все равно что проснуться однажды в будущем, – продолжал Андрей. – Лет так через пятьсот. Помнишь, об этом как-то много писали. Будто в жидком гелии, что ли, можно заморозить человека.
– Глупость, – отозвалась Саша. – Похоронить себя в будущее. – И, содрогнувшись то ли от холода, то ли от этой мысли, добавила: – Нам это не нужно.
– Главное, я подумал, если даже предоставят тебе возможность кого-нибудь воскресить, то ведь сам же и откажешься.
– Фу, как ты ужасно говоришь, – сказала Саша и жалобно прижалась к нему.
– Ну все, все – что ты? – спохватился он и поцеловал ее.
Они шли некоторое время молча. Еще было светло, но уже чуть резче, чем днем, пахла трава, и в домах стали зажигать свет.
– Повернем? – предложил Андрей.
Саша отрицательно покачала головой.
– Ну… О чем молчишь? – позвал он ласково.
Такие вопросы у них были в ходу.
– Нагнал тоску, а теперь спрашивает, – сказала Саша.
– Смотри, белая кошка дорогу перебежала, – показал Андрей.
– Это бы еще к чему? – засмеялась Сашенька.
– К дождю, Марья Васильевна, – зачем-то заокал он. – Определенно вам говорю.
Они повернули к дому. Облака, влажные и рыхлые, ярко светились на горизонте. Хотелось не домой, хотелось из дома – в тамбур поезда, в тарантас, на крыло самолета – лишь бы движение, лишь бы путь…
– Сейчас бы на юг, – сказала Саша.
– В Мелитополь, в Симферополь, в Севастополь…
– Тополиные названия…
«Как хорошо, – почему-то подумал Андрей. – Нет, это не может кончиться просто жизнью. Нет-нет, нас ждет что-то лучше жизни».
Середину пути отмечала куча угля, уже истощившаяся, разобранная за годы ветром и людьми. Сквозь нее даже начала прорастать пучками трава и чахлые цветочки.
– А вот я вас, вот я вас, – услышали они еще издали. Девочка лет семи с ядовитым пушистым букетом крапивы, стебли которого она предусмотрительно завернула в газету, бегала за парнем и девушкой. Те легко убегали от нее, пользуясь случаем нежно столкнуться друг с другом, жаждая этих как бы ненарочных объятий и прикосновений.
– Ох, Маришка!.. – кричала девушка, вздергивая голыми ногами, а парень держал ее за талию, придерживая легко и изгибисто вырывающееся ее тело перед надвижением неумолимого ядовитого букета и говорил:
– Ату ее, Маришка… – Но вдруг в последний момент ласково и сильно переносил девушку в сторону и убегал сам.
Девочка всегда запаздывала с решительным ударом. Может быть, тоже играла в поддавки.
– Ой, я уже не могу, – закричала девушка. Парень наклонился к ее уху, и вдруг они побежали в разные стороны. Маленькая агрессия с кошачьей проворностью побежала сначала за парнем. Однако он ножницами перемахнул через низкий забор и скрылся в кустах. Еще не расставшись с весельем, девочка повернулась, но второй преследуемой и след простыл.
– Хотела прогнать и прогнала – вот дуреха, – сказал Андрей.
– Это они дураки, – сказала Саша.
Не выпуская из рук букета, девочка зашлась в плаче. Ее крысиное личико было неприятно. Белесые брови покраснели. Рот в плаче открылся безобразно, как в зевоте или на непомерно большое яблоко. Андрею хотелось отвернуться.
– Ну что ты, глупенькая, – сказала Саша, трогая девочку за плечо…
– Они – (всхлип) – убежали…
– Ты же сама хотела их прогнать, правда?
– Ну и что же… – со страшным ревом послышалось в ответ.
– Хочешь, погоняй нас, – предложила Саша.
Не успели они опомниться, как девочка моментальным движением ударила Сашу крапивой по ногам. Потом еще и еще раз. Била она со злостью, тут уже не могло быть и речи об игре.
Саша не тронулась с места. Она на мгновение обернулась к Андрею, как бы прося у него защиты и объяснения, но тут же снова со страданием в глазах посмотрела на девочку.
Нет, ноги ее почти не чувствовали боли. И не коварная беспричинная злость девочки вызывала в ней страдание, но стоящая, быть может, за той злостью беда. Саша смотрела на маленькую обидчицу, на ее испуганное и одновременно торжествующее лицо и чувствовала, что не может ее любить. Она попыталась сделать над собой усилие и улыбнуться. Но и это ей не удалось.
Саша была поражена этой открывшейся ей вдруг неспособностью любить и быть доброй. Словно ее обокрали, словно она давно уже жила с этой пропажей и не подозревала о ней, и поэтому только, то есть по недоразумению и глупости, могла быть счастливой и уверенной в своем счастье. Невозможность, неправильность ее счастья представились ей сейчас так ясно, что она не могла вымолвить ни слова.
Вспомнив, наконец, о грядущем возмездии, девочка показала язык и убежала.
Они молча пошли в дом.
Андрей старался не думать о случившемся. Он чувствовал сейчас острое недовольство оттого, что почти месяц провел в безделье, и удивлялся, как, ничего не делая, мог все это время быть доволен собой и думать, что живет полной жизнью. Испытывал он досаду и от Саши – зачем она непременно хотела быть доброй? Даже хорошо, что ее порыв наткнулся на букет крапивы.
Впервые за эти дни молчание Саши тяготило Андрея.
– Ну, вот и подлечились от ревматизма, – попытался он пошутить и увидел, что Саша плачет.
Не зажигая света, Андрей разобрал постель. Вскоре пришла Саша и легла рядом, откинувшись на свою подушку. То, что лица Саши не было видно в темноте, как будто его еще можно было придумать, и то, что от него доходил единственный определенный запах земляничного мыла, вызвало в нем одновременно ощущение доступности и загадочности. Он думал о том, что лица Саши он уже не может выбрать или придумать, что оно выбрано раз и навсегда, и все же чего-то боялся (что рядом с ним может оказаться не она, что ли, если включить свет?).
Андрей засыпал. Кажется, ему еще хотелось быть пионером, жить в общей палатке где-нибудь в «Артеке», волноваться только о том, что неделю не писал домой, любить какую-нибудь девчонку или даже двух, и хотя бы одну из них безнадежно, думать, как о неприятности, что завтра утром погонят на зарядку и в море, и какая будет в море холодная и зеленая вода. Ему хотелось исчезнуть в это беззаботное пространство, но боязнь, что, если включить свет, рядом с ним окажется не Саша, не давала ему свободы перелета и тянула назад. Он знал в то же время, что сегодняшняя тревога и разброд пройдут, и завтра им снова будет хорошо с Сашей, как всегда.
Действительно, наутро, проснувшись раньше обычного, он увидел Сашино напряженное во сне, как бы летящее к нему лицо и улыбнулся.
ЧУВСТВО ЮМОРА В ЧЕЛОВЕЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЯХ – все равно что дневной свет. При нем пугающие фантомы тьмы превращаются в плащ на гвозде, в мокрый куст шиповника, в шину от «Кировца» или в какой-либо иной понятный предмет. Щелкнуть бы ту девчонку по носу да пригрозить тем самым пушистым пучком – то-то бы она вмиг очеловечилась, стала бы понятной и ничуть не страшной.
Девочка, кстати, была милая. И новую погоню за нами приняла взахлеб, как бы щадяще опаздывая с ударами. Но скоро мы, как и наши предшественники, утомились. Утомились быть добрыми и скрывать под веселым потаканием чужому одиночеству нашу разгоревшуюся к вечеру тягу друг к другу.
Однако вечер этого дня прошел обыкновенно. Разве чуть больше подначивали мы друг друга и упражнялись в остроумии. Потому что на душе было все же немного скверно. Это правда.
ПРИЗНАВШИСЬ ТАРАБЛИНУ, что его состоянию свойственно всякое отсутствие желаний и мыслей, Андрей был не совсем прав. В Тарусе он много думал о своих родителях, в частности, об отце, которого почти не знал. Неизвестно почему мысли эти приходили к нему во всякую свободную от Саши минуту, и даже с ней он никогда о них не говорил.
Что-то, казалось ему, жизненно важное и необходимое для будущего было в этих возвратах в прошлое, но он сам пока не мог понять что. Он пытался уловить некую ритмическую закономерность, осмысленное воссоединение чьих-то устремлений и воль, которые теперь расцвели в нем ослепительным счастьем.
Но этой-то осмысленности, он, как ни старался, не мог обнаружить в прошлом.
Отец его был из тех бедняков, в ком голод физический стимулировал голод духовный. Впрочем, последнюю формулу можно сузить до выражения «воля к знаниям», да и не в таком, может быть, совсем уж чистом виде, а воля к знаниям как форма утверждения себя в новой жизни.
Тут важны не столько способности и сила характера, сколько социальное чутье, которое в такой же степени дар и талант, как, к примеру, темперамент, музыкальные способности и все прочее.
В детстве за зиму вынужденного сидения на печи без обутки изучил он самостоятельно программу семилетней школы, сдал экзамены в районном ШСМ и устроился на курсы бухгалтеров, параллельно обучая в ликбезе неграмотных. После нескольких месяцев работы в кооперации внимание его привлекло объявление об открытии шестимесячных учительских курсов. Молодой бухгалтер оказывается на этих курсах и вот уже в свои неполные восемнадцать лет возвращается учителем в соседнее с родным село, откуда недавно ушел босым.
В городе, кстати, Григорий познакомился и со своей будущей женой – Пашей. Ее, уехавшую из деревни то ли за новыми впечатлениями, то ли от каких-то неприятных воспоминаний, судьба привела в качестве официантки в ту столовую, где обычно обедал отец, и даже в один из дней аккуратно подвела к его столику.
В этом месте сюжета Андрей останавливался. По всем романтическим канонам здесь должна была таиться первая разгадка. Но его воображению представлялся только заурядный случай: скучающий в чужом городе молодой бухгалтер и скучающая симпатичная официантка.
Если и усматривал он в этой встрече что-то более значительное, если и трогала она его невольно, то лишь потому, что далеким следствием этого эпизода было его собственное рождение. Но, говоря честно, это выглядело чуть ли не подтасовкой. Ведь выходило, что он сам из своего настоящего подавал руку помощи прошлому, а ему хотелось, чтобы было наоборот.
В селе к моменту возвращения отца уже образован колхоз. Конюшня, в которой он чистил кулацких лошадей, превращена в школу. В ней занимаются одновременно четыре класса. У него шестьдесят учеников.
Положение у отца уже не то, что год назад. По первым ступенькам лестницы он, можно сказать, пробежал на одном дыхании и даже не заметил, как отрастил лихие усы, как с махорки перешел на папиросы. К старому учителю, бывшему дьячку, уже обращался на «ты».
Односельчане быстро поняли, что недолго осталось Григорию учительствовать. Не полной ногой ступает человек на землю. Хозяйством не обзаводится. Задумывается часто.
В этом месте Андрей делал вторую остановку. Хотелось ему проникнуть в мысли отца. Он понимал, что занятие это бессмысленное, но от этого становился еще упорнее.
О чем тогда думал отец? Была ли ему помощью любовь мамы? Или не было любви, и он это чувствовал, и от этого страшно было пускаться в новую жизнь?
Дальше все складывалось у отца правильно и успешно, но его, Андрея, детские впечатления никак с этим успехом не совпадали.
Через некоторое время после того, как стал он учительствовать, вызвали Григория в военкомат и предложили ехать в Ленинград – поступать в военное училище, – жизнь сама шла ему навстречу. Из училища он вышел лейтенантом связи. Попал на финскую.
Окончилась финская. Никто не знал еще тогда, что это передышка. Вызвал отца к себе начальник отдела кадров при штабе дивизии Петр Петрович Плеханов («Пэ в кубе»). Сказал, чтобы срочно отправлялся он в Петропавловскую крепость, где в это время организовались Курсы усовершенствования комсостава (КУК). После КУКа вышел он командиром учебного радиовзвода. Вскоре после этого и Паша окончательно перебралась в Ленинград. Потом война. Уже утром отец был в Песочной, где формировалась их часть, а мать осталась одна в незнакомом городе с маленькой дочкой на руках.
Так, собственно говоря, и решилось, что Андрею суждено было стать ленинградцем. Со всеми вытекающими отсюда последствиями.
После войны отец еще некоторое время работал в училище, но выше майора так и не поднялся. Армии нужны были уже новые офицерские кадры, отец же не стал поступать в академию и вскоре демобилизовался.
После демобилизации устроился работать шофером на «Катушке». Было это уже в году пятьдесят четвертом. Андрей, которому было тогда семь лет, помнил его в эту пору.
Нельзя сказать, чтобы смену кителя на ватник отец воспринял легко. Его прямая спина и манера при ходьбе ставить ноги носками в стороны, оставшаяся со времени недолгой службы в кавалерии, выказывали нежелание смешиваться с гражданским людом. Однако гордая эта осанка почему-то вызывала в Андрее жалость к отцу. Может быть, потому, что во время ходьбы отец размахивал руками и разговаривал сам с собой. А через год-два и плечи его осели, и походка стала обыкновенной, разве ноги чуть пришаркивали, как в полонезе, да голова, точно у гоголька, всегда была запрокинута.
Уж работая на «Катушке», отец устроил в сарае мастерскую. По собственным чертежам сделал верстак и некоторые инструменты. Особенно гордился фуганком, выклеенным из бука и груши. Вечерами в этой мастерской он делал себе и соседям нехитрую мебель.
В сарае с отцом Андрей мог просиживать часами, смотреть, как масляно из рубанка выползают желтые стружки, дышать спиртовым запахом древесины. Иногда он помогал отцу подгонять шипы или помешивал клей.
За работой отец был разговорчив. Андрей заметил, что неуловимым ходом любую историю подводит он к тому, что все на земле совершается по какому-то никем до конца не узнанному закону справедливости, и содеянное зло рано или поздно возвращается к человеку и обращается против него, а самоотверженность и доброта, напротив, неизменно воздаются ответной добротой и любовью. Андрей даже придумал игру: в середине истории мысленно забегал вперед, пытаясь предугадать, каким образом на этот раз отец приведет ее к мирному финалу.
Про себя он немного посмеивался над этой тайной слабостью отца, но всякий раз, когда история заканчивалась, Андрею становилось хорошо и покойно, казалось, и у него тоже есть невидимый защитник, который знает, как он внутри добр и сколько умеет чувствовать, и в решительный момент он не оставит его. В такие минуты он особенно любил отца и отец казался ему самым надежным человеком в мире.
Чаще других отец рассказывал историю об английском инженере Брайане Гровере, который, полюбив русскую девушку Елену, приобрел за 173 фунта стерлингов подержанную авиетку, отремонтировал ее и в ноябре 1938 года через Амстердам, Бремен, Гамбург и Стокгольм незаконно прилетел в Советский Союз.
В первой части рассказа отец вскользь лишь говорил о любви Гровера, всячески подчеркивая, как рискован был перелет на маломощной авиетке через Балтийское море и как опасно совершенное Гровером преступление, карающееся по статье 59-3д Уголовного кодекса РСФСР. На этом драматическом фоне необыкновенно выигрывал счастливый финал. Ради него-то он и старался.
Суд признал Гровера виновным в незаконном пересечении советской границы, но, учитывая все обстоятельства, приговорил его к месяцу тюремного заключения, которое было заменено штрафом. Об этом решении отец сообщал торжественно и строго, как бы подражая голосу судии.
На Андрея эта история производила сильное впечатление.
Отец не знал, как сложилась дальнейшая судьба Брайана Гровера и Елены, и благодаря этому их история превращалась в своеобразный миф с вечно меняющимся и бесконечно длящимся счастливым завершением.
Кроме этой истории, Андрею запомнилась еще одна, но та уже скорее по чувству недоумения и досады, которые она вызывала.
– Дед твой до революции был сугубо верующим, – рассказывал отец. – Являлся даже церковным старостой и один только имел доступ в алтарь. А уж посты как соблюдал, как молился!.. Каждое воскресенье с утра – в церковь всей семьей. Так вот.
Новая стружка вкусно вывалилась из рубанка, отец вынул ее аккуратно, как аптекарь, и продолжал.
– И вот однажды заболела у него лошадь. Бились над ней много. Выводил ее отец в далекие луга, думал, сама она себе найдет нужную лечебную траву. И травяным отваром поил, и знахарки над ней шебаршились – подыхает лошадь. А что было остаться крестьянину без лошади – смерть. Сена уже не привезешь. Вот тогда отец и сказал: «Верую только в Господа. А если в таком не поможет мне, значит, и нет его». И ушел на всю ночь молиться в церковь. Лошадь же к тому времени уже и стоять не могла.
Отставив в сторону рубанок, отец вынул из-за уха папиросу, закурил и на минуту замолчал. А Андрей по своей привычке уже обряжал историю в новые подробности.
Дед, не дав никаких приказаний, скорым шагом ушел в церковь. Потом Андрей представил деда в темной церкви с красными шевелящимися огоньками лампад и выступающими из темноты ликами святых. Такую ночную церковь видел он недавно в кино. Шепот дедовской молитвы звучал прерывисто, как звук далекой пилы. Страх, который Андрей испытывал сейчас вместо деда, казался ему достаточной платой за выздоровление лошади. Он начинал торопить счастливый конец. Серым осенним утром дед возвращался домой и находил лошадь здоровой.
– Ну и вот, – продолжал отец, – возвратился дед из церкви, а лошадь уже околеть успела. Как он закричал тогда. Даже плакал. И с тех пор стал самым ярым в деревне атеистом.
Так-то. Как бог с лошадью, так и отец с ним. Все по честности.
«Да как же по честности-то?!» – хотелось крикнуть Андрею в ответ. Разве не понятно – все в этой истории виноваты – и Бог, и дед, и лошадь. А может быть, прибавлял он тут же, не виноват никто.
Ему стало жалко отца, и он испугался этой своей жалости.
Вечером отец пил в саду с доминошниками. Еще месяц-два назад он бы не позволил себе этого.
Они вышли с матерью звать его домой.
Ночь была весенняя, лунная. Камни и земля стянулись голубоватым сухим ледком, который потрескивал под ногами.
Голос отца они услышали издалека, а вскоре увидели и его. Он поднимал камешки с земли и, неестественно отклонившись, словно подставив дождю лицо, с присвистом кидал их в небо, приговаривая:
– А, чтоб они там сдохли.
И Андрей вдруг понял, что отец давно уже не верит в счастливые концы своих историй. И такую тоску почувствовал он, что тихо заплакал.
Осенью этого же года отцовская полуторка, которую в холода он отапливал катушками, столкнулась с самосвалом. От ран и ожогов отец умер к вечеру.
Когда боль и чувство утраты стали притупляться, вдруг проступило скрытое до этого чувство обиды на отца, как будто своей гибелью он их с матерью невольно предал. Быть может, это и создало в нем ту брешь, в которую утекало по капле его недолгое счастье.
ЭКЗАМЕНЫ В УНИВЕРСИТЕТ САША УСПЕШНО ПРОВАЛИЛА. Закусила губу перед доской со списками, в которых ее не было, постояла с минуту, словно приучаясь жить с новой обидой, и они пошли вместе пить кофе.
– Ты как? – спросила она его, и этот участливый тон потерпевшей тронул Андрея своей боевитой беззащитностью.
– Я – ничего, – ответил он бодро.
– Вот-вот, – сказала Сашенька и замолчала. Потом добавила: – Я буду, стало быть, вечной лаборанткой, а ты моим лаборантом.
Андрей взглянул на нее вопросительно.
– Ну как генерал и генеральша, – пояснила Саша.
– Это ты так дерзишь? – с усмешкой спросил Андрей. – А все-таки, может быть, лучше станешь профессоршей?
– Нет уж! – засмеялась Сашенька.
До чего нравилась ему эта ее привычка смеяться сквозь слезы.
– Как скажешь, – миролюбиво ответил он, словно признавая ее пожизненное лидерство.
Так у них, кстати, и повелось. Во всем, что касалось, так сказать, высших сфер жизни, он был для нее непререкаемым авторитетом. Но по житейскому асфальту его вела она, и тут уж он был покорен как мул. Пытаясь иногда в шутку утвердить свое суждение о каком-нибудь фильме или книге, он говорил:
– Женщина, посмотри, – кто ты и кто я?
Сашенька же в подобной ситуации, настаивая на голубой рубашке или выкидывая в ведро немодный синтетический галстук, спрашивала, подражая ребенку:
– Кто у нас главнее?
Эта игра в семейный паритет нравилась обоим.
Сашина знакомая, уехавшая на два года в Венгрию, оставила им свою комнату, и уже в августе они стали соседями одинокой тридцатилетней пианистки и полноправными хранителями полированной мебели, хрусталя, четырех разномастных кактусов, долговязой герани и милого их сердцу «мокрого Ваньки».
Они перетащили в ленинградскую осень всю свою летнюю ненасытимость друг другом, чайную бесконечность вечеров и беспечность прогулок. Им нравилось заблудиться в очередном незнакомом парке и наедине с птицами коротать любовь.
«Все еще лето, правда? Лето, все еще лето…» – шептала Сашенька и прикрывала ему ладонью глаза, словно бы помогая продлиться иллюзии. А ему вдруг становилось грустно от ее слов, он делал над собой едва заметное усилие, но от этого становилось еще грустнее. Что-то в этом родном и понятном шепоте чудилось ему фальшивое. Даже не в нем, нет, и не в Саше, разумеется. А может быть, в том, что кто-то выдумал времена года. И они волей-неволей должны были с этой выдумкой считаться или же наслаивать на нее собственную выдумку, что, конечно же, было не лучше. Все в нем сопротивлялось тогда и Саше, и облетающим деревьям, и необходимости вставать и идти куда-то, покупать билеты, открывать двери. Даже вот эту любовь в парке хотелось вспоминать – жить ею не хватало сил. Хотелось исчезнуть, но так, чтобы остаться навсегда. А от этой жизни в подарок – Сашу. Да, в подарок…
Он видел Сашин взгляд – прожигающий воздух. То страсть смотрела глазами женщины. Новый порыв возникал в нем, но тут же и отступал. Это уже была не сама страсть – племянница ее, троюродная, быть может, сестра. Не страсть, да, нежность к сестре.
После долгого молчания, зная наперед, что слова его будут и неуместны и грубы, но как будто по принуждению живущего в нем педанта он сказал:
– Лето. Конечно. Только – бабье.
– Тебе нравится осень? – спросила вдруг Саша, словно поймав его на неопровержимой и постыдной улике. В голосе ее послышалась та резкая вибрация смеха, которая выдавала невидимые слезы.
– Да, – сказал он. – Я люблю осень. Октябрь люблю. Ноябрь.
Между тем и бабье лето проходило. О нем напоминал теперь лишь праздничный сор листьев на аллеях. Не успели они заклеить окно, как наступили зимние холода. Но паровое еще долго не включали.
Я РОДИЛСЯ И ВЫРОС В ГОРОДЕ. Зимнее бульканье голубей на чердаках такой же для меня родной звук, как для сельского жителя писк полевой мыши. Должно быть, в этих кварталах затерялась, говоря высокопарно, моя душа.
Но иногда мне кажется, что не там ищу и не отсюда родом тайна моей жизни. Словно, родившись в городе, я был пущен по ложному следу. И только иногда во сне…
Во сне я вижу один и тот же тонкоствольный лес, насыщенный запахом разлагающейся листвы. Нет в нем ни мхов, ни трав, только редкие островки заячьей капусты да тончайшего творения цветы на сухих стеблях. И только упругий влажный коричневый ковер и коричневая узорная трепещущая тень вокруг, не тень – среда изначального обитания, из которой когда-то я ушел динозавром в город моего детства – умирать.
Сон осуществляет долгожданное возвращение.
С горы стекает узкая речка. Я перехожу через нее. Тропинка выводит меня на высокий холм. Сейчас я взберусь на него, упаду в траву и стану ждать.
Здесь другой мир. По стеблю оранжевой пупавки ползет прозрачно-зеленая тля. Ромашки и васильки покачиваются, словно в хороводе, высоко над моей головой. Там же игрушечными коньками перелетают подтянутые кузнечики. Рука нащупывает зрелую землянику. Сейчас на этом холме со мной должно произойти что-то необыкновенное. Вернее, уже произошло когда-то. Я знаю это, но не могу вспомнить – что.
Во сне мне так ни разу и не удается взобраться на холм. А ведь я помню не только свое состояние на холме, но и дальше: аккуратную деревеньку, раскинувшуюся за его противоположным склоном, полянку у дома, заросший цветами и кустарником палисадник, из которого сквозь колючки, глянцевые листочки и паутину я подолгу смотрел на занятия школьницы-гимназистки.
Странно это. Я могу поклясться, что никогда не бывал ни в этом лесу, ни в том палисаднике. А между тем все это почему-то знакомо мне и всегда в неизменном виде возвращается во сне. И главное: сон этот связан с переживанием, которое в жизни вызывает только мысль о Ней…
Позапрошлым летом судьба действительно привела меня в этот лес.
Я сразу узнал его. Я прошел речку и поспешно взобрался на холм. Ничто не смущало меня на первых порах даже малейшим несовпадением, словно жизнь заручилась всевластностью сна. Земляника незаметно подбежала под мою правую ладонь. Я взял ее в рот и испугался – во сне я не срывал землянику и не помнил ее вкуса. Но я сразу понял, что так и должно быть – это я сам торопил жизнь в ту часть сна, которую ни разу не досмотрел.
Однако секунды переходили в минуты и часы, а со мной ничего не происходило. Небо совсем выцвело от солнца и было как будто покрыто ровным слоем пепла. Я задремал. Во сне снова повторился мой сегодняшний торопливый путь по лесу, вхождение на холм и то особое ощущение от совпадения сна и реальности – земляника под рукой… Я сорвал ее и проснулся от испуга.
Сухой серебряный прибой, образуемый треском кузнечиков, мгновенно смыл остатки сна. Но для чего? Чтобы, открыв глаза, я увидел вокруг себя – сон же?
«Сон в руку – жизнь в руку. Что за дурные игры!» – подумал я.
Я встал и без особой надежды пошел с холма в ту сторону, где должна была находиться деревня. Минут через десять я уже подходил к первым домам.
Еще издалека меня поразили открытые, словно бы навсегда, двери домов, заросшие крапивой и проломником дворы, крутой волной сбегающие к земле заборы…
Я подошел к одному из домов, не смея еще поверить в его необитаемость. «Хозяева!..» Голос мой потонул в черноте дверного проема и не вернулся. Вдруг, едва не ударившись в грудь, из дома вылетела крупная птица, оставив жуткое ощущение то ли несозревшего испуга, то ли тоски.
Не ожидая уже встретить кого-нибудь, я пошел вдоль деревни. Странное чувство. Эти жилища, покинутые кем-то на сиротство, являли собой как бы прообраз мира, каким быть ему, если он по роковой причине будет оставлен человеческой любовью и участием. Но яснее и абсурднее из всего, что испытывал я, было чувство личной вины. В чем же я-то виновен?
Подойдя к крайней избе, я снова открыл дверь и неожиданно услышал голос:
– А и заходи… – Этот голос испугал меня теперь больше, чем несколько минут назад птица, вылетевшая из темноты.
Я вошел. На лавке у окна сидела старуха. В комнате было чисто: вымытый добела пол, беленая печь, множество ковриков и дорожек. И белый же сумрак, который бывает в чистых избах ясным днем. Я не знал, о чем спросить. Старуха тоже молчала, без напряжения улыбаясь и вглядываясь в меня.
– Здравствуйте, – тихо сказал я.
Старуха, не вставая с лавки, поклонилась в ответ.
– Вы что же, здесь одна?
– А и ведомо…
Я все еще стоял у порога, и старуха казалась мне вырезанным из бьющего в окна света куском темноты.
– Где же остальные? – нелепо спросил я.
– Молчи, – словоохотливо откликнулась старуха. – В разные места подались… Кого убило, – вдруг добавила она. – Молока хочешь?
Я кивнул. Через минуту передо мной стояла кринка с молоком и ломоть хлеба.
– Бабушка, к вам так никто и не заходит?
– Почему? – удивилась старуха. – Иногда почтарка заглянет, хлебушка принесет. Вот ты зашел…
– А детей у вас нет?
– Как ить нет? Старший – доктор.
– Врач?
– Кто ж его знает? Доктор наук, одним словом, в Ленинграде живет.
– Что ж вы к нему не переедете? Трудно одной-то.
– Пожила и у них, да мне не понравилось. В столовой возьми – написано – щавелевый суп, а щавеля-то и нет, одна вода зеленая.
«Ай, старуха, – подумал я. – Из вредных, наверное. Чего было тащиться в столовую-то есть щавелевый суп. Неужели доктор каких-то там наук от стола ей отказывал?»
– Ты кто? – спросила старуха.
«Щавель парниковый», – хотелось ответить мне. Но я промолчал.
– Ягод у вас много? – вместо ответа спросил я.
– Много, – почему-то вдруг обрадовалась старуха. – За утречко полведра соберу. А заталанит, так и мерку.
В избе потемнело. Старухин силуэт начал постепенно прорисовываться и оживать. И по мере того, как он прорисовывался, мне все труднее было подыскивать нужные слова. Как будто навязался собственному прошлому в родственники.
Я уже торопился мысленно в маленькую комнатушку, которую снимали мы с товарищем на противоположном берегу реки, в наш непритязательный холостяцкий быт, где ждала меня грибная солянка. Поблагодарив, я вышел из-за стола. Старуха снова поклонилась, не вставая. Было почему-то неловко теперь сразу же взять и уйти, и я спросил:
– А рыбу вы здесь ловите?
– Не-е, – протянула старуха. – Какая я рыбачка!.. – И вдруг повеселела: – А ить однораз ловила. Батька дал удочку, говорит: «Как с лесу вернусь, чтоб язь уже в котле плавал». А и только ушел – у меня поплавок и потянуло. Я – вырк удочку на берег: мать моя, язь большущий-большущий, да и в траве скакать, удочку-то я бросила да на него как на зверя кинулась. – Старуха сильно засмеялась. – И правда, – продолжала она, – батя пришел, а язь у меня на огне.
Что-то меня задевало в старухе: веселость ли ее, оконным цветочком живущая в глуши, или то, что на каждый мой неловкостью рожденный вопрос отвечала она охотно и подробно. В мозгу мелькнула бредовая мысль, что, может быть, при своей памятливости старуха и меня должна помнить.
– Это, с язем, давно, наверное, было, бабушка? – спросил я.
– Молчи! – охотно согласилась старуха.
Я шел обратно дорогой своего сна. Стемнело. Луна, посеребрив реку, изредка давала понять, где я нахожусь. Корни, неприметные днем, то и дело заставляли меня спотыкаться…
Невозможно уследить за разрушением счастья. Предаваясь этому бесполезному занятию, торопятся найти виноватого и уж по одному этому не могут узнать правду.
Нечаянная радость нечаянно и уходит.
– ТЫЩУ НАСКРЕСТИ, КОНЕЧНО, МОЖНО – тетушки, дядюшки, – размышлял Тараблин, копаясь в своей Зевсовой бороде и съедая глазами потолок. – Но где взять червонец на гербовую марку?
– Десятку я могу тебе одолжить, – простодушно сказал Андрей.
– Ты кто? – вскричал вдруг Тараблин и сел по стойке «смирно». – Нет, ты скажи: ты, что ли, разрушитель чужих семей? – Тараблин расхохотался. – А если нет, то, что ты суетишься со своей десяткой? – Теперь он уже поедал глазами Андрея. Будь он на сцене, а Андрей в зале, пережим скорее всего был бы незаметен и вся эта тирада могла бы выглядеть пугающе серьезно.
– Да приглуши ты свой бас, чудовище, – миролюбиво сказал Андрей. – Ты же сам только что сказал, что устал от Инны и не хочешь фальшивым браком обманывать государство.
– Устал, – неопределенно пробасил Тараблин, – устал, конечно. Но я, может быть, и от жизни смертельно устал. И может быть, уже ничего от нее не приемлю.
– Циник, – сказал Андрей.
– Киник, – поправил Тараблин.
– Ты не Базаров, Тараблин, – сказал Андрей, пытаясь осознать смысл этого печального укора.
– Уел, – пробасил Тараблин. – Но сдается мне, что и ты не Вертер.
– Слушай, а может быть, у нас с тобой дуэль? – весело спросил Андрей.
– Вряд ли… В эти игры я с малолетками не играю.
Толстый намек на то, что Тараблин опередил его, Андрея, в стремлении жить на полтора месяца.
– А кроме того… А кроме того – я жить хочу…
– Чтоб мыслить и страдать? – Андрей печально усмехнулся. – Какие же мы с тобой кретины.
– От компании с благодарностью отказываюсь, – прогудел Тараблин. – Кстати, что так долго нет Сашеньки? Я по ней соскучился.
– Как это с твоей стороны трогательно, mon ami. Что же мне нужно ответить? Ах, да: она у своей портнихи.
– У своей портнихи?…
– Ну, может быть, хватит?
– Другой бы на моем месте обязательно спорил, а я – пожалуйста.
Некоторое время они сидели молча. Тараблин напевал на мотив целинной студенческой: «Тыща, тыща начинается с червонца…»
– С Инкой я, конечно, разведусь, – сказал он задумчиво. – Но заодно, мне кажется, разведусь и с филологией.
– Это уже интересно, – сказал Андрей. – И куда же подашься?
Тараблин проглотил его глазами и сказал, как давно обдуманное:
– В сторожа или в кочегары.
– Роман, что ли, будешь писать?
– Нет. Пока читать.
– Друг ты мой ситцевый… Кстати, а почему ситцевый?
– Да, кстати.
– А ты не боишься, что у тебя выработается со временем и психология кочегара?
– Чего ж тут бояться?
– Но кочегара не потянет на роман.
– Не потянет, и ладно. Не буду писать роман.
– В нашем доме, кстати, дворник с философским образованием…
– Вот видишь!
– Так он мне признался, – терпеть, говорит, не могу интеллигентов. Рабочий человек, где докурил сигарету, там ее и бросил, а интеллигент обязательно ввинтит ее то ли между перил, то ли в другую щель, а я, как человек добросовестный, выковыривай.
– Ценное профессиональное наблюдение. Лучше и честнее выковыривать окурки, чем числиться подпоручиком Киже при несуществующей науке филологии и толковать до полного развития плеши на голове какую-нибудь там зигзицу из великого произведения, которое давно никто не читает.
– Ну да, а ты будешь выковыривать окурки и размышлять о добре и зле, о «слезе младенца», о «быть или не быть»…
– Помилуй, – поморщился Тараблин, – все эти вечные вопросы. Это как раз ты, биясь над своей зигзицей, будешь думать, что решаешь их. А я ж тебе сказал – я жить хочу, а не пахать плугом небо. Жить. Только и всего. Можно?
– Да что сказать тебе – живи, – вяло отозвался Андрей.
Усилия Тараблина, однако, как всегда, возымели над ним свое действие. Сквознячок то ли беспокойства, то ли недовольства собой начал кружить внутри, и Андрей уже торопил Сашу.
Пианистка Наташа за стеной тронула клавишу, как будто уронила на пол взрывчатую каплю нитрогликоля.
А Саша все не шла. Андрей был уверен, что она опять заглянула в «свою» компанию. И поводы для этих «заглядываний» он давно уже знал наизусть: Светке достали фирменное платье, не ее размер – надо примерить; у Машки день рождения; к Вигену приехал дядя из Армении, навез кучу экзотических разностей; у Светки день рождения; годовщина Лицея – школьная традиция; у Славки новая Элла Фицджеральд; у Тамары день рождения; Кеша пригласил поэта Ширали – говорят, гениальный… Не было конца этим всегда новым поводам и соблазнам.
Поначалу он ходил с Сашей. Ребята были милые и легко приняли его в свой летучий клуб. Все они любили Сашу и верили в братское единение. Они ели картошку в мундире, пели грустные и веселые песни, азартно философствовали, перемывая попутно косточки президентам, соседям, поэтам и господу богу. С ними было просто, уютно, даже интересно.
Но постепенно Андрей понял, что не успевает насыщаться между этими чересчур регулярными встречами. Едва в кратковременном уединении внутри его пробивался неуверенный росток мысли или наблюдения, как тут же вытаптывался на этих многочасовых интеллектуально-картофельных балах. Он всегда высоко ценил то, что Экзюпери назвал «роскошью человеческого общения», любил встречаться с товарищами по школе и университету, ходил на поэтические вечера и лекции психологов. Приобщение к культуре через лицедейство было знамением времени. Но это, это была уже не роскошь общения – что-то другое.
А когда ссорились они по этому поводу с Сашей, она говорила то же, что Тараблин: «Жить хочу, Андрюша. Просто жить».
Но что такое – п р о с т о ж и з н ь? Есть ли она? И может быть, не жизнь это, а сон души. Но что же тогда жизнь истинная?
Доводы Тараблина смущали Андрея не столько существом содержавшихся в них мыслей, сколько сущностью того состояния, которым они были порождены. Его планы побега от жизни (или к жизни – как посмотреть) для Андрея являлись симптомом того, что менялся климат эпохи. И вот уже Тараблин одним из первых метил в люмпены. Ему грезился образ жизни философа и анахорета, жизнелюбца, авантюриста, бродяги. И ничуть не смущало, что путь восхождения к этой жизни лежал через подвал кочегарки.
Андрею претил этот путь. Но симптом был, был.
Критика без пафоса отдавала цинизмом. От увлечения «Гренадой» и «Бригантиной» оставались кафе «Гренада» и «Бригантина», но и эти уже отступали под напором стилизованных «Витязей», «Погребков» и «Гриль-баров».
Жизнь стала входить в нормальную колею, с которой чуть было не съехала. Вновь обнаружили присущий им человеколюбивый смысл всевозможные правила и установки. Правила пользования газом, правила дорожного движения, правила приготовления пищи, правила отдыха на воде, правила проезда в метро, правила хорошего тона…
Пройдет еще несколько лет, и горожане начнут покупать у колхозов брошенные избы.
Построили домовые кухни, ввели производственную гимнастику, запретили автомобильные гудки, и люди по вечерам стали приглушать свои телевизоры. Между тем ученые в газетах привычно бодрым тоном рассуждали о том, из-за чего именно (в необозримом, впрочем, будущем) погибнет вселенная – из-за катастрофического сжатия или же, напротив, из-за ускоряющегося разлетания галактик. Люди с интеллектом поуже покуривали в ожидании нового ледникового периода.
Кто-то продолжал открывать новые звезды, частицы и литературные имена. Открыли кривизну пространства, асимметрию мозга, биополе. «Берегите мужчин!» – призывали газеты. «Балуйте детей!». Очевидные для природы истины входили в сознание через кажущийся парадокс.
Он проснулся легко, словно порвалась лента в кинотеатре и вспыхнул свет. Вспыхнули в темноте сияющие Сашины глаза. Они были до того настоящие, что в первый миг хотелось отпрянуть. Снежные капли покрывали ее шапочку мерцающим панцирем. Саша поцеловала его и сказала:
– Я целую тебя. – Потом сказала: – Я тебя глажу, – и он почувствовал на щеке ее пахнущую снегом руку. Саша расстегнула пуговицы его рубашки, прижалась к его груди щекой и прошептала: – А я тебе теплого рябчика принесла…
– Отпусти. Пусть еще полетает, – ответил Андрей.
– Садист, – засмеялась Сашенька, – он после духовки не может летать.
– А, так это задушенный рябчик. Тогда тащи его сюда!
Часы за стеной у пианистки равнодушно пробили час ночи.
– Где ты была, гулящая? – спросил Андрей, когда Саша принесла ему рябчика величиной с кулачок.
– Что ты, я же тебе говорила – сегодня был день рождения у Кеши, – торопливо сказала Саша.
– Это у того, у субтильного?… Ну, который похож на плащ, повешенный без плечиков.
– Андрюша, ну зачем ты притворяешься злым?
– Я все хотел спросить, сколько у вас в классе было человек?
– Кажется, тридцать девять. Не помню. А что?
– Мне казалось почему-то, что триста шестьдесят семь. Все думал, что же за замечательный такой класс…
– А… Так ты устраиваешь мне сцену, – в нервном ожидании того, что разговор может пойти всерьез, засмеялась Сашенька. – Как это я сразу не догадалась.
– Впредь будь догадливей, – сказал Андрей, кладя на тарелку обглоданную косточку. – А рябчик-то – тьфу! Пчела и та сытнее. За что, не понимаю, буржуям от Маяковского досталось?
– Ты уже не сердишься? – заискивающе спросила Саша и стала слегка поигрывать на его ребрах.
– Сержусь, – сказал он. Сашина манера добиваться перемирия была ему неприятна.
– Ты скажи, что не сердишься, скажи, – просила Саша.
Андрей молчал. Он привык расплачиваться со своими переживаниями, иначе они и сами как бы теряли цену.
– Вот ты смотри, – сказал Андрей после некоторого молчания. – Вот сегодня весь день мы летели с энной скоростью в космическом пространстве. Я много-много часов летел без тебя. Как только Тараблин ушел, так я стал лететь один. Это жутко, знаешь, лететь одному в холодном космосе. Но я летел терпеливо, я знал, что ты проберешься ко мне по летящей земле, и мы полетим вместе. Вместе – совсем другое дело. Но тебя все не было и не было. И я заснул. Потому что, если нет того, с кем можно лететь, а лететь надо, то лучше спать. И вот ты пришла…
– И вот я пришла, – попыталась улыбнуться Саша.
– И вот ты пришла, и мне, дураку, показалось, что я уже не жертва какой-нибудь там господней пищали, из которой меня выпустили. Мы как будто снова сами толкали землю. Но потом эта щекотка, этот задушенный рябчик…
– Сам съел рябчика и теперь им же попрекает, – пошутила Саша.
– Да перестань ты! – вскрикнул он и тут же пожалел об этом. Сашина голова сползла с его плеча, и вся она как будто и правда стала отлетать от него.
Как он любил ее сейчас. Так же, наверное, как в первую их ночь.
Но Андрей чувствовал, что не может, как ему хочется, повернуться, обнять Сашу, приласкать ее. Непосредственность давалась ему тяжело.
Он встал, нащупал на столе пачку «Шипки» и закурил. И тут вместе с первым глотком дыма ему вдруг стало ясно, что все, что он сейчас наговорил, жалкая и тираническая демагогия. И родилась она не столько от любви к Саше, сколько от страха одиночества.
Искристый от фонаря снег, словно белый карандаш, силился и не мог заштриховать черное окно. Как если бы оно было покрыто воском и не поддавалось грифелю. Эта тщета снега усилила его беспокойство.
– Саша! – позвал Андрей.
Саша молчала.
– Саша! – снова окликнул он.
– Да что уже там, зови меня просто Жучка, – сказала Саша.
– Мне просто было плохо без тебя. А ты не виновата. Я понял. Прости.
– Не смей больше на меня кричать, – жестко сказала Саша.
– Ладно, я только буду тебя маленько побивать. Для порядка.
– Только попробуй, – усмехнулась в темноте Сашенька.
– Сашка, но тебе ведь летом поступать, а ты все шляешься.
– Да почему обязательно поступать? Может быть, я раздумала.
– Ты серьезно?
– Серьезно. В том смысле, что я имею право раздумать, имею право надумать…
– Ну не кипятись, – ласково прервал ее Андрей.
– Стану, например, маникюршей.
– Или педикюршей.
– Вполне. Это знаешь, какие деньги.
– Деньги – это прекрасно. Мы их будем каждый день солить, мариновать, тушить, печь и еще на черный день хранить в морозильнике. Или до морозильника все же не дойдет?
– Помнишь, я тебе рассказывала о бабке Вере?
– Которая копила на матрац?
– Да. Когда я в тебя влюбилась…
– Втрескалась…
– Втюрилась, одним словом. Так вот, я все думала, что мы поженимся и купим бабке Вере матрац.
– Да, ты говорила.
– Это, понимаешь, представлялось мне тогда задачей жизни. Ты и мечта эта были вместе – поженимся и купим ей матрац. Я этого очень хотела. А сейчас, понимаешь, я сейчас ничего так вот очень не хочу. Я люблю тебя, мне с тобой хорошо, но я не знаю, что со всем этим делать.
– Ты у меня молодец, – после небольшой паузы сказал Андрей. – Ты просто чудо… Это есть, есть, то что ты сказала. Что с этим делать… Правильно… Что с этим делать, – вдруг с полушутливым воодушевлением повысил он голос, – сочетать с общественно полезным трудом!
– Ты все треплешься, – сказала Саша.
– В общем-то нет, – ответил он. – Пить хочется после твоего рябчика.
– Я пойду поставлю чай.
– Не надо, – остановил Андрей, – я сейчас сам поставлю. – Но он не сдвинулся с места и продолжал после паузы без явной связи с предыдущим. – Мне, знаешь, все хочется делать так, чтобы я лучше понимал жизнь, помочь что ли. А для этого я сам должен становиться лучше, совершеннее. Но труд этот не по силам одному. Только двоим. Это блеф, что человека делают страдания. Мы обязаны быть счастливыми, понимаешь. И это (как бы сказать) не только наше с тобой дело. Если мы хотим, чтобы другие стали счастливыми, мы, прежде всего, сами должны научиться быть счастливыми.
– Все это очень абстрактно, Андрюша, – сказала Сашенька. – Ты вообще очень веришь в слова. Для тебя они почти то же, что жизнь.
– Вот здесь ты опять стала дурой, – возмутился Андрей.
– Побыла несколько минуточек умной, и хватит для начала. Я ведь еще только учусь.
– Какие же все это абстракции, Сашка!
– А такие, что, сколько бы ты ни совершенствовал себя, люди все равно не будут знать, куда девать себя вечерами. Это загадка…
– Смотри-ка ты – опять умна, – похвалил Андрей.
Целый день человек живет эхом – книги, другого человека, собственных слов. И только в эту вечернюю паузу с удивлением обнаруживает собственную пропажу. И значит, именно ради этих двух-трех часов в сутки люди соединяются на всю жизнь и называют это любовью? Невозможно.
– Я жить хочу, – сказала Сашенька, – весело, интересно… Путешествовать, знакомиться с новыми людьми, нравиться мужчинам. Андрюша, я ведь женщина.
– Что-то я не нахожу себе места в твоих обширных планах.
– Ну почему – мы будем вместе путешествовать…
– И вместе нравиться мужчинам.
– Дурак. А вообще… Ты знаешь, ты ведь из редчайшей, из вымирающей, можно сказать, породы понимающих, – Саша прижалась к нему и поцеловала. – К тебе хорошо возвращаться.
– Так ты поэтому пропадаешь чуть ли не каждый вечер в своей компании?
– Чтобы возвращаться? – уточнила Саша.
– Ну.
– Язва ты, – улыбнулась Сашенька.
– Сашка, правда, ну чем вы там занимаетесь! Заполняете пустоту пустотой…
– Наверное, – согласилась Саша. – Мне уже иногда бывает с ними скучно. Но у меня нет ничего другого.
– Потому что ты все время хочешь схватить от жизни кайф.
– Ну, как ты ужасно говоришь. Ты вообще умеешь ужасно сказать.
– Да ведь так. Ведь тебе же мало наших отношений.
– Вот теперь уж точно, ты дурак. Мне их, наоборот, слишком много. Нет, не так. Их для жизни слишком много. Вот, допустим, они – канат, а жизнь предлагает нам просунуть его через угольное ушко. Что остается делать – мы пытаемся просунуть. И ничего не получается, конечно.
– Да, – засмеялся Андрей. – Выходит, тщета и сплошное неудобство. Ладно, я на кухню. Рябчик горчил.
Андрей вышел на кухню и зажег газ. Форма пламени напомнила ему голубую елочную звезду из фольги. «Можно ли поклоняться этому огню?» – почему-то подумал он.
Кухню пронизывал тоскливый звук водопроводных труб. Он напоминал сиплый человеческий стон. Неприятно. А все же казалось страшно, если он вдруг прекратится, как будто это был не звук, а проволока, натянутая над пустотой.
Звук прекратился. Андрей подумал, что в этот час на земле происходили, наверное, тысячи разговоров, подобные их разговору с Сашей. И каждый принес в мир не больше тепла и пользы, чем одна такая конфорка. И придуманный им феномен – один из ее лепестков. Самостоятельно даже чайник не согреет.
Фантазия разыгралась. Ему представилось, что он с серьезным лицом лепит из плавающего по полу пуха какую-то фигуру. Но ветер то и дело открывает форточку, у которой почему-то нет шпингалета, и вся работа идет прахом. А за окном хохочет Саша. Там много людей. Они играют в «картошку». Сашу посадили в круг и стараются попасть в нее мячом. Попадают; она взвизгивает, кричит и снова хохочет, но уже как-то ненатурально. Ему становится страшно. «Сашка, – кричит он, – почему ты там, когда тебе надо быть здесь?!» – «Зачем, зачем мне надо быть „здесь“, а не „там“? – кричит, не переставая хохотать, Саша. „Чтобы держать форточку, как ты не понимаешь!“ – „Еще чего, – хохочет Саша. – Зачем ее держать? Ты посмотри, какой день!“
На улице яркая весна. Лысая земля начала отращивать траву. Ольха роняет в нее сережки, и те извиваются мохнатыми гусеницами. И Саша извивается на земле, пытаясь увернуться от мяча. Любовные игры древнее цивилизаций. Тысячелетия молодые мужчины охотятся за женщиной, пытаясь поразить ее точным ударом. Тысячелетия уворачивается она от них и убегает, чтобы ее догнали. И сейчас, как когда-то, бессмысленно звонкое солнце смотрит на все это с лакейской непроницаемостью.
По полу перемещается пух, сдувается в бугристые загадочные формы. Желание работать снова входит в него, но предчувствие бессилия делает глупыми его руки, и он уже готов все бросить и присоединиться к общей вечной игре в „картошку“.
Это ощущение собственного бессилия не раз возникало у него в библиотеке: нужно ли для жизни то, что он делает, и не пропускает ли он эту самую жизнь в то время, пока якобы постигает ее тайны? По воле обстоятельств, по призванию ли он, конечно, принадлежал к „книжникам“ и испытателям, но по происхождению, по детству, по внутренней тяге – к людям жизни.
Вспомнилось, что он писал Тараблину из Тарусы: „…когда мы с тобой впервые подумали обо всех этих людях „они“, вместо „мы“?……разрыв этот вреден… „они“ – это ведь и родители наши…“ То, что мама не поймет в его курсовой ни строчки, – это ладно. Но понимает ли он свою мать – вот вопрос.
Запас его положительных представлений о яркой, деятельной, быть может, даже героической жизни был невелик и питался в основном детским чтением. Сегодня все это казалось только забавным. Нет, надо заниматься своим делом и не где-нибудь, а здесь. Ему предложили заменить в соседней школе литераторшу, которая ушла в декрет. Так тому и быть – он переводится на заочный и идет работать в школу. О своем намерении Андрей решил до времени не говорить Саше.
Сейчас ему было ясно: в том, что они с таким упоением принялись теоретизировать о любви и о жизни, было что-то печальное. Еще недавно ему больше всего нравилось молчать рядом с Сашей, нравилось, когда она, подняв на него посветлевшие от чтения глаза, спросит: „Майя – это индейцы?“ или: „В детстве я думала про портрет Гончарова, что это Обломов“. Нравилось, как подходила она к нему сзади и, обняв за шею, заглядывала в книгу. Странен был рядом с этим их сегодняшний отчет друг перед другом.
Вдруг из их комнаты раздался неимоверной силы гром. Сквозь него он расслышал тонкий женский крик. Не успев узнать Сашин голос, с упавшей в живот пустотой Андрей бросился к дверям.
Саша лежала поперек тахты и хохотала.
– Что такое? – спросил он в бешенстве.
Транзистор был включен на полную мощь. Солистка тянула последнюю ноту арии.
Андрей выключил транзистор, и получилось, как будто тряпкой заткнул рот певице.
– Там же Наташа, – сказал он, еще трясясь от шока.
– Наташа сегодня не ночует, – ответила Сашенька и закинула руки за голову. В ее позе, в улыбке, в этом движении была какая-то влекущая непосредственность и бесстыдство.
– Сашенька, – сказал он. – Сашенька. – И вдруг закричал с ковбойским азартом: – Ах, ты так?!
Целуя ему лицо, Саша повторяла: „Чайник… Ах… Слышишь, ты забыл на плите чайник…“
ВСЕ НЕПОПРАВИМОЕ СЛУЧАЕТСЯ РАНЬШЕ, ЧЕМ СЛУЧАЕТСЯ. И это знание или предчувствие дано каждому человеку. Но всем этого мало. Им подавай историю, сплетню, легенду, в которых, по правде говоря, мало толку, но зато можно все пережить заново.
Допустим… Представим… Предположим… Вообразим…
Допустим, Саша первая из них двоих открыла в себе возможность сравнивать Андрея с другими знакомыми. Представим, к примеру, что произошло это впервые в том самом летучем клубе одноклассников. Предположим, на дне рождения Вигена, на который он пригласил несколько новых товарищей из „Мухинки“. Вообразить себе этот момент нетрудно: вино, профессиональный сленг, изящное остроумие и мгновение неосязаемой грусти в медленном танце. Все это знакомо и неинтересно.
Ну, разумеется, в самой возможности сравнивать Андрея с кем-то или даже чуть увлечься другим Саша на первых порах не видела ничего угрожающего их любви. Более того, всякое сравнение было поначалу в пользу Андрея. Сравнение даже было как бы катализатором любви, и, бывало, уже в середине вечера Сашу неистребимо начинало тянуть к Андрею, она с ума сходила от тоски и нежности к нему.
Между тем непоправимое уже случилось, хотя ни он, ни она об этом не подозревают.
Как только Саша стала сравнивать Андрея с другими, она тут же невольно начала его „сочинять“, то есть пополнять эту его некогда абсолютную для нее ценность вполне относительными достоинствами.
Несовпадение образа реального и сочиненного обнаружилось, конечно, довольно быстро. Но и оно еще не могло разрушить Сашиного чувства, а внесло в него только элементы досады, в которой она, не признаваясь себе, обвиняла Андрея.
Однако вот уже настало время, когда несовпадение сочиненного и реального образов начало вынуждать Сашу искать более серьезной компенсации. На роль компенсатора был выбран, ну, допустим, Кеша, тот, который, по определению Андрея, похож на плащ, повешенный без плечиков. Тут мы должны узнать, что Кеша еще со школы был влюблен в Сашу. Влюблен тайно и молчаливо. И не знаю почему, но молчаливый Иннокентий почувствовал, что настала пора открыть Саше свою любовь. И сделал это, надо сказать, очень кстати. Саша впервые слушала его благосклонно, а затем не раз подталкивала к новым признаниям, не давая, впрочем, никаких надежд.
Но Кеше, судя по всему, доставляло наслаждение открыто страдать. Возможность объяснений была для него бесценным подарком. А может быть, он смотрел дальше? Сознание собственной ничтожности порой делает людей нечеловечески проницательными. Во всяком случае, не меньшее наслаждение его страдание доставляло и Саше. Ничего дурного она в этом не видела. Да, может быть, в этом и не было ничего дурного.
Однажды Андрей, надеясь застать Сашу, заглянул вечером к Кеше. Визит его получился внезапным. В полутемной комнате он увидел сначала Тамару – она переворачивала пластинку. Саша с Иннокентием сидели на диване. При этом Сашина голова была откинута, глаза блестели, она прерывисто дышала, вероятно, после танца. Кеша сидел как-то бочком, словно извиняясь, словно с тем намерением, чтобы в нужную минуту ему было удобнее пасть на колени.
– Ребята, нас засекли, засекли, – радостно захлопала в ладоши Тамара и потащила Андрея танцевать. Саша с Иннокентием тоже встали, смущенные, и на нелепом расстоянии почти вытянутых рук начали прохаживаться в танце.
– Андрей, – сказала Тамара так, чтобы было слышно Саше, – тебе не кажется, что Саша с Кешей очень похожи. Прямо брат и сестра. – Андрей слегка повернул голову и с удивлением понял, что Тамара права. Открытие было неприятным.
В комнате пахло высыхающими мимозами и перегретыми лампами приемника, так знакомо. И звучало какое-то танго. Курносая Тамара заглядывала ему в глаза, по-прежнему ожидая ответа на свою игривую двусмысленность.
– Да, – сказал Андрей, криво усмехнувшись, – все мы стремимся к совершенству.
Вот и все. Вы ждете сцен и объяснений? Их не было. На свое несчастье, и Саша и Андрей считали нужным вести себя достойно, держа в уме литературные образцы. К тому же они продолжали любить друг друга.
Что же Андрей? Он тоже был не безгрешен. Если, конечно, можно вменить ему в грех долгие беседы с пианисткой Наташей. Андрею льстила серьезность, с какой взрослая женщина разговаривала с ним об искусстве. Внутреннее напряжение, которое он испытывал в этих разговорах, было приятной гимнастикой. Запальчивый и опрометчивый с другими, здесь он становился сдержанным.
По матери Наташа была грузинкой. Вся она походила на большую птицу: синими выпуклыми глазами, крупным носом, низким хорошим голосом, угловатостью непомерно высокой фигуры и плавностью движений. Она имела привычку, слушая собеседника, держать на далеком расстоянии от лица зажженную сигарету или кусочек бисквита. Черт знает, почему эта привычка так действовала на Андрея.
Несмотря на то, что Наташа получила вторую премию на конкурсе „Пражская весна“, работала она в основном на заводах, в общежитиях, на открытых эстрадах и в Домах культуры. Такая очевидная несправедливость чувствительному сердцу позволяла соединить в одном лице талант и жертву.
Слушал он Наташу всегда с особенным вниманием. Однажды она сказала: „Андрей, нельзя так много думать. Вы быстро устанете“.
С ним и правда случались иногда часы, даже дни, когда его словно бы не хватало на жизнь. Саша каким-то образом всегда это чувствовала. Тогда они шли бродить вместе по Невскому, заворачивали в „Новую Голландию“, иногда ездили на острова. Перекусывали в каких-то неожиданных, как щель, „Котлетных“ и „Пышечных“. Засматривались на голубей, на белок, на дома, на облака, на деревья, на книги… Их гнало порожняком, ворохи впечатлений проносились мимо как в вагонном окне, не успевали закрепиться в памяти, но вызывали долгое волнение…
В университет Саша снова не поступила, и все у них пошло по-прежнему.
А под Новый год Саша сообщила ему, что ждет ребенка. Весной ей предложили лечь в больницу на сохранение. Она тянула – через неделю был ее день рождения. Кончилось тем, что накануне дня рождения Сашу в тяжелом состоянии увезли на „скорой“. Утром в коротенькой записке ему она написала, что у нее выкидыш.
Андрей не умел переживать смерть еще не рожденного ребенка. Ему было жалко Сашу. Записки ее были сухими и короткими. Он таскал ей банальные апельсины и подолгу сидел напротив ее окна в больничном скверике.
Ненужные ручьи проносили мимо древесный сор. Голые ветки деревьев были так плотно облеплены воробьями, как будто они там росли. Случилось страшное, но он испытывал какого-то иного рода беспокойство, как будто этому страшному только еще предстояло случиться.
На Сашину выписку он пришел с букетом роз. Когда он протянул ей цветы она заплакала, но, увидев его испуганное лицо, улыбнулась и сказала:
– Ну, ничего, ничего…
Она была уже взрослее его.
Они списались с Ольгой Осиповной, и в конце мая Саша уехала в Тарусу. Он радовался каждому ее письму, их словно бы писала прежняя Саша…
„С ума сойти! Я попала сразу в лето. Могу тебе о нем рассказывать хоть всю ночь. Как трава лезет сквозь прошлогоднюю листву, как медленно округляются листья осины… Прямо у танцплощадки, в доме отдыха распустились ландыши. Ну, я тебе уже надоела? А то могу еще похвастаться: я теперь отличаю пение иволги и соловья и начинаю разбираться в птичьих яйцах. Вот“.
„Выследила гнездо зеленого дятла. Он выбил его в толстой осине. Я взяла и ударила по ней палкой. Знаешь, как птенцы заволновались! И долго еще кипели внутри, пока я совсем не ушла“.
„Играем с соседской Олюшкой. Ей шесть лет. Она ловит бабочку и кричит: „Бабочка, ну если ты и сейчас не поймаешься, я тебя изобью!“ Чем-то мне это напомнило себя недавнюю. Давнюю“.
„Днем все хорошо, а ночью… Он снится, понимаешь? Просыпаюсь в слезах“.
„Помнишь, ты говорил, что в каждом человеке заложено стремление к совершенству? Но у меня этого, кажется, нет. Что, если я только женщина? Этого мало? Или тогда надо быть обязательно матерью-героиней?
Прости дуру. Хочу к тебе, учиться, родить, быть красивой, сводить с ума и оставаться великодушной, читать газеты, книги… Только все же стремление к совершенству мне не подходит. Придумай для меня что-нибудь другое, а? Ты ведь можешь!“
„Дарю фразу: разломанный крыжовник похож на сундук с драгоценными камнями“.
„Буду знать и понимать не меньше, чем ты. Мне теперь мало щенячьего понимания и щенячьей любви. А раньше я думала, это бог знает что. Высшее!“
„Слушай, слушай! Я поймала девять карасей, одного голавля и плотвы еще целую горку! Сколько рыб за эти дни увидела и перетрогала руками: линь, налим, карась, голавль, усач, минога… Это еще не все: рыбец, плотва, угорь, щука, лещ, форель, уклейка…
Как хорошо, если бы ты знал! Видно, как под розовыми облаками на воде ходит темная щука и тут же от нее прыскает мелочь. В подсачнике шелестит голавль. Солнце тихое, и поплавок катится по черной воде, останавливается в заводях и ныряет за тенистыми корягами. Когда долго не клюет, рыбаки говорят: „Учим поплавок плавать“. Я приеду к тебе бодрая, спокойная и влюбленная“.
И вдруг письма прекратились.
Ах, если бы ему знать, что никогда так не бывает худо и никогда мы так ни далеки от новой жизни, как когда принимаем решение ее, новую жизнь, начать. Быть может, тогда он расслышал бы надсаду в Сашиной беспечности, почувствовал бы измученное усилие воли. Тогда он, возможно, бросил бы все и приехал в Тарусу. Но…
Какие дни стояли в Ленинграде – жаркие, хоть прикуривай от них. Только ветер и спасал. Было ощущение, что в прохладной лодочке плывешь по жарким волнам, и все еще, все еще в жизни возможно.
Заканчивались школьные экзамены, начинался ремонт классов, открывался городской пионерский лагерь. Андрей вдруг оказался незаменим на всех фронтах. Более того: если бы вдруг выяснилось, что где-то спокойно обходятся без него, Андрей, пожалуй, растерялся бы и пал духом. Однако в то лето подобное испытание ему еще не угрожало.
Его останавливали в коридоре и просили подобрать колер то для одного, то для другого класса, и он с упоением сочинял новые и новые оттенки. В школу завезли новые шкафы. Половина из них оказалась некомплектными, (то полки не хватало, то стекла), а два были и вовсе бракованными…
– Андрюша, голубчик, – просили его, – поезжай с Тарасом Петровичем в магазин. С ними ведь, знаешь, как надо говорить – мягко-твердо, чтобы и не обидеть и не уступить. Ты это умеешь.
Он это умел и поэтому без колебаний поехал в магазин и, к всеобщему изумлению, уладил дело.
В эти дни им двигало что-то еще, помимо собственной воли и умения, и это что-то гарантировало успех. Главное, не только он это сознавал, но и все вокруг. Ему даже билеты в троллейбусах попадались почти все сплошь счастливые.
Накидав идей десятиклассникам по поводу прощального вечера, Андрей бежал играть в футбол с ребятами из городского лагеря. Он сам не помнил, когда и как они привязались к нему. Может быть, когда узнали, что он собственными глазами видел игру Пеле, Яшина и Стрельцова. Во всяком случае, вот уже несколько дней ребята ожидали его в конце дня на скамейке у школы. Они были уверены, что он все в жизни умеет делать превосходно – пилить, строгать, кидать в цель, клеить модели, рассказывать истории, играть в футбол… И он все умел.
Как-то директриса Людмила Александровна позвала его к себе в кабинет. Она была из любимого им вчуже типа женщин с повадками комиссара времен гражданской войны, хриплым голосом и вечной папиросой во рту.
– Андрей Григорьевич, – сказала она и тут же закашлялась в смехе. – Вы, мой милый, прямо без оружия всех тут завоевали.
– Неужели? И вас, Людмила Александровна? – спросил он с фамильярностью, которая при случае сходила ему за наивность.
– Меня? В каком это смысле?… – удивленно спросила та. Ей никак не удавалось загасить папиросу. – Об этом у меня, знаете, как-то все не было времени подумать.
Андрей с удовольствием почувствовал, что смутил директрису. В то же время в ее голосе он расслышал раздражение, которого не заслуживал, и это вызвало у него мгновенную досаду.
– Так что случилось, Людмила Александровна? – спросил Андрей.
– Понимаете, у Надежды Ивановны Володя пропал. Он у нас в 10-м „Б“. Очень бы не хотелось привлекать милицию.
Андрея подмывало сказать: „Я ведь не Шерлок Холмс, Людмила Александровна“, – но он только спросил:
– Она знает, где его искать?
– Да найти-то его, пожалуй, можно. Тут и я кое-чем могу помочь. Труднее убедить его прийти завтра на экзамен. Надежда Ивановна почему-то считает, что у вас это получится. – Она на секунду поколебалась, словно раздумывая, нужно ли что-нибудь еще добавить, и, наконец, сказала, взглянув на него светлыми каре-зелеными глазами: – Я, впрочем, тоже так думаю.
Андрей был доволен ответом.
На пути Совершенствования есть уютная станция Безупречность. Он был на этой станции. Здесь, собственно, и кончается „железка“, и пассажиры освобождают вагоны. Большинство из них так и оседает в этих благодатных местах. Другие идут дальше, поддерживаемые лишь тайной своего предназначения и смутной верой в светлый исход.
Андрею казалось, что в эти дни он был как нельзя более близок к своему воображаемому феномену: деятелен, но не суетлив, весел без надсады, внимателен, но не навязчив; он одаривал всепониманием и первым брался за дело, когда требовалась „грубая мужская сила“, и тоже без позы. Образующийся вокруг него ореол он старался просто не замечать, взяв на себя специальную заботу постоянно иронизировать над самим собой.
Ему было не в чем упрекнуть себя. Вспоминая Сашу, он думал о том, что она была бы им довольна. Он ей писал по-прежнему часто, несмотря на занятость. О своих „подвигах“ рассказывал вполне скромно, даже с усмешкой.
Но ответа от нее все не было. Поначалу он не придал этому особого значения. Андрей в эти дни поверил в свою удачу, Саша же была лучшей из его удач. Но вот минула уже неделя Сашиного молчания. Тогда, встревожившись не на шутку, он послал телеграмму.
Во вторник Саша позвонила ему с вокзала:
– Андрюша, мы больше не можем быть вместе.
– Что случилось, Сашка? – закричал он.
– Ко мне в Тарусу приезжал Кеша.
Он уже понял, понял роковой смысл этого ничего как будто не значащего сообщения и все же по инерции спросил:
– Ну и что?
– А то, что вместо него должен был быть ты.
В трубке послышались монотонные гудки.
В этот же день Андрей уехал к маме.
ИЗ ВСЕХ НОШ, КОТОРЫЕ ПРИХОДИТСЯ НЕСТИ ЧЕЛОВЕКУ, непрощение – самая тяжелая. Как знакомо всем это упоение обидой! Еще недавно я был унижен и отвергнут, и вдруг все изменилось. В моих руках оказались незримые нити власти над обидчиком. Потому что я понял: обиженный всегда прав. И чем упорнее он замыкается в своем оскорбленном одиночестве, тем больше, по его мнению, должны мучить обидчика угрызения совести.
Я наказывал Ее непрощением. Я страдал, наслаждаясь своим страданием. Уйдя в пассивную защиту, я обнаружил поистине удивительную энергию и волю.
В позе обиженного я чувствовал себя до невероятного стесненно, неловко, впечатления дня то и дело отвлекали меня, я должен был усилием воли возвращаться к случившемуся и только благодаря этому как-то выдерживал роль. Все еще ощущая себя жертвой, я на деле давно превратился в тирана.
И вот ведь игры души человеческой – именно в это время я вовсю наслаждался в воображении своим великодушием. Все это время я был игрушкой в руках „феномена“. Сначала ушел со сцены – гордо, без упреков и слов, теперь искренне готовился к прощению. Внутренне мое прощение давно уже состоялось. Оставалась малость – чтобы Она сама пришла ко мне. Но и тут я еще не собирался простить. Я хотел видеть Ее сломленной, оказывающей мне мелкие, ненужные услуги; я уже слышал в Ее голосе нежность, и уже видел, что вся Она – сама предупредительность, и, переживая эти воображаемые картины как реальность, мстительно думал про себя: „Этого мало, мало“. Наконец Она просила прощения, и я видел, что Она положительно несчастна, но продолжал говорить себе: „Еще не пора“. Меньше чем за ответное унижение я уже был не согласен продать свое драгоценное прощение. И только когда Она окончательно была бы сломлена и подавлена своим раскаянием, я бы, не щадя сил своих, стал бы сам же Ее спасать и поднимать. Прощение мое было бы столь же полным и искренним, как и полная власть над Ней.
Но месяц уходил за месяцем, а Она все не объявлялась. Чувство упоения между тем проходило. От долгого пребывания в позе обиженного затекли мускулы, я хотел размяться, любым способом выйти из роли, которая до смерти надоела мне. Наступило время, когда я сам готов был просить у Нее прощения, но то ли боязнь показаться жалким, то ли гордость сковывали меня. Момент был упущен. Только тогда я понял, что Она не придет никогда.
Часть третья
НЕ ОТКРЫВАЯ ГЛАЗ, АНДРЕЙ ПОПЫТАЛСЯ ПРИПОМНИТЬ, что ему снилось.
Какой-то дом отдыха или загородная больница. В старинной усадьбе с белыми колоннами и цыплячьего цвета фасадом. Застекленная лестничная площадка с дверью на веранду. А может быть, и прямо в сад.
И везде: на земле, на лестнице, на веранде – валяются наручные часы. Все теряют их, и никто и не думает поднимать. Никому они почему-то не нужны. А ему нужны.
Еще в детстве он мечтал о собственных часах, подолгу простаивал в живой тишине часового магазина, как внутри часового механизма. Магазин был рядом с керосиновой лавкой. В лавке он тоже бывал часто. Смотрел, как толстая продавщица в кожаном переднике зачерпывает из оцинкованной бочки, встроенной в прилавок, волнующего запаха жидкость, и жидкость играет отчетливыми белыми бликами. Так и бегал из лавки в магазин и из магазина в лавку.
В часовом магазине поблескивал круглыми очками старик продавец, вокруг раскачивались маятники и медленно перемещались бронзовые гири, где-то выпрыгивала механическая кукушка, за ней другая, а грудному пенью курантов предшествовал долгий туберкулезный вздох часового механизма. Все эти вздохи, пения, кукования и перезвоны начинались почти одновременно, и старик, не выходя из своей задумчивости, заботливо, словно вытирал детям носы, поправлял стрелки. Казалось, старик и жил в магазине, питался и ночевал здесь, и ночью, как на детский плач, просыпался на их голоса. Его добродушный внимательный взгляд из-под круглых очков был загадочен. Андрею хотелось, чтобы однажды старик столкнулся с ним глазами, казалось, что тогда он непременно поймет его и непременно подарит ему часы с витрины.
Впервые приобрести часы он зашел в новый магазин на Невском, к девушкам в коротких фирменных халатиках и пилотках, зашел буднично, как за хлебом, – без часов студенту жилось нервно и неспокойно. Замкнув ремешок на руке, он словно накинул уздечку на время и молодцевато сказал: „Пошли, родимые!“
Но та, детская мечта так и осталась неутоленной, мечта о даровой умной роскоши. Вот она-то и заговорила в нем при виде золотого мусора часов, которые лежали на траве, на дорожках, на деревянном полу веранды, редко, словно первые палые листья.
Да, но что же дальше?…
Дальше он, кажется, возвращается на лестничную площадку и видит, как уборщица сметает в совок еще десятка два самых разных часов. И вот уж они с драгоценным стуком летят в ведро. „Зачем вы так-то!“ – говорит он и переворачивает ведро. Снова драгоценный стук.
Он роется в часах, выбирает себе по вкусу. Вот. О таких он мечтал. Электронные часы в простом металлическом корпусе. На блекло-сиреневом циферблате немые молочные полоски. Он крутит какие-то колесики, нажимает кнопки, и из сиреневой млечности начинают ему подмигивать неоновые цифирьки. И он вдруг понимает, что это не случайные цифры, что в них какая-то кукушечья предопределенность. Он нажимает кнопки и крутит колесики, пытаясь остановить это мелькание и разглядеть напророченное число.
Его берет злость. Потом злость сменяется страхом. Чья это злодейская выдумка? Надо выйти в сад и подкинуть часы какому-нибудь лягушонку или кроту.
Молоденькая белобрысая уборщица продолжает сметать часы и иронически улыбается. Кажется, она понимает все, что сейчас происходит, и ей смешна эта его борьба с искушением. Может быть, все это испорченные часы?
С часами в кармане он выходит в утренний, влажный, элегический сад.
Радость и страх. Часы топырят карман. Все видят их. Почему-то он с украденными часами в кармане – главное в саду событие.
И вот в этом сне, который он воспринимает как реальную жизнь, он вспоминает о своих гордых юношеских снах, в которых также оказывался не раз под враждебным обстрелом смеющихся, негодующих, шипящих глаз, но вспоминает он также и то, что в тех снах он видел себя кем-то вроде Чацкого или Арбенина, его бодрила мысль о собственной исключительности; теперь же, выходит, он просто воришка. „Этого-то вы и добивались!“ – злобно думает он.
В деревьях, подобно испугу, мелькнуло удивленное лицо Саши. Саша? Да нет, откуда…
Звук протекающей в стенных трубах воды – первый звук этой жизни. Наверное, мама моет на кухне посуду. А может быть, кран включен у соседей.
Он нехотя открывает глаза. В комнате полутемно. Шторы задернуты. День? Вечер? Утро?
Вчера напился. Во рту мерзко. Надо встать и почистить зубы. Открыта ли пивная?
Он лениво вылезает из-под одеяла, ступает теплыми ногами по лакированному паркету. Отодвигает штору и прислоняется щекой к холодному стеклу. Ах, черт, не видно из-за деревьев. Лучшее время – зима. Зимой видно.
Скорей бы уж листья эти поотрывало к чертовой матери. У берез листва желтая, сквозная, как пламя свечи. Хмарь над ними вьется, точно копоть. Эти уже скоро. А тополя, те еще совсем зеленые, жирные. Ах, черт!
Он с досадой возвращается в еще не остывшую постель.
Ему мешало лицо. Он точно помнит – ему мешало собственное лицо. Но как он почувствовал это и в связи с чем? Лицо было словно бы лишней живой инородностью. Как в детстве гусеница, вползшая с воротника на шею.
А с часами что же? подсунул он их кому-нибудь или нет?…
Нет. Конечно. Как это он забыл самое главное? Там, во сне, он вдруг почувствовал, что ему жаль расстаться с часами и что в этом-то и состоит, быть может, ловушка того неведомого, кто смеется над ним. И суть именно в открытости приема: в том, что один ставит ловушку и не маскирует ее, а другой видит, что это ловушка, и добровольно в нее ступает.
Им овладевает веселая дерзость, похожая на отчаяние, и он надевает часы на руку и вдруг оказывается в комнате, в их старом еще доме, в узкой комнате с маленьким глубоким окошком.
Уже поздний вечер. Даже, наверное, ночь. И комната освещается бог знает чем. Может быть, фонарями с улицы.
Тоскливо и страшно. Нет мамы, нет отца. И в то же время он как будто в комнате не один.
Тревога перерастает в ужас. Живые только цифры на часах, и они отсчитывают ему срок.
Но почему он вернулся сюда один?
Хотелось пить. Казалось, надо только глотнуть воды – и тоска пройдет. Со стены смотрел на него „Последний день Помпеи“. Где-то недалеко по стене должны быть еще „Мишки в лесу“ Шишкина. Были и конфеты под таким названием, широкие, с вафельными прослойками, по тем временам недоступно дорогие. Он искал глазами картину Шишкина и не находил. „Убежали мишки“, – сказал он, и во сне это показалось ему остроумным.
Он подошел к столу, чтоб выпить воды. Но в стакане вместо воды колыхался огонь – огонь из ничего. Боясь пожара, он осторожно взял стакан, открыл дверцу печки и поставил его туда. И тут же огонь вогнутым узким конусом втянулся в дымоходную трубу, и вместе с ним будто вылетала его, Андрея, душа.
Вот тут он проснулся.
Ночной ужас холодным потом вернулся к Андрею.
„Кой черт! – думает он. – Я никогда не воровал“.
Но в сны он верит, и сейчас к нему все это возвращается как воспоминание действительно случившегося.
Под дверь проникает из кухни съестной запах. Похоже, мать печет шарлотку. О еде думать не хочется. Ах, какая мерзость во рту! Но выйти почистить зубы – значит столкнуться с матерью, обнаружить себя. Не хочется. Ничего не хочется. Хорошо, сегодня в школу не идти. Четверг – его законный выходной.
К чему бы этот сон, снова думает он. Время. Да… кони вы мои привередливые! Дни мельтешат, как те цифры на часах. Что было вчера – и то не вспомнить.
А что было-то?…
Стыдно, как стыдно!
Он закрыл глаза, и тут же нефтяные змеи поплыли в пульсирующих оранжевых бликах; с ними бы вместе и вчерашнее все унеслось навсегда, но – дудки, слишком легко было бы за все расплачиваться головной болью и неутолимой жаждой. Он знал, вчерашнее вернется, может быть, даже сегодня, даже сейчас вот, память доставит еще ему это удовольствие.
Андрей снова закрыл глаза. Нефтяная пелена уплыла вбок. Он дико осмотрелся, не узнавая свою комнату. Сейчас, сейчас… Это не узнавание – первый признак возвращения разума.
На полу, на секретере, на пианино валялись сигареты с растерзанными шкурками. Роскошный джонатан, который мать принесла вчера утром и который он забыл кинуть в портфель, оспился заржавелыми поклевами.
Вчера всего этого он не заметил.
Значит, опять не прикрыл форточку и весь день у него в комнате гостили синицы. Он вспомнил, что и сегодня, едва проснулся, слышал их костяные приземления на подоконник, их уверенный осмысленный стук в окно. Теперь до самой весны ему придется делить с этими желтобрюхими наглецами свою комнату, находить тут и там следы их пребывания и вздрагивать от их внезапного появления.
Андрей передернул плечами как от мороза и подошел к окну.
Ветер, словно пытаясь открыть путь его воспаленному жаждущему взору, расшвыривал отгорающие листья. Но пространство оставалось непроницаемым.
Он отошел от окна, собрал окурки, зажал их в кулак и высыпал на крышку секретера.
– Сволочь… А-а-а… – простонал вслух. Театральность реплики была налицо, но нужно было что-нибудь говорить – голосом выходила головная боль и муть из организма. – Паяц! – снова сказал он хрипло. – Дезертир. Мулька, – и, тихо застонав, повалился на постель.
Это хмель возвращался безобразным лживым раскаянием. Скоро и оно должно пройти, и тогда…
– Синицы, – забормотал он вдруг. – Синицы, синицы… Ага! Вот. Кажется, ухватил.
И тут же солнечный осколок вчерашнего утра залетел ему в мозг, словно снежком попал в память, и он вспомнил.
Синицы прыгают по еловым веткам, и снег пылью оседает на их с Тараблиным головы.
Столик меж двух высоких елей. Летом за ним проходили, вероятно, шумные семейные обеды, а вечером в слабом отсвете веранды затевались чаи. Снег прибрал и его к рукам. „Т-с-с!.. ни слова посторонним о летнем блаженном безумии – о вороватой пенке вишневого варенья, впитывающей в себя неокрепший глоток счастья, о вспыхнувшем лице молоденькой гостьи, о романах с едкими зелеными буквами, травой и кузнечиками, о ночном шепоте, шутках, всхлипах и задыхании…“
У веранды зябнет красный „Москвич“. Сквозь стекла веранды солнце проходит насквозь, освещая сваленные на пружинную кровать матрацы, настенный календарик с покоробленным от влаги листком 26 августа, журнальную фотографию кинозвезды, чайник… молчаливые следы отзвучавшей, отдышавшей здесь летней жизни. И слева и справа от них такие же веранды со сваленными матрацами.
Андреем овладевает слабое невзаправдашнее чувство того, что он опоздал к этой жизни.
– Может быть, и на том свете, – говорит он, похрустывая яблоком, – может быть, и на том свете мы будем шляться около пустых дач и заглядывать в окна отошедшей жизни.
– Хорошо, если вдвоем, – хохочет Тараблин, – а если по одному?…
Солнце едва заметно начинает щербатить свежий поискривающий снег. Ошалелый снегирь, пробив его молодую корочку, купается метрах в десяти от них и, кажется, что смеется как младенец.
– Да, – соглашается Тараблин то ли со снегирем, то ли с мыслями о том свете.
С Тараблиным они не виделись давно. Он исчез с четвертого курса. Разошелся-таки с филологией. Потом объявился письмом из армии. На письмо Андрея отозвался через полгода. Писал что-то с привычным сарказмом про комвзвода, про „губу“, которая стала ему, видимо, родным домом. Отвечать ему не хотелось. Вернувшись в Питер, Тараблин не позвонил („не дозвонился“), сразу отправился на Север и вот только теперь, молодой зимой, сам разыскал его. Заявился прямо в школу. Они растроганно обнялись и подняли друг друга по разу на виду у изумленных семиклассников.
С тех пор они пару раз встречались… Вчера Тараблин зашел за ним в школу.
– В городе мне душно, на природу, – зарычал он сразу же, как только они вышли на крыльцо.
Тут же поймал такси. Поехали на Финляндский. Отсчитывая таксисту деньги, Тараблин взглянул с улыбкой на Андрея и сказал с какой-то горделивой нежностью:
Сибирские. – И даже как будто погладил исчезающую в портмоне пачку.
Таким образом, этот их заезд в новую, внезапно нагрянувшую зиму был чистой импровизацией. Вышли в Репине выпить пива. Потом, поняв друг друга с полуслова, украли пивную кружку, свято поклявшись себе вернуть ее на обратном пути. Купили бутылку азербайджанского портвейна, два яблока – и вот они здесь, среди пустующих веранд, снежной тишины, фиглярствующих синиц… И как драгоценную розу, день дарит им алого в снегу снегиря.
– Хорошо, – крякает Тараблин. – Красота.
Хорошо, ах до чего хорошо хрустеть яблоком и вспоминать и говорить, говорить, когда рядом в снегу купается снегирь.
Но что это за тревожный аккомпанемент, что это за мрачное эхо, которое отзывается их радости?
Тараблин стал рассказывать об армии. Вернее, об одной из увлекательных и рискованных самоволок, после которой командир части без разрывающих душу прелюдий отправил его под конвоем на гарнизонную гауптвахту.
О гауптвахте он повествовал с особым удовольствием. Не знакомому с военной службой Андрею было интересно, как если бы он слушал рассказ о Канарских островах.
До Андрея доходила едва ли половина из всего, что рассказывал Тараблин. Он вслушивался в его азартный голос и как-то интуитивно чувствовал, что именно в этом голосе весь смысл.
– Налей другу, – попросил он. Тараблин перевернул бутылку вертикально, как кинематографический бармен.
– А как твоя борода? – спросил Андрей.
– Пришлось на время отодрать. Начальство отказалось видеть в ней символ национальной гордости.
Верхушки его щек покраснели, покраснел нос, а глаза стали голубы и прозрачны.
– Помкомвзвода у нас был великий цитатчик, – продолжал как бы с середины Тараблин. – Он говорил, например: „Эт-та что за амурские волны!“ – про фиг знает как заправленную шинель. Или же возмущенно: „Что еще за последние известия?“ – когда ему доложили, что в казарме окотилась приблудная кошка…
– Тараблин, а что ты, собственно, про саму службу ничего не рассказываешь? – Андрею показалось, что он начал понимать смысл этого азартного голоса.
– Ты что? – панически задергался Тараблин. – Военная тайна. – Он с наигранным испугом стрельнул по кустам выпученными глазами, в поисках, видимо, укрывающихся слухачей.
– Ну-ну, – сказал Андрей.
– А кто же про работу говорит, Андрюша. Только скучные люди. В жизни интересны одни отступления. Она, так сказать, поэма в отступлениях.
– Глядь, на закате обернулся – одни отступления, а поэмы-то и нет.
– Экий ты какой, – сказал Тараблин одновременно обиженно и великодушно.
– Не понимаю, – сказал Андрей, – неужели вся жизнь только и состоит из самоволок да гауптвахты. Так сказать, наслаждение и возмездие.
– А ты знаешь что-нибудь другое? – удивился Тараблин.
– Ну, если не уходить от армейской символики – служба.
– Как у тебя, например.
– Можно и как у меня. Я очень доволен, что я в школе.
– Когда я слышу, что кто-нибудь доволен жизнью, я начинаю сильно сомневаться насчет его ума. Служить можно кому-то или чему-то, правильно? Я понимаю, с твоей высокой душой ты не сможешь служить Кому-то. Тогда – Чему? Ты обладатель великой идеи? Знаешь, как изменить мир? Тогда дерзай! Но ведь это будет уже не служба, в служение. Тебе же в твоей школе каждый день приходится врать. „Здрассьте, Марьвасильна!“ А про себя: „Дровосек ты сталинский!“ И продажа эта тянется годы и годы, всю жизнь…
Андрей прервал его.
– А ты, значит, нас, бедных, презираешь. Но жизнь – компромисс по определению. Нас никто не спрашивал, хотим ли мы родиться.
– Финтишь, – незлобливо сказал Траблин.
– Ладно, оставим высокие материи, – согласился Андрей.
– Никогда ты их не оставишь, друг мой. В этом твое спасение. О высокие материи лоб не расшибешь.
– Крут ты, Тараблин, – задумчиво сказал Андрей. – Но давай, действительно, проще. Я учу ребят. Так понятно? И стараюсь им не врать. Есть возражения?
Андрею вдруг представилась Сашенька. Она шла к нему через пустырь, слизывала языком с губ сухоту и улыбалась. Андрей начал бешено осыпать ее рассыпчатым снегом – от радости ли, от невозможности ли этого видения, оттого ли, чтобы суметь пережить сердцем эту долгожданную торжественность момента. А Саша смеялась и говорила: „Дурачок… Перестань, возьми меня за руки…“ – „Ни за что, – отвечал он. – Что я – сумасшедший?!“ – „Вот так всегда“, – горько отвечала Саша. Она стала деловито натягивать варежку на мокрую ладонь. Андрей почувствовал испуг. „Эй, эй!“ – попытался окликнуть он. Но было опять, снова, навсегда, – поздно окликать. Он сглотнул слюну, и Саша исчезла.
Рядом с ним басил Тараблин:
– Значит, главное – во имя чего компромисс… Ладно. Тогда так: есть плохие подлецы, ну, которые, значит, без принципов и только под себя, а есть хорошие. Ты, вероятно, подлец хороший. Поздравляю.
– Софист-виртуоз! К тому же, добрый.
– Я не добрый, я – щедрый, пользуйся. Бесплатно: хорошие подлецы сплошь и рядом хуже плохих.
– Ну да, – сказал Андрей, – тех ведь сразу видно…
– Отчасти. Но не только.
– Что еще?
– Это не я, это ты добрый, Андрюша, а я страх как стал не любить добрых. Все в основном, заметь, желают нам добра, расслабляют. Встреча со злонамеренным, напротив, мобилизует. Он, конечно, может нагадить, даже переломить нас пополам, но при этом никакой власти над ласточкой, которая, как известно, одновременно работает душой, он не имеет. Те же, кто руководствуется исключительно нашим благом, проникают в самые райские наши уголки. Мы сами открываем перед ними двери и зачехляем оружие. Причина отчасти в том, что мы не умеем обижать добрых людей. Ведь добрый и в нас предполагает найти доброго. Стыдно его обмануть. Мы становимся вдруг фальшивы и, самое главное, тут же начинаем мучиться из-за своей неискренности и еще искреннее на этой неискренности настаивать. А там уж, смотришь, тот, добрый, равнодушными пальцами переставил в угол твою, высоко говоря, святыню, приняв ее за безделку. Надо бы указать ему на дверь, но, вот беда, мы ведь, черт возьми, еще и вежливы.
– Значит, ученикам своим я приношу вред? – спросил Андрей.
– Бе-зу-словно, – прорычал Тарблин. – Как же ты своим-то умом?…
– Заткнись! – с досадой сказал Андрей.
– Тут может быть, по крайней мере, два варианта, – воодушевленно заговорил Тараблин. – Те, что поглупее и повосторженнее, верят тебе во всем. Ты им – про гуманизм, любовь, высокие стремления… Они думают – перед ними открывается жизнь. А ты их уводишь с помощью своей свирели… Куда? Правильно. Ты калечишь их под наркозом, и они же тебе еще благодарны. Ладно, успеешь возразить, послушай пока.
Жизнь, конечно, тут же начинает вправлять им вывихнутые тобою мозги. Но это бывает больно, а многим уже и поздно. Девочке, которой уготована судьба домохозяйки и верной жены, ты внушал, что в каждом из нас упрятан гений, что „только влюбленный имеет право“ и так далее. И что же? Она становится, конечно же, домохозяйкой, но только скверной, потому что до полного увядания будет считать, что ее призвание в ее невыносимых стихах и мир ее не понимает. Мужу она изменяет, потому что „только влюбленный имеет право“, и так далее. В итоге она несчастна, и кузнец ее несчастья – ты… Подобное происходит, конечно, с самыми последовательными из идиотов (зуб даю, они и есть твои любимые ученики). Другие быстрее разберутся, что к чему. Но уж и посмеются они потом над тобой!..
День словно бы привстал на цыпочки, словно бы пытался заглянуть в свой закатный час и узнать, чем все закончится. Это ощущалось и по складчатому струению воздуха, и по замершим фонтанам сосен, и по тому, как хотелось сглотнуть слюну и перевести дыхание, но что-то как будто мешало это сделать.
– Ну а второй вариант? – спросил Андрей.
– Это – все твои пижоны и разгильдяи. Они замечают не только то, что ты им хочешь показать, но и то, что хочешь скрыть. Они замечают и „Марьвасильну“, и твой старый отутюженный пиджачок, и тоску в глазах. Эти жалеют или даже презирают тебя и, во всяком случае, не верят ни одному твоему слову. Многие из них, окончив школу, не прочтут больше ни единой книжки, будут „везть служебную нуду“ и предаваться убогому разврату. Другие метят повыше, поэтому для них интеллектуальность – понятие престижное, да они и вообще привыкли в общении с искусством находить некоторое удовольствие. Это, знаешь ли, новая порода – потребители культуры. Инженеры при этом из них могут получиться вполне дельные, даже талантливые, ученые гениальные, предприниматели честные, но твоего вклада в этом нет. Уж, извини.
День перевалил через солнечный гребень, потек смирно. Воздух стал сизоватым, на облаках появились вечерние подпалины. Замолчали и они, рассеянно озираясь по сторонам и удивляясь своей недавней многоречивости.
Головная боль понемногу отпускала. Андрей увидел в секретере отполовиненную бутылку боржоми и тут же из горлышка выпил ее. Маленькие пасти пузырьков еще некоторое время покусывали гортань. Он стер выступившие на глазах слезы, потянулся к сигаретам, но тут же передумал.
Раскрыл наугад письма Пушкина. Студентами они любили загадывать по ним судьбу, отгадывать настроение, характер… „Тебе скучно в Петербурге, а мне скучно в деревне. Скука есть одна из принадлежностей мыслящего существа. Как быть. Прощай, поэт, – когда-то свидимся?“
Ай да Пушкин!.. Опять, как и десять лет назад, – в точку. Хоть и стыдно сегодня играть в эти игры, но да ведь про скуку и правда в самый раз.
Андрей перевернул страницу: „К. Ф. Рылееву. Вторая половина мая 1825 г. Из Михайловского в Петербург“.
Да, вот тебе и „прощай, поэт, – когда-то свидимся?“. Рылееву оставалось полгода до Сенатской площади. К моменту возвращения Пушкина в Петербург уж и виселицы будут разобраны…
Выходит, и скука может быть горючим материалом. И тут надо признаться, что скучает он бездарно.
Андрей с усмешкой подумал, что единственный непроизвольный, непосредственный поступок его за долгие годы – воровство часов, которое он совершил во сне.
Злость и обида на самого себя овладели им. Ему бы просто жить, быть неправым, пристрастным, легкомысленным, злым… А он… Он всегда мечтал о какой-то высшей правде, всегда хотел быть добрее самого себя. И что же? Вот построил красивый дом и первым же заскучал в нем. Нет, нет, первая заскучала в его красивом доме Саша.
Когда же это случилось с ним? Ведь у всего должно быть начало.
В истоке преследующего его чувства вины человеческое имя – Коля Ягудин. Он помнит свое первое „первое сентября“ – первое осознанное чувство начала… Но в то первое сентября испытал он и первое унижение и проявил первое малодушие. Вот и узел. Тот букетик календулы нужно положить у начала его дней.
Смутно, смутно… Он, маленький, лежит на диване и почему-то притворяется спящим. Мать за столом, судя по редким стукам наперстка, штопает, натянув на лампу чулок. Пахнет солидолом. Значит, отец готовится к службе – начищает пуговицы кителя. Пуговицы сначала темно-желтые, словно покрытые загаром. Отец просовывает их в специальную дощечку и проводит щеткой – осторожно, потом все быстрее и быстрее, жидкость белеет, стирается, скоро откроются пуговицы, уже без загара, похожие на электрические пятнышки.
Он представляет себе все это с закрытыми глазами, но постепенно забывает представлять, вовлекаясь в разговор родителей.
О чем они говорили – сейчас точно не вспомнить, но свою реакцию он помнит превосходно.
Он слышал, как сосед предлагал отцу вечером играть в преферанс. Бывало, и у них в доме встречались преферансисты, и мальчик засыпал под их „вист“ и „мизер“. Утром он нередко заставал их в тех же самых позах и с теми же словами на устах. Из этого он заключил, что преферанс – сильная страсть. Могло ли в тот момент что-нибудь другое пойти в голову отцу? Но отец только накануне явился домой утром, и мать, проплакавши в неведении ночь, успела позвонить его сослуживцу и даже, кажется, начальнику. Поэтому отец не решался сейчас так вот просто встать и уйти к соседу. А у соседа в это время уже, быть может, разрисовали магический лист. Отца он понимал, он знал, что такое, например, сидеть дома, когда мальчишки во дворе готовятся взрывать бутылку с карбидом.
Но мама не знает о предстоящем преферансе или же не придает этому значения. Может быть, даже забыла – чего ей-то помнить. Она рассказывает отцу о ссоре, которая произошла у соседей. Отец, с одной стороны, хочет понравиться маме, чтобы потом уйти играть в преферанс, с другой – боится, что история затянется, и пытается закончить ее миролюбивым: „Разберутся…“ Но маме нужно рассказать, и она продолжает. Тогда отец, нехитрым способом рассчитав, на чьей стороне симпатия мамы, сделал попытку поддакнуть. Бедный, он не понимает, что мама взывает только к его долгому вниманию. Она намолчалась за день, ей скучно, ей просто необходимо выговориться. Отец не понимает, а он, Андрей, понимает. Понимает, отчего замечание отца разгорелось в матери берестяной корочкой. Она завлекает отца в разговор… „Куда ты всегда мою суконку перепрятываешь?“ – спрашивает невпопад отец.
А мальчик все лежит с закрытыми глазами и внутренне разрывается оттого, что в равной степени понимает правоту отца и правду матери, одинаково сочувствует им и страдает от их жалких уловок. И никому-то он не может помочь!..
Ах, каким трогательным представлялось это ему сейчас. Но теперь он знал, что и тогда уже ему это представлялось трогательным, и тогда он был очень доволен собой, своим умом и проницательностью. Это было гораздо важнее, чем жалость к матери или сочувствие к отцу.
Все виноваты, и никто не виноват… „Может быть, и так, – подумал Андрей, – но глаза все же надо было открыть, мальчик, глаза все же надо было открыть“.
Он знал – многие тянулись к нему, но сумел ли он хотя бы одному человеку принести счастье? Нет, не сумел.
И все же – где начало?
Вдруг выстроилось: он всегда мечтал не о счастье – о совершенстве. О совершенстве как о счастье. Это еще с тех пор, как школьником отвалялся всю зиму в постели, читая книги. Может быть, даже раньше. И феномен – книжное дитя, чиновник духа. Вот почему он всегда чувствовал, что не узнал бы Сашу, не сумел бы понять, что это – Она, если бы встретил ее просто в толпе. Она была подарком, посланцем, который является лишь в такой день гроз и зноя, в какой Саша и появилась.
Андрей бросился лицом в подушку и на какое-то время забылся. Почему-то вспомнилось, с каким садистским упорством объяснял он тем редким женщинам, с которыми сводила его жизнь, что происходящее между ними не любовь. Что свела их вместе тоска, случай, приязнь, и во всем этом много хорошего и человеческого, но… Подлец, как он бывал доволен собой в эти минуты.
КАК НИ ВОСПЕВАЕМ МЫ ЛЮБОВЬ К МАТЕРИ, нужно признать, что чувство это – из редчайших. Я говорю не о благодарности, не о родственной приязни – это знакомо всякому, если он не калека. Но любовь к матери…
Андрей любил мать. Он не задумывался над тем, что питало эту любовь. Мама была средой его обитания, частью его самого, существовавшей и тогда, когда его еще не было. Но именно поэтому она так же мало поддавалась оценке и наблюдению, как собственный профиль. Возможно, что даже сама мысль обрисовать ее отдельно от остального показалась бы ему сомнительной и опасной.
Первая память: он – годовалый или полуторагодовалый – ползает в постели по маминой груди, иногда падает в нее личиком и пробует сосать молоко. Он смеется. Все это будет всегда и все это – его мама.
Ощущение вечности и надежности мамы длилось долгие годы. Андрей привык к маме точно к небу, точно к хлебным сухарикам на столе. Ее всегдашнее присутствие и любовь были той благодатью, которая еще не требовала ни специальной памяти, ни заботы.
Потом был недолгий период, горький, когда он больше всего в жизни боялся маму потерять.
Затем наступила в его жизни своеобразнейшая эпоха, которую называют подростковым возрастом. Он уже знал про мамины слезы, про ее бессонные ночи, когда отец до утра заигрывался в преферанс, про унизительные месяцы жизни в долг, про перелицованные платья.
Нельзя сказать, чтобы Андрей разлюбил маму за эту открывшуюся ему ее уязвимость. Вернее было бы сказать, что это было время, когда он разлюбил саму жизнь.
Отца уже не было. Он умер, унеся с собой и все счастливые окончания историй.
Смерть отца оглушила Андрея, а когда он очнулся и почти со стыдом ощутил в себе новое желание жить, то увидел вдруг, что мама давно вышла из оглушенности.
Вскоре он заметил в маме и вовсе новое для него, что называют коротко – стремлением к счастью. Это стремление показалось ему жалким и стыдным. Он стал ко всему ревновать ее: к новой прическе „корзиночка“, к новым платьям, к той нерабочей усталости, которую замечал в ней иногда вечерами. Кроме того, пробудившаяся в маме на его глазах жажда счастья открыла Андрею впервые, что он вырос в несчастливой семье.
Обида, как известно, имеет и приятные свойства, но отпустила она его вдруг, внезапно, как и пришла. Однажды он другими глазами увидел ту перемену, которая произошла в маме после смерти отца. Она стала держаться прямей, что-то мешало как будто ее прежним ласковым и мягким сгибаниям и поворотам. На носу обозначились ноздри, глаза стали больше. Никогда до этого не видел он ее беззаботной, а тут появилась беззаботность, на которую уходили, казалось, все ее силы.
Дни маминого рождения обычно проходили без гостей и застолий. А тут назвала гостей, взяв для этого деньги, отложенные на сервант. Были соседи, но больше – земляки, которых оказалось в Ленинграде множество. Все эти тети Поли и дяди Пети, с которыми она не виделась годами, весело поедали винегрет, хвалили соседку… Потом попросили его поставить „какой-нибудь вальсок“, и он ставил и „Бессаме мучо“, и „Маринике“, и „О, голубка моя“, под которые гости уморительно изображали томление, страсть и провинциальную галантность с высоко отведенным локтем. Мама танцевала с каждым из них, даже с женщинами и детьми, и просила Андрея повторить.
Потом вдруг затянули песню о проезжем генерале – все, оказывается, знали ее. Тогда только понял он, что они действительно земляки, то есть из одной земли, потому что пели слаженно и красиво. Стали просить, чтобы мама спела одна. И тетя Поля, и дядя Петя, и тетя Маруся уверяли, что помнят, как пела она в молодости.
Мама запела на очень высокой ноте. Казалось, что выше подняться уже нельзя, и она вот-вот сорвется, но она брала еще выше, потом еще. Пела мама, как поют в деревнях, не пела – кричала, закаменев лицом. Андрей ждал, что с минуты на минуту мать оборвет песню и заплачет, и тогда, наконец, кончится это мучившее его мамино веселье. Но песня не обрывалась.
О последующем Андрей вспоминал потом с долей суеверного страха.
Дело в том, что по непонятной причине лампочка вдруг загорелась таким ярким бело-голубым пламенем, как будто в ней подожгли магний. И по силе проявления свет как бы заглушил звуки, и какое-то мгновение мама пела точно немая, которой обещали, что если она напряжется, то голос родится сам собой.
Андрею вдруг представилось, что мамино окаменевшее в песне лицо и все эти внимающие лица, зависшие над глянцевыми ломтиками селедки, словом, весь этот кусок жизни был когда-то вплавлен в бело-голубой свет, как в глыбу льда. Он тоже был в этой глыбе, но в то же время каким-то другим зрением, из будущего что ли, видел происходящее. И ему стало страшно.
Взметнув вверх кулаки, Андрей закричал:
– Перестань! Что ты делаешь – перестань! – И заплакал.
Лампочка взорвалась мягко, как вода от брошенного булыжника. Из темноты медленно выступили стеклянные блики.
– Андрюша, – тихо позвала мама. – Не плачь, сынок. Я больше не буду.
После этой почти балаганной сцены Андрей не умом, не памятью, а всем своим существом понял, что появился на свет из матери.
Если он возвращался домой поздно и замечал, что в доме горит слабый свет, Андрей знал, что мама не спит, а ждет его в полутемной комнате (глаза ее болели от яркого – первые признаки катаракты, о которой она еще не знала).
Мама узнавала о его приходе заранее (да и он умел различать ее по кашлю, по пришаркиванию ног, по аккуратному стуку двери), включала в прихожей свет и отворяла дверь.
– Заждалась? – спрашивал он, целуя ее.
– Заждалась.
– Что по телевизору – никакого дютика?
– Все хоккеи – черт бы их побрал! – отвечала, улыбаясь, мать. – А я сегодня, как назло, и читать не могла.
– Глаза?
– Да нет, на языке что-то выскочило – не могу к зубам прикоснуться.
Андрей хохотал и обнимал мать.
– Ах ты, Золушка моя!.. Попросила бы голубок, что ли, они бы тебе почитали.
– Каких голубок? – не понимала мать.
– Сизокрылых, конечно, – смеялся он. – Ладно. Давай что-нибудь кинем на сковородку, и я тебе почитаю.
Больше всего ему хотелось сейчас заплакать, хотя он и не знал отчего.
Память о маме была почти постоянной, даже когда Андрей о ней не думал. Она была подобна бессознательной памяти о самом себе, разве что еще более сосредоточенной и чуткой в силу их физической раздельности.
Почему их новые отношения начались именно в тот вечер, когда мама, вероятно, навсегда отказалась от своего, отдельного от него счастья? Он подумал об этом, когда впервые после детства повстречал Сашу. Внешне как будто ничего не изменилось. В эти дни он стал, пожалуй, даже еще более внимателен к маме – виновато внимателен. Мама была уже не привычно-бессознательной, но специальной его заботой, особенно в первые их с Сашей цветущие летние месяцы.
Когда они уезжали в Тарусу, у мамы обострился гастрит, и она сидела на диете. В худобе ее, однако, не было ничего болезненного, даже что-то девчоночье появилось в лице, как на той фотографии, где стояла она с короткой стрижкой и в своих шнурованных сапожках на фоне намалеванного пейзажа. Андрей сказал ей об этом, и они посмеялись на прощание.
И вот в Тарусе под утро, уже в полудреме, ему привиделась их соседка по площадке – Зина-армянка.
– Эй, мать ничего не ест! Ты слышишь? Она страшно похудела, – сказала Зина.
– Ну-ну, не драматизируй, – улыбнулся он, – это ей даже идет.
– Идет! Ты что – сумасшедший? Три с половиной килограмма уже в ней осталось.
Эти три с половиной килограмма заставили его вскочить с постели. Он оставил спящую Сашу и побежал по холмам к почте мимо хлопчатобумажной фабрики, мимо столовой… Телефон в Ленинграде не отвечал. Андрей кинулся обратно, чтобы успеть собрать вещи до отхода следующего автобуса на Москву. Назойливая радость лета смотрела на него отовсюду.
Саша вызвалась проводить до Москвы. Всю дорогу в автобусе они молчали.
С вокзала Андрей еще раз позвонил домой. Подошла мама, радостная и бодрая, и он понял, что в Ленинграде тоже стоят чудесные теплые дни, и молча поблагодарил жизнь за то, что она помиловала его и на этот раз.
Между прочим, почему-то именно после этого случая Андрей стал много думать о том, какой мама была в юности. Тогда он узнал и про бабку-ведьму, и про барский дом, и про то, как они познакомились с отцом. Но чего-то ему в этих рассказах не хватало. Как будто еще с детских лет кто-то наложил запрет на одно воспоминание, которое, однако, и было ключом ко всей маминой прошлой жизни.
Наткнувшись как-то в альбоме на ту самую фотографию, где мама была снята на фоне пейзажного подмалевка, Андрей был поражен – с фотографии на него смотрела влюбленная мать. Сомнений быть не могло, удивительно, как он этого не замечал раньше. „Это ты снималась уже после знакомства с папой?“ – спросил он как бы между прочим. „Нет, познакомились мы только на следующее лето“, – уверенно ответила она. И тогда, осененный догадкой, Андрей стал расспрашивать мать изо дня в день о прошлой жизни. Он старался не выдавать цели расспросов, а сам чувствовал себя героем сказки, который отправился искать тот самый заповедный дуб, на котором было то самое заповедное гнездо, где лежало то самое яйцо, в котором была спрятана та самая иголка, и так далее. И хотя ни одного прямого признания он от мамы не добился, наступил момент, когда воображение укололось-таки об эту иголку…
АКИМ БЫЛ СЫНОМ ПАШИНОГО КРЕСТНОГО – ЕВСЕЯ. Цыганские вихры, крупные губы, гордое, запрокинутое лицо. Паша влюбилась в Акима еще девчонкой, когда они с отцом работали у Евсея в батраках. После работы Евсей всякий раз приглашал их за стол. Тут был уже и Аким. Зная Пашину слабость, он ставил перед ней тарелку с медом и свежими огурцами. Старший любящий брат – вот кем был для нее Аким.
А в какой вдруг момент почувствовала себя Паша девушкой, как совершилась в ней любовь к Акиму, она и сама не заметила. Тот почувствовал эту перемену, вероятно, раньше ее, и братское в их отношениях стало постепенно наполняться новым смыслом.
Случалось, как и раньше, Аким поздно ночью провожал ее. Но теперь то и дело норовил приобнять и отпустить какую-нибудь шутку. Или наклонится к уху, и ухо окунется в горячую ладошку его шепота. Отпрянет ладошка – и Паша услышит заново, как сверчат полевые сверчки и голышом по озерной ряби пробежит по деревне собачья перекличка: все это именно теперь услышит. Но ладошка снова у ее уха, и снова слушает она горячие слова Акима:
– А что, если где-нибудь уже есть такие же, как мы, – Пашка и Аким. Представляешь? И идут они, как мы сейчас, и тоже сырые семечки лузгают.
Пашины пальцы замерли на подсолнухе, и почувствовала она, что семечки в нем холодные и одежды у них мохнатые.
– Где? – спросила Паша.
– Да хоть где, – ответил тот. – Хоть на луне вот. Хотя на луне вряд ли. В какой-нибудь Муравии… Идут щас там Паша и Аким в свой домик и думают: а вдруг где-нибудь еще живут такие же, как они (мы то есть).
– У них свой домик есть? – спросила Паша.
– Наверно, что есть.
Паша заглянула в глаза Акиму и засмеялась:
– Ох, и врать же ты!
Смеялась, а самой отчаянно хотелось поверить. Было в его рассказах что-то от ведьминого колдовства.
Когда утром Аким подсадил Пашу на лошадь, она смутилась и одернула юбку.
А через неделю подожгли конюшню. Паша сама видела, как обезумевшие лошади кидались в деревенский пруд. Поговаривали, что как раз Аким с дружками и поджег. И смотрел он в этот день на Пашу такими глазами, что она поняла – мог.
К тому времени она уже подала заявление в колхоз. Лозунг был: „Ликвидировать кулачество как класс“. И значит, Аким был враг ее.
Несколько дней провела она как в лихорадке. С Акимом не встречалась. Однажды утром за Акимом приехали. Вышла она из дому, Аким уже на подводе сидит. Увидел ее, скалится:
– Эх, не погуляли мы с тобой, Пашка, – говорит. – Робкая ты больно. Ну да научишься еще, конечно. Жаль – не со мной. А может, и встретимся. В Муравии. – И хохотнул.
Так и закончился, не начавшись, ее первый и последний роман. С Григорием у нее ничего подобного не было.
Сразу после переезда в Ленинград Григорий заставил Пашу сшить себе городские платья, которые сменили юбки в сборку да блузки с бантами из глаженых лент. Вместо кожаных сапожек на шнуровке купил новые туфли. Но эти новые наряды не сильно радовали Пашу. Казалось, в них ее деревенский выговор стал еще заметнее.
Появился наконец и у нее свой дом, но до чего же он был не похож на тот, о котором ей мечталось. Постепенно она втянулась и в эту жизнь и даже стала находить в ней некоторое удовольствие. Теперь уж секрет счастья казался ей в том, чтобы и у нее в доме было не хуже, чем у людей. И она тянулась изо всех сил. Но до счастья было по-прежнему далеко. Появилась у Паши привычка, слушая рассказы Григория о сослуживцах, постукивать пальцами по столу и закусывать губу.
ЛЮБЛЮ ГРУСТНЫХ ЛЮДЕЙ… Грусть – обертон звука их души, признак неистребимого ее благородства. Она вызвана ощущением вечно ускользающего мига. В то же время грустный человек знает, что тайная красота жизни есть нечто неизменное и сущее, и пребывание ее в формах и явлениях временных – лишь знак того, что никто на свете не может владеть ею.
Так же как каждый хотя бы мгновение бывает гением, так случается каждому думать и чувствовать, как думают и чувствуют грустные люди. Разве не чувствуете вы нечто подобное грусти, например, в последние дни перед Новым годом? Ожидание его похоже на жажду, покрывающую губы сухим перламутровым налетом.
В Ленинграде предновогодние дни всегда ритуальны. Зажженные в садах елки заставляют ощутить волшебную глубину зимних сумерек, всю в слюдяных блестках снежинок. Снег пахнет мандаринами. В витринах появляются Деды Морозы, огромные, перевитые серебряной канителью снежинки, приоткрытые сундуки с мерцающими в них елочными игрушками. Город становится пряничным, как иллюстрации Конашевича. За поворотами слышится звук музыкальной шкатулки или шарманки с их жалобными механическими мелодиями.
Комната в эти дни настаивается густым и темным запахом елочной хвои. Сама елка, как невеста, которую умыкнул влюбленный, стоит, потупившись, у окна, медленно расправляя затекшие от веревок ветви. Чувствуется, что и она, как все, ждет своего часа.
А чем пахнут елочные игрушки, спрошу я вас? Не ответите. Потому что елочные игрушки пахнут елочными игрушками. Это такой же самостоятельный запах счастья, как запах растертой в пальцах смородиновой почки, дождя, обувной кожи, арбуза…
И вот уже наступают последние сутки. Помню эти длинные сутки с детства. Между рамами в быстро синеющих окнах застывает холодец и бутылка шампанского. Мы вешаем на елку обернутые в фольгу грецкие орехи, конфеты и мандарины. Вешать на елку съестное, как я теперь понимаю, детская уловка бедности. Мы приносим к елке также самодельные игрушки, сочиненные в последнюю ночь. В комнате полный свет (в обычные дни горят два-три рожка из пяти). Мама кулаком заталкивает в кастрюлю беспокойное тесто. Дотапливаются печи, мне разрешают обмолотить головешки длинной кочергой. Мужчины, не находя себе дела, в белых рубашках захаживают на кухню и делают пробы винегрета, салата, рыбы. В иных семьях загораются маленькие экраны КВНов, напоминая зимние заиндевевшие окошки. А мы проносимся сквозь этот предпраздничный гомон, ничего не задевая и ни на чем не останавливаясь, и весь наш день похож на затяжной сомнамбулический полет.
Наконец меня укладывают спать, обещая разбудить не позже одиннадцати. Единственный раз в году иду спать без сопротивления. Не сплю, а завихриваюсь в сон. Дед Мороз с витрины шагает ко мне, оставаясь на одном месте. Уличные плафоны позвякивают, как елочные игрушки. Осторожный стук дверей отмеряет начало и конец сменяющихся в мозгу сцен. Слышу, как мама натягивает на оттоманку с матерчатым треском свежие отстиранные чехлы, разглаживает кружевное покрывало с фестонами на краях, как поправляет на окне пересиненный тюль, расставляет на столе бокалы, до краев наполненные сумерками. Несколько раз приоткрываю глаза и смотрю на елку. Ниток не видно. Невесомо покачиваются в воздухе серебряные орешки и мандарины, вплывая через полуоткрытые веки в мой непрочный сон.
В сущности, все эти предновогодние дни, в особенности последний сон, – прощание. Ведь пока я носил в себе предстоящий праздник – он был только мой, сколь угодно повторяемый, и никуда не мог уйти от меня. Но вот он начался, стал осуществляться, стал независим от меня, и я с грустью гляжу в глаза совершающегося. Я радуюсь и не узнаю его, я смеюсь и плачу про себя, сравнивая этот сумбурный томительный мир с совершенством, которое так долго вынашивал в душе.
Бывало, мне представлялось в этом вихре сна все, что еще ожидает меня в новогоднюю ночь. Бой курантов, подхваченный звоном бокалов, сюрпризы-хлопушки, из которых вылетают значки и брошки, какие-нибудь слоники и трилистники, всегда неожиданные и веселые визиты ряженых. Но все это виделось мне уже в освещении того сиротливого утра, когда я стану разбирать елку, все это слышалось под пение и свист елочной хвои в печке.
Жизнь во всех своих проявлениях стремится к завершенности. Но так же, как художник, завершив многолетний труд, отпускает его к людям, чтобы снова коснуться руками сырого гипса, так и душа иссякает в совершенстве и уже в следующий миг ищет новизны. Гонит прочь милое и обжитое, а порой и жестоко осмеивает любимое. Но все наше существо стремится к ценностям вечным и абсолютным. Мы не хотим видеть в проходящем лишь ступени, по которым нам всю жизнь суждено приближаться… к смерти.
В некоторых людях страх конца убивает и саму волю к жизни, другие спасаются от него в забвении.
Вот почему я тянусь к так называемым грустным людям.
Грустным людям, конечно, совсем не чуждо веселье, но веселье их не бывает вульгарным. Потому что вульгарность проистекает не от отсутствия вкуса, как принято считать, а от забвения того, что смерть всегда рядом. Они порядочны не по закону, а по совести. Они редко бывают непосредственны в том смысле, в каком непосредственны веселые люди. Но если последние обрадуются какой-нибудь бабочке, как свидетельнице их счастья, первые увидят в ней само крылатое счастье с недолговечным пыльчатым узором. Грустные люди могут показаться суховатыми, потому что никогда не бывают сентиментальными. Их быт легок и проветрен, как комната, состоящая из одних окон. Многим он может показаться аскетичным, но никому – идолом, на которого молятся хозяева. Грустные люди, как правило, хорошие друзья и интересные собеседники. Они бывают излишне робки, замыкаются в присутствии тех, кто им не по душе, или же становятся по-студенчески заносчивыми с ними. Многие из них несчастливы в любви, зато они умеют невольно передавать другим избыток живущего в них счастья.
О смерти они знают больше, чем остальные. Это знание, как ни странно, делает их мысль о конце более легкой и более человеческой. Именно – человеческой. Мрачные люди воспринимают смерть как космическое бедствие, скучные видят в ней неумолимого бюрократа, веселые люди ощущают смерть как коварство природы и предательство, как личную обиду, наконец. Те же, о ком мы говорим, отличаются от всех прочих честным и ясным отношением к смерти. Они осознают ее не только как естественный природный, но и как нравственный закон, и не страдают преувеличенным представлением о себе. При мысли о конечности своего существования в них вместе с горечью не возникает желчной ненависти к миру, остающемуся после них, потому что жизнь как таковую они ценят больше своей собственной.
Их жизнь сейчас, сегодня, их о д н а жизнь пребывает в таком широком пространстве космической, природной и исторической жизни, что как будто давно перешла уже роковой рубеж личного существования.
ОН ВСТУПИЛ В ЗАТЯЖНУЮ ЛИВНЕВУЮ ПОЛОСУ ТОСКИ. Впору было пойти и самому напроситься в Бехтеревку. Там бы друзья-психологи внутренний разлад его рассортировали на мотивы, поймали на комплексах, нашли бы ножницы между притязаниями и возможностями, а всякому чувству, как новорожденному, прикрепили клеенку с номером. Только какие же чувства в самом деле были у него теперь? Не было их. Ливень тоски. И притязаний не было. В этом дело.
Все чаще на уроках он стал останавливаться, как будто застигнутый врасплох, как будто вел ребят в поход, а подвесной мостик, по которому ходил столько лет, исчез за ночь, и он невольно обманул учеников, обещая здесь переправу. А главное, не только мостика не было на прежнем месте, но и следа от него никакого не осталось. Все заросло. Кого ни спросишь – никто и не помнит, что был здесь мостик.
Что-то случилось с ним. Неужели сил выделено было только на порыв? Ведь с детства внушали им, что жить надо ярко и красиво. Лермонтов и Рембо, Желябов и Эварист Галуа. Юность их была сплошным исступлением. Красиво – значит, на пределе.
И никто не учил их жить долго.
Он как будто явственно различал уже первые звоночки или, как сказал бы Тараблин, гудки старости.
Как старик в поисках скудной пищи, таскался он в одиночестве в кино, заходил в магазины, на станции междугородных телефонов-автоматов, читал на улицах объявления об обмене и приеме на работу. Это создавало в нем иллюзию того, что жизнь таит в себе еще много скрытых возможностей и неожиданных поворотов. С таким же ностальгическим чувством смотрел он на зажженные окна и проезжающие автомобили. Чье-то счастье светилось за шторами и уютно сидело на кухне, уезжало в синеву улиц, проходило мимо с поющим магнитофоном, укрывалось зонтами, этими кукольными крышами для поцелуя. Кто-то хотел обменяться на Воркуту, офицер с женой снимали комнату, предлагался новый югославский гарнитур, требовались монтажники и электросварщики, водолазы и маляры. Еще и ему, казалось, можно было, как угодно, изменить жизнь и стать счастливым.
Но от этого богатства возможностей жизнь, напротив, почему-то теряла притягательную ясность.
– Нара, Нарочка, – слышал он сквозь стекло телефонной будки. – Вы „белую ночь“ перекрасили? Молодцы. Я говорю, молодцы. Она же маркая. А Сандукяны что купили? „Морскую волну“? А собирались „слоновую кость“.
Что имела в виду эта счастливая красавица армянка? Что все они имеют в виду? Или и белую маркую ночь теперь можно перекрасить в зимние сумерки?
А где-то собираются торговать таблетками, приносящими радость. Может быть, и у него такая тоска, потому что не хватает в нем этих, как их – эндорфинов?…
– Деточка, пиво свежее? – спрашивает мужик в магазине. И получает в ответ:
– Парное.
Ай да „деточка“! Что он действительно эстетствует-то?
Все вокруг усердно упражняются в иносказаниях.
Оно бы и ладно. Но игра зашла слишком далеко. И все уже забыли, что первоначально имели в виду. Значения усложнились до утраты. Без иронии ни шагу. Идут уже иносказания иносказаний, подтексты подтекстов.
Друзья, милые мои друзья! Когда же мы-то с вами перешли с высоких ночных бдений на застольные анекдоты? За что мстим своей восторженной юности? Конечно, мы не лезем по спинам других, делимся книгами, помогаем лечить детей и, в общем-то, умеем делать свое дело. Но, похоже, что мы, как галактики, тоже разлетаемся в пространстве. Притяжение между нами ослабевает. Думаю, что мы и через это расстояние протянем еще другу кусок хлеба, если потребуется. Только это ведь тоже метафора. И не потребуется, дай бог. Но чей быт не побоюсь я нарушить теперь своею тоской?
Да что друзья, что он пристал к друзьям, если собственное тело стало изменять.
Вдруг он обнаружил, что у него есть сердце и что оно может болеть. А когда заговорил об этом, оказалось, что все давно носят в кармане валидол. И перепады давления не только он – все ощущают. И бессонницей мучаются, и поясницу схватывает, и побаливает печень. На головные боли пожаловался – подарили ему миниатюрную коробочку вьетнамского бальзама. Натирай виски – все давно натирают.
Тридцать лет – это тридцать лет. Пора заботиться о здоровье. Эбонитовые кружки от радикулита, поверхностное дыхание от астмы, противоаллергические препараты, снятие электростатического напряжения, поза лотоса, поза змеи, прополаскивание рта подсолнечным маслом, прополис, мумиё, аутотренинг – уже столько человечеством открыто и возрождено заново. Здоровье – чуть ли не главная его религия. А он, кроме калгана, ничего, кажется, до сих пор и не знал. Чем же он все это время занимался?
Валидол он купил. Стыдливо попросил его в аптеке. Лет десять назад мучился в аптеке по другому поводу. Улыбнулся, вспомнив. Кроме вьетнамской „звездочки“, друзья подарили настой прополиса. Купил даже зачем-то книгу о прополисе. Книга оказалась для специалистов. Еще пробовал заниматься дыханием. Но скоро бросил. По той же причине, по которой не раз бросал начатый дневник. Для того и для другого необходимо особое состояние веры. А веры в нем не было.
Но на базар захаживал. Покупал траву. Чего только люди, оказывается, не едят. Даже цветы настурции едят. Ему предлагали. Но от настурции он отказался.
Описывая мрачное состояние героя, мы ни словом не упомянули о Саше, и может сложиться впечатление, что о Саше он в это время и не думал.
Это не так… Он главным образом о Саше и думал. Даже, может быть, только о ней одной. Но определить как-то свою мысль или хотя бы просто выделить ее из ряда боялся, чувствуя инстинктивно, что она – главная. А поэтому ходил вокруг кругами, отвлекал сам себя, возможно, специально даже напускал на себя помрачение и наводил сатиру на жизнь.
Правда, в последнее время стало ему казаться, что есть в кружении по ее топям какой-то порядок, что он с неизбежностью должен был пережить это, а может быть, и каждому суждено пройти чрез этот ливень тоски.
И ожила в нем вечная надежда путника, что человеческий след выведет.
Так или иначе, но почувствовал он в себе особую раскованность, а в своем еще недавно лишенном смысла существовании – ритм. И еще – возродилась в его душе готовность. Не к чему-то готовность, а вообще. Есть такое состояние.
Поэтому, в частности, когда шел он однажды вечером домой и увидел горящий свет в припозднившемся пивном ларьке и остановился, колеблясь: выпить ему пива или не стоит, и заметил, что кто-то из очереди делает ему знаки, то и не подумал, что знаки эти относятся к кому-то другому, и не прошел мимо, и не встал в конец очереди, а подошел к тому, кто, может быть, его звал.
Им оказался незнакомый старик. Пиджак его был надет прямо на тельняшку, шея, коричневая, дряблая, открыта, в руках – банный портфельчик. И причесан он был аккуратно, как будто и правда из бани или из парикмахерской.
– Вставай, земляк, не робей, – сказал старик.
Он взял впереди старика пиво и отошел. Вскоре подошел старик, встал с ним рядом.
– Пиво брусникой пахнет.
Андрей однажды сам почувствовал, что пиво пахнет иногда брусникой, но уже забыл об этом, а сейчас вот, услышав от старика, обрадовался и задержал глоток во рту – правда, пахнет.
Старик ему нравился.
– Вы знаете меня? – спросил он.
– А ты, значит, меня не признал? Я думал, признал. Я-то многих своих клиентов в лицо помню. В бане на Обуховской мылся?
– Но это когда было! Я же еще пацаном был.
– Не-ет, – улыбнулся старик. – Потом тоже приезжал. Курточка еще вельветовая у тебя была.
И он действительно вспомнил, что долго еще ездил в эту баню по старой памяти, когда уж и ванная была дома. И курточку вельветовую вспомнил. Ай да старик!
– А вы банщиком там были?
– Ну.
– Помню! – соврал он радостно.
– То-то. Я уж восемь лет на пенсии и то помню. Инженеришь?
– Нет, учителем работаю.
– Понятно.
И снова к нему пришло чувство, что все, что с ним происходит в последнее время, имеет какой-то скрытый смысл. Старик этот недаром выплыл к нему из белых сумерек. То есть это сам он, конечно, перед ним выплыл. Но суть не в этом. Такие старики всегда появляются, когда надо. Классика русской литературы.
Он вглядывался в старика, пытаясь угадать, как того зовут. И остановился почему-то на Тимофее Лукиче. Только после этого спросил:
– Как вас зовут?
– Wie heist du? – почему-то по-немецки повторил старик. – Тимофеем Лукичом меня зовут.
– Правда? – почти вскрикнул Андрей.
– Твоего вот имени не знаю.
– Да откуда же?… Андрей.
– Ну, давай тогда, Андрей, выпьем за встречу. – Андрей почувствовал: старик боится, чтобы он ему не отказал.
– Прямо здесь? – спросил он.
– Зачем? У меня в сауне приятели работают. Пристроимся.
Ему было удивительно, что старик, шедший рядом с ним, тоже, наверное, помнил их двор, и Сашин барак. И ведь в той же бане он был, в которой они стояли с Сашей друг перед другом как херувимы.
Понимал он, что наличие там старика вовсе еще не говорит о какой-то его причастности к их с Сашей отношениям, а в то же время чувствовал, что он как бы и причастен, и посвящен в это не меньше их обоих.
Андрей представил, что сейчас неизбежно надо будет о чем-то говорить, рассказывать, может быть, свою жизнь и вообще вести себя так, словно у тебя душа нараспашку. В этом, возможно, и есть главный смысл подобных встреч со стариками в классических образцах: разговориться, выплакаться… Мол, сам, дружище, понимаешь: влюбляются женщины в несчастных, а мужьями делают благополучных. Все обжигаемся. Еще Аристофан говорил… Что он там говорил? Неважно. Надо только попасть на верную волну.
Была, значит, баба, а теперь нет ее. К другому, что ли, ушла? Теперь, может быть, и ушла.
Нет, он расскажет старику только первую, самую общую часть: была баба, а теперь нет. Жила у „Катушки“. Вы знаете. Да, в бараках. Была и нет. С кем не бывает.
Андрей даже содрогнулся при мысли о том, как просто это вышло. И чуть ли не радость почувствовал, что не у него одного так случилось.
Они уже обогнули баню, прошли в потемках по сырой визжащей траве и оказались в котельной. Старик познакомил его с котельщиком – Филей. Тому было лет сорок. Был он косоглаз, черен лицом, а щеки его так втянулись внутрь, что в эти впадины вошло бы, кажется, по райскому яблочку. Со стены, холодно улыбаясь, смотрела на них Барбара Брыльска.
На столе мигом возникли бутылка „Экстры“, две бутылки чешского пива „Радгост“, консервы „Уха атлантическая“ и здоровый кусок балыка. Сервировал Филя. Старик был тих и угрюм.
От водки Андрей отказался, и ему открыли бутылку „Радгоста“.
Филя стал угощать Андрея, подсовывая ему уху и отрезая балык:
– Как говорится, чем богаты. Один любит арбуз, другой – свиной хрящик. – И первым засмеялся.
Филя, по всему видно, привык брать инициативу на себя и теперь, не зная того, грубо нарушал их классическую встречу со стариком. Впрочем, может быть и так, что Филя был домашней заготовкой гроссмейстера.
– Филька, на манометры смотри, – сказал Тимофей Лукич.
– Та-а, – махнул рукой Филька. – Пес с ними. Взорвемся, так вместе.
Андрея такая перспектива ничуть не грела. Он усмехнулся:
– Лучше бы по одному. – Но почему-то вспомнил, как в детстве мечтал, чтобы, если смерть окажется неизбежной, бомба ударила (бы) в их квартиру и они погибли бы все разом. Может быть, и Филя думал когда-нибудь об этом? Странно, у таких, как Филя, как будто никогда не было детства и матери. Кажется, что появились они на свет сразу сорокалетними.
В котельной стало душно. Барбара Брыльска смотрела на них все таким же холодным, усмехающимся взглядом. Может быть, она-то и есть его, Филькина, Пенелопа?
Тимофей Лукич отправился смотреть на манометры.
– Жена у него померла недавно, – тихо сказал Филя. – И вдруг спросил неожиданно: – У тебя женщина есть?
– Есть, – отозвался Андрей, но как будто не своим голосом.
– Законная или так – знакомая?
– Законная, законная, – вяло врал Андрей.
– Ну и как?
– Нормально.
– Исключительный случай семейного благополучия. А у меня-а! – Филя поднял глаза к потолку, напряг жилы и выразительно помотал головой. – А никуда не денешься. Жить-то надо.
– Брось, – вдруг посоветовал Андрей.
– А дальше что?
– Ищи.
– Чего? Любовь? – Филя расхохотался.
Андрею вдруг стало скучно. Он подумал, что гроссмейстер явно дал маху. Этот вариант с Филей был давно отработан.
А Филя словно окаменел. Взгляд его огибал по параболе голову Андрея и видел что-то там, за его затылком, чего увидеть было невозможно. Впадины его щек всасывали в себя сумрак котельной. Андрей вспомнил свою курительную трубку, чубук которой представлял резную головку Мефистофеля. Изображение Филиной головы можно было тиражировать на эти чубуки. Не хватало только бородки. „А Мефистофель, интересно, тоже был косоглаз?“ – почему-то подумал Андрей. – Или это уже Филин поклеп на беса?»
– Я ведь уже искал, – сказал Филя как бы про себя.
– Ну и?…
– Выходит, что нашел.
Андрей посмотрел на него непонимающе.
– Я с ней познакомился на танцах, – начал Филя повествовательно. – В промкооперации. «Маленький цветок» знаешь? Подлая, я тебе скажу, музыка. Душу высасывает. Танцуем мы с ней «Маленький цветок», а я чувствую – подыхаю, так эта музыка меня сгибает. Затяжечки в ней такие… И она тоже, вижу, волнуется. В сторону блестящими глазами смотрит. Ну и влюбился я без разбегу. Как в кино.
Андрею вдруг показалось, что его сидение в котельной стало приобретать какие-то ясные очертания и смысл. Он уютно приготовился слушать.
– Стали мы с ней встречаться. Она в техникуме тогда училась. Сматывались куда-нибудь на Кировские острова. Там тоже это танго часто гоняли. Садимся с ней на колесо обозрения и как в рай подымаемся. Пончиками друг друга кормим. Под нами пони по дорожкам бегают. А мы все кружимся, я ей руки отогреваю. Париж. Что еще надо? Верно?
Ну вот. Стали мы с ней уже эту заветную черту переходить. И чувствую я, пахнет чем-то от нее неприятным… Мучился я с этим долго. И она-то ведь, понимаю, не виновата. Но и меня с этого запаха воротит. Мелочь вроде, а и не попрешь против нее. Так? В общем, расстались мы. Я все как бы холоднее становился, а потом вообще пропал. Зубами скрипел, так к ней хотелось. А вспомню запах – и не могу.
Так года три прошло. Ничего у меня с другими не получалось. Пластинку «Маленький цветок» купил…
Пошел как-то к матушке на день рождения подарок присмотреть. Зашел в косметику на Невском, думал, может, духи какие. Чего еще-то, верно? Народу!.. Спрашиваю – розовое масло дают. Взял и я одну пробирку. Вышел на улицу, поднес к нюхалу, и… чуть меня кондрат не хватил. Клавка-то моя розовым маслом душилась.
Я – к ней. Люблю, и все такое… «А чего же раньше-то думал?» Мычу что-то. Что я ей, про розовое масло объяснять стану?
Когда Филя заговорил про неприятный запах, Андрея все подмывало рассмеяться, и он с трудом удерживал на лице сочувственное выражение. Но, в общем-то, история вышла трогательная, как и все такие истории. Он даже почувствовал к Филе родственную жалость и раскаивался уже, что соврал про себя.
А Клава его, может, она на Барбару Брыльску была похожа?
– Да, такие дела… Ты ее так больше и не видел? – спросил Андрей.
– Кого? Клавку? – засмеялся Филя. – Да я ее каждый день вижу. Я же тебе про жену рассказывал. Ты, что, п о л я н а? Нашел же, нашел я свою любовь, будь она неладна. Но ведь когда мучился, только тогда, кажется, и любил ее по-настоящему. Так уж мы устроены… Нет, я не спорю, когда-нибудь, возможно, люди и придумают, что делать с этой любовью… Жаль только, жить в эту пору прекрасную…
Андрей шел по улице и, потирая гудящие виски, повторял: «Каждый день, каждый день… Он видит ее каждый день».
У всех романтических историй один конец. Он и не ждал от Фили никакого продолжения. Была баба – и нет, вот ведь она, история. Вся история. А оказывается, нет, не вся.
Какую простую мысль подкинул ему гроссмейстер. Вот тебе и классический вариант.
Каждый день. Какого же еще можно желать счастья? Распахнутая радость – поздороваться с утра. Этой радости ведь и у него никто не отнимал. Он мог видеть Сашу каждый день, и теперь может ее увидеть – хоть завтра.
Он шел по ночной улице и смеялся. Белая ночь лепила серебристые шатры ив на пустыре. Над головой, дотлевая сиреневыми звездами, тихо гудели фонари. Проходящие мимо женщины смотрели на него. Андрей машинально искал среди них Сашу и даже несколько раз оборачивался на ее голос.
С Невы подуло свежим теплым ветром. Казалось, они расстались с Сашей только утром, и теперь ему снова не терпелось увидеть ее.
Мостовая просыхала после дождя серыми пятнами. В лужах, как в разбросанных кем-то зеркалах, было заключено по мерцающему куску голубоватого неба. Только отставшая от стада пасмурная туча стремительно перемещалась из одного зеркала в другое.
Он не заметил, как пришел к Тараблину. Тот открыл ему в трусах и майке, заспанно почесывая грудь.
– Привет!
– Привет, – не сразу отозвался Тараблин. Они уселись на кухне. Тараблин включил для обогрева газ и спросил:
– Ну что?
– Я вот что хочу спросить у тебя, старик, – с рассеянным весельем спросил Андрей, – почему поэты называют луну глупой?
– А чего она пялится, – зевнув, ответил Тараблин.
– Чушь. Луна – это глаз неба, – вкрадчиво продолжал Андрей. – Небо одноглазо. Его любить и жалеть надо.
– Если тебе некого жалеть, я подарю тебе дворняжку.
– Мне есть, кого жалеть. Есть, друг ты мой, – тихо сказал Андрей. – Ты мне веришь?
– Верую! – пробасил Тараблин.
ВСЕ, ВСЕ СУЩЕСТВО ЕГО ГОВОРИЛО: «Ну вот, наконец-то! Вот и здравствуй, здравствуй, здравствуй!..» И только глаза все еще не могли привыкнуть к новой Саше. С победным узнаванием он иногда оборачивался на птиц в окне – все знакомцы, словно это мальчишки сговорились объясняться при помощи свиста. Все то же, и он тот же, и только Саша изменилась… Она стала… Вот именно – она стала.
Он лишил себя расти и стариться вместе с ней, сам у себя отобрал счастье видеть, как время разгримировывало Сашину молодость. Без него высеивались морщинки, менялся рисунок лица, выпрямлялись завитки желтеющих волос… Без него создавалась эта такая умная, такая понятная, такая горькая красота женщины, которую он никогда не переставал любить. Как бы ни были они счастливы теперь, этого уже не поправить.
Андрей узнал, что с Кешей Саша рассталась там же, на вокзале, и больше никогда его не видела. К тому же в Тарусе же она узнала, что снова беременна от Андрея, и решила оставить ребенка.
– Из роддома нас выпустили только через месяц. А под вечер следующего дня я заметила у него на ручке точно такой же, как были там, гнойный прыщичек. Может быть, они не до конца его вылечили?… Но они сказали, что если будет повторение инфекции, то спасти его уже не удастся.
Ночь я не спала – смотрела на него. Иногда трогала за носик, чтобы он шевельнулся, засопел. Он спал так крепко, что даже на кормежку не проснулся. Я не будила. Я пыталась как-то по-своему заговорить этот прыщик, просила, умоляла его, чтобы он исчез. Что-то ему за это обещала – не помню. Но скоро я почувствовала, что так его не возьмешь. И тогда я стала сама превращаться в этот прыщик. Все же, наверное, в каком-то бреду была. И превратилась. И стала ссыхаться, ссыхаться, выпариваться в воздух. К утру меня не стало. Он проснулся, и я тут же задрала рукав – прыщика не было. Даже следа не осталось.
Улыбка чуть высветила Сашины глаза, совсем не тронув рот, который как будто все сужался и сужался, пока она рассказывала. Андрей по своей привычке потерся подбородком о ключицы. Такой он Сашу не знал, и такой он любил ее еще больше. Вдруг ему показалось, что э т а Саша давно могла, если бы захотела, и его спасти, вызволив из бесплодной тоски.
– Послушай, – спросил он, пытаясь не выдать внезапно возникшую обиду, – а меня ты когда-нибудь с такой же силой, как в ту ночь, пыталась вызвать?
Саша молчала совсем недолго, потом подняла на него лицо со светлыми глазами и неулыбающимся ртом и сказала:
– Пыталась. А ты не чувствовал?
– Я чувствовал… Но тогда это случалось очень редко и продолжалось очень недолго.
– Да, пожалуй, – ответила Сашенька.
– Ну а потом, что же было потом?
– Потом он все же умер. На четвертый день. Уже в больнице.
– Так, значит, ты не пыталась больше его спасти? Да?
– С ним были врачи.
– Причем тут врачи! – жестко сказал он.
– Ну что ты от меня хочешь? – вскрикнула сквозь слезы Саша. – Вот и приехал бы сам и спас!
– Так откуда же?… – начал было Андрей и замолчал.
Он взял в свои руки Сашину голову, поцеловал ее в волосы, в мокрые глаза и прошептал: «Прости! Слышишь?…»
– За что? – прервала его плачущая Сашенька. – Почему ты должен просить прощения? Кто тебе это сказал?
– Я знаю за что, – шепотом ответил Андрей.
– Нет, не надо, пожалуйста, не надо. Я прошу тебя. Так было бы только как будтолегче. Да разве в этом дело… Ведь ничего от этого не изменится. Все. Я сейчас перестану. Отпусти меня и не смотри.
Саша нашарила в сумочке пудреницу и отошла к окну. Часы пробили половину чего-то. Попугай в клетке, не произнесший до этого ни звука, вдруг прокричал мерзкое: «Рр-а-а!..».
– Он что у тебя, немой? – неприязненно спросил Андрей и вдруг услышал, что Саша снова плачет.
Он еще крепче обнял ее и поцеловал. Саша улыбнулась, и ресницы ее задрожали (он вспомнил!), как будто порываясь взлететь.
– Нервы, – констатировала она, – это нервы. Прости… Ну вот, опять прости, – Сашенька рассмеялась, и он рассмеялся в благодарность за ее смех и погрузил пальцы в ее волосы. – Что ты делаешь с прической? Сумасшедший!
Она вдруг повернулась и сама крепко обняла его.
– Как хорошо, что ты отыскался. – И, точно слепая, вспомнив ладонью его лицо, прибавила вполголоса: – Я люблю тебя.
НЕ ТО ЧТОБЫ АНДРЕЙ НЕ ВЕРИЛ, что у Саши мог кто-нибудь появиться без него. Но того, другого не брал он в расчет.
Откуда, казалось бы, такое высокомерие в нем, склонном скорее к самоумалению, чем к преувеличенному представлению о себе. Но по его ощущению это и не было высокомерием.
Он был больше любого другого на ту самую иронию судьбы, которая сначала казалась пустым случаем, потом милостью, потом мучением. Он был больше их на его любовь к Саше. На ее любовь к нему. Объяснений тут не требовалось.
Поэтому, когда, заметавшись под его рукой, Саша заговорила свое: «Ах! Ах!», он досадливо отвернулся. А если это отголосок ее прежних отношений с другим? Чувство вины, долга, наконец. Но разве могло это так много значить теперь, когда они нашли друг друга?
И тут же он вспомнил, с каким гимназическим стыдом спрашивал новый адрес Саши в справочном бюро, как ждал несколько дней ответа, сколько было в нем сомнений, когда подходил к ее дому (а вдруг у нее гости? вдруг просто не узнает? или узнает, но посмотрит недоуменно и не пригласит войти?) – и ему стало не по себе. Он уже достаточно пережил, чтобы снова предаваться этим сомнениям и все же нашел в себе силы спросить прямо:
– Тебе не хорошо со мной?
– Ему сейчас плохо, – ответила Сашенька, – я это чувствую…
Андрей отметил, что Саша не сказала, будто ей с ним нехорошо. А это значит, что он был прав – в ней говорило чувство вины, а не что-нибудь другое. Он снова немного успокоился.
– Сегодня лошадь валялась в траве, как будто чесала свой круп. Говорят, это к дождю, – сказал он.
– А сейчас и так дождь. Разве ты не слышишь?
Андрей натянул на себя край холодного одеяла и решил, что настала пора задать вопрос, после которого возвращение к прежнему разговору окажется невозможным.
– Ты любишь его? – Только тут, в ожидании Сашиного ответа, Андрей осознал цену риска. А когда Саша ответила, понял, что вопрос был авантюрный, потому что такую цену он заплатить никогда не сможет.
Саша ответила:
– Да.
Теперь ему полагалось встать и уйти. Этот вариант нужно было предполагать, еще когда он задавал свой вопрос. Уход и был той ценой, которая могла оплатить вопрос.
Ответ.
Андрей встал. Подошел к окну. Ему показалось, что он услышал, как в школе напротив автоматически прозвенел звонок, собирая на несуществующий урок разметавшихся во сне учеников. Дождь ударял по тополям, а ему представилось, что на кухне доходит яичница. Андрей почувствовал, что хочет есть. Но этот вариант с яичницей был столь же доступен, сколь и мучительно невозможен теперь.
Два дня, проведенные с Сашей, уже отдалились и заняли свое место в небывалом и привычном для него когда-то. И сам он, казалось, снова был прежним. На минуту представилось кресло, в котором ему так уютно думалось о Саше. И ночные дома, без очертаний, только с уходящими в их нутряную глубину электрическими окнами, казавшиеся плывущими кораблями. Теперь он тоже был на одном из этих кораблей, везущих счастье. Но настала пора сходить.
– Иди ко мне, – вдруг позвала Саша. Он подошел, стал у постели. Теперь он мог разглядеть ее улыбку.
Андрей снова подумал, что то «да» вырвалось у Саши словно бы назло счастью, в котором она теперь пребывала. Ложное чувство вины?
Ведь чувства, придумал он тут же, подобны живым существам: едва возникнув, неудержимо стремятся к количественному накоплению, к росту, к самосознанию, что ли. И если в этом процессе недостает действительных опор, они, не задумываясь, изобретают мнимые. Этой мнимой опорой и было то признание, которое наперекор своему счастью, даже в укор ему, в отместку, может быть, сделала Саша.
Но эта догадка не принесла утешения.
В сущности, он был участником заурядного адюльтера. Андрей подставил того, другого, на свое место, и более даже того – представил вместо Саши другую. И ничего в мире не изменилось.
Самое странное, картинка эта прекрасным образом заместила хаотический рисунок его мучений и оставила одну лишь, понятную, ясную, недолговечную линию радости. С ней исчезало то роковое, что все эти годы влекло его к Саше.
Он подумал, что, в сущности, вся его любовь состояла до сих пор из ожидания и разлуки.
Что это – извечное свойство души или изъян характера? Почему живем мы либо в будущем, либо в прошедшем и лишь в настоящем нет для нас дома?
В эти три дня Саша заставила его жить настоящим, которое все время уходило и уже как бы погружало его в тоску по прошедшему. Он любил ее любящую и полуотвергающую.
Андрей впервые подумал о «третьем» без неприязни.
– Расскажи о нем, – попросил Андрей. – Кто он?
– Я ведь уже говорила, – отозвалась Саша. – И не надо больше. Ладно? Я не хочу.
И Андрей вспомнил, что действительно, чуть ли не первое, о чем сказала ему Саша, – было о нем. Сказала поспешно, словно желая обогнать саму себя. Даже имя его, кажется, назвала. А он пропустил мимо. Не придал значения. Идиот.
– Хочу стол помидоров. Целую гору. И море. И чтобы было тепло. А больше ничего, – сказала Саша.
Он был несколько уязвлен, что в этой идиллии не нашлось места ему.
– Ты ешь помидоры, и вдруг из-за скалы появляется принц…
– Ох, оставьте эти дела. Никаких принцев.
– Ну, я выхожу…
– Нетушки. Тебя-то там не будет во всяком случае. Я хочу быть одна. Чтоб спокойно было, а какой с тобой покой? Ты сразу либо целоваться полезешь, либо отношения выяснять.
– Я не буду, – улыбнулся он. – Я посижу у твоих ног, молчаливый, как собака.
– И ничего у тебя не получится.
– Но в Томашов-то мы с тобой когда-нибудь махнем?
Это слово уже было из их языка. В первый же вечер Саша поставила ему Эву Демарчик, и он был потрясен грудным глубоким голосом незнакомой польки. «А может, нам с тобой в Томашов сбежать хоть на день, мой любимый…» Он сразу понял, что это про них. И Саша поняла.
– В Томашов – обязательно. – Саша посмотрела на него своими огромными сияющими глазами.
В школе напротив снова прозвенел звонок.
– Дети, можно выходить на перемену, – грустно сказал он.
– Хочу к тебе на урок. Хочу быть твоей ученицей. Ты возьмешь меня?
– Нет. Ты будешь срывать мне занятия.
– Да нет же, я буду самой восторженной твоей ученицей, буду всем говорить, какой ты умный.
– Не ханжи.
– Правда. Я буду смирной и старательной.
– Мне кажется, у тебя ничего не получится.
– Нахал.
Они вышли на кухню. Из угла глядел на них немой попугай. Саша объяснила, что по незнанию пропустила первые сорок дней, когда попугая можно было учить разговаривать, и добавила со смехом: «Но мой укор переживет меня».
«Р-р-ра-а-а… – сказал попугай и переступил на жердочке лапками. – Р-р-ра-а-а…»
От всех Сашиных движений исходил такой дух приютности и незнакомого счастья, что Андрею хотелось завыть.
– Ты что? – спросила Саша.
– Я – ничего.
Глаза ее замерли на нем внимательно и нежно и никуда не собирались улетать. Веки подрагивали как связанные крылья.
– Ну, только не хмурься. Ну, пожалуйста, – попросила она. Он улыбнулся в ответ вымученной философской улыбкой.
– Знаешь. Чем он отличается от тебя? – сказала вдруг Саша, помрачнев. – Он никогда вот так не улыбается. И мы никогда с ним не выясняем отношения.
Андрей молчал.
– Еще, – попросил он.
– Он очень остроумный. Все помирают со смеху, когда он острит. И очень хороший инженер. Знает четыре языка, – добавила Саша, помолчав.
«Дались им всем эти языки!» – подумал Андрей с раздражением.
– Он – добрый, – сказала Саша. И Андрею показалось, что она уговаривает себя.
– Ты только не думай, что я его идеализирую, – сказала Саша. – Я его всяким видела – и больным, и жестоким. Но он любит меня. Ему ничего для меня не жалко. И вообще – без меня он пропадет.
– А я? – спросил Андрей.
– Андрюшка, ты за столько лет без меня не пропал. А теперь уж совсем немного осталось. Скоро нам будет уже и вовсе безопасно с тобой встречаться. Вот умора.
– Я люблю тебя, люблю, люблю, – заговорил Андрей. – Я не могу без тебя.
– Ну, все, не надо об этом. Ладно? – попросила она. – Ты и сам не знаешь – любишь ли. Ты просто устал. Тебе захотелось семью.
– Мне не нужна семья, – застонал он.
– Ну вот видишь… А мне нужна.
– Тогда и мне нужна.
– Тебе не нужна. Ты ведь давно женат на книгах. Тебе с ними хорошо.
– А ты злая, – сказал Андрей задумчиво.
– Прости. И хватит. Ну что мы сейчас об этом! Я пластинку поставлю. Пойдем.
Саша поставила пластинку, потом принялась поднимать его за руки с кресла:
– Танцевать, танцевать…
– Я не напоминаю тебе подружку, с которой можно уютно поговорить о разных разностях? – спросил Андрей. – Поделиться, как вы говорите.
– Андрюшка! Обиделся! Ну что ты, Андрюшка! Ты же… как это?… ты же мой кореш. Мы кореши с тобой, Андрюшка. С кем же я еще так могу поговорить, милый ты мой.
– Но я люблю тебя.
– Я знаю.
– Да не так…
– Знаю, знаю! Молчи! – Она дрожащей рукой зажала ему рот. – Мы обязательно поедем в Томашов, – шепнула Саша. – И собаку купим. Как это здорово, что ты меня нашел!
– Я не уйду от тебя.
– Не уходи.
– Я не сейчас, я вообще не уйду.
– Ну не надо же об этом. Все уладится. Глупый.
Пластинка кончилась. Подскочил, щелкнув, звукосниматель.
– Я пойду умоюсь, – сказала Саша.
Немой попугай из кухни произнес свое: «Р-р-ра-а-а» Он передразнил его, прогнусавив: «Р-р-ра-а-а».
– Не дразнись. Не будь злым, – сказала Саша, запираясь в ванной.
Он лег и взял с торшера «Праздник, который всегда с тобой». Он любил эту книгу, которую читал давно. Хотя ему и казалось, что автор мог бы быть добрее к тем, о ком писал.
На первой же фразе он задержался. Андрей не помнил ее. «А потом погода испортилась», – прочитал он. Странное это начало навеяло тревогу, хотя он и знал, что за ним последуют прекрасные описания бедной, но счастливой жизни в Париже, о любви к Хедли Ричардсон – первой жене писателя. Но эта фраза все равно наполнила его мрачным предчувствием. Он вспомнил, что скоро Хемингуэй разойдется с Хедли. Хотя, читая страницы «Праздника», как и его герои, не сомневаешься, что их ждет долгая и счастливая жизнь.
Этой фразой, в сущности, должна была бы заканчиваться книга. Он взглянул в конец и прочитал последние слова: «И таким был Париж в те далекие дни, когда мы были очень бедны и очень счастливы». Вот теперь бы и надо это: «А потом погода испортилась».
Саша вошла в комнату тихо. Он не сразу заметил ее, поглощенный мыслями о книге. Она кинула ковбойку на торшер. Читать стало невозможно, и он поневоле смотрел на Сашу, как расчесывает она перед зеркалом влажные у лба волосы.
В приглушенном свете торшера она представлялась ненастоящей, вернее, такой желанной, такой тысячу раз снившейся, что протянуть к ней руку казалось безумием лунатика.
– Ты иди скорей, – сказал он. – А то у меня не хватит сил придумывать тебя, и ты исчезнешь.
Они долго смотрели друг другу в глаза.
– Если то, что происходит у вас с ним, ты называешь любовью, то как же назвать все, что происходит у нас с тобой?
– Не знаю, – сказала она задумчиво.
Он проснулся, как просыпаются в детстве: забыв свой возраст и происхождение, перечень насущных обид и надобностей, пребывая еще головой в теплом, эфирном блаженстве сна.
Проглотив слюну, Андрей стал постепенно привыкать к окружающему. Первым он увидел негатив рассветного окна, на его глазах светлеющего в сумрачном воздухе. Потом вспомнил почему-то про то, что за стеной спит немой попугай. Неизвестно откуда и почему всплыло лицо мамы, и он удивился, что у него есть мама, а он так долго ее не видел.
Андрей ненароком откинул руку, и та попала в пустоту. Он осознал, что Саши нет рядом.
Почти одновременно с этим Андрей услышал за стеной Сашины приглушенные рыдания. Потом голос:
– Почему? Господи, ну почему?
Андрей безошибочно понял, что Саша говорит по телефону с Ним. Пропустил ли Андрей телефонный звонок или Саша позвонила сама? На часах было без десяти пять.
– Господи, ну почему? – снова заговорила Саша и приглушенно заплакала.
Андрей встал, оделся и, не прикрывая двери, чтобы не щелкнуть замком, вышел.
Голос Саши по-прежнему звучал в его ушах, он двигался, словно отдельно он него, первым забегал за угол и уже встречал его там. «…Ну почему?»
Этот вопрос, обращенный Сашей к другому, становился как бы и его вопросом, который он обращал к ней, к самому себе.
Выходя из парадной он вспугнул чаек, которые сидели на бачках с помоями. Андрей знал, что многие из этих морских охотников окончательно переселились в города и питаются на помойках. Их так и называют – городскими чайками. Сейчас гортанные голоса чаек были ему неприятны. Он подумал, что эти некогда вольные птицы, быть может, станут со временем домашними, как куры, и будут сбегаться на зов к человеческой руке. Ему было обидно за чаек.
В эти дни с Сашей он прожил огромную жизнь и теперь чувствовал усталость. Спешить ему было некуда.
Закололо в сердце. Андрей машинально достал лежащий в кармане валидол, но, подумав, с раздражением выбросил всю пробирку.
Откуда-то, вероятно из окон подвала, запахло так, как пахло в детстве из прачечных. Он тогда называл это – пахнет вареным бельем. Если же где-то вдали от прачечной воздух вдруг начинал пахнуть вареным бельем, значит, скоро погода должна была испортиться, небо обкладывали грозовые тучи, и в домах раньше обычного зажигали свет.
Сейчас в воздухе запахло вареным бельем, но никаких перемен в погоде не предвиделось. Небо было по-утреннему бесцветно, только на правом берегу Невы поднималось, становясь все более насыщенным, оранжевое зарево и, наверное, обещало жару.
Он шел по парку.
Не заглушаемые городским шумом, кричали птицы. То здесь, то там раздавалось их «тюи-тюи», стремительно стихало и снова возникало на другом дереве или в другом конце парка. Казалось, какой-то грустный человек задумчиво пощипывает звонкую струну.
Уже и солнце появилось из-за домов. Листья, как ладони ткачих, пропускали сквозь себя его тонкие, быстро бегущие нити, словно здесь-то и ткался дневной свет. «Тюи-тюи» – продолжал кто-то пощипывать струну.
Андрей с удивлением обнаружил, что свободен от любви. В нем исчез сладостный зуд, который некогда казался самым острым и самым настоящим ощущением жизни. Не было ни обиды, ни чувства утраты, ни даже воспоминания. Это чувство было похоже на то, что так нравилось ему у Пришвина и что заключено у того в одной гениальной фразе: «Из этого, что она не пришла, сложилось счастье моей жизни».
Да, любовь его к Саше, потеряв фокус, каким-то образом распространилась на все вокруг. Он вспомнил, что ведь и при пробуждении не было в нем никакой мысли о Саше, однако же, он проснулся, несомненно, счастливым.
Впрочем, нет. Он тут же отказался от этого слова. Чувство его не было счастьем. Счастье текуче, неуследимо и непременно с привкусом печали. А в нем сейчас и печали не было.
Ах, как хорошо ему! Деревья и кусты расположились в таких человечески одухотворенных позах, словно учились гуманизму у Руссо. Справедливость, благо и красота были суть вещества, составляющие природу каждого человека и мира в целом. Не было ничего отдельного, что взывало бы к своей противоположности.
Было хорошо, спокойно, вольно дышать и жить. Он вспоминал, что пережил за эти три дня с Сашей, и все это казалось ему сейчас необыкновенно унизительно, пошло и неинтересно.
Он вдруг остро почувствовал, как стосковался по школе, по ребятам. Ему казалось сейчас, что он жил все эти годы не в полную силу: выдумывал любовь, потому что не умел найти опору в себе. Хотя дело здесь не только в том, что он был лишен внутренней опоры. Любовь и тоска по Саше так долго держали его еще и потому, что он читал о них в книгах. Таким образом, он существовал в чьем-то давно написанном сюжете и исполнял чувства, значительность которых была ему гарантирована.
Андрей сел на скамейку. Как только он закрыл глаза, послышался легкий гуд, как будто в голове его поселился шмель. Сознание его не отключалось, но для него сейчас не существовало ничего – даже этого утра…
И вдруг он резко вскочил – совсем рядом звучал плачущий Сашин голос. Андрей оглянулся – в парке было пусто. А голос звучал – близкий, невозможный…
Не раздумывая, Андрей повернулся и торопливым шагом пошел к Сашиному дому.
Он бегом поднялся по лестнице и, не тревожа звонка, открыл дверь ключом, который три дня назад ему дала Саша.
Она стояла перед зеркалом, собирала распущенные волосы, в губах держала шпильки и улыбалась.
Как хороша сейчас была Саша. Не было в ней ничего, с чем Андрей тут же с восторгом внутренне не согласился бы, словно это из его фантазий и снов родилась она, он ее придумал такой и теперь был счастлив, глядя на свою работу. Даже чашечка кофе, который она, видимо, отпивала второпях, прибирая себя перед зеркалом, была тоже словно бы задумана им. Он почувствовал, что вернулся к себе домой, к своей Саше.
Что-то, наверное, какая-то мелочь нарушала это его состояние. Не сразу он понял, что это что-то – Сашенькина улыбка с закушенными шпильками. Он хотел прочитать в ней просьбу о прощении, потом просто нежность, радость оттого, что он вернулся. Улыбка сострадания? Равнодушия? Подавленной досады? Презрения? Счастья при виде его? Все эти возможные смыслы и оттенки смыслов, скрытые в Сашиной улыбке, промелькнули в нем, и каждый из них казался в какой-то момент наиболее вероятным, потом отменялся другим, потом оказывалось, что не отменялся, а только как бы уходил во второй слой, и все они оставались одинаково вероятны. Невероятным было только их сочетание.
И он понял… понял, что эта улыбка была уже не его ума дело, что это было собственно Сашенькино. В чем она уже не обязана была отдавать отчет сотворившему ее мастеру.
Да, именно Сашина улыбка смущала его, и вызывала беспокойство, и в то же время притягивала, пожалуй, больше всего прочего. Он почувствовал, что его снова затягивает в мучительную воронку, что воронка эта здесь и такой же непременный атрибут Сашенькиного быта, как эти шпильки, и чашка кофе, и попугай на кухне, и грустная музыка. А главное – воронку эту не оградить флажками, никаким благим призывом нельзя предупредить возможное попадание в нее. Это хитрая, скрытая, блуждающая воронка. Она, как и обитатели дома, вся в поисках счастья и появляется именно там, где счастье представляется особенно безмятежным.
Вдруг ему показалось, что одно из выражений словно бы на время победило в ее улыбке, и он вспомнил слова, сказанные ему совсем давно, как будто в другом еще существовании, когда жизнь казалась безупречной дорогой для любви. «Ты такой, что к тебе хорошо возвращаться», – сказала тогда Саша. Сейчас он почувствовал от этих слов почти физическую боль.
Саша и вся комната смазалась в своих очертаниях, словно пропал фокус. Андрей повернулся и, ориентируясь на пятна, которые еще минуту назад казались отчетливыми предметами, вышел из квартиры.
1982, 2016
Память так устроена… Эссе. Воспоминания
«Да» и «нет» Николая Пунина
…как трудно нам жить в эпохи, в века этих гигантских переоценок, какие теперь совершаются, наш хаос мы в себе носим; сколько сил надо, чтобы все же остаться жить, знать, зачем живем, и сил – стремиться на грудь Истины.
Н. Пунин. Дневник. 29 апреля 1910 годВы же лучше, чем кто-либо, знаете, как меняется «мироощущение», как вчерашнее сегодня кажется уже не тем, чем было, и как трудно в самом себе дойти до той глубины, до тех корней, где живут более устойчивые чувства.
Н.Н. Пунин – А.Е. Аренс-Пуниной. 10 августа 1923 годаНе всякая, даже замечательная книга угадывает появиться вовремя. Тут счет не на эпохи, не на десятилетия, а иногда прямо на месяцы. Надо успеть к утреннему часу пробуждения целого поколения, когда сознание пребывает в поисках исторического контекста. Тогда книга возвращает ему как бы его собственное открытие, но очищенное от домашней душевности, в ореоле общего опыта.
Скорее всего, через несколько лет подрастет новый читатель, который сумеет посмотреть на ту же книгу критически и, возможно, сочтет содержащиеся в ней откровения общим местом. Но это уже не сможет повлиять на восприятие ее первыми читателями. Общее место не тем отличается от истины, что является ее пошлым и доступным вариантом, а тем, что не нуждается в переживании. В этом смысле, книга Н. Пунина «Мир светел любовью. Дневники. Письма» вышла в точное время.
Мы живем среди черепков многих культур, и сами, точно осколки, ищем свое место на несуществующем сосуде или же пытаемся изобрести небывалую форму. Корни свои приходится искать в предпрошедшем времени, которого не знает русский язык. Пейзаж меняется слишком быстро, чтобы глаз успел сфокусироваться. Иногда создается ощущение, что доживаем чью-то завещанную нам жизнь, не в силах вырваться из чужого сюжета, или же, напротив, заброшены в абсурдную реальность. Так или иначе, – тревожно, неприютно, всякое лыко в строку, а до существа не добраться.
Опыт такого скитальца, каким был в конвульсирующей культуре и в общественных ураганах первой половины ушедшего века Николай Пунин, вряд ли может помочь. Аналогии и вообще нужны для того, чтобы их можно было отбросить. Но прежде они все же успевают послужить.
Николай Пунин мечтал стать литератором. Это была его ideefixe. Умножающая тревогу в дни неутоляемой любви, она всегда вновь спасительно появлялась на горизонте в периоды творческой усталости, мерцала и возрождала надежды, запас которых рассчитан ровно на жизнь.
Мечта эта почти в равной мере была питаема тщеславием и общей одаренностью. И то и другое превосходила, однако, сосредоточенная страсть к безусловному воплощению, уверенность, что единственно верно, с гарантией вложить свои богатства можно только в искусство.
Дыша с детства простуженным воздухом эпохи, он принял в себя изрядную порцию символизма.
Живопись была в составе его жизни, ее домашние тайны не требовали преодоления, он видел мир глазами сразу всех художников, а потому определял подлинность вещи безошибочно, лучше, чем это мог бы сделать хозяин антикварной лавки или художественной галереи. Именно поэтому, хотя время от времени Николай Николаевич сам брался за краски, профессионализация в этой области не оставляла ему простора для иллюзий.
Непререкаемый авторитет для художников, талантливый комиссар Русского музея и Эрмитажа, обожаемый студентами учитель, он продолжал чувствовать себя «гением, но без определенного призвания». И добавлял: «Хуже я ничего не могу для себя придумать».
Пожалуй, в духе романтизма, он ощущал себя героем «агасферовского» сюжета, Вечным Жидом. Не потому ли так легкомысленно и истово с юности звал гибель, будто, и правда, был обречен на бессмертие? Будто вместе со всем человечеством (читай, с художниками) пережил свои надежды, но чудесным образом мог начать путь заново, воплотиться в другой форме. Такой формой, по внутреннему незнакомству с ней, ему представлялась литература, за которую он, не исключено, принимал собственную ненасытимую потребность в постоянной вербализации чувств, как водилось в быту еще у немецких, да и у отечественных романтиков.
Глубина трагизма определяется мерой убежденности и страсти. Того и другого в нем было с избытком.
«Весь мой дневник качается на этом стержне, и вся моя жизнь – искание своего призвания – лучше бы мне не родиться. Только я не верю этому. Не верю, потому что чувствую связь свою со словом и уже давно не сомневался в том, что я не художник, не дипломат, не генерал, а писатель. Правда, я не поэт, не фельетонист, не романист, не историк, но я тот, кто как-то особенно знает слова и имеет свою мысль».
Однажды по предложению М. Лозинского Пунин передал свои стихи журналу «Гиперборей», где они и были опубликованы в начале 14-го года. На фоне литературы десятых годов – довольно архаичный опыт. До этого был опыт работы над рассказами. В 1909 году он решился один из них показать Сергею Ауслендеру. Тот ответил категорично: «Так пишут все». История эта только внешне не имела продолжения. О стремлении выразить себя в повествовательной форме свидетельствуют многие страницы дневника.
Но критик в нем все же был сильнее, чем художник, вкуса было больше, чем беллетристического таланта, а ум превосходил своей проницательностью любовь к изъявлению чувств и сочинению метафор: «Больше всего мне вредит ум. Я умом угадал эту статью, а не опытом. В ней больше тайной логики, кулис, чем чувства, опыта и действительной драмы».
Препятствия вполне достаточные на пути к литературе.
Однако, обнаруженные как тема дневника, препятствия эти неожиданно стали его сюжетом, передали тексту композицию и структуру, которые существовали в самой жизни. Вкус, культура, ум, углубленность в свои переживания и неуклонная самоотчетность день за днем помогали создавать книгу, наполненную любовью, проникновениями в природу вещей, многими печалями, будничной истерикой, которая бывала облагорожена страданием, и стихийной диалектикой чувств. Последнее дается только большим художникам, у прочих возникает лишь в моменты исступления истины, как жанру – присуще одному дневнику: в силу хронологической разбросанности, неподконтрольности наблюдений и несводимости жизни к одной мысли.
«…Знаю, что во мне кроме светлой истины есть черная истина и кроме желания истины есть еще желание казаться обладающим истиной». Подобные суждения, произнесенные много раз, в разных обстоятельствах и в разное время, уже не просто рассказывают жизнь, но показывают ее (свойство настоящей прозы). Это получается непреднамеренно, по усилиям равно самому проживанию; для читателя питательно и интересно, автору приносит отраду и воодушевляет его внезапно обнаруженными откровениями.
Сомнения, которые одолевают при этом, сродни сомнению художника, его честолюбию – не исключительно эгоистическому: «Читаю… свой дневник: радующий, утешающий, сладкий… Этот дневник – документ разве только для меня? Неужели только для меня – интересный дневник? Буду ли я когда-нибудь вправе и состоянии по этому дневнику написать автобиографию; впрочем, это не выйдет… Надо любить героя, а герои отменены…»
В этом «герои отменены» уже не просто знакомство с блоковским «Крушением гуманизма», мандельштамовским «Концом романа», с Татлиным, который не позволяет «никакой романтики, никаких чувств». Здесь есть уже и собственный опыт и действительная драма.
В постгуманистической реальности надолго закрылись пути перед романистами, но для автора дневника таких препятствий не существует. Ситуации дневника ему представляют сами житейские и исторические обстоятельства, сюжет неторопливо складывает жизнь (не нужен «магический кристалл», а без него выходит все и подлиннее и таинственнее, опасно по-настоящему, авантюра не подстрахована замыслом, заблуждения наивны и страшны одновременно, любовь полнее и скоротечнее, да и откровения стоят ровно столько, сколько они стоят). Нет нужды отмерять чувства, беречь реноме героя и отслеживать логику поступков. Читатель сам выберет, где отозваться состраданием, где улыбнуться интимной риторике, а то и поскучает – тоже не грех. Над романом даже положено иногда поскучать.
Единственная забота автора дневника – «заслужить доверие самого себя». Но тут что же сказать? Читатели – существа любопытствующие и по отношению к автору бессердечные.
Парадокс в том, что всякая жизненная неразрешимость оборачивается благом для дневника, все вопросы при их чековом нанизывании оказываются вдруг не перечнем трат, а списком приобретений, то есть в определенной степени – ответами. Человек узнает себя: «Я помню годы, – голым стоял мир и весь был – вопросы. Что такое брат и что такое тарелка, зачем закат, почему умирают? И мимо всего этого прошел: брат звонит по телефону и приходит в гости, но это не решение; на тарелке ем суп – но это не ответ; день убывает вечерней зарей, а люди смертны – все умрем – но все это не ответы… Профессионал во мне меньше, чем человек, вот почему человек не может быть во мне реализован. У меня нет формы на всего себя, а чтобы произведение было прекрасным, форма должна совпадать с содержанием, вот почему именем формы я должен отрезать себя.
Знаете ли Вы, как необлегчимо больно это сознавать для такого честолюбия, как у меня. Отсюда такое цепкое желание к дневнику – там я больше человек, чем в жизни, статьях и речах».
Так или иначе, дневник (подклеим к нему листки писем) оказался главным делом жизни Пунина. К счастью, он так и не превратил его в автобиографический роман. Вряд ли на этом пути его ожидал успех. «Письма М. Г.» – опыт такого романа, предпринятый им в последние годы, свидетельствует об этом: обломок символистской прозы, многоречивой и вялой; исповедальная риторика, водянка чувств, общие места из переписки с любимой. Произведение, слава Богу, не закончено. А дневник – закончен. Дневник, даже если прерывается на полуслове, всегда законченное произведение.
Николай Николаевич Пунин был сыном «начала века». Не только по году своего рождения (они с Ахматовой были почти ровесники), но по составу личности, по стилистике поведения и качеству переживания жизни.
При этом хочется сказать, что он был младшим сыном, которому предначертано было расплачиваться за долги и ошибки законодателей и строителей этой культурной эпохи. Хотя первую свою статью он напечатал в журнале «Аполлон» уже в 1913 году. М. Л. Лозинский сделал ему комплиментарную надпись на своем стихотворном сборнике: «Николаю Николаевичу Пунину, чья проза стиховнее стихов». К началу же 1917 года в списке работ Пунина три книги и около шестидесяти статей и рецензий по искусству России, Западной Европы и Японии.
Но при этом назвать самого Пунина значительным деятелем «серебряного века», который стал его символом (а любое деяние и всякий художник, имевшие определенный резонанс в культурной среде, согласно установкам времени непременно становились символами), скорее всего, нельзя.
Может быть, дело в том, что дебютировал Пунин в ту пору, когда символизм переживал уже глубокий кризис. Стать внутри него законодателем моды или глашатаем очередного философского направления было невозможно. Новое в поэзию принести мог только человек со стороны, залетная комета, вроде Маяковского. Но Пунин был именно из той среды. В гимназические годы много общался с директором царскосельской гимназии Иннокентием Анненским, что оставило несомненный след и в его личности, и в его эстетических пристрастиях.
Возможно, дело объясняется и вовсе простым обстоятельством – Пунин вошел в литературу того времени как критик и ученый. Даже при том, что тексты его были «стиховнее стихов», он не был поэтом. Ахматова, дебютировавшая немногим раньше, тоже ведь вырастала из символизма, но, выпустив к моменту революции три сборника, потом всю жизнь расплачивалась собственным именем за имя, вписанное в историю поэзии начала века.
Пунин же, получается, расплачивался как бы за состояние, которое не сам создавал и не сам проживал. Он воспринял его как данность. Соблазны, восторги и яды, мятежность и катастрофизм, философский глобализм и революционность, утонченность, эстетизм и безвкусица, мизантропия и исполненная утопических надежд приверженность искусству – все это было той атмосферой, в которой он жил, которой дышал и которая казалась столь же вечной и естественной, как атмосфера природная. Даже прогнозируемые катастрофы в сюжете, частью которого он себя ощущал, были, казалось, не только неизбежны, но почти желанны, потому что служили подтверждением художественной органичности этого сюжета.
Критическое отношение к символизму, которое Пунин высказывает уже в год своего дебюта в «Аполлоне», ничего по существу не меняет. Во-первых, такое отношение предполагалось тотальной рефлексией направления, во-вторых, оно высказывалось вслед за программными статьями Блока, Белого, Вячеслава Иванова и других столпов нового, но уже уходящего в прошлое направления.
Особенность состояла в другом. У Блока и Белого это было итогом пути, у Пунина совпало с его началом. Для его собственного профессионального опыта эти настроения можно считать преждевременным разочарованием. Если бы это было ниспровержением основ, на которых была построена жизнь предшествующего поколения! Но нет! Местоимение «мы», употребляемое Пуниным, когда тот говорит о символизме, не было самозванством и фамильярностью. Он имел право на это «мы» по опыту эстетических и духовных переживаний, которые успели сформировать его как личность.
Странное положение человека, который вынужден оплакивать руины, хотя сам не участвовал в постройке зданий. Его рассуждения об исчерпанности духовных сил напоминают пессимизм романтически настроенного юноши, который то и дело твердит о скуке жизни, одиночестве и близости смерти. В целом для здоровья это не очень опасно, но все же подтачивает силы, мешает сосредоточиться на существенном и, во всяком случае, не может считаться благоприятным началом жизненного опыта.
Опаснее другое: молодой Пунин, со страстью ритора развенчивающий символизм, не видит, в сущности, другой формы существования в искусстве и жизни: «…перед нами встает теперь задача: разрешить форму наших отношений. Символизм в силу своей эфемерности, неподлинности, в силу того, что каждый его образ можно было понять различно, позволял нам выразить высшую степень искренности. Теперь же мы, очевидно, будем ограничены в своих выражениях, ибо в силу высокой деликатности… не будем в состоянии выразить до конца свое ощущение, боясь, что слишком простая форма и слишком подлинное содержание может показаться кощунством или дерзостью, и, таким образом, там, где раньше мы могли жить полной жизнью и самой интимной, богатой и важной, там теперь мы обречены молчанию или жизни низменной и простой».
Николай Пунин был пропитан символистской эстетикой. Менее чем за год до приведенного развенчания символизма он писал о своей возлюбленной в таких выражениях: «Всякий раз, как, войдя двойною походкою (какое бремя несет Ваше тело в этом мире?), Вы кинете кивок Ваших прекрасных волос – под белым полотном Вашего лба вспыхивают два глаза и любят смотреть в мои глаза». В стилистическом отношении нечто среднее между стихами Северянина, ранней прозой Гиппиус и первыми опытами Андрея Белого. К тому же это записано в дневник, а не для одобрения публики. Тем глубже яма. В другой раз, после очередной чересчур изысканной метафоры, Пунин признается: «Очевидно, я неисправим, и красивые слова любят меня больше, чем я их, – ну что ж, у каждого свой фатум».
Поиск совершенной формы будет мучить его всю жизнь. Восторженное приятие и столь же искреннее отрицание разных направлений и разных художественных манер, сама мятежность или, правильнее сказать, смятенность Пунина отсюда. Одна из корреспонденток его, А. В. Корсакова, однажды сравнила Николая Николаевича с «кипящим водопадом», ошибочно полагая следствием молодости то, что было трудным и одновременно благодатным свойством богатой натуры.
Не будь это символизм, не существовало бы и той проблемы, о которой мы говорим. Художественные направления сменяют одно другое, почти не задевая жизнь частного человека, которая протекает по каким-то иным руслам. А за свое призвание и путь поэт платит сам.
Правда, Пунин был литератор и искусствовед. Возникали, стало быть, неизбежные стилистические проблемы, но с ними, пусть и не безболезненно, справиться можно. Здесь речь, в конце концов, идет лишь об эстетическом чутье и интеллектуальной мобильности.
Однако дело в том, что символизм был не просто искусством, но мировоззрением и образом жизни. Для Пунина, как и для символистов, искусство и поведение – явления одного порядка. Поэтому поиск адекватной формы не был поиском художественной формы только, но выяснением целостного отношения к вещам, людям, миру и к себе. А тут обольщениям, оправданиям и страданию (вот гремучая смесь мучительства) нет конца: «Конечно, наше ремесло, наша литература сделали нас болтливыми, – пишет он будущей своей жене А. Е. Аренс, – мы больше любим говорить о страданиях и необычайном, чем вынашивать в себе муку, но мы и страдаем больше, мы и есть нечто необычайное, не вмещающееся в слова, нечто такое, что несет свою душу только после того, как слова, подобно герольдам, возвестили о приближении божественного. Ах, Галя (домашнее имя А. Аренс. – Н. К.), даже если я умру в совершенной безвестности, никогда не отрекусь я от того, что через меня в мир шло нечто божественное и что, помимо воли моей, во мне было своим для тех, кто его мог и хотел видеть. Если же находили только пафос, только легкомыслие и позу, если ничего не находили, то ведь и я не нашел ничего в мире, куда я попал только для того, чтобы переночевать, как на постоялом дворе. Во всяком случае, сейчас я бы хотел поскорей забыть о любви к людям, о всяком снисхождении – я бы хотел им нести правду моего презрения, моего позерства, словом, моей до конца искренней лжи».
Все это, вплоть до последнего оксюморона, можно представить себе в письмах молодого Блока в пору его влюбленности в невесту. Разница лишь в том, что на дворе был уже не 1902-й, а 1913-й, и до начала Первой мировой войны оставалось чуть больше года.
Начатый с отрицания пути, путь этот все равно предстояло пройти. Только не по велению большого времени и логике надиктованного им сюжета, а в силу органического требования возраста, который понуждает пережить все стадии опыта самостоятельно.
В этом пути уже не могло быть некой индивидуально-исторической закономерности, как, например, в фаустовском пути Блока. Значительно большую роль играли случай, воля обстоятельств, стихийное столкновение пристрастий и антипатий. Так или иначе, движение это невозможно было даже приблизительно определить с помощью хронологической линейности.
Отнести Пунина к апологетам авангарда или же утверждать, что он эволюционировал в сторону передвижнического реализма, невозможно. Это, скорей, движение по кругу, с бесконечными приближениями и отдалениями от предмета, ни одно из которых нельзя считать окончательным.
Весь замешенный на символизме и Блоке (о чем речь впереди), Пунин тем не менее одним из первых глубоко, хотя и не без внутреннего сопротивления, принял и оценил поэзию Мандельштама, а Хлебникова боготворил.
Все это не значит, разумеется, что Пунин был легковесным, всеядным дилетантом или, тем более, что он работал на подхвате у времени. Нет. Такова была его участь, участь вечного «душекружения».
Однажды Пунин почти пожаловался: «…если бы нам был дан другой кусок истории». В главе «Квартира номер 5» из недописанной книги воспоминаний «Искусство и революция» автор признавался: «Война сделала с нами свое дело:…оторвала от нас куски прошлого, которое должно было принадлежать нам; одно укоротила, удлинила другое, как свеча укорачивает и удлиняет тени, падающие на стену; и, переключив мир на новую скорость, подостлала под наши жизни зловещий фон, на котором все стало казаться одновременно и трагичным, и ничтожным».
Такой драматический фокус жизнь проделала, конечно, не с одним Пуниным. Но большинство художников, сформированных в предшествующую эпоху, либо доживало после катастрофы, не умея, а чаще и не пытаясь вписаться в новый исторический пейзаж (ему предстояло прожить в этом пейзаже большую часть жизни), либо было внутренне готово к этому, если и не политическому, то эстетическому катаклизму, готовя его своей работой. Малевич, например, уже в десятые годы агитировал коллег за супрематизм.
Пунин познакомился с творчеством новых художников, таких как Малевич, Татлин, Кончаловский, в те годы, когда был уже сформирован как личность. Он приветствовал их, он писал о них восторженные статьи, но это был все же не тот опыт, который совпадает с собственным ростом.
Подобно Мандельштаму и Ахматовой (хотя у лириков все же другой сюжет – смятые, поломанные, кровавые, жестокие, торопливые годы они изживают прежде всего в стихах), Пунин проживал как бы чужую жизнь в не предназначенное для нее время, без прописки, без прививок против опасных ветров и болезней, без одноклассников по урокам истории, которые одним своим существованием могли бы подтвердить подлинность памяти.
Это чувствовали в нем и другие. Характерно, как подробно записывает он далеко не лестный отзыв о нем Гумилева. Но не менее характерна, впрочем, и реакция на этот отзыв: «Гумилев сказал: есть ванька-встанька, как ни положишь, всегда встанет; Пунина как ни поставишь, всегда упадет. Неустойчивость, отсутствие корней, внутренняя пустота, не деятельность, а только выпады, не убеждения, а только взгляды, не страсть, а только темперамент, не любовь, а только импульс и так далее, до бесконечности… Замечание Н. Гумилева, в сущности, означает, что как Пунина ни поставь, он никогда не будет порядочным буржуа в стиле Гумилева».
Многие из этих обвинений он не раз с укором обращал к себе. Но, думая о себе, человек всегда держит памятью то сущностное, что позволяет ему сохранять цельность даже в минуты самоненависти. Другой об этой сущностности может и не знать, а поэтому, даже попадая в цель, глубоко и оскорбительно не прав. Такому надо ответить изнутри своего цельного и ценностного понимания себя. И Пунин отвечает. Отвечает, по существу, как символист, для которого движение и стремление важнее свершения и результата – они всегда чреваты обманом, пошлостью и буржуазным самодовольством, и свидетельствуют не столько о силе, сколько об ограниченности.
Пунин сам себя не раз упрекал в дилетантизме, чутко слышал и аккуратно записывал в дневник, если подобные обвинения исходили от других. Иногда он оправдывался тем, что это свойство не индивидуальное, а психологический признак культурного перелома, что «легкомыслие» и «мальчишество» спровоцированы средой и эпохой.
Несомненно, революция вынуждена была взывать к дилетантам, и когда Пунин брался писать о вопросах политики или государственного устройства, он невольно оказывался в этом полку новобранцев.
Иное дело искусство. Он жил в нем и понимал его, как может понимать только высокий профессионал. Однако случались мрачные дни, когда и здесь он не мог да и не хотел искать себе оправдания: «Много думаю о себе – не понимаю. Как много данных, а силы нет: какой такой дефект во мне?
Кто-то говорит, что слишком много быта во мне. Многие говорят, что я до ненормальности поверхностен. Солидные люди утверждают, что во мне слишком слаба воля. Сам я чувствую слабость творчества. И вот я – ничто».
«Слабость творчества» – не о литературе ли он опять? Об искусстве и в эти и в другие годы писал он чрезвычайно много и ярко. Пожалуй, что именно о литературе.
Лозинский прав: когда Пунин писал об искусстве, в нем пробуждался поэт, и именно потому это была настоящая, порой блистательная проза. Глубокое знание архитектуры, живописи и истории, замешенное на почти чувственном восприятии искусства, помогало ему создавать голографический портрет эпохи в духе культурологического импрессионизма.
Однако Пунин не был бы Пуниным, если бы с первых шагов не отрицал им же воспринятую и выработанную манеру говорить об искусстве. Уже в 1913 году он утверждал, что критики-импрессионисты «в достаточной степени обнаружили свою несостоятельность. Нельзя, впрочем, отрицать того, – добавлял он тут же, – что критик, поскольку он – творческий темперамент, необходимо впитывает в себя атомы, из которых сложено данное художественное произведение, и, приступая к анализу памятника, иногда в значительной степени приближается к творческой жизни самого художника. Но не в этом, так сказать, повторном творчестве – значение критики». В другом случае он выразился осторожнее: «Остается метод непосредственного введения читателя в круг деятельности изучаемой личности. И здесь способ письма еще не установился». Продолжается, как мы видим, поиск формы отнюдь не только в узкопрофессиональном смысле.
Эти невольные самохарактеристики, с постоянными оговорками, свидетельствуют, на мой взгляд, прежде всего о серьезных притязаниях автора и выявляют реальный драматизм, знакомый всякому художнику. Он не способен отказаться от себя, от собственного стиля, имеющего к тому же объективный смысл как реакция на омертвелый академизм предшествующих лет, но не может и не сознавать ограниченность его. Это не отказ от себя, но стремление быть больше самого себя.
Характерно, что качественной разницы между текстом статьи, дневниковой записью и письмом у Пунина почти не ощущается. Автор столь верно знает, столь точно чувствует и осязает описываемое, что посредничество слов ему не мешает. Вот как рассказывает Пунин о «Китайском театре» Чарлза Камерона в Александровском парке Царского Села в письме своей корреспондентке Корсаковой. Заметим, что автору письма всего 22 года: «Мне помнится, Вы видели прошлой зимой нашу „китайскую деревню“ и театр – это удивительное сочетание китаизма, наивного и странно-глубокого вкуса, желтого, красного и голубого экстаза и мистики, грубости и чванства с роскошью, блеском, непревзойденным величием Людовиков, отраженным в несколько варварском, несколько татарском и слишком умном зеркале екатерининского двора – наша „китайская деревня“ может восхищать, восторгать не за чистоту стиля – Китай, эта загадочная страна, меньше всего, может быть, рассказана в этих прямых линиях стен и зубцах крыш, но остроумие, но несравненный вкус, такт вкуса, если так можно выразиться, с каким Екатерине удалось соединить слишком чуждый нам стиль со стилем века, – этот вкус повергает все частицы моего существа в какой-то глубокий эстетический восторг; и когда я сижу в этом небольшом театре и вижу эти ложи с китайцами, аистами и колокольчиками… разве я в состоянии чувствовать и помнить, что мир остался далеко позади меня, что кроме красоты есть что-то неуловимое, робко именуемое жизнью…»
Но если бы, при всей тонкости характеристик, картина была соткана из одних восторгов, мы могли бы говорить лишь о талантливом ученичестве. Власть над предметом выдает юмор, и талантливый литератор это понимает. Не случайно далее Пунин пишет, что на этом пире красоты несомненно присутствует Бог, но какой Бог, он не знает. И вдруг высказывает «холодную мысль», что «Он – Екатерина, с тонкой улыбкой и великим умом, лукаво касающаяся под столом кончиком своей туфельки чьей-нибудь лакированной туфли, смущающая и сама смущенная в ожидании, когда все кончится…»
При чтении этого эпистолярного очерка невольно вспоминаются строки из «Итальянских стихов» Блока: «На легком челноке искусства / От скуки жизни уплыву».
Красота как способ забвения, избавления от реальности – это мотив усталого символизма. Вряд ли сам Пунин успел так уж устать от жизни. Всерьез скука начнет его мучить значительно позже – во время войны. Это, скорее, отрабатывание темы. «Трезв и холоден свет, единственное – это искусство», – повторяет он.
Живопись для Пунина была не только предметом его страстного увлечения и научных исследований. Это был его способ жизни и общения. Текстам эта приверженность живописи придает дополнительное ассоциативное напряжение, повышает их поэтический градус. В этом смысле, а не только для определения превосходного стиля, его можно сравнить с поэтом.
Его тексты всегда исповедальны, то есть всегда имеют отношение лично к нему, решающему в этот момент вопросы жизни, смерти, достоинства и пути, а не только, допустим, мастерства и каких-то технических достижений. Это предполагает их последнюю правдивость и серьезность кроме проницательности и пристрастности. Хотя и пристрастность тоже, несомненно. «Беспристрастия ни в одной работе нет, геометрия Эвклида – пристрастна», – провозгласил он в статье о Петре Кончаловском.
«Дорогая Галочка, – пишет Пунин Аренс, – сегодня много думал об искусстве, потому что долго смотрел залу современных мастеров. Ни один из них не удовлетворяет меня, кроме Врубеля. Серов очень хороший художник, но совершенно лишен творчества, вдохновенна только его манера, его мазок, в нем совершенно нет духа, интуиции, внутренней искренности… Сомов хороший художник, но именно на нем видно, до какой степени опасно (опасно, конечно, в смысле жизненности и развития) художнику обрадоваться какой-либо найденной форме. Сомов открыл для себя свою феерию и свою улыбку, он ее великолепно усвоил, но в той работе, которая в музее („Фейерверк“), уже чувствуется мертвенность и, знаешь, что странно, – бесконечная пошлость, интеллигентская пошлость сомовского воображения. Скучно и холодно перед ним…»
Художественный дар может увести человека навсегда в мир воображения и тем погубить или спасти его. Но случается дар, который человеку приходится нести как крест, – непроизвольная цепкость взгляда, не оставляющего места для иллюзий, не совместимого со снисхождением, с попыткой возвести в художественный перл дорогие черты, чем инстинктивно пользуется почти всякий влюбленный. Здесь другое: я так вижу, и это невозможно поправить (подправить).
Пунин непременно пишет словесный портрет женщины, с которой его сводит жизнь, и остается только гадать, как с такой беспощадностью взгляда уживалась еще и любовь.
Вот портрет Аренс, к которой, по признанию на этой же странице, он испытывает «человеческую любовь» и удивляется небывалой своей доброте по отношению к ней: «Галя некрасива, слишком мягкие черты лица сообщают формам какую-то расплывчатость, ее глаза под светлыми и потому миловидными бровями обрамлены тяжелыми, припухшими веками, нос ее не очерчен одной определенной линией, он слабо характеризован и „сбит“ в рисунке; более выразительны ее губы, но их портит та же расплывчатость формы, то же отсутствие характерного рисунка. Много значительнее овал лица, мягкий, тончайшего психологического смысла, сообщающий какую-то особую и загадочную таинственность всему лицу, напоминающему типы Леонардо или, по крайней мере, Луини».
1914 год. Первое впечатление от Ахматовой. История их отношений, сыгравшая огромную роль в жизни обоих, случится через много лет. Примечательно, однако, что эту запись в разгар их отношений Пунин покажет Ахматовой, что та подтвердит своей росписью. Удивительное свойство обоих. Но об этом позже.
«Сегодня возвращался из Петрограда с А. Ахматовой. В черном котиковом пальто с меховым воротником и манжетами, в черной бархатной шляпе – она странна и стройна, худая, бледная, бессмертная и мистическая. У нее длинное лицо с хорошо выраженным подбородком, губы тонкие и больные, и немного провалившиеся, как у старухи или покойницы; у нее сильно развиты скулы и особенно нос с горбом, словно сломанный, как у Микеланджело; серые глаза, быстрые, но недоумевающие, останавливающиеся с глупым ожиданием или вопросом, ее руки тонки и изящны, но ее фигура – фигура истерички; говорят, в молодости (Ахматовой в ту пору едва минуло 25 лет. – Н. К.) она могла сгибаться так, что голова приходилась между ног…Она умна, она прошла глубокую поэтическую культуру, она устойчива в своем миросозерцании, она великолепна. Но она невыносима в своем позерстве, и если сегодня она не кривлялась, то это, вероятно, оттого, что я не даю ей для этого достаточного повода».
В женщине Пунин старается видеть не столько безупречность, сколько характерность. Возможно, поэтому трезвый, раздевающий взгляд может содержать в себе одновременно и восторг, и влюбленность. Вот еще один портрет – Лили Брик, с которой у Пунина был короткий, но бурный роман: «Зрачки ее переходят в ресницы и темнеют от волнения; есть наглое и сладкое в ее лице с накрашенными губами и темными веками, она молчит и никогда не кончает… Муж оставил на ней сухую самоуверенность, Маяковский – забитость, но эта „самая обаятельная женщина“ много знает о человеческой любви и любви чувственной. Ее спасает способность любить, сила любви, определенность требований. Не представляю себе женщины, которой я бы мог обладать с большей полнотой. Физически она создана для меня, но она разговаривает об искусстве – я не мог…»
Живописный портрет у Пунина всегда переходит в психологический, даже идеологический, оттого он так подвижен и, несмотря на законченность, не выглядит приговором, как, впрочем, и фиксацией сиюминутного впечатления. Зоркость здесь соседствует с любовью, на которую, как известно, обречен всякий автор. Это портрет, с которого романист может начинать роман.
О каком бы художнике Пунин ни писал, создается ощущение, что он невольно характеризует собственный литературный стиль. Так бывает. Например, в книге «Западно-европейское искусство» о Ван Гоге: «…художник не отдается всецело тому непосредственному впечатлению, которое производит на него натура; он привносит в свои восприятия сложный комплекс идей и чувств».
В таком ключе Пунин пишет и автопортрет: «Я… не люблю своего отражения и не люблю смотреть в зеркало; моя наружность возбуждает во мне – может быть, не всегда, но чаще всего – не очень сильное отвращение: в особенности не нравится мне лицо и на нем – щеки. Не люблю также своей неуклюжей, вытянутой и неосмысленной тени. Но не в этом только дело. Отсутствие вокруг меня тени вполне бессознательно рождало во мне чувство уверенности и покоя».
Отсутствие тени Пунин наблюдал в эвакуации в Самарканде, где почти сразу после восхода солнца тени исчезают, окружающее становится «пластически устойчивым» и человек чувствует себя «просто, как бывает дома». Так легче было сознавать, что он один, а человек и должен быть один, и ощутить «полное, крепкое, всеохватывающее счастье» оттого, что тебя окружает природа.
Пунин признавался, что такое счастье ему приходилось испытывать редко. И (очень важное признание): «Оно похоже на то чувство, которое бывает, когда прямо, честно и по существу ответишь на какой-либо вопрос. В сущности, не так часто приходится в жизни без всяких оговорок, в особенности без оговорок для себя, отвечать „да“. И это было прекрасно – всегда отвечать „да“ земле».
Лет двадцать назад он непременно в такой ситуации заговорил бы о единении с Богом и о красоте. Но запись сделана в 44-м году, и он говорит о правде и честности.
Переход к более объемному, сострадательному восприятию жизни был предрешен уже опытом символистов. Так же как и крайности, сопутствующие этому переходу. Тут еще не умудренность, а всё те же мятежность и максимализм, в данном случае этический. «Я хотел бы видеть в искусстве больше серьезности, – пишет Пунин в 1916 году, – я хочу утверждать, что за последние десятилетия мы все слишком переоценили красоту. Искусство прекрасно, но оно не только прекрасно. Во всяком случае, русское искусство велико именно тем, что менее других прекрасно, но более других… что? – героично, духовно, трагично, таинственно – нет, ни одного из этих слов я не беру – оно более других человечно и более других серьезно, дельно». В реальности «дельно» обернулось новой попыткой «отрыва от шара земли», у футуристов, например.
Между прочим, эти предреволюционные размышления лишний раз свидетельствуют о том, сколь психологически готова была большая часть интеллигенции к радикальным социальным изменениям.
Анализируя творчество молодых художников Митурича, Альтмана, Тырсы, Пунин отказывается признать их импрессионистами, время которых, по его мнению, уже прошло, но: «Относительно этой группы меня беспокоит другое: я боюсь, что они слишком и только прекрасны; я боюсь их большой формы, их замкнутости и их мастерства».
Революция активизировала начавшийся задолго до нее пересмотр культуры. Кумиры покинули свои пьедесталы и, демократически повинуясь требованиям эпохи, согласились на равных участвовать в пасьянсе, который раскладывал вечерами всякий думающий человек: «На мой взгляд, именно Гете и Пушкин – величайшие скептики, и в силу этого так ясны, жизнерадостны и динамичны их мысли. Между тем всякий пессимизм и всякое сомнение, все эти Достоевские, Бодлеры и прочие…»
Такое тотальное перетряхивание культуры прошлого – признак неблагополучия. Ясный дух, посещающий во время одиноких медитаций, при столкновении с картинами террора сменяется у Пунина помутнением разума, вновь охватывает «чувство робости перед чем-то неизбежным и какие-то отрывочные представления, как черепки битой посуды». Заметим, не «чувство ужаса», а «чувство робости». В неизбежном еще хочется отыскать логику, будущее еще как будто обещает надежду: «Разрушается сложенное нами, растет врожденное в нас…» Заявление довольно туманно. Если по Фрейду, то нас и ждет царство Зверя, если по Ленину – благоденствие и мир.
Надежда есть, есть… Недаром Пунин с такой страстью берется за организационную работу. В 1917 году он работает в Народном Комиссариате по просвещению под руководством Луначарского, является членом Петроградской Коллегии по делам искусств и художественной промышленности. В годы гражданской войны – комиссар Русского музея, Эрмитажа, заместитель Луначарского в Коллегии по делам музеев и охраны памятников искусства и старины, редактор газеты «Искусство коммуны» и журнала «Изобразительное искусство». В 1919-1920-х годах работает в Петроградском Совете.
Но есть уже в нем подтачивающее изнутри ощущение бесплодности усилий и догадка о том, что брачные узы, которые он заключил с властью, – плод односторонней и, скорее всего, умозрительной, вынужденной любви. После встреч с молодыми московскими художниками Пунин пишет жене: «Татлин прав, время разговоров настолько в прошлом, что кажется декадентством. Где же это будущее или настоящее, обозначенное действием?… Для того ли пришли мы, чтобы уйти, поиграв во власть?»
Попытки приспособить искусство к требованиям новой жизни сменяются осознанием того, что искусство в новой жизни попросту никому не нужно. Запись 1925 года об идиотизме и нищете современной России Пунин заканчивает словами: «Об искусстве – ни слова, никто, нигде; его нет…»
Впервые удушающую любовь этой власти он ощутил на себе в 1921 году, когда вместе с Гумилевым был арестован по так называемому делу Петроградской боевой организации. Чем это обернулось для Николая Гумилева, мы знаем. Пунина спасло ходатайство и поручительство Луначарского.
Этот первый «семейный» конфликт тогда, не считая месячной отсидки, закончился курьезом. Выйдя на свободу, Пунин пишет заявление на имя Комиссара Особого яруса тов. Богданова: «При освобождении 6 сентября мне не были возвращены подтяжки, т. к. их не могли разыскать. Вами было дано обещание разыскать их к пятнице 9-го. Если они разысканы, прошу выдать. На подтяжках имеется надпись: „Пунин (камера 32)“. Резолюция гласит: „Тов. Пунин, по-видимому, Ваши подтяжки по ошибке были переданы другому лицу. К сожалению, других на замену нет“».
Политкорректность с обеих сторон – водевильная.
Пунин всегда жил в состоянии притяжения-отталкивания. Вообще говоря, противоречивость подобного рода – верный признак живого ума и характера. Можно говорить лишь о степени интенсивности и контрастности этих переживаний, а также о том, какое за ними кроется содержание.
Так относился он к женщинам, к тому или иному затеянному с его участием предприятию, к власти, к художественному направлению, писателю, художнику… Замечу попутно, что это не было следствием какого-то эволюционного движения (от притяжения к отталкиванию или наоборот), тем более не являлось оксюморонным единством. Чаще диктовалось ситуацией и состоянием. Единственным развернутым во времени оксюмороном представляется мне отношение Пунина к Александру Блоку.
Блок и его поэзия были частью того духовного обихода, в котором выросло поколение Пунина. Поэтому и отсылки к нему носят часто обиходный характер. Например: «На обратном пути в Новой Деревне в чайной против перевоза пили чай. Чайная напомнила нам обоим Блока».
Но иногда и в таком, как будто нейтральном упоминании слышится некий упрек: «Проходя мимо лихачей на углах, всегда вспоминаю Ан.(одно из домашних прозвищ А. Ахматовой. – Н. К.): „Я ведь тоже хочу с Ан. на лихаче“. Отчего лихач – тоже какая-то, и не слабая, форма выражения любви? Всегда думаешь: взять бы ее, закутать в мех, посадить и везти в снежную пыль. Какое в этом освобождение? Это блоковская тема, на которую он, как и вообще на все, ничего не ответил, только тосковал».
Уже в этом «Я ведь тоже хочу с Ан. на лихаче» слышится какая-то детская обида, вроде: «Дяденька, возьми меня с собой покататься, я тоже хочу». Но дяденька не берет. И тогда на смену детской обиде приходит якобы взрослая претензия: ни на что не может дать ответа.
Претензия очевидно абсурдная. С таким требованием обращаются не к поэту, а к кумиру. Поэтому и упрек этот, на мой взгляд, свидетельствует лишь о силе магнетического влияния Блока на современников, которое предполагает непомерность требований и неизбежно вызывает по времени такой же силы отталкивание. Властитель дум всегда, в конечном счете, оказывается обманщиком, и человек восстает, не вполне сознавая, что бунтует уже фактически против себя самого.
Надо сказать, правда, что упрек этот был подогрет высказыванием Ахматовой, которое Пунин за несколько дней до этого аккуратно занес в дневник: «Ахматова сказала о Блоке (разговор шел о способности удивляться жизни, о свежести восприятия): „Он страшненький. Он ничему не удивлялся, кроме одного: что его ничто не удивляет; только это его удивляло“».
Однако еще и задолго до этого разговора Пунин производит самостоятельный анализ творчества Блока. Собственно, это и не анализ даже, а попытка приговора или сведения счетов, может быть. Во всяком случае, здесь не одно только революционное стремление к пересмотру всех и всяческих репутаций. С такой безжалостностью и страстностью говорят о сугубо личном и больном.
Написано это как будто в полемике с кем-то, кто по-прежнему любит и превозносит Блока. Но никаких следов споров о поэте, которые бы этой записи предшествовали, в дневнике нет (да и кто превозносил Блока в 1922 году?). Скорее, это нетерпеливое желание убедить самого себя: «Нет, с существующей оценкой Блока не согласен. По форме он – замок на пушкинской эпохе, конец классической (ренессансной, как я говорю) формы – во что выродился Пушкин, можно бы так сказать. По содержанию – романс, отчаяние, пьяные ночи, тройки, цыгане, рестораны, седое утро, все надрывы Достоевского, приведенные в петербургской влюбленной попойке, весь старый, весь буржуазный мир с брезжащим образом Дамы не то в прошлом, не то в предчувствии. Весь старый мир. И никакого отношения к революции, ни слухом, ничем ее не почувствовал и не понял… Я ничего не говорю, он большой человек, но его роль не та, которую стремятся придать ему сейчас, он – конец, прошлое и отчаяние».
Однако тут-то и берет начало тот драматический парадокс, который имеет отношение не столько к посмертному существованию Блока в сознании читателей, сколько к самому Пунину и его жизни.
Многие в свое время были пронзены лирикой Блока, но Пунин был к тому же весь ею пронизан, выстроен ею. Она была его системой общения с миром и с самим собой, способом переживания и мысли, которым неосознанно пользовалась его повседневная рефлексия, особенно если речь шла о ситуациях любовных. С помощью блоковской эзотерической фразеологии Пунин поднимал себя над бытом и пытался придать некий порядок чувствам и явлениям, которым в обыденной речи места нет.
Так, например, в одном из писем к Ахматовой он называет ее – «моя невинная предательница». Оксюморон блоковский. С точки зрения психологической, оксюморон и вообще наиболее короткий и верный способ разрешения необъяснимой ситуации.
Часто Пунин открыто обращается к текстам Блока, гимназически пытаясь с его помощью уяснить происходящее: «Средств выражения не дано. Наиболее полное выражение, которое может встретиться на земле, – сгорание (Блок)». Или: «Как я обозлился, а потом – горькая обида. Куда ты ушла? Мне снится плащ твой синий». Характерно также это блоковское смешение несовместимых объектов: «Кто эта недостижимая и единственная? Дама Луны? – нет. Это, может быть, революция?»
Разумеется, совершенно неверным было бы представить Пунина этаким бытовым эпигоном Блока, так же как невозможно сказать, что Блок своей жизнью инсценировал сюжет «Фауста». Тут связи более глубокие и содержательные.
Язык дают нам поэты, и это ничуть не умаляет нашей индивидуальности. Но случается, что этот язык, всецело владеющий нами, вступает в острое противоречие с собственным опытом и новой исторической реальностью. К реальности адаптироваться легче, нежели найти для нее язык. Нечто подобное и произошло с Николаем Пуниным. Он не столько борется в себе с блоковской эзотерикой и его навязчивыми образами, сколько с романтической театрализацией жизни, которая проникла в него через поэзию Блока: «Выдумать себе лицо и его искать – лучшее, конечно, средство оправдывать все встречи и измены всему, что было. Милая блоковская формула!»
Дело, конечно, не собственно в блоковских образах и фразеологии, да и не в самом Блоке даже. Просто, заглотнувший наживку романтизма – уже не может быть спасен. От романтизма избавляются вместе с жизнью, даже если кажется, что преодолели его суровостью мысли и экстремальным опытом. Возможно, это объясняется просто каким-то особым психическим устройством, не знаю. Пунин однажды записал: «Никогда ты не выгоришь, романтика».
При этом всякий романтик мучительно переживает свое состояние и обыкновенно страдает комплексом неполноценности. В одной из дневниковых записей читаем: «Романтизм, что же это такое? Доколе будет продолжаться это желание того, чего нет, и чего не должно быть, и что путается в исканиях того, что истинно». (Хочу заметить, что здесь незаметно для большинства, а возможно, и для себя самого, Пунин внедряется в заочный спор между Бальмонтом и Блоком. Бальмонт: «Тоскую о том, чего нет». Блок: «Я ХОЧУ ТОГО, ЧТО БУДЕТ… Если кто хочет чего, то то и случится».)
Пунина, как и большинство романтиков, влечет к себе «здоровая классически-реальная простота». Но и романтическая мечта по «невозможному женскому лицу» не отпускает. Оставалось признать, что «оба они – желания, и, как желания, они одно, противоречивое, смятенное, беззаконное и единственное одно». Выбрав в который раз оксюморон, сознавал ли он, что ни на шаг не сдвинулся с позиции романтика?
Так, «болтовня» у Пунина всего лишь псевдоним рефлексии, которая в болтовню превращается только в минуты кризиса, когда кажется, что она мешает некоему реальному действию, простому поступку. В практической жизни эта запутанность чувств скрывает слабодушие и отводит на себя удар.
Однако Пунин и после этих открытий и упреков по-прежнему чувствует неистощимую потребность давать самому себе отчет во всех мимолетных состояниях и поступках, даже не совершенных. Не для того ли и нужен ему дневник? Более того, он показывает дневниковые записи (часто далеко не лестного свойства) тем, кому они посвящены, усугубляя тем самым и без того запутанную ситуацию. (Ахматова некоторые из записей, ей посвященных, впоследствии аккуратно из дневника вырезала; этот романтический ритуал, судя по всему, ничуть не казался ей искусственным или неприличным, но перед вечностью все же надо было быть прибранной.)
Язвительно отвергая блоковскую театрализацию жизни, Пунин сам невольно вносил в отношения с женщинами театральность, не говоря уже о том, что его отношения с Ахматовой в силу многих обстоятельств и в силу той роли, которую каждый играл в их общей среде, были публичными, а значит, не могли быть вовсе лишены элемента театральности. Иногда в духе не столько Блока, сколько Достоевского.
И уж конечно (что особенно интересно), из всего дневника Пунина выстраивается удивительно стройная классификация разных типов любви. Это вовсе не было теоретическим решением проблемы, но как бы само собой возникало из описания конкретных опытов на протяжении всей жизни. Просто тот, кого преследует «романтизм женского лица», в жизни естественным образом оборачивается невероятным педантом.
Художница Лидия Сергеевна Леонтьева на страницах дневника чаще всего упоминается под именем Дамы Луны. Возникает это имя уже в ретроспекции. Время Дамы Луны и вообще по большей части прошедшее время.
Книга начинается с дневника 1910 года, поэтому первая встреча с Лидой, происшедшая в 1906 году в Павловске, знакома нам уже по воспоминанию.
Они давно слышали друг о друге и шли у матерей под кличкой «разочарованные» (романтически мечтательные, должно быть). На домашние спектакли к Пуниным Лида не приезжала, несмотря на приглашение, так как не любила ходить «в гости».
Николай, узнав, что она гуляет где-то в глубине парка, в лесу, бродил там целыми днями в надежде ее встретить. Наконец, увидел их с сестрой на лодке. Познакомились и в это лето, кажется, больше не виделись.
Дальнейшая история их отношений нам неизвестна, если она вообще существовала. Скорее всего, это была знакомая всем по первой романтической любви история томления, что легко реконструировать и из позднейшей записи Пунина: «Первый день в Павловске. Новая дача. Кажется, что и новая жизнь начнется. Больше уже не в той маленькой комнате с коричневыми, квадратиками, обоями, где были мечты, печаль, тоска, страдания, вдохновения, радость, любовь – все, все от Лиды».
В дневнике мы читаем уже о встрече, которая произошла на одной из петербургских улиц 4 февраля 1910 года. Никчемный разговор выдает волнение обоих. Примечательно, что это единственный случай, когда Пунину отказывает художническая острота взгляда при попытке дать портрет возлюбленной: «…я посмотрел на нее сбоку – те же брови, те же черты лица; в это время солнце позолотило ее волосы, они были совсем золотистые, светлые, вьющиеся длинными змейками; шляпка на ней была коричневого плюша и вуаль, спускавшаяся до кончика подбородка. Лида говорила по-прежнему чистым грудным голосом, и нотки печали были у нее те же».
Среди прочего она произнесла забавную фразу о том, что «хотела бы сделать жизнь сказкой, но ведь для этого надо много денег». У нее уже был муж, который увлекался бильярдом и с которым она скучала. Но уйти не решалась, «жаль как-то сделать это человеку, который многим соединен с ней». И – «даже ни за кем не ухаживает, хоть бы влюбился один раз».
Они шли, не замечая пути. В трамвае Николай мало что понимал из окружающего от счастья. Дома ему пришла мысль о символичности нынешней встречи: ведь прошлый раз они так же случайно встретились на Литейном ровно год назад – 4 февраля.
Эротическое переживание его так полно и всеобъемлюще, так мечтательно и до такой степени, в сущности, не связано с предметом, что осознается им как переживание исключительно духовного порядка. На следующие сутки ночью Пунин записывает в дневник: «Лида не говорила ничего особенного, но вот с ней я словно тихо сплю. Вещи теряют свою ценность, когда я возле нее. Мир и покой исходят от ее души, и серьезно и молчаливо колеблется не в ответ ей моя душа. Кажется, словно в ней нет женского тела, так хорошо, – не взволнован и не приподнят, а все же медленно движешься по путям мира, теряя землю, земное созерцание».
Однако, когда 16 апреля Лида зовет Пунина проститься перед ее отъездом («как обещала однажды»), ему ехать к ней «горько и одиноко». На вопрос, любит ли он ее, Пунин отвечает «нет», потому что она некогда просила у него необыкновенной любви, а он в себе ее сейчас не чувствует. Они вновь расстаются на четыре с лишним года.
Встретились 4 августа 1914 года. В стране уже объявлена всеобщая мобилизация. Первая мировая война для России начнется через две недели. Пунин изменился, в частности успел разочароваться в футуристах. Хочет идти добровольцем на фронт.
Эту встречу в самых саркастических тонах он описывает в письме к своей будущей жене. Тут впервые, кажется, возникает имя Дама Луны. «Она была в Париже, познакомилась с футуристами и жила чуть не со всеми с ними вместе, теперь она красит свою мордочку и подводит брови. Все это меня страшно рассмешило и, представь – я взял и сказал ей это, похлопал ее по плечу, назвал авантюристкой и сообщил о том, что я прихожу в восторг от ее… глупости… На этот раз я особенно хорошо понял, что она не то чтобы совсем глупа, но вульгарна, полуумна, хотя есть искреннее желание все понять».
Эту саркастически разоблачительную зарисовку нельзя объяснить только контекстом. Так не оскорбляют женщину, тем более в глазах другой женщины. Так насмехаются над тем, что некогда было идеалом, и, в напрасной надежде на необратимость поступка, расстаются с дорогим воспоминанием.
Через восемь лет, тоже в августе, когда вновь мелькает перед ним образ «недостижимой и единственной», Пунин в первую очередь вспомнит – Дама Луны? И хотя тут же ответит себе «нет», это тоже не будет означать окончательного прощания с милым образом.
Тут-то он и цитирует строчку Блока про синий плащ. А еще через несколько дней записывает: «Во мне два человека. Я ничего не понимаю из всех этих цитат Блока теперь; что со мной было, это же болезнь. И я вспоминаю, что всю жизнь у меня эти два человека были. Один – болезнь. Тоска, ходишь, как отравленный, присмертный и близко к небу и против неба, грешный и все более грешащий, и мрачный, безверный, отчаянно-бесшабашный, пьяный и готовый пьянствовать и разнуздываться, а другой светлый и спокойный, но первый – без разума и воли, второй – без души».
В который раз это раздвоение между романтически гибельным и «простым» образом жизни не явно, но несомненно решается в пользу первого. Жить без разума и воли мучительно и скверно, но все же как-то возможно, а как жить без души? Удовлетворительной альтернативы не видно.
Примечательно, что он подробно рассказывает о Даме Луны сначала Аренс, потом Ахматовой. Ахматова отвечает безукоризненно выверенной, убийственной репликой, как и положено женщине, которая хочет расчистить путь от соперниц, даже если они живут только в воспоминании: «Эти женщины всегда так, если не любят, то рассудительны и такая заботливость, что деться некуда, а когда та же любит, трепаная в три часа ночи прибежит мимо тысячи препятствий…»
Но, похоже, здесь даже она переоценила свои силы – просиявший в юности образ неистребим, потому что нельзя истребить память о потрясении, о котором, а не о конкретной женщине, только и речь. И сама Ахматова в сознании Пунина будет мериться этой мерой. Через несколько месяцев в письме к жене: «Что же тогда А. А.? Не знаю, одно только скажу и, вероятно, скажу этим много, она напоминает мне Даму Луны, в своем прошлом она – слепок с Дамы Луны».
При очередной встрече он рассказывает Леонтьевой про Ахматову, а Ахматовой передает отзыв Лиды на их с Ахматовой любовь, которая «не по мерке земли»: «Вспоминаю часто также Лиду, которая сказала об этом примерно то же самое, когда я рассказал о тебе. Как она это поняла, лучше меня, больше меня – я все-таки удивляюсь!»
Удивляться, в сущности, было нечему. Ведь если он однажды испытал «самый полный, какой он только мог дать, всплеск через эту женщину, но и падение полное», то и она не могла не знать, как выглядит «любовь не по мерке земли». Тут – родственное соприкосновение двух сюжетов. Но про любовь к Лиде он однажды понял и сформулировал окончательно: «Лида (Дама Луны) – ведь только романтика, только любовь воображения – я же почти ее не видел, а когда видел, если верить дневнику, не любил; там было больше меня, чем ее». Любовь же к Ахматовой происходила вся в земных владениях и была вся в настоящем.
Короткая встреча с Лилей Брик произошла, как казалось Пунину, с опозданием и только поэтому не имела продолжения. Она и действительно как бы выпадает из основного сюжета, но занимает все же в нем место важного эпизода: «Наша короткая встреча оставила на мне сладкую, крепкую и спокойную грусть, как если бы я подарил любимую вещь за то, чтобы сохранить нелюбимую жизнь. Не сожалею, не плачу, но Лиля Б. осталась живым куском в моей жизни, и мне долго будет памятен ее взгляд и ценно ее мнение обо мне. Если бы мы встретились лет десять назад – это был бы напряженный, долгий и тяжелый роман…»
Пунин чрезвычайно правдив в своих любовных отчетах, даже если хочет что-то скрыть от себя или просто еще не вполне владеет ситуацией. Как про Даму Луны написал он, что душа его колеблется «не в ответ ей», так и здесь выдал себя, сказав про «любимую вещь». И тут же стал рассуждать о смысле измен и плотской ненасытности: «Что же такое эти короткие связи, эти измены жене? Разве я понимаю. Еще двух недель не прошло, а кровь уже томится, горько, темно и безысходно. Под каждые ресницы смотришь и все ищешь, ищешь ненасытно. Ищешь не находя, смотришь – одиноко. Красота не канонична, приму всякую форму, живую и трепетную, но формы шляп живее форм лица, а платья – больше тела, чем само тело. Между рядами голодный, как одинокий, иду мимо; долго ли мимо, иду один – живой, иду насквозь один, несовершенный, весь знающий нового человека и весь старый человек».
В сущности, место этой встречи уже определено: в ряду. Главное здесь не философствование, не укоры совести тем более, а метание, страх потерять все, потребность в пристани и все то же желание «простой» жизни. Уже на следующий день в письме к жене Пунин очень тонко и тактически верно выбирает цитату из своей предыдущей записи: «Если бы мы (Л. Б. и я) встретились лет десять назад – это был бы напряженный, долгий и тяжелый роман, но как будто полюбить я уже не могу так нежно, так до конца, так человечески, по-родному, как люблю жену». Дескать, вот, абсолютно объективно, не для нее же писано. В действительности не только жену пытается убедить, но и себя уговаривает. О безысходности измен ни слова.
Через несколько дней они с Лилей снова встретились. Она говорила о своих днях после его отъезда. «Когда так любит девочка, – записывает Пунин, – еще не забывшая географию, или когда так любит женщина, беспомощная и прижавшаяся к жизни – тяжело и страшно, но когда Лиля Б., которая много знает о любви, крепкая и вымеренная, балованная, гордая и выдержанная, так любит – хорошо… Но к соглашению мы не пришли…»
Пунин сказал, что она интересна ему только физически, и, если она согласна принимать его таким, они будут видеться, если нет… «Не будем видеться», – ответила Лиля. Такая постановка вопроса и не предполагала, надо думать, другого ответа.
В первой же записи о Лиле Пунин отметил: «…она молчит и никогда не кончает». И: «она разговаривает об искусстве – я не мог…» Да, ему знакома блоковская «печальная власть бунтовать ненасытную женскую кровь». И с Ахматовой это было, и именно в связи с ней он вспоминает эту строку. Но представить себе в отношении Ахматовой последнюю претензию уже невозможно.
Скорее по природной склонности, чем по расчету, Лиля еще пытается иногда забрасывать силки (ироническая манера при этом служит надежным способом защиты в случае неудачного поворота сюжета). Так в деловое письмо Пунину вдруг вставляет домашнее: «У вас есть что-то маленькое? Ком-Футик? Он? Она? Как зовут? Ужасно интересно! Такой же прелестный, как вы и Анна Евгеньевна?» А может быть, тонкая издевка? Но еще и при встрече через несколько лет говорит ему о живом чувстве и как много ревела тогда из-за него. И не понимает, что он уже давно «разлюбился, что вообще ничего не могло быть без влюбленности, какая бы она, Лиля, ни была».
Вот, собственно, и все. Не только он теперь был к ней камень – и она давно уже была вся в других отношениях. Но, видимо, такие похмельные разговоры нужны, особенно женщине.
Перед лицом сильной любви все другие отношения с женщинами выстраиваются в потоке какого-то одного, общего желания, теряют свою характерность и индивидуальность. Как-то Пунин рассказал Ахматовой сон: они ходят вместе в чужих городах, между людьми, между открытыми скамейками театра; и среди всех этих людей ему все время попадается одна женщина, к которой ему нужно идти, а он не идет. То она Галя, то Лиля, то под утро вдруг стала Дамой Луны: «Ты всех их знала, а они тебя не знали; вид у тебя был гордый, в новом твоем костюме, и шла ты рядом и мимо, так именно, как ты идешь в самой жизни».
В первый период знакомства с Анной Евгеньевной Аренс Пунин обрушивает на нее целый каскад писем, очень примечательных. Первое, что бросается в глаза, – они насквозь литературны. Автор словно отпускает себя в них, пользуется образами и метафорами не самого высокого вкуса так изобильно, так раскованно, что хочется сказать – развязно. «Маленькое облачко над крышей Строгановского училища (?) бежит к северу, может быть, оно выплачет каплю росы над Адмиралтейством»; «Я несу тяжелый шлейф Вашего византийского одеяния»; «Завтра встанет солнце, завтра грустная золотистая пыль будет возбуждать мои ноздри… Но оно уже пришло – это утро и расцвело, как гигантский желтый тюльпан» и так далее.
Можно предположить, что за этой литературностью скрывается отсутствие настоящего чувства. Но возможно и другое: Пунин наконец нашел адресата, который безоговорочно верит в его искренность и талантливость и перед которым можно безоглядно предаться литературному импровизаторству: его поймут, почувствуют, а если нужно – и простят. Недаром в одном из писем он пишет: «…к Вам я могу прислониться, как к камню, если меня задавит жизнь».
Впервые именно в письмах к Аренс появляется обращение «Друг», свидетельствующее, должно быть, о приоритете человеческих отношений над эротическими, и неоднократное перечисление достоинств: «Приветствую Вашу доброту, Ваше спокойствие, Ваш неумолимый анализ…»
Всякое рассуждение выходит, как на рифму, на слово «счастье». Но в самих рассуждениях нельзя не заметить и момента раздражения.
Не о таких ли братско-сестринских, человеческих отношениях мечтает романтик? Да, но до поры, пока жизнь не предоставит ему реальную возможность таких отношений. А тогда: «…я страдал от Вашего молчания, от тины, которая затягивала наши души, от того, что все казалось таким ясным, таким простым, добрым, умным, счастливым – словом, от всей этой пошлости наших отношений».
Он пишет злые письма и среди комплиментов, которые в очередной раз выдают его (чего стоит одна только «добрая женственность»), признается: «Женщина, которая заставит меня страдать, будет той женщиной, за которой я признаю пол и не только пол».
Тут, в отношениях с Аренс, и не пахнет страданием, зато есть ласковое, по причине домашней, непререкаемой близости, посягание на свободу: «Вы пишете: „Не люблю я только, когда Вы… Вы также знаете, что я люблю и что нет…„…А что если я именно хочу писать то, что Вы не любите…“»
Как это напоминает супружеские выяснения отношений, которые в данном, однако, случае начались задолго до супружества.
Конечно, была и в этих отношениях тайна, и Пунин ничуть не олитературивает ситуацию, говоря об этом. Так, он вспоминает обед у Аренсов: Галя подала ему какое-то блюдо, и он уловил нечто в ее взгляде, взволновавшем его «ласкою, нежностью, любовью, чувством слепым». Им в этот вечер было безумно весело и почему-то хотелось касаться друг друга. Это было для него неожиданно, он не думал до того, что любит Галю, «добрую, но мало женственную, чуткую, внимательную, но обреченную совсем другим жизненным задачам». Безоговорочно он признает только ее «высокий, тончайшего психологического опыта» ум, в себе же отмечает человеческую к ней любовь и удивляется, что никогда до того не был так добр. «Парадоксальная любовь».
Он нуждается в исповеднике, и Галя эту роль выполняет с тактом и любовью, иногда только жесткостью и критичностью подогревая собеседника. Поэтому, несмотря на то, что Пунин много сомневается – любит ли он Галю действительно, это не просто уговоренная любовь. Она отвечала его глубинным потребностям в очаге, в «совершеннолетней женщине» – Друге, к которому можно прислониться.
Недаром и в пору своих отношений с Ахматовой, в которых он по своей привычке довольно регулярно дает отчет жене, Пунин долго не решается расстаться с Галей окончательно. «Вы спрашиваете меня, хочу ли я по-прежнему (то есть после Вашего письма) жить с Вами. Да, да, да; не только жить, но беречь Вас и уберечь от всего, что в жизни есть страшного. Вы не хотите это считать любовью, ну, не считайте, для этого, конечно, есть большие основания, но все-таки „да“ есть „да“. Разумеется, это странное „да“, но сама-то жизнь разве не странная, не насквозь – противоречие». С Ахматовой, как Пунин признается в этом же письме, он выходит в какую-то стихию, которую ему давно хотелось чувствовать. Но, вероятно, эти две потребности в нем равно сильны и непримиримы.
В 24-м году, когда жена с дочкой уехали в Немиров-Подольский, Пунин вдруг начинает чувствовать «почти физическую тоску» и тревогу. «Я обещал им приехать на две недели в середине июля. И вот я, которому дана была свобода одиночества и свобода всегда видеть Ан., вдруг тайно стал с нетерпением ждать, когда я смогу поехать к нашим. Ан. это заметила и холод мой к ней, неизбежный от всего этого, тоже почувствовала – были тягостные дни, от которых я устал и еще больше стал желать отъезда».
Об отношениях Пунина и Ахматовой можно бы написать книгу. Здесь есть все, чем питается обычно воображение романиста: страсть, измены и благородство, высокое напряжение и исполненные не меньшего напряжения бытовые конфликты в духе Достоевского.
В Ахматовой Пунин встретил то, о чем ему мечталось и чего ему не хватало в других женщинах или что проявлялось в них лишь эпизодически и по частям, не в такой полноте и совместности, как у Ахматовой.
С самого начала, впрочем, чувствуется некоторая неравноправность еще только складывающихся отношений. Получив записку Ахматовой, в которой она приглашает его прийти в студию Гумилева «Звучащая раковина», Пунин был «совершенно потрясен ею, т. к. не ожидал, что Ан. может снизойти». Довольно быстро он пытается перейти в обращении к ней на «ты», она продолжает держать дистанцию на «Вы». Пунин сам себе не верит: «Ты ли это, наконец, моя темная тревожная радость?» Но если бы только «темная»! Она еще и «легкая, простая, веселая».
Иногда ему кажется, что живет из последних сил, что любовь началась столь трудно, что уже преждевременно и погибла. Но это состояние длится недолго.
Ощущая «божественное напряжение», он чувствует вместе с тем «духовный холод ее полета» и близость смерти; не страшно, но одиноко и сиротливо: «…всему, что близ меня, холодно; всему, даже вещам, одиноко и сиротливо. Что это?».
Действительно, что это? То ли свойство ее натуры, в которой, однако, присутствует при этом и некое ангельское начало: «Не скажу – лицо ангела, но лицо крыла ангела». То ли с самого начала он чувствует, что ее отношение к нему далеко не равно силе его любви. Но прежде догадки о ее нелюбви она превращается в его воображении в некую беззаконную комету, в Кармен, что, конечно, только способствует разгоранию чувства: «…знаю, что никогда не буду владеть тобой до конца, и не бьюсь об это».
А может быть, он понимает, что не способен поднять такие отношения, ведь «неповторимое и неслыханное обаяние ее в том, что все обычное – с ней необычно, и необычно в самую неожиданную сторону; так что и так называемые „пороки“ ее исполнены такой прелести, что естественно человеку задохнуться; но с ней трудно, и нужно иметь особые силы, чтобы сохранить отношения, а когда они есть, то они так высоки, как только могут быть высоки „произведения искусства“».
В этом смысле Ахматова, должно быть, и похожа на Даму Луны, но тут случай значительно более сложный. От такой любви не спрячешься в созерцательное воображение и ностальгию. К тому, же иногда ему кажется, что с Ан. можно зажить и простой семейной жизнью: «Скажешь – „спички“, Анна, я согласен и на „спички“ с тобою, если хочешь, так даже хочу этого с тобою, чтобы не „парадная“, не какая-нибудь, а простая земная любовь с тобою». Ахматова и в этом, правда, осторожнее и трезвее его. В разговорной книжке: «П. Будем вместе, только бы вместе. А. Что ты, Котий, ведь ты же меня немедленно разлюбишь».
Рыцарственность Пунина по отношению к возлюбленной сочетается с готовностью рабски покоряться ей, но рядом с этим романтическим набором еще и чувство человеческой (нечеловеческой) близости. Пунин: «Такая нечеловеческая близость… Так дружны еще никогда не были». Ахматова: «Ты иногда мне ближе, чем я сама себе». И никто из них не обманывается исключительной духовностью отношений, оба испытывают страсть и желание физической близости. С одной стороны, ее «губы священны» и он готов целовать следы ее ног, с другой – «помню, как руку, тебя».
Это уже не роман воображения, не роман идей, но и не лирика только. Их отношения не бегут быта, в них есть все, что свойственно ординарной психологической драме: ее измены, о которых она почти всегда сообщает ему, его ревность, требование с его стороны не видеться с М. М., с ее – «будь один, а там видно будет, приду я к тебе или не приду», интриги, умолчания, откровения, слезы, истерика, дружеская забота, тихая близость, упреки и прощение.
Вот одна история. Пунин просил Ахматову не ходить на именины к Щеголеву – «там много пьют и люди развязны». Он пришел к ней в 10 вечера, как уговорились, но Ольга Судейкина сказала, что Ахматова ушла к Щеголевым на час.
Пунин долго ждал ее и около часа ночи пошел по направлению к дому, где жил Щеголев, решив сегодня же с Ан. расстаться. Наконец он увидел ее, идущую под руку с пьяным Замятиным, с цветами в руках.
Замятин ретировался, они остались вдвоем. Пунин вырвал букет, разорвал в клочки цветы и выбросил в Неву. Просил о разлуке. Вскоре их догнали супруги Замятины и Федин. Людмила Замятина заметила, что у Ахматовой нет цветов, и всем все стало ясно. «Но я помню, – пишет Пунин, – то острое, по всей спине полоснувшее, как молния, чувство наслаждения, когда рвал и бросал цветы; и в пальцах было то же чувство, когда я ими взял цветы, и в ушах, когда я слышал хруст ломающихся стеблей левкоев; кровь липла, и ею я запачкал руки Ан. Пришли к Ан., я заплакал и все просил отдать мне крестик – мой крестильный крестик на золотой цепочке, подаренный мною Ан. еще года полтора тому назад. И Ан. плакала, щеки ее были мокры, она сердилась и плакала».
Они не расстались. В этот день он уезжал к своим в Немиров-Подольский. На ее вопрос, когда напишет, отвечал, что напишет, когда захочет – вероятно, из Винницы. Она писать не обещала.
Он написал ей уже из Царского, затем из Витебска, Киева, Винницы. Жалел, что уехал, в Вырице хотел было вернуться. Ахматова написала ему: «Милый Николай Николаевич…» Пунин ответил: «Милый, дружный мой Олень-Аничка…» В этом письме и написал, что хочет целовать следы ее ног. Он не мог без нее, ему не хватало ее коротких фраз и дикого ума.
Главное впечатление Пунина от Ахматовой – впечатление подлинности. Некогда он писал о себе в третьем лице: «Опровергая все, что он утверждал день тому назад, он увлекал ум, выплевывал идею, часто жизненную и глубокую. Но как только мы захотим обвинить его в неустойчивости и легкомыслии, он уже предупреждал нас, утверждая, что и это все игра, что истины нет, что и сам он только принц, заигрывающий с жизнью, и что глупо было бы считать серьезной жизнь, для которой „ирония“ только „лучший смысл“».
Любовь к Ахматовой выбила из рук его этот козырь – «иронизировать втайне над всеми, имея самый искренний вид». Еще не так давно он в значительной мере легкомысленно и литературно мечтал о женщине, которая заставит его страдать, теперь на себе узнал хитрый умысел жизни: все сбывается. «Это уже не любовь, Анна, не счастье, а начинается страдание…»
Еще об Ахматовой, с некоторым удивлением: «У меня к ней отношение, как к настоящей…» Она настоящая и пребывает в его сознании всегда в настоящем времени. Даже когда они расстались и прошедшее время вступило в свои права, присутствие ее было так ощутимо и реально, что воспоминания его трудно было назвать воспоминаниями. Пока же отношения их длятся, Пунин не устает то и дело повторять про себя: «так все серьезно».
Он ищет слова, чтобы выразить превосходную степень самого факта ее существования, даже когда она причиняет ему жестокую боль: «Вчера, долго борясь, сказала не своим голосом: я изменила тебе. Потом плакала. Мне ли прощать ее…Не скажу – я простил, но – не мне прощать ангела. Даже если мое начало свет, ее начало – ангельское».
Она равна жизни, миру, природе, сравнения невозможны. «…Мир мой люблю тобою, Ан.»; «…ты, как то, что делается днем – светом, а ночью – темнотою»; «Ан., придя, так наполнила комнату, что похоже было: ко мне в гости пришла сама зима, только теплая».
Вероятно, равного ответа на такую любовь, как у Пунина, и не могло быть. Можно упрекать Ахматову, но можно и догадаться о существовании какого-то психологического или даже физического закона равновесия. Если бы она ответила ему тем же, мир должен был бы совершить кувырок, который он по природе своей совершить не может. Впрочем, для человеческих отношений эти рассуждения ровным счетом ничего не значат.
Серьезность отношения Анны Ахматовой к Николаю Пунину вне сомнений. Но понятно и то, почему он все время говорит о ее не-любви. Он был только героем, она еще и режиссером этой истории.
«Она не любит и никогда не любила, больше: она не может любить, не умеет». Он, слепо и безрасчетно отдавшийся любви, и к себе иногда обращает подобные упреки, но в ней и слепоты этой нет, определенно – слишком сознавала себя. В качестве главной героини драмы. А потому он мог, например, застать ее «томящейся от обид Артура – получила новые доказательства его измен». Тут бы самое время вступить и его гордости. Но она во всем опережала его по крайней мере на шаг – сама заговорила о разлуке. На его вопрос, почему хочет расстаться, ответила стихами Мандельштама: «Эта (показала на себя) ночь непоправима, а у Вас (показала на него) еще светло».
Что оставалось ему? Думать, что сам мало любит, если все еще хранит дом. С другой стороны: «Если бы даже в состоянии был разрушить дом, ничего бы не спасло; ну, на год пришла бы, а потом ушла бы все равно. Правильно сказала, если бы по-настоящему любила, никакие формы жизни не мешали бы разрушать. Не любит. Нет, не любит. Как жить, чем жить».
У безоглядно влюбленного из всех инструментов – одна дудка: однообразен и беззащитен. У режиссера любви во владении целый симфонический оркестр, в котором есть инструменты, способные извлекать и лукавую, и обидчивую, и злую, и простодушную мелодию – всегда безошибочно. Ахматова: «Я тебе не могу простить, что дважды ты прошел мимо: в ХVIII веке и в начале ХХ». Будь они в равном положении, тут же ответил бы на игру игрой, которой в других ситуациях владел превосходно. Но тут… «Как, действительно, случилось, что в Царском мы не встретились, когда еще были в гимназии… В 1890 г. осенью мы, может быть, тоже встречались в колясках в Павловском парке – мы тогда постоянно жили в Павловске; Ан., если она верно высчитала, тогда привезли в Павловск, и они жили там до Рождества, ей было несколько месяцев». Готов уже себя чувствовать чуть ли не виноватым.
А ведь у нее был и еще один, главный инструмент – стихи. В стихах же, как известно, все правда, вся правда, высшая. Даже если не узнаешь себя, смирись – это ты. Как, например, в этих:
Я пью за разоренный дом, За злую жизнь мою, За одиночество вдвоем, И за тебя я пью, — За ложь меня предавших губ, За мертвый холод глаз, За то, что мир жесток и груб, За то, что Бог не спас.Решение разрыва принадлежит, конечно, тоже Ахматовой. 30 июля 1936 года Пунин записывает в дневник: «Проснулся просто, установил, что Ан. взяла все свои письма и телеграммы ко мне за все годы; еще установил, что Лева тайно от меня, очевидно по ее поручению, взял из моего шкапа сафьяновую тетрадь, где Ан. писала стихи, и, уезжая в командировку, очевидно, повез ее к Ан., чтобы я не знал.
От боли хочется выворотить всю грудную клетку. Ан. победила в этом пятнадцатилетнем бою».
Спустя годы, в его присутствии говорила о своем новом спутнике Гаршине, которым вскоре будет жестоко оставлена, подчеркнуто и артикулированно: «мой муж». Зачем, недоумевал Пунин, чтобы я ни на что не рассчитывал? Я и так ни на что не рассчитываю.
До конца его дней они, однако, продолжали друг друга иметь в виду, относились с нежностью и заботой, в трудные дни помогали. Так вела себя и Галя – до конца ее дней.
Упоение революционными перспективами длилось недолго, хотя Пунина и нельзя назвать человеком по этой части особенно проницательным. Но настроение той среды, в которой он жил и вращался, не могло не сказаться и на нем. Запись 1925 года: «Вечером был в одном доме в гостях; разговоры опять о наводнении; кто-то из угла говорит: „Что вы все так радуетесь наводнению, все равно большевиков не смоет“. За эти семь лет власть не приобрела ни одного нового сторонника, кое-кто приходил, но зато кое-кто и уходил, в среднем же в кругу тех лиц, где мне приходится бывать, оппозиция стала более плотной, твердой и значительно лучше обоснованной».
Здесь еще только констатация факта, зарисовка с натуры и никакого почти личного отношения. Его лояльность Советской власти никем пока не подвергается сомнению. Пунин преподает, руководит художественной частью Государственного фарфорового завода. Но буквально через несколько дней интонация меняется: «Нигде ничто не „вертится“, все стоит; мертвое качание, что-то зловещее в мертвой тишине времени; все чего-то ждут и что-то непременно должно случиться и вот не случается… неужели это может тянуться десятилетие? – от этого вопроса становится страшно, и люди отчаиваются и, отчаиваясь, развращаются. Большей развращенности и большего отчаяния, вероятно, не было во всей русской истории».
Даже при попытке мыслить глобально, человек имеет мерилом прежде всего собственную жизнь. Вот и Пунин в 25-м году говорит о десятилетии терпения и отчаяния, и ему страшно. Хотя чем дальше, тем формулировки его становятся более обобщенными и лишенными хронологической перспективы: «Хорошую тюрьму придумали, сразу для всех и без решеток».
В 1935 году Пунин, Л. Н. Гумилев и его университетские друзья, бывавшие в квартире Пуниных, были арестованы по обвинению в террористической деятельности. Однако вскоре, – как считают, после обращения Ахматовой через посредников к Сталину, – все они были освобождены. Надежда на справедливость еще сохранялась. Но не столько годы, сколько эпоха старила стремительно.
«Ночи уже темные – почему в молодости так долго стояли эти белые ночи, а теперь не успеваешь их увидеть. Вообще ничего не успеваешь. Кончается жизнь, так очевидно». Пунину в пору этой записи – 46 лет.
Вскоре произойдет разрыв с Ахматовой. Через некоторое время в его жизни появится другая женщина – М. А. Голубева, иллюзорная, реваншная любовь. Пунин отдает себе в этом ясный отчет, хотя отношения продолжают длиться. Война, эвакуация, болезнь. Умирает Галя. Умирает Дама Луны. С Ахматовой они иногда видятся, переписываются. Известно, что Николай Николаевич был одним из первых читателей «Поэмы без героя».
Он все больше чувствует себя стариком, жалуется на упадок сил, признается, что ему страшно жить.
Старость развязывает все узлы и, во всяком случае, всему возвращает цену. Только она, оказывается, способна избавить от романтизма. Запись 1945 года: «Завтра день рождения Ани (А. Г. Каминская, дочь И. Н. Пуниной. – Н. К.). Весна едва-едва; сейчас льет дождь; сегодня топили печь. Холодно, в комнате 11 градусов. Как всегда в дни семейных праздников, чувствуется отсутствие Гали. С ней как-то все было прочнее. Будущее темно. Страшно думать, что станет с Ирой (И. Н. Пунина, дочь Н. Н. Пунина. – Н. К.), если я скоро умру или погибну как-нибудь иначе».
Из этой записи видно, что Пунин в какой-то мере предвидел участь, которая его ожидала.
В августе 1946-го в Доме отдыха Рабиса за шахматами случайно слышит имя Ахматовой и из газет узнает о роковом постановлении: «Думал, что это может плохо кончиться, но такого не ожидал».
Спустя несколько месяцев начинается его открытая травля в печати. В 1947 году Пунин подает заявление о выходе из Союза советских художников. Его обвиняют в пропаганде «декаданса, развращенного упаднического искусства Запада и таких его представителей, как Сезанн, Ван Гог и другие». В это время он работает над диссертацией об Александре Иванове.
О жизни Пунина в лагере мы знаем немного, в основном из воспоминаний А. Ванеева. В Пунине не осталось и следа смятенности и тревоги. Он спокоен, не слишком разговорчив, если только речь не заходит о живописи – тогда да, как и прежде, «мыслит восклицаниями». С кем-то делится едой из регулярно получаемых посылок, кого-то через знакомых пытается пристроить на более легкую работу. Но главное, нет в нем привычной всепоглощающей рефлексии, своим стоицизмом он пытается унять истерию других.
Один московский литературовед, находясь в крайне тяжелом психическом состоянии, восклицал: «Каждому свое. У каждого своя организация души. Кто знает о том, что происходит внутри меня? И что может изменить ужас положения, в котором я нахожусь».
«Полноте, – ответил ему Пунин, – не вы один, все в таком положении. И ужас, когда к нему привыкаешь, уже не ужас. Предаваться унынию не следует ради элементарного самосохранения».
Для «символиста» Пунина дорогое признание.
Однажды, когда солагерники обсуждали некоего гомосексуалиста, Пунин сказал, что половая жизнь игнорируется лагерным регламентом и потому проявляет себя в гротескных формах. И что вообще вопрос пола – темный вопрос. «У каждого есть свои бездночки». По прошествии жизни, да, неплохо сказано.
Его философствования носят по большей части успокаивающий, терапевтический характер. «У жизни есть свой супрематизм, – говорил Пунин автору воспоминаний. – Он как будто однообразен, но всегда приносит что-то неожиданное. Главное же то, что, вглядевшись в такую неожиданность, вдруг понимаешь, что именно ее и недоставало, именно она сообщает ситуации внутреннюю законченность».
Умер Николай Николаевич в лагере 21 августа 1953 года от сердечного приступа. Анна Ахматова на известие о его смерти отозвалась стихами:
И сердце то уже не отзовется На голос мой, ликуя и скорбя… Все кончено. И песнь моя несется В пустую ночь, где больше нет тебя.2002
Лидия Гинзбург: в поисках жанра
Всякое крупное явление в искусстве вызывает желание дать ему определение, в его характерном, особенном найти некую закономерность, может быть, даже закон. Эти попытки столь же тщетны, сколь и неистребимы в нас, и почти всегда не бесполезны. Творчество Лидии Яковлевны Гинзбург, конечно, из этого ряда явлений.
Значительный художник или мыслитель не только отвечает на вопросы, но и ставит их или же оставляет их после себя. Чем глубже и неопровержимее открытия, тем больше в них перспектив, то есть задач нерешенных. Если же согласиться с тем, что на главные вопросы ответов не существует, то гениальное произведение можно и вообще рассматривать как вопрос, заданный в наиболее совершенной и четкой форме.
Попытки определить жанр совершенно естественны, хотя, должен признаться, они всегда представлялись мне неким сюжетным обманом, с помощью которого автор, увлекая читателя бесполезным разговором о любопытном предмете, тайно подводит его к размышлениям о чем-то более существенном. Именно этим, не скрывая своих истинных намерений, я и предлагаю заняться.
Заочная полемика случилась в журнале «Звезда», посвященном столетию со дня рождении Лидии Гинзбург. В своих воспоминаниях Елена Кумпан так пересказывает некоторые из выступлений на вечере памяти Гинзбург: «Кое-кто из молодых друзей Л.Я., пленяя остроумной речью, принялись развивать свою любимую теорию, по которой Л.Я. никогда не была литературоведом. На самом деле якобы все, что она писала, все ее книги укладываются в рамки многотомного, многосерийного романа. Она не была историком литературы – она всю жизнь писала прозу. Авангардистскую прозу… Прозревая тем самым пути развития литературы в будущем». Тут же мемуаристка добавляет: «Может быть, Лидии Яковлевне это даже и понравилось бы! Но все-таки это было неправдой».
Через несколько страниц Алексей Машевский свою статью «Преодоление прозы?» начинает так: «Лидия Яковлевна Гинзбург, которую многие продолжают считать лишь замечательным литературоведом (сама-то она ненавидела это слово, предпочитая говорить, что занимается историей литературы), между тем была одним из лучших русских прозаиков второй половины ХХ века. „Пограничное“ существование современной прозы волновало ее не только с исследовательской, но и с творческой точки зрения».
Если иметь в виду словарное значение слова «проза», то для этого спора, казалось бы, нет оснований: «письменная речь без деления на соизмеримые отрезки – стихи; в противоположность поэзии ее ритм опирается на приблизительную соотнесенность синтаксических конструкций». Можно говорить в этом смысле, например, о деловой, публицистической, критической, научной, мемуарной прозе.
Но для этих форм существуют свои определения: мемуары, критика, публицистика и так далее. Под прозой обычно понимается произведение художественное. Однако, совершенно очевидно (об этом пишет и Машевский), что все, что написано Гинзбург, не рассказ, не роман и не повесть. Машевский добавляет: «не дневниковая запись и даже не эссе (если, конечно, не понимать под эссе все, чему не подыскивается другого определения)».
Последнее замечание очень верно – словом эссе сегодня определяют все, что угодно, жанр, а вернее слово, стали модными. Но если опять же обратиться к словарному значению (эссе переводится с французского как опыт, наблюдение), то почему бы, скажем и не эссе: «Жанр философской, эстетической, литературно-критической, художественной, публицистической литературы, сочетающий подчеркнуто индивидуальную позицию автора с непринужденным, часто парадоксальным изложением, ориентированным на разговорную речь». Все вроде бы сходится.
Вернемся, однако, к утверждению: Лидия Яковлевна Гинзбург писала прозу. Речь тут, по-видимому, может идти о двух вещах.
Настаивая на определении «проза» чаще всего хотят подчеркнуть особые стилистические достоинства текста, его яркую индивидуальную окрашенность. В этом смысле давно уже говорят о критической прозе символистов. Сюда же можно отнести критическую прозу Анненского, Мандельштама, Пастернака, Цветаевой и других поэтов. И не только поэтов. К прозе мы должны в этом случае отнести некоторые исследовательские труды Тынянова, Эйхенбаума, Берковского и так далее.
«Пограничное» состояние современной прозы действительно волновало Гинзбург не только с исследовательской, но и с творческой точки зрения, – Алексей Машевский прав. Права, вероятно, и Елена Кумпан, предполагая, что такое определение самой Лидии Яковлевне, скорее всего, понравилось бы. Она думала об этом всю свою творческую жизнь. И уж, конечно, не хотела и не была только академическим (с оценочным оттенком) ученым. В частности, строго различала «мысли принципиально научные и мысли академические», явно отдавая предпочтение первым.
Не потому ли дневниковые записи казались ей порой важнее статей. Еще в 29-м году записала разговор со Шкловским: «Для Шкловского мои статьи чересчур академичны. „Как это вы, такой талантливый человек, и всегда пишете такие пустяки“. „Почему же я талантливый человек?“ – спросила я, выяснив, что все, что я написала, – плохо. „У вас эпиграммы хорошие и записки, вообще вы понимаете литературу. Жаль, жаль, что вы не то делаете“».
Этот разговор был для нее важен. Она десятилетиями возвращалась в своих текстах к одним и тем же мыслям, если не сказать, к одной и той же мысли. То же относится и к поиску жанра, поиску точного слова.
Вопрос, однако, в том, не размываются ли границы понятия прозы при столь расширительном его применении? Не говорим ли мы «проза» только для подчеркивания особых достоинств текста, оступаясь невольно в словарный буквализм, то есть, не говорим, по-существу, ничего? В таком случае, оба слова – проза и эссе – оказываются в одинаково незавидном положении, определениями без предмета, подменяющими собой какие-то, может быть, еще не рожденные термины. Словом проза можно возвысить эссе, словом эссе можно принизить значение, допустим, повести, в которой размышления притесняют или подменяют сюжет.
Иное дело, если мы говорим о книгах Лидии Гинзбург, как о принципиально новом явлении прозы ХХ века. Тут недостаточно уже указать на своеобразие и превосходные качества текста, необходимо найти структурные закономерности в этом своеобразии, из индивидуального вычленить жанровый закон, в некотором смысле, обеднить текст ради матрицы. Это важно и для творчества и для науки.
Машевский сравнивает тексты Гинзбург с текстами Пруста и Кафки. При этом он оговаривается, что «В поисках утраченного времени» или «Процесс» «все же можно назвать романами памятуя при этом о специфических особенностях, отличающих их от классического романа ХIХ века)». Оговорка эта важна и, в сущности, она ставит под сомнение саму правомерность такого сравнения, поскольку речь идет не об индивидуальных, а о жанровых различиях. Существенны, однако, и различия индивидуальные.
Особенности прозы Пруста, по Машевскому, состоят в том, что тот не изображает жизнь, а моделирует процесс наблюдения и осознания жизни, идет от одного цикла осознания к другому, погружает нас в процесс конструирования мира. Все так, в этих определениях мы вроде бы узнаем и отличительные черты повествований Гинзбург. С той только разницей, которую отмечает и Елена Невзглядова в том же номере журнала, что в отличие отГинзбург, для Пруста «процесс мышления не столько интеллектуальное занятие, сколько чувственное наслаждение». Существенно. Этим ведь, собственно, и отличается художественная проза от любой иной.
Достаточно обратиться к тексту «Возвращение домой», который часто цитируется в статье Машевского, чтобы убедиться в этом. Вот отрывок наугад: «Любой пейзаж, в зависимости от времени года, от времени дня, от погоды, от множества более мелких и более случайных причин, – выражает разные идеи. Пусть это будет дом на холме, окруженный деревьями. Ночью он означает иное, чем на полуденном солнце; но основные элементы этого зрелища устойчивы, они не позволяют особым, частным аспектам разбежаться слишком далеко друг от друга. Дом, деревня, стог, холм сошлись в пейзаж. В речном пейзаже вода – только один из сочетающихся элементов, вместе с глинистым берегом, с кувшинками и кустами».
Все, что мы прочитали – не пейзаж. Здесь нет ни воды, ни солнца, ни глинистого берега, ни кувшинок. Они не явлены, скорее предъявлены. Есть только детали конструкции. Мы видим картину не синтеза, а разъятия. Наш эмоциональный аппарат отдыхает. В разговоре о пейзаже, так же, как в разговоре о стихах, Лидия Гинзбург прежде всего и только аналитик, но не художник. Она так и писала, кстати: «Мы – аналитики…»
Машевский замечает о пейзаже в «Возвращении домой»: «это и не природа вовсе, а такой напряженный пульсирующий поток размышляющего, смущенного тайным чувством человека». Снова верно, но меняет ли это что-либо принципиально в нашем разговоре о предмете?
Даже пытаясь передать чувственное ощущение, Гинзбург только описывает, только перечисляет, очерчивая подобным рядом некую идею состояния: «Ставни – с детства знакомые южные ставни – прикрыты по-послеобеденному. Тело, прожженное солнцем, обмытое водой, просоленное солью, обветренное ветром, – на прохладной простыне». Но, как говорил у Пришвина художник ученому: вам никогда не перечислить. Тот, правда, отвечал ему: а вам никогда не связать. Однако тут уже речь шла о тайне и тщете искусства и тайне мироздания.
Задачи настоящего ученого, так же как и задачи художника сверхмерны. Но они – в другом, или, сказать точнее, у них другие пути для осуществления. Лидия Яковлевна написала об этом: «В человеке и в судьбе человека подлежит анализу не неповторимо личное, потому что оно есть последний и нашими способами неразложимый предел психического механизма; и не типическое, потому что типизация подавляет материал, но в первую очередь – все психофизиологически и исторически закономерное. Фатум человека, как точка пересечения всеобщих тенденций». И в другом месте: «Я очень люблю закономерности. Понятие круговой поруки фактов для меня основное. Я охотно принимаю случайные радости, но требую логики от поразивших меня бедствий. И логика утешает, как доброе слово». Это сказано уже не только о методе, но о способе жить, который роднит Лидию Гинзбург скорее с философом, чем с художником. Она владела «интеллектуальной символикой чувственного» (определение самой Гинзбург), но чувственное воплощение идеи было не ее стихией.
Алексей Машевский пишет: «Подобно Кафке, Лидия Гинзбург вовлекает читателя в некий неясный сюжет». Но «запутанность, внешняя необязательность маршрута» в «Возвращении» недостаточное основание для того, чтобы сравнить его со странной прозой Кафки.
Кафка с упорством и честностью реалиста пытается показать человеческие отношения в формализованном мире. Все смещения в его прозе не следствие анализа, не результат конструкции. Он скорее художник-натуралист, ради объективности описываемого скрывающий собственные эмоции. В этой работе он чрезвычайно правдив, прост, даже простодушен. Смысл происходящего ему заведомого неизвестен, поэтому автор и не дистанцируется от героя. Для Гинзбург важно, прежде всего, точное слово и четкий смысл, итог, результат интеллектуального процесса. Она написала много строк о нормальном человеке, о поэзии, если хотите, здравого смысла – этот опыт был ей знаком, и этот опыт в русской литературе почти не нашел выражения. Тут она и как литератор, и как философ, – явление незаурядное и принципиально новое.
Я уже говорил, что Лидия Яковлевна в течение жизни много раз возвращается к одной и той же мысли, уточняет ее, дополняет, развивает, находит противоречие, а то и противоречит сама себе. Но, сказав о ее приверженности к точному смыслу, я тут же вспомнил рассуждение Гинзбург о шутке: «…Для меня шутка ни в какой мере не является выражением легкости существования. Шутка для меня выражает скорее семантическую сложность бытия; отсутствие точных смыслов, вечное несовпадение слов со словами и слов с предметами».
Если представить все написанное Гинзбург, как одно распространенное высказывание, то мы почувствуем, что высказывание это грандиозно, объемно и по существу неоспоримо. В нем присутствует та нерасчленимая, аналитически не вычисляемая тайна, которая была передана ему личностью автора. Может быть, это и является признаком художественности? Но по этому признаку мы опять же соберем большое количество явлений, ни в чем ином друг с другом не сопоставимых.
Попутно замечу, что слияние героя с автором является отнюдь не только свойством лирического стихотворения, этому явлению можно найти много объяснений, и, во всяком случае, вряд ли его можно назвать открытием авангардистской прозы ХХ века.
Если не останавливаться больше на следствиях тезиса о прозаичности текстов Гинзбург, то в качестве основного аргумента нужно назвать следующий: «лирические принципы построения литературного произведения».
Вообще говоря, давно уже, а здесь в особенности, вспоминается опыт Василия Розанова, тексты которого построены именно по этому принципу. Сходство здесь огромно, хотя и различие очень существенно. Тексты Розанова в гиперболической мере личностны, вызывающе субъективны, почти в каждом из них он еще к тому же выворачивал наизнанку свою интимную жизнь. Ничего подобного нет у Гинзбург. Даже в признаниях, которые никак нельзя назвать интимными, она считала нужным сделать оговорку. Например: «…в моей голове (беру себя как явление типическое) царила удивительная смесь из модернизма, индивидуализма, статей Толстого о вегетарьянстве (описание бойни пронзило), Софьи Перовской…» Нет в стиле Гинзбург и розановской стилистической неряшливости, которой он придавал эстетическое значение.
Гинзбург чрезвычайно сдержана, ответственна и опрятна в своих записях, даже сделанных в 23 года. В этом ее и человеческое и эстетическое кредо. «Лирическая… проза, – писала она, – род литературы самый рискованный, подстерегаемый многими соблазнами». Возможно, ощущение, глубокое понимание этой опасности и остановило ее, в конце концов, на пороге собственно прозы. В этой области, мне кажется, располагается и предел исследовательских возможностей, впрочем, похоже, что предел этот абсолютен для любого анализа поэтического, например, текста.
Затруднение, которые испытывает каждый, пытаясь как-то очертить и определить сделанное в литературе Лидией Яковлевной Гинзбург, понятен и мне. Сказать о предмете, которой посвящены ее книги – психологическая проза, русская лирика и так далее, значит не сказать почти ничего. Так в советское время было принято подразделять писателей на маринистов, деревенщиков, фронтовиков – пустое занятие. Мысль ее послана гораздо дальше, как у любого настоящего писателя. При этом Гинзбург владеет инструментами всех доступных ей гуманитарных наук. К ней, как и к Розанову, трудно подобрать определение: историк, литературовед, социолог, философ, бытописатель, мемуарист, критик, культуролог, психолог, публицист? Дело не в предмете, а именно в этой инструментированности, в синтезе средств и целей. Тут можно вспомнить автора иконологического метода в искусствознании Панофского, который утверждал, что «если историк хочет понять внутреннее единство каждой эпохи, он должен пытаться открыть аналогии между такими внешне различными явлениями, как искусство, литература, философия, социальные и политические течения, религиозные движения и т. д.». До ХХ века, правда, не в академическом, а так скажем, в дилетантском или прикладном варианте (основными инструментами являлись все же интуиция и воображение) это было присуще, действительно, только художественной прозе.
Отсюда и наша растерянность, вызванная отнюдь не только терминологическим педантизмом. Это проблема не столько жанровая, сколько философская. Работы Гинзбург оказали и будут оказывать мощное влияние на науку о литературе, человеке и обществе. Они еще больше приблизили нас к тайне искусства, к тайне человека и человеческого поведения, показали истоки его, лежащие в культуре. Но показали и предел этого проникновение, за которым открылось поле действия уже исключительно искусства. Лидия Яковлевна знала этот предел и сознательно за него не переходила и в дневниковых записях и в анализе текста, отвращаемая запахом шарлатанства или же сумасшествия.
Она еще в юности сделала выбор, а всякий выбор, понятно, накладывает и определенные ограничения. Ей был чужд складывающийся на ее глазах и унаследованный от русской литературы «тип интеллигента с надрывом (душевные глубины, крайняя автопсихологическая заинтересованность, перебои психического аппарата, которые сразу эстетизируются)…» Характеристика, как всегда у Лидии Гинзбург, точная и убийственная. Хотя, если отрешиться от оценочного момента, мы найдем произведения замечательные, может быть, гениальные, которые этой характеристике соответствуют. Но выбор сделан. И не только личный, но исторический (у Гинзбург это непременно так): «этот унаследованный склад оказался решительно не к истории».
Безупречность, завершенность наблюдений и характеристик Гинзбург мешает порой увидеть их историческую и биографическую подоплеку. А она, несомненно, была. Так очерчивались границы ее притязаний в собственном словесном творчестве, так определялся круг ее научных интересов.
Поэтому был материал в литературе, который не давался ей как аналитику. К таким я отношу прозу и поэзию Мандельштама. Гинзбург очень на многое в творчестве Мандельштама точно указала, но проникнуть по-настоящему как исследователь не смогла. Чувственное тепло вещей, инфантильность, при всем-то классицизме, домашность, эстетическую игрушечность, портативность образов и неразъемность метафор. Она предупреждает, что тесную ассоциативность мандельштамовских стихов не следует смешивать с заумной нерасчлененностью. И это, разумеется, справедливо. Но при этом, используя формулу Блока «слова-острия», пытается объяснить мандельштамовскую поэтику, и материал незаметно обезличивается, рассыпается. Такие стихи мог писать и Блок, и Пастернак, собственно, от Мандельштама в них остаются темы, культурные ориентиры, биографические мотивы, внетекстовые ассоциации, вроде цветаевской шубки (у Блока тоже, кстати, была строка о шубке: «Звонят над шубкой меховою…», и шубка была Любина, но что это объясняет в поэтике одного и другого?).
А что делать с «колтуном пространства», с «комариным князем», с «белым керосином», с «картавыми ножницами» и с многим другим, что никто, кроме Мандельштама, написать не мог. Гинзбург говорит, что у Мандельштама есть непонятные стихи, хотя их и не так много. Но вопрос: почему и непонятные стихи действуют на нас, как будто мы их все же понимаем, но как бы сквозь смысл, помимоего? Иллюзия рационального объяснения только запутывает дело и множит вопросы.
Объяснение этому находим еще в записи 29 года, посвященной прозе Мандельштама: «Литературный текст становится многопредметным, его отличает пестрота и раздробленность на маленькие миры и системы замкнутых на себя фраз-метафор. Каждая фраза веселит душу в отдельности. Сравниваемое оказывается случайным, процесс сравнения – занимательным, а то, с чем сравнивают, разбухает и самостоятельно хозяйничает в книге. Так образуются стилистические раритеты: я их не люблю, так же как и раритетные характеры в литературе…» Все это опять же совершенно точно и верно, важное предостережение, допустим, для начинающего писателя (Лидия Яковлевна и предупреждала и Мандельштама и других писателей об этой опасности). Но мандельштамовская поэтика действительно состоит из раритетов, и это тоже гениально и неоспоримо. Что делать?
Если «условны усилия искусством ловить неуловимое» (Гинзбург) и усилия эти при определенной последовательности могут ввергнуть нас снова в хаос, то столь ли существенны различия между мыслью логической и мыслью поэтической? И, во всяком случае, я не представляю себе поэта, который бы согласился с этой «условностью усилий».
Гинзбург не раз писала, что самое интимное переживание исторично, что стихи выражают поэта в его погруженности в культуру, в социум. При этом сама же задавалась вопросом: «Где найти меру неотменяемости общего и меру независимости личного?»
Этот вопрос стоит и перед личностью, и перед искусством и по сей день. И таких вопросов много.
2002
«Я вам обещаю, вас помнить не буду» Александр Володин: эпизоды по памяти
Впервые я увидел Володина, когда в середине шестидесятых он появился у нас в коммуне.
Юность моя была не пионерская, не комсомольская, а коммунарская. Было такое общественное движение на рубеже 50-60-х годов. Не диссидентское, но в структуре советской идеологии почти криминальное. Что еще за надстройка над пионерской и комсомольской организациями? Вы лучше нас?
Но – коммуна, коммунистический, Макаренко, светлые идеи на заре революции. В общем, несколько лет приглядывались, однако, не трогали. Хотя поводов было много. На четвертом году жизни, например, коммуна решила расстаться с тем, кому была обязана своим рождением. Игорь Петрович Иванов, выдающийся педагог с ленинским лбом, жестикуляцией, даже тембром голоса и картавостью, объявил, что отныне коммунарское движение пойдет не только в школы, но и в городские дворы. Так, мол, выглядит логическое продолжение его педагогического эксперимента.
Во-первых, мы с чувством оскорбленного самолюбия узнали, что все эти годы являлись подопытными: в лабораторном опыте выращивания демократии в отдельно взятом коллективе. Во-вторых, это до ужаса смахивало на теорию перманентной революции Троцкого. Страна, как говорится, была не готова, провал неизбежен. Дворовый блатняк нам, в отличие от Игоря Петровича, был хорошо знаком. В общем, мы расстались с нашим вождем самым демократическим путем, при помощи голосования.
Через некоторое время в самиздате появилась рукопись книги. В ней целая глава была посвящена этому мирному перевороту, который предлагалось рассматривать в качестве модели свержения советской власти. Название книги помню: «Трансформация большевизма», а автора, к сожалению, нет. Интернет на запросы не отвечает.
Мы ждали разгрома и даже посадок. Но, как ни странно, и на этот раз пронесло. Хотя конец был уже близок.
Так вот, именно в эти годы появился у нас Александр Моисеевич Володин.
К явлению знаменитых людей мы были привычны. Среди друзей коммуны художник Борис Михайлович Неменский, режиссер Зиновий Яковлевич Корогодский, психологи Иосиф Маркович Палей и Игорь Семенович Кон, журналист и философ педагогики Симон Львович Соловейчик. Артисты, инженеры, музыканты. Многие задержались в коммуне на годы и стали вполне своими людьми. Фамильярности не было, но не было и звездного восхищения.
Однако знакомство с Володиным отмечено было как раз фамильярностью. Не характерно. Поэтому, видимо, и запомнилось на полвека. Свидетелем не был, пользуюсь коммунарским фольклором.
В пришкольной квартире вожатой на Социалистической улице собралась обычная вечеринка с разговорами и песнями под гитару. Не помню, выпивали мы уже в то время или дело ограничивалось чаем. Пожалуй, что не выпивали. Все приносили что-нибудь съестное. И тут выяснилось, что в доме нет ни куска хлеба. Кто-то сказал: «Александр Моисеевич, сбегайте на угол за хлебом». Драматург, накинув кепку, с несколько даже суетливой готовностью подхватился.
Для справедливости надо сказать, что эта бестактность была, скорее всего, спровоцирована манерой Володина держаться в незнакомой компании. Наш руководитель, Фаина Яковлевна Шапиро, человек остроумный и проницательный, говорила про него с любовным почти восторгом: «Александр Моисеевич хитрый! Таким простачком ходит. В ленинградской кепочке. Скажешь какую-нибудь глупость, а он восхищается. Мне кажется, если я признаюсь, что не читала Шекспира, он тут же ответит, что тоже плохо знаком с этим гением. Хочет, чтобы человек чувствовал себя естественно и уверенно. Понимает, что при такой раскрепощенности, если перед ним самовлюбленный плохиш, глупость, наглость, мелочность и хамство поползут сразу из всех щелей. А он наблюдает, смотрит и, кажется, доволен, что его манок, в который раз, сработал».
К этому свойству бытовой режиссуры, которым в совершенстве владел Володин, я еще вернусь. Хотя он совсем не был холодным естествоиспытателем. Провокатором, может быть, но тоже не холодным. Пока же скажу, что в подобной ситуации так повел бы себя всякий грамотный наблюдатель, имеющий целью собрать материал для пьесы, очерка или романа. Проницательность скрыть под ординарностью поведения. Стать своим, желательно незаметным и определенно бесконфликтным. О твоем присутствии должны как бы забыть. Похоже на технику ловли раков.
Однажды мы устроили с Александром Моисеевичем настоящую творческую встречу (не все же чаи и бытовые разговоры). Он рассказывал о своей жизни, о театре, читал Пастернака. Почти все им рассказанное я нашел потом в «Оптимистических записках», напечатанных, кажется, в «Дружбе народов». Но в разговоре он был еще откровеннее. Не потому, что у него было преувеличенное представление об аудитории, и не из желания эпатажа, разумеется. Он всегда был таким, не зависел от качества аудитории или собеседника, не искал общего языка, даже не понимал, я думаю, что это за процесс такой.
В частности, он рассказал, как уговаривал Товстоногова не ставить на роль Татьяну Доронину в пьесе «Моя старшая сестра». Она замечательная актриса, говорил он, но человек по природе не добрый. Нельзя ей играть эту роль. Товстоногов, как известно, его не послушался. Потом Доронина сыграла эту роль еще и в фильме, и прекрасно сыграла. Но и эта, как бы излишняя откровенность Володина запомнилась навсегда. Может быть, как подтверждение существования невидимого, но жесткого мостика между искусством и жизнью.
Кажется, позже Александр Моисеевич писал об этом мягче или иначе. Изменилось отношение или сказалась живущая в нем боязнь обидеть человека? Не знаю. Я намеренно не перечитываю, делая эти записи, автобиографических текстов Володина. Чтобы не внести невольно коррективы в собственное воспоминание. Как-то давал интервью одной газете. Через несколько часов журналистка перезвонила и обескуражено сказала: в своих книгах Володин и об этом пишет не так, и об этом, и об этом. Ну, что делать?
Причины такого разночтения могут быть разные, не мне их разбирать. Но я пишу о том, что помню. Иногда эту память разделяют со мной еще сколько-то человек. Пусть это была не твердая позиция, а только минутное высказывание. Кто, впрочем, может знать: что – что? Но сама память на эти высказывания свидетельствует, мне кажется, об их существенности.
После того вечера мы с моим другом Аней Андрюковой, с которой вместе в то время сочиняли повесть, догнали Володина на лестнице. «Александр Моисеевич, а ведь ваши пьесы идут от Чехова. Правда?» Он хмуро ответил: «Я не люблю Чехова». Тогда я почувствовал, сколь твердо дно этого человека в кепочке, подхватившегося бежать за хлебом для молодняка.
Впервые я рассказал об этом эпизоде на страницах «Звезды». Процитирую свой комментарий, чтобы не впадать в искушение искать новые аргументы: «Действительно, с Чеховым его роднит разве то, что оба они были не слишком высокого мнения о людях. Как и Чехов, Володин прикрывал острую наблюдательность мимикой сострадания и улыбки. Но время все же было иное, и состав трагедии иной.
Теперь его чем дальше, тем больше сравнивают с Чеховым. Так и пойдет. Мертвые беззащитны. Надсадная эпоха, баритонный пафос, елейные голоса, уклончивый язык. А он во всем, что писал, никогда не повышал голоса, говорил о важном и никогда не философствовал, не призывал – манил… естественностью, честной интонацией, расположенностью. Его герои говорили своими голосами о своей жизни. И мы почувствовали вдруг себя людьми, а не мусором, путающимся под ногами героев и псевдогероев.
…Казалось бы, ничего нет обыкновеннее, чем говорить естественным голосом о том, что составляет событие жизни частного человека. Между тем это была революция, и произведена она была одним человеком.
Нужна была правда как бы бессобытийной жизни, которая в силу любви и сострадания, оборачивалась событием. Как и во времена Чехова, это называлось мелкотемьем, приземленностью и пессимизмом. Во времена же Володина – еще и клеветой на советского человека. Другого требовала эпоха в лице партийных вождей. Если у Чехова „герои пили чай и незаметно погибали, то у нас герои пили чай и незаметно процветали“».
Объяснение вроде бы достаточное. Но сейчас меня удивляет и огорчает то, что мы больше ни разу в течение нескольких десятилетий не возвратились с Александром Моисеевичем к разговору о Чехове. Странно.
Закончу коммунарскую главку. Вышел фильм «Звонят, откройте дверь!», ради которого Володин и отправился в командировку к нам. Фильм замечательный, однако, к жизни и проблемам коммуны он не имел никакого отношения. Становление нашей демократии (говорю без иронии) Володина не волновало. Общался он с коммунарами, которые были старше героев фильма. Значит, и любовную историю вряд ли подсмотрел в общении с нами. Для сюжетного оформления ему хватило следопытских пионерских поисков героев последней войны. Такое движение, действительно, было, разворачивалось оно в основном на площадке «Ленинских искр», и возглавлял его член коммуны Саша Прутт, по роли – «Генка-ординарец». Но коммунары не были следопытами. Мы начали строить в деревнях памятники погибшим на войне значительно раньше, чем государство вспомнило о них и объявило 9 мая государственным праздником. Это правда. Но никаких азартных поисков ветеранов и слезоточивых встреч ними. Деревянные стелы открывали в деревнях в 4 утра 22 июня. Собиралось все село. А уж тут слезы, слезы, конечно.
В фильм перешли речевки. Но как в фильме, так и у нас, это была скорее цитата из 20-х годов. Никто, кроме нас, в 60-е годы с речевками уже не ходил. Да и у нас они были не только тупо-бравурными. Если сделать скидку на жанр, то и совсем не бессмысленными. Например: «Правда, но без громких фраз. Красота, но без прикрас. И добро не напоказ. Вот что дорого для нас».
Объяснение этого транзита через коммуну, на мой взгляд, лишь одно. Опора художника на реальность – романтический советский миф. Как и изучение жизни. Какие-то реалии, да, необходимы. Но художник отвечает только перед своим замыслом. И внимателен и избирателен только по велению внутренней установки. Пчелиный труд. Никакого охвата жизни в целом, что в житейском плане и невозможно. Целое выстраивается из части и соответствует представлению о целом, чувству целого, в чем, собственно, и заключается дар.
Даже и собственная жизнь в эмпирическом плане – не первостепенный или, во всяком случае, недостаточный материал. Иначе, как объяснить, что война не нашла никакого отражения в пьесах и сценариях фронтовика? Только внутренний опыт, только избранное из внутреннего опыта. Биографы зря стараются.
* * *
Встретились мы вновь через много лет, когда у меня уже вышла первая книга, а Володин переселился в театральный дом на Пушкарской. Соседом его был мой друг Саня Григорьев, читавший литературные лекции в Ленконцерте. Александр Моисеевич часто заходил к нему за книгами, так и завязались отношения, а потом и дружба.
Однажды он позвонил, когда мы с Саней были вместе. «Выпиваете? Я сейчас буду». Пришел с бутылкой. Я напомнил ему наше знакомство в коммуне. «О! Помню, все очень хорошо помню. Фаина Яковлевна».
В тот день он пришел тоже с внутренним заданием. Его интересовало, как делаются переводы? А если языка не знаешь? Подстрочник? Это что? Но разве можно по подстрочнику верно перевести? А еще ведь рифмы, рифмы!
Доставали книжки, читали, сравнивали. Про себя подсмеивались над его простодушием и дилетантством. В значительной степени, наигранными. Ему нужен был именно горячий мусор филологических разглагольствований. И он его получил. Писался сценарий «Осеннего марафона».
О сценарии не было, конечно, помину, как и об истории, ему предшествовавшей. Но именно в эту пору я часто наблюдал «осенние марафоны» Володина из окна квартиры моих родителей на Белградской 16, где жила мать его второго сына. Он шел немолодой уже походкой, с отвлеченным лицом и целеустремленностью незрячего. Мимо людей.
Мы стали встречаться чаще. В квартире не только Григорьева, но и Володина, в Комарово, на писательских и театральных тусовках. В нем как-то сочетались азарт и меланхолия, вспыльчивая рефлексия, приязнь и отстраненность. Однажды он дал нам прочитать пьесы «Две стрелы» и «Мать Иисуса». Это был жест доверия – о появлении их на сцене театра не могло быть и речи.
Нередко о своих фильмах и режиссерах Володин говорил с неприязнью. Даже о тех фильмах, которые считались, да и являются, вероятно, шедеврами. Из «Осеннего марафона» Данелия хотел сделать непременно комедию, придумал эпизод с оторванным рукавом куртки. Митта – детский режиссер, снял фильм про трубу, про зовущий горн, хотя у меня написано про первую любовь девочки. В фильме «Дочки-матери» Герасимов вообще перевернул все с ног на голову. Я писал про то, как провинциальная девчонка разрушила мир интеллигентной семьи, а в фильме она, оказывается, научила их подлинной жизни. И так далее.
Володин был текуч, динамичен. В определенной мере, человек настроения. Да еще и самоед при этом. Острое чувство своего несовершенства (то есть, острое чувство совершенства), но не только. Он боялся попасть в футляр собственного образа.
Стыдился, например, первой книжки рассказов. Я как-то сказал, что перечитал ее и книга, на мой взгляд, хорошая. Не жалеет ли он, что прервал эту линию неавтобиографической прозы? Он ответил: «Я не жалею, потому что… Это мне говорил еще мой друг Яша Рохлин: „Ты отовсюду бежишь“. Пьесы, пьесы, пьесы – и хватит этого… Все равно их запрещают. Ну, кино попробуем. Кино, кино, кино – и хватит, и не хочу больше этим заниматься. Записки, записки, записки, записки – хватит! То есть это еще не хватит. Стихи, стихи, стихи – хватит. А записки – еще не хватит. Вот их я пишу с удовольствием. Когда хватит – тогда я пропал».
В этом, вероятно, кроется и противоречивость оценок. Живой человек. Вспоминается эпизод из очерка Горького о Толстом. Толстой говорил о зяблике: «– На всю жизнь одна песня, а – ревнив. У человека сотни песен в душе, но его осуждают за ревность – справедливо ли это?…Когда я сказал, что в этом чувствуется противоречие с „Крейцеровой сонатой“, он распустил по всей своей бороде сияние улыбки и ответил: – Я не зяблик».
Известно, что после премьеры «Назначения» в постановке Ефремова Володин сказал: «Я не писал этой пошлости». Зинаида Шарко рассказывает, как Володин читал актерам «Пять вечеров». Каждую минуту прерывал чтение и говорил: «Извините, там очень бездарно написано. Я вот это исправлю и это исправлю. Ой, как это плохо!» В конце девяностых мы с Леонидом Дубшаном брали у Володина интервью. Он в который раз говорил о том, что многого и многого стыдится. Дальше по тексту: «Один раз меня спросили: „Александр Моисеевич, а есть хоть что-нибудь, чего вам не было бы стыдно?“ Я стал вспоминать: думаю, вот „Назначение“, „Пять вечеров“, что-то еще… и замолк на этом». Аргументы, вероятно, не нужны.
* * *
Об интервью. Их было несколько. Повода для первого я не помню, напечатано в газете «Невское время». По поводу второго Володин сам позвонил мне. Был его юбилей. В «Литературной газете» был заказан материал какому-то маститому критику. Но Александр Моисеевич просил, чтобы его написал я, поскольку предыдущая беседа ему очень понравилась. Если я соглашусь, то он с газетой договорится. Я согласился.
Потом в девяностые годы мы сделали беседу вместе с Леонидом Дубшаном. Вероятно, для радио. Но беседа не пошла, плохая запись. Недавно Леня напечатал фрагменты из нее в «Новой газете».
А вот потом было интервью, про которое вспоминать стыдно. Хотя в самом процессе я его совсем не стыдился. Делал по заданию «Звезды», где оно и вышло через несколько месяцев после смерти Володина. А было так.
Мы беседовали, конечно, по обоюдному согласию. Но Александр Моисеевич был не всегда в форме. Забыл однажды фамилию Окуджавы. Мне бы притормозить. Но – задание. И он, вроде бы, хотел. Да вот, как потом выяснилось, не очень-то хотел.
Мне, вообще говоря, именно в беседах с Володиным стало понятно, что у человека есть всего две-три истории. Не больше. У Володина это была встреча с Фридой, армия, война, а дальше, как говорится, по мелочи.
Бутылка, даже и утром, была на подоконнике. Я как-то спросил: «О самоубийстве не думаете?» Он ответил: «Тоже знаешь?» И тогда же сказал: «У меня вчера Фрида отняла последнюю загадку и интригу. Я ночью крадусь за бутылкой, а она из-за стенки говорит: Шура, бутылка в холодильнике. А я так таинственно ползал».
Мгновенность его реакции была замечательна. Как-то я заговорил о своей маме. И сказал: «Я люблю ее маленькие глазки». Он тут же подхватил: «Как ты это хорошо сказал!»
АМ был очень правдив, несмотря на режиссерскую повадку. Даже так верно сказать: он был очень непосредственным человеком. Например, звонил: «Это Володин». «Здравствуйте, Александр Моисеевич!» «Значит так, Коля. Зови меня Шура и на „ты“. Мы ведь коллеги. Если снова будешь обзывать, повешу трубку».
Я обещал, но никогда обещанного не выполнил.
Так все же про последнее интервью. Уже после смерти Володина я оказался в семье Гореликов. Петр Захарович – боевой офицер, друг Самойлова, Кульчицкого, Слуцкого. Его жена, Ирина Павловна, чудесная, обаятельная женщина, которой Володин звонил едва ли не каждый вечер, утоляя тоску по собеседнику. Так вот, она сказала мне, любовно, впрочем: «А вы знаете, что Саша очень обижался на вас? Он, правда, говорил во множественном числе: неужели они не понимают, что я уже ничего не могу, Ира? А они все спрашивают, и спрашивают».
Возможно, это относилось и к Лене Дубшану. Не уверен. Скорее, по ошибке к Наташе Громовой, с которой я пришел к нему в последний раз. Наташа – талантливый прозаик, а в то время еще и драматург. С подачи Володина у нее была поставлена в Ленинграде пьеса. И вот она приехала, а я Володину должен был показать окончательный вариант беседы. Он просил, чтобы мы пришли вместе.
Мариам, которая помогала Фриде и Александру Моисеевичу по дому, был организован роскошный стол. Я, зная неопределенные разговоры после выпивки, предложил сначала сверить текст беседы. АМ сказал: сначала выпьем. Выпили по две-три рюмки. Тогда он сказал: давай. Я ему: вот текст, посмотрите. Он: нет, читай сам. Тоскливо мне стало.
И вот тут совершилось чудо. Я читал, Александр Моисеевич устно правил. Но как! Смысловых накладок, естественно, не было. Он правил длину фразы, рубил эпитеты, возвращал свою интонацию, заменял слова. Этобыло моцартианское действо. Здесь запятая, здесь точка – нужна пауза. Теперь форте: да, я этого не люблю! Восклик!
Похоже на прочтение оркестровой партитуры. И это он еще вчера забыл фамилию грузина, который сказал ему в электричке: «Шура, ты грустный человек. Но ты не знаешь, до чего я грустный». Артист, во всех известных нам смыслах.
* * *
Еще один эпизод, связанный с Булатом Окуджавой. Володин рассказывал, как однажды ему позвонила жена Булата Шалвовича, Ольга. В семье у них тогда был разлад, Ольга жаловалась. Среди прочего она сказала: «Шура, ты не представляешь, какой он вечерами скучный человек!»
Я не стал бы приводить здесь вполне малозначащую и к тому же интимную сцену, если бы тогда же не почувствовал: потому Володин и пересказал мне ее, что эта обидная реплика попала в него самого. Должно быть, такой упрек слышал хоть раз в жизни всякий художник.
В некоторой степени это подтверждение сюжета пушкинского стихотворения «Поэт»:
Молчит его святая лира; Душа вкушает хладный сон, И меж детей ничтожных мира, Быть может, всех ничтожней он.Поэт – не остроумец и не герой скетча о гениальном человеке. Он нуждается в житейской и даже в душевной паузе. Это – естественно, а не моторное, образное воспроизводство. Естественно. Возможно, Окуджава отвечал на эти явные или скрытые упреки в стихотворении «Чаепитие на Арбате»:
Я клянусь вам, друг мой давний, не случайны с древних лет эти чашки, эти ставни, полумрак и старый плед, и счастливый час покоя, и заварки колдовство, и завидное такое мирной ночи торжество; разговор, текущий скупо, и как будто даже скука, но… не скука — естество.* * *
Несколько раз показывал Александру Моисеевичу свои тексты. Вот здесь – скала его натуры. Никогда не угодил и не соврал. Один раз сказал вещь важную: «Коля, попробуйте писать о чем-нибудь одном». Было у меня такое, да и есть: пишу симфонию. А он, правда, писал о сестре, которая, будучи талантлива, принесла себя в жертву сестре, потеряв на своей жертвенности и любви свой дар. Серьезное дело. Об этом сколько-то страниц текста, целый сюжет, потрясающая драма.
Читал ему как-то рукопись книги «Стая бабочек». Тоже молчал, согласно кивая головою. И вдруг на главе, где герою звонят друзья и любовницы, кто с раком, кто с внезапной беременностью или планами на отъезд, все под буквами, а заканчивается: «Звонили Э. Ю. Я.», АМ встрепенулся и сказал: «Это надо сейчас же напечатать». «Кому нужны эти три странички?» «Отдай мне. Во вторник будет напечатано». «Это не рассказ, а глава из повести. Не отдам». «Как знаешь».
Думаю, что-то его во мне не устраивало. Часто говорил: «Ты очень умный». Но с интонацией не то что неприязненной, но слишком уважительной. О Евстигнееве говорил совсем иначе: «Женя очень умный. Идем с ним в гости. Я заранее психую по поводу того, что будут спрашивать, расспрашивать. Знаменитости. А он: мы отработали день, да? Наложи полную тарелку, окуни в нее свою морду и ешь, ешь. Ни у кого язык не поднимется. Очень Женя умный человек».
Ну, вот, а я был какой-то другой умный, и это было не его. Он ценил ум не метафизический, не собственно ум, а поведение. Умное поведение. Здесь ему, возможно, не было равных.
Подарил ему «Стаю бабочек», а он на следующий день залетел в больницу. Позвонил мне: «Учусь читать по твоей книге». Просто комплимент. Это он тоже умел.
* * *
Сильный эпизод. Мы сидим у меня на даче в Комарове. Александр Моисеевич отдыхает в Доме творчества ВТО. Дорога не дальняя. Приехал на велосипеде. Были только Саня Григорьев и моя семья.
Жара страшная. Градусов тридцать. А собрались ведь выпивать. И шашлыки. И устройство дачи было такое, что сидим на самом пекле. Я вспоминаю, что в холодильнике у меня несколько бутылок чешского пива. «Так в чем же дело?» Ну, Александр Моисеевич, я же не мальчик. Кто пьет пиво с водкой? «Ничего не понимаешь. Ты вот бутылку неси, неси. Теперь открывай. Пробочку к носу. Ну, слышишь, пахнет мандариновой коркой. А ты говоришь, нельзя. Сейчас самое время».
Закончилось это так себе. Я вдруг стал уверять Володина, а Саня после чешского пива добавлял свои аргументы, что Пастернак – поэт для юношества. Так, мол, бывает. И Блок стал поэтом для юношества. В какую-то секунду, правда, так считал. И знал ведь, главное, что Пастернак его любимый поэт. Что повело?
Как он все это разыграл. «Что ты говоришь? Да, да. Надо проверить, подумать». Ни на секунду не отказался от своего поэта. Мы с Саней, однако, были в эйфории. Печальной была обратная поездка Володина на велосипеде.
* * *
Еще одна история, о которой АМ писал как-то иначе, чем рассказывал ее мне. Знаю, от той же журналистки. Текстов Володина не перечитываю, как и обещал. Как появились его знаменитые стихи.
Дело было в марте или апреле. Тепло, но снег еще идет, все в пальто и шубах. Заходит в троллейбус. Пар ото всех, дышать невозможно. Ехать надо, а жить нельзя. Невыносимо. Так и появилось это знаменитое стихотворение, уникальное по сочетанию извинительной интонации и внятной мизантропии. Весь Володин:
Забудьте, забудьте, забудьте меня, И я вас забуду, и я вас забуду. Я вам обещаю: вас помнить не буду. Но только вы тоже забудьте меня!2014
Стихи на папиросной бумаге
1
Я был школьником или только-только поступил в университет, когда у меня возникла дома эта толстая красная папка со стихами. Вернее, я купил ее за пять рублей. Опять же не помню, у кого и почему. Разве что в жадную память залетело несколько строк поэта, о котором я ничего, кроме имени, не знал. Стихи были напечатаны на дурной, желтой или даже папиросной бумаге. Пятый, слегка подтаявший, млечный экземпляр (последний эпитет заимствован, пожалуй, у Мандельштама, но об этой его стилевой заразности – позже).
Тогда мне казалось, что его стихи и должны являться читателю именно в таком виде и именно таким способом. В сущности, это чувство не прошло и по сей день. В своей полубезумной, как бред Карениной, «Четвертой прозе» Мандельштам писал, что все произведения литературы делит на разрешенные и написанные без разрешения: «Первые – это мразь, вторые – ворованный воздух». Так пусть и появляются они из рук честного, трудолюбивого вора, и в доме и в жизни того, кто готов отдать за них пять рублей из родительского бюджета и при неблагоприятных обстоятельствах получить вызов в «большой дом». А папиросная бумага пусть зло подтверждает их реально зыбкое и реально запретное существование. В то время как кирпичные тома и золоченые буквы свидетельствуют лишь о фарисейской, скалящейся улыбке власти и о подлой, безвкусной повадке коммерции всегда присваивать не принадлежащее ей.
Теперь я уже точно знал, чем буду заниматься в университете. Но все оказалось не так просто.
2
Для рассказа о следующем эпизоде я буду без специальных оговорок пользоваться своими воспоминаниями о моем университетском учителе Дмитрии Евгеньевиче Максимове.
Сентябрь, середина шестидесятых. Солнечная аудитория, слева от главной лестницы филфака. Номер двенадцать, если не ошибаюсь. Я пригласил друзей на лекцию Дмитрия Евгеньевича Максимова, обещая, видимо, некое интеллектуальное шоу. К тому же, недавно я записался в семинар по поэзии «серебряного века», и, значит, хотел познакомить всех со своим будущим учителем, с которым сам еще не был знаком.
Д.Е. говорил о стихах так, как, по нашему мнению, и нужно было о них говорить: с личным пристрастием, восторженным удивлением, и одновременно сосредоточенно, важно, будто на наших глазах, в самом акте произнесения решались не специальные филологические проблемы, но определялись судьбы и жизни. Он ушел далеко в пути постижения смыслов и звал нас с того конца дороги. Но еще дальше по этой дороге зашел поэт; догнать его невозможно, тайна не может быть явлена, отчего путешествие представлялось увлекательной игрой, безнадежность которой могла тешить только по-настоящему сильных и молодых. Мы в ту пору были молоды.
Литературной среды у меня не было, специальных научных интересов тоже. Как и многие, я уже пробовал писать стихи и прозу, но строго оберегал эту лабораторную стадию сочинительства от посторонних. Однажды только послал стихи Арсению Тарковскому. Из его утерянного письма помню рассуждение о неточной рифме у позднего Мандельштама. Смысл рассуждения был в том, что при первых опытах такие рифмы свидетельствуют лишь о небрежности, в то время, как в зрелом мастере выдают абсолютную внутреннюю свободу.
Мое тогдашнее отношение к литературе можно назвать домашним и влюбчивым. Талантливый текст легко превращал меня в своего адепта, пересоздавал на свой лад, начисто лишая исследовательского беспристрастия. У меня был филологический слух, но это был слух читателя, а не ученого, способность узнавания, а не анализа. Я внутренне сопротивлялся профессионализму и написал несколько положенных всякому студенту работ скорее по необходимости или, во всяком случае, пережил это как очень короткое увлечение и опыт.
Этим, отчасти, объясняется мое положение чужого среди своих, что в данном случае важно для понимания истории, связанной с Мандельштамом.
Д.Е. не был «академистом», обладал живым отношением к литературе, воспринимал ее как явление сущностное, а не только специальное. В разговоре о поэзии начала века выходил за круг исторически очерченных ассоциаций, прибегая к рискованным сравнениям не только из глубокой истории, но и из современности, включая музыку и театр. Однако интонационно эти сравнения всегда брались в скобки, как некая вольность и дань устному жанру. В собственных работах он был значительно строже, обращался к аналогиям только исторически оправданным и эстетически безукоризненным, доступным проверке и свидетельствующим о действительном генетическом родстве.
К работам Владимира Альфонсова, например, о взаимовлиянии живописи и поэзии Д.Е. хоть и относился с уважением, но все же считал, что в них многовато «беллетристики», то есть больше, чем позволено в науке, типологических сближений. Мне же, напротив, такой язык и такой подход к искусству, не столько филологический, сколько культурологический, был понятнее.
С годами я оценил весомость и красоту научной точности, в то же время мне чудился в ней педантизм, лишающий мысль полета и подмораживающий фантазию. Всякого рода классификации представлялись либо праздной игрой ума, либо железной клеткой, в которую пытаются замкнуть живое существо. Ракушечная окаменелость терминологии была хороша для игры в бисер, в которой предмет становился почти не важен, во всяком случае, менее существен, чем само владение научным диалектом. Я скорее подписался бы под фразой Ф.Шлегеля: «Каждое поэтическое произведение – само по себе отдельный жанр», из чего следовало, по крайней мере, что при описании и анализе его необходимо выбирать новые слова и средства. Тот же Шлегель, впрочем, говорил, что «для духа одинаково смертельно иметь систему и не иметь ее» (Из литературных записных книжек).
Значительно позже я познакомился с высказыванием на эту тему Наума Яковлевича Берковского. «Совершенно ясно, – писал тот М.В. Алпатову, – что, когда касаешься искусства и литературы, то чем более здесь проявляют „научности“, то есть чем подход здесь более смахивает на подход к предметам совсем иного значения, тем дальше от истины, от обладания ею». Он же говорил о том, что все действительные понятия обладают известной неопределенностью, в противном случае, это ложные понятия. Речь шла о романтизме.
Всё это вопросы, однако, только во вторую очередь теоретические, на практике каждый решает их самостоятельно и стихийно, согласуясь с темпераментом и склонностями ума, приноравливает стиль к естественной способности видеть и чувствовать. Но существуют при этом и требования добровольно или, в силу обстоятельств, принятого на себя жанра, в данном случае, жанра научного исследования.
Перед выбором семинара Людмила Александровна Иезуитова спросила, чем бы я хотел заниматься? Она была как бы моим тьютором (слово и понятие мне тогда неизвестные). Вот ей-то первой я и сказал о желании заниматься Осипом Мандельштамом. Объяснить мой выбор научным интересом было бы слишком самонадеянно. О судьбе поэта, повторяю, я не знал ничего, разве что прочитал абзац, ему посвященный, в «Люди, годы, жизнь» Эренбурга. Критических работ о Мандельштаме в советской прессе не было, а в спецхран «публички» допускали только по ведомственному запросу.
Руководило мной впечатление от родственного, почти биологически родственного восприятия мира. Метафора Мандельштама рождена была не зрением, не обонянием, не осязанием, не умозрением, не прививкой биографической или культурной реалии. Смысл ее был непроницаем, так же, как и природа ее появления, при этом стихотворение казалось единственно возможной формой речи, для понимания которой нужно было совершить последнее и очень важное усилие. На вопрос, каким периодом творчества Мандельштама я хотел бы заниматься, Людмила Александровна ответа не получила. Однако именно она твердо записала меня в семинар Д.Е. Максимова, сказав, что там я буду ближе всего к Мандельштаму, хотя вряд ли мне будет позволено о нем писать.
Отказом началось и наше общение с Д.Е. Сказал, смеясь и рдея от смеха, как тренер ученику, который в первое же занятие попросил установить планку на отметке мирового рекорда: «Займитесь-ка сначала Блоком, а через год-другой, будет видно. Чем черт не шутит!»
Борьба за литературную реабилитацию Мандельштама уже давно шла, на это и была, видимо, надежда (чем черт не шутит). Хотя том стихов Мандельштама в издательстве Чехова в Нью-Йорке вышел, когда мне было восемь лет, у нас поэт был по-прежнему под запретом, то есть его как бы и не существовало. Многострадальный томик в «Библиотеке поэта» выйдет через семь лет, когда я уже вернусь из армии, и я куплю его за шестьдесят рублей у спекулянта на первый гонорар от внутренней рецензии в издательстве. Тогда же у меня было ощущение, что не столько Мандельштам на подозрении, сколько я, желающий изучать его поэзию. Будто хочу пролезть без очереди к тому, к чему все давно стремятся (вот уж чего не ожидал, что к Мандельштаму очередь; мне казалось, мой выбор уникален). Будто мне предстояло еще заслужить право заниматься Мандельштамом, причем не столько профессиональными успехами, сколько идейной безупречностью. Окончательно стало понятно потом: университет – не Касталия, а государственное идеологическое учреждение, где ценится не одно только «искательное отношение мудрости к молодости, а молодости к мудрости», и что над учителем, как и надо мной, существует незримое (вполне, конечно, зримое) начальство.
Тем не менее свою первую работу я написал о Мандельштаме. Это был анализ стихотворений «Я не знаю, с каких пор» и «Я по лесенке приставной». К тому времени уже был прочитан, конечно, весь доступный Мандельштам и прижизненные статьи о нем. Книг важного для Мандельштама философа Анри Бергсона в спецхране мне так и не выдали. О материалах, изданных за рубежом, и говорить нечего. В сущности, я должен был по-прежнему опираться только на собственную интуицию и на мысли о поэзии самого Мандельштама.
Стиль работы был по-ученически эклектичен. Я пытался то заключить в образ целое впечатление («За ритмическими изменениями ощущается канон. Похоже на гекзаметр, интерпретированный легкими ребенка»), то, словно испугавшись собственной дерзости и возможного непонимания, рапортовал о своей студенческой вменяемости: «При анализе размера обнаруживается паузный трехдольник третий, и, следовательно, ощущаемый в начале канон – анапест».
Уловки эти, однако, не помогли, текст был воспринят как пример импрессионистической критики. Дмитрий Евгеньевич улыбался и был возбужден. Ему понравилась строка про гекзаметр: «Красиво». Сказал, что в такой манере пишет Самуил Лурье, который учился у него за несколько лет до того(меня) и имя которого мне тогда ничего не говорило. Вот только вопрос, из вечных: можно ли рассуждать о поэзии языком поэзии? Ему представляется это сомнительным. Получается не то, что тавтология, но наслоение одного образного ряда на другой, что нуждается в дополнительной аналитической экспертизе. Это не плодотворно. И надо еще быть уверенным, что критик обладает собственной образной системой. Хотя примеры, конечно, есть, в том числе превосходные. У тех же символистов. И очень соблазнительно. Но для себя он этот вопрос решил отрицательно.
Работа написана хорошо, однако на слух многое осталось непонятным. Не переусложнил ли автор? На его взгляд, Мандельштам написал просто о процессе рождения стихотворения, искусства вообще, о самом акте творчества. Впрочем, работа стоит того, чтобы мы прослушали ее еще раз.
В этот момент прозвенел звонок.
Звонку предшествовало еще некоторое обсуждение, которое и поглотило время семинара. Каждому выступающему полагался оппонент. В моем случае это была Т.К., сама писавшая стихи и уже водившая дружбу с московскими знаменитостями. Ее негодованиевызвало главное для меня наблюдение о поэтике инфантилизма у Мандельштама, о том, что «уворованную связь» поэт ищет и находит в детском синкретизме («осязает слух», «зрячие пальцы», «звучащий слепок»). «В поисках „уворованной связи“, – писал я, – приходится „скрещивать органы чувств“, перелетать через разрывы синтаксиса…Детскость ощущается и в выборе объекта: комар, спичка; в эпитетах, то есть в выделении преимущественных качеств: „розовая кровь“, „сухоньких трав“; в словах с уменьшительно-ласкательными суффиксами: песенка, лесенка, сухоньких…Определяемое превосходит определяющее по масштабу и значительности: воздух – стог – шапка…Шорох и звон наделены новой модальностью: „Не по ней ли шуршит вор, Комариный звенит князь?“ „…Поэтическое сознание Мандельштама перекликается с фольклорным, мифологическим…Космос обитает в окружающих предметах. „Когда понадобилось начертать окружность времени, для которого тысячелетие меньше, чем мигание ресницы“, – писал Мандельштам в „Разговоре о Данте“, – Дант вводит в свой астрономический… словарь детскую заумь“. Так же и сам он, погружаясь в астрономические проблемы, делает это, не сходя с места, как ребенок погружается в проблему бытия и небытия, ревнуя бабушку к смерти…Стих обусловливает, обустраивает космос, кладет на руку вселенную, расставляет на стуле богов, которых „осторожною рукой позволено… переставить“ …Поэт находится в поисках эмбрионального состояния мира, „ненарушаемой связи“ всего живого, поэтому „единство света, звука и материи составляют… внутреннюю природу стихотворения“ (Разговор о Данте)».
Привожу эти фрагменты, чтобы была понятна реакция на работу и Д.Е. и моего оппонента. Приговор Т.К. был суров: говорить о поэтике инфантилизма у Мандельштама, который тяготеет к одической поэзии, к классицизму, к готической архитектуре, значит, расписаться в отсутствии поэтического слуха. Этот приговор меня не столько обидел, сколько озадачил. То, о чем я писал, мне казалось очевидным. Поэтика инфантилизма, детскости была фактом, он нуждался только в объяснении, а не в спорах о его наличии. Сегодня, по моим наблюдениям, так и есть: редко кто из исследователей творчества Мандельштама проходит мимо этой темы.
Этот спор-недоразумение Д.Е. никак не прокомментировал. Видно было, что Мандельштам не территория его научных интересов, не то, что он успел обдумать и на что мог компетентно и быстро отреагировать. Мандельштама он воспринимал, возможно, глазами Блока, с долей раздражения и равнодушия, как чужое. Блок придумал даже язвительный термин «Мандельштамье». Единственный содержательный отзыв его в «Дневнике» известен: «…виден артист. Его стихи возникают из снов – очень своеобразных, лежащих в области искусства только».
Отзыв Максимова полностью соответствовал блоковской парадигме и опирался при этом на высказывание Ю.Н. Тынянова, которое я тоже приводил в своей работе, о том, что в каждом стихотворении Мандельштама есть «уворованная связь». Тынянов писал, что современный читатель стал особенно внимательно относиться к «музыке значений в стихе», к изменению «иерархии предметов» и возникновению новой гармонии, которую Мандельштам ищет и находит в «создании особых смыслов». А стало быть, ключ к поэзии Мандельштама находится в каждом его стихотворении.
Все это, несомненно, но имеет при этом слишком общий, а потому приблизительный характер. Я это чувствовал, хотя вряд ли сумел объяснить в своем анализе. Поэтому и понять этот анализ было невозможно, не будучи вовлеченным в поток подобных размышлений, еще не до конца ясных и не облеченных в терминологию (Тынянов тоже прибегал к образам, а не к терминам, иначе, что значит его «музыка значений»?). Если бы умел я выразиться отчетливей, разговор, возможно, сложился бы по иному. То есть, дело было не исключительно в стилистическом импрессионизме.
Необходимы были новые продвижения в теории познания, показывающие, что мир состоит не из отдельных вещей, а из процессов, внутри которых находится сам наблюдающий, и познание происходит не только от частного к общему, но и от целого к частному. «Разъятая научным анализом вселенная, – пишет в статье о Мандельштаме А. Генис, – опять срастается в мир, напоминающий о древнем синкретизме, о первобытной целостности, еще не отделяющей объект от субъекта, дух от тела, материю от сознания, человека от природы». Легко убедиться, что в студенческой работе я писал именно об этом, не умея, быть может, подтвердить свои ощущения широкой аргументацией. Даже понятие «детский синкретизм», введенное, кажется, Пиаже, мне было тогда не знакомо.
3
Этот эпизод из студенческой жизни оказался для меня чреват несколькими последствиями, которые я могу описать, но не сумею, пожалуй, наградить ни отрицательным, ни положительным знаком.
Стиль моего реферата или сообщения был продиктован не юношеским капризом, не расхристанностью, претендующей на художественность, и не желанием сказать оригинально. Конечно такого рода импрессионизм (определение, понятно, вполне условное) существовал, что называется, в моей природе. Но в данном случае он был впервые не только проявлением внутренней воли и личной наклонностью, но санкционирован предметом разговора, то есть стихами и прозой самого Мандельштама. Смысл этого мне вряд ли был тогда понятен. Я не столько заражен был поэтикой Мандельштама, сколько нашел в ней инфекцию, которую искал. Так или иначе, сказалось это как в будущих моих эссе, так и в прозе.
Мандельштам говорил о биологической природе стиха, отвергал всех современных ему критиков и требовал научного подхода к поэзии. Это вряд ли можно понимать буквально. Он остро сознавал, что взгляд и подходы прежней критики устарели, ей необходимо было измениться вместе с новой поэзией, «детской и убогой». Нельзя подходить к объекту биологии со слесарными инструментами. Точно также он ругал, впрочем, и прежнюю науку, считая, что расплывчатость «научной мысли ХIХ века совершенно деморализовала научную мысль. Ум, который не есть знание и совокупность знаний, а есть хватка, прием, метод, покинул науку, благо он может существовать самостоятельно и найдет себе пищу где угодно» (О природе слова).
«Где угодно», значило и в подходе к искусству в том числе. Образцы новой критики Мандельштам давал в своей прозе, ввергая, по выражению Берковского, в прозаический абзац «улицу, культурную эпоху, смену музыкальных династий – из „широкого“ факта приготовляется аббревиатура, стиснутый в малом пространстве отвар специфического» (О прозе Мандельштама).
Отвергнув символизм и обратившись к новым объектам, метод импрессионистической критики Мандельштам перенял именно у символистов. Берковский утверждал даже, что и стихи Мандельштама – «художественная критика», на темы театра, архитектуры и поэзии". Статья Берковского опубликована в 1929-м году. Сегодня мы знаем, что предметом прозы и стихов Мандельштама было отнюдь не одно только искусство (как полагал тот же Блок). Но метод был таков: из широкого факта приготовлялась аббревиатура. Метод культурологический, который он наблюдал не только у символистов, но и у Розанова, например, считая его отношение к русской литературе "самым что ни на есть нелитературным» (О природе слова).
Литература первой половины ХХ века, объявив о «конце романа», родила новый жанр, определения которому нет до сих пор, если не считать вполне безответственный и свидетельствующий лишь о растерянности термин «эссе». «Повествование, – писал в предисловии ко второму тому американского собрания сочинений Мандельштама Б.А. Филиппов, – лишенное – в старом смысле слова – фабулы, но повествование всегда многоплановое, полифонически построенное, да вдобавок еще – со старой точки зрения – „смешанного жанра“: не повесть и не очерк, не эссей и не новелла, не путевые записки и не художественная критика: все или почти все это – в одном произведении, условно носящем название „проза“».
Одна из книг Д. Максимова называлась «Поэзия и проза Ал. Блока». Педантизм ученого борется здесь с темпераментом современного исследователя. В названии раздела книги заключен уже итог компромисса: «Критическая проза Блока». Локализация предмета не снимает, однако, вопроса о правомерности понятия «проза». «Прозой» Блок называл и свои публицистические статьи, и очерки, а также дневники, которые собирался использовать в печати. Что уж говорить об этюде «Ни сны, ни явь», написанном как будто в чеховской традиции: «Мы сидели на закате всем семейством под липами и пили чай. За сиренями из оврага уже поднимался туман». Через несколько абзацев становится очевидным, что чеховская повествовательность – обманный прием символиста, у которого иной предмет и иная, по выражению Мандельштама, хватка: «Всю жизнь мы прождали счастия, как люди в сумерки долгие часы ждут поезда на открытой, занесенной снегом платформе…Усталая душа присела у порога могилы…Душа мытарствует по России в двадцатом столетии…»
Однако, назвать «прозой» всё, что Блок написал не в стихах, Д.Е. трудно. Он видит в этом проявление модернистской вольности и испытывает смущение. Работа начинается с оговорки: «Наше право называть все это „прозой“ основывается не только на том, что другого подходящего собирательного понятия мы не имеем. Когда мы условно именуем очерки и статьи Блока „прозой“, мы характеризуем их своеобразие, отмечаем их эстетическую значимость, их принадлежность к искусству, иначе говоря, подчеркиваем ту их особенность, которая не часто и не в такой мере встречается в критических и публицистических сочинениях других авторов». Как видим, определение «проза» так и не может вырваться из кавычек: только условно, только за неимением другого определения, то есть в виде исключения.
Таковым было реальное состояние научной мысли, во всяком случае, в советском литературоведении. Максимов преодолевает этот «консерватизм» в себе и одновременно борется с устоявшейся традицией. Начав с почти извиняющейся оговорки, он становится все настойчивей и определенней: «Статьи Блока за редкими исключениями – лирические статьи, в которых интуиция и непосредственное синтетическое восприятие имеют огромное значение и часто превалируют над анализом». Он отстаивает художественную самостоятельность предмета. Спорит с Ю.Н. Тыняновым, «который считал, что в создании образа Блока, поэта и человека, его проза не принимает участия», не соглашается с Д.П. Мирским, утверждающим, что «художественность» блоковской прозы «в конечном счете паразитична по отношению к стихам Блока». Нет, показывает Максимов, «когда Блок переводил образный язык своих стихов на язык прозы, он не столько заменял эти образы логическими построениями, сколько превращал один художественный ряд в другой, часто такой же художественный, а иногда почти полностью и почти без изменений переносил стиховые образы в прозу».
Это был определенный прорыв. Лирическая проза об искусстве объявлялась не просто отходами, излишками поэтического производства, не просто объяснялась особенностями личности, но признавалась самоценным художественным продуктом. Хотя окончательной решительности нет и здесь. Это сказывается в несколько механистическом моделировании процесса рождения прозаического текста: «переносил стиховые образы в прозу». Речь, как мы видим, идет не о взаимопроникновении поэзии и прозы, что было бы естественно, а о полном доминировании одной над другой, и, стало быть, о «вторичности» прозы. В то же время, собственно художественные особенности блоковской прозы, такие как «сгущенная и не всегда внятная для широкой аудитории метафоричность мысли и языка», оцениваются только как издержки символистского эзотеризма.
Мандельштам, а также Цветаева и Пастернак (характерно, что в этом списке нет Ахматовой) сделали следующий за Блоком шаг и в значительной мере определили пути развития прозы в двадцатом столетии. Лирическая проза об искусстве, о личной биографии и биографии эпохи, философская, мемуарная не только нашла свое место на полке мировой прозы, но своевольно внедрилась в чужие для нее жанры – рассказ и даже роман.
4
Первое последствие моего соприкосновения со стихами и прозой Мандельштама, а также обсуждения на семинаре, было для меня важным. Я ощутил свободу, утвердился в поиске, ветерок чернильных суждений уже не мог свалить меня с ног. Стихи и проза Мандельштама образовали горизонт, то есть обозначили направление с вечно недосягаемой целью. Эта обретенная уверенность позволила мне выпустить первую книгу о Блоке в том виде, в котором она была задумана, несмотря не столько на сопротивление, сколько на недоумение редакции. Книга, кстати, понравилась Дмитрию Евгеньевичу, и он даже написал мне рекомендацию в союз писателей, отметив, кроме прочего, ее прозаические достоинства. В письме к своей английской корреспондентке АврилПайман он выразился, правда, несколько осторожней: «Посылаю книжку моего быв. ученика Н.Крыщука о Блоке. На мой взгляд, в ней – художественное дарование (признаки его), смелость…»
Книгу эту между тем нельзя назвать научным исследованием. В ней то самое смешение жанров, о котором говорил Б.А. Филиппов в американском томе Мандельштама.
С перспективой научной работы было покончено в сущности уже на том семинаре. Колебания, конечно, оставались, для их ликвидации требовался какой-то внятный жест, необратимой поступок. И после окончания университета, получив рекомендацию в аспирантуру Пушкинского Дома, я ей не воспользовался, а ушел отбывать положенный год в армии.
Писать мне приходилось потом в разных жанрах, писал в том числе эссе, в том числе о литературе – обо всех, кроме Мандельштама. На эту тему существовал какой-то запрет, который мне до сих пор трудно объяснить.
Читал я его постоянно, но как человек, имеющий дело с сочинительством, а не как филолог. Филологические догадки, конечно, возникали время от времени, однако я их даже для памяти не заносил на бумагу. Многие из этих догадок встречал потом у других, испытывал, конечно, легкую досаду, как обворованный на небольшую сумму гражданин, но не более того.
Из научного гнезда я выпал давно, добровольно и окончательно. Писать о Мандельштаме в паузах между другими литературными заботами я не решался. Он требовал честной и длительной сосредоточенности. По-настоящему, ему следовало посвятить жизнь. Многие так и поступили. Что же мне пристраиваться к ряду этих достойных людей со своими эпизодическими дилетантскими откровениями.
Помню, еще в разговоре с Дмитрием Евгеньевичем я пытался сравнить стиль прозы Блока и Мандельштама со стилем Герцена. Соединение в одном обороте эмблемно исторического и индивидуального, а у Блока и Мандельштама еще и метафизического, рождало особого рода метафору, которую, очень приблизительно, можно назвать культурной или интеллектуальной. Максимов засмеялся со своим шумным носовым вдохом, но был, кажется, доволен, по крайней мере, тем, что кто-то думает в этом направлении. И вот, спустя лет двадцать, нахожу похожие рассуждения в книге Александра Гладкова «Поздние вечера». Гладков, правда, сравнивал прозу Герцена не с прозой же, а со стихами Мандельштама, воспользовавшись примером того, что генеалогию поэзии Ахматовой сам Мандельштам выводил из русского психологического романа: «Если поискать подобного рода сравнение для его стихов, то первым приходит на ум Герцен. Ни у кого другого нет такой способности к сверкающим ассоциативным столкновениям, такого чувственного весомо-грубо-зримого ощущения духовной культуры, такого живого, пульсирующего здоровой, разночинной кровью историзма».
Если бы не совпадение (единственное, встретившееся мне в этом пункте), я бы от этого пассажа Гладкова отмахнулся. Слишком литературно, слишком общо и неточно. Правда, и в моих давнишних рассуждениях была похожая приблизительность. Но в данном случае меня укололо: значит, в этом что-то и правда есть! С другой стороны: ну да, что-то есть. Типа: в вас что-то есть. На такую барскую похвалу обычно хочется ответить: или нет. Или есть, но не то. Так что: следует либо браться за дело, либо кончать попусту сотрясать воздух, который не по-мандельштамовски «дрожит от сравнений», а фельетонно захламлен ими. В настоящее же время эта мысль только так – полено для розжига.
Иногда, впрочем, бывало жаль упущенного первенства. Хотя речь обычно шла всего лишь о маленькой детали или недоказуемой, как и обычно при разговоре о стихах, версии. Возьму, пожалуй, одну из таких. Наудачу.
«С миром державным я был лишь ребячески связан…» Строфа вторая:
С важностью глупой, насупившись, в митре бобровой Я не стоял под египетским портиком банка, И над лимонной Невою под хруст сторублевый Мне никогда, никогда не плясала цыганка.Я давно знал, что в этих четырех строках присутствует не названный Блок. Давно, и только ждал случая, чтобы поделиться с читателем. И вдруг в замечательном эссе Самуила Лурье: «Полстрофы – как бы кисти Серова /…/ А другие полстрофы – не с чем сравнить, но нельзя забыть, – потому что ветер с моря, и бубен лязгает, – и тяжелое дыхание нетрезвых, праздных, безумных, – и чуть ли не Блок в их толпе…»
Самуил Аронович тему не развивает и доказательств не ищет – эссе о другом. Просто поделился догадкой, явно ею обрадованный. Но можно ведь попробовать и развить.
У Лурье речь о последних двух строках. Теснота пребывания стихов в памяти, как в камере, от пробуждения и переворачивания одного ведет к пробуждению даже самых дальних. Первым поворачивается, конечно, блоковское: «А монисто бренчало, цыганка плясала И визжала заре о любви». Пробуждается и спрятанный в строках Мандельштама упрек: перед Блоком плясала, и он даже счел нужным поделиться с нами; не чувствует, сколько в этом важном, публичном созерцании скрыто самодовольства и символистской пошлости. Он там стоял, а я нет.
Блок наследовал литературно и кровно ХIХ век, потому и цыганка у него эта не единственная. Еще:
Когда-то гордый и надменный, Теперь с цыганкою в раю, И вот – прошу ее смиренно: «Спляши, цыганка, жизнь мою». … То кружится, закинув руки, То поползет змеей, – и вдруг Вся замерла в истоме скуки, И бубен падает из рук.Кстати, бубен в реплике Лурье из этого стихотворения Блока (скрытая отсылка), в стихах Мандельштама его нет. И, конечно, зима и заря (Лурье: «Измятый снег, залитый вечерним закатом…»). И заря непременно вечерняя. У Мандельштама: «над лимонной Невою». Сама же зима обозначает себя «митрой бобровой».
Так стежками зимы скрепляются первая и вторая части строфы Мандельштама будто в одну сцену. В содержательном смысле это действительно одна сцена, а потому и в первых двух строках чудится присутствие Блока. Хотя жесткая синтаксическая конструкция «я не стоял» – «мне не плясала» к этому, конечно, не обязывает.
Но сначала еще о цыганке. У Мандельштама она и возникла не из уличного наблюдения, а из стихотворения Блока. Иначе, что бы вдруг заговорить, что ему никогда не плясала цыганка. Вопрос: а кому плясала? Ответ: Блоку. Мысль о Блоке присутствовала несомненно еще в бродильном растворе стихотворения, до первых, быть может, строк. При расчетах с прошлым его имя было из важнейших для Мандельштама. Стихотворение о детской надсаде, горе, обиде, отчуждении:
С миром державным я был лишь ребячески связан, Устриц боялся и на гвардейцев смотрел исподлобья — И ни крупицей души я ему не обязан, Как я ни мучил себя по чужому подобью.Возможно, Блок по широкой дороге обиды попал в стихотворение с зимней фотографии 1911-го года. В зимнем пальто и в шапке, так напоминающей митру. И выражение значительности на лице. Вряд ли, конечно, позировал он Серову для портрета мецената, но волна обиды ведь уже пошла, и Блок уже есть в замысле, то есть, внутри этой волны.
Стихотворение не научный отчет, не исторический очерк на тему, например: «Основные социально-политические черты царской России накануне революции». Но так закрепилось, что под «египетским портиком» стоял именно меценат, воротила, новый русский. А что следом за этим идет цыганка из стихов Блока, а не из уличного наблюдения никого не смущает. И что на воротиле епископский головной убор, надеваемый при полном облачении – тоже. Ну, тут еще понятно: сатира. Потому что епископ при полном облачении вряд ли мерз на глазах прихожан. Блок мог, но тоже – с чего бы? Все это пустое. Социальная характеристика портрета, так же как и топонимика различаются сквозь замерзшее стекло.
Существует, однако, еще одна версия, гораздо более содержательная, чем версия о меценате: в «митре бобровой» показан важный для акмеистов, и для Мандельштама в том числе, русский философ Константин Николаевич Леонтьев. Андрей Арьев первым отметил, что стихотворение (1931) написано в год столетия философа. Он же приводит цитату из «Шума времени», где дан поразительный по сходству со стихотворением портрет: «Под пленкой вощеной бумаги к сочинениям Леонтьева приложен портрет, в меховой шапке-митре – колючий зверь, первосвященник мороза и государства».
Отличие, конечно, тоже бросается в глаза: у «колючего зверя» вряд ли могло быть чисто человеческое выражение «важности глупой». Кроме того, как замечает сам Арьев, Леонтьев для Мандельштама не был развенчанным пророком, но оставался фигурой актуальной. В сущности, поэт жил в том мире, который был предсказан и описан философом. Почему бы ему оказаться в ряду тех, кого автор стихотворения отвергает? Блок гораздо больше подходит на эту роль, хотя бы потому, что Мандельштам принадлежал к поколению преодолевших символизм. Но были причины и более глубокого, интимного, психологического свойства, что опять же больше соответствует тональности стихотворения. Согласимся на то, что высказываемая мной версия является психологическим, бессознательным подтекстом стихотворения и в этом качестве сосуществует с утвержденным портретом Леонтьева. Поэтому вернусь к ней.
Интересно, видел ли Мандельштам ту фотографию Блока? Впрочем, что гадать, когда они могли просто встретиться на улицах зимнего Петербурга, и Блок был именно в этом головном уборе. Да и это не столь важно. Блок принадлежал к тому «взрослому» Петербургу, о котором стихотворение. А насупленным, стоящим на ступеньку выше, скрыто раздраженным Мандельштам мог его видеть не раз. Вот, например, строчки из «Записных книжек» Блока: «Вечером почему-то… приходил Мандельштам. Он говорил много декадентских вещей, а в сущности, ему нужно было, чтобы я устроил ему аванс у Горького, чего я сделать не мог». Отказ в способствовании получению денег – знаковый эпизод для памяти вечно уязвленного Мандельштама.
Есть в этой части строфы и еще одна говорящая деталь: «египетский портик».
Предполагаемый адрес нашел я в эссе Алексея Пурина – Большая Морская. Но, что важнее, Пурин, как и я, считает, что бытовые реалии не самое главное в этих стихах: «Между прочим, „египетский портик банка“… отчетливо корреспондирует с монументально-египетскими барельефами Азово-Донского банка, выполненными скульптором Кузнецовым. Прочтем эти мандельштамовские стихи непредвзято – увидим: дело здесь, разумеется, не в соблазне финансового могущества, не в бобровой азиатской митре предпринимателя-нувориша, не в крупнокупюрном хрусте и не в пляске цыганки.
Все это, скорее, претензия к литературе – например, к Блоку. Или к Ахматовой – с ее „устрицами во льду“. Претензия к литературному романтизму, граничащему с душещипательной „водочкой“ бытописателей и лакейскими „ананасами“ футуризма… Претензия к массовой культуре – даже в таком благообразном, как у Ахматовой или у позднего Пастернака (хвоя в новогоднем салате, „всех водок сорта́“, „музыка во льду“ – чем не „устрицы“?), облике…»
Да, добавлю я, еще обида на «взрослых», которые в этом державном мире кушали и выпивали, для опрятности и благообразия пользуясь салфеткой романтизма. И Блок, конечно, Блок прежде всех.
Поэтому и египетский портик – не только каменные барельефы Кузнецова. Быть может, портик только удачно скрепился с прилагательным «египетский»: именно этот звук просился в строку назойливо и самостоятельно.
Потому что Египет это тоже момент размолвки с Блоком. У Мандельштама в «Египетской марке»: «милый Египет вещей», одна из его утопий предметно обустроенного рая. В стихотворении «Египтянин», например:
Я выстроил себе благополучья дом, Он весь из дерева, и ни куска гранита… … В столовой на полу пес растянувшись лег, И кресло прочное стоит на львиных лапах. Я жареных гусей вдыхаю сладкий запах — Загробных радостей вещественный залог.Именно здесь он находит вожделенное «телеологическое тепло» вещей, обещающее одомашнивание бытия через быт, поэтому так важна для него, в частности, философия Бергсона.
У Блока Египет – это восковая Клеопатра в паноптикуме и Снежная Дева, которая «пришла из дикой дали», и «родной Египет» снится ей и «сквозь тусклый северный туман». Египет и север здесь словно мужская и женская рифма к вариантам страсти. Кроме заказной пьесы «Рамзес» 19-года, все стихи Блока, в которых есть мотив Египта, а также очерк «Взгляд Египтянки» так или иначе связаны с любовной темой, которая у Мандельштама появится уже в третьей строфе обсуждаемого стихотворения, и именно как причина «надсады и горя».
Тут может быть самое главное – блоковский и мандельштамовский сюжеты с женщинами, реальный и литературный. Что может быть более несходного? Блок – певец Прекрасной Дамы, поклонник актрис, рыцарь, «потомок северного скальда», Дон-Жуан, соблазнитель, завсегдатай борделей, романтик и циник. И мучительный Мандельштам, городской сумасшедший, выбиравший Ахматову в конфидентки при каждой новой влюбленности. Писавший жене письма, напоминающие всхлипывающий, умильный стиль Макара Девушкина: «Родная моя Надинька, у меня все хорошо. Сейчас еду в Детское. Детка моя, не жалей на себя ничего – у меня хватит денег на мою родную. Надюшок мой Надик, как тебе там на пустом берегу? Пиши мне подробно-подробно. Няня твой всегда с тобой». Ахматова вспоминает: «Осип любил Надю невероятно, неправдоподобно. Когда ей резали аппендикс в Киеве, он не выходил из больницы и все время жил в каморке у больничного швейцара». Сравним еще отношения с женщинами его двойника Парнока: «С детства Парнок прикреплялся душой ко всему ненужному, превращая в события трамвайный лепет жизни, а когда начал влюбляться, то пытался рассказать об этом женщинам, но те его не поняли, и в отместку он говорил с ними на диком и выспреннем птичьем языке исключительно о высоких материях».
Все это требует отдельного разговора. Интересно понять, в частности, в каком соотношении здесь находятся между собой претензии литературные и чисто человеческие, в данном случае мужские. При всех литературных претензиях к нему, Блок всегда оставался для Мандельштама поэтом несомненной высоты. Так, закончив стихотворение «Нынче день какой-то желторотый…», О.М. по свидетельству Н.Я. Мандельштам сказал: «Блок бы позавидовал», вероятно, вспомнив: «Когда кильватерной колонной вошли военные суда». У Мандельштама: «Тихий, тихий по воде линялой Ход военных кораблей». Сравнение шло постоянно. Но на этом поле они играли все же одну партию и были равны. Сравнения по жизни, надо полагать, были жестче и болезненней.
5
Если представить, что Мандельштам именно на этих смыслах построил стихотворение, то все это кажется малоправдоподобным. Рационализм есть во всяком толковании, он смущает даже в работах крупных ученых. В одних случаях это толкование упрощенное, стирающее метафору до расхожего суждения, в других – поэту навязываются значения, которых он вполне возможно не имел ввиду.
Навязывать, разумеется, ничего нельзя, как ни за одну версию нельзя поручиться, что она последняя. Важно только, на мой взгляд, понимать, что стихотворение не строится, а вырастает, и процесс этот неуследим, в том числе, для самого поэта. Поэтому мы и не можем быть уверенными в том, что верно отсканировали этот рост. Физики говорят, что в квантовой механике можно проанализировать процессы неопределенности, но вообразить их практически невозможно (поле, волна, частица приравнены). В поэзии же и для анализа не существует точных инструментов, и ученые, уважительно ссылаясь на работу коллеги и частично сходясь в аргументации, нередко выстраивают концепцию полярного толкования текста.
Кроме того, точный инструмент, какими представляются некоторые методы, близкие к математике, точны только в пределах поставленной задачи, драгоценные особенности текста являются лишь рабочим материалом. Поэт остается неузнанным. Таким делом могут заниматься и люди, полностью лишенные поэтического слуха. Выяснить это легко, как только они, отложив инструменты, заговорят своими словами. Для них текст не горяч, он давно остыл, тут самое время ударить себя по пальцам, которые тянутся к перу. Но – профессия, каменный лик которой символизирует былую страсть. То, что у героев являлось фамилией, у них – название профессии: Мандельштам, Пушкин, Бродский. Специалисты узкого профиля.
Однако и эмоциональный подход таит в себе опасность невольно внести в чужой текст свой способ думать и воображать, свой опыт, то есть впасть в субъективность и произвол. Об этой опасности предупреждают обычно при изучении этноса. Как бы тщательно мы ни реконструировали историческую обстановку и психологию, привнесение исторически и индивидуально своего, приводящее к аберрации, неизбежно. Предупреждение не запрет, конечно, но призыв: «Осторожно!»
В сущности, каждое исследование – это реплика в нескончаемом разговоре, после которой ракурс взгляда на предмет смещается на долю градуса. Мандельштам, таким образом, по закону дальнего собеседника формирует свое сообщество, свою референтную группу. Быть может, группы, собранные таким способом, сегодня наиболее устойчивы, действенны и содержательны и пока еще не подпадают ни под какой юридический закон.
Вот, между прочим, буквальная иллюстрация к этому несколько прекраснодушному утверждению. Четыре года назад вышла книга: Осип Мандельштам «Египетская марка». Пояснения для читателя. ОГИ. Москва. 2012 (составитель О. Лекманов и другие). Замечателен способ составления книги. В Живом журнале было создано сообщество, в котором день за днем вывешивались фрагменты повести с подробными объяснениями. Они обрастали новыми примечаниями, некоторые из которых переносились в итоговый вариант книги.
А реплики каких замечательных собеседников, если продлить идею сообщества, так или иначе звучат в книге: Тынянов, Аверинцев, Жолковский, Гаспаров, Тарановский, Лидия Гинзбург, Тименчик, Омри Ронен…
6
Трагедия была далеко. Оставалось еще более двадцати лет до того момента, когда чужие люди войдут в его дом, будут ходить по выкинутым из сундучка рукописям, а потом увезут в неизвестном направлении. Девятнадцатилетним юношей он как будто предчувствовал этот момент.
Как кони медленно ступают, Как мало в фонарях огня! Чужие люди, верно, знают, Куда везут они меня.Впрочем, везли его, конечно, не в карете, а в известном всей стране «воронке», и не ночью, а уже под утро. А потом, спустя годы, везли в далекий, как оказалось, последний путь в эшелоне, набитом зеками. Главное же, в те далекие годы он еще легко доверялся этим чужим людям, легко отдавался им, как может только ребенок.
А я вверяюсь их заботе, Мне холодно, я спать хочу. Подбросило на повороте Навстречу звездному лучу.Детскость, ребячливость, потребность прислониться. Так немного ему было надо от быта. Он обещал согреться спичкой. Более злой шутки придумать нельзя, как бросив его в объятия чванливо-бесцеремонного, бесноватого режима, а потом и ГУЛАГа.
Кажется, что от одиночества и его тоска по мировой культуре, «цитатная оргия», желание вернуться в до-бытие («И много прежде, чем я смел родиться, Я буквой был, был виноградной строчкой, Я книгой был, которая вам снится»). Мольба об имени – от этого. После себя надо оставить совершенные формы. Причин этой раритетности не поняла молодая Лидия Гинзбург.
Куда никогда ему не хотелось вернуться, так это в косноязычную пустоту, в «хаос иудейский» своего детства. «Семья моя, я предлагаю тебе герб: стакан с кипяченой водой. В резиновом привкусе петербургской отварной воды я пью неудавшееся домашнее бессмертие».
Страх Бога, страх судьбы, страх смерти. На мгновенье отчаяния он готов был представить раем даже колхоз и улицу. Приодеться и истереться до облика случайного прохожего: «Смотрите, как на мне топорщится пиджак, Как я ступать и говорить умею!» Не понимал, что так распознают легче всего.
По-верблюжьи запрокинутая гордая голова.
Может быть, ему и Зощенко нужен был для того, чтобы проникнуть в смысл «трамвайных перебранок»? И в роковом стихотворении он ведь сердится, ругается, выбирает слова покрепче (глазища-голенища), а в памяти возникает страшилка Чуковского.
Тогда в мае 34-го Пастернак отправился просить за Мандельштама в «Известия» к Бухарину. Ахматова бросилась в Кремль к Енукидзе. За что? Никто не понимал. Первым, аппаратным своим умом сообразил Енукидзе. Спросил вежливо: «А может быть, какие-нибудь стихи?»
Во время ареста за стеной играла гавайская гитара.
«…У него были ложные воспоминания: например, он был уверен, что когда-то, мальчиком, прокрался в пышную конференц-залу и включил свет. Электричество хлынуло таким страшным потоком, что стало больно глазам, и он заплакал» (Египетская марка).
2016
Теория точек Литературное отступление из ненаписанных воспоминаний о Самуиле Лурье
К слову… Еще где-то в начале наших встреч мы с Саней уговорились, что будем оставаться на «Вы». Все уже не раз перепьют друг с другом на брудершафт, изфамильярничаются вдребезги, а мы останемся, как в первый день знакомства. Идея была правильная. Меня часто коробило тыканье со стороны людей ему не близких, а то и неприятных. Исключение – друзья юности.
Письма из Пало-Альто. Жили в одном городе, поэтому письма были редкостью. Разве что прислать любопытное видео, актуальную цитату, обменяться текстами или о чем-нибудь напомнить. Пошли письма уже из Пало-Альто. Интонация общения С.Л., попутных замечаний и рассуждений, настроение, каждодневная борьба с болезнью в пользу жизни и литературы в них хорошо видны. А также пробившаяся в слово мелодия отношений, которая до того старалась обойтись без слов. Фрагменты из писем С.Л. пройдут сквозь этот текст.
… завтра у меня начнется химия, и какое-то время, говорят, мне будет трудновато общаться, в том числе и письменно. Так что не волнуйтесь, если возникнет пауза. Я и это письмо откладывал до наступления полной ясности. Полная – не наступила, но все-таки можно оценить шансы.
Они не так плохи. В частности, сегодня выяснилось, что мозг пока не затронут. На что никто особо не надеялся, потому что мне досталась особо коварная разновидность: распространяется очень быстро и первым делом бросается в голову. Таким образом, лечение начинается вовремя, и шансы есть…Хотя не очень большие: выздоравливают 20 процентов. Из остальных многие получают возможность провести в терпимом и рабочем состоянии года два. Это не так мало, как мы с Вами понимаем.
О прозе. Природа игры и природа совести таинственны сами по себе. А уж то, как они сплетались и были завязаны узлом в Самуиле Лурье, вообще трудно поддается описанию. Артистизм был и в составе его деликатности, и в тонком ритуале обольщения, и в умении, не обидев, сказать в глаза трудную правду или, напротив, вложить пощечину в лукавый комплимент.
Всё, в чем не было умного изящества, представлялось ему не просто свидетельством бесталанности, но следствием бессовестности и небрежного отношения к жизни. Про себя говорил: «главная в жизни страсть – чтобы текст был хороший». Какая связка, заметьте: страсть – текст. Связка, знакомая всякому истинному поэту (строки Пастернака и Мандельштама просятся и в эту строку). Об одном известном литераторе С.Л. как-то сказал, что было явной автохарактеристикой: пишет статьи и прозу, а живет, как трагический поэт.
Итак, страсть, совесть, смысл, игра – природа одна. К примеру, С.Л. любил футбол и знал в нем толк. Любил изобретательность, ум, смелость, комбинацию. Быть может, несколько литературно. Потому и судил по тем же правилам, что и беллетристику. Красиво играют, техника, остроумные передачи, но как только подходят к воротам – забыли, зачем пришли. Озираются, как эскимосы в парной.
Наши тоже: столько накрутят литературы, и неплохой, неплохой, ничего не имею против. И так называемый интеллект. Только не помнят, ради чего бежали.
Тема прозы для Лурье – особая, поскольку находится внутри авторской претензии. Фрида Кацас, в советские еще времена, заказывая внутреннюю рецензию на рукопись Лурье, просила подчеркнуть, что мы имеем дело с прозой. Думаю, это была их совместная с автором просьба.
В предисловии к книжке своего аватара С.Гедройца Самуил Лурье в легкой, как и полагается, манере заметил: «Он, видите ли, старается писать критику – прозой». А вторая книжка С.Гедройца «Гиппоцентавр» носит вполне прозрачный подзаголовок: «Опыты чтения и письма».
Чуть ли не на второй-третий день нашего знакомства я от него услышал: интересно, кто может заставить меня прочесть хоть страницу бессюжетной прозы? И в эти же дни: я не могу писать прозу: «Он вошел, прикрыл за собой дверь, сел на стул спиной к окну…» Нет, нет! Из стыда не смогу.
В 90-е годы Самуил Аронович предложил мне напечатать в «Неве» повесть «Короток твой дар, милая…», которую слышал до этого в устном исполнении. Мгновенно поставил в номер. Но – ни слова о тексте. На следующий день я спросил, значит ли это что-то? Он ответил: не поверите, всю ночь из-за этого не спал. С тем же вопросом: почему ничего не сказал? Дело в том, что две недели назад я уничтожил текст, один к одному похожий на Ваш. Свой уничтожил, а Ваш печатаю. Не знаю, как объяснить.
Этот разговор, как многие, многие, остался без завершения. Уничтоженная им проза, что легко вывести из ее сравнения с моей, была бессюжетной. Но главное, скорее всего, в другом: Лурье прельщала и ему же претила исповедальность. Особенно в ее душевном изводе. Ахматовское «Весь настежь распахнут» – точно не про Лурье. Потому и к мемуарам относился с опаской – слишком много автора. На соображение, что без этого нельзя написать ни строчки, отвечал молчанием. Про себя говорил: как мемуарист – я ноль. И действительно не написал ни строчки. Думаю, просто отрезал от себя этот соблазн.
Мемуарист должен быть кем-то вроде тайного агента, писать честный, анонимный отчет о своих наблюдениях. Только факты. Но все хотят быть свободными художниками, то есть толковать о своем и о себе. Таков примерно ход его рассуждений. Помня об этом, пишу, изымая из текста всё, что касается наших долгих отношений, всё, что может показаться чувствительностью. Песня умирает в горле.
Речь Сани не закавычиваю. Как он расстраивался, когда устно или письменно его цитировали! Как будто, стало быть, ручаются, а при этом всё вранье. За точное воспроизведение речи не ручаюсь, пишу, как помню. И только о литературе.
По поводу прозы: это были, конечно, мучения больше автора, чем критика. Прозу свою он все же изобрел, блистательную. Вернее, попал в нее, сразу, как будто с ней родился. И она с годами менялась, как свойственно прозе, а отнюдь не критике. Это был, я думаю, в нашей прозе-критике «случай Жуковского». Автор скрыт за чужими текстами и персонажами. О Лурье, читателю известно меньше, чем об С.Гедройце. Зато уж тут исповедальность небывалая, какая возможна только в лирических стихах.
Не раз сталкивался с резким неприятием некоторых эссе Лурье. Таких, например, как о Блоковской «Клеопатре» («Самоучитель трагической игры») или о Тютчеве («Тютчев: послание к N.N.»). В последнем, как мы помним, речь о том, что «грамматика Тютчева упорно, ценою тончайших ухищрений уклоняется от употребления глагола „любить“ в первом лице единственного числа». Клевета на гения! Как можно!? Но ведь это о себе, пытался возражать я. О Блоке и Тютчеве, разумеется, но еще и о себе. Ответ: вот пусть о себе и пишет.
Что сказать? А Пушкин не оклеветал ли Сальери? А Жуковский не украл ли произведения Шиллера и Грея? А Тынянов, обнаруживший в Грибоедове или приписавший ему собственные черты? Есть замысел, есть жанр. В угоду им сжигается много жизненного материала. Самуил Лурье изобрел жанр собственного имени. Так или иначе, с этим теперь придется считаться. Если же в основе доказательства лежит грамматика, – тем более.
…Медицина здесь – человечна. Я ведь в университетской клинике, принимающей больных любого уровня достатка со всей округи. Областная для бедных как была в 19 веке клиника Московского университета. И здесь все заточено на одну идею: чтобы человеку было как только можно легче, потому что он – каждый – заслуживает сострадания и заботы. Так жаль наших родителей. И всех, всех. А как я все это переживаю, дорогой Коля, про это напишу как-нибудь отдельно.
…Лечение выдерживаю. Живу практически на курорте. Замечательная природа, погода, еда. Видеозапись, где мы поем про Кейптаунский порт, меня тоже немножко тронула.(Видеозапись Даниила Коцюбинского с дня рождения Леонида Дубшана. – Н.К.)Текст про Кармен я оборвал где пришлось – потому что Андрей(Андрей Арьев, соредактор журнала «Звезда» – Н.К.) действительно задержал из-за него номер. Послал ему, посылаю и Вам, хотя тема раскрыта лишь процентов на 60. Но это было просто физическое упражнение для отравленной головы, чисто личная медитация. Впрочем, если такое приличное состояние, как сейчас, продлится еще хоть несколько дней, – может, и допишу (хотя бы для себя).
Проза (продолжение). Но было и еще в отношении Лурье к прозе противоречие – не противоречие, – особенность. К так называемой серьезной прозе относился с подозрением, предпочитая ей беллетристику. Недолюбливал Пруста и Музиля. Над многоумным Умберто Эко издевался: «… через каждые, предположим, десять страниц герой романа должен перекусить, или прогуляться, или справить нужду, и не машинально, а с чувством. Цитируя чьи-нибудь стихи (оставим ему на эти случаи т. н. книжную, как бы чужую память), афоризмы. Вообще, размышляя как можно глубже. Чтобы читатели устыдились испытываемой ими скуки. Чтобы поняли: их кормят отборной философской прозой – с подливкой из утонченнейших пейзажей, между прочим, – и нечего тут.
…Выделить – копировать – вставить. Выделить – копировать – вставить. И опять перерыв: телефонный разговор, или сновидение, или с прислугой поболтать – мало ли стилистических средств».
Легко разоблачая механику подобных текстов, охотно признавался, что подобная неприязнь и непонимание – его недостаток: столько достойных людей перед этими писателями преклоняется.
Из Штатов попросил меня прислать что-нибудь из прозы. Я послал рассказ. В ответ получил: «Большое спасибо за текст. Мне в нем нравится все, что проза. А беллетристика (логика событийной комбинации) не увлекает, жаль. В последнем романе Вы этот внутренний конфликт, мне кажется, преодолели».
Тяга к беллетристике («логике событийной комбинации») внятно ощущалась в его собственной прозе. Первая проба повествовательности была, конечно, в «Литераторе Писареве». Но и во всех вещах последнего десятилетия это стремление чувствовалось, вплоть до «Изломанного аршина» и «Меркуцио». Однако природа его дара была все же в другом.
Он умел дать эмблему судьбы, в которую были заключены и характер героя, и его эпоха, и поэтика. Чего стоит одна строчка о Данте, который всегда был повернут к эпохе в профиль. Несомненное родство с прозой и стихами Мандельштама, отчасти с прозой Герцена (и о том, и о другом пойдет речь в беседе, фрагменты которой я приведу ниже). Как и Мандельштам, по определению Берковского, Лурье «намеренно сокращает дистанцию между культурным фоном и фигурой, помещенной на этом фоне, – поэтому связь того и другого ощущается более конкретной и конкретнее становится сам фон». И, конечно, он также в своих историко-культурных опытах «действует не как теоретик, а как поэт».
И еще Берковский о Мандельштаме и, как мне видится, о Лурье: «Мандельштам работает в литературе как на монетном дворе. Он подходит к грудам вещей и дает им в словах „денежный эквивалент“, приводит материальные ценности, громоздкие, занимающие площадь, к удобной монетной аббревиатуре».
Бытует мнение, что для Лурье после Гоголя, Достоевского, Тургенева и Толстого литература как бы не существует. И другое, принадлежащее, кажется, Виктору Топорову: Лурье не признает литературы после Бродского. Оба суждения, мне кажется, критики не выдерживают. Но резон в них все же есть.
Нужно еще подумать и сообразить, почему Лурье за долгую литературную жизнь не откликнулся почти ни на одно из достойных имен (о прозаиках средней руки писал). Но ни строчки о Трифонове, например, Шукшине или Казакове. И С.Гедройц писал хвалебно по большей части о книгах исторических и документальных, о мемуарах и исследованиях.
Чехов. Были, конечно, свои пристрастия и антипатии. Так практически ничего не написал о Чехове. Только о том, что герои его, мечтающие о счастливой жизни через триста лет, через пятнадцать столкнулись бы лоб в лоб с большевиками. Я не раз говорил ему полушутя, что у него остается долг перед Чеховым. Чаще всего отмалчивался. Однажды только сказал совершенно в Чеховской, между прочим, манере: если бы понял, зачем Старцев поехал по записке Котика на кладбище, непременно написал бы.
Санина жена Эля рассказала, что незадолго до смерти он попросил читать ему вслух всего Чехова. В конце сказал, что и на этот раз ничего не получилось. Так и не сумел полюбить.
…на людей, подвергающихся лечению вроде моего, время от времени накатывает fatigue (мед. термин здешний) – смесь хандры и лени, по-русски обломовщина. Руку не поднять, шагу не шагнуть, слова не вымолвить, не то что написать. Это я так прошу прощения за паузу в переписке…Мыслей у меня стало мало. Наблюдаю жизнь белок, галок и соек. Сойки – синие. Галки – черные. Белки тоже чаще черные, но есть и серые, и светло-дымчато-коричневые. Белки между собой перемяукиваются, а не только перещелкиваются. И галок нисколько не боятся. Дела мои объективно нехороши, а субъективно – неплохи. К зиме, надо думать, эти линии сойдутся и выберут общее продолжение.
… Живу как большая больная собака – от кормежки до кормежки, в промежутке полусон. О работе можно думать (скорей мечтать) в начале третьей недели после сеанса химии, когда наступает просветление, – но тут-то и наступает время сеанса следующего. Все рассчитано чуть ли не по часам. Но вот как раз сейчас передышка, и я строю разные мелкие планы – как разберусь со старыми текстами, и т. п. Однако дети считают, что я должен, не поддаваясь болезни, жить интенсивно, – и вот, например, сегодня повезут в оперу Сан-Франциско на «Фальстафа». В сущности, все похоже на обыкновенную мирную старость. Только наступившую слишком внезапно.
Уместность и правда. Сын филологов, запойный читатель в детстве и юности (а что еще было делать, говорил, в сталинской коммуналке?), он ощущал художественный уровень «золотого века» как норму и одновременно эталон. Чувство уместности и правды, вплоть до бытовых мелочей и психологического обоснования даже незначительных сюжетных ходов, было развито в нем чрезвычайно. Лурье проверял произведение, возвращая его в плотность исторической и бытовой повседневности. Недаром в «Иронии и судьбе» уделяет столько времени изучению Придворного Календаря 1772 года, показывая, почему Петруша был отправлен именно в Оренбург и почему отправился в дорогу не ранее 2 декабря: иначе не мог бы встретиться в Оренбургской степи с Пугачевым, который объявился там лишь в конце 1772 года. Так же подробно выясняет денежные обстоятельства Макара Девушкина. Сверяет бытовую подлинность событий в «Медном всаднике» с документами и воспоминаниями и не без удовольствия указывает Пушкину на ошибку. Всё по-честному: ведь предупреждает автор в предисловии, что «происшествие, описанное в сей повести, основано на истине», а подробности «заимствованы из тогдашних журналов». Надо проверить. «Тут единственная в МВ недостоверность, по-современному сказать – лажа. Разумею встречу с беззаботным перевозчиком. Неоткуда было ему взяться, – нелепо было и звать, – и лодок целых не осталось. И чрезмерная все-таки беззаботность (если только это не был Харон): такие волны, такой ветер, и хоть глаз выколи, ни единого ориентира. Как бы ни был нужен гривенник». В эссе «Гоголь, Башмачкин и другие» Лурье внимательно читает «Полный месяцеслов», чтобы изобличить шутку Гоголя, заставившего родителей назвать своего сына Акакий. Всё это не из педантизма, понятно, а из желания понять игру автора, его замысел и проблему героев в ее реальности, что часто приводило к опрокидыванию распространенных трактовок.
Редакторские катакомбы. При этом С.Л. был не только уникальным читателем, но и внимательным, терпеливым и благодарным редактором. Больше четверти века проработал в не лучшем из советских журналов. Не только пробивал, порой удачно, рукописи сквозь заслон редакции и цензуры, но и радовался малейшему проблеску таланта. Однако и ад этих лет не поддается воображению. Читатель от Бога, болезненно реагирующий на неверное слово и фальшивую интонацию, десятилетиями, изо дня в день ежедневно шел на пытку, погружаясь в пыльные тексты с вредоносным запахом, сквозь которые ухмылялся автор, пребывающий в сложной, эмбриональной позе неузнанного гения.
Вряд ли таким представлялось мученичество человеку, прочитавшему в юности собрание сочинений Александра Блока. Но для него, умевшего радоваться красивой шутке, выученным наизусть дворикам и переулкам Петербурга, дождю, свежему огурцу, наконец, идея гибели не была посторонней. А служение и долг всегда представлялись доблестью. Разумеется, он мог найти место поспокойнее. Хотя бы сотрудником Всесоюзного музея А. С. Пушкина в Ленинграде, где до «Невы» проработал год. Но в журнале Лурье, так или иначе, мог служить литературе. А снобизма в нем не было.
Редактура – чудовищно трудное ремесло, о чем не подозревает разве что безграмотный «офисный планктон» и самоуверенные авторы. Чудовищное ремесло и редчайший дар. Отчасти противоположный авторству, поскольку предполагает любовь к чужим текстам. А за ними может никогда не встать не только гений, но и способный старатель. Потенциальные обитатели психушек, пораженные экземой иждивенчества, косноязычные тугодумы, самовлюбленные болтуны.
И к каждому надо обратиться душой, превратиться хоть на миг в них. Это непременно, непременно, каким бы мерзким и неопрятным ни казался или не являлся автор. Слова Щепкина, пущенные по миру Гоголем: «Полюби нас черненькими, а беленькими нас всякий полюбит», гуманные по отношению к автору, изувечивают мозг и душу редактора. Ведь это процесс серьезный, полный, человеческий, о нем невозможно забыть к вечеру и стряхнуть с себя утром. Удивительно, что Самуил Лурье сумел сохранить в этих условиях и себя и свой дар. Его почти не тронули сырость и слепота редакторских катакомб, в которых он провел большую часть жизни.
… совсем-совсем не чувствую смысла делать что бы то ни было. Ну да ничего. Вся жизнь так проходила. Очень остро хочется не то чтобы алкоголя, а – свободы выпить, которая в одиночестве радует лишь до первого глотка.
… К счастью, я успел – за часы до начала последнего курса – дописать текст. Хотя и не придаю ему значения. Но доволен, что написал его. Посылаю – потому что все время хотел послать, – и прошу прощения за то, что он такой длинный; на экране читать трудно. Когда писал, думал и про Вас, и про Олю, и про Ваших детей. И про своих, само собой. (Судя по дате написания, речь идет о повести «Ватсон» – Н.К.).
Личный счет в Гамбурге. Чувство, что С.Л из числа имеющих право, было, я думаю, у всех. Ему верили не просто как литературному мэтру, но как полномочному представителю правды, минеру с безукоризненным чутьем, который за верность художественного текста ручается жизнью, а против мошенничества хоть в искусстве, хоть в частных отношениях, хоть в политике восстанет с пикой и ружьем, что, пусть и не в такой романтической форме, случалось не раз.
Я был свидетелем реализации этого его свойства – осадить хама, противостоять подлости, сказать коллеге правду в глаза о его тексте (свойство Блока), пойти на риск – на протяжении пятидесяти лет. Никакой паузы, никакой рефлексии – мгновенный ответ. Равно: что в словесной перепалке, что в застольном разговоре, что в начальственном кабинете, что в уличной драке.
Когда мы в редакции «Невы» в первое утро августовского путча писали вместе заметки для «Невского времени», он, прочитав мою, попросил: давайте я припишу от руки. И написал что-то вроде: «Я, Самуил Лурье, подтверждаю, что эти строки были написаны при мне в 12. 16, восемнадцатого августа 1991 года в редакции журнала „Нева“…» и так далее. Страничка эта, разумеется, сохранилось, но пишу не дома, поэтому цитирую по памяти. В этом, согласитесь, был жест обреченного декабриста. Так мы в то утро себя и ощущали.
Он мог писать положительные, даже восторженные рецензии на средние произведения из чувства благодарности. Из чувства солидарности с какой-то мыслью и настроением автора. Бывал в этом именно жанре чувствителен и экстазен. Порой оценки, особенно в маске Гедройца, были просто шокирующие. На прямые вопросы отвечал коротко: я так больше не думаю. Но никогда, разумеется, не писал в угоду общему мнению, имиджу автора, а уж тем более ради выгоды. Пишу об этом из честности, хотя смешно об этом говорить. Один известный критик посоветовал Лурье не особенно своевольничать и настаивать на своем, когда предложение поступает от «Литературной газеты» (в то время очень популярной и высоко гонорарной). Потом, мол, свыкнутся, где-то что-то можно себе и позволить. Саня рассказывал об этом с усмешкой, исполненной изумленного удивления, которую всегда вызывали у него добрые советы наглого конформиста. Писал за деньги кандидатские и докторские диссертации, а в «Литературной газете» так и не напечатал ни строчки.
Эмоционален, да, но при этом ответствен и честен по самому высокому классу. Только честность, это не эталон из твердого материала. Это процесс, в который иногда вмешивались не столько обстоятельства, сколько чувства. Естественно. Однако круглосуточный, пожизненный процесс, вот, что главное. Интуитивный и опасный. Слово «авторитет» в нем отсутствовало. В одной из статей я сказал про него: «Должно быть, у этого человека есть личный счет в Гамбурге». Ему понравилось.
Замечательно, что счет этот предъявлялся не в лекционном жанре, не в специальной беседе под диктофон, а в случайном разговоре, мгновенной реакцией на реплику. Как-то я, подавляя в себе недовольство ретроспективностью, умственной понятийностью стихов Тарковского, сказал Сане, перечитав в очередной раз какой-то сборник, что все-таки он хороший поэт. Да, это так, ответил он, третий том хорош. Но вот интересно – а, где два первых?
Мы оба вышли из блоковского семинара Максимова, и отсылка к трехтомнику Блока, к его «трилогии вочеловеченья» для меня был понятен. Диалектическая триада, если применять ее к художественному творчеству, подразумевала непосредственное проживание в тексте возрастных и духовных этапов развития поэта. С некоторой осторожностью их можно выделить не только в трилогии Блока, но и в стихах Пушкина, например, Цветаевой, Пастернака, Бродского. Тарковский начал сразу как бы с этапа завершающего, предстал перед читателем не просто зрелым стихотворцем, но зрелой личностью. Вся жизнь предшествующая в синхронном письме отсутствует и только окликается, вызывается памятью.
…Я чувствую себя неплохо. Как если бы взял и выздоровел. И не знаю, что делать. Такой вариант не рассматривался. Но, по-видимому, это состояние временное. (То есть как у всех людей.) Очень скучаю. Вернее, не чувствую ни к чему интереса. Не пью, не курю, мало и неохотно ем, не читаю, не пишу, практически ни с кем не разговариваю. Не знаю, считать ли это времяпровождение жизнью. Пытаюсь думать о Смерти (не о своей, а о принципе). Но на нее, как на Солнце – в упор не взглянуть. Притом что она так нагло возвышается посреди горизонта и буквально лезет в глаза. Столько умов прошло, и умели ведь писать, – но про нее ничего толкового не придумали и нам не сообщили. Хотя вся литература (не говоря о прочей культуре) – антисмерть. Но не сравнялась еще по высоте. Простите мне этот вздор.
Целое больше суммы частей. Года четыре назад из Струг, в дачной праздности и чтении, я написал ему, что читаю несколько дней кряду Бродского, и, к сожалению, а отчасти и к ужасу своему понял, что, при всей энергии и богатстве, приемы его в принципе исчисляемы, дно достижимо. Саня ответил в тот же день: «Я тоже перечитывал в июне Бродского. И думал теми же самыми словами. Про то, что сумма приемов конечна и они в известной степени предсказуемы. И еще про то, что когда в стихотворении не выражен жест и/или он слабо мотивирован – получается вместо лирики эссеистика. Что на это сказать (ведь это так грустно)? Что целое в некоторых случаях (каков и этот) все-таки гораздо больше суммы частей. Что И. Б., к счастью, все еще не глупей нас – хотя уже много моложе. (И уже, в отличие от нас, не поглупеет, счастливчик такой.) Что так ведь со всеми: с Пастернаком, Цветаевой, Мандельштамом, не говоря уже об Ахматовой и Блоке. С Набоковым. С Платоновым. Даже, наверное, со Львом Толстым (хотя – финал „Карениной“! Хотя – „Хаджи-Мурат“!) Что непредсказуемых и неисчерпаемых писателей в русской литературе я вообще знаю только двоих: Салтыкова и Чехова. Притом что первый бесконечно сильней, и „Господа Головлевы“ – по-моему, лучшее произведение, написанное на русском языке. (Хотя – см. предыдущие скобки.)Что мне ли (или так: об этом ли) мне печалиться, когда невыносимо удручает монотонность собственной внутренней речи. И что чем дольше живешь, тем меньше любишь, в чем и заключается смысл смерти».
В письме этом всё замечательно, и много примечательного. Об отношении к Чехову я уже говорил. А при этом он один из двух «непредсказуемых и неисчерпаемых писателей». Пристрастие к Салтыкову-Щедрину и утверждение, что он «бесконечно сильней» Чехова. Последняя, недописанная работа Самуила Ароновича «Обмокни» посвящена именно Салтыкову. Его самого уже стали называть современным Щедриным. И да, и нет. На мой взгляд, фактура его текста богаче. Его эссе просятся в сравнение с лирическими стихами, с которыми Салтыков-Щедрин порвал еще в молодости. И не только как с жанром, но и как с душевным состоянием. Про «Господ Головлевых» я говорил ему, что при всей силе многих сцен и самого типа Иудушки Головлева, все же весь роман – развернутая иллюстрация к щедринской, несколько нравоучительной публицистике. Вопросов нет, могучий Щедрин таков, но можно ли при этом говорить о неисчерпаемости? Саня оставался непроницаем.
С Львом Толстым, вернее, с выделенными текстами тоже не так просто. Финал «Карениной», конечно, потрясает. Но все же это, (как бы сказать?) не главный что ли Толстой, не собственно Толстой. Это скорее его зашаг в сюрреализм. Для реалиста оправдан тем, что рассказ ведется о героине в состоянии полубезумия. Такое случалось и у Пушкина. В «Пиковой даме», например. В сне Германна «тройка цвела перед ним в образе пышного грандифлора, семерка представлялась готическими воротами, туз огромным пауком». Замечательно. Но и это ведь не главный Пушкин.
«Хаджи-Мурат». В самом начале эссе «Куст» Лурье задается вопросом: «Спрашивается: из-за чего так мучился (хотя бывало и наслаждение)? Возился дольше, чем с „Карениной“. Что не ладилось, не клеилось? Почему вдохновение так долго не ловилось после первого сеанса? Ведь еще тогда, в „Репье“, все самое важное из нынешнего „Хаджи-Мурата“, все незабываемое уже существовало».
А дело было в том, что не ладился, не клеился сам образ Хаджи-Мурата. В воспоминаниях, написанных к тому же о разной поре его возраста, образ дробился, и старый писатель впервые в жизни не мог сложить его в целую личность. «А надо ему было, судя по всему (точней – судя по направлению движения), не более, не менее, как душу Хаджи-Мурата, его личную бессмертную сущность. Имелись же на бумаге только наружность и приемы поведения, притом поведения в чуждой среде (а наружность – глазами врагов). Плюс краткая биография, верней – досье, составленное из отрывочных сведений, мелькнувших в прессе. Ну и заключительные часы, минуты, секунды. Мало, казалось Толстому, – мало, мало!»
Так и не сложилось.
При этом Лурье пишет об этой повести Толстого, как о несомненном шедевре. Почему?
Ответил: понимаете, есть там, например, такая сцена. Хаджи-Мурат въехал во двор. На крыше старик занимается какой-то починкой. Хаджи-Мурат о чем-то спросил его, тот ответил. И всё. Никогда мы этого старика больше не увидим. Никакого отношения к сюжету он не имеет. А в памяти остался навсегда, и никуда уже из нее не уйдет. Вот так выпукло показать, а не рассказать, не отделаться в минуту простоя сюжета небрежным мазком – умел только он.
Да, но ведь, как мы помним, «целое в некоторых случаях…все-таки гораздо больше суммы частей». Тогда что здесь целое, а что часть? Старик на крыше, как производное хищного глаза гения, или неумение сложить в целое образ? Пусть первое. Но такого у Толстого с избытком и в «Детстве», и в «Казаках», и в «Анне Карениной», и в «Войне и мире». И все же – «Хаджи-Мурат».
Совершенство без доблести, сколько могу судить, Лурье не волновало, скорее, вызывало душевную усталость, похожую на отчаянье. Но попытка «Хаджи-Мурата», предпринятая стариком, в то время почти его ровесником, подвиг мечты и воображения – вот это да, это вызывало восхищение. Так он проигрывал и подготавливал свою старость. Теперь мы знаем, что и в ожидании собственного, назначенного уже ему врачами конца, сквозь боль писал до последнего дня.
А вот начало эссе «Куст»: «Странен, отчасти забавен, почти что жалок взрослый человек (не обязательно с длинной белой бородой! не обязательно в длинной белой блузе! вообще не обязательно собственной персоной Лев Толстой), задумчиво так составляя среди распаханных полей букеты из сорняков: „красные, белые, розовые, душистые, пушистые кашки; наглые маргаритки; молочно-белые, с ярко-желтой серединой „любишь-не любишь“ со своей прелой пряной вонью; желтая сурепка с своим медовым запахом“ и т. д.
Смешно в 68 лет мечтать, даже – что напишете новое замечательное, – даже если вы действительно Лев Толстой».
Лурье мечтал. Само слово «мечтать» Саня в письмах употреблял редко. Но, то и дело: если получится… когда встретимся, то… хорошо бы еще успеть… Только в последнем письме этих слов нет.
… Какая-то, знаете, напала напасть: стало трудно не то что писать (даже письма), а даже и читать (даже самую дешевую беллетристику). Как рукой – словно какая-то сила физически не пускает буквы в мозг, отводит глаза от текста, текст – от ума. Если это наказание, то очень обдуманное. Боюсь, не бывать мне больше литератором (ничего, положим, страшного, но ничего не делать целыми днями – непривычно, странно и крайне унизительно). И вряд ли осуществится предполагаемая Вами переписка. (Я предложил что-то вроде «Переписки из двух углов», опыт, который мы произвели в первом нашем и единственном номере возрожденного журнала «Ленинград» – Н.К.). А впрочем, как знать. Авось это состояние пройдет когда-нибудь. (Страшно и подумать, что будет, если нет.) В любом случае, мой номер – второй: либо сумею ответить, либо не сумею. Главное – спорить не о чем. Перед лицом столь наглого торжества всенародно-государственной подлости хочется только соглашаться друг с другом и благодарить судьбу за то, что есть с кем согласиться; за то, что несколько таких людей, как мы, еще живы. Мы, реально последние из тех, кто чувствовали смысл в словах: чтоб не пропасть поодиночке.
Сплетни о персонаже. Мы не раз говорили о предстоящей смерти, по большей части иронически. О комически-фальшивой процедуре похорон, о лавинообразных метаморфозах посмертной репутации, которые впервые никак не зависят от покойного. Вообще похороны в разговорах всегда были образцом пошлости. Саня предупреждал, усмехаясь: смотрите, Коля! Кому-то из нас непременно придется хоронить другого. Мы – единственные кандидаты на роль ведущего. Ведь надо будет что-то говорить.
Каким способом он улизнул от этой процедуры, теперь известно. Не в последнюю очередь, быть может, это было бегством от пошлости.
Однажды рассказал, что был на похоронах своей знакомой. Та строго завещала, чтобы речей не было. Звучала музыка. Все молчали. Была возможность осознать случившееся и всерьез попрощаться. Лучших похорон, признался, у меня на памяти не было.
Иногда так: надо внимательно рассортировать и правильно уничтожить письма. А вдруг, представьте, мы в оставшиеся нам годы напишем что-нибудь столь значительное, что любопытных повлечет к нашим архивам? Это высказывалось, конечно, как гипотеза невероятного: еще чего? да и откуда взяться? и где, собственно, эти самые читатели, которые повлекутся в личные архивы? А с другой стороны: кто, типа, знает, чем черт не шутит и прочее. В общем, для затравки разговора и перетирания темы и такое предположение годилось.
Между тем, не были написаны еще эссе о об оксюмороне «Приглашение на казнь», о Мандельштаме, Зощенко, Сервантесе; фельетоны в газете «День»; не было С.Гедройца, «Изломанного аршина» и многого, многого другого.
И еще: сплетню на вкус пробовали? Продукт вполне кондиционный. Хотя я бы к столу не заказывал. Перебор с солью и сахаром. Но в благородном обществе литераторов пользуется спросом. Да и что говорить? Мы ведь к тому времени станем с вами уже персонажами. То есть, существами без прав.
Не могу я до конца поверить, что С.Л. уже год пребывает в роли бесправного персонажа. Поэтому, отчасти, и темой этих заметок выбрал литературу. Не воспоминания, а как бы обзор творчества, копилка рецензий на случай или (излюбленный им жанр) трактат. Меня бесит, муторно от этой аскезы, фрак или там ватник жмут в плечах, тексту вредит. Для воспоминаний необходимы сцены, случайные зарисовки, остроумности, догадки о тайных мыслях, имена, наконец. Главное, имена! Тогда картина оживает, родной контекст населяется и всё неуклонно подвигается к скандалу и сенсациям. Читатель начинает чувствовать и себя участником или, на худой конец, заинтересованным городским зевакой.
Всё так. Но не будет имен. Если уж меня в этих заметках почти нет, то и ваши места пусть займут анонимы. Увлекательности текста, как я уже сказал, большой урон. Что же, я не понимаю? Зато и сплетне негде угнездиться. Думаю, что, по крайней мере, под одной фразой «громкоговорителя» Самуил Аронович определенно бы подписался. А именно под фразой из его завещания: «…пожалуйста, не сплетничайте. Покойник этого ужасно не любил».
Есть и еще одна причина, вынудившая меня обратиться к такому нелюбимому мной, чужому жанру. Дружба, конечно, наделяет мемуариста некоторыми правами. Но для того, чтобы рассказать историю отношений, надо писать и о себе. «Причем по-настоящему», как настаивает С.Гедройц в рецензии на книжку воспоминаний Людмилы Штерн о Довлатове: «То есть заняться прозой. Мучительное, между прочим, дело».
Вот к этому я и не готов. Не столько из боязни раскрыть собственные тайны, сколько чужие. А в легкой манере сокрытия и умолчаний – не получится.
Самуил Аронович был, как известно, человеком злоязычным. Про себя говорил (конечно, с усмешкой), что-то вроде того, что на язык злой, но в душе добрый. Так оно, между тем, и было. И не просто добрым – он был человеком благородным. Но и едва ли при этом сумею назвать хотя бы одного, на кого бы его злоречивость не распространялась. Случаев и подробностей горы. Однако для того, чтобы истории были правдивы, а герой узнаваем, нужно рассказывать вместе: и о злоязычии и о благородстве. Это по понятным причинам невозможно.
… А соловьи, по-видимому, распелись на всей Земле. Заберется такой на самый-самый кончик самой-самой верхней веточки самого-самого высокого из окружающих деревьев – и так раскатится – вспомнишь Тургенева. Непонятно, как могут в этих клочках пуха помещаться такие большие голоса. А на соседней крыше живет сова – и подвывает днем и ночью.
Дела мои – не то чтобы блеск; надо идти на второй круг лечения, что и начнется июня 10-го. Чтобы не думать о нем, составляю предложения и вешаю, как на гвоздь или как Шкловский на веревку – на некий сюжет. Типа как про Кармен. Авось до 10-го и закончу. И пришлю, хотя пока еще даже не знаю точно, что хочу сказать. Пишу, как забавную элегию, – строчка за строчку, дедка за Жучку и т. д. Авось кривая выведет. Это справедливо, я думаю: всю жизнь я любил литературу и работал для нее, – а вот теперь она, спасибо ей, выручает меня (немножко жаль, однако, что не деньгами): привычный труд позволяет отвлечься от неприятных мыслей. Правда, идет тяжело: хорошо, если в день два абзаца.
Стиль отношений. Реакции его были непосредственны, радость искренней, но случалось, как и в его прозе, сюжет заканчивался многотолкуемой остроумностью, вопросом с угадкой, недоговоренностью или, опять же, богатым на версии, молчанием. Из-под каких-то бытовых ситуаций он ускользал.
Простое изъявление чувств редко давалось ему, вернее, он не давал ему хода. Из вечной боязни впасть в пошлость, быть может. Но всегда четко и точно реагировал на существенное. Человеческие же проявления, требующие такой реакции, встречаются редко.
Помню в компании зашел разговор о Бродском, который был еще жив. Некто сказал: и чего все с ним так носятся и колыбельно жалеют? Не в лагере ведь – в Штатах. Нобелевку получил. Состоятелен. Профессорствует. Ездит по всему свету. Обласкан друзьями, любим женщинами. Мне бы такое несчастье. Другой мрачно и резко возразил: не стоит так говорить. Поэт всегда расплачивается. Как и чем – гадать бессмысленно. Но расплачивается всегда.
С.Л. тут же влюбился в этого человека. Ничего не сказал, но было видно, что буквально загорелся любовью и благодарностью. И потом стал постепенно вводить его в другие, многочисленные у него кружки и компании.
Мемуарист волей-неволей стремится соответствовать стилю и характеру отношений со своим героем. Систему иронической нежности, дружеской приязни, выраженной косвенно или через иносказание, а то и упакованную в цитату передать почти невозможно. А прямых признаний, повторяю, почти не было. Разве что в последние годы в письмах и в надписях на книгах.
Приведу, против объявленных правил, цитату из письма, обращенную ко мне, чтобы сказать, что это было совершеннейшим исключением из стиля наших отношений, и в тот момент меня, конечно, потрясло: «Держитесь, Коля. И пишите прозу. Никто другой Вашу прозу за Вас не напишет. А посчастливится ли кому-нибудь почувствовать от нее счастье – не зависит от Вас. Давайте обнимемся. Вы в свитере? Я тоже. Ваш С. Л.».
Скорее всего, это диктовалось состоянием любви и прощения, которое сопровождало его все последние месяцы жизни перед окончательным прощанием.
Еще эпизод: я поздравил его с Новым годом, уже туда, в Штаты. Писал то ли 30-го вечером, то ли 31-го днем. Еще и приписал лихую фразу, в которой отвергал дружеский ритуал, как консерватизм и суеверие: что, мол, почему-то считается, что чем ближе к Новому году послано поздравление, тем, стало быть, ты лучше относишься к человеку. Чепуха! Ответное поздравление я получил за минуту до полночи.
…После очередной капельницы организму пришлось было туго. Но сейчас – двухнедельная передышка, и он ведет себя молодцом. Даже позволяет на него надеяться. Хотя – зачем, – непонятно. Что я здесь делаю так долго. Я на это не рассчитывал. Время интересное. Конец цивилизации. Ну, или бурное начало настоящего конца. Скучно жить в интересное время. Про Е. Ц. я написал. (Текст памяти Елены Цезаревны Чуковской. – Н.К.) Прилагаю. Первая фраза некоторых раздражает.(«Ее дед был гений. Ее мать была герой. Сама же Елена Цезаревна была святая» – Н.К.). А я завидую Вашей: прошелся за сигаретами. Во всех смыслах. Одобряю и цель, и маршрут.
…Да, дорогой Коля, в том-то и беда, что все эти гады и ядовитые грибы выползли на поверхность из-под уже слежавшегося слоя старых слов. И стало понятно, что никакие новые слова – если бы даже и нашлись – не помогут. Насчет моего положения – не знаю, что сказать отчетливо и ясно. Со мной – врачи – так не говорят. Чуда не случилось и, вероятно, не случится. По крайней мере, два узла в легком сигнализируют, что они поражены, т. е. химия и луч на них не подействовали. В мае это удостоверит (или нет – вот бы хорошо) очередная пункция. И если да – курс химии повторят.
…Времени впереди еще довольно много, но ясной головы – месяца, значит, полтора. Ничего большого не успеть, а для кратких текстов недостает концентрации. Не делаю ничего и страдаю от безграничной (определение Салтыкова) скуки. Впрочем, читаю все-таки Салтыкова. По инерции.
Разговоры. Бесславье. Мечты о книге. Жизнь состоит (вот странность!) почти исключительно из разговоров. У литераторов особенно. Художники, я заметил, о предмете своего ремесла изъясняются скупо, простыми наблюдениями, частными замечаниями, почти знаками, за которыми таится для них бездна смысла. Как у буддистов. Эротичное ушко, нога повисла, пейзаж съезжает, стул держится на двух ножках, красного переложил. Нечто в таком роде. Литераторы многоречивее. А если они еще и филологи!
Мы много разговаривали. О литературе, прежде всего. Иногда я записывал Саню на диктофон. Для публикации. Однажды он сказал: у нас так много записано разговоров – можно делать книгу.
Вообще он мыслил книгами. Мечтал увидеть книгу, составленную из колонок в газете «Дело». В балтийском круизе мы как-то провалялись с ним целый день в каюте, попивая водку, купленную для зарубежных знакомств и разговаривая о пошлости в поэзии. Главные мишени: Блок, Цветаева, Пастернак. Упражнялись в сарказме по поводу строчек любимых поэтов. Стихи Пастернака, как помню, оказались в этом смысле самым доходным материалом. И тут Саня заметил, что если бы включили вовремя диктофон, вышла бы отличная книга. Но диктофона не было.
Между прочим, мысль книги о Николае Полевом зародилась в нем за пятьдесят лет до написания «Изломанного аршина». Саня показывал собранную за эти годы картотеку – целый библиотечный ящик. Эту эпоху он прошел пешком. Странно, смешно, стыдно было читать рецензию спеца из Пушкинского Дома, который упрекал автора в том, что тот брал сведения из Википедии.
То, что «академисты» принимают автора «со стороны» в штыки и, уязвленные в глубине, напускают на лицо мину снисходительной иронии, не новость. Но утрата чувства масштаба – явление общее. Ведущие критики в упор не замечали книг С.Л… Отзывались в основном знакомые. «Ящик» то ли выдавил его, то ли, и правда, не заметил. Во всяком случае, ни на одном из интеллектуальных ток-шоу центрального ТВ он так и не появился. А ждал и хотел. Я уж не говорю, что в просветительских сериалах канала «Культура» имя Лурье должно было стоять в ряду с именами Лихачева, Лотмана, Аверинцева, Вячеслава Иванова, Непомнящего.
Многие впервые узнали о литераторе Лурье только из его предсмертной переписки с Грефом. Одно такое инкубаторское (интернетовское) дитя пробует свои силы в литературе, издеваясь над этой перепиской. Удачно замешивает либерализм с антисемитизмом. Есть кой-какой слог, индивидуально накопанные цитаты, но вот имя Лурье услышал впервые.
В советские годы всё объяснялось просто: шлагбаум, выставленный КГБ, прозрачная, липкая, вежливая паутина антисемитизма. Первая книга вышла, когда автору было сорок пять лет. Печатался только как С.Лурье. Самуил Лурье – это было уже слишком. На его Дне рождения, в нашей банной компании я прочитал экспромт. Запомнил, потому что Саня попросил записать ему на память: «Нам перестройки нашей странен пыл. Всё кончится на каменной скамье. И смысл ее лишь в том, что С.Лурье Она вернула имя Самуил».
Ситуация при советах, повторяю – яснее ясного. Но прошли уже девяностые, нулевые, десятые. С.Л. жил с хронической обидой, которую усмирял иронией и веселой злостью. Так, например, решил: если позовут на ТВ, непременно спросит: сколько платите? Знал, что все выступают бесплатно, только для того, чтобы в очередной раз засветиться. Пусть не думают, что и он из этого ряда. Однажды, и правда, позвали к Гордону на «Закрытый показ». Вопрос был задан. Московская трубка повешена.
Последние лет двадцать Саня носился с мыслью написать большой трактат о пошлости и издать его книгой. Чем дальше, тем больше мысль о такой книге приобретала ритуальный характер. Ясно было, что замысел неосуществим. Но, так или иначе, пошлость и глупость были темой, на которую сворачивал любой разговор. Строки Блока из «Последнего напутствия» уже не цитировались, а подразумевались:
Человеческая глупость, Безысходна, величава, Бесконечна…Книга наших бесед тоже не состоялась и вряд ли состоится. Я насчитал среди публикаций всего три-четыре. Остальные либо прошли мимо интернета, либо затерялись в нем. Компьютер же со всеми файлами горел у меня много раз – тексты ушли навсегда, прочнее, чем в небытие.
Остались, видимо, магнитофонные записи. Этими, бесконечно модернизирующимися кассетами можно выложить дорогу нашей жизни, пролегающую сквозь ускоренно мордующий и ускоренно ублажающий нас технический прогресс. Огромные бобины на радио, домашние, размером с расправленную ладонь, поменьше – в диаметре, как консервы сайры, мини-кассеты, дискеты и, наконец, цифровые диктофоны. Время от времени предыдущую запись приходилось стирать. Не было еще навыка закидывать их в компьютер.
Возможно, сохранились какие-то общие радийные передачи. Надо проверить. За десять лет моей работы на радио у нас с С.Л было много замечательных разговоров. Спустя годы, позвонил как-то утром: не представляете, что я сейчас слушаю. Полчаса мы с вами рассуждаем о Канте. Знакомая записала с эфира. Можно сегодня представить себе что-нибудь подобное?
Да, время по кривой дорожке забежало так далеко, что нам в него было уже не попасть.
… У меня бывают времена, когда и письмо написать нелегко (и сейчас как раз такое), – а получать письма, тем более от Вас, – все равно необыкновенно приятно. В футболе мне нравятся и волнуют меня моменты, когда группа атаки оказывается в штрафной и мгновенно разыгрывает комбинацию ходов. Наши команды этого не умеют. Иногда кажется, что они вообще не представляют, как проникать в штрафную и что там делать. Но и лат. американские команды, как мне представляется, делают основную ставку на быстрые проходы с обоих флангов: пас вдоль ворот – и замкнуть. Футбол как игра резвых коротышек меня не занимает. Текст никак не пишется.
…Завтра матч за третье место, унизительный (как и победа, и проигрыш, и приз) для обеих команд. Неужели они будут радоваться голам и улыбаться зрителям? Послезавтра – абсолютно предсказуемый финал. И мнимому празднику конец. (Имеется ввиду чемпионат мира по футболу 1914 года в Бразилии. – Н.К.) Я прочитал Вадикову «Лисистрату» – какой он молодец! (Пьеса в стихах Вадима Жука по мотивам Аристофана. – Н.К.) (Получилась нечаянная рифма, но что поделать.) У меня сейчас химическая эйфория: могу читать и писать письма. Надеюсь воспользоваться ею и двинуть свой текст. Если успею: по опыту известно, что через дня три – уныние с изнеможением. Рад, что в Вашем письме есть признаки покоя. Все еще надеюсь увидеться и ровно через месяц начну за это формальную борьбу. Были бы только силы.
История беседы, с фрагментами которой я хочу познакомить читателя, такова. Я собирал книгу «Биография внутреннего человека». Книга должна была состоять из монологов. Идея была в том, чтобы человек рассказывал не о том, что он видел, даже не о том, как он жил, а о том, что он понял.
Самуил Аронович подключился к замыслу мгновенно, едва я успел договорить. На практике чаще всего мне приходилось переделывать диалог в монолог. Собеседнику трудно было самостоятельно выстроить сюжет, он нуждался в репликах, в вопросах. У С.Л. это был именно монолог.
Тут еще надо сказать об одном его даре, встречающемся, пожалуй, реже, чем дар литературный. Его импровизированный монолог был начисто лишен сорных слов. Фраза выстраивалась виртуозно, точно, не прерываясь, без кокетливых уходов в сторону. Она не просто случалась, но росла так, как была задумана (этого свойства, например, начисто был лишен Набоков, писавший не только тексты лекций, но и ответы интервьюерам). Или: как будто была задумана. То есть, так, как она выстраивается обычно в письменной речи. В молодости он мечтал об университетской кафедре и наверняка стал бы блестящим и обожаемым лектором. О том, почему этого не случилось, существуют разные версии, в том числе, у самого С.Л… Не буду сейчас этого касаться.
Иногда Саня говорил: просидел сегодня всё утро, и не написал ни строчки. Вы же знаете, вначале надо поймать мелодию. Без этого всякое рукоделие лишается смысла. Так вот в разговоре он, быть может, заряжаясь от присутствия собеседника, всегда эту мелодию ловил. Поэтому речь его почти не отличается от письменного текста. В этом вы скоро убедитесь.
В тексте, который он потом прочитал, была, сколько помню, одна правка. Очень для С.Л. характерная. Речь вначале монолога была об эпизоде, случившемся на летней студенческой практике, когда одно замечание сокурсника Андрея Арьева переменило его отношение к происходящему в стране. В устном монологе Андрей назывался полным именем, а в тексте были оставлены только инициалы: «…впервые я тогда услышал от А.А. одно словосочетание, которое, я думаю, переменило мою жизнь».
Лурье свято оберегал суверенность другого человека. Упоминание имени было в некотором роде вторжением в эту суверенность, произволом. Получалось, что он как бы принимал решение за своего друга. А хочет ли тот быть героем эпизода? Будет ли ему приятно? Лучше за черту не заступать.
И вот монолог С.Л. был закончен. Мы уже выпили по рюмке. Жалко было выключать диктофон. Так и получилась беседа, как некий довесок к монологу.
… Безнадежно, дорогой Коля, потому именно, – думаю я, – что надежды и в самом деле больше нет. Она ведь была – в конечном счете – на народ, в частности и особенно – на молодежь. В этом смысле Бирюкова (Главный редактор газеты «Первое сентября», в которой печатался С.Л. После присоединения Крыма газета прекратила свое существование. – Н.К.) права: двадцать лет газета (как и вся остававшаяся интеллигенция) работала на то, чтобы из школы выходили не дураки. Двадцать раз прозвенел последний звонок. Писатели писали, учителя пересказывали, интернет и ТВ делали свое – в результате нас окружают десятки миллионов бесстыдных дураков, с которыми можно делать что угодно и которые сами с кем хочешь сделают что им поручат. Это полное и окончательное поражение. Средние века: ислам, совок. Неизбежное следствие – мировая катастрофа. В этом и состояло, как я и говорил, историческое предназначение госбезопасности как уникального института: она с самого начала была нацелена на уничтожение цивилизации. Которое и вступило теперь в заключительный цикл. В сущности, нам очень повезло: сколько людей, умирая, жалели, что не удалось досмотреть. А нам почти удалось, а уцелевшие потомки вообще будут удивляться нашей наивности. Все уже было так очевидно, – скажут они, так неинтересно.
…Я слежу за нарастанием безумия, читая Грани, Ежедневный журнал, Сайт Эха Москвы, NEWSru.com, Радио Свобода и смотря (иногда) передачи Савика Шустера в Киеве. Это над нами какая-то насмешка истории. Этого просто не могло быть. Это антиутопия в чистом литературном виде…У меня сейчас фаза активности (только что кончился второй курс химии). Чувствую себя чуть ли не здоровым и даже – впервые за год – пишу текст, уже 17 страниц. Но это все ненадолго, потом наступает фаза апатии с изнеможением. Хочу успеть хотя бы с этим текстом, хотя ни малейшей ценности он не имеет. А хотелось бы, чтобы имел, черт возьми. (Хлестаковская фраза, правда?)
Беседа: Теория точек. Разговор начался с «Литератора Писарева». Роман был задуман в конце шестидесятых. Саня показал мне главку. Уговоры продолжать ни к чему не приводили.
Сейчас во всех биографических справках утверждают, будто роман и написан был в шестидесятые. Это не так. Большей частью написан он был и закончен лишь к концу семидесятых.
Я стал работать в издательстве «Детская литература». Пообещал, что издательство заключит с ним договор – надо писать. Договор заключили, роман двинулся и… стал моим последним предприятием в «Детгизе». После положительных рецензий директор в мое отсутствие заказывал рецензии разгромные и абсолютно безграмотные. Вроде того, что необходимо подробнее рассказать об отношениях Писарева и Пушкина. Мы с Саней доблестно составляли ответы, но в дело вмешалось КГБ, и вопрос, в сущности, был решен. Эта история подробно рассказана С.Л. в «Биографии внутреннего человека». После того, как автору выплатили положенные деньги (была такая процедура с формулировкой «творческая неудача»), я из издательства уволился.
Роман вышел лишь в начале перестройки, через восемь лет. До этого печатался в «Неве». С.Л. подарил мне журнал с надписью вроде: «Дорогому Николаю Прохоровичу – организатору и вдохновителю наших побед». На надпись я взглянул мельком – мы уже отмечали публикацию. Он спросил: вы не узнаете эти слова? Я не узнавал. Он, засмеявшись: так ритуально обращались к Сталину.
До смерти боялся сентиментальности. Надписи на всех последних книгах, напротив, полны прямого изъявления чувств. И в последнем своем письме из Америки Саня с благодарностью поминает историю с «Литератором Писаревым».
Раньше я никогда не интересовался, почему все же героем романа стал именно Писарев. После Ватто, Пушкина, Гоголя, Анненского выбор немного странный. Как это случилось?
– Отчасти по житейским соображениям. Это был конец 60-х – оттепель прошла. Я хотел существовать в литературе – стало быть, должен был искать компромисс. Политический и жанровый. Критика была, по сути дела, тактикой. Критику писать я не мог. Прозаиком себя не мнил. Т. н. литературоведение притворялось наукой слишком грубо: дурные тексты о текстах хороших, и только. Плюс арматура.
Это, помните, нам говорил еще наш общий учитель Дмитрий Евгеньевич Максимов: у каждой диссертации должна быть арматура. Имелась в виду библиография, которая, как известно, начиналась именами Маркса, Энгельса и Ленина.
Однажды нескольким молодым литературоведам, в том числе и мне, дал аудиенцию тогдашний директор Пушкинского Дома. Кто чем хотел бы заняться, какой темой, и прочее. Он на моих глазах извлек из картотеки ящик: «Вот, смотрите, о Тютчеве защищено сорок семь диссертаций». После нескольких таких манипуляций выяснилось, что все про всех написано и защищено, хотя имеются и белые пятна: это такие имена, которые фигурируют в названиях всего лишь двадцати трех, допустим, диссертаций. С тем мы и ушли, услышав на прощание: «Подумайте, молодые люди». То есть все, типа, по-доброму. Однако само собою разумелось, что без арматуры ни в каком случае не обойтись. Ну, я подумал и понял, что для меня этот путь, к сожалению, закрыт.
Оставалась историческая беллетристика. Точнее, биография.
Но и тут: про кого можно было писать? Про пламенных революционеров. В крайнем случае – про сатириков XVIII века. Возможно, до сатириков этих я и добрался бы, но в ту пору я жил веком XIX. А ни про одного из классиков XIX века написать было нельзя без лукавства.
Писарев же оказался фигурой подходящей. С одной стороны, он не считался революционным демократом. Поэтому ЦК КПСС не занес его в списки «пламенных революционеров». С другой – как ни крути(,) – жертва царизма, сидел в крепости.
То есть иконописный канон на него не распространялся. О нем в принципе допустимо было написать просто как о несчастном человеке. Просто как о честном литераторе.
Это из разряда общих соображений. Но была еще в жизни минута, которая нечто во мне изменила. Я ее помню. Зима, еду в электричке в направлении Ломоносова. И в руках у меня брошюрка XIX века, в которой собраны письма Писарева к некой Лидии Осиповне. Писарев писал из Петропавловской крепости женщине, которую он никогда не видел. Растолковывал ей, почему она должна выйти за него замуж. И что любви никакой не существует, но при встрече они обязательно понравятся друг другу, и все такое.
Я сидел у вагонного окна, за окном летел мокрый снег. И я вдруг ясно понял, что передо мной письма сумасшедшего человека. Он изъяснялся так логично. Мы не знакомы, мы не любим друг друга – и что такого? Которые знают друг друга, любят и женятся – те, что ли, бывают счастливы? Какая важность, что она его не любит, а он ее? Зато она читала его статьи и знает его мнения. Он тоже знает ее убеждения, поскольку она читает его статьи. Они единомышленники, а что еще надо? Рисуются идиллические картины будущей совместной жизни. Вот как они будут сидеть и друг другу читать. Он будет работать, а она ему помогать, выслушивать его статьи и так далее.
Инфантильная утопия абсолютного безумца. Еще надо представить, что пишется это в Петропавловской крепости: каменные стены, окна на уровне земли. И то, что цензура и госбезопасность сломали ему жизнь, а он был бедный маленький сумасшедший. Это ощущение пронзило меня совершенно. Надо, надо было про это написать, надо было это как¬-то выразить и отомстить за него, потому что он был очень несчастен. Ну вот, я и написал, как мог, в не лучшей, наверное, форме, в форме биографии.
Мне всегда казалось, что самое оскорбительное для мертвого человека, особенно писателя, это попытка подменить ему его личность, его мысли. Да, превозносят, хвалят, но ведь не за то. Можно изобразить его юродивым, сумасшедшим, пьяным, больным, но только таким, каков он был. Если ты при этом волнуешься и что¬-то чувствуешь, он, хоть на мгновение, станет живым. А сколько ни пиши, что он был гений, политически правильный, храбрый, – это будет неправда, будет ложь, и это его еще раз убьет. Вот это ощущение реальности чужой жизни, давно угасшей, как будто я держу ее в своем уме, слышу ее интонации и должен, как умею, передать их другим, – меня это ужасно волновало.
Ну потом я, как и всякий литератор, столкнулся с тем, что никак не получается то, что точно знаешь, написать напрямую. Ты должен рисовать сцены и объясняться на языке глухонемых.
Искусство слова есть искусство перифраз, посторонних описаний. Искусство слова есть искусство невозможного слова. Ты заменяешь невозможное слово несколькими возможными, и это и есть литература. То есть не поэзия.
Я в то время был ровесником Писарева. Была еще осуществима операция замещения, почти телесного. Я проводил в Петропавловской крепости не знаю сколько часов: слушая крики ворон, бой курантов. Почувствовать на себе чужое тело. Не знаю, как это объяснить. Я начинал ощущать на себе липкую, грязную кожу человека, которого раз в месяц водят в баню, который живет в прокопченном помещении с горящим деревянным маслом. И как у него пахнет изо рта, потому что цинга там, кариес и все такое. Вплоть до того, как расплываются чернила на листе отсырелой бумаги.
А в текстах¬-то у Писарева – ирония, простота фразы, рационалистический пафос. Абсурдный, но неотразимый. Ведь это даже смешно, что вся советская пушкинистика не смогла опровергнуть ни одной инвективы Писарева против Пушкина. «Ах, Писарев, с его нигилизмом… Какое кощунство, какой цинизм!» Не справились, в общем. Он на сто лет оказался умнее пушкинистики
Вот, собственно, и объяснение названия одной из книг С.Л. – «Разговоры в пользу мертвых». Возродить, то есть, рассказать правду. Иначе – вторая смерть. Пусть не гений, не храбрый, а юродивый, сумасшедший, пьяный, больной, но показать таким, каков он был. Художник от правды не потеряет. И, в конце концов, это единственный способ восстановить справедливость. Так Саня в другой беседе говорил мне и о замысле «Изломанного аршина»: «Я был довольно молод. Жалел мёртвых. Любил справедливость. Отчего, думаю, в самом деле, не попробовать разобраться – что там случилось с этим Николаем Полевым; как он дошёл до отчаяния; за что довели. Даже если он действительно предал сам себя, и к чёрту сантименты, – всё равно нельзя же так оставить: человек, умирая, пытался что-то сказать – допустим, вздор; допустим, в бреду, – а если нет?»
На этот раз, меня заинтересовало то, что биографию он считает не лучшей формой рассказа о человеке. Есть другая? Какая?
– Понимаете, мной владела такая мысль, что для всего на свете должен существовать некий идеальный текст. Ближе всего к тому, о чем я говорю, некоторые стихотворения Мандельштама. Про Европу, про Диккенса. Мысль о том, что возможно выразить самую суть большого явления, будь то писатель, роман, собрание сочинений, историческое событие, очень концентрированным текстом, одним абзацем. Для этого, может быть, нужен другой жанр, другой стиль, другое мышление. Меня долго это мучило. Возможно, это моя лень. Мне хочется писать как можно, как можно, как можно короче.
Это как бы иллюзия. Или как бы предчувствие. Что истина, любая, может быть выражена одним афоризмом, фразой, в крайнем случае, абзацем. Это притом, что она не может быть высказана прямо. Должен существовать какой¬-то путь в глубину. И вот когда не можешь написать такой абзац, прибегнуть к такому концентрированному тексту и даже понять его лингвистическое измерение, то ты вынужден идти другими путями. В конце концов, есть цитата – она говорит сама за себя. Есть биографические и исторические факты. Ты их показываешь с разных сторон. Но это паллиатив, это от не-гениальности, от невозможности сказать тремя словами то, что ты хочешь сказать тремя словами. Поэтому лучшие из нас пишут тридцать слов, я, например, пишу три тысячи, а кто-¬то другой – тридцать тысяч. Или триста тысяч.
У меня была даже такая теория точек. Я раньше про произведение, например про стихотворение Блока, очень точно понимал… Я его читал, читал, пока не начинал чувствовать, что все оно выросло из одного точечного импульса, буквально из булавочного укола. Это была миллисекунда, которая затем развернулась в некий текст, который длится, скажем, минуту или две, хотя на самом деле он гораздо обширнее.
Идея умирает в тексте, чтобы возродиться в сознании читателя. Думаю, что это так и происходит. Эта миллисекунда превращается в некую пространственную структуру, в тело текста, но в результате, если произведение гениально, остается в нас той самой миллисекундой. Из точки получается снова точка. А то, что написал поэт, и то, что прочитал я, это две посредствующие структуры. На этом можно было бы, как мне кажется, построить целую методологию, но у меня на это не хватит ни образования, ни ума, я знаю это только как эмпирический факт.
Даже великий роман, который вас потряс, взволновал и так далее, если честно и глубоко подумать, оставляет в вас ту же миллисекунду, которую можно было бы, будь это в ваших личных возможностях или вообще в возможностях человека, выразить несколькими словами. Но это невозможно. Это то самое, о чем говорил Лев Толстой: я не могу сказать, про что я написал «Анну Каренину», иначе я должен был бы заново написать этот роман. Это ведь не значит, что он хотел бы заново написать все эти слова, там много случайных слов, но он должен был написать все это, чтобы выразить то единственное, что он хотел выразить.
Вот как астрофизики говорят о черных дырах: они не имеют объема. Истина тоже не имеет объема. А текст имеет объем. В этом разница между текстом и истиной. Притом, что текст (настоящий текст) всегда стремится к истине.
К «случайным» словам мы по ходу разговора еще вернемся. А сейчас один забавный эпизод в виде примечания. Несколько лет мы с С.Л. вместе работали в «Неве». Это было время «перестройки». О теории точек мне было еще не известно, но и мной тогда владело стремление к Мандельштамовской, стиховой краткости. И поскольку я вел отдел критики, то предложил следующее. У Мандельштама есть гениальная рецензия на стихотворный сборник Эренбурга. Всего семнадцать строк. Давайте попробуем делать рецензии такого же объема. Это трудно, почти невозможно, но ведь интересно. Потребуется совсем другое письмо. С Борисом Николаевичем Никольским я договорюсь, чтобы платили как за статью.
Опыт продлился, кажется, год. Участвовали четыре-пять человек, включая нас с Саней. Другие авторы журнала по дороге как-то отпали. Но и мы такой темп больше года держать не смогли.
А теперь про ответ Толстого. В нем ведь вот что интересно. Он объяснил, что сказал то, что сказал, единственным доступным ему способом. Глупо было бы предполагать, что в нем есть еще некий мыслительный аппарат, который теперь, по завершении работы, может выразить это короче и лучше. То же и с биографией. Получается, что ее не способен верно описать ни сам герой биографии, ни его биограф, потому что вся она сводится к «точке безумия».
– Абсолютная правда. Если посмотреть на биографию в нашем мыслительном пространстве, то она тоже есть некая разворачиваемая точка. Как хорошо сказано: «точка безумия». Судьба сводится к предложению. Там есть подлежащее, сказуемое, а может быть и какой-то другой состав. Но человек не сводится к слову. Приблизительно мы можем сказать, что судьба человека сводится к развитию его характера. Но это очень приблизительно. Потому что сам характер сводится к точке. И так далее.
«Точка безумия» – это, как известно, цитата из Мандельштама. «Может быть, это точка безумия, / Может быть, это совесть твоя, / Узел жизни, в котором мы узнаны / И развязаны для бытия». То есть вначале да, была точка, узел, но только после того, как он был развязан, и началось бытие, началась жизнь.
– У меня бывает подозрение, что и в каждой любовной истории по-настоящему существует какая-нибудь одна-единственная секунда. Она существует, а все остальное есть сначала подготовка к ней, потом воспоминание о ней, потом попытка ее повторить и так далее. Может быть, и не секунда. Какая разница, сколько она длится? Но, вообще говоря, одна точка.
Слово пытается совместить время и жизнь. С одной стороны, существует время как длительность, с другой стороны, существует наша жизнь, в которой длительности нет. Она состоит из точек. А речь имеет категорию времени, она вне этой категории невозможна. Отсюда и тщета литературы: она должна средствами длительности описывать вещи, которые не длятся.
К тому же ничто на свете, в том числе живой текст, не движется по прямой. Точки жизни, в которых человек меняется (если предположить, что он меняется), расположены в разных плоскостях, что дает даже не кривую, а на самом деле ломаную линию.
Речь в таком случае идет не о линейном движении через какое-¬то пространство, а о повороте, о смене орбиты, о толчке.
Тут, вообще говоря, в голову приходит квантовая теория, насколько ее способен понять гуманитарий. В ней нет различия между точкой и волной. И все же формулу жизни можно вычислить только после того, как она, жизнь, развернулась, после того, то есть, когда она уже прожита. Если бы формула предшествовала жизни, то развертывание жизни было бы просто холостым ходом.
– Ну да, ничто не может быть понято, пока не кончено. Кроме того, чтобы существовали культура, литература, живопись, музыка и так далее, нужно не одно сознание, а как минимум два. Нет зрителя, нет читателя? Зритель и читатель всегда живут в вас, и вы, значит, пишете для другой вашей половины.
Для чего и придуман язык. И вот что интересно: оказывается, что все искусства основаны на невозможности прямой передачи. Всякий раз эта передача осуществляется за счет невозможности.
Как видите, я не обладаю нужным запасом точных слов, чтобы говорить о таких вещах. И уже не приобрету, не научусь. Теперь уже поздно. Так же как, полагаю, не напишу всю жизнь обдумываемый трактат о пошлости.
Русская литература очень много работала с этой категорией. Но надо поставить ее в какой¬-то большой философский контекст. Потому что совершенно очевидно, что она связана и с религиозным, и с романтическим сознанием. О пошлости можно говорить только в том случае, если мы имеем в виду, что человек есть существо, обладающее душой. Ведь почему мы говорим: какой ужас, что люди тратят свою жизнь на шинель, на тряпки, на похоть, на мелкие выгоды? Потому что исходим из якобы аксиомы: человек – не для этого. Он, видите ли, создан для чего-то другого…
Как и стоит эта проблема у Гоголя: есть Бог, человеческая душа бессмертна, ее ожидает Страшный суд, а человек занимается черт знает чем. Неужели вы думаете, что здесь, на земле, можно быть счастливым, поедая дыни и собирая тряпки? А Спаситель – вон он там, ждет вас на Страшном суде. Вы с чем к нему явитесь? Ах, пестро! – нет? не пестро? Так вот я на вас сейчас нашлю провокатора, будь то Тарас Бульба, Хлестаков, Чичиков или сам черт, он вас разбудит.
Но тут ведь вот какое дело: в каждом человеке, в каждом писателе есть какой¬-то процент пошлости. Он непременно должен чувствовать ее в себе, если не пишет просто картинки с натуры. В лучшем случае получается Набоков, который умудрился прожить так опрятно, что ни одна пылинка пошлости, кажется, не осела на его пиджаке.
– Человек мало-мальски реального сознания, конечно, должен чувствовать ее в себе, и действительно, многим удается ее описывать именно потому, что она в них есть, а чего-то при этом в них нет. Должен быть такой выеденный край, выщербленный кусок, который все время болит. Тогда, через этот ущерб, очень понимаешь то, что в тебе есть.
Гоголь в каком-¬то пошлом смысле не был мужчиной, вот и Набоков в каком-¬то пошлом смысле не был мужчиной, до поры. А потом, когда он стал очень стареньким и сытым подростком, у него уже перестало получаться – «Ада» там и все такое. Это даже неизвестно, не сама ли это пошлость? Может быть, просто расслабленность? Самодовольство? Всякое самодовольство, начиная от гордыни и кончая физической сытостью, уже знак пошлости. Впрочем, не исключено, что мне попался скверный перевод или, проще, что это мне не по уму.
Еще не был написан «Изломанный аршин», в котором С.Л. заново увидел и оценил Герцена. И мой вопрос исходил из нашей пожизненной любви к нему. Я спросил, как он в контексте всего сказанного оценивает Герцена? Его при всем желании нельзя свести к точке. Это первое. Второе: он был человеком реальным, но и пошлости в нем, кажется, нет.
– Каждый литератор ищет в литературе то, что ему надо, как собака ищет ту именно травку, которая ей поможет. В Герцене я бессознательно искал решение проблемы темпа. Это чисто физическая проблема. Она состоит в том, что мы думаем гораздо быстрее, чем пишем, и, конечно, значительно быстрее, чем читаем.
В ХХ веке это стало уже почти невыносимым: мы пропускаем пейзажи, описания, портреты. Ради чего? Ради только действия? Нет, и действие-то мы пропускаем и на последней странице ищем разгадку. Не в этом дело. Должна быть такая интонация и темп, которые бы шли как бы с опережением, заманивая тебя в чтение. В этом смысле, мне кажется, всякий по-настоящему хороший писатель – это писатель быстрого темпа.
Темп Герцена – он очень быстрый. Это скороговорка. И темп Достоевского – это тоже скороговорка. И, как ни странно, канительно длинная, мучительная по синтаксису фраза Салтыкова – это тоже скороговорка. И Зощенко тоже напрасно уверяет нас, что он пишет короткими фразами, – такая, дескать, литература для бедных. Что значит – короткими? Зато в них нарочно вставлены якобы ненужные, якобы бессмысленные слова. Потому как для того, чтобы создать скорость, необходимы и замедлители.
Русская литература все время искала эту скорость и в каком-¬то смысле нашла ее в Бунине, которого странным образом переосмыслил Набоков и создал еще более быстрый темп. Я не читаю по-английски, но думаю, что, может быть, за что¬-то такое уважают Джойса. И я готов допустить, что по такой же причине люди, читающие по-французски, считают хорошим писателем невыносимо скучного для меня Пруста. За реализованную скорость мысли.
Идеальная проза – это когда вы не отстаете от фразы и уж тем более не оставляете ее позади, а она вас тянет за собой. В этом смысле прямой предшественник Бунина, как ни странно, – Достоевский. А Достоевский читал Герцена. Это на самом деле довольно прямая линия. Тургенев, Толстой и даже Чехов – линия другая. Они не стремятся к скорости. Это не делает их прозу менее ценной, может быть, даже наоборот. Но я искал именно этого. И тут первое имя, пожалуй, Герцен.
Мне кажется, есть русский жанр, соответствующий тому, что на Западе называется эссеистикой. Герцен, Салтыков, Писарев. Можно добавить и Достоевского. Лесков, Глеб Успенский. Это проза мышления, проза, разгоняющая мысль. Увы, вся эта проза непереводима. Даже Достоевский. Судя по людям, которые сюда приезжают, любя Достоевского, они какого-то другого Достоевского любят. Захлебывающаяся от смеха истерика вряд ли поддается переводу.
Короче говоря, я учился скорости. А научился разве что не позволять себе ненужных слов. Но это всего лишь опрятность. А скорость, она достигается не тем, что пишешь только необходимые слова. В настоящей прозе помещен на последнюю страницу некий магнит, который тащит к себе все повествование. Это как тяга в печке.
Вот теперь о «случайных» словах. У самого С.Л. ненужных слов не было, это очевидно. Поэтому, когда он говорил о случайных словах в стихах Окуджавы или в моих текстах, я воспринимал это как упрек. У меня же в уме всегда было Пастернаковское «чем случайней, тем вернее». Речь не о небрежении формой, а о точном состоянии, которое надиктовывает эти как бы случайные слова. О той самой попытке поймать мелодию, о которой говорил Саня.
Закона здесь, разумеется, нет, но проблема сложнее и существенней, чем кажется на первый взгляд. Проза, идущая от литературы, не просто к искомому совершенству, но к совершенству изначально заданному в образцах, не сразу принимает в себя случайность живой речи. Мандельштам заговорил о «железнодорожной прозе» только накануне тридцатых: «Железная дорога изменила все течение, все построение, весь такт нашей прозы. Она отдала ее во власть бессмысленному лопотанью французского мужичка из „Анны Карениной“. Железнодорожная проза, как дамская сумочка этого предсмертного мужичка, полна инструментами сцепщика, бредовыми частичками, скобяными предлогами, которым место на столе судебных улик, развязана от всякой заботы о красоте и округленности». В это время стали изменяться и его стихи, тогда-то и понадобились ему «случайные» словечки Зощенко, которому он намеревался поставить памятник.
Нечто подобное происходило и в прозе Лурье. Быть может, еще со времен публикаций в «Невском времени», и уж определенно с колонок в газете «Дело». В книгах – с «Муравейника». Похоже, это было выполнением внутреннего задания: овладеть речью разночинца, научиться столкновению разностильных слов. Возможно, как и у Мандельштама, шел поиск новой, демократической аудитории. Процесс этот требует немалого мужества. Не исключено, что и провинциальный учитель С. Гедройц появился по этой же причине.
Зашел разговор о Ходасевиче. Замечательный поэт. Вот уж у кого нет случайных слов. Но и воздуха, песни иногда не хватает. У Блока лишних и стертых слов множество, но есть проникающая интонация, есть мелодия.
Кстати вспомнили эссе Набокова о Ходасевиче, в котором тот писал: «В сравнении с приблизительными стихами (т. е. прекрасными именно своей приблизительностью – как бывают прекрасны близорукие глаза – и добивающимися ее также способом точного отбора, какой бы сошел при других, более красочных обстоятельствах стиха за „мастерство“) поэзия Ходасевича кажется иному читателю не в меру чеканной – употребляю умышленно этот неаппетитный эпитет. Но все дело в том, что ни в каком определении „формы“ его стихи не нуждаются, и это относится ко всякой подлинной поэзии».
Вообще говоря, весь пассаж двусмысленный. Что стихи Ходасевича ни в каком определении «формы» не нуждаются – слабый довод. И «приблизительность» прекрасна, или только «в более красочных обстоятельствах» (?) ее можно счесть за «мастерство»? Я как-то показал Сане свое эссе, которое ему понравилось. Там о фильме Феллини «8 ½»: «Режиссер в „8 1/2“ решает все же снимать фильм. Пусть это будет хоровод приблизительных людей, какими он их видит. Это честно. Кто отважится сказать, что знает человека? Фильм будет не о правде, а о том, как он ищет правду, которой не знает. И это тоже честно. Фильм о памяти, в которой все равны. В этом, может быть, и заключается сумасшествие художника, но это же оборачивается волшебством искусства».
Тот разговор закончился Герценом. За счет чего он достигает искомого ускорения?
– Во-первых, неожиданные соединения слов. И, во-вторых, у автора есть чувство правоты. Читателю каким-¬то образом передается это чувство. Он ощущает над собой власть автора. Это ведь и есть то, что называется – интерес.
… В сущности, большая удача – когда не для кого писать. Даже не представить этого читателя, и нет смысла к нему бессознательно подделываться. Тогда-то что-то настоящее и получается. Только нужна голова. У Вас она есть, у меня – увы. Текст продвигается со скоростью абзац в неделю, я его разлюбил, я к нему охладел и совершенно не понимаю, что находил в нем раньше. Из чистого упрямства доведу до конца. Надеюсь. Но не уверен, что пришлю Вам и Андрею. Знаете, когда профессиональный фигурист вдруг запинается и падает на лед, он выглядит более неуклюжим, чем какой-нибудь новичок. Медицинские мои дела и новости – так себе, не буду Вас грузить. А, честно говоря, стало любопытно, хотелось бы кое-что досмотреть. Если, как мнится, до конца фильма осталось немного. Но ведь сразу пойдет вторая серия, и т. д.
…Как Вам там живется – не спрашиваю. Если бы не было привычки к алкоголю и выучки – можно было бы и спиться. Час назад пришла в голову песенная строка: и вся-то наша жизнь – псу под хвост. Тем не менее, прошло всего восемь месяцев, как я начал некоторый текст, – а он уже и готов. Довольно большой и должен как бы отлежаться. Чтобы перечитать и вытравить неизбежные пятна маразма. Или не стану вытравлять, а просто, как сказал бы Тургенев, тихо положу перо. Это не важно. Я выиграл пари с самим собой: дописал до точки. В тексте – 4, 5 листа. Он меня занимал, отвлекал, развлекал, не давал думать ни о чем другом (а все другое и не стоит того, чтобы о нем думать). Что буду делать дальше – ума не приложу. Работать мне слишком трудно, курить нельзя, пить – невкусно. Лечиться и ждать. Авось зимой мы хоть ненадолго приедем (если позволят врачи и бюрократы).
Что пишете? Что читаете интересного? Нет ли хоть сплетен литературных? Сюда скоро будут Соловьев и Клепикова: разоблачать Довлатова. Расскажут о своей новой книге. Входной билет стоит столько-то. Бизнес. В молодости, да вдвоем, мы могли бы устроить скандальчик. Но, с другой стороны, они же не существуют. Я тут на полторы минуты включил телепередачу другого Соловьева – и в ужасе выключил. Адский цинизм, адская ложь.
Формула гения и разборки с кумирами. Размышления о гениальности, в противоположность сегодняшним толкам, когда понятие «гений» стало общекухонным достоянием, были еще в цене. И про Саню тоже (предмет реальный и близкий) – гений? не гений?
В нем самом мысль о природе гениальности была, видимо, постоянной, но проявлялась в рассеянном виде с редкими фокусированными вспышками. Как, допустим, мысль о сферичности вселенной или физическом определении времени. Типа, стыдная, подростковая забава. Например: процитировать несомненно гениальную строчку. Но без комментариев. То ли с победным, то ли с конфузливым молчаньем и улыбкой.
Иногда наоборот: ну, а что гений? Остроумие, скорость, количество комбинаций в секунду. Только и всего. Однако втайне, кажется, все же мечтал вывести когда-нибудь формулу гения, в чем подозревал и меня.
Формула – это ведь в некотором роде та же Точка. Средоточие всего. Универсальность. Устремление к ней, лежащее в плоскости религиозной, было воспринято нами, быть может, через символизм.
Потрясения детства и юности поражают сердце и ум. Ум по росту лет подвергает их анализу, разъятию и часто уничтожению. Из сердца они не уходят никогда. Их света, как той самой умершей звезды, хватает на всю нашу жизнь.
Как-то сказал Сане, что перечитал «Столп и утверждение истины» и нашел там много велеречивой беллетристики, особенно в страницах о любви. Во всяком случае, от того магнетического впечатления, какое было в юности, нет и следа. Он ответил, что недавно произвел тот же опыт и с тем же результатом. А в юности «Столп» был одной из самых важных книг. Кстати вспомнили, что среди уничтоженных Блоком в последний год изданий, было и это сочинение Флоренского.
Само это признание о важности Флоренского в юности от всеми уже зачисленного в штат скептика было неожиданным. Одигитрия, должно быть, улыбнулась.
Серьезно: я и тогда был уверен, как думаю и сейчас, что разочарование не могло окончательно погубить первоначального впечатления. У Блока, в том числе.
Та же история в его отношении к самому Блоку. Разбирался с той жестокостью, которая достается только кумирам. Безвкусицы едва ли не больше, чем у Есенина. Сейчас понятно, что и символизма никакого не было. Последовательное умирание, начавшееся еще в молодости. Прекрасная Дама – да, это было сильное и подлинное состояние. Потом только сухая возгонка. Насиловал воспоминания, вызволял из навсегда ушедшего веру, восторг, свет, запах, пейзажи и… бесконечно жалел себя. За то, что оставлен, отставлен, что этого больше нет. Вот мотив всех стихов. Отличное к тому же оправдание пьянства.
Но и здесь все не так просто. Как-то в часы литературной выпивки (судя по вопросу) спросил, какое у него любимое стихотворение Блока? Он без минуты раздумья стал читать:
Болотистым пустынным лугом Летим одни. Вон, точно карты полукругом Расходятся огни. Гадай, дитя, по картам ночи, Где твой маяк… Еще смелей нам хлынет в очи Неотвратимый мрак.Полет, что и говорить, безутешней и пронзительней, чем полет Булгаковской Маргариты. И жило в нем это прочно.
…страшно хотелось бы увидеться. И я все еще надеюсь (теперь уже на февраль), но есть непредсказуемый фактор, и он сжимает время (собственно, в этом и состоит его непредсказуемость). Покамест мне назначили – причем срочно и без обычной паузы – сразу два курса химии. Авось они заставят фактор отступить. Но что точно – они ослабят органон и особенно голову, а также могут сделать невозможным использование самолета. Тогда не знаю…Но не будем пока о грустном. Тем более, что никто не знает, что будет в феврале. Такое ощущение, что перемены неизбежны.
…Пишу из больницы, под капельницей, с иглой в вене,… глядя в огромное прозрачное окно: залив, за ним горы, за ними – континент Америка, за ним – Атлантический океан, за ним – Европа, – и вот – -Каким бы ни был год, будет в нем и хорошее. Желаю хорошего всем, кого люблю, и всем, кто любил меня.
Воевода дозором. Иногда казалось, что С.Л. ощущает себя неким распорядителем или дозорным на пространстве литературы. Это была не поза мнящего себя, а врожденная ответственность муниципала, острое ощущение слова как действия.
Для него естественно было начать рецензию на книгу Филиппа Рота словами: «В Нобелевский комитет Шведской королевской академии, Стокгольм». Просьба к Нобелевскому комитету осталась, увы, без ответа.
Тогда еще спорили об ударении в фамилии Василия Розанова – Ро́занов или Роза́нов? С.Л. сказал, как подписал указ: конечно, Ро́занов. В нем и так всякого было с избытком, зачем добавлять еще эту претенциозность?
Прекращая споры о каком-то тексте: здесь есть главное – автор создал вымышленный мир, в котором не стоит вопрос о вымысле.
Да, он ощущал себя имеющим право, которое осуществлял деликатно, репликой или сыгранным капризом, но без тени уязвленного самолюбия. Никита Елисеев написал в некрологе, что если будет жива литература, то «Изломанный аршин» издадут когда-нибудь в «Литературных памятниках» с толковыми и уважительными комментариями. В продолжение литературы С.Л. как будто не верил. Любовь придумала литература, говорил он, и долгое время питалась этой выдумкой. Но в эпоху промискуитета перестанет быть актуальной тема, а вместе с этим закончится и литература. Однако если не вера, то надежда на то, что литература будет жить, в нем оставалась. А значит, и на книгу в «Литературных памятниках».
Он искал, конечно, признания, но еще больше заинтересованного внимания, родного читателя. Ему важно было, как воспринимает его текст семья, друзья, далекие коллеги, учителя и даже девочки в провинции. К замечаниям прислушивался редко, но отклик ценил чрезвычайно. Из Пало-Альто написал: «Порадовали тут меня подборкой Салимона. Там оказалось (ближе к концу) стихотворение с посвящением мне. Явно навеянное „Таким способом понимать“». В стихах Владимира Салимона, опубликованных в журнале «Арион», были, в частности, такие строки:
Поэту в гроб положат розу, что не истлеет за сто лет. Зашел в церквушку по морозу, где похоронен Шеншин-Фет. Мой друг так коротко и ясно об этом написал, что мне вдруг стало больно жить напрасно в холодной северной стране.Думаю, радость Сани не в первую очередь была вызвана художественными достоинствами текста.
Дозорный-то дозорный, ответственный, показательно независимый от авторитетов, но он был, как всякий автор, зависим от мнения, высказанного по поводу его прозы. Не любить Музиля, которого Бродский называл в числе первых прозаиков ХХ века, это естественно и просто. Но радовался почти по-детски, когда ему передали отзыв Бродского на статью в его сборнике стихов: Саня, как всегда, попал почти в десятку. Цитировал и восхищенно приговаривал: если бы в отзыве не было слова «почти», это был бы не Иосиф. Потом, сколько помню, Бродский прислал ему с надписью свою книгу.
«Изломанный аршин» посылал главками по мере написания нескольким адресатам. Числом семь, если не ошибаюсь. Андрею Арьеву, Лиле Скульской, мне, двум адресатам в Германии. Других не знаю. Вряд ли правил после этого, но в откликах определенно нуждался и навигатор внутри него как-то на них реагировал. После получения первых глав я сказал почти в шутку: не задумал ли он написать своего «Медного всадника» о судьбе бедного Полевого? А одним из невольных операторов изрубившей его имперской машины будет Пушкин. Этой случайной проницательностью он был удивлен, почти восхищен, но и огорчен, кажется.
…Видите, как все ужасно. Так ужасно не бывало, наверное, никогда, не исключая самых страшных лет. Вернее, мы просто туда вернулись. Это и есть – ужасней. Ни одна страна не может выдержать такого повтора. И наша не выдержит. Жаль ее, но еще больше – нас, а больше всего – наших детей. По-видимому, ничто уже не имеет никакого значения. В частности – ни один, никакой текст.
…Как Вы живете – не представляю, т. е. представляю с ужасом. Включил российские телеканалы – ни на одном не удержался более минуты. Такого позорного единения толпы с начальством – Басилашвили прав, – не было даже при Сталине (не говоря уже – при Брежневе). Не пишу о своих перспективах, потому что сам их не представляю. С одной стороны – конец истории довольно близок. Сдругой – возможна краткая передышка этим летом, и якобы можно будет даже рискнуть на пару недель в СПб. Но все зависит от показаний разных приборов. Один сюжетик (из трех-четырех), не самый бессмысленный, про Салтыкова практически обдуман, хотелось бы успеть изложить. С этим большие трудности, думать легче, чем писать…
…нахожусь здесь, в безопасности и покое, в безвозвратном одиночестве. Посмотреть бы вместе телевизор, неистово артикулируя матерные слова.
Дон-Кихот. Все сравнения, как известно, хромают. Однажды на Дне рождения Сани я назвал его Дон-Кихотом. Сравнение было продиктовано ситуацией и жанром. Кажется, накануне он помогал нам при переселении таскать мебель. Отозвался с азартной готовностью, как на все бытовые просьбы. В общем, то еще сравнение.
Отвезти, напомнить, перетащить тяжесть, дать в долг, выступить в защиту – чем конкретнее было дело, тем охотнее он на него откликался. Долгое время и митинги были делом. А статья об Анне Политковской оказалась столь резкой и существенной, что ее с трудом удалось перепубликовать много лет спустя в его юбилейном сборнике. Жест помощи и заступничества был для него естественным, не рефлекторным, была ли в этом физическая тяжесть, бытовое неудобство или риск для репутации и карьеры.
Но в те далекие годы (было это, кажется, на пятидесятилетии) я вовсе не думал о значимости сравнения. И не подозревал, конечно, как важно оно было для С.Л… Он всю жизнь ощущал родство с этим трагическим безумцем, который сквозь действительность видел ведомую только ему реальность. Никакое изящество формы, никакая благожелательность улыбки, восторженная почтительность, благосклонность, либеральная фраза, талантливая изобретательность не способны были обмануть его проницательности реалиста. Что в литературе, что в жизни. О Дон-Кихоте он писал: «В самом деле, мы-то с вами умеем оценить эффект: над безумным потешаются безумные!
Причем с Дон Кихота взятки гладки, у него диагноз: позабыл код окружающей реальности, пытается воспользоваться ключом от совсем другой – не тут-то было. Принимает условности архаичного, примитивного жанра как законы истории либо природы или, во всяком случае, как руководство к действию, вот и не может взять в толк: существа в странных одеяниях, бормоча тарабарщину и зачем-то терзая себя до крови, тащат куда-то неподвижную женщину в трауре, – что это, если не похищение, причем с применением колдовства? Как же не воспрепятствовать? Вперед, Росинант!
А все остальные, видите ли, нормальны и благонадежны; происходящее толкуют адекватно: рутинное, но полезное мероприятие, направленное на повышение урожайности путем преодоления засухи».
В одно из его писем была вложена запись: Лурье читает стихи Федора Сологуба 20-х годов. Все о Дон-Кихоте.
Дон-Кихот путей не выбирает, Росинант дорогу сам найдет. Доблестного враг везде встречает, С ним всегда сразится Дон-Кихот. Славный круг насмешек, заблуждений, Злых обманов, скорбных неудач, Превращений битв и поражений Пробежит славнейшая из кляч. … Подавив непрошенные слезы, Спросит Дон-Кихот пажа: «Скажи, Для чего загублены все розы?» — «Весть пришла в чертоги госпожи, Что стрелой отравленной злодея Насмерть ранен верный Дон-Кихот. Госпожа сказала: „Дульцинея Дон-Кихота не переживет“. … И пойдет за гробом бывший рыцарь. Что ему глумленья и хула! Дульцинея, светлая царица Радостного рая, умерла!» …А еще, какое было удовольствие посреди горячего спора о Музиле, Прилепине или Асаре Эппеле приватно перекинуться с Саней на футбол. Например, на какой-нибудь вчерашний матч «Ливерпуля». В нашей компании редко кто мог поддержать эту тему, а значит и помешать.
Любимый им «Ливерпуль» не раз творил чудеса, но с испанцами чуда не случилось. «Скаузеры» (так, кажется?) забили первыми гол, а потом сдулись. Саня улыбается: можно даже сказать «мерсисайдцы». Мы наслаждаемся испугом коллег (совсем пропащие!).
От литературы надо уметь отдыхать. Тем более, от интеллектуальных тёрок о ней.
Всё это длилось и длилось. Иногда казалось, что будет длиться вечно. Знали, конечно, о своем конце, но притворялись бессмертной медузой Turritopsisnutricula. «Наш с Вами разговор никогда не прекращается: вот уже сколько лет – практически ни на минуту». Сколько бы ни было лет тогда, когда это писалось, теперь – на год больше.
2016
Игра для взрослых Из школьной жизни
«Значит так. Завтра у нас на третьем уроке комиссия. Кто знает, поднимает правую руку. Кто не знает – левую. Кому не понятно?».
«Мне».
«Садись, два».
Это только так говорится: путь самопознания. Никакого такого пути нет. Есть неотвязное стремление, таинственная болезнь, мучительный порок, комически необъяснимое свойство, совершенно как в гоголевском «Ревизоре».
Городничий жалуется, что от заседателя всегда такой запах, как будто он сейчас вышел из винокуренного завода, а это нехорошо. И не может ли в этом случае помочь разными медикаментами уездный лекарь? Вместо лекаря отвечает Ляпкин-Тяпкин, судья, «человек, прочитавший пять или шесть книг, и…охотник большой на догадки». Отвечает же он следующее: «Нет, этого уже невозможно выгнать: он говорит, что в детстве мамка его ушибла, и с тех пор от него отдает немного водкою».
Так вот, мы не только по-гоголевски «убедительно», с виртуозной смехотворностью объясняем этот недуг самопознания, но точно таким же методом пытаемся объяснить в себе всё, что уже неотвратимо случилось.
Природа со сверхъестественным упорством охраняет свои тайны, пуще же всего те, которые наиболее близко к нам расположены. Похоже, она даже создала для этого некие специальные механизмы. Как только человек подбирается к заколдованной двери с целью понять себя самого, природа тут же выставляет совершенно непреодолимые преграды. Вдруг оказывается, что ты в качестве исследователя себя же самого, которого собираешься понять и не исключено, что уличить в чем постыдном или же непоправимом, уже не ты, а кто-то другой, посторонний. И, разумеется, тебе, другому, он уже не желает открываться. Зачем? А без его доброй воли ты оказываешься в роли взломщика, подсматривающего паскудника, что по сути не только позорно, но и бессмысленно.
Вот и получается: как только тебе вдруг показалось мало просто жить, но захотелось нечто вызнать про это занятие, так сразу стал сам себе чужой.
«Папа, а как это меня совсем не было?»
Отец подводит сына к пустой комнате, приоткрывает дверь.
«Видишь, тебя здесь нет».
«Вижу».
«Вот так тебя нигде не было».
В детстве и в самой ранней юности я любил читать книги о зарождении жизни. И всегда пропускал почему-то самый главный момент сюжета, когда из неорганической жизни возникает вдруг живая клетка. От меня скрывали или же я был безнадежно туп? Я приходил в отчаянье, читал все дальше и дальше и, наконец, заработал себе очки.
Какое это было замечательное и правильное состояние! И вот прошло. На долгие годы забыл даже, что оно было.
Раньше казалось, невозможно жить, не раскрыв эту тайну. Надо было непременно узнать, расширяется наша Вселенная или сжимается, есть ли у Земли двойник по имени Глория, грозят ей коллапс и гибель или она вечна во времени, а при этом непременно понять и почувствовать, что такое вечность и бесконечность что такое?
Сейчас думаю: ну, допустим, ученые обнаружат-таки какую-нибудь белковую частицу, из которой все мы произошли. Но разве сможет объяснить это боярскую шубку шмеля, восторг ребенка, неисчислимый род мятлика, сравнимый разве что с библейским родом, тонкие призраки моей памяти, наконец, поднимающиеся по невидимым стеблям и образующие под куполом неба восхитительный и горестный хор?
Выходит, в своем неведении я не выше любой земной твари. В отличие от нее, правда, у меня может быть мнение. Страшно представить себе, сколько сил потратила природа на это излишество!
«Мама, я боюсь этого жука. Он меня укусит».
«Не укусит, доченька, у него зубы вырваны».
«А он губами».
«Губами он может только улыбаться».
Взрослея, мы все реже смотрим в небо и наклоняемся к земле, все чаще роемся в сундуках, ворошим прошлое, и всякий раз, как будто сундук волшебный, находим там нечто новое.
В детстве всё – притча.
И все же – в чем смысл этих бесконечных походов в прошлое? Быть может, нам необходимо подновить краски, добавить поэзии в заскрипевшую вдруг жизнь? Пришлось трудно, правда. Жизнь перескочила через образовавшуюся во времени трещину. Сознание поспело за ней, а чувство – нет. Оно как вросшее корнями в камень завороженное деревце, осталось на том берегу. Жалко его. Вот и наведываемся. Ностальгия, да.
Быть может, дело в том, что в каждом из нас не только лирик живет, но и философ. И с годами философ, разумеется, богатеет, а лирик становится все более бедным. Лирику эти элегические круговращения положены как бы по должности, тут все ясно. Но философу – так ли уж важен ему в работе опыт личной жизни? Психология философии могла бы кое-что объяснить в этом, но такой науки нет.
Так уж получилось, что лирик пользуется материалом жизни почти открыто, философ же, возможно, даже не подозревает о существовании каких-либо психологических истоков своей философии. Ведь он убежден, что имеет дело с объективной и неопровержимой истиной.
Казалось бы, существование множества несопрягаемых философских систем должно было поколебать эту уверенность. Но нет. Истина едина, говорит Шеллинг, как и красота. А наличие разных философских направлений – только печальный плод несовершенства ума.
Странно. Особенно то, что касается красоты. Чего бы тогда так радоваться нам разнообразию в искусстве, если оно рождено всего лишь эстетическим несовершенством художника?
На мой взгляд, совершенно очевидно, что философия – род искусства и что рождается она в процессе некоего опыта и переживания. Правда, для будущего философа более значимы, вероятно, не столько сюжеты и характеры, сколько некий порядок вещей и общая атмосфера. Не стиль, а регламент, не экспрессия, а закон.
В биографии художников чуть ли не всякая деталь становится системообразующей. Например, мать в детстве целовала маленького Марселя в лоб, а не в губы, как он просил, и это в немалой степени повлияло на художественный мир Пруста. Легко проследить, как отношения Кафки с отцом способствовали формированию кафкианства. А вот поди при этом разберись, как любовь Ницше к Лу Саломе отразилась в его книге «Так говорил Заратустра»? Между тем, отношения Лу Саломе с Рильке внятно отпечатались хотя бы в «Книге о бедности и смерти»…
Но для философа, повторяю, более важны не столько психологические сюжеты, сколько порядок вещей. Однако что это такое? Чехов заметил как-то устами своего героя, что «ветхость университетских построек, мрачность коридоров, копоть стен, недостаток света, унылый вид ступеней, вешалок и скамей в истории русского пессимизма занимает одно из первых мест». При всем лукавстве его, заявление это скидывать со счетов не стоит.
Вот, может быть, в чем причина нашего неутомимого следопытства. Лирический этап (ностальгия) этих походов в прошлое в какой-то момент исчерпывает себя. Потому хотя бы, что с возрастом оказывается почти исчерпанной или, во всяком случае, не столь существенной в целом лирическая подоплека жизни. А содержание личного опыта вольно или невольно, осознанно или нет становится чрезвычайно актуальным. И тут внутри нас начинает работать философ.
Мы можем забыть прочитанные книги или дерево, под кроной которого давали клятву. Но при этом неустанно идем вспять по берегу реки в поисках истока собственной спонтанной философии, и забыть о его существовании не можем и не хотим. Вернее же так: чувство не может забыть, память силится вспомнить, разум не в силах осознать.
«…Драма уже окончилась, но что-то, относящееся не столько к сюжету и характерам, сколько к сцене, атмосфере и условиям развития действия – остается недопонятым, и я, сэр, с авансцены, задним числом ввожу зрителя в обстоятельства, самим действием непроясненные. Но это – упаси Боже – не моралитэ, о нет! Я бы назвал это, пожалуй, уточнением впечатления, уже сложившегося у зрителя, но еще не оформившегося в мысль».
Александр Пятигорский.
«Вспомнишь странного человека…»
Я никогда не возвращался в те места, где мне было хорошо. Не считая, конечно, родного города – он давно стал фоном развернутой в пространстве и времени биографии. Тут никак уж не минуешь дом, в котором сначала воровал оладьи с тарелки, а спустя годы целовался под столом с соседской Светкой, кирпичной школы, обустроенной в бывшем военном госпитале и укравшей у меня два-три первых и самых, вероятно, дорогих обольщения, сад, по которому гулял с сыном. Как заглядывал он в мои глаза – с непереносимой надеждой и доверчивостью.
Однако оставались все же и в этом пейзаже свои прорехи. В них-то я никогда физически и не проваливался, не уходил – только памятью, что, конечно, естественно, но все же как бы и не считается.
А тут именно что ушел, то есть попросту сел на электричку и поехал.
До чего все близко в этой жизни, как подумаешь! Через пятьдесят минут я уже был на месте и окунал свои подошвы, говоря красиво, в пыль прошлого. Но от прошлого-то здесь ничего и не осталось, о чем, конечно, можно было заранее догадаться, даже не обладая сверхъестественным воображением. История и итог подобных паломничеств хорошо известны. Готовить себя к разочарованию в этой ситуации так же глупо, как играть с самим собою в прятки.
Не знал, разумеется, куда ехал, но знал, на что шел.
Прежде всего, все заросло. На месте нашего домика рос шиповник с выбеленными дождем розовыми лепестками. Маршруты прежних тропинок невозможно было вычислить – на их месте шла своя, лесная, лужаечная жизнь. А ведь была в них продуманная, ногами и годами образовывающаяся, целесообразность, которую я когда-то хотел оставить в наследство сыновьям.
Пахли неизвестно как зашедшие сюда сирень и жасмин – под их тенью давно погибла не слишком старательно возводимая нами клубника.
Шашлычное пепелище нашел по огромному, принимавшему на себя ветер, кусту лопухов. Это не лопухи, подумал, это слоны непримиримо сошлись лоб в лоб и трясут своими ленивыми ушами. И тут же устало: «Ах, оставь! К чему плести новые мифы? Тебе здесь не жить».
Что правда, то правда. Может быть, именно это, а вовсе не предательство пейзажа рождает в паломнике грусть. Потому и воображение не созидательно. Ему все представляется, что какой-то пачкун замазал дилетантским наброском шедевр старого мастера. Хочется соскрести и открыть миру то, первозданное.
Но кому-то некогда хотелось и твое «первозданное» соскрести как подделку, не так ли? С другой стороны, то, что ты видишь сейчас, возможно, является творением нового гения, и работа еще не закончена, однако в веселом соавторстве тебе отказано, и грусть по этому поводу рождает зависть и ревность.
Так примерно размышлял я, направляясь к станции. И всякое новое соображение не наполняло смыслом, а, напротив, опустошало душу, лишая ее какой бы то ни было личной перспективы.
Почти вровень со мной, лениво взрыхляя дорогу, шла немолодая обладательница государственной дачи со своим спутником. Глаза дамы придерживались давно задуманного выражения брюзгливой умудренности и при этом какого-то джульетомазиновского удивления. Она то и дело накручивала на палец длинный локон, который норовил попасть ей в глаз.
Мужчина сопровождал ее, не отвлекаясь, впрочем, от движения своих парусиновых штиблет, как будто боялся, что они вот-вот что-нибудь без его ведома выкинут.
– Каждое утро я начинаю с газет, – говорила дама. – Не понимаю, как люди живут без новостей. Так можно и конец света когда-нибудь пропустить.
– Ну, это вряд ли, – улыбнулся мужчина.
– Не ухмыляйся, пожалуйста. Во всяком случае, о нашей текущей жизни, поверь, я знаю чуть больше, чем ты.
«Что за тоска, дядя!»– подумал я. Клянусь, дома их ждет не менее трех кошек и хотя бы один питон.
Как многие гигиенически озабоченные и целеустремленные горожане, летом они наверняка живут в полном бардаке и забвении времени, что входит в состав отдыха. Часы за зиму проржавели, а носок, завалившийся за диван, второй год ждет своего часа.
– Да, – продолжала домохозяйка, – раньше сочиняли оперы «Жизнь за царя», а сегодня пишут детективы «Жизнь за квартиру».
– Жилищный вопрос их испортил, – как бы про себя сказал мужчина.
– Не надо цитировать! – вскрикнула женщина. – Цитировать я сама умею.
Она явно набирала темп, и, сохраняй я прежний шаг, мне, возможно, удалось бы узнать причины наших бед, а также глубоко продуманный план выхода из кризиса, но я, пользуясь относительной молодостью, прибавил хода.
И тут же почувствовал, как стало легче дышать. Казалось, еще мгновение, и я пойму, о чем говорят между собой кусты и деревья. В юном малолетстве я бы непременно придумал что-нибудь за них, но сейчас мне было достаточно этой мелькнувшей возможности.
Вечерние улитки выползли на дорогу, таща за собой свои легкие домики. У улиток были глаза. Со стремительной осторожностью убегающего я обходил их, чтобы не наступить.
Как восхитительны дураки! Как сокрушающе убедительно их занудство и прицельно непопадание!
На пути встретился обгоревший скелет некогда роскошного кафе. Так ему и надо, весело подумал я.
В ларьках, забывших запах овощей, кто-то выбил стекла. Зимой они, видимо, заполнятся снегом, если до того и их не подожгут.
Человек не может долго созерцать запустение. Вид запустения рождает в нем агрессию. Я был с теми, кто бросал камни.
Огромные, наполовину обработанные валуны лежали на поляне. То ли останки разрушенного финского фундамента, то ли материал для строящегося дома. На камнях сидел паренек с книжкой и потягивал из бутылки пиво.
Недалеко от камней, под сосной вырос шалаш. Строителей не смущало, что он построен на скрещении двух дорог.
Вот еще один закон: даже на пустыре человек стремится обустроить, украсить, огородить место своего нынешнего пребывания. Пусть первым таким интимным островком будет шалаш на скрещении дорог – жизнь рано или поздно возьмет свое.
А вон за той оградой горит мангал. Дым заполняет мокрые кусты. За накрытым прямо в саду столом сидят люди в плетеных креслах.
Некогда обреченные классы вершат свою жизнь посреди новых развалин. Хоть сейчас переноси эти кресла на сцену в какую-нибудь из пьес Чехова или Горького. «Где такие продаются?»– подумал я. Мысль для чисто эстетического созерцания была, пожалуй, слишком прагматичной. Но в этом тоже ощущалась характерная особенность обстоятельств времени и места. Разве пришла бы мне в голову такая мысль еще лет десять назад?
Пейзаж изменился, да. Раньше в магазине было полно вин «плодово-выгодных» (фольклор!) и прочей «бормотухи» (тоже фольклор) – теперь одна минеральная. Зато работает круглосуточный магазин с баром – пей культурно до утра – не ¬¬хочу. Главной же проблемой было пиво. Мужики с утра занимали очередь у единственного ларька, разминая в руках сухую воблу. Сейчас колонки с пивом через каждые пятьсот метров.
Пейзаж изменился…
Зашел на кладбище. Здесь друзей, знакомых и приятелей едва ли не больше, чем в жизни. Постоял. Тихо поговорили. О текущей жизни не разговаривали, потому что из всех нас газеты читаю по утрам только я. Задержался на минутку и у знаменитой могилы той, которая простилась в стихах с этими местами за семнадцать лет до своей смерти:
Здесь все меня переживет, Все, даже ветхие скворешни И этот воздух, воздух вешний, Морской свершивший перелет. И голос вечности зовет С неодолимостью нездешней. И над цветущею черешней Сиянье легкий месяц льет.Возвращался к поезду. Черешня на лотках уже заканчивалась. Месяц бризовал в легких облаках. Все, в общем, было на месте.
Радиообъявление на вокзале: «Внимание! Электропоезд до станции Кисели отправляется через пять минут с третьей платформы левая сторона. Поезд не имеет остановок на станциях 7 км, 13 км, Наждачный завод, Колодки, Ксюшина заводь, 46 км, Сыроедово, Медвежья пуповина, Голубые дачи, Напраслино, Дельфинарий и Сыроедово-2. Приятного вам пути!»
* * *
Я читаю… Хочется загнуть страничку и на оборотной стороне написать, как девочки, стыдливую отгадку и без того вычисленной любви. Я читаю… детективы.
Почти вся жизнь прошла без фантастики, приключений и детективов. (В жизни два-три, правда, случились, но их едва бы хватило на пару коротеньких рассказов.) А так, чтобы под ночной лампой, отмахиваясь с испугом от жирных мотыльков, вздрагивая от мистического поскрипывания дачных углов, уйти с головой в расследование убийства, случившегося в каком-нибудь голубом лондонском экспрессе, на коротком повороте его у Рутерфорд-хилла?… Нет. Никогда.
А жаль.
Вот теперь наверстываю.
Детективы, собственно, может быть и ждут того времени, когда живопись снова вернется к чертежу, а страсть перестанет соревноваться с упорством мысли.
У меня всегда был очень притязательный вкус. И это у сына полуграмотной, овладевшей только фонетическим письмом матери, и у отца, призванного в офицеры из сельских учителей. Впрочем, теперь думаю я, вкус был как раз дурной, но на провинциальный манер привередливый.
Я застенчиво покинул Робинзона Крузо на его острове, так и не насладившись выпавшими на его долю приключениями, только по причине дурного, как мне казалось, слога автора (или переводчика). С Жюлем Верном практически не плавал под водой и не летал на воздушном шаре – многословный, небрежный стилист (но я-то ведь еще мальчик, не знающий, что в слове оттоманка можно сделать три ошибки). Почему-то знаком все же с его капитанами и мечтательными безумцами – может быть, посредством друзей и кинематографа, а может быть, и сам подглядывал, не удержавшись, через страницу. Но это меня все равно не извиняет.
Те, кто упивался подобной литературой в детстве – счастливые люди. А мне, что же, оставалось наслаждаться элегиями и стирать вечерами нарукавники? Нет, и этих пристрастий и опрятности, пожалуй, во мне не было.
Детективы и приключения снимают на время головную боль вечных вопросов, делая вид, что занимаются с тобой гимнастикой ума и навыками мимолетной проницательности и сострадания. Праздность – не только задумчивое, но и хитроумное дело.
Высокомерие Олдоса Хаксли, который считал, что подобные книги люди читают только из дурной привычки к чтению и, не будь этих книг, мы набросились бы «на кулинарные книги, на инструкции по употреблению готовых лекарств, на правила хранения сухих завтраков, изложенных на обратной стороне коробок», – это высокомерие мне не по душе. То, о чем говорит Хаксли, – частный случай читательства, он не может отменить целый вид литературы, которая мне в последнее время стала любезна совсем по другой причине.
В своей «Автобиографии» Агата Кристи пишет: «Любовные мотивы в детективном романе всегда навевали на меня беспробудную скуку и, как я чувствовала, были принадлежностью романтической литературы. Любовь, на мой взгляд, не совмещалась с чисто логическими умозаключениями, характерными для жанра».
Классик детектива ошибается – дело не в жанре. Просто она сама именно так устроена. С той же беглостью, не детализируя чувства, не заботясь о выборе эпитетов, описывает она в «Автобиографии» и свою собственную любовную историю: «Мы не виделись почти два года. На этот раз мы провели время очень счастливо…Стояла осень, все кругом было усыпано разноцветными осенними листьями…Мы гуляли по лесу, и между нами возникло чувство товарищества, дотоле неиспытанное».
Вот и все. Сказано: «очень счастливо» – и довольно об этом. Все было «усыпано разноцветными осенними листьями» – что еще вам нужно про осень?
А между тем, за всем этим есть своя правда.
Во мне полно романтизма и избыточной наблюдательности. Не только наши недостатки, но и достоинства, в конце концов, ложатся на нас бременем. В жизни от этого бремени избавиться не удастся, и не старайтесь. А погружаясь в детективную историю, я на время освобождаюсь от него и при этом не теряю связи с человечеством, разгадывая ребусы и шарады предложенных мне историй. Если же за несколько страниц до конца романа удается вычислить тщательно скрываемого от тебя убийцу, чувствуешь себя не менее счастливо, чем гроссмейстер, обыгравший в подкидного соседского мальчишку.
Эти книги дают особое облегчение, сродни тому, что мы получаем только от гениальной, не нагруженной специальными смыслами и стилистическими открытиями литературы, и не получаем от литературы замечательной, но понуждающей нас быть выше самих себя.
* * *
Все чаще провожаю своих близких и друзей. Не в отпуск, понятно, не в командировку, не в эмиграцию – в последний путь.
Эти слова обычно произносятся похоронными лицедеями со скорбной надсадой, которая притворяется чувством едва ли не религиозным. Потому что путь предполагает некое продолжение. А какое уж тут продолжение? И мы сами ведь тоже не хороним, а прощаемся и как бы говорим – «до встречи».
У Ахматовой точнее: «Дорога, не скажу куда». Но тоже не без траурного кокетства. Поэзия самоотверженно пытается заполнить собою безрелигиозный пробел. Тщетно.
Три года подряд, часто бывая на кладбище, я всегда встречал старика, который сидел у могилы своей жены. Никогда при нем не было еды. Глазами, выплаканными до бирюзы, он смотрел мимо обелиска в лес, дышал «Беломором» и складывал окурки в газетный кулек.
Могила напоминала маленький ухоженный садик. Хотелось принести в него патефон.
Надгробие было на двоих. Под овальным медальоном, на котором улыбалась женщина с виноградно вьющимися волосами, еще один – с молодым изображением старика на эмали. Под ним дата рождения и тире длиною в жизнь.
Оставалось выбить дату смерти. Деньги кому-то были, вероятно, уплачены вперед. Эпитафия заканчивалась словами, которыми заканчиваются письма: «Скоро встретимся». Кажется, старик действительно верил в предстоящую встречу.
Быть может, жизненный предел непроходящей любви и рождает веру? Однако мы что же все тогда – недостаточно любим?
Помню, когда хоронили отца, я как-то внутренне торопил неторопливую по определению церемонию. Быть может, я хотел остаться один, и меня тяготило присутствие чужих, их деловитое исполнение скорбного ритуала? Нет, это скорее помогало, помогало переждать затянувший очный диалог жизни и смерти.
Я бежал состояния несчастья. Отодвигал сознание горя, не умея с ним совладать. Было ясно, что оно побежит вслед за мной и непременно настигнет. Но тогда я уже буду готов к встрече с ним, буду защищен обступившей меня новой жизнью.
Так оно и случилось, конечно. Но и настигая в памяти, горе никогда не предупреждает о нападении.
Ни понять, ни принять смерть невозможно. Чувство и ум справиться с этим не могут. Тогда что же? Вера? Чувствую ее иногда в других. Завидую даже, быть может. Но мне не дается. А потому придумываю что-нибудь для оправдания. Например, что боюсь соблазна собственного бессмертия. А вдруг и действительно боюсь?
Вот запись Льва Толстого после похорон его сына Вани: «Ужасное – нет, не ужасное, а великое душевное событие. Благодарю Тебя, Отец, Благодарю Тебя».
Все-таки сначала вымолвилось это – «ужасное»! След борьбы с самим собой. Так вся жизнь его и прошла в борении, а не в благодати. Пример безусловно великий. Но чего?
Дальше: «Соня не может так смотреть на это…Она страдает в особенности потому, что предмет любви ее ушел от нее, и ей кажется, что благо ее было в этом предмете, а не в самой любви».
Есть в этом что-то жестокое и себялюбивое, как хотите! Одно и оправдание, что, скорее всего, от ума идет.
Но что если это все не риторика религиозная, в которой ищет спасения страдающий человек, а истинная вера и освобождение, незнакомые мне?
«Она не может отделить одно от другого, не может религиозно посмотреть на жизнь вообще и на свою. Не может ясно понять, почувствовать, что одно из двух: или смерть, висящая над всеми нами, властна над нами и может разлучать нас и лишать нас блага любви, или смерти нет, а есть ряд изменений, совершающихся со всеми нами, в числе которых одно из самых значительных есть смерть…»
Насколько свежее, радостнее стало бы жить с такой верой! Но – только одно из двух, только одно. Отказываясь от этого блага, я лишь поступаю честно перед самим собой и меньше всего хочу показаться дерзким. Тем более что буквально на следующей странице в том же дневнике встречаю строки замечательные и очень понятные мне: «Да, жить надо всегда так, как будто рядом в комнате умирает любимый ребенок. Он и умирает всегда. Всегда умираю и я».
А все же представить себе, что тот, с кем так иногда хорошо и любовно проживалось, теперь не видит, не слышит, не чувствует, не думает, не хочет – нет сил. Симметричный ответ – только собственная смерть. Но поскольку и «возлюби ближнего, как самого себя»– лишь пожелание, посланное в века и неисполнимое, то и проблема отпадает сама собой.
Не лукавим ли сердобольно, выбирая сухое место на кладбище, да хорошо бы на пригорке, да чтобы с тем видом на реку, который он любил? И памятник надо поставить скромный, но достойный, который покойнику бы понравился. То есть заботимся о себе и уговариваем свою совесть. На реку-то нам смотреть в минуты редких посещений, а не ему.
Поминки в завершающей своей фазе напоминают свадьбы. Тут и флирт, и философские разговоры, и всплывший в памяти анекдот, благородно отвлекающий всех от неумолимой и подлинной скорби.
Хотя покойник ведь и сам завещал нам особенно не кручиниться, а помянуть его весело, как, ему казалось, он и жил. Вот и выполняем с некоторым даже излишним усердием его волю.
А, в общем, «смерть – это то, что бывает с другими». Собственной смерти не бывает. Как и собственного рождения. В этом загадка то ли жизни, то ли смерти – по-моему, они сами не могут поделить поля. Загадка же по существу в том, что мы не можем вне присутствия другого, вернее, вне представления о его переживаниях почувствовать эти происшествия. Ну, так и как?
А так, что мы, возможно, сами по себе и вообще не существуем.
Это несколько обидно. Получается, что если никто не радуется, то я как бы и не родился, а если не печалится, то как бы и не умер. Невыносимо.
А иначе не получается.
Вот вам многоумный и задумывающийся об этом Михаил Бахтин: «Потеря себя не есть разлука с собою – качественно определенным и любимым человеком, ибо и моя жизнь-пребывание не есть радостное пребывание с самим собою как качественно определенною и любимою личностью. Не может быть мною пережита и ценностная картина мира, где я жил и где меня уже нет. Помыслить мир после моей смерти я могу, конечно, но пережить его эмоционально окрашенным фактом моей смерти, моего небытия уже я не могу изнутри себя самого, я должен для этого вжиться в другого или в других, для которых моя смерть, мое отсутствие будет событием их жизни. Совершая попытку эмоционально (ценностно) воспринять событие моей смерти в мире, я становлюсь одержимым душой возможного другого, я уже не один, пытаясь созерцать целое своей жизни в зеркале истории, как я бываю не один, созерцая в зеркале свою наружность».
Молодой Бахтин, кажется, видел в этом даже некоторую отраду. Я не могу. Потому что не то что мне моя жизнь дороже (в каком-то смысле – да, в каком-то – нет), но воображение мое, возможно, не так гибко и бескорыстно.
Со своей смертью даже понятнее, чем с чужой. Тут есть спасительная возможность обмануться. Я себе представляю мир после меня глазами другого, вложив в того, другого, всю меру моей любви к себе, как меру его любви ко мне. Но, стало быть, похоронив близкого и вглядевшись в собственное состояние, я могу представить и то, насколько интенсивно и трагично оставленный мир будет осознавать мое отсутствие. И наблюдения эти печальны.
Да, воображение мое не так гибко и бескорыстно. А отсутствие в нем вчувствованности в несуществование другого означает не просто предательство того, но знаменует факт его насильственной посмертной гибели. И тут уже я не так себе – предатель, а убийца. Ничего и не поправить, не порешив себя. А себя порешив, тем более ничего не поправить. Тогда останется легенда о слепом исходе твоей замученной совести, а не о том, смерть кого явилась поводом для этого исхода. То есть его все равно снова не будет, и теперь уже навсегда.
Бахтин верил в природную диалогичность человека и в диалогическую природу Бога. Понять это не так уж трудно, почувствовать – сложнее, поверить – невозможно.
Мой брат, Виталий, умирал дома. Перед смертью сказал мне: «Когда стану умирать, всех из комнаты выгони. Перед ними мне будет неловко и тяжело. Ну, ты понимаешь. А с тобой спокойно».
Мать и отца я в комнату не пустил, а жена осталась. Витя дышал хрипло, с открытыми глазами, горло сузилось, все силы уходили на дыхание. Часа за два до этого он перестал разговаривать. Потом глаза закрылись и грудь стала ходить тише, по убывающей. Он уже не прощался, он уходил, оставались мгновенья.
Было воскресенье. Жена его задала какой-то практический вопрос, зная, что всё, даже траурные услуги, у нас по воскресеньям отдыхает. Я ответил, не помню что. Но думал о родителях, о том, что нельзя им с умершим сыном оставаться на сутки в одной квартире.
В это время брат открыл глаза, сделал еще несколько тяжелых вздохов и так с открытыми глазами затих.
Не могу себе простить. Этой вины ничем не отмолить и забыть ее невозможно. А что, если он слышал нас? Говорят, после смерти человек еще какое-то время слышит и сознает. А он ведь еще фактически был жив!
Так-то я его проводил? Даже в последние секунды не дал отдохнуть от мелкой стервозности животного расчета. Быть может, это мгновенье было самым главным во всей его перековерканной жизни, и он с чем-то хотел примириться и во что-то поверить. А я не дал, не успокоил, не смог остаться с ним до самого конца.
* * *
В юности я был отравлен символизмом, и на долгие годы. Никто из поэтов не закончил хорошо, но символисты закончили хуже других, жальчее. Любившие молодыми смотреть на себя в зеркало, они с годами перестали узнавать себя в нем, как, впрочем, и в зеркале собственных стихов. Большинство из них еще долгие годы шли по жизни похоронной походкой, с детской изворотливостью ища убежища на незнакомом континенте.
Один из соблазнов, которые несет в себе поэзия символистов, – воля к смерти. Она была как бы оборотной стороной их жизнестроительного пафоса, мечты о новом составе человека, мессианской тоски и апокалиптического восторга. Нарисовавшие сухими красками чертеж небесного идеала, они, несостоявшиеся ангелы, закончили неистовым саморазрушительством, в печали и безобразии которого трудно было отыскать приметы юношеских притязаний.
Все на свете, все на свете знают: Счастья нет. И который раз в руках сжимают Пистолет!В сущности, это еще безобидная дань юношескому позерству, желание показаться на людях в байроновско-лермонтовском наряде. Хотя автору стихотворения – двадцать восемь.
Но символисты медленно взрослели.
Написавший эти стихи вряд ли когда-нибудь держал в руках пистолет. Оценивающий их уже был знаком с оружием и картинами массового убийства. Написал стихи певец «потерянного рая», оценивал их человек ХХ столетия, когда, по словам Лидии Гинзбург, «кончился давно начатый разговор о тщете жизни и начался в западном мире другой разговор – о том, как бы выжить и как бы прожить, не потеряв образа человеческого».
Но я-то в юности был еще человеком ХIХ века, хотя бы потому, что о настоящем ХХ веке мы узнали десятилетия спустя. Фальсифицированная информация могла смущать и коверкать умы, воспитывать же и волновать сердца она не могла. В роли домашних учителей у многих из нас ходили поэты начала века. А потому:
Пускай я умру под забором, как пес, Пусть жизнь меня в землю втоптала, — Я верю: то Бог меня снегом занес, То вьюга меня целовала!Против этих стихов повзрослевший и уже по-настоящему заглянувший в лицо гибели Блок написал: «Отвратительный анархизм несчастного пьяницы».
Но для юности поэзия бывает существеннее, чем биологическое чувство самосохранение и очевидность. Не говорю уже о душевной опрятности. А потом, когда гибельный поезд набрал скорость, попробуй-ка, спрыгни!
Сейчас кажется, что Блок, открывая пути, запирал за собой двери, чтобы никто уже не пошел следом за ним. И действительно, поэтически следовать за ним трудно. Но долго еще в эти запертые залы и комнаты я заглядывал, расплющив о стекло нос. Со смешением осознанного влечения и страха наблюдал, как в вечно сохранном интерьере модерна, перевитом лиловыми растениями, клубятся бездны. И, наконец, возблагодарил судьбу за то, что никакое очарование, никакая тоска безумия не способны уже отворить запертых Блоком дверей.
Но это, увы, не конец истории. Не все так просто. Бацилла максимализма поселилась внутри. От чувства отвращения к жизни никто не застрахован, а узнавший вкус бездны может совершенно не воспринять вкуса укропа. В который раз случается, достанет тебя этот мир, подкупивший некогда определенностью трех измерений и пяти чувств, и чувствуешь, как снова тянет внутрь того, застекольного, эскапического существования, обещающего спасение и блаженство… Но это неправда. На этом пути нет ни спасения, ни блаженства, нет ничего, кроме одной мучительной позорной прижизненной смерти.
Немолодой Гамлет идет по полуосвещенному тоннелю метро. К хроническому артриту он давно привык и хромоты своей не замечает. Свой вечный вопрос он обдумывает с таким же молодым максимализмом и предсмертной решимостью, как и тридцать лет назад. Вдруг поднимает глаза и видит под потолком вывеску: «Выхода нет».
А-а, так они уже знают!
Хандра, сплин, меланхолия, тоска – псевдонимы одной болезни, которая столетиями гуляет по свету, заражая и поражая наиболее чувствительных. Зная об этом, бережно относящиеся к себе нации, принимают профилактические меры: регулярно играют в теннис и в гольф, меняют машины, воздерживаются от спиртного, крепкого кофе и жирной пищи, улыбаются не только фотографу, свято чтут уик-энд, много путешествуют, ходят в церковь и не держат в доме книг. Если зараза все же настигает, обращаются к психоаналитику. Говорят, сославшись на депрессию, бюллетень можно получить даже по телефону.
Но нигде, кажется, потеря интереса к жизни не вырастает до размеров идеологической драмы и метафизической трагедии, как у нас в России. В обычном ходе вещей мы готовы винить одновременно порочность общественного устройства, собственный нравственный просчет, Божью кару и порчу, которую навел сосед.
Отдыхавшая до того совесть, начинает бешено работать, погружает в глубокую рефлексию, заставляет разобрать жизнь до основания, чтобы убедиться в бездарности постройки, в руинах которой, впрочем, непременно притаилось одно прекрасное, прекрасное воспоминание: «…в детстве во время грозы он с непокрытой головой выбегал в сад, а за ним гнались две беловолосые девочки с голубыми глазами и их мочил дождь. Они хохотали от восторга, но когда раздавался сильный удар грома, девочки доверчиво прижимались к мальчику, он крестился и спешил читать: „Свят, свят, свят…“ О, куда вы ушли, в каком вы море утонули, зачатки прекрасной, чистой жизни? Грозы уж он не боится и природы не любит, бога у него нет, все доверчивые девочки, каких он знал когда-либо, уже сгублены им и его сверстниками, в родном саду он за всю свою жизнь не посадил ни одного деревца и не вырастил ни одной травки, а живя среди живых, не спас ни одной мухи, а только разрушал, губил и лгал, лгал…»
Так стенает у Чехова Лаевский в ночь перед дуэлью, которая, разумеется, закончится ничем, однако вернет героя, по замыслу автора, на нравственную стезю. Вот только, замечу от себя, вкуса к жизни, увы, не вернет.
На мысль это наталкивает любопытную. Будто вкус к жизни у нас знаком только таким, как Ноздрев, Паратов, Стива Облонский да Лаевский (до покаяния, конечно).
Меня уверял один психолог, что ребенок всякий раз забирается на табуретку по-новому: для него этот процесс, наполненный оттенками смысла и состояний, неисчерпаем по своим возможностям. Думаю, мы не справились бы с жизнью, если бы в нас это детское свойство осталось навсегда.
В умилении ребенком таится неосознанная обида: почему мы-то так необратимо быстро освоились в этом мире? И нельзя ли как-нибудь научиться жить проще, легче и разнообразней? Живут ведь многие без четко выявленных и мучительно обретенных ценностей и ничего, справляются. Не обделены при этом ни умом, ни талантами, ни добротой. А главное, жизнелюбивы в отличие от нас, многотрудных. До Бога мы еще, допустим, дойдем (или не дойдем), но как быть с любовью к «клейким листочкам»?
Еще, казалось бы, совсем недавно каким счастьем было сорвать с грядки огурец, колкий, с белесыми пупырышками, вытереть его о рукав и съесть, оглохнув. А теперь – ну сорвал, ну съел. Он еще водянист, пожалуй.
А если зимой случалось получить в подарок яблоко! В руки (в рот!) даром попадал смысл жизни. Невероятное, непостижимое родство: вкус яблока и запах снега.
И вот… Что, собственно, произошло? Конечно, как поется: «Сначала мы все – ого-го! А после – весьма и весьма». Годы, знаете, своё берут.
Но нет, тут что-то не так. В этом не может не быть нашей вины (видите, как я отрабатываю отечественную традицию?).
С другой стороны… Детская родниковость… Сколько, если правильно вспомнить, драмы и мути в ней!
До недавнего времени мы все ходили на коротком поводке у нашей великой литературы. Не слишком отвлекаясь на школьную дребедень, смаковали потерю вкуса к жизни у Онегина и Печорина, с такой глупой безбоязненностью, с какой мальчишки приветствуют начало войны. А потеря вкуса к жизни у героев нашего школьного детства обернулась через сто лет смертельной скукой и преждевременной старостью героев Чехова, затем волей к смерти у Блока и Есенина. Да у тех-то хоть были какие-никакие дуэли, а у этих – только кабак.
Литературная преемственность многих наших бед несомненна. Жизнь, конечно, меняется, традиции утрачиваются, и все же… Секундант Шешковский в чеховской «Дуэли» признается растерянно: «Я правил дуэли не знаю, черт их побери совсем, и знать не желаю и рассуждаю не как секундант и всякая штука, а как человек и всё». Признание искреннее, но кое-что все же он помнит и, конечно, из литературы: «Когда секунданты предлагают мириться, то их обыкновенно не слушают, смотрят, как на формальность». Вот именно!
Однако для того чтобы стреляться, нужно действительно вспомнить правила: «– Господа, кто помнит, как описано у Лермонтова? – спросил фон Коррен, смеясь. – У Тургенева также Базаров стрелялся с кем-то там…»
Литература, литература… «Я должен обобщать каждый свой поступок, я должен находить объяснение и оправдание своей нелепой жизни в чьих-нибудь теориях, в литературных типах, в том, например, что мы, дворяне, вырождаемся, и прочее… В прошлую ночь, например, я утешал себя тем, что все время думал: ах, как прав Толстой, безжалостно прав! И мне было легче от этого».
Первый поцелуй Поэта и Прекрасной Дамы, как, спустя годы, она призналась, произошел литературно и привел к отнюдь не литературной трагедии. Блок протоптал Есенину дорогу в кабак. А когда Есенин погиб, Россию потрясла череда самоубийств.
Многие века искусство приучало нас к тому, что любовь мужчины и женщины является высшим смыслом и кульминацией человеческого бытия, тем самым с неизбежностью культивируя и страдания. Лев Толстой, было, взбунтовался, но на брюзжания старика мало кто обратил внимание. Природа брала свое, а человек, как существо цивилизованное, нуждался в санкциях искусства.
Блок, как и во всем, подвел и здесь умопомрачительный итог, произнеся: «Только влюбленный имеет право на звание человека». Все люди хотят быть человеками. Но соответствовать блоковскому постулату труднее, чем следовать заповедям Евангелия.
Варьировались темы жертвенности. Литература ввела в моду истероидный тип. Потом он пошел в революцию.
Символисты и футуристы, супрематисты и большевики, политэкономы и обэриуты, соцреалисты и реалисты без берегов разучились доверять жизни и разговаривать с ней. Они так наловчились деформировать, сжимать и растягивать пространство и время, что те порядком поизносились, не успевают, распрямившись, вернуть свою первоначальную божественную форму, в них появилось множество заплат и прорех, в которые то и дело проваливается наше сознание, а вслед за ним и мы сами. Зато сколько великолепных стилистов разом появилось на свет.
Ну да это все тоже, впрочем, из области философии, от былой страсти к универсальным построениям, из той еще, нагруженной смыслами жизни.
Не только Горький со своими утомительными антимещанскими проповедями, но и «безыдейный» Чехов, уязвивший нас крыжовником в личном саду, приложил к этому руку. Вот теперь полстраны и оттягивается в выходные на своих огородах – наверстывают.
Конечно, человек – не трава, и все эти призывы «жить, как трава» (так Блок пытался спрыгнуть с гибельного поезда, но через семь лет все равно угодил в революцию) не более чем риторика утомленного существа. Из жизни неосмысленной, непросветленной может получиться только скотство и адская мука.
Но и причастность к культуре не спасает. То-то вся наша литература сначала была обличительной, потом легко перепрофилировалась в червивоискательскую. И все – от пушкинского Фауста до лирического героя Бродского – жалуются на скуку: «Я не то что схожу с ума, но устал за лето. За рубашкой в комод полезешь – и день потерян». Прямо хоть перелопать обратно в прозу и подари герою «Скучной истории».
И в детстве спасения искать не приходится. Дети тоже скучают. Правда, они скучают все же более творчески – водят, например, пальчиком по узорам обоев и сочиняют свою географию. Мы скучаем скучно. И главное, когда это затягивается надолго, настигает ужас – а вдруг навсегда? У детей этого не бывает. Их, вероятно, спасает непоседливость и всегда внезапное чувство голода, заменяющее им потребности духовные.
Что же еще? Опять вера? Может быть, вера. И вновь трудно говорить мне по причине незнакомства с предметом. Или, если и знакомства, то мучительного. В душу грешника-то не заглянуть, а в душу святого – куда там! О церковниках?…
В газетном интервью одно высокое духовное лицо призналось, что некоторые священники произвольно затягивают службу, любуясь своим голосом. Везде жизнь.
Да дело и не в этом. Мы привыкли выбирать из двух. Вот беда. В сторону психологию! Бьемся о стенки доморощенного дуализма: тело-душа, высокое-низкое… Пары могут быть составлены верно или неверно, но места игре и выбору, то есть человеку, все равно не остается.
Зачем-то упомянул психологию. Но в ней-то легче всего увязнуть. Может быть, и узнаешь про себя что-нибудь любопытное, но, скорее всего, опять какую-нибудь гадость.
Нравственная рефлексия? Но этим ведь только и занимается половина героев нашей литературы. И, как мы знаем, безуспешно. К тому же добродетель и вкус к жизни из разных сказок.
Задача переустроить мир всегда в запасе. Ее решает другая половина литературных и не только литературных героев. Но человек может пребывать в довольстве и славе, и вся жизнь будет представляться ему «красивой, талантливо сделанной композицией», а все равно хочется наложить на себя руки.
Однако желание круто изменить хотя бы свою свобственную жизнь – неискоренимо. Меняют нынешнюю жену на школьную возлюбленную, прибыльную профессию на юношеское хобби, старых друзей на новых, вредные привычки на безвредные увлечения… Про таких в народе говорят: от себя не убежишь.
Беспомощные мы все-таки существа. Спина зачешется, и то надо тут же искать подручное средство или же просить о помощи ближнего. Прямо как кони. Только в нас, может быть, гордости и норова меньше.
* * *
Чехов – Лике Мизиновой: «Свое письмо Вы заключаете так: „А ведь совестно посылать такое письмо!“ почему совестно? Написали Вы письмо и уж думаете, что произвели столпотворение вавилонское. Вас не для того посадили за оценочный стол, чтобы Вы оценивали каждый свой шаг и поступок выше меры. Уверяю Вас, письмо в высшей степени прилично, сухо, сдержанно, и по всему видно, что оно написано человеком из высшего света…
Чтобы ей угодить, Веселей надо быть. Трулала! Трулала!И в высшем свете живется скверно. Писательница (Мишина знакомая) пишет мне: „Вообще дела мои плохи – и я не шутя думаю уехать куда-нибудь в Австралию“.
Вы на Алеутские острова, она в Австралию! Куда же мне ехать? Вы лучшую часть земли захватите».
Наш душевный бюрократизм превратил веселого и легкого Пушкина в подозрительно безущербного монстра. Или… Или в фигляра и скомороха, беспутного удачливого неудачника. «Да это же наш Чарли Чаплин, – воскликнул однажды Андрей Синявский, – современный эрзац-Петрушка, прифрантившийся и насобачившийся хилять в рифму…»
А тропа к Пушкину, между тем, все не зарастает. Всё идем поклониться и испросить советов. И Пушкин дает их. Только вот беда: если следовать им, то получится, что направо пойдешь – коня потеряешь, налево – голову, прямо – честь. Что выбрать?
Ясно только одно: скучно не будет.
Пушкин – вот кто понимал и никогда не хмурил брови, говоря о литературе. «Гете, – писал он, – имел большое влияние на Байрона. Фауст тревожил воображение Чильд-Гарольда. Два раза Байрон пытался бороться с великаном романтической поэзии – и остался хром, как Иаков».
Литература – странное ремесло.
По свидетельству В.Шкловского, Блок поначалу намеревался отдать «Незнакомку» в сатирический журнал «Адская почта», но потом передумал, и оно вошло в антологию русской лирической поэзии. Правда, над строчкой «и пьяницы с глазами кроликов» публика все равно продолжала смеяться.
Лев Толстой уверял, что ему смешно, когда в конце каждой трагедии Шекспира происходит «вытаскивание за ноги полдюжины убитых». А ведь юмор не самая сильная его черта. Вероятно, для того чтобы прорвать его серьезность, нужен был именно такого масштаба трагический талант, как у Шекспира.
От себя замечу, что выражение «ноги полдюжины убитых»– редкий пример словесного комизма в серьезном эссе, которое гений художественного слова писал не торопясь.
Умный Грибоедов вывел трагическую фигуру Чацкого на фоне смешных и опасных уродцев, а не менее умный Пушкин считал умного за счет автора Чацкого – смешным.
Своим внеюридическим максимализмом мы подталкиваем власть делать один опрометчивый шаг за другим: форма патриотического садо-мазохизма.
Ловлю себя на том, что мне не столько дела хочется, сколько правды, не столько права, сколько любви. Полшага до развенчания прогресса.
В кармане сквозит – это по-нашему. От лишних двадцати граммов денег хочется побыстрее избавиться. Продавец обругал. «Жигули» не уступили дорогу. Дворник облил ботинки из шланга. Обыкновенная жизнь. Моя жизнь. Если чиновник извинится передо мной – пугаюсь. Что там у него на уме?
Такая консервативная захламленность – в душе чуть ли не каждого интеллигента, что делает его, конечно, еще более радикальным.
Все тяжелее переживаю сезонное укорачивание светового дня. Непомерно долго длящаяся темнота поворачивается ко мне своим метафизическим смыслом. К тому же сердце совсем перестало считаться со мной, как я долгие годы не считался с ним. Но я почему-то думаю об этом не высоким словом возмездие, а криминально-бытовым выражением – сведение счетов. Думаю: неужели я так ему навредил? Могло бы быть и помилосерднее. Думаю так и курю сигарету за сигаретой.
Странные мы люди. Мы – люди, мы – странные. Случающаяся между нами близость часто построена на непонимании. Вражда, впрочем, тоже. Обижая другого, мы ощущаем себя жертвами. Этому недоразумению нет конца, и нет никакого разрешения ему.
И я-то ведь принялся оперировать словами в ту пору, когда понятия не имел о смертоносной силе их. Скольким, вероятно, навредил, скольких обидел. Мы ведь берем в руки чужой текст, желая и боясь разоблачения. Даже если он написан тысячу лет назад. А если твоим современником? Более того, знакомым?
Не тебя ли он имел в виду, изображая букашечного человечка, который воодушевленно звал грандиозное социальное землетрясение, а теперь выползает из-под его руин, горделиво оглядываясь по сторонам и независимо отряхиваясь, как будто ходил в горы на прогулку?
А если он прямо тебя упомянул, то выстрелил в упор, точно заказной убийца. Сам того, возможно, не желая. Просто хотел быть правдивым, как и положено художнику. Художественная же убедительность исключает промах, даже если несет в себе клевету. Вот он и попал. В тебя. Ты просто жил и жил, откуда тебе было знать, что одновремено работаешь мишенью?
Лучше бы искусству вообще не иметь дела с реальностью.
Думаю о неуязвимости нашего чувства правоты. Религиозной, идеологической, национальной, житейской, философской, моральной…
Все общественные и государственные институты, все законы, моральные нормы, социальные устои, религиозные культы созданы не только для того, чтобы усмирить, цивилизовать биологическую природу человека, но чтобы гармонизировать как-то миллионы правд.
Однако чужой правды не бывает. Никакой вообще, кроме своей. Мы уступаем разве что в силу выгоды или неизбежности. Лава покрывается цивилизованной корочкой, но под ней-то все равно ждет своего часа.
Состояние неправоты столь дискомфортно, что долго пребывать в нем не может ни одно живое существо. Можно уступить в малом, но не иначе как с тем, чтобы утвердиться в собственном великодушии, то есть в правоте иного порядка. Можно изменить взгляды. Однако это лишь способ приспособиться к новой реальности, раньше других оценив ее силу и став глашатаем ее (своей) правоты. Даже покаяние не меняет существа дела. Вчерашний грешник рано или поздно становится проповедником, который обрел истину и теперь может наставлять других.
Жить с чувством неправоты невозможно, разрушительно. При этом отстаивающая себя правота, неизбежно ведет к насилию над другим. Однако именно это признать труднее всего. Очевидные примеры насилия и зла объясняются чем угодно: паранойей вождей и фанатизмом исполнителей, объективными обстоятельствами и неправильными методами, косностью и даже зловредностью обращаемых в веру. Но признать, что зло содержится в самом чувстве правоты, в святости веры и убеждения, – значит, поставить над ними знак вопроса, а это для носителя веры опять же акт саморазрушительный.
Церковник может быть грешен – церковь чиста. Партийный лидер может быть преступником – дело партии свято.
В начале века на одном из религиозно-философских собраний князь Волконский поставил вопрос о непозволительности утеснений за веру. Собравшиеся энергично поддержали: Христос и наказание его святым именем – несовместимы. Присутствоваший на собрании Розанов записал: «Сердце мое сейчас же защемила ужасная боль при мысли, что вот еще венок из мирт на увенчанное уже чело, и опять забвение тех, которые уже фактически замучены. Так всегда сплетается „история христианства“, что если в ней являются около роз шипы, то шипы эти относятся не к тому же растению, а к какому-то с ним соседнему… Так что оно имеет преимущества и колоть и вместе имеет славу только роз, благоухания приятности».
Сердечно принимать идею – свойство вечно правых. И это сердечное служение всегда сопряжено с насилием. Даже если это идея ненасилия. Пример тому, семейные драмы Льва Толстого и Махатмы Ганди. Впрочем, искать примеры этого в чужих жизнях – занятие малодушное.
В молодости каждый нуждается в научении и примере. Кто не заводил хоть однажды тетрадку для стихов или афоризмов? Они были даже у законченных парадоксалистов и циников. Только в них вносились изречения не Монтеня или Грамши, а, например, Паскаля, Вольтера или Бернарда Шоу. Неплох также Оскар Уайльд. Например: «Приличия? Я поставил своей целью довести ваши „приличия“ до неприличия, но если этого мало, я доведу их до преступления». В чужом эпатаже можно, как минимум, найти авторитетное оправдание собственного.
На выстраивание индивидуальных норм поведения у человека уходит едва ли не треть жизни. Но это не значит ведь, что все эти годы он живет чужими правилами и предписаниями, а потом чудесным образом пробуждается от гипноза и начинает жить по-своему.
В детстве мы живем нормами не просто усвоенными, но присвоенными, поскольку, хотя выработаны они не нами, мы их считаем своими. Потому что познание в детстве происходит через любовь, а любовь – всегда присваивание. Человек вообще не способен полюбить чужое (даже чужую мысль), пока не осознал это как свое, пока не присвоил.
Вот почему многое из усвоенного нами в юности, а особенно в детстве остается на всю жизнь и составляет иррациональную основу взрослого поведения. Мы много жили, выстрадали свой способ общения с миром, но эти заветы и нормы навечно вписались в рисунок нашего поведения.
Иногда, вспоминая, говорим: «В детстве мы с мамой… Однажды отец в подобной ситуации… У нас во дворе считалось…» Но чаще и вспомнить ничего не можем, и самый тонкий психоаналитик не сможет отделить в нас индивидуально выработанное от бессознательно усвоенного.
Разумеется, объяснять все наши беды только утерей преемственности опыта было бы смешно, как вообще не стоит переоценивать эффективность любого воспитания или, скажем, влияния искусства. И печалиться, что вот, мол, было явление Христа, были Рафаэль, Шекспир, Моцарт, Пушкин, Лев Толстой, а люди и мир не стали лучше, все равно, что поливать слезами вытоптанную дорогу. На это обычно отвечают, что религия и культура все же удерживают человечество на краю бездны, которая, заметим, однако, все ближе.
И то и другое – пустые разговоры. Хотя бы потому, что красота никогда не намеревалась спасти мир, целомудрие или достоинство не имели цели, а искусство не призвано воспитывать. Все это следствия потребности, а не умысла. Разбудить эту потребность в другом – вот все, что может сделать один человек для другого. Или не может.
Интересно, что всякие поучения мы при этом отвергаем в любом возрасте. Они всегда укор и указание на то, что есть некая норма, которой ты не соответствуешь. Авторитет поучающего не помогает делу. Так Толстой много навредил себе в глазах человечества, которое оказалось чертовски самолюбивым и обидчиво пошло в другую от него сторону. Его дневники значительно более действенны и воспитательны, как всякий пример личного страдания.
Поучающий, кроме всего прочего, как бы заведомо выше ученика. Во всех отношениях положение не слишком удобное для беседы. Впрочем, поучение беседы и не предполагает.
Совет – другое дело. Главное его достоинство – необязательность. При свободе выбора мы становимся более сообразительными и легче поддаемся внушению.
Мне вспомнилась «Речь на стадионе» Иосифа Бродского. Он произнес ее в 1988 году перед выпускниками Мичиганского университета.
Бродский тысячу раз оговаривается, что, выступая перед «группой молодых разумно-эгоистичных душ накануне очень долгого странствия», надеется быть полезным не столько потому, что человеку его возраста положено быть хитрее «в шахматах существования», сколько потому, что он, по всей вероятности, устал от массы вещей, к которым молодые люди только еще стремятся.
Мудрость этой оговорки в том, что она освобождает слушающих от ответственности. К тому же мэтр не то что лучше и выше других, но, может быть, чуть хитрее. Это годится. Чужой хитростью только ленивый не воспользуется, тем более, если она привела к столь очевидному результату.
Советы, которые он дает, по сути, вполне соответствуют евангельским заповедям, но упаковка, упаковка совсем иная. Впрочем, дело не столько в упаковке, сколько в точном понимании человеческой психологии. Он не требует невозможного, не показывает подлую изнанку нашей природы, но лишь предлагает использовать существующие ресурсы для достижения собственного же душевного комфорта.
Например, совет сосредоточиться на точности своего языка и обращаться с языком так же, как со своим банковским счетом. Цель – внутреннее равновесие. Потому что накопление невысказанного должным образом может привести к неврозу.
Совет быть добрыми к своим родителям сопровождается такой оговоркой: «Я лишь хочу сказать: старайтесь не восставать против них, ибо, по всей вероятности, они умрут раньше вас, так что вы можете избавить себя по крайней мере от этого источника вины, если не горя».
И в других советах Бродский пластически соединяет соображения по-житейски прагматичные с предписанием духовной диеты. Надо быть скромным и говорить потише, потому что богатых и знаменитых толпы и им там, наверху, очень тесно. К тому же чувство исключительности подрывает уникальность.
Не напрягая непомерностью требований, он с терапевтической предусмотрительностью предостерегает и от непомерных претензий, а стало быть, и будущих разочарований: «Всякий раз, когда вы в отчаянии или на грани отчаяния, когда у вас неприятности или затруднения, помните: это жизнь говорит с вами на единственном хорошо ей известном языке».
Кажется, это более гуманно, чем обещание рая небесного, тем паче земного, превращающее человека в заложника. Напротив, угождая себе, легче сохранить не только вкус к жизни, но и самоуважение. Впрочем, то же самое при определенных обстоятельствах более всего располагает ко сну.
Урок химии в средней школе.
Ученик: Тамара Ивановна! Вот мы смешали этот порошок с синенькой жидкостью, и все задымилось и стало кипеть. Почему?
Учительница: Реакция такая.
Вероятно, мы влюбляемся не в человека, а в его роль. В роль, которую мы воспринимаем как версию его личности. Ситуативная роль: тамада, начальник, любовник, душа компании, профессионал… Или, что почти одно и то же, роль, которую мы при неполноте впечатлений слепили ему, пользуясь материалом своего состояния и своих представлений.
Сам человек, как малёк, проскочил в слишком крупную ячейку нашего халтурно-сетевого восприятия. Даже в любви так.
Умру, а в темноте после меня будут еще некоторое время двигаться и фосфоресцировать слова или… молва. А меня не будет. В буквальном, не физическом смысле. Предметом прицела я еще могу остаться, но прицел будет размыт. Все будут стрелять вразброс, от живота. И попадут, конечно, в небо, как в копеечку. Выудят, например, из пещеры вчерашней молодости фразу:
– Никак не могу купить калоши. Всё уходит на жизнь.
В итоге остался человек без калош. Не человек без калош остался, а остался «человек без калош». Босая душа его убежала по тропинке, незамеченная. Неужели все мы так нечетко задуманы или же просто неумело построены?
От неточности, от приблизительности я задыхаюсь. Природа ведь неточной не бывает. Что характерно, неточность – это собственно наше изобретение.
Бывает ли нахальным клен? Бывает ли он пошлым? Так медово наливается к сентябрю, так прихорашивается. Попросился в текст и попал. Или стал героем песни.
У него с чувством жанра все в порядке. Это нам даны ум, совесть, чувство меры, чтобы сохранить себя в некотором жанровом равновесии.
В детстве это происходило как-то иначе. Мир там всегда живой, пустот не бывает, отсутствие знания с лихвой возмещается фантазией.
Моя знакомая долгие годы прожила с уверенностью, что есть на земле остров Зариба. Уже повзрослев, безуспешно искала его на карте, стыдясь признаться в своем невежестве.
Оказалось просто: в детстве все мы пели песни о Кубе. Была и такая: «Куба – любовь моя! Остров зари багровой…» В ее восприятии звуки слиплись и образовали несуществующий остров: «Остров Зариба гровой». Значение слова «гровой» было не интересно (мало ли непонятных слов), зато появился остров.
Так вот о жанре. Тибетская, кажется, мудрость: если у вас много болезней, значит, надо лечить позвоночник. Позвоночник поведения – чувство жанра. Или стиля. Что, практически, одно и то же. Так просто для понимания и так трудно в исполнении.
Вот я, например, написал: «Тибетская, кажется, мудрость». Мог бы и проверить, найти источник. Если бы я писал исследование, то так непременно и сделал бы. Но если точность – вежливость ученого, то убедительность – доблесть рассказчика.
Книга с цитатой лежит справа от меня, на стуле. Но я не загляну в нее и не перепроверю себя, и все эти оговорки делаю для того, чтобы сохранить жанр непреднамеренного разговора, в котором важнее точной информации эмоция и честность думания. Я не настаиваю, не сообщаю – разговариваю. Я не обязателен, но существен в той степени, в какой существенно мое переживание в момент произнесения или написания слов.
И так во всем. Жанр – это не то что абсолютная естественность, но непременно четко соблюдаемая условность. Это позволяет не только сообщить нечто, быть услышанным, но и, не ущемляя самолюбия собеседника, остаться самим собой. И – прав Пятигорский: «Не напоминает ли нам неустанно Судьба, что то, как наш разговор ведется, уже есть то, о чем он?»
* * *
Знаете ли вы, как объясняется слово «трущоба» в энциклопедическом словаре 1955 года? Это «грязные, тесно застроенные кварталы капиталист. города, в к-рых обитает беднота». Это я к тому процитировал с точностью до сокращений, что мы в пору моего послевоенного детства жили не в трущобах, поскольку жили при социализме.
А жили мы при этом в небывалой протяженности коридорах коммуналок, в бараках и вагонах. Жили нищей, гигиенически вредной, коллективистски сдавленной, отчаянно трудолюбивой жизнью. Такие социальные слои есть, вероятно, в любой стране. В чем же разница?
В том, я думаю, что этот социальный слой представлял собой практически весь народ. Нищие в капиталистической стране сознают свою обделенность. Мы же в большинстве своем были головокружительно счастливы. Счастливы и горды. Горды и благодарны. Взрослые кляли, конечно, выпив, начальство, но возвышенный смысл построения лучшего в мире общества ответственно и интимно (не только публично) принимали. А это совсем другая история.
Убежденных, идейных среди квартиросъемщиков не было. К таким относились с подозрением. Ощущалась в них какая-то человеческая порча и жажда личной выгоды. Кличка у них была – сознательные. Но вот эта внутренняя вера в правильность движения неблагоустроенного еще мира была у большинства.
Однако как же все-таки люди умудрялись сохранять себя, обложенные со всех сторон фальшивым и негибким социумом? Вспомню некоторые детали быта, стиль отношений… Может быть, это что-нибудь объяснит?
Жили бедно, но девочки каждый день меняли нашивные манжеты и воротнички – выстиранные, отутюженные и накрахмаленные. Дырка в одежде вызывала насмешку, штопка была свидетельством самоуважения и порядка. Заштопывать умели тонко, иногда с элементами дизайна. Жеймо в фильме «Золушка» уверяла расстроенного Гарина, что она заштопает его воротничок так, что никто и не заметит. Советского покроя король был ребячески счастлив.
Банный день, прачечный день, день мытья полов. Обязательные мероприятия, которые ритмически организовывали жизнь, не давая ей попасться на рог тупо устроенного быта.
Прачечных в сегодняшнем понимании еще не было. О стиральных машинах и говорить нечего. К тому же из кранов текла только холодная вода. Стирали в общественных прачечных сами, записываясь в очередь. Это был большой день. Дома на столе по этому случаю стояла «маленькая».
Банный день – по расписанию семьи. Чистые рубашки после этого – знак еженедельного праздника. Кружка пива мужчинам, стакан газированной воды женщинам и детям. Если были деньги – с двойным сиропом.
Полы некрашеные мыли и натирали сухим веником. Занимались этим по графику. Кроме того, пол каждый день надо было подметать. Не подметенный пол – призрак опасного неблагополучия. «Что это пол сегодня какой?…» «Нюркина очередь».
Неубранная постель днем – нонсенс. Да и то, спали ведь иногда не только на раскладушках, но и на полу. Порядок был неизбежен.
Каждому полагалось иметь выходной костюм или платье, на которые месяцами откладывали деньги. А также одежду на каждый день. Выбор, конечно, более примитивный, чем на Западе, где уик-энд, присутствие, театр, прием и прочее требовали разного костюма. Но главное ведь регламент, а за ним следили строго.
Цветы поливали ежедневно, не зная еще, что у каждого цветка свой режим. Цветам было вредно, обитателям коммуналок – спасительно.
Коврики с лебедями, домотканые половики, герань на подоконнике, вышивки и макраме, оранжевый абажур из штапеля, семь слоников на этажерке – все это, как я теперь понимаю, было спасением от тоталитарного прессинга. Со слоников к тому же надо было регулярно вытирать пыль.
Репродукции музейных полотен на стенах. Неистребимая тяга к красоте, сознание причастности и компенсация за социальное неравенство. Борзая жадно смотрит на стол, уставленный блюдами с осетриной, балыками, сверкающими горами винограда и заморской птицей. В углу глаза борзой помещена белой краской точка. Почему-то было понятно, что собака дрожит.
При этом дома переодевались в старую обувь, а не в тапочки, о существовании которых наша промышленность, кажется, еще не знала. Девочки надевали домашние платьица, а не халатики. О мужских халатах и говорить не приходится. Когда сосед сочинил себе такой, подсмотрев до этого в каком-то чешском фильме, то сразу пошел под кличкой придурок.
Что еще было трогательно? Между рамами окон была наложена вата. Ее украшали серебром от шоколада и цветными обрезками тетрадных обложек.
В кино и родители, и мы ходили несколько раз в году. У старух такого обычая не было. Однажды, правда, две бабки из нашей квартиры тоже собрались вместе со всеми пойти на что-то очень уж нашумевшее. Квартира впервые оставалась пустой. Стали искать ключ, а его нет. Тогда только выяснилось, что ключа от квартиры давно никто не видел – днем не было нужды, а ночью запирались изнутри на крюк. Все это, как и хозяйственная ритмичность, и рукоделие, и кампания по заготовке дров, и осеннее консервирование отдает крестьянским бытом. Но горожане в большинстве своем и были вчерашними крестьянами.
Какие романы происходили в детстве! С вещами, например, и предметами.
Помню голубой стеклянный куб, купленный мамой где-то по случаю. Сквозь него я любил рассматривать комнату и улицу через окно. Вещи, деревья и ватные облака – все переламывалось в гранях кубика и застывало, как в пантомиме, в бессильном желании что-то выразить. Я вертел кубик перед глазами, наслаждаясь послушным перепрыгиванием вещей.
Белые слоники с нашего немецкого радиоприемника покорно выскакивали в окно. В посеревшей листве купалась фарфоровая статуэтка балерины. К лицу балерины тянулся мордой пластмассовый олененок…
Над олененком оранжевой сферой зависал абажур, дергался, как на ниточке, угрожая накрыть собой весь этот голубой театр. Но так, однако, и не дотягивался ни до балерины, ни до слоников, так и не мог прекратить это театральное действо с непонятной подоплекой отношений.
Я откладывал кубик, и во мне тут же поселялась ревнивая тревога. Ведь театр продолжался теперь без меня. При этом было ощущение, что не я покинул его ради более интересной жизни, а меня выставили, чтобы я озирал теперь только скучное неподвижное притворство вещей.
С людьми было еще труднее.
Зрячие, как правило, не были добры. Им все бросалось в глаза, и ело их, ело… Ума не приложу, зачем они так во вред себе и другим использовали свою наблюдательность?
Слепые чаще всего были раздражительны. Их обиду можно понять. Понять можно, но я-то сам нечетко еще пробирался к свету, мне самому еще нужен был поводырь.
Слух слышащих был острее всего настроен на паузу, во время которой они сами смогли бы заговорить.
Глухонемые мне нравились, но они не слышали меня. Восторженно следили за моей мимикой и жестами, наподобие иностранцев отмечались в доброжелательстве и удалялись, в конце концов, в свой таинственно устроенный мир. Смысл их жестов увлекал меня, намекая на некую гармонию, которая была не рождена, но трудолюбиво выстроена в силу лишений и ущерба. Это притягивало, как вид незнакомого города. Но я чувствовал, что никогда не пойму истинного устройства их мира, а загадка его все же не была равна загадке любви. Не равна, нет, меньше…
Среди людей, правда, были еще и кумиры. Их присутствие рождало зависть и веселье, восторг и трепет, обещание ненапрасности жизни и волю к личному рекорду.
Павел Иванович был доктором биологии. Он посматривал на меня из-под нависающих бровей весело и что-то рассказывал то про Германию, то про Китай, то о том, почему вишня жидовская является разновидностью вишни перуанской. Мне нравился его надтреснутый бронзовый голос, манера закидывать голову при смехе и хлопать себя по колену.
Почему-то помню фразу:
«Что же меня убеждать, например, что сероводорода нет, когда, если пукнуть, я первый ощущаю его запах». – Наверное, оттого запомнил, что никто даже в шутку не укорил Павла Ивановича за этот детский прозаизм.
У нас в коммуналке было принято держаться более чинно. Эта чинная корочка проламывалась только в периоды ссор. А здесь какая-то особая мера свободы, в которой как раз почему-то и невозможны были крики и ругань.
Но больше всего поражало, что Павел Иванович, по всей видимости, считал меня стоящим собеседником. Он разговаривал со мной не только потому, что ему вообще нравилось разговаривать, но ради того, чтобы именно от меня услышать что-нибудь любопытное. Услышав, он всегда искренне смеялся и радовался, и ему не терпелось тут же пересказать это другим.
Поскольку «любопытное» он обнаруживал всегда и в самых неожиданных местах, мне не приходилось напрягаться, чтобы показать себя, и я мог его с удовольствием часами слушать. Было лестно, что он разговаривал со мной не из снисходительности, а из интереса.
Тогда только что прошел фильм-опера «Евгений Онегин». Мы смотрели его вместе.
– И кого же тебе больше в этой истории жалко? – спросил Павел Иванович, когда мы вышли.
– Онегина, – ответил я неожиданно для себя.
Павел Иванович зазвенел смехом:
– Ты, брат, не иначе, родственную душу пожалел.
Да, детская потребность в кумире сильнее голода.
Было у меня два брата. Средний, всячески унижая за математическую тупость, кричал на меня и даже, кажется, побивал. Я боялся его, и напрасно, потому что расстроенная фисгармония его души таила в себе необыкновенную доброту.
Старший был снисходителен к моему недоумству, помогал решать задачки, катал на саночках. Его терпимость была, похоже, формой равнодушия. Биологического.
Средний был страстен, зол. Он любил, если и не меня, то математику. Старший же любил лишь то, название чего мне неинтересно. Свою жену, например, властную и себялюбивую, которая с пеленок знала, как правильно жить, а слово «не знаю» не знала. Возможно, мой кумир тоже нуждался в авторитете.
Но я поставил на него. Быть может, даже проиграл. Хотя с братьями какой проигрыш? Но решимость ставки в любом случае важнее, чем выигрыш. К тому же в таких делах всегда ставят, как правило, не на того.
Средний дразнил меня: «От Коли ни возьмись…» Откуда я знал, что это Крылов? Я страдал. Он веселился. Я любил. Он, похоже, любил тоже.
В мрачном послесловии моей жизни, быть может, именно этот брат есть мой главный, не только родственно, но душевно близкий герой. Но кумиром был другой. И это никому не в укор и не в заслугу. Просто место это есть, и оно должно быть занято.
Кроме вещей, людей и кумиров были и еще существа, которые определяли… Не знаю, как бы это сказать…
Зимой у меня обнаружили порок сердца, следствие перенесенного на ногах гриппа. Три месяца пролежал я в постели, не чувствуя даже легкого недомогания, каждую минуту мечтая вскочить и пробежаться по комнате.
Комната, в которой я лежал, была длинная и темная. Угол у печки отгораживался вишневой занавеской с белыми цветами. За ней стояла изъеденная древесным жучком фисгармония. Как раз перед болезнью я упросил родителей забрать ее у соседей, собиравшихся выбросить инструмент на чердак.
Музыка представлялась мне чем-то вроде темного моря, в котором я хотел плыть, не мечтая о береге, успокоении и участии человека. Да, я был готов, я хотел отказаться от всякого человеческого участия, я чувствовал в себе силы быть свободным, я, которого обещали привязать к постели веревками, если я попытаюсь еще хоть один раз покинуть постель без разрешения родителей.
Скорее всего, именно тогда я был близок к истине, хотя дело закончилось средним музыкальным образованием, бренчанием на гитаре в утомленной к утру компании, а путь оказался усеян подавленными гроздьями всяческих отношений. Но это другая история.
Так вот, по ночам из-за вишневой занавески ко мне выходил глиняный лысый доктор. Он подолгу разговаривал со мной, брал меня за руку, и мне казалось, что этот огромный улыбающийся доктор влечет меня к смерти.
Ключ ко многим фантазиям и видениям детства утерян навсегда. Не знаю, почему это был доктор, почему он был глиняный. Да и глиняный ли? Если и глиняный, то до обжига глины, пока она еще легко поддается деформации: собрать морщинки на лбу, улыбнуться, совершить плавное движение кистью руки. Нет, он был, конечно, живой, не глиняный. Но вот почему я боялся его? Ведь он был добр…
Еще был я в детстве сам по себе, и этого было больше всего. Ну, может быть не совсем сам по себе, потому что ощущение, что я исполняю чью-то волю, никогда в детстве не покидало меня (позже, напротив, эти состояния надо было ловить). О Боге я, разумеется, имел самые смутные представления, но, вероятно, речь идет о Нем. Однако, это был все же я сам, даже слишком сам, если иметь в виду, что пусть смутное и не выраженное представление о существовании высшей воли в меня все же было вложено.
Я, разумеется, чтил того, кто придумал жизнь и меня в ней. Но если Бог скажет «нет», когда я всей силой своей интуитивной убежденности уже успел сказать «да», то, значит, он просто ошибся. Он остается все равно Бог, но ведь всякое бывает. А я все равно буду жить так, как я живу. Не потому, что я больше Него знаю, а потому что именно Он так мне положил.
Может быть, забыл?… У Него и так дел много. Но я ведь и шепот слышу.
Воспитывать бы детей так, чтобы в тисках воспитательской суровости их глаза покрывала не злость и обида ущемленного, а чтобы расцветала в них мечта о летнем ветре и необъятном просторе, который они преодолеют, когда, наконец, отпустят.
Но ведь никогда не отпустят. Мы-то знаем. А потому заблаговременно причитаем и поглаживаем гадкого утенка: «Красавец, лебедь мой…»
И правильно. Обещания будущего расцвета, быть может, самая питательная пища. С чем, к сожалению, первыми согласятся коммунисты.
Но другого выхода нет. На все возрасты и времена – один рецепт. Приласкай меня бескорыстно, и я тебе отвечу такой мерой сокрытого пока от меня самого дара. А иначе затеряюсь в темных, неизвестно кем контролируемых переулках и – поминай, как звали, вариантов еще больше, чем на свободе.
Ждать пользы от ребенка глупо. Быть обаятельным бесперспективно: он скоро вырастет, изменятся масштабы и пристрастия. Даже имя твое может выпасть из его памяти.
* * *
Ребенок восхищается ясным ответом, но душой тянется к абсурду. Взрыв пока еще ближе ему, чем храм. Для него весь мир в комплоте, смысл интриги еще не понятен, роль Спасителя дарована ему, но в этом даже самому себе боязно признаться. Он искусственно подогревает тайну, длит бессмыслицу. Чем она очевиднее, тем огромней предстоящее открытие. Он хохочет. Солнце только еще встало над горизонтом. Тени огромны. Его – больше всех.
Бессмыслица продуктовыми муравьями щекочет мозг. Он еще такой маленький, что может обнять жалостью целый город. Смысл – игрушка взрослых. А мы – играем?
Из школьной записной книжки: «В тебе еще достаточно хаоса, чтобы родить собственную звезду». Ф. Ницше.
Классно! Вот только за что его любил Гитлер?
Мертворожденные репутации, карманные чиновники, правдолюбцы-демагоги и гебисты-разоблачители, ангажированные нищие… Партийный сутенер, жертвующий деньги на марципановые столичные храмы. Наконец, наши новые безымянные герои – проститутки и киллеры.
Искусство прозрело: оказывается, эти злоумышленно оступившиеся и высоко обеспеченные изгои тоже люди и у них есть чувства. Абсурд, но отнюдь не детский. Напротив, его, кажется, создают в основном люди, не прошедшие в детстве школу творческого абсурда. Такое постоянное пополнение кадров кафкианской реальности.
После долгих лет борьбы и выкорчевывания, художников посетила вдруг созерцательность и патрицианская отстраненность. Никакой там «милости к падшим», никакого негодования и брезгливости, конечно. Просто воскресное любопытство посетителя зверинца и постоянного читателя криминальных хроник. Зрители и читатели откликаются сочувственно.
Пейзаж живет контрастами. Там чуть не целые народы ищут «черный ящик» разбившегося в горах самолета, тут бриллиант, выпавший из клюва птицы-воровки, разбился вдребезги, обнаружив тем самым свою фальшивость, и поверг в обморок истосковавшуюся по подлинности юбиляршу. Страна при этом, жившая веками без электричества и бани, без радио и газет, без зубочистки и пирамидона, без дымохода и окна в Европу, смотрит телевизор.
У декаданса хилые стебли, зато цветы жирные.
Широк человек… Вот уж верно заметил болезненный классик. А Россия – она и вообще бескрайная.
Смотреть ТВ – сплошное удовольствие. Герои на наших глазах убивают человека, потом четвертуют для сокрытия преступления труп, испытывают при этом такие приступы великодушия, так страстно влюбляются (друг в друга), что миллионы зрителей всех стран, затаив дыхание, следят за развитием этих криминальных мелодрам.
Как это так получилось, что при коммунистах мы чувствовали себя необыкновенно содержательными людьми?
Вероятно, никогда человек не бывает так доволен собой как в те минуты, когда мечтает о лучшей жизни и о себе в ней. Может быть, в этом дело? И вообще, если ты подпольщик, значит, тебе есть, что скрывать. В советском варианте это благородство, ум, приверженность правде, приобретенная в ночных чтениях любовь к Пушкину, искренность, талант, наконец. А во всякой реализованности, право, есть что-то грубое и пошлое.
Так и прожили всю жизнь подростками-символистами.
Не в этой ли мечтательской нереализованности разгадка удивительного сочетания рабской покорности и высоких запросов, гиперморальности и вкуса к разврату, правдолюбия и почти бескорыстной страсти к вранью и актерству?
Впрочем, далеко не всегда бескорыстной. Например, вчера еще горел свободою, сегодня погорел на взятке. Но это тривиальный сюжет. Скрывать свою искренность неизмеримо сложнее и под силу только великим актерам.
Еще одно свойство взрослого подростка: с одной стороны, он несомненный гений (пока еще, правда, не явленный миру), с другой – всякий прохожий кажется ему значительнее, чем он сам. Так и мы. Мания величия сочетается в нас с завистливой мифологизацией чужого. Там, казалось, жизнь не просто сытная и комфортная, но – настоящая. Теперь хотя бы этот морок проходит.
Человечество, увы, в большинстве своем живет везде одинаково. Работает для уикендов, живет для воспоминаний. Соблазняется не столько вкусом, сколько оберткой, не столько влечется к идеалу, сколько отстаивает свою приверженность принципам не известно по какому случаю и у кого приобретенным.
Впрочем, идеалы и принципы должны быть обязательно громкими и хорошо вооруженными, иначе не интересно. Люди безвременья вообще охочи до скандалов и сенсаций, они рабы эффектов, без которых жизнь теряет смысл.
Фильм «Последнее искушение Христа». Сколько-то там Оскаров, сумасшедшая реклама, компетентное негодование церковников, возмущение неосведомленных еще «патриотов» и прихожан всего мира, вдохновенное приветствие либералов. Организовано хорошо. Настолько хорошо, что многие и многие отказались от регулярного сна, чтобы увидеть фильм собственными глазами.
Что же фильм?
Снято красиво. Видно, что авторы подолгу рассматривали иконную живопись, фрески. Все эти ритмичные наклоны голов, закаменевшие складки одежды, глаза – и скорбные, и лукавые, и страдающие. Вот только Христос с самого начала не ведает о своем призвании, считает себя человеком дурным и грешным, испытывает страх перед мессианским предназначением, которое ему с помощью подсказок свыше навязывают. Я, мол, не знаю, что сказать людям, но Бог вкладывает в мои уста слово любовь, и я говорю «Любовь». Получается скорее пресс-секретарь президента, чем мессия. В лучшем случае психологическая драма рефлексирующего интеллигента. Чехов, может быть. Нет, скорее Леонид Андреев.
Однако, если интеллигент, то не надо с самодовольной улыбкой предлагать Иуде заглянуть в кувшины и самому убедиться, что вода превращена в вино. Это некрасиво. Если все же чудо, то при чем здесь интеллигент, которому чудо претит? И сердце вынимать из атлетической груди не надо. У Данко оно хотя бы горело.
Если человек, то поступает дурно, подговаривая Иуду предать его, чтобы исполнить положенную ему жертву. Ведь это просто провокаторство революционера, тем более, тут же признается Иуде, что воскреснет и будет править живыми и мертвыми. Если Бог, то глуповато устраивать провокацию, будто не знает, что в человечестве достаточно тупости и подлости, чтобы все и так совершилось своим путем.
Так о чем же страсти, как горячих приверженцев так и ярых противников? Просто пляски и хороводы вокруг картонного идола. Жить нечем, а желание быть причастным высокому сильнее голода. Когда и кто назначил высокое быть высоким и что сие значит – не суть важно. Все давно перепуталось и забылось. А так, под лозунгом «Руки прочь от Христа!» можно и с красным флагом выйти.
Столько подпольных людей развелось, что впору создавать партизанские отряды. Только эти самые подпольные люди в партизанские отряды, по счастью, не собираются. Они, напротив, все по своим конуркам сидят и безмолвствуют. Потому что (прав Федор Михайлович), «если, например, взять этого антинормального человека, то есть человека усиленно сознающего, вышедшего, конечно, не из лона природы, а из реторты (это уже почти мистицизм, господа, но я подозреваю и это), то этот ретортный человек до того иногда пасует перед своим антитезом, что сам себя, со всем усиленным сознанием, добросовестно считает за мышь, а не за человека».
Одновременно ретортный этот человек считает себя несомненно умнее других. Правда, иногда и этого тоже совестится.
Всю жизнь почему-то приходилось смотреть ему в сторону от лица, и никогда не мог посмотреть он человеку в глаза. Не из-за нечистой совести, как простодушно решат некоторые, а из неизбежности выдать при встрече взглядов живущее в нем презрение. Потому что если б и было в нем великодушие, то добавило бы оно только муки – от сознания его бесполезности.
Не буду утверждать, что тип этот так уж часто встречается. Но одного из таких «подпольщиков» я имел случай наблюдать в чистейшем его проявлении.
Было ему лет сорок. Лысоват. С очень хорошей реакцией, он умел иногда предупреждать нервической усмешкой еще не законченную фразу. Женщинам он вряд ли нравился, потому что с насмешкой относился ко всякому ухаживанию и любил разоблачать кокетство, будто имел дело не с женщиной, а с партнером по партии. При всем уме, согласитесь, это черта свидетельствовала об определенного рода недалекости, которая обычно отговаривается принципами. По службе он, кажется, не слишком продвинулся в силу все той же, скорее всего, принципиальности. Пустого разговора не выносил.
Однако, вот что интересно. Тот же самый человек любил иногда рассказывать о себе истории, в которых выглядел то ли смешно, то ли просто не замечательно. В этом был определенно умысел, только я долго не мог его разгадать. А и то, что я пытался разгадать, ставит меня на одну доску с ним. Это я понимаю.
В какой-то момент мне его умысел стал понятен.
Во-первых, если он сам расскажет про себя историю, в которой выглядел не превосходно, то это все же лучше, чем если бы это сделал кто-нибудь другой. А то, не дай Бог, будут про него ту же историю передавать друг другу, тайно от него, расцвечивая ее домыслами. Он же будет поневоле ходить в дураках, гадая: знают они или не знают, и что именно, и в каком освещении, и что по дороге приврали, да так, что уже и сами поверили?
Если же сам про себя сказал какую-нибудь неприятную правду, то это может и уважение вызвать. Не каждый на это способен все-таки.
Он же при этом может и не всю правду рассказать или приукрасить ее каким-нибудь ему одному известным мотивом: пусть даже не очень благородным, даже постыдным, но сам ведь себя первым осудил или же посмеялся над собой. Тут уж другим врать про дальнейшее станет не очень интересно. А у желающих строго осудить и вообще камень из-под ног: что же осуждать человека, который сам себя только что прилюдно осудил, что же смеяться над ним, если он сам над собой первым посмеялся?
Только в правде, даже и неполной, непременно должна быть некая ядовитость, что-то действительно и серьезно уязвляющее, иначе непременно разоблачат, и все пойдет насмарку. В тонкостях же изменения картины любопытных разбираться не слишком много. И все же соврать надо только чуть-чуть и лишь про то, чему никто не может быть свидетелем. С фактической стороны правда должна быть безукоризненной и неприглядной.
Еще: можно рассказать ведь и не самую постыдную историю. Тогда, если кто-то откопает еще постыднее, ее можно смело отрицать. Большинство непременно поверит, и даже при твердой настойчивости обличителя образуется все же некоторая неопределенность. При удачном стечении обстоятельств обличителя можно выставить даже как злопыхателя и клеветника.
В перспективе существует и еще одна выгода: при случае можно скромно рассказать про себя (скромно, разумеется, и к случаю) нечто почти героическое или, во всяком случае, романтическое. Поверят, потому что правдив. Был же этот случай в действительности или нет – не важно. Главное: следы заметены, пыль пущена, образ мерцает, можно жить дальше, наслаждаясь своим полным презрением к сотоварищам, равнодушием и невидимостью.
Прогресс есть все же. Появились анекдоты для публики читающей.
Бежит по крыше дворник с лопатой за мальчишкой. Мальчишка думает: «И зачем я полез на крышу? Поехал бы лучше на сафари с хорошим писателем Хемингуэем. Охотились бы с ним на тигров, пили сухое вино».
А в это время Хемингуэй отбивается от москитов и думает: «Что я здесь делаю? Жара невыносимая, тигры вокруг. Сидел бы сейчас лучше в Париже с моим другом Генри Миллером, пили бы с ним вино, говорили о женщинах и о литературе».
Генри Миллер в это же время тоскует в парижском кафе: «Как все это надоело – пьянство, обжорство, проститутки. Поехать бы лучше в Россию к замечательному писателю Андрею Платонову. Засиживались бы с ним до рассвета, говорили о душе».
В это время Андрей Платонов бежит с лопатой за мальчишкой и думает: «Догоню – убью!»
Иногда беру в руки любимую книжечку Ханса Шерфинга «Пруд» и завидую бесконечной жизни ее автора. Мне кажется, что я должен был бы прожить такую же жизнь, проведенную в наблюдении за молчаливой драмой пруда. И была бы эта жизнь счастливой и исполненной смысла.
Люди, проведшие лучшие годы своей жизни в библиотеке, взросшие на асфальте под надрывающий душу рев не зверей – машин, заглядывающие в телевизор, как в окно, чтобы узнать погоду, те, кто водил пальцем по мокрому стеклу, пытаясь вызвать крики птиц, свыкшиеся с иронией кавычек в разговоре, – эти люди поймут, о чем речь.
Существует любопытная теория, по которой люди произошли от деградирующего вида обезьян. Обезьяны, потерявшие инстинктивную связь с природой, в девяносто девяти случаев из ста, конечно, погибали. Был только один, почти невероятный шанс, и наши предки его использовали. Они стали наблюдать жизнь тех обезьян, которые свою связь с природой не потеряли. Наблюдать и подражать. То есть производить те же самые действия, но уже не инстинктивно, а осознанно. Так появились первые зачатки интеллекта и воображения. Деградировавшие обезьяны стали строить свою цивилизацию и все дальше и дальше уходить от природы.
Не потому ли первобытное единение с природой, мало похожее на идиллию, предстает в нашем сознании как идиллия и выступает в форме ложного воспоминания?
Быть может, новый виток деградации потомственных горожан тоже таит в себе возможности для небывалого прогресса? Не знаю. Но жизнь тогда будет совсем иной, это точно. И идущие вслед за нами киборги будут изучать нас с тем же снисходительным любопытством, с которым мы изучаем сегодня наших гипотетических предков.
Судя по всему, коренные жители цивилизации успешно и окончательно утратили дарованный им некогда инстинкт непосредственности, отвыкли от жизни и считают ее чуть ли не за службу. Отвлеченные, в общем, такие существа.
А между тем, каждый мечтает спастись. И остаться. В чем? Чем? Уж не делами ли своими? Но какой человек, если сознание преобладает в нем над чувством, верит сегодня в Дело? Он же сам первый и посмеется над собой, если ввяжется ненароком в какое-нибудь предприятие, и сам же первый, когда оно рухнет, скажет почти удовлетворенно: «Поделом дураку!»
Нет, такие люди слишком высокого мнения о себе. Они почти все сплошь очень высокого о себе мнения. Они не похожи на идущих им на смену прагматикам, слишком сильна романтическая закваска. В таком человеке скрыто высокомерие скрытого, неяркого, тайного человека. Он принюхивается ежесекундно к своим ощущениям и почти с неизбежностью превращается постепенно не только в брезгливого, но и в брюзгливого человека. Однако при этом, будучи человеком умственным, он чрезвычайно осторожен, потому что знает, что, выдав свой потаенный нрав, нарушив жанр, непременно впадет в безвкусицу и станет смешным, если и не для других, то для себя. Он и сейчас в глубине души чувствует, что смешон.
Это не мешает ему, однако, как супериндивидуалисту, считать свои ощущения высшей удачей Создателя, а значит, сознавать себя не только званным, но и избранным. В синтетическом искусстве Шёнберга, Скрябина или Рембо он чувствует родственное. Вернее, в стремлении к такому синтезу, потому что ничего толком он об этом, как правило, не знает и даже временами подозревает подвох. А уж публичные эксцентрики всегда вызывают в нем презрение и насмешку – пустые существа, татуировщики, пирсингисты. Он числит себя человеком совершенно иного достоинства.
Все это можно, конечно, отнести к разряду комплексов. Что ж, пусть будут комплексы, если вам так удобнее и если это что-либо объясняет. Гессе справедливо считал, что всякий высокоорганизованный человек – невротик.
Если все же согласиться, что это комплексы, то нельзя не признать и того, что они на редкость удачно накладываются на комплексы, присущие советской системе.
Умственность коммунизма рождала ответную книжную отвлеченность и одновременно подпольную развратность, как некую оппозицию мертворожденной, несуществующей, гладко выдуманной жизни. Такого рода оппозиция имела обыкновенно французисто-ресторанно-гедонистическую окраску, иногда с примесью русской цыганщины и одесского криминального юмора. Но это частности.
Не частность – сама эта сверхчувствительность, страсть к сопряжению несопрягаемого. Долговязые рвотные порошки и трансцендентально серые сюртуки, бездетная Византия и остзейская немота Бенкендорфа – этот буффонадный язык, эти метафоры, построенные не на сходстве, а на несообразности, были точнее и естественней, чем речь непосредственного человека. Высокое смешение дисциплин и категорий не в малой степени подпитывалось образом Магистра Игры, который слабодушным, всегда готовым к восторгу разночинным умом воспринимался как существо божественное или, если сделать поправку на обязательный в этом случае атеизм, как некий интеллектуальный или партийный лидер. А ведь все сегодняшние интеллектуалы по больше части выходцы из разночинцев или крестьян.
Что же, судите сами, можно было еще противопоставить этому фельетонному миру? Диссидентство безнадежное, почти без исключений сопряженное с творческой несостоятельностью? Честный труд, сплошь и рядом безнадежный тоже? Нет, необходимо было превосходство прочное, качественное и никак не сопряженное с публичностью. К тому же при таком превосходстве все неизбежные компромиссы с властью и окружением выглядели мелкими и несущественными, что для спокойствия совести было очень удобно.
Здесь, правда, таилась опасность, о которой мало кто из отвлеченных людей догадывался. Потому что бездейственная нравственность – та же книжность и отвлеченность, которая рано или поздно приводит к распаду, оскудению и двойничеству. Это очень долго остается незамеченным, как самим человеком, так и его близкими, потому что мы часто судим человека по его высшим стремлениям, а не по поступкам.
С другой стороны, как быть? Как такой человек (не исключительно в духе живущий, не о нем речь) может проявить непосредственность и не погубить себя? Разве что высунуть всему миру язык в темной парадной или, на худой конец, перед сном в постели. Но только чтобы не видела жена, которая и без того догадывается, что по тебе стосковалась психушка…
Беда еще в том, что развратец до определенной меры разрешен системой и даже ею поощряем. А значит, и из него уже ни протеста не выходило, ни удовольствия настоящего он доставить не мог.
Вот и получалось, что из кровавой плахи и золотой клетки такой человек выбирает золотую клетку.
Тебя по-прежнему в упор никто не видит ни в жилконторе, ни в кабинете стоматолога, ни в швейцарской, ни в прихожей начальника, ни в магазине (как до того в упор не видели в школе). Все ищут только знаковый признак достоинства, на котором была бы проставлена соответствующая социальная цена. Но кто же при таком положении вещей может знать тебе цену, кроме тебя самого?
Вот и выходило, что человек не свободной волей выбрал себе эту потаенную свободу, а, не принятый миром, ускакал в золотую клетку, в свое сенсорное, не целевое, не учтенное обществом превосходство. Сладкая обида и гордыня замкнули дверь.
Получалось: и жить с вами не хочу, и без вас не могу. Пытаюсь переделать на свой манер – неизбежно выказываю превосходство или выгляжу смешным (ведь если облачать свою тайну в слова, то они будут не из этой речи, почти иностранное боротание: «Позвольте вам сказать, хотя это и не в моих правилах…» Ну не чудак ли?).
А то вдруг до жажды физической захочется стать простым и естественным. Ну и что? Тут же впадешь в самые неестественные, фамильярные, а то и подобострастные отношения и сам себе станешь омерзителен. И начнешь давать откат в той или иной форме.
Хорошо, если подумают: чудак, странный какой-то. А то ведь и просто обнаружат неискренность. Или заподозрят тайный умысел и враждебность. В любом случае перестанут доверять и оттолкнут от себя. Оттолкнут справедливо, а не потому, что тебя тайного, лучшего не приняли. Не приняли фальшивого и двуличного. Но и тайного, впрочем, тоже. Круг опять замкнулся. Опять в проулки тайных удовольствий и книжной возвышенности, снова в свою золотую клетку. До новой, еще более позорной вылазки.
Но и это ведь еще не самое страшное. О самом страшном я только теперь собираюсь сказать. О том, что делает бессмысленным не только саму игру, но и все страдания с нею связанные.
Кто это сказал: чем глубже копнешь, тем общее выйдет? Самые интимные, неприкосновенные переживания его, зыбкие, яркие и летучие, как сны, теплое, утробное проникновение в жизнь, словесная игра и непроницаемые, как мезозой, фантазии – все, из чего он строил свой однокомнатный теремок, было знакомо буквально каждому из несчастных жителей земли. И, также как он, каждый, даже самый простодушный, таил это от других. Поэтому никто и не замечал его драгоценного, как он полагал, взноса в общее коммунальное житье. Взнос этот не оговаривался и не обсуждался – все с ним пришли, о чем говорить?
Тем более что этот золотой запас нельзя ведь было потратить с кем-то совместно. Это не то, что: у тебя рубль, у меня рубль – давай скинемся. Скинуться было невозможно, можно было тратить только в одиночку. Вроде грядущего бессмертия: корысть, конечно, есть, но ущемить она никого не может.
Уверовавший в свою уникальность, он был, в сущности, настоящим лохом. Те, кто раньше него проник в эту общность тайны, вооружившись закономерным цинизмом, эксплуатировали его нещадно и надсмехались над ним разве что не в глаза.
Любовнице ничего не стоило убедить его, что он лучший мужчина в ее жизни, лохотронщики, прикинувшись наивными провинциалами, опустошали его кошелек, политик, рассказавший сентиментальную историю о детском своем сиротстве и унижениях, убеждал его в своей кристальной чистоте, преступник, рассказавший ту же самую историю, представал страдальцем.
Каждый, кто стыдливо приоткрывал душу, был ему товарищ, в котором он не смел заподозрить обманщика. Во-первых, потому что в этом люди не обманывают. Во-вторых, потому что они ведь знали и чувствовали то же, что знал и чувствовал он. Все они казались ему людьми и умными, и честными, и тонкими уже потому только, что умели чувствовать.
Все разговоры о том, что весь мир – театр, что каждый говорит одно, а думает другое и прочее (он сам в них порой принимал оживленное участие) как-то при этом не доходили до его главного ума. В авантюрном фильме или в детективе авторы как-то с самого начала давали понять, что любящая жена или друг детства неискренни, что они таят какой-то умысел и, помучившись немного подозрениями, ты с облегчением обнаруживал в них в конце концов убийц.
Но можно ли имитировать любовь? Ее подробности, ее стихию?
Слишком поздно он понял, что это ремесло из самых простых. Еще позже, что люди нуждаются в такой имитации не меньше, чем в самой любви. Приятели, которым еще в советские закрытые времена приходилось в турпоездках пользоваться услугами путан, были обижены, даже оскорблены тем, что те и не пытались изобразить страсть и нежность, а вели себя слишком по деловому, исполняли обязанности строго по регламенту с большим количеством сугубо рациональных ограничений. Смешно сказать, им, в этом свидании с путаной, поцелуя не хватило.
В одном фильме преступник, прежде чем встретиться с жертвой, читает ее дневник. При встрече ему ничего не стоило уже показать себя родственной душой. Через какой-нибудь час девушка обнаруживала, что им обоим нравится одна и та же музыка, одни и те же писатели, что они любят один и тот же цвет моря в ветреную погоду, что оба в детстве любили сосать лед и клали на ночь под подушку один – беличий хвостик, другая – заячью лапу. Родственность, страсть, любовь… Ограбление. Убийство. Так просто.
Ну и осень в этом году выдалась! Пар от земли и асфальта, деревья нежатся, как в ботаническом саду. Ночные алкогольные отморозки ликуют. Отпусти грехи им, Господи!
Немолодой уже фраер, в пуховике времен китайско-советской дружбы, заходит в рюмочную и профессорски смотрит на ценники. Не сходится. В который уже раз.
В вазе он замечает букет искусственных подвядших роз. Такой, уже стеклянной ломкости. Искусственно подвядшие розы, домашнее воспоминание, в рюмочной.
Жизнь, несомненно, продолжается и без него, усложняясь. Ребята всё молодые, ворошат перед ним сметливыми руками ностальгическую крошку. Бизнес гарантирован, пока мы живы. А потом? Придумают.
Какой-то, на переходе к Невскому, стоит со списком востребованных вещей на груди: «Знаки. Монеты. Иконы. Медали. Часы. Серебро».
Нет, мы, несомненно, еще пригодимся. Вот, например, если сдать себя в ломбард. Сам за собой не придешь, это понятно. На близких надежда тоже не большая. Но ходят же по нашим улицам всякие праздно-щедрые и любопытствующие, которые любят покупать по сходной цене дорогое. И тебя купят. И вставят в свой интерьер. И станешь ты частью чужого интерьера. Частью интерьера всего лишь. Частью интерьера.
Разговор в КПЗ.
«Зачем в Китай-то ходил?»
«Да нас ведь ждали в ихнем райцентре, рядом с границей. Мой друг им КамАЗы продает».
«Ну друг, ладно… А тебе-то что было делать в китайском райцентре?»
«Я за компанию. Надо же узнать, как люди стоят на ногах. Стоит ли им КамАЗы продавать? Они у нас были. Ты мою квартиру посмотрел, я – твою».
«КамАЗы ведь не твои. Ну и потом, я же у тебя не квартиры покупаю, а машины».
«Ну, они бы показали, например, свои магазины, набитые до отказа товарами…»
«А вдруг это не их магазины? Там ведь все по-китайски».
«Переводчик же есть».
«Подкуплен».
«Если они переводчику в год миллион платят, это тоже кое-что, пусть даже и магазины не их».
«Да мало ли в России таких комедиантов?»
Сначала перебежчику в Китай казалось, что ему просто попался бестолковый сосед, но теперь он понял, что тот просто вредный.
«Чего пристал? Выпили бы на халяву! Подарков, знаешь, сколько надарили бы? Они с такими мешками через таможню прут!»
* * *
Скрепленные птичьей слюной ласточкины хижины, кавказы Нью-Йорка, солнечная ржавчина замоскворецких окон… Куда уходят от меня эти караванные верблюды фантазий?
Все смешалось и при этом стало первобытно ясным. В том смысле, что «воздух дрожит от сравнений». Каждый с каждым готов поменяться местами, не рискуя потерять свое.
Даже в сердце пламени – мрак. Но ничто не отменяется. Как в воспоминании. И все хотят друг другу понравиться. Чайник всякий раз закипает другим голосом, подпевая тайным мыслям хозяйки.
Эгоцентрикам всегда кажется, что, когда рушится их жизнь, рушится мир. Часто они совершенно искренни в своем убеждении. И потому почти все сплошь и рядом философы. Правда, с оттенком истерики.
Живу в тесноте запретов и укорачивающихся желаний и надеюсь еще пожить. Здесь все же есть еще место идеалу. Хотя жизнь во все, конечно, вносит свои коррективы.
2001
Записки совслужащего
1 Редакторские уроки
Как я чуть было не стал редактором.
Уроки первый, второй, третий и четвертый
Летний грохочущий Невский, с парусиновыми еще, я думаю, козырьками над витринами (начало 70-х). Я благополучно и почти невредимо выбрался из армии, отслужив год после университета. Рука при виде военного еще тянется отдать честь. Хотя я давно уже в другой жизни: бродячий интеллигент, литературный лектор Ленконцерта с аттестатом артиста в кармане (все, выходящие от имени Ленконцерта на сцену, пребывали в звании артиста).
Навстречу мне идет моя любимая университетская преподавательница Людмила Александровна Иезуитова. Давно не виделись, говорим о том о сем, кто и как с нашего курса устроился в жизни. «Коля, я собиралась вам звонить. Издательству „Детская литература“ требуется старший редактор. Нас просили порекомендовать молодого способного парня. Мы назвали вас. Сходите».
Я обещал.
Но мне нравится моя нынешняя вольная жизнь, нравятся разъезды и каждодневное единоборство с публикой. Веду себя согласно хитроумной логике Колобка. Два года назад, вместо поступления в аспирантуру, укатился в армию, теперь решил продолжать кататься как сыр в масле в роли почти свободного художника и почти артиста. И деньги приличные: сколько заработаешь. Зачем мне служба с 9 до 17.45 с перерывом на обед и твердым окладом? Это для стариков. В общем, без особых укоров совести, я неблагодарно забываю о лестном, должно быть, предложении.
Через полгода, примерно, там же на Невском вновь встречаю Людмилу Александровну (судьба, в который уже раз, прикидывается случаем). «Вы были в „Детгизе“?» «Нет».
Мое неинтеллигентное и легкомысленное поведение в некотором роде компенсируется чуткостью – я все читаю в глазах Л.А… Совесть, наконец, пробуждается во мне. К тому же, думаю, со школьных лет я просиживаю за столом, пытаясь сочинять стихи и прозу, и твердо уверен, что буду литератором (никаких метаний и поисков своего призвания – публика разочарована). Почему бы и не быть поближе к тому месту, где пекутся книги?
Иду в издательство.
Мое место занято, но я получил столь горячие характеристики из университета (читай, доброжелательно относящейся ко мне Л.А., которая, как потом выяснилось, была сокурсницей тогдашнего главного редактора «Детгиза»), что издательство не хочет со мной просто так расставаться. Может быть, я напишу внутреннюю рецензию? Мне вручают рукопись повести Р. Кинжалова из жизни народа майи.
О функции внутренней рецензии я имел самое приблизительное представление, вернее, не имел никакого. Приступил к работе так, как будто получил заказ на статью из «Нового мира». Недели три оттачивал стиль.
Полагалось, как я думал, проявить эрудицию в области незнакомого мне до сих пор материала. Неплохо пожурить автора за допущенные неточности с высоты своего спокойного, давно приобретенного знания.
Тут меня ждала неудача: автор был профессиональным историком, узкой при этом специализации. В картотеке «публички» я чаще всего попадал на фамилию Р. Кинжалова, прочие же статьи о культуре и истории майи имели уважительные отсылки к книгам того же ученого. Я узнал много нового, но от моего высокомерия, к счастью, не осталось и следа. Спасибо Р. Кинжалову.
Месячный труд, однако, не пропал даром: рецензия понравилась. Замечания мои были выполнены со скромным достоинством, касались исключительно композиции, языка и проработки экзотических характеров. Стиль рецензента поражал неуместной отточенностью.
Мне тут же вручили вторую рукопись, на этот раз начинающего автора из провинции С. Мосияша. Это была повесть о детстве дедушки Крылова. Я снова узнал много нового, однако не признаваться же в этом рецензенту. Чувствовал себя уже более раскованно, над рецензией однако проработал снова месяц.
В итоге, издательство предложило мне сотрудничество. Место редактора было по-прежнему занято, но временно пустовало место автора в серии книг «По дорогим местам». Книги этой серии посвящались писателям, жившим в Петербурге. Не хотелли бы я написать для издательства книгу?
Свою петушиную радость я, как мне казалось, умело скрыл. «Пожалуй». О ком? Конечно, о Блоке. Я о нем и диплом в университете писал. «Ну, вот и отлично».
Счастливый, я вышел на Литейный и тут же столкнулся с бородатым светлоглазым учеником Дара Лешей Ельяновым. Он в то время был составителем альманаха «Молодой Ленинград», ему через Саню Лурье я прислал из армии свою рецензию на первую пластинку песен Новеллы Матвеевой – в общем, мы были знакомы. Рецензию из-за стилистического импрессионизма зарубил главный редактор Кочурин, но сам Леша и ко мне, и к моему тексту относился по-доброму.
Я выдохнул радостную для себя новость чуть ли не вместо приветствия. «И договор заключили?» – спросил Леша. Он коротко объяснил мне сомнительность, если не иллюзорность моего успеха. Это было для меня новостью. Получалось, что без договора отношения с издательством вроде как и не отношения. В следующий раз меня могут просто не узнать.
От моей природной доверчивости не осталось и следа, зато заговорила природная же готовность к обиде. Я развернулся и вместе с Ельяновым снова вошел в парадную Дома детской книги, где слева на первом этаже, как я узнал позже, была отличная библиотека, справа гардероб, а из глубины доносился запах вполне пристойной столовской пищи. Тогда буфет «Детгиза» казался мне местом не менее заповедным, чем кабинет главного редактора. И все же, преодолевая робость и предчувствуя провал, я стал подниматься на третий этаж.
Реакцию Светланы Михайловны на мою наглость мне удалось оценить лишь через несколько месяцев – у гипотетического автора не было к тому времени в запасе ни одной опубликованной строки. Она оробела. «Ну, что ж, давайте писать заявку». «А что это такое?» – был ответ наглеца. «Я вам продиктую». Дальше: «Какой, вы думаете, у книги будет объем?» Я раздвинул большой и указательный пальцы сантиметра на три. «Напишем 10 листов». Не думаю, что С.М. в этот день обедала с удовольствием. Но она все-таки задала еще один необходимый вопрос: «Через какое время будет представлена рукопись?»
Я несколько лет в университете занимался Блоком в семинаре Дмитрия Евгеньевича Максимова. Знал о Блоке, кажется, все. Защитил диплом на отлично и был рекомендован в аспирантуру. Что мне стоит написать книжку для школьников? «Три месяца», – сказал я.
С.М. с донской стойкостью (почему с донской – объясню позже) выслушала и эту нелепость. «Давайте напишем год, – сказала она, – а если принесете через три месяца – тем лучше».
Мне, если не ошибаюсь, выписали по 150 рублей за лист и по 250 в случае массового тиража (все тиражи в «Детгизе» были массовыми). Для начинающего автора совсем неплохо. Дома, с согревающим сердце авансом, я выкинул из чемодана ласты и маску для подводного плавания, загрузил его книгами и уехал к семье в Крым. К осени дело должно было быть сделано.
Книгу о Блоке я писал пять лет. Но об этом как-нибудь по другому случаю. А сейчас об уроках, которые я вынес из этого эпизода общения с издательством:
1/. Заявка пишется не только для проформы – это способ сформулировать и осознать автору и редакции некоторые из своих ожиданий и обязательств. Жаль, что эта бюрократическая традиция утеряна.
2/. Объем рукописи удобнее обозначать не расстоянием между большим и указательным пальцами, а количеством страниц или авторских листов. Это еще не имеет отношения к Литературе, но может вызвать подозрение в наплевательском отношении к Делу.
3/. С другой стороны, если автор пришел с улицы и понятия не имеет ни о заявке, ни об авторских листах, это вовсе не значит, что он безнадежен – может и получиться. Тут дело в редакторском мужестве и интуиции.
4/. Добросовестно написанная рецензия – большое подспорье в редакторской работе, а вовсе не только способ перестраховки; такой рецензент будет отмечен финансово (на гонорар за первую рецензию – 60 рублей – я купил у спекулянта томик Осипа Мандельштама в Большой серии «Библиотеки поэта») и не останется без работы в случае творческого простоя.
Сейчас, увы, все это мало актуально – и начинающие авторы не приходят с улицы, и внутренних рецензий нет. Да почти нет ведь в своем прежнем качестве и редактора, о чем я искренне сожалею. Будем считать, что это уроки не практические, а нравственные, то есть без истечения срока годности.
Пора, однако, рассказать уже о том
Как я все же стал редактором.
Уроки пятый, шестой, седьмой, восьмой и девятый
В тарифицированной и унифицированной советской прозе пауза в повествовании обозначалась неприхотливо и одновременно с простодушной претензией на художественность. Примерно так: «Прошли месяцы. Давно облетела с деревьев некогда трепетавшая листва, и зарядили обыкновенные по эту пору для здешнего климата унылые дожди…» Удивительное все-таки знание жизни и необыкновенная наблюдательность были свойственны нашим мастерам слова. И ведь не поспоришь!
Так вот, прошло не помню сколько месяцев. Константин Иванович Курбатов решил покинуть пост старшего редактора и уйти, как тогда говорили, на вольные хлеба.
Мы были знакомы. В довольно серьезном уже возрасте К.И., журналист и в прошлом морской летчик, стал осваивать профессию детского писателя. Для освежения впечатлений о детской жизни приехал он однажды на летний сбор подростковой организации «Фрунзенская коммуна», активным участником которой был и я. Когда мои литературные притязания вполне обозначились, руководитель коммуны Фаина Яковлевна Шапиро послала меня, школьника, для литературного освидетельствования к К.И.Курбатову, тогда сотруднику «Ленинградской правды». Он и стал, в сущности, моим первым оценщиком и редактором. К.И., прочитав мои опыты, сказал: «Вы – писатель». Силу и благородство этого раннего поощрения переоценить невозможно. Окрыляла не доброта, а твердая определенность. И вот теперь, уходя на вольные хлеба, К.И., получалось, снова помогал мне.
Так начинающий автор стал еще более начинающим редактором.
* * *
Директором издательства тогда был Николай Антонович Морозов. Он доживал в этой должности последние недели и, должно быть, знал о своем диагнозе. Его партийные челюсти утратили уже к тому времени свою мертвую хватку, и у меня о нем остались самые праздничные воспоминания. Обладая даром легкого похмелья, Н.А. каждое утро обходил редакции с пуком свежих газет, чтобы прочесть заметку-другую о курьезном происшествии или рассказать безобидный анекдот, то есть, чтобы поднять настроение сотрудников, а заодно проверить поименно явку на работу. Милейший человек. И неплохой урок либерального поведения выпускника Военно-морской медицинской академии, артиллериста, инструктора обкома ВЛКСМ и начальника над литературными редакторами детского издательства. Такая карьера – одно из чудесных изобретений Советской власти.
* * *
Несмотря на опыт армии и Ленконцерта, я чувствовал себя все еще университетским человеком. У меня были серьезные личные счеты с Л.Толстым и Достоевским, были претензии к Чернышевскому и Гоголю, Бабелю и Олеше. Я жил в пространстве литературы. Кумиры остались в школе, появились ратоборные коллеги, друзья, враги и соперники.
После знакомства с первой же рукописью я сказал сидящей напротив меня Лене Шнитниковой: «Ну, этого мы точно печатать не будем». Она усмехнулась: «Это один из наших лучших авторов». Довольно быстро я убедился в том, насколько Лена была права. Из всех лежащих на моем столе рукописей, эта была одной из самых перспективных.
Урок был болезненный, но усваивать его надо было немедленно, либо уходить из издательства. Дело не в простом снижении критериев (критерии не изменились). Но критерии читателя, ученого и рабочие критерии редактора, имеющего дело с текущей литературой, вещи разные. Последние диктуют масштаб ситуации. Не почувствовав этого вовремя, человек рискует оказаться в комически претенциозном положении. Ты, может быть, и хотел бы как редактор, чтобы к тебе пришел Лев Толстой, но он к тебе почему-то не спешит. Значит, и тебе надо быть скромнее.
Визит, который уж по счету, к главному редактору Наталье Кирилловне Неуйминой. Она напоминает мне актрису Маргариту Терехову – такие же глаза с поволокой, интонации с влажными затяжками, томные движения. Несмотря на просительность и совещательность тона, властность, всегда включенное чувство вертикальной ответственности – несомненны. Манера такая. Дурачок расслабится и потеряется в душевности.
«Николай Прохорович, даже если вы приняли решение вернуть автору рукопись, начните с того, что вам в ней понравилось». «А если мне ничего не понравилось?» «Так не бывает. К тому же, в этом, в конце концов, и состоит искусство редактора».
Я прислушался к этому совету, хотя и не всегда мне удавалось ему следовать. Но чаще удавалось. Через года два А.Власов, чудный человек, киносценарист и не слишком удачливый прозаик, надписал мне книжку, над которой мы вместе долго бились: «Самому доброму из самых жестких редакторов». Это привет Наталье Кирилловне.
* * *
Первая книжка, которую я подписал к печати, была почти готовая книжка басен, сказок и притч молодого талантливого автора (?) Юрия Степанова. Оставалось завершить составительский отбор и утвердить название. С последним и вышла история.
Название «Куриная слепота» мне не нравилось. В сборнике была сказка «Слоненок, которого кто-то выдумал». Я предложил вынести это название в заголовок книги. Вполне простодушно, не подозревая о существовании подводных камней.
Н.К. сопротивлялась. Наконец, спросила: «Вы берете на себя ответственность за это решение?»
Вопрос был неожиданный и совершенно непонятный. Но тревога передается поверх смысла. Я почувствовал ее, однако, по молодости лет ответил утвердительно. Я сказал: «Да».
Книга Юрия Степанова вышла под этим названием.
Смысл тревоги Н.К. стал мне понятен значительно позже. В названии был англоязычный, западноевропейский привкус: «Вверх по лестнице, идущей вниз», «Винни-Пух и все-все-все», «Карлсон, который живет на крыше»… Эти, выхваченные как будто из живой речи названия, не поощрялись. Патриотические чувства требовали заголовков коротких, с локальным смыслом. Как у русских классиков: «Мертвые души», «Преступление и наказание», «Война и мир». Или как у отечественных классиков детской литературы: «Приключения Буратино», «Судьба барабанщика», «Кортик».
Был в названии момент и более опасный. Если искать незапланированные ассоциации (а именно этим цензура и занималась, и само сочетание «незапланированные ассоциации» являлось рабочим термином этого ведомства), то получалось, что в нашем здоровом и прозрачном обществе чего-то из того, что как будто есть, в действительности, нет. Это уже попахивало идеологической провокацией. Тем более что речь шла о книге притч.
Пронесло. Идиотизм в стране зашкаливал. Нюх бдительной системы начинал притупляться. На тонкости не хватало зарплаты и литературного вкуса. Но для меня во всей этой истории был и урок, нет, не урок бдительности, а урок доверия молодому редактору, доверия, ничем еще тогда не оплаченного.
Кстати, с названием моей собственной книги проскочить не удалось. Название «Разговор о Блоке» в последний момент было запрещено. Незадолго до этого и тоже в «Детгизе» вышла книга Ефима Эткинда «Разговор о стихах». Автора к тому времени успели выслать за рубеж, а книгу запретить. По причине ограниченной образованности наверху не знали, что существует также «Разговор о Данте» полузапрещенного и, во всяком случае, чуждого нам Осипа Мандельштама, а то скандал был бы еще громче. Моя книга стала называться цитатой из Блока: «Открой мои книги…» После выхода ее в редакцию стали поступать письма: «Мы спрашивали в библиотеках – нет у Крыщука других книг». Но все это пока в будущем. А сейчас…
Лазутчик или Автор и редактор на параллельном телефоне.
Уроки десятый, одиннадцатый и двенадцатый
Наши со Светланой Михайловной кабинеты оказались рядом, и телефон один – параллельный. Опасности, которую таит в себе это приятное соседство, я не сознавал.
Положение вообще, надо сказать, было не столько двусмысленное, сколько неопределенное, какие случаются только во сне или, быть может, в романах Кафки. Я чувствовал себя лазутчиком в неприятельском стане, не имея при этом соответствующей легенды, то есть со своим именем и биографией. Но я был и сам частью этого племени редакторов, обрастал связями, в совершенстве знал язык и обычаи, и все это не по заданию одной из разведок, а просто по положению вещей. Я не должен был таиться, но и в том и в другом стане мне было что утаивать; никому не давал обязательств, но кругом был обязан; интриги, не таясь, плели у меня на глазах, составлялись заговоры, и обе стороны охотно доверяли мне ключи от потайных дверей, открывали коды и планы секретных операций. Автор и редактор в одном лице. Такие дела. (В чем двусмысленность положения читатель догадывается в конце абзаца – и то не уверен)
Перед каждым редакционным совещанием администрация предупреждала о строжайшем соблюдении редакционной тайны и всегда напрасно. В тот же день автор таинственным образом узнавал, кем и что было сказано о его рукописи и каких репрессивных мер ему стоит опасаться. Странно, что подозрение ни разу не пало на меня. Сегодня признаюсь, как на духу: я и, правда, не был повинен ни в одном из этих разглашений. Были вещи и более тонкого, интимного почти свойства, таившие, стало быть, в себе еще большую силу соблазна. В редакции ведь мы общались не только по работе – каждый день были чаепития, устраивались праздничные застолья, отмечались дни рождения. И разговоры, особенно после спиртного, которое обычно разливалось в чашки, становились все более раскованными, с уклоном в гротеск и карикатуру, и в первую очередь, конечно, о любимых авторах. Чем более удачна была шутка или история, тем больше было соблазна ее кому-нибудь пересказать, просто из любви к искусству. Страшно признаться, мы ведь и стихи друг другу писали, персонажами которых тоже становились авторы. Помню, в стихах на день рождения Оли Москалевой были такие строчки:
Тебе бы на балу быть мисс, Или валять пред мужем фею, А ты, мой бог, пришла в «Детгиз», И Шейкин сел тебе на шею.Что если бы узнал тогда об этих стихах Аскольд Львович Шейкин? Смог бы ему кто-нибудь объяснить, что мы просто дурачились, и нет тут для него ничего обидного, и никак это не повлияет на дальнейшие его отношения с издательством? Всякий человек на свой счет невероятно подозрителен. Страшнее всего, как известно, не то, что сказано в глаза, а то, что за глаза, тем более в ироническом ключе.
Особенность же моей ситуации заключалась в том, что уже вечером этого дня я вполне мог оказаться в писательской компании, где тоже выпивали, только еще более азартно, а иногда и свирепо, тоже шутили, только еще более зло и метко, и перемывали косточки, только на этот раз уже редакторские.
Сегодня я думаю, как удалось мне выйти из этой ситуации, не повредив своей репутации? Я ведь совсем не был беспристрастен, а значит, всегда держал чью-то сторону и не мог не пользоваться информацией, которой обладал в силу своего двойного подданства. Находясь в центре интриг, я неизбежно становился их участником.
Не испытывал по этому поводу беспокойства тогда, не чувствую дискомфорта и сейчас, вспоминая.
Меня спасло то, что и в среде редакторов, и в среде писателей я был человеком новым. К должности редактора привело меня не восхождение по карьерной лестнице, а случай – никому не обязан. С другой стороны, ни с одним из писателей у меня не было к тому времени долгой истории отношений и общих воспоминаний, которые с годами неизбежно перерастают в моральные обязательства. В ситуации выбора мне было проще. Я знал: выбирать надо не в пользу той или иной личности, а в пользу литературы.
Говорить об однородности писательской или редакторской среды так же глупо, как говорить о некой умопостигаемой идее народа. В любом сообществе есть свои завистники и негодяи, свои гении и бездари, унылые слуги и веселые мастера. О каких корпоративных интересах могла идти тут речь? Если на совещании обсуждалась заявка полуграмотного литератора горьковского еще призыва, я выступал против и часто оставался в меньшинстве. Если пытались зарубить рукопись талантливого автора по идеологическим соображениям или по национальному признаку, я выступал в его поддержку. Но тут уже я имел шанс помочь автору, что и старался делать. Однако это была не внутриредакционная борьба, а противостояние редактора руководству. Совсем другое дело.
То есть использовал-таки служебную информацию и свое служебное положение? Конечно. Участвовал в интригах? Несомненно. Но чаще всего в том лишь смысле, что старался защитить автора и себя от подлости администрации. Ничего уникального здесь не было, свою историю противостояния может рассказать любой совслужащий.
Никогда не обманывался при этом по поводу конечного исхода серии таких боев. Можно было выиграть один-другой бой, войну в целом выиграть было невозможно. За ними была власть и система, за мной – только чувство долга и талант защищаемого мною автора.
О том, как это происходило, речь впереди. А сейчас пора вернуться к параллельному телефону.
* * *
Меня подвела элементарная невнимательность и элементарное не любопытство. А также стереотипность представлений. Ну, кто может звонить редактору в издательство? Конечно, автор. И вот один и тот же автор спрашивает С.М. по телефону уже третий раз за час. А ее нет. В кабинете у директора, обедает, отлучилась в магазин – откуда я знаю? На третий раз отвечаю довольно раздраженно.
Наконец С.М. возвращается. Заглядывает ко мне в кабинет: «Н.П., меня никто не спрашивал?» «Три раза. Должно быть, какой-то болван, – отвечаю я сочувственно. – Представляется „Адмирал Турков“. „Спасибо“», – отвечает С.М. невозмутимо и исчезает в своем кабинете.
В тот же день узнаю, что фамилия у С.М. – Туркова, а прозванивался к ней ее любимый муж. В том, что представлялся адмиралом, ничего странного, как тут же понял, нет – служебная привычка.
Но я!.. Почему до сих пор не удосужился узнать фамилию своего собственного редактора? Ведь она, небось, и в договоре стояла? И как теперь быть? Извиняться поздно, да и нелепо. А работа над книгой в самом начале.
Ну, теперь-то, думаю, я эту фамилию никогда не забуду – единственное приобретение – и впросак больше не попаду.
Как я ошибался!
Февраль 1974 год. Из страны изгоняют Солженицына. Народ безмолвствует. Кроме письма Лидии Корнеевны Чуковской, к тому времени уже исключенной из Союза писателей, и театрально-трагического послания Евтушенко Брежневу, остальные деятели культуры происшествия как бы не замечают. Интеллигенция ропщет на кухнях.
Мы в редакции, конечно, тоже обсуждаем. Сидим вдвоем в кабинете у С.М. Я говорю что-то вроде того, что как же, мол, Шолохов не вступился? Совсем продал душу Кремлю и Бахусу. Ведь если он действительно автор «Тихого Дона», то не может не чувствовать родственности и масштаба Солженицына. Хотя, впрочем, уже практически доказано, что «Тихий Дон» был им украден… Ну, и дальше в таком же духе – общие места из разговоров с друзьями.
С.М. иногда возражает мне, но не очень настойчиво, я же напротив – настойчив и категоричен.
Через несколько дней случайно в разговоре узнаю, что девичья фамилия С.М. – Шолохова, и она – дочь советского классика.
Полный обвал.
А мы продолжаем с С.М. работать над рукописью моей книги. Пишется трудно. Сдаю частями, делаю варианты. Пролонгация за пролонгацией. Главная претензия – слишком взросло, дети не поймут. А я для детей писать и не умею. Но могу ли я надеяться после этих двух нелепых случаев, что редактор меня защитит? Тем более, что мой импрессионизм и стремление к притчеобразности ей явно не по вкусу, она воспитывалась на другой литературе. А у руля «Детгиза» уже давно стоит Евгений Васильевич Стукалин, который мечтает от меня избавиться. По разным, самым нелепым поводам я написал ему объяснительных записок больше, чем глав в книгу.
Опуская подробности, перехожу к урокам.
Не стоит редактору печататься в том издательстве, где он служит. У меня так сложилось, но лучше этого избегать. Со стороны кажется, что дело обстоит прямо наоборот – своему человечку всегда помогут. Иногда это, действительно, так. Но если ты хочешь хорошо делать свое дело, конфликты неизбежны, и рукопись правильнее отнести другим людям.
Сейчас эти соображения кажутся устаревшими, но запомните их на всякий случай – жизнь так упоенно стремится вспять.
С.М. проявила в отношении меня и моей рукописи удивительное благородство, за что я навсегда останусь ей признателен. Благородный, во всех словарях, значит, согласный с правилами чести и чистой нравственности, иногда в ущерб личным пристрастиям и интересам. Вот именно. Если бы в сложившейся ситуации нашего с директором противостояния С.М проявила хотя бы пассивность или обнаружила бы в себе понятную чуткость к настроению руководства, то книга определенно не увидела бы свет, а моя судьбы сложилась как-нибудь иначе.
Вот и урок, бесценный: редактор должен быть великодушным, уметь подниматься выше личных пристрастий и интересов.
Радий Погодин и все-все-все…
Уроки с тринадцатого по двадцать первый
1
Радий Петрович Погодин не похож был, конечно, на Винни-Пуха. Он был похож на лесовика, который вычесывает пальцами слова из своей, устремленной к собеседнику, бороды. В его светлых глазах сверкал иногда зеленый, вовсе не безобидный огонь леса, живущего такой же таинственной, не доступной для постороннего жизнью, какой живет художник.
Я уже заканчивал школу, когда открыл книжку и на первой левой странице, где обычно печатаются аннотации, прочитал такой текст: «Еще нет солнца. Над морем только ясная полоса. В это время – заметили? – горизонт близко – камнем добросишь. И все предметы вокруг стоят тесно.
Солнце над морем поднимается розовое и нежаркое. Все зримое – заметили? – слегка отодвигается, но все еще кажется близким, без труда достижимым.
Утренний берег – детство.
Но время двигает солнце к зениту. И если заметили, то до солнца 149,5 миллиона километров».
Погодину эта замечательная притча и правда представлялась, видимо, чем-то вроде лирической аннотации. Потому что нигде и никогда он ее больше не перепечатывал. Такая не бережливость – один из признаков огромного таланта. Я получу подтверждение этому спустя десять с лишним лет. А сейчас Погодин представляется мне классиком, не меньше, чем Андерсен или Гайдар. Кажется, если случится увидеть его – сердце разорвется.
* * *
И вот он входит в редакцию. Нас представила друг другу Лена Шнитникова. Радий Петрович протянул руку, сказал весело: «Аг-га, очень рад. Н-ну, будем, значит, работать вместе». Он немного заикался, и мне представлялось это милосердным изобретением природы. Р.П. в эту паузу мог умерить ритм разговора и не раз уберегся, возможно, от эмоционального взрыва, к которому был всегда готов. Собеседник же успевал прийти в себя и догнать Погодина на новом повороте мысли. Еще он во время разговора негромко прихахатывал и смеялся. Это тоже как-то помогало.
Р.П. знаком был, конечно, с правилами хорошего тона, мог вести себя вполне нейтрально и вежливо, как в ту первую встречу, но не умел долго этому соответствовать. Скучно становилось. У талантливого человека не бывает простоев. Разговор – та же форма творчества. Погодину нравился в разговоре азарт, рождение красивого смысла.
Он чрезвычайно быстро определялся в любви и ненависти, иногда, как мне казалось, и то и другое отправляя по неверному адресу. Но равнодушие ему не давалось. Наши отношения быстро и незаметно для меня сложились в дружеские, в той мере, конечно, в какой можно говорить о дружбе между людьми, сидящими по разные стороны редакторского стола, разница в возрасте у которых к тому же почти двадцать лет.
В тот день, протягивая мне из кресла папку с рукописью, Р.П. сказал: «Вот, написал тут повестушку. Почитайте».
«Повестушка» называлась «Книжка про Гришку». Даже на фоне высокогорной погодинской прозы – одна из самых высоких и блистательных вершин.
Ума не приложу, какие замечания и предложения могли появиться у меня в ходе работы над рукописью. Но они были.
До того мне уже приходилось работать с авторами – очень нервный процесс. И сейчас стоит в ушах чье-нибудь: «По живому режешь!» А и правда, по живому. Сколько дней и ночей ушло у автора на приноравливание одного слова к другому. И вот приходит чужой человек, пачкает страницы своим карандашом, требует переделать, убрать. По какому праву? Хорошо, если с искренним желанием текст улучшить, хорошо, если по праву ума, вкуса, а то ведь бывает, что только по праву должности. Многие перед редактором заискивают, некоторые пытаются вступить в криминальные отношения. Однажды обнаружил в папке взятку в размере ста рублей. Пришлось потратиться, чтобы отправить деньги обратно переводом. Дальнейшая работа с автором не сложилась.
Вообще, отношения советского автора и советского редактора редко бывали искренними. Даже для самого талантливого, знаменитого, амбициозного автора редактор – вроде начальника. Мало ему доверия, и очень много от него зависит. В числе этого «много» каждый назовет свое, некоторые – деньги.
Помню эпизод, происшедший с прозаиком Т. – человеком способным и достаточно известным. Он написал неплохую повесть, но принес в редакцию рукопись сырую – торопился попасть в план. Остроумие тонуло в многоречивости, динамика сюжета тормозилась многочисленными отступлениями. Надо было сокращать.
У Т. и без того были глаза выброшенной на берег рыбы – белесо удивленные и обиженные. Сейчас они превратились в сплошную муку и жалобу. Я ему искренне сочувствовал – каждому автору больно, когда правят его текст. И вдруг услышал: «Вы у меня уже рублей триста из кармана вынули!» Оказывается, все то время, как мы, по моему разумению, совершенствовали текст, Т. подсчитывал убытки.
И вот мы сели с Р.П. для работы над моими замечаниями. Вернее, сидел я, он нервно ходил по редакции, сверкал одним, обращенным ко мне глазом, и поглаживал бороду. «Вот это», – говорил, например, я и зачитывал текст. «Ну, и уберем, правильно. Лишнее, лишнее, убирай!» – подбадривал он меня. «Вот», – продолжал я и снова зачитывал. «К черту!» «Р.П., здесь что-то не так. Сам не пойму. Посмотрите». «Дай-ка». Мы поменялись местами.
Погодин правил рукопись часа три. Его несло, вернее, он просто работал, произносил исправленное вслух, проверяя на мне. Мои карандашные пометки были хворостом, на который набросился его огонь. Правились уже и те страницы, на которых карандаша не было вовсе. На последнюю исправленную страницу он посмотрел, прищурившись, как смотрел потом на свои картины: «Так, кажется, ничего. А? Как ты думаешь?» Довольный, почти счастливый.
Вот и весь урок: для мало талантливого автора редактор – принуда, зануда и шакал, для талантливого – катализатор и радостный помощник.
Пришла пора верстки с правкой техреда. Техреду и автор и редактор подчинялись беспрекословно: на этой странице две строчки убрать, на этой три прибавить. Сейчас, когда все делает компьютер, в эту варварскую технологию трудно поверить. Работа необременительная, но скучная: разбиваем на абзацы, сводим абзацы, дописываем, вычеркиваем. Вдруг Погодин смотрит на часы: «Ой, я же опаздываю на выступление. Ну, тут осталось всего две строчки дописать. Сделай сам, пожалуйста, а я пойду детям сказки рассказывать».
«Книжка про Гришку» – почти стихи. В стихах же главное не рифмы, а ритм. Как вписать две строчки, не нарушив ритма, не выпав из стиля? Что это вообще за безответственность и легкомыслие! Ведь потом поправить будет уже ничего нельзя: сегодня текст уходит к техреду и корректору, который читает на этот раз только правленые места, завтра в типографию – под обложку и в тираж.
Решаюсь дописать фразу. И хотя состоит она из одних географических названий, все равно меня греет мысль, что две строчки в погодинской повести принадлежат мне: «Потом товарищ Гуляев в Рязань пошел, потом в Латвию, потом в Моздок и Сарыкамыш, потом посетил острова Гуляевские кошки и город Прокопьевск».
То ли по моей вине, то ли по вине корректора, но из одного издания в другое воспроизводится в этом месте опечатка: вместо «Гуляевские кошки» печатается «Гулевские». Просьба ко всем издателям: верните островам правильное название. Я ведь и в атласе их нашел потому, что речь у Погодина идет о командире партизанского отряда товарище Гуляеве.
А урока из этой истории я извлечь не способен. Сам бы никогда на такое не решился.
* * *
Так получилось, что репутации приходящих в редакцию авторов мне были в большинстве своем не известны. Чистое общение с текстом.
Геннадий Черкашин принес рукопись своего романа о лейтенанте Шмидте. Пухлую папку в пятьсот с лишним страниц, состоящую в основном из документов. Эти документы разрывали повествовательную ткань, потом топили ее, авторский голос почти не был слышен. Подобную стадию проходит всякая рукопись на историческую тему, другое дело, что этот период автор проживает обычно в одиночестве, до показа рукописи в издательстве. Но тут по договору подходил срок сдачи, надо было что-то показать. Поэтому, когда я сказал, что вот, мол, накоплен большой материал, теперь можно начинать писать роман, автор романа, красивый, похожий то ли на валета, то ли на морского офицера царских времен, не только не обиделся, но легко со мной согласился. Отношения сразу стали простыми. Во-первых, держит удар, во-вторых, человек самоотчетный. В сущности, это не я его проверял, а он меня.
Потом уже прочитал я книгу замечательных рассказов Черкашина «Вкус медной проволоки». Потом уже мы намучались не столько с выстраиванием романа, сколько в борьбе с рецензентами, администрацией и цензурой, а такая борьба сближает. Тогда же мне нужно было выяснить для себя: какого качества передо мной писатель? И я нашел фразу, которую помню до сих пор: «Река была опылена небом». Так мог написать только хороший прозаик.
Роман «Клянусь Землей и Солнцем» был очень популярен и выдержал не одно издание.
* * *
По-разному реагируют авторы на редакторскую правку.
Валерий Попов прислал заявку на книгу «Похождение двух горемык». И хотя имя автора мне тогда ничего не говорило, в самой заявке был уже состав прозы, притом замечательной. Валерий жил тогда без телефона. Я послал телеграмму с просьбой позвонить. По телефону сказал, что заявка мне понравилась, к работе прошу его приступить немедленно, потому что есть возможность поставить рукопись вне плана. Он посвистел в трубку: «Классно! Я как раз купил новую машинку. Сейчас смотаюсь на берег туманного Альбиона, вернусь и сразу засяду за работу».
Рукопись он представил месяца через три. Заявка меня не обманула. Заглядывающим на огонек коллегам я зачитывал куски рукописи, и мы все смеялись, хотя давно вышли из среднего школьного возраста. Но и замечаний у меня было много.
Валерий внимательно рассматривал мои карандашные пометки, слушал объяснения, согласно кивал головой. «Отлично. Все понял. Когда надо вернуть?»
Просматривая возвращенную рукопись, я увидел, что почти все мои замечания автор оставил без внимания. Даже не потрудился стереть их, что обычно делают авторы, заметая следы своего саботажа. Я почувствовал, конечно, некоторую досаду, но выяснять отношения и настаивать на своем не стал. Стер замечания сам и послал рукопись в набор. И ничего, отличная вышла книга. Мои сыновья перечитали ее раз по десять.
Если в редакцию пришел талантливый автор, последнее слово всегда за ним.
* * *
Как-то зашел Р.П. с рукописью под мышкой, уселся в кресло. «Сейчас забрал у Н.С. повесть». Н.С. возглавляла редакцию литературы для младшего возраста. «Почему?» «Понимаешь, у меня герой там все время выражается „елкин корень“. Ну, ругательство у него такое. А она мне: „Радик, давай это заменим на что-нибудь другое“. Предлагай, говорю ей. Это мы с тобой знаем, что одно ругательство заменить на другое очень трудно, да невозможно практически. А Н. не знает». «И что же она?» «Давай, предлагает, он будет ругаться „березкин корень“. Ну, я завязал на папочке тесемочки и ушел». Мы оба хохочем.
«Что же теперь будете делать, Р.П.? Ведь тут даже и пожаловаться не на что. Отсутствие юмора в некотором смысле тоже проявление природы». «Да нет, что жаловаться? Не знаю. Доре, наверное, отнесу».
И отнес-таки, кажется, Доре Борисовне Колпаковой в редакцию литературы для детей дошкольного возраста. Хотя и не совсем по профилю, зато с юмором там, надо полагать, все в порядке.
У редактора обязательно должно быть чувство юмора, и чем больше давит на него начальство и цензура, тем больше.
* * *
Работа с Виктором Викторовичем Конецким с точки зрения редактуры была минимальной. Ничего специально для «Детгиза» он не писал, нужно было только отобрать рассказы. Неожиданно В.В. попросил, чтобы я же написал к книге послесловие. Это послесловие, кстати, и стало моей первой публикацией. К неудовольствию нового директора Стукалина. Но препятствовать он не мог – Конецкий сам по этому поводу приходил к нему.
Стукалин – маленький зеленолицый человечек, с немного сдвинутой в одну сторону гримасой партийной справедливости, какая бывает у кинематографических секретарей райкома. Глаза наполнены молочной сывороткой, то есть совершенно непроницаемы. Ходили слухи, что он не однофамилец, а родственник председателя Госкомпечати СССР. Входя в кабинет к директору, ты, считай, попадал прямо к министру. Ощущение неприятное, бесправное и ответственное.
Лицо у Стукалина какое-то стертое от непомерных, должно быть, обязанностей и связанных с ними переживаний. Всякий раз, когда мы проходим с В.В. по коридору (а В.В щуплый, ходит вразвалку, любая плоскость для него – палуба), Стукалин уважительно здоровается с известным писателем, а тот всякий раз смотрит ему вслед и спрашивает меня: «Кто это?» «Наш директор, – отвечаю. – Вы только вчера были у него в кабинете». «Вообще-то память у меня на лица хорошая». Но через неделю все повторяется вновь.
И вот, приехал я со своим текстом к В.В. на улицу Ленина. В квартире беспорядок, какой бывает у гражданского моряка и холостяка. На стене большая морская карта, ностальгические пейзажи хозяина. На столе – сизые бокалы, раскрытые консервы, чай в пакетиках (увидел впервые, неприятно – зачем же бумагу в стакан?). Сам маринист – в майке и тренировочных штанах.
Послесловие ему нравится, и он тут же наливает по первой. «Хорошая статья, – снова говорит Конецкий. – Я даже вижу, где вы меня недолюбливаете. Так обо мне до сих пор писал только Игорь Золотусский». «Разве в статье есть критика?» – спрашиваю я, уязвленный его проницательностью. «Еще бы вы меня критиковали в моей собственной, да и в вашей собственной книжке!»
Разговор набирает темп и одновременно глубину. В.В. вдруг начинает говорить, что он не настоящий писатель, потому что не может описать лицо старухи. А класс писателя проявляется только в том, насколько он умеет описать лицо человека. Точно то же и в живописи. И главное, до сих пор ни строчки не написал он о своей любви к морю. Я удивлен: как? разве все книги его не об этом? Он отмахивается – все не то. Сегодня только впервые попробовал написать по-настоящему (показывает рукописные листочки). Вдруг переходит на ты: «Хочешь, подарю?» Я отказываюсь: писатель-моряк впервые написал о своей любви к морю… Но он настаивает: «Ты думаешь, я так больше не смогу? Смогу!» Жалобные интонации сменяются более привычными интонациями морского волка. Заклеенный конвертик с неразборчивым текстом Конецкого до сих пор хранится где-то у меня в архиве.
Вызванный по телефону, приходит брат В.В., Олег Базунов, прозаик необыкновенного, созерцательно-философского дара. «Вот он – настоящий писатель! – восклицает В.В. – Вы его читали? Он может на ста страницах описывать дерево и еще на ста страницах – петуха. Но это для вашего детсадовского издательства не годится».
Олег не пьет. Мы выходим на улицу втроем и через какое-то время вновь вдвоем оказываемся в кафе «Орбита» на Большом проспекте. Показывая то на бармена, то на официанта, Конецкий спрашивает: «Как думаешь, в каком он звании? Нет, бармен, судя по лысине, уже майор». Для меня внове, что вся ресторанная обслуга состоит на службе в КГБ. Хотя, мне кажется, не в кафе такого ранга все же. Это В.В. демонстрирует мне знание жизни.
Потом Конецкий исчезает. Встревоженный, я звоню ему домой и слышу усталый голос: «Я старый человек, мне нужно отдыхать».
Ему тогда еще не было пятидесяти.
Урок: редактор может выпивать с автором, но правильнее делать это после завершения работы. И не часто. И не сильно. Исповедь – обязывает, а фамильярные отношения, напротив, предполагают деловую необязательность. В чем я не раз, к сожалению, убеждался.
2
В работе редактора и врача, особенно психиатра, есть общее: к каждому пациенту и тот и другой должны найти индивидуальный подход. Это не всегда получается.
Прозаик С. отличался крутым нравом, чему карикатурно соответствовала и его внешность краснолицего и громкоголосого крепыша.
Отрицательный отзыв на его рукопись я отослал по почте, избегая физического контакта. Но С. позвонил по телефону и сказал, что прибудет в редакцию через час с целью установления именно физического контакта, раз уж я не понимаю слов.
В смешении чувств я позвонил в журнал «Нева» Самуилу Лурье: редакторский опыт у него большой, может быть, посоветует, как быть в такой ситуации. Лурье сказал, как продиктовал: «Понимаю. Значит, так. Он войдет и сразу начнет кричать. Вы молчите. Тогда он схватит стул и замахнется им на вас. Вы поднимите телефонную трубку и скажите спокойно: „Одну минуточку. Сейчас я вызову милицию, и мы вместе во всем разберемся“. С. быстро исчезнет. Он – провокатор и трус».
Именно так все и случилось.
* * *
Затеяли мы издать в «Детгизе» сборник Анны Ахматовой. Первый прорыв после «Бега времени» был сделан в «Лениздате». Но Ахматова в «Детской литературе» совсем другое дело. В это издательство, вернее в серию «Поэтическая библиотечка школьника» допускались только классики, творчество которых пересмотру не подлежит. А имя Ахматовой все еще было на подозрении. Еще не был напечатан «Реквием» и не забыто ждановское постановление. Нужно было заказать предисловие человеку, которого в обкоме считали своим. Остановились на литературоведе Н.Н.
Поэзию Ахматовой, я думаю, он не понимал да и не любил, но за работу взялся. В меру покритиковал, в меру отметил гражданские мотивы, патриотическую любовь к родине, сравнивая то и дело Ахматову с Некрасовым, специалистом по которому был. Текст получился суконным, лучшего сукна 30-40-х годов. С добавлением, как полагается, брежневской мягкой синтетики. Критиковать по существу доктора наук, без пяти минут академика – невозможно.
Вариант отказа был выбран такой: «Простите, Н.Н., к сожалению, мы ошиблись в выборе автора. Такого ранга ученый нам не по зубам. Столько тонкого анализа, такая глубина исторической перспективы, такая широта ассоциаций – нашему полуграмотному школьнику этого не осилить. Нам надо что-нибудь популярное, с комбинацией не больше, чем на два хода. Вас об этом и просить неловко».
Н.Н. ушел, конечно, недовольный, но статья через несколько месяцев вышла в одном из научных журналов, редактором которого он, правда, сам и состоял. Какие были у него основания полагать, что я несколько преувеличил достоинства его статьи?
* * *
Литератору Ж., 1929 года призыва в литературу, было к моменту нашей встречи уже за семьдесят. Но он ничуть не изменился, оставаясь верен литературным традициям своей юности. То, что сегодня сошло бы как среднего качества юмор на юмористической странице, в то время под видом психологической прозы поставлялось в издательство. Застой – время остановилось.
Сложное переплетение трудовых интересов и интимной жизни героя автор показывал так: «Он незамедлительно поспешил разъяснить Танюшке, что он по-прежнему ее друг и товарищ и надеется, как это поется в песне, что это взаимно. В ожидании ответного письма он продолжал осваивать агрохимию в колхозной почвенной лаборатории». Философия повествователя легко укладывалась в летучие афоризмы: «Всякое выяснение – мать прояснения»; «Как утро вечера мудренее, так город – деревни».
До детей, героев повести, Ж. не было, конечно, никакого дела. В силу нездоровья ли, а, может быть, по причине этого безразличия он не мог запомнить даже их имена, что уж говорить о лицах и характерах. В начале повести героев звали Павел, Юра и Люба, в конце – Павел, Ивашка и Лиза. При этом сначала Люба-Лиза работала директором универмага, а потом вдруг стала посудомойкой. Вероятно, понизили в должности.
Скорее всего, дети вообще писателя раздражали; во всяком случае, легкостью, с которой Пушкин приветствовал «племя младое», Ж. не отличался. Все «дети» пошли порочным путем: порвали со своими корнями, покинув деревню, стали оканчивать «всякие там неведомые институты», получать должности. Непослушные. С детства еще началось. Свое педагогическое кредо Ж. выразил в таком проницательном наблюдении: «Каждый мальчонка сам по себе может быть и хорош, а сойдутся двое – нашкодят. А ежели трое – уже компания. А там где четверо, и шайка может образоваться». В общем, подходить к воспитанию надо индивидуально, лучше сразу в камерах-одиночках.
Сейчас это невозможно представить, но вернуть такую рукопись было делом чрезвычайно трудоемким. Необходимо было делать реверансы по поводу того, что автор прекрасно знает жизнь села и производственные технологии, а также быт и нужды сельского труженика. Хорошо еще Ж. в силу своей немощности, может быть, не дошел до Смольного. Пришлось бы писать объяснительные записки, что мне не раз приходилось делать. Шутка ли, заслуженный человек с почти пятидесятилетним литературным и, вероятно, партийным стажем.
Проще всего было бы сказать: литература – не ваше призвание, лучше почитайте на заслуженном отдыхе других в свое удовольствие. Но социализм, стремящийся, вообще говоря, к упрощению, в нашем деле простых формулировок не допускал.
Дело, впрочем, не только в социализме. Подобного рода простая формулировка – смертельный диагноз. Не всякий редактор решится его поставить, а автор – выдержать.
* * *
Р. всю жизнь был специалистом по пионерам, выдающимся спортсменам и большевикам. До сих пор тема вывозила (ведь и план издательства назывался «тематическим»). Но рукопись, которая легла ко мне на стол, напечатана быть не могла – это я понимал ясно. Нужно было искать рецензента.
Николай Андреевич Внуков отказался сразу, написав: «Ради бога простите, но не могу я рецензировать это… Вы столкнули меня лбами с Р… После рецензии я с ним поссорюсь, а мне этого не хочется. Очень не нравится повесть. Еще раз простите». Р. и действительно был очень милым в общении человеком, ссориться с ним не хотелось. Иногда, правда, мы вырезали фамилию рецензента, именно, чтобы не «сталкивать лбами». Но при желании вычислить ее всегда было можно – Внуков не зря боялся.
Уговорил Валентина Тублина. Он уезжал отдыхать на юг и взял рукопись с собой. К рукописи я приложил записку: «Хорошо бы написать без оскорблений, чтобы я мог показать рецензию автору». Получил рукопись и рецензию с ответной запиской: «Ну, уж и удружили вы мне этим Р. По 10 руб. за лист такого сочинения надо платить рецензенту».
Однако ни доводы В.Т, ни мои доводы на Р. не действовали. Он выпустил к тому времени уже два десятка книг. Что же случилось? И тогда я решился: «Понимаете, так уже не пишут». К ответной реакции я был не готов: Р. заплакал. Он понял. Все-таки закончил в свое время филологический факультет. Но – что ему теперь делать? Он не умеет иначе. А семья большая. К тому же через три года пенсия. Если гонорар за книгу не войдет в то, что он заработал за последние пять лет, получит гроши.
Я попросил принести Р. все, что он написал за жизнь, и отобрал сборник сносных рассказов. Это тот случай, когда пришлось решать не в пользу литературы, но в пользу человека.
Больше Р. в издательстве не печатался.
* * *
Мы переиздавали роман Федора Александровича Абрамова «Две зимы и три лета». Редактором была Лена Шнитникова, я случайно попал на обсуждение рисунков А.Слепкова. На одном из них была одинокая прямая сосна, должно быть, символизирующая несгибаемость абрамовских героев. Ф.А. сказал: «Такой сосны быть не может. Если она растет в одиночестве, то обязательно получается развесистая и корявая». Я возражал. Сам, мне кажется, видел такие сосны в наших пригородных Дюнах. «Стройные сосны растут только в рощах. Когда соседки закрывают им солнце, они струной вытягиваются к солнцу. А одинокая – всегда корява».
Одинокая корабельная сосна стояла у меня перед глазами. Потом я понял: это была сосна из(с) картины Чюрлениса.
О Чюрленисе Ф.А., может быть, и не слышал. Но зато точно знал, как растут сосны. Я был не прав. Классик, хотя бы и советский, знает больше, даже если вы закончили с ним один университет. Мы закончили с Ф.А. ЛГУ, но Абрамов родился в Верколах, я – в Петербурге. У авторов надо уметь учиться.
3
У авторов надо уметь учиться.
Не помню уж до или после неудачи с Н.Н. я обратился с просьбой написать предисловие в сборник Ахматовой к Валентину Семеновичу Непомнящему, автору глубоких работ о Пушкине. В его работах научный анализ облекался в форму увлекательного монолога, разговора о насущном – то, что и необходимо было нашим читателям.
В советское время каждая публикация дорогого стоила, в том смысле, что и платили хорошо, и опубликоваться было не просто. И вот – отказ. Но какой! Приведу большую часть письма Непомнящего – в нем и состоит сюжет главки: «Уважаемый Николай Прохорович! Я искренне благодарен Вам за предложение написать предисловие к „детскому“ изданию Ахматовой: я высоко ценю А.А. как поэта и очень люблю писать для детей; кроме того, мне лестно то, что с таким предложением Вы обращаетесь ко мне, человеку, который никогда специально не писал ни о поэзии Ахматовой, ни о поэзии ХХ века вообще. Но вот именно в связи с этим последним обстоятельством я, к сожалению, никак не могу взяться за такое дело. Несмотря на то, что я очень многое в русской поэзии люблю и глубоко уважаю, в целом эта стихия – „не моя“. И человечески, и (стало быть) профессионально я ощущаю, воспринимаю и оцениваю эту поэзию скорее „извне“, чем „изнутри“. Как раз на той глубине, где рождается самая способность что-то писать о литературе, – на этой глубине я (говоря жестко) всю „пушкинскую традицию“ нашего времени готов отдать за Пушкина, всю поэзию ХХ века – за нескольких поэтов века ХIХ-го. Конечно, с таким ощущением я и не могу, и не имею права (если не профессионально, то человечески) браться за предложенную Вами тему, хотя, повторяю, благодарен за доверие, с каким Вы обратились ко мне…Всего Вам доброго! В.Непомнящий».
* * *
Само собой разумеется, что Стукалин не питал любви к поэзии Александра Кушнера, да и к нему самому тоже. Почему? Да ни по чему. Идеологический нюх. Хотя и придраться вроде бы не к чему. Это-то обиднее всего. А хочется. Потому что, как говаривал у Чехова отец Сисой: «Не ндравится он мне! Господи Иисусе Христе… Не ндравится!»
Но как известно, если нельзя, но хочется, то можно. Вызвал меня однажды С. к себе: «Прочитал я, Н.П., рукопись Кушнера. Знаете, редактор должен быть внимательнее и требовательнее, даже когда имеет дело с известным автором. Вот, например, эти строчки:
О, друзья, набирайтесь терпенья! Слушайте по утрам объявленья! Веселее от них на душе, Даже если ты занят уже.Ведь здесь явно не выдержан размер. Халтуру мы пропускать не должны!»
С тем я и ушел, пообещав быть внимательнее и требовательнее. Не объяснять же С., что ритм стихотворения и стихотворный размер – не одно и то же, что ритмический рисунок всегда не совпадает с метрической схемой, в этом и состоит одно из чудес поэзии. Он, чего доброго, может подумать, что я лучше него разбираюсь в стихах и тем самым нарушаю субординацию.
Стихотворение «Объявления по радио» в сборнике, разумеется, осталось. И не о том я сейчас хочу рассказать, а о двух неординарных просьбах, с которыми Александр Семенович пришел в редакцию, когда книга уже готовилась к подписанию в печать.
Первое: он узнал, что предполагаемый тираж его книги – 50 тысяч. Это неправильно. У него нет такого количества читателей. Тираж надо сократить, иначе книга будет лежать на прилавках, а это стыдно. На все наши уверения, что читательская аудитория у него еще больше, чем тираж сборника, А.С. раздраженно отмахивался: «Не надо мне говорить! Я же лучше знаю!»
Сократить тираж было не в нашей власти. Книга «Город в подарок» разошлась мгновенно.
Второе: в сборнике есть несколько стихотворений, которые неловко печатать сейчас, когда многие его друзья вынуждены были уехать за границу (речь шла, я думаю, прежде всего, о Бродском). Одно из стихотворений я помню. Там были такие строчки:
Снег подлетает к ночному окну, Вьюга дымится. Как мы с тобой угадали страну, Где нам родиться! … И англичанин, что к нам заходил, Строгий, как вымпел, Не понимал ничего, говорил Глупости, выпив. Как на дитя, мы тогда на него С грустью смотрели. И доставали плеча твоего Крылья метели.Проблема состояла в том, что, как я уже говорил, книга была готова к подписанию в печать. Для того чтобы изъять несколько стихотворений, требовалась переверстка, а это и время и деньги. Но А.С. просил, настаивал, сам готов был поговорить с техредами и заплатить, сколько нужно, за переверстку.
Стихи мы изъяли, а эти просьбы я запомнил навсегда. Ничего подобного больше в моей редакторской практике не случалось.
4
Редактор должен быть человечески снисходителен по отношению к автору и уметь прощать, но бывают случаи, когда соответствовать этому трудно, а может быть, и не нужно.
С И.Е. мы готовили к изданию роман из истории США. Большая часть книги уже была написана и написана хорошо. Пора было заключать договор. Но именно в это время прошел слух, что И.Е. уезжает. По тем временам это означало гражданскую смерть. Директор и слышать не хотел о договоре.
И.Е., человек строгий и немногословный, пришел в редакцию. В этот раз он сказал больше, чем за все наши предыдущие встречи. Как быть? Ходить по инстанциям и объяснять, что он не собирается уезжать? Но это все равно, как если опровергать слух, что ты голубой. Все равно не поверят. Но я-то должен ему поверить. У него на попечении четыре женщины (две дочери, жена и бабушка жены). Разве он сумасшедий, пускаться с ними в неизвестность? Кроме того, русский писатель может уезжать за границу только для того, чтобы там умереть. Вне стихии уличной и трамвайной речи писать современную прозу невозможно.
Не было оснований ставить под сомнение искренность И.Е. Я думал также. А потому настоял на заключении договора, взяв ответственность на себя.
Через два месяца стало известно, что И.Е. действительно подал заявление на отъезд и получил разрешение. Аванс издательству он вернул. А мне надписал на прощание книгу: «Вам, быть может, лучше удастся прижиться на ниве российской словесности».
Через четверть века, во время короткого визита в Петербург, И.Е. меня не узнал.
* * *
Евгений Евтушенко откликнулся на мое предложение составить антологию русской поэзии. Я пришел к нему в гостиницу «Европейская» в Ленинграде, чтобы вместе подобрать список авторов. Евтушенко встретил меня, растирая спину мокрым полотенцем. Номер был роскошный: спальня, гостиная, столовая – здесь можно было ездить на велосипеде. На белом рояле стояла ваза с живыми цветами. «Ну, как живут советские поэты!?» – воскликнул он бодро. Вероятно, незадолго до этого принял холодный душ.
Со времени его отважного заступничества за Солженицына прошло чуть более двух лет.
Мы составили список поэтов, провели вместе целый день, потом встречались еще – об этом я расскажу как-нибудь в другой раз, если представится случай. Уехал поэт с подписанным договором.
Через месяц Е.А. позвонил мне, чтобы узнать, перевело ли издательство ему деньги. Пока я ходил в бухгалтерию, ждал у трубки. «Перевели, да, в тот же день – две тысячи». «Спасибо. Простите. Значит, я просто не заметил».
Человек живет другой жизнью, если не заметил такую сумму, это можно понять. Но я не представлял еще себе, до какой степени другой.
Отношения наши складывались настолько дружелюбно, что я попросил Е.А. написать предисловие к сборнику стихов Дмитрия Кедрина, и он опять охотно согласился. Статью прислал в срок. Я предложил ему несколько небольших исправлений. Так автор приводил в статье стихи Бориса Пастернака: «Однажды Гегель ненароком и вероятно невпопад назвал историка пророком, предсказывающим назад». По этому поводу я писал: «Дело в том, что Пастернак ошибся, приписав эту мысль Гегелю. Об этом пишет Берковский в книге „Романтизм в Германии“. Пастернаковские стихи из-за этого, конечно, не потеряли права на жизнь, но в качестве аргумента в критической статье они вряд ли состоятельны. Кроме того, монополия на мысль у философов так же, я думаю, уважается, как у поэтов, допустим, на индивидуальность метафоры. Если все же оставлять в статье стихи Пастернака, то было бы корректней сделать сноску…»
Еще я писал: «Сочетание слов „воссоздатель памяти“ звучит очень необычно. Привычнее: воссоздавать историю…» и так далее. Заканчивалось письмо так: «Это, как и многое другое, дело Вашей доброй воли. Евгений Александрович, статья непременно должна вернуться в сентябре в издательство. Пожалуйста, не подведите меня».
Через несколько дней был получен ответ: «Дорогой Николай! Благодарю за ‹нрзб›. Однако, статью переделывать не буду. М.б. Вы относитесь к литературе более скрупулезно, чем я. Я ж себя пересиливать уже не могу. Не обижайтесь. Дружески. Евг. Евтушенко».
Поступок, и правда, дружеский, с этим спорить невозможно. Я по глупости отослал автору последний экземпляр (ксерокса тогда еще не было). Через неделю рукопись должна уходить в набор. Если нет, полетят премии у всех сотрудников издательства.
Звоню Евтушенко. Он выслушивает молча, потом говорит: «Статья напечатана в последнем номере „Литературной России“. Если вам так необходимо, возьмите ее оттуда».
Мчусь в нашу библиотеку. Читаю. И что же? Стихов Пастернака в статье нет. Вместо «воссоздателя памяти» – «воссоздатель исторической памяти» (что я, в сущности, и предлагал). «Воитель в очках», которого я советовал либо убрать, либо развить в характеристику личности Кедрина, вычеркнут. И так далее.
Больше у меня с этим автором деловых контактов не было. Договор на антологию он с издательством расторг, когда я там уже не работал. Многокилограммовый том поэзии ХХ века, составленный Евтушенко, вышел спустя двадцать лет.
* * *
Сергея Довлатова привел ко мне, если не ошибаюсь, И.Е… Не уверен, впрочем. Но пришел он с чьей-то рекомендацией, это несомненно. Я был настолько далек от литературной жизни, что не знал ни об отношениях Довлатова с КГБ, ни о рассыпанной в Эстонии книжке. Само имя Довлатова услышал впервые. Говорили, что он работает в «Костре».
Сергей принес заявку на документальную повесть о советском разведчике. В идеологическом смысле все безупречно. Да и заявка была написана превосходно. «Вы, наверное, пишете? Принесите что-нибудь почитать», – попросил я. На следующий день Довлатов принес «Зону».
Рассказы мне понравились, но, помню, я нашел в них следы ученичества у Бабеля и Платонова. Сейчас, перечитывая, ни тех, ни других следов не вижу.
Между тем, заявка Довлатова была вынесена на редакционный совет. И тут, как мне тогда представлялось, начался мистический театр. К самой заявке претензий не было, но Стукалин был очевидно против того, чтобы мы ее приняли. За отсутствием аргументов, он то и дело обращался ко мне: «Ну что, вы не понимаете?» Я не понимал. «Мы должны смотреть дальше и глубже. За этой заявкой стоит биография автора. Вы понимаете?» Я не понимал. Даже те из редакторов, кто хотел помочь директору, не решались вербализовать его подтекст. Их и его стыдливость мне до сих пор не совсем понятны. Скорее всего, мое неведение они сочли за тонкую политическую игру и растерялись. Да и не мог директор обнаружить знание того, что доступно только людям, сотрудничающим с органами. Заявка была принята.
После совещания С. пригласил меня к себе. «Н.П., давайте поговорим с вами, как партиец с партийцем». С этим зачином я уже был знаком – директору не могло прийти в голову, что должность старшего редактора занимает беспартийный. Дальше пошел разговор вязкий и бессмысленный: директор не хотел слышать меня, я не хотел понимать его. Он про дурную репутацию – я про заключение договора, я про заключение договора – он про книгу, которую, говорят, рассыпали в эстонском издательстве. Стало ясно, что договор С. не подпишет.
На следующий день я сказал Довлатову: «Сергей, может быть, вы отбили когда-нибудь у нашего директора любовницу? Вспомните. Уж так он не хочет заключать с вами договор». «Может быть. Может быть». И тогда я сказал роковую фразу: «Но вы пишите. Если у меня будет рукопись, я смогу вставить ее в план и против желания директора».
Довлатов исчез. Летом он обычно ездил в Пушкинские горы. Там, между прочим, пожаловался нашей общей знакомой, вернее, моему другу с детства и его знакомой А.А., что вот как ему в очередной раз не повезло: его редактор в «Детгизе» оказался кагебешником. Отпор он получил столь сокрушительный, что тут же извинился и пообещал переговорить со всеми, кому успел сообщить эту ложную информацию.
В издательстве он больше не появлялся. Мы столкнулись однажды на Литейном. Сергей шел с девушкой, приложил руку к груди и поздоровался. Можно было подумать, что просил прощения. Хотя кто знает? Вскоре он уехал в США.
По-настоящему, как мне кажется, Сергей извинился спустя много лет, когда меня избрали главным редактором возрождаемого журнала «Ленинград». Вокруг этого разгорелись политические страсти. На журнал претендовала группа «патриотически» настроенных писателей, которая образовала к тому времени свой Союз. Сергей говорил тогда по западному радио, что давно меня знает, что мы из одного литературного поколения, и я отличный парень и отличный писатель. Блефовал, конечно. Но это его стиль.
Теперь надо сказать, что скрывалось за моей роковой фразой.
Издательство, как и все советские предприятия, работало по плану. Это было святое. Нарушение плана влекло за собой огромные неприятности. Однажды я удачно и вполне сознательно использовал это обстоятельство. «Похождение двух горемык» Валерия Попова, как я уже говорил, было написано быстро и в ближайшем плане, конечно не значилось. К тому же отношение Стукалина к Попову тоже было не блестящим. Но и без того выхода книжки пришлось бы ждать три года. Однако в плане была книжка документальных рассказов о пионерах, того же, примерно, объема. В литературном отношении – совершенно безнадежная. Дождавшись срока, когда рукопись надо было сдавать на оформление, я сообщил директору и главному редактору (вместо Неуйминой это место занимал уже ставленник Стукалина), что мы имеем дело с творческой неудачей (был такой рабочий термин). Это значило, что деньги свои автор получит, но книга издана не будет. Однако, план! В редакции есть рукопись Валерия Попова, того же объема, готово и положительное редакционное заключение – можно хоть сейчас отдавать художникам. Это было спасением. Администрация взяла, конечно, экземпляр для ознакомления, но на этой стадии уже мало что могла сделать: в Москву ушла информация о замене позиции.
Этот сюжет и намеревался я повторить с Довлатовым. И рукопись на вылет в плане была. Но подозрительность Сергея, его потребность в трагедийном анекдоте погубила дело. Да и я – тот еще конспиратор! Не надо болтать. Хотя Сергей, мне кажется, виноватее.
Цензура – раз, цензура – два, администрация – три.
Конец поединка
Урок двадцать второй
Сюжет лебединой песни у меня готов. Сначала хотел сделать отношения с цензурой основой своих заметок. Но – утомился я от общения с прошлым.
Боролись с цензурой… Кто не боролся? Много времени я тогда провел в столице. Местная цензура всегда направляла за разрешением в министерство. Там, ближе к Кремлю, люди были сдержаннее и умнее: «Ну, ваши казаки дают шороху. Бери подпись, штамп внизу поставишь». Вот и ездил.
Ездил по поводу «просто рассказа» Радия Погодина «Рыба». Речь там шла о рыбе «серебристой, кое-где с позолотой, кое-где с воронением, кое-где подтонированной розовым, зеленым или сиреневым», о семге, сельди, золотой рыбке, белобрюхой камбале и не помню еще о чем. Какая из них смутила нашу цензуру, не помню. Но факт тот, что та рыба, которая водилась в наших водах, в наших водах, согласно официальным данным, не водилась (вспомните «Слоненка, которого кто-то выдумал»). Ездил утверждать рыбу.
Однажды, по-моему, тоже у Погодина, появился на улицах Ленинграда генерал. Но того уровня генерал и тех войск, которые в Ленинградской области отсутствовали. Мои доводы, что генерал мог приехать на побывку к маме, не действовали. Отправился в КГБ.
Иду по Лубянской площади и направляюсь прямо к гранитной арке. Портфель пухлый – рукопись везу. Неподалеку от арки двое молодых людей оживленно беседуют. И вдруг, чувствую, что я оторвался от земли и лечу, буквально как Гришка из «Книжки про Гришку». Но вдохновения от этого полета не испытываю, болтаю ногами. Эти двое в штатском отвлеклись от разговора, подхватили меня под руки и, приветливо заглядывая в глаза, несут. «Вы кто?» «Я такой-то». «Вы куда?» «Я сюда». «Вы зачем?» «Я за тем». «Вам не сюда – направо и еще раз направо. В девятый подъезд». И опустили меня на землю.
Это был единственный раз, когда я реально побывал в лапах КГБ.
Во времена антиалкогольной кампании я, уже не будучи сотрудником издательства, для переиздания своей книжки усиленно занимался протрезвлением Блока. Пьянство времен «Незнакомки» пришлось, правда, сохранить – тут поэт не оставил вариантов.
Наша цензура была свирепее московской, наше издательское начальство идиотичнее нашей цензуры. Рукопись Гены Черкашина гнобили потому, что лейтенант Шмидт был слишком гуманен. Умнее и гуманнее штатных революционеров. Как в фильме «Доживем до понедельника». Но фильм проскочил по талому льду хрущевской оттепели, а на дворе стояли уже семидесятые.
Я писал объяснительные записки и отдавал рукопись на одну рецензию за другой. Наконец, потребовали рецензию из Института истории партии. Получив положительную рецензию и написав редакционное заключение, уехал в отпуск, уверенный, что приеду к рисункам. Нет. Рукопись лежит на столе. Сотрудник Института истории партии Старцев нам, оказывается, не авторитет, нужен штамп Института. Пишу объяснительную, еду в Институт. Вышла, наконец, книга.
А вот роман Самуила Лурье «Литератор Писарев» не вышел. К автору Стукалин испытывал чувства, схожие с теми, которые он испытывал к И.Е., Довлатову, Кушнеру и В. Попову. К тому же шлагбаум на пути прохождения книги поставило КГБ, о чем я тогда не знал.
Здесь тот же вариант: на рукопись было получено к тому времени три рецензии (полагалось две), подписано редакционное заключение, я уезжаю в отпуск. По возвращении нахожу четвертую рецензию. Конечно, зубодробительную. Но настолько безграмотную, что мы от души потешались с Самуилом Ароновичем, составляя вместе ответ. (Роман вообще сопровождали трагикомические истории. Главный редактор «Советского писателя», где книга через много лет все же была напечатана, потребовал побольше рассказать о ближайшем окружении Писарева. О Пушкине, например, с которым критик в силу объективных причин знаком не был. Почему в главные редакторы Советского Союза попадали обычно двоечники?
Однако все это были уже домашние игры. Автору сполна выплатили гонорар, но рукопись из плана изъяли. Это был вариант «творческой неудачи». Но не автора, а моей.
Я решил подать заявление об уходе, хотя моя собственная рукопись была еще в производстве, и можно было ждать всякой подлости. Сохранился черновик заявления: «Прошу уволить меня по вашему желанию, которое совпадает с моим». Думаю, в окончательном варианте заявление соответствовало юридической норме.
Но – урок. Последний в этом жанре: когда твои желания совпадают с желанием начальства, надо уходить.
2009
2 Одноподъездная система
Парниковая эпоха и дворцовые тайны
Конец семидесятых. Время цветущее, застойное, парниковое. За несколько лет до того совхоз «Красный Октябрь» был переведен в подчинение производственному объединению тепличных совхозов, что явилось завершающим этапом создания фирмы «Лето». На прилавках зимой стали появляться глянцевые помидоры и атласные длинные огурцы. Без намека на природное происхождение и сопутствующие ему изъяны, но, правда, и без вкуса. То же примерно происходило с людским отбором. С должности старшего редактора «Детгиза» я перешел в Союз писателей на должность референта. На сортность и на цену (зарплату), сколько помню, это не повлияло.
Удивительно, но отбор и в этих условиях шел. Возможно, он был даже более изощренным, чем естественный (конкурсный, рыночный), поскольку критерии были не прописаны. О моем конфликте с директором Стукалиным было известно, и синхронно с заявлением об уходе я получил приглашение от второго секретаря ленинградского Союза Бориса Николаевича Никольского. Был он исполнительным чиновником от литературы, но в писательских кругах пользовался репутацией порядочного человека.
Возникновение репутаций – дело таинственное. Это, можно сказать, позитивный вид сплетни. Ясно, что появляются они не от полноты информации и кормятся слухами. Мы ничего не знали, например, о личной жизни членов Политбюро, не могли отследить их персональное участие в тех или иных решениях, между тем, народу было известно, что в Политбюро есть один порядочный человек – Алексей Николаевич Косыгин. Верили репутациям свято. Достаточно было сказать: «Нет, что вы? Он абсолютно порядочный человек» – и никто не требовал доказательств. А если привести еще эпизод из рассказа близкого знакомого кремлевской уборщицы?
Кроме того, власть все же впускала иногда в свои коридоры простых смертных, поэтому информация о жизни наверху просачивалась в народ. Однажды за каким-то разрешением или выволочкой я был приглашен в Смольный. К некоему одиннадцатому, я думаю, секретарю. Но и тот был важной персоной, и на момент моей явки к назначенному времени занят. Мне предложили пообедать в столовой для местных клерков.
Интерьер обычный, но чистота и порядок – царские. Я встал в очередь с подносом. Прилавок с блюдами напоминал витрину Елисеевского. Не только продукты, но даже названия были мне едва знакомы. Я переложил на поднос бутерброды с севрюгой и балыком, тарелку очищенных креветок, металлический ковшик сациви и не помню еще что. И тут, подходя к кассе, обнаружил, что в кармане только горсть мелочи. Паника, понятно, овладела телом. Я стал озираться, как человек, попавший в засаду. Как выяснилось, не зря. Под ногами лежал бумажный рубль. Протащив его пару метров под подошвой, уронил на пол монетку и поднял вместе с рублем. Не факт, что спасен. Но все же, не весь поднос незаконный. Верну, в крайнем случае, что-нибудь. Ведь я, в отличие от несчастной героини Зощенко, даже не надкусывал.
Возвращать ничего не пришлось. И мелочи осталось достаточно. Коммунизм в этом здании был отрепетирован на совесть.
И неужели вы думаете, что я не рассказал об этом приключении всем своим знакомым? Рассказал и упрочил, таким образом, репутацию коммунистического оазиса. Устный рассказ, не документ, но для репутации большего не требуется. А документальные подтверждения о сытной жизни смольнинских приживал (еще во времена ленинградской блокады) только сейчас начинают приходить к нам.
Про Косыгина не знаю, но общение с Борисом Николаевичем утвердило меня в верности его репутации. Об этом позже.
Причуды кафкианского замка
В физическом плане мое перемещение с должности на должность было минимальным. Я просто стал открывать дверь с другой стороны того же здания. Такое было ощущение.
Дома, конечно, были разные. По адресу Шпалерная 16/набережная Кутузова 6 (помещение издательства «Детская литература») располагался особняк архитектора К.Я. Соколова. Дом на Шпалерной 18/Кричевский 2 (помещение Союза писателей) принадлежало одному из отпрысков знатного рода Шереметевых, начальнику Придворной певческой капеллы и основателю Российского Пожарного общества Александру Дмитриевичу Шереметьеву. Об этом свидетельствовал, между прочим, вензель на одном из витражей в зале, который на нашей памяти был отдан под ресторан.
Интерьеры, что в одном, что в другом здании – роскошные. Они, плюс расположение зданий, было, я думаю, причиной того, что особняк Соколова в 90-х «прихватизировали» (народный термин), изгнав из него продолжателей дела Маршака, а другой дом для совершения той же процедуры для начала сожгли, не пощадив интерьеры. Почти ровесники, они и с так называемой культурой расстались в одно и то же время – век спустя.
Но сейчас хочу обратить внимание на символику другого рода. Иллюзия того, что смена места работы произошла по одному адресу, как нельзя более соответствовала реальности. Вспоминаю в связи с этим, что сказал мне однажды Игорь Семенович Кон, объясняя, почему он вынужден был переехать из Ленинграда в Москву: «Тогда говорили между собой так: в Москве однопартийная система, но много подъездов. Имелись в виду разные подъезды ЦК. Действительно, когда я уже не мог оставаться в Институте социологии, который курировал отдел науки ЦК, я ушел в Институт общественных наук при ЦК КПСС, который находился в компетенции международного отдела ЦК, и отдел науки там меня уже достать не мог. А в Ленинграде, как и в других городах, система была не только однопартийная, но и одноподъездная. Если обком решил кого-то упразднить, то он это запросто мог сделать».
То есть, мое впечатление не-переезда соответствовало реальной тщете всяческих переездов из одного ведомства в другое, всякой смены адресов. Город был своего рода кафкианским замком: из какого окна ни выглядывай, в какую дверь ни стучись, ты все время оставался под присмотром главного, незримого лица.
Обком был и идейным руководителем, и эффективным менеджером, и справедливым судом, и умным цензором. Собравшись воспроизвести политическую экзотику прошлого, я, увы, кажется, списываю с сегодняшней натуры. Колесо вращается, белка бежит.
Александр Кушнер вспоминает о неприятностях, которые произошли с ним из-за стихотворения «Аполлон в снегу»: «…эти стихи прочел вслух на собрании творческой интеллигенции города первый секретарь ленинградского обкома партии тов. Романов и, перевирая фамилию автора, заявил: „Если поэту Кушниру здесь не нравится, пусть уезжает“. А дело в том, что Аполлон в снегу – это поэтическая метафора, имеющая прямое отношение к трагической судьбе русской поэзии в ХХ веке: „Это мужество, это метель. Это песня, одетая в дрожь…“ Спасло меня только то, что стихи не были напечатаны: референты подсунули Романову стихотворение, отданное мною в журнал „Аврора“, но еще не опубликованное. Получился „прокол“: первый секретарь обкома выдал тайну, что партия не только следит за литературным процессом, но и подменяет собой цензуру».
Казусность обкомовской опеки узнал я и на себе. Случилось это так.
Книга о Блоке была еще в печати, когда меня включили в делегацию, которую Ленинград посылал на Всесоюзное совещание молодых писателей в Москву. Похвалы прозвучали с трибуны, «Литературная газета» отметила книгу на первой полосе. С выходом ее посыпались рецензии блоковедов и критиков, откликнулись даже издания, причастность которых к литературе спорна. Например, «Биология в школе». Рекомендация в Союз, выступления с широкой географией – от Большого зала филармонии до библиотек и заводов, предложения от десятка недоступных до этого журналов, ТВ, интервью газетам и радио.
Я соскочил с этого трамвая славы сознательно. Во-первых, это было скучно, неестественно напрягало мимику, воровало личную жизнь, во-вторых, биографическое исследование казалось мне эпизодом – я хотел писать прозу. К счастью, меня поддержали в этом и рекомендатели в Союз: мой университетский учитель Дмитрий Евгеньевич Максимов, Радий Погодин и Александр Кушнер. Все они отметили прозаическое качество книги.
Кажется, единственный раз в жизни я попал в шквал слепого, всеобщего признания (трудно поверить, чтобы все восторгавшиеся книгу читали). Блок поделился со мной искрой своей славы по случаю подступившего столетия. Так или иначе, книга была выдвинута на премию Ленинградского обкома комсомола. И тут включили тормоз.
Об этой истории я узнал время спустя. В ленинградский обком партии ушло письмо, бдительно сообщавшее, что я возглавляю в нашем городе еврейское лобби. Автор – писатель Василий Алексеевич Лебедев. Было ему лет сорок пять, круглолицый, вечно улыбающийся, немного неестественно, слишком широко, что ли, как солнце в детских книжках. О фольклорной, патриотической направленности его прозы можно судить по названиям книг: «Маков цвет», «Высокое поле», «На заставе богатырской», «Утро Московии», «Хлебозоры» и пр.
Он часто печатался в «Детгизе», но судьба нас не сводила. Мое крестьянское, украинское происхождение тоже не срасталось с приписываемой мне ролью. Откуда такая проницательность?
Не знаю, сколько у нас биологических антисемитов, но уверен, что большинство пускают эту карту вполне прагматично, бессознательно чувствуя свой аутсайдерство. Антисемитизм похож на позицию, имеющую исторические корни. Патриотизм, с битьем в бубен груди – на сильную эмоцию. В действительности, нет ни позиции, ни даже эмоции, кроме эмоции зависти, страха и ненависти.
Лебедев несколькими годами раньше был награжден той же премией, что нынче прочили мне. Не хотелось ему оказаться со мной в одной компании. Не по причине кровной ненависти, а, скорее, в силу несовместимости групп крови. В человеческих отношениях это передается через воздух. Формальным же поводом может быть любой пустяк.
Так, после звона вокруг книги о Блоке мне предложили написать книгу для серии ЖЗЛ, тогда еще уважаемой и популярной. Явился я пред лицом главного редактора серии Селезнева, человека со смазанным лицом и бесцветными глазами. В герои предложил Корнея Чуковского. Селезнев ответил, что это фигура несвоевременная, еще, типа, не дозрела до классика. Потом понял, что причиной была версия о еврейском происхождении Чуковского. Предложили подумать над другой кандидатурой. Но для начала главный редактор заметил, что я пропустил в своей книге опасную провокацию. В оформлении мелькают как бы снежинки, в действительности, изображающие звезду Давида. «Они везде стараются оставить свою метку». Художник – Вадим Бродский.
Впервые внимательно взглянув на «метки», я увидел, что бдительность должна дружить с арифметикой. У снежинок было не шесть лучей, а восемь.
Может быть, этими снежинками, и объясняется проницательность Лебедева?
Однако, письмо, поступившее в обком, называлось сигналом. Сигнал требовал реакции. Вручение премии задержали. Вместе со мной включились в непонятное ожидание молодой режиссер Алексей Учитель, актер Роман Громадский, оперный певец Сергей Лейферкус, какой-то областной хор. Комсомольцы просили старших товарищей послать запрос в КГБ. Старшие медлили. То ли боялись открыть на свою голову заговор, то ли пытались справиться своими силами. В конце концов, запрос, как говорят, был все же послан, и ответ получен отрицательный. Ну, как в допинге.
Лебедев года через полтора после этой истории купил машину и стал собирать компанию для первой, веселой поездки на дачу. Обзванивал многих, в том числе, Радия Погодина, который мне об этом и рассказал. Все сначала согласились, потом, придумав предлог, отказались. Лебедев поехал один и недалеко от города столкнулся с лесовозом, разбившись насмерть.
Сейчас понимаю, что оказался тогда героем анекдота (артиллериста), который, попав в плен, под самыми страшными пытками не мог выдать секреты устройства оружия по причине того, что был незнаком с мат. частью. С механикой литературно-политических интриг я и правда знаком не был. В литературную жизнь пришел сбоку, после коммунарской юности, университетской молодости, службы в армии и нескольких лет в Ленконцерте. Везде был рядовым.
Так, к примеру, имя Довлатова узнал впервые, когда он принес заявку. О его многолетних мытарствах, зарубленной в Эстонии книге и прочем мне было не известно. Я боролся за него с директором, не подозревая, что борюсь с КГБ. То же и с рукописью Самуила Лурье «Литератор Писарев».
И так во всем, и длилось это довольно долго, а можно сказать и так, что затянулось на всю жизнь. Не могу рассказать, например, как я героически уклонился от сотрудничества с «органами», просто потому, что мне никто и никогда такого предложения не делал. Хотя должности для этого я занимал подходящие. О групповой борьбе в Союзе писателей, предшествовавшей моему появлению в нем, узнал лишь недавно из книги М. Золотоносова «Гадюшник». Открытием было, что боролись не столько правые с левыми, демократы со сталинистами, сколько одно самолюбие с другим, корыстный интерес с корыстным интересом. А тут уж шло в ход любое предложенное партией оружие. К примеру, антисемита Прокофьева обвинили в сочувствие евреям (эпоха борьбы с космополитизмом).
Действительные позиции обнаруживались только при серьезных конфликтах, в ситуации реального выбора. Такими были, например, обсуждение романа Дудинцева «Не хлебом единым», история с Иосифом Бродским. На моей памяти: борьба за журнал «Ленинград», приведшая к расколу Союза.
Групповые склоки продолжались, конечно, и при мне. Но я без морального ущерба двигался сквозь этот террариум, повинуясь исключительно здравому смыслу и собственной интуиции. Качество человека и качество текста вещи хоть и трудно формулируемые, но безусловные. Иногда и меня определяли в ту или иную группу, что было лишь следствием клеточного мышления. Порой меня выносило на передовой фронт какой-либо идеологической схватки, но свое окружение и тогда я воспринимал не как отряд борцов-единомышленников, а как хорошую и правильную компанию.
Дело не в сверхпроницательности. Просто на литературном поле трудно соврать. Годы спустя я стал узнавать, сколько стукачей и тайных сотрудников со стажем роилось вокруг меня. Были среди них люди, работавшие на обаяние, остроумные, даже умные, но ни одного талантливого. Тут природа поставила запрет. За каждой их устной и письменной фразой стояла фигура умолчания, поведение пестрило проскальзываниями и пробелами, как при демонстрации бракованной кинопленки. В подпитии брошенная скверная фраза о человеке, которого я любил, интимно высказанная сентенция жлоба, военное суждение о литературном ремесле – этого было достаточно.
Вхождение в должность
Итак, референт в особняке Шереметьева – «должностное лицо, готовящее доклады, консультирующее по определенным вопросам». В тридцать лет я снова новобранец.
У входа висела фотография в траурной рамке и две гвоздики лежали на вечной полочке, прикрепленной болтами. Вверх и вниз бегали озабоченные клерки и веселые классики. Двое травили анекдоты.
По черной лестнице я поднялся на самую верхотуру, где не тесно разместились административные службы. Огромный кабинет мы делили с Германом Гоппе и Володей Фадеевым. Окна выходили на Неву.
«У нас покойник», – сказал я.
«Это уж… – привычно кося под кого-то из малых героев Достоевского прогнусавил Фадеев. – Н-да… Как говорится. Двенадцать-тринадцать в год. План!»
Герман Борисович, блестя фанатичным стеклянным глазом, убеждал молодого поэта прочитать внимательно стихи Анатолия Васильевича Луначарского, выбитые в граните на Марсовом поле. «Вот образец чувства и лаконизма!»
«Герман Борисович, это плохие стихи». – Мы не были еще знакомы. Реплика была бестактной.
«Да вы просто ничего не понимаете. Стихи прекрасные!», – вскинулся Гоппе. Что в этих перманентных яростных вспышках шло от натуры, что было следствием контузии трудно сказать.
«Против богатства, власти и знанья для горсти вы войну повели и с честию пали за то, чтоб богатство, власть и познанье стали бы жребием общим». Это?
«Да, прекрасные, прекрасные. Поразительно! Вы еще молоды, а спорите с человеком, худо-бедно прошедшим войну. Аргумент, конечно, я понимаю – не литературный, но все же…»
«Извините. Молчу».
Я начинал обвыкаться в этом литературно-политическом клубе, пытаясь понять его устные традиции и правила. В белом зале занавешивали зеркала для завтрашней панихиды, пахло лапником, радисты пробовали музыку, а у членов и служителей клуба подходила пора обеда. Мероприятие святое, как в крепких семьях. Не по звонку, конечно. Напротив, по индивидуальному расписанию. Но обязательно. Кто-то уже садился играть с барменом в шахматы (потом барную стойку перенесли в проход между залами, бармен уволился и коньяк разливали исключительно женщины, в шахматы не играющие). Кстати, разливать начинали с открытием. Сколько излеченных с утра и погубленных к вечеру душ! Я был весел, как житель внезапно нагрянувшего коммунистического рая. Предчувствие истины еще не коснулось меня.
С Германом Борисовичем мы подружились. Был он человеком искренним, хитрил простодушно, так, что чиновники, улыбаясь, шли ему навстречу. Уже после пятидесяти родил дочь и был едва ли не единственным ветераном и инвалидом войны, кто мог воспользоваться льготой и устроить своего ребенка без очереди в детский сад. Рассказывал со смехом, что такое же право по закону имеют ветераны Первой Мировой.
Его отличала порывистость, с некоторым пацанским самозаводом. Так, вероятно, и вступил он в пятнадцать лет добровольцем в Комсомольский полк противопожарной обороны, а через год, подделав документы, в РККА (Рабоче-крестьянскую Красную Армию). Работала не только жажда героики, но и раннее расставание с отцом, которому в 39-м дали 10 лет без права переписки. В лагере тот и погиб. Мать умерла в 44-м в блокадном Ленинграде. А восемнадцатилетний Герман после тяжелого ранения в этом же году был демобилизован в звании сержанта с инвалидностью 1-й степени.
Таким бедолагам, как он, после войны выдавали приличное единоразовое пособие. Вспоминал со смехом, как на это пособие отправились они с приятелем в Европейскую, протянув швейцару какие-то немыслимые чаевые. Тот просек ситуацию и решительно вернул комок купюр обратно, со словами: «Не надо, сынок. Самому пригодятся».
И стихи у Германа Борисовича случались то ли брутально, то ли сентиментально (что обычно одно и то же) впечатляющие. Некоторые строчки вспоминаются до сих пор: «Девятнадцатый номер трамвая/ Поворот совершает крутой./ Пребываю в девятое мая – /Не в победный, а в сорок второй».
От завтрака до полуночи
Спускаясь с верхотуры, из коридоров прислуги, в бельэтажных и полуподвальных пространствах дворца (бюро пропаганды, бильярдная, ресторан) я продолжал расширять круг знакомств с людьми примечательными и знаменитыми. Маршруты и привычки некоторых изучил не хуже частного детектива.
Например, поэт-песенник С… Обиженное его на улице, в отсутствии внимания лицо, при встрече со знакомым мгновенно принимало скульптурные черты мудрости, а при виде близкого знакомого зажигалось дружеской эстрадной улыбкой. Свое ежедневное путешествие он начинал с бюро пропаганды. Открыв дверь, выкрикивал вместо приветствия: «Кому нужен мой голос эпохи?» Получив заказы на выступления в общежитиях, ДК, НИИ, а то и на датных мероприятиях Смольного, поэт спускался на пол-этажа и направлялся в сортит. Этот ритуал соблюдался неукоснительно и совершался вдохновенно, как если бы утром ему приходила от возлюбленной записка, в которой приглашение на свиданье заканчивалось ободряющими словами «явка обязательна». Закрыв дверь в кабинку и опустив стульчак, веселый, преклонный старик уютно присаживался и доставал из портфеля чекушку. Судя по звуку и скорости, выпивал залпом. Затем уже с воровским, отсутствующим выражением лица поднимался на те же пол-этажа по другую сторону – в ресторан. Жизнь начиналась здесь.
Напряженная компания С. была противопоказана. В каждом человеке свой магнит. Старички к нему подтягивались жизнелюбивые, как и он, графинчики с водкой регулярно телепортировались из соседнего зала, разговор поддерживался необязательный, простроченный старыми анекдотами о главном. Многие из тех, чьи тексты были отмечены особенно задушевным патриотизмом, были, ясен пень, скрытыми антисоветчиками.
По мере того как над Невой поднимался день, в ресторане набирало обороты писательское общение. Часам к трем, свежо и предвкусительно оглядывая зал, появлялись те, кто честно отработал утро. К шести начинали сдвигать столы, в жажде реализовать метафору тесного общения. Кто-то отмечал окончание дальней командировки, другой – выход книги, третий – День рождения, четвертый – развод, пятый – получение аванса; все снимали стресс и накачивались самоуважением.
М.Д., вращая белыми глазами, рассказывал, как однажды исполнилась мечта его детства – въехать в чужедальнюю страну верхом на белом верблюде. «Молодой идиот! Дурак! – кричал он. – Въехал! И что?». Если при нем жаловались, что нечего почитать, кругом одна (читай, советская) преснятина, победно парировал: «Когда я хочу прочитать интересную книгу, я сажусь и пишу ее».
Типы были всё презабавные. Полный, одышливый Бытовой всегда приходил усталый, отработав недельную, а то и месячную вахту у писательского станка, жаловался на слабое здоровье, но с большой энергией пересказывал только что отправленные в копилку вечности сюжеты, не слишком, вероятно, доверяя надежности этой копилки. С ним я был почти не знаком, с его книгами тоже, и удивился, когда Дудин прочитал свою эпиграмму: «Семен Михайлович Буденный./ Семен Михалыч Бытовой./ Один для битвы был рожденный,/ Другой для жизни половой». Таинственна душа писателя. Полководца, впрочем, тоже.
На сторонний взгляд в этом чревоугодническом клубе, как в муниципальной бане, царили панибратство и амикошонство, пренебрегающее возрастом и чинами. На деле иерархия соблюдалась по умолчанию. Молодые кучковались отдельно. Загулявший классик мог, конечно, потрепать тебя по плечу или даже пригласить за свой столик. Но и ты, и окружающие понимали это, как генеральский жест. Пили на брудершафт, сминая разницу в годах, но часто это происходило под воздействием прилива объединяющей ненависти к сидящим за соседним столиком и в силу плетущейся интриги, в которой всегда есть доля интимности.
Здесь все были без жен и без семей, в автономном полете. Самостоятельно перекатывались в поле, носили звания; особость и каприз воспринимались благожелательно, завесу тайны чтили, новой любовнице, перстню, шарфу или машине отдавали должное. Все здесь были в командировке и одновременно дома.
В ходу были шутки над писательской братией, над высоким статусом писательства. Так доблестные, музыкальные, танцующие, рифмующие офицеры шутят над солдафонством, заведомо вычленяя себя и приятелей из этой пародии. Играли на водку по толстому справочнику «Союз советских писателей». Назначали жертву и загадывали: страница 418, правая колонка, третья строка снизу. Следовало назвать хотя бы одну книгу выпавшего по лотерее писателя. Выходил какой-нибудь Ингалиев Сигизмунд Абрекович или Петров Павел Созонтович. Под общий смех проигравший заказывал графин. В подтексте было: понапринимали черт знает кого! За столом при этом собрались, разумеется, как минимум, известные.
Ходила байка, что энное количество лет назад в ресторане подавали блюдо «мозги по-писательски», и официантка, с муками выволакивая из зала пьяного прозаика и дивясь его ординарной заблёванности, приговаривала: «А еще член союза писателей! В члене всё должно быть прекрасно!»
Справедливости ради надо сказать, что некоторые писатели, с именами которых читающая публика и ассоциировала обычно представление о литературе, в этом клубе почти не появлялись. Меттер, Володин, Абрамов. Даже Виктор Конецкий предпочитал другую компанию и другую площадку для застолья.
Вечер заволакивался в памяти ярко освещенным сигаретным туманом. С. нередко садился за рояль, экстазно исполняя свои и чужие песни, популярные, кстати, до сих пор. А, Б, В, Г и Д соблазняли официантку перспективой творческой ночи, она, крупно подплывая с очередным подносом, напевно признавалась: «Ой, мальчики! Я – в Африке!» Ко и Ку били друг другу морду на почве вербализованного антисемитизма одного и латентного другого. Т материл редактора, укравшего у него сегодня усердным сокращением триста рублей, и в поисках жалости льнул к тарелке. Ж подзывал за столик очередного знакомого и в десятый раз читал свое новое стихотворение. Каждому наливал.
День часто начинался в двенадцать дня завтраком в ресторане, а завершался у некоторых к ночи. Это была репетиция жизни богемного художника. Слава богу, что референту время от времени все же приходилось вспоминать об обязанностях.
Дни дружбы
Все, от начальника до клерка, строили мину государственной озабоченности непринужденно, то есть, едва ли не с подмигиванием.
Анатолий Николаевич Чепуров, тонкий и размашистый поэт с голоса Прокофьева, человек незлобивый и по-чиновничьи сметливый, в своем кабинете заказывал очередной доклад или выступление: «Дружба народов, понимаешь, у нас с узбеками. Из древности покопай что-нибудь про вино дружбы». «СайидоНасафи, – например, говорил я. – XVII век. „Скорей, виночерпий, вина! Чтоб оставила душу тревога“. Годится?» «Во-во, – отвечал он довольный. – Кафедра, понимаешь, по тебе плачет. Это, значит, когда нас потчевать начнут. Совать из уважения глаз вареного барана». «Так это, кажется, у казахов». «А черт их знает! Мне однажды в рот засунули – чуть не стошнило. Но надо же улыбаться. Так и улыбался с раздутой щекой, пока не отпросился в туалет и не выплюнул в степи». «Гостеприимство – выше мужества». «Что? Это точно». «Узбекская поговорка». «Прекрасно! Вставь! И кого-нибудь из современных. Обязательно». «Может быть, Максуд Шейхзаде?» «Такого не знаю». «Он умер». А.Н. надувает губы, протирает очки с выпуклыми, как его щеки, линзами и пыхтит: «Что же ты мне мертвецов, перец, подсовываешь? Шутки шутишь? Я его, понимаешь, приветствую, а его, понимаешь, нет. Решат, что я не в теме. Так нельзя. Вся дружба насмарку. Тут нужно личное уважение. Глаза в глаза. Желательно, конечно, чтоб секретарь». «О человеке надо говорить / Пока он слышит». Я цитирую хитовые строки Чепурова, которыми тот обычно заканчивает выступления. Он смеется, довольный: «Ну! Помнишь? Молодец!» «Тогда Шавкат Рахмон». «Во! С этим мы как-то в Москве выпивали. Тогда, правда, он был Рахман. И он у них, по-моему, какой-то секретарь. Давай его! Цитатку».
Я, понятное дело, подготовился. Читаю:
Энгбахтиёрлахзалардахам Унингсокинисёнисинманс…«На местном? Не надо! Язык сломаю. А про что там?» «Не интересовался». «А если там антисоветчина или порнография?». «Партия бы в печать не допустила, Анатолий Николаевич». «Оно, конечно… Кстати, про партию. Ладно, я сам это доработаю. Сейчас давай по глоточку. Ну… по сто пятьдесят. Больше нельзя. У меня сегодня еще встреча с нелегалами. Володю Фадеева потом кликни. Будем здоровы! А выйдем из кабинета – субординацию чти. Такая у нас служба».
А.Н. берет с тарелки ломтик лимона и присыпает его миндальными орешками. «Не огурцами закусываем! А?»
На днях дружбы напивались до изумления и братались искренне. Хотя и в бессознанке многие сохраняли свои привычки и пристрастия. Крымско-татарский поэт Z., полковник в отставке, бессменный заместитель секретаря партийной организации, говорил эстонскому поэту с усугубившимся от алкоголя акцентом: «Взяли манеру писать стихи без рифмы. Мы им покажем! Запретим, к чертовой матери!» Он же после планового знакомства с хакасским аулом и столь же планового возлияния не мог утром отыскать свои брюки. Это было удивительно при его известной армейской привычке в любом состоянии аккуратно складывать брюки и класть их на полку. Время до завтрака прошло в поисках, сопровождаемых тревогой за держателя штанов. Наконец, в понятной жажде опохмела, кто-то догадался открыть холодильник: аккуратно сложенные брюки лежали на полочке под морозильником, покрытые свежим инеем.
Отступление об армии
В одноподъездной системе и форма одна, и стиль, и смысл. То есть форма и составляет смысл, и является главной заботой. Всё построено на профанации и самозванстве. Не имитируется только пьянство. Однако и оно опирается на мертвый ритуал (мертвая вода), и в нем вызревают драконы подлости, кровожадности, глупости и бог знает еще чего.
Недаром подплыла к этому тексту армия, в которой я служил до службы в союзе писателей. Другой вспомнил бы, вероятно, школу, тюрьму, колхоз, завод, семью. Сколько в поле ни гуляй – цветы одни.
Об армии мы все знаем всё. Даже те, кто никогда в армии не служил. Армейские байки и анекдоты – один из самых популярных жанров народного творчества, а старшина – такой же вечный персонаж фольклора, как безымянный чукча или легендарный Чапаев. «Эй, салаги, метлы в руки – и бегом к антеннам, помехи разгонять! Враг не дремлет!» Для тех, кто вчера только расстался со школьной партой, шутка другая: «Кто умеет извлекать корни? Шаг вперед! Ломы возьмете на складе. Объект: пни перед домом полковника. Норма: от забора до обеда. Вопросы в письменном виде после дембеля».
Ну, город Глупов такой.
Если бы в свое время к армейским анекдотам я отнесся более внимательно и серьезно, служить было бы легче. Потому что это, в сущности, не анекдоты, а рассказы бывалого человека. Никакого в них гротеска и специального остроумия – чистая правда. Не полет фантазии, а зарисовка с натуры. И я был теперь не рассказчиком анекдота, а его персонажем. Запастись бы заранее юмором да начать коллекционировать истории, проникшись поэзией абсурда. Это не менее интересно, чем поглядеть на обратную сторону Луны или отправиться в гости к папуасам на Новую Гвинею. Миклухо-Маклай изучал тамошние нравы, но, сколько помню, не пытался ведь исправлять их. Правда, он и не жил по законам аборигенов.
В каком-то смысле Миклухо-Маклаю и солдату было легче, чем любому из советских служащих. Первым двигал все же научный интерес, и срок экспедиции был ограничен. Второй тоже отбывал долгосрочную командировку в народном театре; была возможность реализовать задатки природного артистизма, не путая себя с персонажем, и даже получить удовольствие. Советским служащим гражданин был пожизненно. Выхода всего два: эмиграция или смерть.
Мне все же грех жаловаться: армейский опыт очень пригодился на Войнова (Шпалерной).
Армия каждый курьез возвращает в подробную житейскую практику, проверяет его, так сказать, на подлинность. Сегодня дежурный командир части приказал обрезать кроны деревьев. Запустили природу, блин! Обрезаем. Наутро новый дежурный оскорбляется видом снега, испорченного обрезанными накануне ветками. Собираем ветки. Новый дежурный – свежий взгляд. А пейзаж еще хуже – как после битвы. Возим теперь снег тачками из леса, насыпаем новые сугробы, широкими лопатами восстанавливаем их девственность.
Если посмотреть отстраненно, ничего в этом, кроме пользы для здоровья, нет. Мысль о даром потраченном времени – один из «пунктиков» вчерашнего школьника или студента, жизнь которого проходила под лозунгом «Береги минутку!». Но рационализаторское предложение, что, мол, лучше деревья обрезать весной, оставьте при себе. Зачем портить спектакль?
Человек, незнакомый со службой, чего доброго, поинтересуется: почему так много времени уделяется обустройству территории и не забывается ли при этом главная задача – оборона страны? Ну, это, знаете, не нам судить, какая задача главная. Смешно даже подумать, что кто-нибудь, кроме специально облеченных, может иметь об этом свое суждение. Поделюсь разве личным солдатским наблюдением, которое, как и положено, держу при себе: наипервейшая задача военного – эстетика. От чистых подворотничков и улыбающихся сапог (сзади они должны улыбаться не меньше, чем спереди) до санаторного состояния территории. Потому что природа здесь тоже на службе.
Поедая собственное время, армия всегда испытывает голодную потребность в воспроизводстве. Шагать по ноябрьскому плацу, ровно заполненному снежной жижей, да печатать при этом шаг с оттянутым носком – это вам не борьба в грязи, практикуемая в нынешних ресторанах. Потому что ни душ, ни прачечные в армии временно не работают. Отмываемся после ободряющей муштры под холодным краном в общей умывальне, там же отстирываем шинель и штаны, скоблим и чистим сапоги. За ночь все это, конечно, вряд ли просохнет. Но надо ведь когда-то учиться трудностям, если жизнь в этом смысле замешкалась.
А служба у солдата идет от рассвета до рассвета, с коротким промежутком на сон, если старшина не озадачит реализацией очередной остроты, командир не объявит, маясь бессонницей, тревогу или не обнаружат, что сосед твой по койке сбежал на мирное свидание в соседнюю деревню. Тогда весь полк ждет его до утра на плацу. Сидящий солдат – минус для командира. Свободные от самообслуживания рядовые чистят оружие, из которого стрелять так и не научатся.
Я стрелял из карабина только однажды. Пять выстрелов по мишени. Тем, кто отстреляется на сорок восемь баллов, обещали отпуск. Мы с эстонцем Вэтэмаа выбили по сорок девять. Командир батареи объявил нам перед строем благодарность. Сглотнув обиду, мы пообещали и дальше служить родине исправно.
Идеи свободы и производственной целесообразности в армии не работают. Лучше всех, как в русских сказках, здесь живется Ивану-дураку. Старшина дает урок: к утру мое «очко» в сортире должно блестеть! Инструмент – кирпич. Приказал и скрылся до утра в каптерке: там у него нередко и спальня, и бар. Иван, не будь дурак, идет к ребятам, работающим в гараже. Берет у них банку кислоты, резиновые перчатки, напяливает на себя противогаз – и через пять минут «очко» сверкает, как после евроремонта. Ночь проходит без мрачных сновидений. Старшина улыбается. Для него уловка Ивана не секрет, но смотрит он на него с уважением. Хитрость почитается здесь больше, чем доблесть.
Меня после филфака направили в радиовзвод. В университете я изучал русский фольклор, диалектологию, старославянский, латынь, что прямого отношения к стрельбе ракетой по летящему объекту не имело. «Ну, хотя бы электротехнику вам давали?» – спросил командир полка. Электротехнику нам не давали. «Чушь какая-то, – не поверил полковник. – Книжки тебя там, по крайней мере, научили читать?» Комплексуя, пришлось признаться, что только этим, собственно, пять лет и занимался. «Ну вот. Разберешься».
Вместе со всеми прибегал я по тревоге в наш бункер, чтобы выполнить ряд необременительных операций: два верхних тумблера поднять до отказа, левую ручку переключить на два оборота по часовой стрелке; когда показатель на шкале достигнет красной отметки, перевести ручку обратно на два оборота… Электротехника мне, слава Богу, не понадобилась. Смысл манипуляций я осознавал смутно, да этого и не требовалось. В сущности, моей работе можно было научить обезьяну. При условии, конечно, что ее будут стимулировать чем-нибудь еще, кроме гороховой каши с вареным салом. Но, на то мы и люди. Чем более бессознательные действия совершаешь, тем более осознанно должен относиться к порученному делу.
Думал ли я, защищая Родину, о родных березах? Скорее о петербургском ампире, в парадной бесприютности которого оставил семью с шестимесячным сыном. Хотелось бы мне их защищать как-то более убедительно, чем я это делал. Никто из нас, конечно, не верил, что американцы полетят в такую даль за кедровыми орехами и грибами, но все же, все же… Грела мысль, что в каком-то главном бункере сидят люди, знакомые с чем-нибудь еще, кроме отечественного фольклора.
Подорвал эту веру штабной майор, прилетевший с очередной проверкой. Встал он на табуретку в самом центре нашего военного мозга, увидел пыль на шпалах, покрашенных в разные цвета, махнул эдак, как гусар перед танцем: «Себя не уважаете! Пыль под потолком!» – да и сгорел на глазах у комиссии. Сам он был, допустим, троечник, но ведь из комиссии тоже никто не подсказал ему, что шпалы находятся под напряжением в 600, кажется, вольт и размахивать возле них руками – себе дороже.
Однажды вышел из строя какой-то прибор, без которого вверенное нам небо оставалось не защищенным. Надо было либо срочно чинить, либо через сутки докладывать в Москву о своей профнепригодности, то есть об увольнении из армии. А специалист был на весь полк один – подполковник Кицелло. Но и тот отдыхал в это время на Черном море. Делать нечего: отправили военный самолет, взяли подполковника на пляже и доставили в родную часть. Через два часа после его прилета часть вернула себе боеготовность. А Кицелло отправили обратно поездом, поскольку самолеты вообще-то не летали – в то лето под Москвой горели торфяники.
Окончательно вера в армию рухнула после возвращения домой, когда в военкомате мне сообщили, что за время пути, то есть меньше чем за сутки, из рядового повысили меня в звании до лейтенанта, с чем от всей души и поздравили. Из документов явствовало, что два последних месяца службы, когда посредством отбойного молотка я боролся с кирпичной стеной, оставшейся после какого-то недостроя, я проходил науку на офицерских курсах. Так в их офицерском полку меня и прибыло.
Жизненный опыт в армии человек действительно приобретает. Но это не закалка реальными трудностями и навыками в их преодолении.
И обычная жизнь не всегда к нам радушна и стремится оценить по достоинству. Гражданский начальник, прошедший в свой срок армию, тоже уверен, что свобода личности – не природное и юридическое право, а привилегия, которая дается вместе со званием, должностью и положением. Но здесь все же есть надежда, что инициатива, любовь к делу и способности помогут добиться успеха. В армии эта надежда практически равна нулю.
В определенном смысле армия – суровая школа жизни. Жизнь в ее гримасной концентрации. Урок, вообще говоря, не бессмысленный.
После ночной драки, где в ход шли пряжки, наплавленные свинцом, майор устроил разнос на утреннем построении. «Это же антифашистский поступок!» – кричал он. «Фашистский», – поправил я. Майор решил проверить слух и повторил фразу. Я снова так же тихо его поправил. И на этот раз был обнаружен. «Рядовой Крыщук, выйти из строя! За разговоры в строю трое суток гауптвахты».
И ведь он, по существу (по форме, то есть), был прав. Разве не знал я, что разговаривать в строю не положено? Наученный армией, на «гражданке» я уже понимал, что каждой правде – свое время и место. За одним только исключением: когда ты идешь на осознанный и принципиальный конфликт. А лепить правду направо и налево, в сущности, признак внутренней расслабленности, которая ничего общего не имеет с любовью к истине.
Я научился предугадывать, как доброе и открытое лицо может при определенных обстоятельствах исказиться злобой, ясные глаза – превратиться в плевочки, а живой голос – в механический. Такое мышечное преображение – армейская норма. Не могу сказать, что это обидело и испугало меня на всю жизнь. Но к новому человеку, особенно к тому, от кого зависим, я с тех пор приглядываюсь внимательнее и уж конечно не спешу распахивать душу.
Однажды армии все же пригодился мой навык читать книжки. Ушел на больничный замполит. Как не может быть отменена утренняя зарядка из-за погоды, так болезнь толмача с политического на русский не повод для отмены политзанятий. Позвали меня. Несколько дней профилонил я в библиотеке, читая Льва Толстого, Зощенко и захваченного из дома Верлена.
Политинформация прошла успешно. При моем появлении дежурный офицер скомандовал: «Рота, встать! Смирно!». Я рассказал о последнем годе жизни Ленина и его печальном конце. Снова «рота встать», рукопожатие капитана, мы вместе выходим из Ленинской комнаты и встречаем на пороге приезжего генерала. Капитан рапортует, генерал просит его познакомить с офицером, проводившим политзанятие. Капитан, замешкавшись, представляет ему меня. Рядового.
Скандал вышел необычайный. Политическая близорукость. Преступление. Нет, хуже – это ошибка. Нельзя ставить роту по команде смирно перед рядовым. Не имеет права рядовой трактовать политическую историю партии. Пусть он даже и с университетским ромбиком на гимнастерке.
Жестоко устроена армейская жизнь. Дело не только в физических нагрузках, далеком от комфорта быте, полной невозможности уединения. Хотя и это все штрихи одной картины, где вы не личность, тем более не свободная личность, не мыслящая, тем более не чувствующая. Только функция. Если вы, однако, будете помнить о временности своего пребывания в армии, о том, что командир, отдающий нелепый или унизительный приказ, сам ломает комедию и, что еще чаще, не сознает своего же комического положения, вам станет значительно легче исполнять роль в сюжете, у которого есть, по крайней мере, один понимающий зритель – вы сами.
Армейская жизнь полна лицедейства. Как, впрочем, и всякая жизнь.
Мертвые души
У каждого референта были свои обязанности, вполне, впрочем, условные. Юбилеи, похороны, награждения, конференции, собрания, в ту или обратную сторону идущие поезда дружбы – всё это были мероприятия хотя и регулярные, но всегда внезапные, авральные, требующие напряженной суеты от всего личного состава. Так, например, мы с Володей Фадеевым были посланы с бюджетными цветами поздравлять Виктора Конецкого по случаю вручения ему ордена Знак почета.
В этой истории все было замешано на хамстве и желании обидеть. Советская система устроена так, что обидеть можно было и орденом. Конецкому на пятидесятилетие прописали орден Знак Почета. Хотя он был едва ли не единственный в СССР суперпопулярный маринист, и достоин если не Ордена Ленина, то хотя бы Трудового Красного Знамени или Дружбы народов. Со стороны власти это был плевок, означавший, что репутация прозаика повреждена червоточиной либерализма, и это не осталось партией незамеченным. Вернее сказать, что у партии долгая память и она не забыла, что двенадцать лет назад юбиляр поддержал письмо Солженицына писательскому съезду. Для грехов перед советской властью срока давности не существовало.
На вручении Конецкий выглядел кисло, мрачно шутил, пока мы сидели с ним в зале Мариинского дворца, мрачно принял орден, и возвратился в зал разбойничей палубной походкой. Но продолжение, так или иначе, требовало отметить это дело выпивкой. При всей фальшивости ситуации, День рождения все же был настоящий. Однако Виктор Викторович, сославшись на то, что у него дома моют окна, вынул из кармана четвертной и предложил нам одним отправиться в «щель» гостиницы Астория и там выпить за его здоровье. Скорее всего, в тот день сам он эту обиду свирепо отметил дома, в одиночестве.
Поскольку в одной с нами комнате квартировал Клуб Молодого Литератора, а сами мы с Фадеевым принадлежали к той же референтной группе, то под знаком жизни клуба проходила и наша жизнь. Я описал эту творческую тусовку в одном из романов и сейчас воспользуюсь этим описанием, за документальность которого ручаюсь.
При нашей геронтократии в литературных птенцах ходили сорокалетние отцы семейства. Художник Вадик Бродский, замечательно оформивший мою книгу о Блоке, придумал герб клуба, на котором вышедшее из употребления ученическое перо образовывало голову молодого петушка с клювом, глазом и гребнем. Под этим петушком, овеянное вдохновенным сигаретным дымом, входило в литературу и выходило в тираж не одно беспутное и целеустремленное поколение, поддерживавшее тесную связь с жизнью через ближайший гастроном. Поэты писали тематически актуальные «паровозики» и «датные» стишки в надежде, что те потянут за собой в печать вагоны настоящей поэзии. Изредка и правда выходили сборники, состоящие из «паровозиков» с двумя-тремя прицепленными к ним сумрачными пейзажами, намекающими на социальное неблагополучие.
Кабинет парткома с его стойкими историческими запахами из неведомых тактических соображений отдали под литературный, в сущности, кабачок. При этом запахи парткома и кабачка родственно слились, а литература вяло куролесила в этом плотном настое, напоминая буйных подопытных насекомых. Прекратить эксперимент могли только два события: развал партии и борьба с алкоголем, что через некоторое время и произошло, правда, в обратном порядке.
Диссидентствующие к нам заглядывали редко, для них КГБ построило собственную юрту, и как им дышалось там, я не знаю. Суровые бытовики, вроде Валеры Сурова, приходили только в минуты тяжелого похмелья, чтобы выказать презрение к конъюнктурщикам. Находили в клубе приют и просто тоскующие литераторы, которых не печатали. Деться им было все равно некуда. У этих была надежда, что чужие «паровозики» вывезут за собой когда-нибудь и их асоциальные творения в собираемые иногда альманахи.
Уже вовсю шла инфляция, которой, как и секса, у нас, в принципе, не было. Но она шла, видимо, как и секс, тайно, под покровом ночи. Наутро ценники выходили на прилавки помолодевшими. Референтской зарплаты не хватало даже на наживку для рыбы. Народ, не теряя лукавства духа, уходил в депрессивное подполье. В пору моего детства от безденежья спасались макраме или пошивом, а теперь только воровали – без души, без хитрости, без былого азарта. Даже блатные песни перестали трогать душу, поэзия уже покинула нас, но мы этого не заметили.
Отрегулировать баланс между сознанием и реальностью никак не удавалось. Сначала шли процессы, у которых не было названия, а поэтому не было как бы и самих явлений. Потом всему, с помощью англичан, дали названия, но жизнь от этого не стала более вменяемой. Если раньше она походила на тихого сумасшедшего, который веселил раз в году загадочным изречением, то теперь это был энергичный умалишенный с четкой, что важно, артикуляцией и смышленым взглядом вора в законе. С таким можно пойти на край света и только по прибытии обнаружить роковую ошибку. Все это, однако, случится позже.
Всякая имитация, слава богу, требует серьезных финансовых вложений, иначе немногие бы дожили. Мы имитировали работу с творческой молодежью, которой на этот момент были мы сами. Приток рукописей с оригинальным взглядом на жизнь иссяк, а деньги на рецензирование этих рукописей продолжали регулярно поступать. За нами ноу-хау: рецензии на не существующие романы и сборники стихов. Спасибо советской власти и отдельно добрейшему Герману Борисовичу Гоппе.
«Роман Матвея Прошкина „Зори на Валдае“ поднимает важную тему: привлечение интеллигенции для работы на селе. Однако, создавая образ зубного врача Влада Зеленина (фамилия, кстати, позаимствована у героя Василия Аксенова, ныне эмигранта), он пользуется отжившими стереотипами. Очкарик то и дело оступается в коровьи лепешки, наивно интересуется, что такое „стреха“ и как выглядит полынь, с восторгом растирает в пальцах и нюхает всякую травку, словно никогда не видел ничего, кроме асфальта, и при этом брезгливо называет клуб, который в прямом и переносном смысле держится на энтузиазме односельчан, сараем.
Тут все построено на старых штампах, да еще и с фантастическим допущением, что в селах у нас открываются кабинеты дантистов. Этого, к сожалению, пока не так.
Слабое знание села сказывается и в характерах, и в речи героев. Зеленин „был не столько озабочен здоровьем тружеников села, сколько являлся мастаком по женским органам. Однажды, встав на заре, чтобы подстеречь купающуюся Дарью, он сказал ей, внезапно и фигуристо поднявшись из росистой травы: „Даша, у вас тело Венеры, а груди, как гроздья винограда. Мне так хотелось бы покусать их немножко“. – „Иди отсель, – отрезала Дарья, гневно сверкнув здоровыми зубами, с которыми никогда не обращалась к врачам. – Срамно мне с первого взгляда подставлять тебе свои титьки““. Тут, как говорится, комментарии излишни. Для честности скажем, что в рукописи встречаются удачные пейзажи (например, февральская гроза на стр. 267) и удачные шутки, которые соседствуют, впрочем, с посредственными остротами, вроде: „Советская власть в ваших „Зорях“ даже на ночевку ни разу не останавливалась“. Роман, возможно, против воли автора, получился не о смычке, а об извечном противостоянии города и села. В настоящем виде рукопись считаю для публикации непригодной».
Можно было не сомневаться, что, прочитав такую рецензию, издатель вряд ли изъявит желание ознакомиться с самой рукописью. Это было главным условием жанра. Никому не должно было прийти в голову не только посмотреть на живого, не существующего в природе Прошкина, но и поинтересоваться его адресом и семейным положением.
Автору рецензии нужно было продемонстрировать уважение к графоману из народа, продекларировать понимание актуальности темы, отметая подозрения в политической индифферентности, показать собственное знание материала и трезвость взгляда, чтобы потом иметь право перейти к откровенной издевке и едва заметному доносу. Важную роль играло натуральное владение партийной стилистикой «Правды». Награда: тридцать рублей прописью в денежной ведомости. А это – вечер с друзьями в ресторане, пачка бумаги или копирки, продукты для семьи и еще дня четыре без почесывания затылка.
Психология графомана была изучена досконально, но и без некоторой художественной фантазии, конечно, было не обойтись. Тем более что иногда ведь для разнообразия попадались и рукописи стихотворцев. Сочинить полуграмотную банальность – дело нехитрое. Интереснее было придумать характер виртуального поэта, проникнуть, так сказать, в его внутреннюю биографию, чтобы из недр ее появился такой, например, шедевр:
Взлетев душой к ночному бору, Он принял смерть по Кьеркегору.Члены клуба, на годы задержавшиеся в промежуточной фазе перехода от начинающих литераторов в профессионалы, именно в рецензиях раскрыли свой талант. Создавая воздушные постройки графоманских романов, они проявляли скрытую от них самих игру ума и небестолковое понимание вертикально устроенной жизни. Зато и кормили нас эти «мертвые души», отбиваясь от молча ползущей инфляции и являя вместе с нами бойцов невидимого фронта.
Советский гололед
До последнего времени город Петербург жил, принятой на советский манер, преемственностью и традицией. Аптеки, суды и полицейские участки оставались в тех же домах, что и при императоре. То же относится к театрам, тюрьмам и баням. К больницам и родильным домам, школам и университетам. К библиотекам, гастрономам, рынкам и, понятно, к дворцам, а также к уцелевшим храмам.
Потом все перемешалось. Но еще и во времена моей молодости культура по привычке селилась неподалеку от гнездовья гениев. Дворцы подарили творческим союзам; журналы, издательства и книжные магазины уютно обитали близь Невы и Большой Морской, на Мойке, Невском или Литейном. Как раньше короткие житейские маршруты пролегали между домами Державина и Пушкина, Гоголя, Мицкевича, Лермонтова, Тютчева, Некрасова, так советский письменник прогуливался пешком от издательства «Советский писатель» в «Детскую литературу», успевал получить гонорар в «Звезде», зайти на рюмочку чая в «Аврору» и закончить день в ресторане союза писателей. Правда, и из Большого дома все эти адреса легко просматривались.
В общем, когда меня позвали в журнал «Аврора», переселение не было ни долгим, ни утомительным. От союза писателей до редакции журнала на Литейном 9 было минут пять ходьбы.
Литературный, редакционный быт последних советских лет без истории журнала «Аврора» сильно потеряет и в представлении о смысле происходившего тогда и в колорите. Но сначала небольшое отступление.
Еще за несколько лет до этого перехода Виктор Конецкий пытался вытащить меня из гнойных лабиринтов «Детгиза». С его подачи я отправился в журнал «Звезда» на собеседование к Смоляну. Александр Семенович задал вопрос, на который в природе ответа не существовало: почему я хочу работать именно в их журнале? Честный ответ: потому что я не похож на сумасшедшего покупателя, который в колбасном магазине устраивает конкурс вареной колбасы, и умею считать до трех. Именно столько видов колбасы и было: докторская, отдельная и закусочная. То же и с журналами: голодных и безработных много, а литературных журналов в городе ровно три. Но мой ответ был построен на известном стереотипе: потому что «Звезда» интеллигентный журнал. А.С. был доволен, хотя и заметил, что ответ ожидаемый.
Вся эта интеллигентная беседа ровным счетом ничего не значила, что было известно нам обоим. Механизмы включения в журнальную элиту работали не менее таинственно, чем весы на Сенном рынке. Были у них такие металлические петушки, которые соревновались, чей клюв выше, но клювами никогда не соприкасались. Невозможность сразиться в честном бою и сознание, что первенство между ними решают невидимые существа, должно было рождать в них злость.
Также и в нашем случае: репутация, рекомендации, даже личные симпатии – всё это, конечно, покачивало чаши весов, но решало соображение, которое приходило всегда с неожиданной стороны. В моем случае отказ, который передали мне, разумеется, по личным каналам, поскольку в публичной форме он был невозможен, звучал так: в редакции уже работают три украинца, прием четвертого может вызвать нежелательный эффект.
Два украинца вычислялись легко: ответственный секретарь Петр Жур и заведующая отделом критики Губко Наталья. А кто третий? Сейчас я думаю, что им мог быть сам Смолян, заведующий отделом прозы и выходец из городка Лебедин Сумской области. То есть, вся верхушка журнала, оказывается, была украинская и принимала она себе в компанию четвертого украинца. Получалась уже не «Звезда», а какой-то «Жовтень». В центре Ленинграда.
Расстались мы, как и полагается интеллигентным людям, миролюбиво. Мне предложили писать в журнал, тут же дали заказ на рецензию, и, кажется, первые мои публикации появились действительно в журнале «Звезда».
Случай с журналом «Аврора» был другим. Журнал позвал меня сам. Думаю, не в последнюю очередь это была инициатива Магды Алексеевой и Людмилы Регини. Вряд ли главный редактор Глеб Горышин, который был в дружбе с Василием Лебедевым в те годы, когда тот кулинарил для меня сионистский заговор, симпатизировал мне.
Невооруженный взгляд чаще всего видит в прошлом черно-белую картинку. Были борцы с режимом, антисоветчики, диссиденты и рядом с ними покорное, тупое стадо брехтовских баранов, в лучшем случае, лояльное и пассивное население.
Реальность была многоцветнее. Говорю не для того, чтобы снять с кого-то вину или обелить не информированных и не сообразительных граждан. Но была порода живых, думающих, творческих и честных людей, которые не являлись при этом сознательными борцами с советской властью. Иное дело, что рано или поздно их все равно превращали во врагов, а «чуждыми элементами» ощущали всегда, задолго до того, как случай, который, впрочем, был запрограммирован в устройстве общества, не налаживал для них свой капкан.
На подрыв основ они не посягали, хотя и подозревали, что в формулу социализма вкралась ошибка (как в известном анекдоте: Бог пишет для прибывшего к нему Эйнштейна формулу создания мира, ученый обращает внимание на ошибку, Господь устало отвечает «да я знаю»; здесь важнее даже не признание ошибки, а фатализм, которым пронизаны слова Всевышнего).
Люди, о которых говорю, были движимы в этом созданном по ошибке мире сердечным умом и здравым смыслом. Именно такими были, я думаю, Магда Алексеева и Людмила Региня.
Помню, вначале шестидесятых молодая журналистка Люда Региня на квартирном сборище читала нам, компании коммунаров-старшеклассников, письмо Федора Раскольникова Сталину. Мы были знакомы уже года два, она нам доверяла, но риск при любом раскладе оставался. Погубить карьеру можно было в одно мгновенье, а для журналиста, лишенного права публиковаться, в отличие, скажем, от поэта, это гражданская смерть.
Но я сейчас не только об отваге. Была ли эта акция антисоветской? Для властей, несомненно. Однако по сути это было высказыванием против сталинщины, осуждение которой было еще свежо в обществе. Раскольников писал именно об этом, не ставя под сомнение ни Ленина, ни революцию, ни социализм. Напомню: «Над гробом Ленина вы принесли торжественную клятву выполнить его завещание и хранить как зеницу ока единство партии. Клятвопреступник, вы нарушили и это завещание Ленина…Вы – ренегат, порвавший со вчерашним днём, предавший дело Ленина…Рано или поздно советский народ посадит вас на скамью подсудимых как предателя социализма и революции».
Вот еще нюанс, едва ли видный издалека: то, о чем писал Раскольников, еще недавно можно было прочитать в «Правде». Криминалом являлись не слова, а источник. Письмо шло самиздатом. Этого было достаточно, чтобы читавший его публично журналист был лишен профессии и даже свободы.
Тут, впрочем, уже речь о криминале в его советской трактовке. Однако и человек ни в чем не уличенный, принимающий правила игры, но внутренне свободный, всегда был на подозрении. Начальство его не любило. Магда Алексеева, спустя годы, вспоминая о ненавистном пути по Суворовскому проспекту к Смольному, задается вопросом: «Почему меня все время выгоняли? Все-таки это странно. Меня, так любившую работать?»
Характерно это сохранившееся на всю жизнь недоумение. Хотя странного в этом как раз ничего не было. Да и Магда Иосифовна, конечно, втайне это чувствовала, а в мемуарах призналась: «…жизнь вокруг была не настоящей, с не нами выдуманными абсурдными правилами». Она это сполна испытала на себе, потому что среди рядовых журналистского народа была первой.
Где бы она ни работала («Скороходовский рабочий», «Ленинградский рабочий», журнал «Аврора») казусные ситуации чередовались с требованием доноса, выволочкой в Смольном или увольнением. Так от нее потребовали письменного отчета о встрече редакции с Виктором Соснорой, только что вернувшимся из Парижа. Отчетом были недовольны – сексот сообщал сведения интереснее. Однажды в том же, кажется, «Скороходовском рабочем» была пропущена буква «о» в слове «поезда». Во фразе, представьте: «Поезда, автобусы, самолеты с экскурсантами спешат на родину Ленина». А еще, представьте, в столетний юбилей Ленина, с которого и начался предсмертный буфонный психоз власти. Об этом вспоминает одна из сотрудниц редакции Татьяна Дурасова: «Помню, как в ломбарде на Петроградской стороне, где пестрели указатели „Золото в залог“, „Меха в залог“ и т. д., все затмевал аршинный лозунг: „Ленинизм – залог наших побед“. А в больнице имени Коняшина на Московском проспекте, куда я ходила навещать свою сестру и где в хирургическом отделении на костылях и в инвалидных колясках едва передвигались больные, висел плакат „Ленин и теперь живее всех живых!“».
Случались вещи и более серьезные. Например, положительная рецензия на спектакль Товстоногова по повести Тендрякова «Три мешка сорной пшеницы». Вот тут уже было включено партийное слово «беседа». И ведь упрекнуть-то могли только в отсутствии партийной интуиции. Потому что спектакль был выпущен, то есть прошел партийную цензуру, однако руководитель газеты обязан был знать и понимать, что партии он не по нраву.
На дворе зима 75–76 годов. Зима, по выражению Маяковского, «здорова». Снег слежался в лед. На этом льду поскальзываются и самые бдительные постояльцы советского общежития – от Кремля до самых до окраин. Дальше должно быть только веселее. События, развернувшиеся в «Авроре» в начале восьмидесятых это подтвердили.
Команда «Авроры»
Вообще-то Магда была влюблена в газету и на должность ответственного секретаря журнала попала не по своей воле. Я знаю только еще одного такого принципиального и страстного газетчика – Симона Соловейчика. Журнал что? – говорил он, – написал и ждешь несколько месяцев. В газету днем написал, назавтра утром вынул из почтового ящика. А запах свежих газетных полос! Ну, и так далее.
Однако стиль отношений, я думаю, у нее и в журнале остался прежний. Работавшие с ней журналисты рассказывают, что она собирала сотрудников, как магнит: отбирала на интуиции, притягивала, организовывала, вовлекала.
Так и в «Авроре» подобралась компания, команда и образовался, если хотите, дом. С мрачным хозяином во главе, но что делать? Лодке, чтобы плыть, тоже необходимо сопротивление. Это рождало даже некоторый азарт, вводило знакомую по драматургии интригу – слугам необходимо надуть хозяина. На комедию это вряд ли походило, но бывало весело.
Приходили к нам в гости Окуджава, Крымова, Герман, молодой Додин со своим театральным курсом. Горышин гутапперчиво разводил в улыбке губы, старался быть любезным, а волю раздражению давал только вечером, крепко выпив. Так и в ЦДЛ, где мы с ним оказались, не помню по какому поводу, разражался гневно презрительными тирадами перед висящими в фойе фотографиями Астафьева или Белова, с которыми по трезвости вел себя угодливо, в публичных выступлениях называл друзьями, но завидовал смертельно. Ради справедливости надо сказать, что Глеб Александрович был одаренным прозаиком, первые его публикации вызывали недовольство партийных критиков и интерес читателей. Что случилось дальше, не знаю. То ли критика оказалась убедительней читательской симпатии, то ли такой путь к славе представлялся вернее и короче.
Выбор авторов, понятно, у всех журналов был одинаков. Всякий член союза писателей имел право и качал права. Тексты многих были вредны для здоровья, против них редакция держала оборону. Дело трудное. Потому что именно у них за спиной стояла обычно артиллерия в виде партийной организации союза или райкома и обкома. Тараном служила актуальная тема: стройка Сибири, будни завода, молодой профсоюзный лидер, успехи армии или юбилей колхоза. Освоение подобных предметов требовало определенных способностей, которыми, как правило, были обделены люди талантливые. Помню, страдающий от безденежья Валерий Попов попросил выдать ему командировку на какую-то стройку. Недели на две-три. Обернуться можно было быстро, а на суточные скромно жить оставшиеся десять дней. Через некоторое время принес очерк, над которым смеялась вся редакция. Не потому что Валера написал, как водится, смешно, а по причине пародийного непопадания в жанр.
Но были в этом жанре мастера, и с ними приходилось туго. Как-то с очередным очерком пришел один из старейших писателей Ленинграда Д… Труд отказать ему взяла на себя то ли Ира Муравьева, то ли Лена Невзглядова. Последним аргументом было: «Наконец, у вас ужасный русский язык». Тот поднял седые брови, ударил ладонью по столу. Удивлен и расстроен был искренне: «Это же надо – полвека в литературе, а все говорят, что ужасный язык».
Если в редакции были засланцы из этого лагеря, то они так или иначе могли пробить в печать своих. Но в годы моей работы таких в журнале не было. У главного редактора имелось, да, не оспариваемое право запретить публикацию, однако если он продвигал свою креатуру, то в определенных ситуациях (аховое качество, например) с ним можно было и пободаться. Поскольку вся редакция была в дружном и азартном поиске авторов талантливых, на страницах «Авроры» появлялись публикации Володина, Искандера, Самуила Лурье, Гаккеля, Кушнера, Жванецкого (едва ли не первая публикация).
«Аврора» считалась молодежным журналом. В этом была его притягательность: еще жила в читателях память о «Юности» шестидесятых. С другой стороны, он был самым не солидным и самым тонким из ленинградских журналов. Некоторые авторы предпочитали публиковаться в изданиях с биографией.
Однажды я позвонил Виктору Конецкому. В период работы над книгой в «Детгизе» он рассказал мне об истории их отношений с Виктором Шкловским и о длившейся долгие годы переписке. Рассказчик он был превосходный, в литературных достоинствах писем Шкловского я не сомневался, в моем редакторском мозгу тут же сложилась идея публикации. И вот время пришло. Конецкий схватил ее сходу, удивляясь, что самому она до сих пор не приходила в голову. Я перезвонил месяца через два. Мрачный и агрессивный, как бывало в известных обстоятельствах, он ответил, что материал готов и передан в «Неву» Никольскому. На мое понятное сомнение в порядочности этого поступка я услышал матросскую трехэтажную тираду, после которой мы с ним никогда, до самой его смерти не общались.
А причина этого кульбита яснее ясного: «Нева» журнал более солидный. Для людей поколения Конецкого статус издания был важен. Виктор Викторович в ту пору серьезно переживал, что ему ни разу не удалось напечатать свою прозу в «Новом мире». Так, по его мнению (пустому, я думаю), ему отказывали в элитной литературной прописке.
Но «Аврора» продолжала свое уверенное и веселое путешествие. Редакция была ярко освещена, шумна и многолюдна, как мастерская художника. Художник Валера Бабанов привлекал к работе лучших из своих коллег (журнал был иллюстрированным). Люда Будашевская – всегда возбужденная, как перед премьерой. Она рулила культурой – всё и всех знала, со всеми дружила, во всех авторов была влюблена. Леня Левинский читал кому-то в коридоре новое стихотворение очередного автора и победно заглядывал в лицо слушателя: «Годидзе?». Так, помню, прочитал четверостишье Иры Моисеевой:
Конечно, не ямб, не хорей, не дактиль, не дольник, а просто – сидит соловей и свищет, разбойник.Предстояла первая публикация молодого поэта. Попросил меня написать вступительную заметку. Я написал.
Журнал творился и сочинялся на глазах. Леша Самойлов то азартно, то возмущенно ворошил листы прозы, пытаясь в который раз погубить гору рукописей, но утром она возрождалась в своей прежней стати. Юмор спускался со второго чердачного этажа, где обитал Саша Житинский. Там же устраивались молодежные, якобы тайные застолья, благо гастроном призывно смотрел окнами с другой стороны Литейного.
Отступление: спасители нации
Во время одной из таких посиделок пришла к нему группа психологов, которой, оказывается, было назначено. Чтобы снять неловкость, а также совместить приятное с полезным, предложили и мне ответить на вопросы гигантской анкеты. Там было что-то и про секреты ремесла, и про отношения с людьми и отдельно с начальством, про характер сновидений, контакты с Богом, чудных мгновеньях, депрессию и пр. Настроение было уже летучее, мы справились с заданием быстро и без труда.
Вспомнил этот эпизод ради истории, которая разыгралась позже. Психологи позвонили недели через две, сказали, что их заинтересовала моя анкета, и попросили прийти на встречу к ним в офис. Слова этого, впрочем, еще, кажется, не было в обиходе, да и на привычный офис их нора на Лиговке совсем не походила. Пустые стены, бетонный пол, занавешенные черной плотной материей окна. Официально это был наркологический центр, анкета же, с которой они объезжали ученых, художников, артистов и писателей – профессиональным хобби. По одним им ведомым параметрам они пытались выявить гуманитарный цвет нации, определить и классифицировать личности, неординарность которых зашкаливает и которые нуждаются в психологической поддержке. Они сказали – в спасении. Характерный штрих в картине того, предперестроечного времени, дурманные цветы – предвестники грядущих суеверий мистических откровений.
До сих пор отношусь к психологическим тестам с опаской. Грубый инструмент, безапелляционные выводы, последствия которых невозможно просчитать. А от этой затеи попахивало еще какой-то разновидностью расизма. И напророченного фантастами манипулирования психикой. С одной стороны тебя объявляли едва ли не гением, с другой собирались создать какой-то искусственный климат, посадить на поведенческую диету, а иначе угодишь в тюрьму, власть сломает, и закончишь жизнь в пригородной пивной или в психушке. Чем этот ботанический сад отличается от балдеющего на дворе зрелого социализма?
Хотя один момент в этой истории был любопытным. Я спросил что-то вроде того, на каком основании я должен им верить? Разведчики будущего предложили назвать имя знакомого литератора, о котором у меня сложилось собственное мнение. Я назвал Ю., человека, я бы сказал, яркого в своем конформизме. Жорж Бенгальский от литературы, феерически, до оригинальности пошлый и не талантливый. Он тоже был опрошен и на многометровой бумажной ленте с немыслимыми подсчетами, к моему удивлению и, не скрою, тайной радости, оказался на другом ее конце. Надо было бы, конечно, для честности спросить, кто у меня по ленте был в соседях, но я не спросил. Сеанс магии закончился. Я, вопреки обещанию, не перезвонил.
Сегодня, когда утвердилась эпоха фельетонных гадателей, рейтинговых прогнозистов, диггеров психических тайн и пр., я вспоминаю об этом случае с радостью, как человек, спасшийся от надвигающегося на него тяжелого состава. Такие дела чреваты не только мнимыми репутациями и ложными предпочтениями, но и внутренним разладом, искривлением отношений и, в конечном счете, творческой импотенцией.
Команда «Авроры»-2. Королева Марго
В это же время талантливые авторы ходили по коридорам редакции, устраивали жаркие споры в кабинетах, наворачивали чай или водку и, попав в родную среду, меньше всего думали о своей неординарности, а кто-то, вроде Жени Рейна, и автором-то до времени числился только в перспективе. Все были при этом влюблены в Маргариту Петровну Музыченко, Марго.
Марго была заведующей редакцией. Работа секретарская, канцелярская. Но для всех она была чем-то неизмеримо большим. Молодая, круглолицая королева с умными, понимающими, доброжелательными и, иначе не скажешь, лучистыми глазами, в которой прозревалась будущая бабушка, глядящая, подперев ладонями лицо, в окно пряничной избы с обложки детских сказок. По первой специальности Марго была переводчиком с английского, о чем я узнал десятилетия спустя. Литературных разговоров с ней почти не было, но уверенность, что она чувствует литературу, прочитывает и оценивает рукописи, которые по должности должна только регистрировать, эта уверенность была, мне кажется, в каждом. Она готовила бутерброды к чаю, нередко приносила домашние пирожки, но при этом была как будто тайным вожатым происходящего, молчаливым навигатором, камертоном, исповедницей и собеседницей. Правильно была устроена душа этой женщины. Чувство достоинства и дар приятия, расположенности. Ларец, в котором хранились чужие тайны, ни разу не был использован для производства или поддержания интриги. Сколько песен и стихов мы написали в ее честь. Королева.
Молодые ее родственницы (племянницы или внучки) рассказали на поминках, что как-то Марго, уже старенькая, остановилась посреди разговора, оперлась ладонями о стол и проговорила: «Господи, как я устала!». Те удивились и огорчились. Они старались максимально облегчить ее жизнь, ухаживали, помогали. «Бабушка, от чего ты устала?» «Как я устала, – повторила та, страдальчески улыбнувшись, – быть королевой».
Второй залп «Авроры»
Разумеется, жизнь наша не была бесконечно длящимся праздничным балом. Но люди, настроенные на творчество, становятся неосторожными. На реальность лишь оглядываются, вместо того, чтобы отслеживать ее с упорством сыщика.
Как-то мы остались в редакции вдвоем с Магдой Иосифовной. Может быть, я был «свежей головой»? Нет, это были еще не гранки, а только сложенная рукопись очередного номера. Так или иначе, сидим мы над этим сложенным стопкой журналом. Магда довольна: отличный получился номер. И тут я по должностной бдительности, вероятно, говорю: а теперь давайте посмотрим на национальный состав авторов. Смеясь, мы идем вместе по оглавлению, и… тьма накрыла ненавидимый прокуратором город. Процентов семьдесят евреев. Журнал завернут, как пить дать, да еще и со скандалом. Надо тасовать колоду заново.
Но неизбежное, что в народе назвали «вторым залпом Авроры», все-таки случилось. Всем коллективом дули на воду, а обожглись на молоке.
Огромная индустрия работала над моральной санацией граждан, однако специфически устроенные аппаратные мозги не смогла вставить даже работникам идеологического фронта. Отследить многочисленные незапланированные политические аллюзии, содержащиеся в тексте, не под силу даже гениальным филологам, что же говорить о простых совслужащих. Это была загадка без разгадки, говоря проще – ловушка.
Надо заметить, что юбилеи политических лидеров в пору цветущего застоя отмечались пышно. Всякое издание обязано было отреагировать. Радости полагалась безудержность, улыбке – океанская широта. Поклон такой, чтобы можно было разглядеть соринку под плинтусом. Ну, и душевный трепет, само собой. Примерно, как в этой газетной заметке: «После большого концерта мастеров искусств, когда мы прогуливались по парку, к нам подошел Леонид Ильич Брежнев. Он расспрашивал о жизни Молдавской Республики, о новостях культуры, науки. Мы старались как можно полнее рассказать Леониду Ильичу о том, как благодаря заботе партии и правительства бурными темпами развиваются в Молдавии искусство, наука и культура. Наша беседа длилась около часа. Перед нами как бы раздвинулись рамки нашей творческой жизни. Каждый в эти минуты с особой ясностью чувствовал все огромное значение тесного единения творческой интеллигенции и партии, понимал, что такое единение и возможно только в нашей стране, где художник живет интересами народа, для народа, с которым его связывают животворные нити».
И вот в декабре 81-го генсеку стукнуло семьдесят пять. Мог ли журнал «Аврора» не откликнуться? Вопрос риторический. С остроумием и лихостью, присущими молодежному журналу, заздравный тост логично было бы поместить на семьдесят пятой странице.
В грохоте разразившегося скандала всем хотелось расслышать тихий голос гения интриги. Но его не было. Заподозрить в подвиге камикадзе Горышина или Алексееву – себе дороже встанет. Функционерская бдительность первого была ослаблена все же любовью к литературе, а шутка и розыгрыш напрочь отсутствовали в составе характера. Не говоря уж о том, что политическая репутация стала к тому времени его оберегом существования в литературе. Магда Иосифовна была на момент выхода журнала в отпуске, попасть же в яблочко семьдесят пятой страницы без ее специальных каждодневных стараний рассказ не мог. Тут необходим был сговор смельчаков и диссидентов, но даже партийная элита, даже в момент юбилейного безумия предположить подобный заговор не могла.
Когда номер журнала затребовали в обком, редакция принялась придирчиво его перелистывать, но никто не увидел даже намека на криминал. Подсказал по телефону отец Людмилы Антоновны Регини, который знал времена более крутые, умело тренировавшие виртуозность и хитроумие при разгадывании царских загадок. Он посоветовал посмотреть семьдесят пятую страницу.
Ищем и находим. Точно. «Юбилейная речь». Читаем:
«Трудно представить себе, что этот чудесный писатель жив. Не верится, что он ходит по улицам вместе с нами. Кажется, будто он умер. Ведь он написал столько книг. Любой человек, написав столько книг, давно лежал бы в могиле. Но этот – поистине нечеловек. Он живет и не думает умирать, к всеобщему удивлению. Большинство считает, что он давно умер – так велико восхищение этим талантом. Ведь Бальзак, Достоевский, Толстой давно на том свете, как и другие великие классики. Его место там, рядом с ними. Он заслужил эту честь! Вот он сидит передо мной, краснощекий и толстый, и трудно поверить, что он умрет. И он сам, наверное, в это не верит. Но он, безусловно, умрет, как пить дать. Ему поставят огромный памятник, а его именем назовут ипподром – он так любил лошадей. Могилу его обнесут решеткой. Так что он может не волноваться. Мы увидим его барельеф на решетке.
Позавчера я услышал, что он скончался. Сообщение сделала моя дочка, любившая пошутить. Я, не скрою, почувствовал радость и гордость за нашего друга-товарища.
– Наконец-то, – воскликнул я, – он займет свое место в литературе!
Радость была преждевременна. Но я думаю, долго нам не придется ждать. Он нас не разочарует. Мы все верим в него. Мы пожелаем ему закончить труды, которые он еще не закончил, и поскорее обрадовать нас. (Аплодисменты.)».
Теперь уж было удивительно, как мы сами не догадались. Ведь годом ранее Брежнев получил ленинскую премию по литературе. То есть, писатель! Его страсть к машинам была известна. Шутник Голявкин заменил машины на лошадей. Недалеко ходил. Предсмертное состояние Ильича длилось десятилетие. Народ упражнялся в вариантах диагноза, но конца ждали посезонно с минуты на минуту. На Курилах нам, журналистскому десанту из «Авроры», рассказывали о черной глубоководной рыбе, которую каждую неделю посылают в Кремль и которая генсеку обещала едва ли не бесконечную пролонгацию жизни. Но было ясно, что ни черная, ни золотая рыбка помочь ему уже не могут.
Задним умом все мы стали сообразительней. Впрочем, и этот никудышный ум пригодился, поскольку панихидная пьянка была в самом разгаре. Через четыре года, к сороковой годовщине Дня Победы журнал собрал подборку военных стихов. Были там, в частности, строки Симонова: «Прижав к груди заснувшую игрушку, Седой мальчишка на лафете спал». Я в качестве «свежей головы» спросил Леню Левинского: «Тебе этот паренек на лафете никого не напоминает?» Леня задумался только на мгновенье, схватился за голову, крикнул: «С меня бутылка!» и побежал изымать стихотворение из номера. Седым мальчишкой на лафете был, конечно, наш очередной генсек Константин Устинович Черненко, которого в момент подписания номера как раз везли по Красной площади.
Но, то были уже другие времена.
Тихая гавань
Журнал переехал в симпатичный Аптекарский переулок. Сегодня в таком помещении могли бы безбедно разместиться все питерские журналы и еще несколько издательств. На закате всякая власть начинает страдать вкусовой избыточностью.
Магду Алексееву уволили. Кстати, она так и осталась в уверенности, что главной причиной увольнения был не рассказ Голявкина, а то, что через голову обкома она получила разрешение Москвы печатать воспоминания Натальи Крымовой о Высоцком. Так это или нет, мы уже никогда не узнаем. Да и какой смысл гадать? Со сталинских репрессий повелось, что объявленное обвинение таило под собой истинную причину ареста, а то и отсутствие каких-либо причин, кроме спущенной сверху разнарядки. Но ее свидетельство все же стоит привести: «Вот я вхожу в очередной кабинет, где состоится судилище. Валентина Матвиенко, нынешний петербургский губернатор, а тогда первый секретарь обкома комсомола, в бордовом бархатном пиджаке не успевает погасить улыбку: чему-то, видно, здесь смеялись, но уже через секунду лицо изображает скорбь. Вообще все очень скорбны, как будто в кабинете – покойник. (Кстати, рассказ Голявкина начинается фразой:„Трудно представить себе, что этот чудесный писатель жив“).
Высказываются по очереди – заклеймить преступников должен каждый. Галина Пахомова (зав. отделом культуры), когда очередь доходит до нее, не выдерживает и отклоняется от заданного курса: „Зачем вы так отстаивали статью о Высоцком? – спрашивает она меня. – Хотели потрафить молодежи?“.
Проговорочка по Фрейду: не о Высоцком же сегодня речь. Вот Матвиенко – та смотрит в корень: „А вы неплохую зарплату получали“, – укоряет она меня. В одной фразе – вся нехитрая философия жизни».
Уволили и Глеба Горышина. На его место заступил Эдуард Шевелев, который до того заведовал культурой в обкоме и горкоме. Византийская партийная манера пристраивать своих на золотые места. Впрочем, говорили, что по партийным меркам он либерал, кому-то когда-то помог, человек не злобный, общительный и любит литературу.
Не берусь подтверждать это или оспаривать. Если переводить на современный язык, я бы назвал Эдуарда Алексеевича открытым обществом закрытого типа. Приятный разговор, понимающий взгляд, располагающая улыбка. Полная противоположность Горышину. Но с его воцарением в редакции поселился шепот, полушепот и перешептывания. Военные советы на двоих или троих за закрытыми дверями стали обычным делом. Стратегия, надо думать, решалась в кабинетах, из которых Шевелев к нам спустился, он же обеспечивал тонкую тактику на подаренной ему территории. На глаза главного нередко опускалась белесая шторка, вкрадчивость мешалась с доверительной жесткостью высочайше уполномоченного. Одни авторы вместе с рукописями тихо исчезали, другие с фамильярной вежливостью появлялись. Корабль кренился в сторону избранного курса, но приближения катастрофы никто, кажется, не чувствовал. Просто вот так, бортом вперед, кораблю плыть было, видимо, удобнее.
За окном установилось безветрие. Все улыбались.
Я перебрался из штатных работников в штатные авторы. Так появилась рубрика «Тетрадь писателя Николая Прохорова». Знаковое для того времени название. Рубрика задумывалась как авторская, но ставить в заголовок фамилию реального автора было вроде как неприлично. Через три-четыре года авторство войдет в моду. Авторские школы, радиопередачи, газетные колонки, проекты. Сегодня же и вообще имя автора нередко заменяет название рубрики. Но в начале восьмидесятых имена полагались только партийным боссам кремлевского ранга. Ну, еще народным артистам. Изобретатели и конструкторы обходились уже буквой или аббревиатурой. Общество держало строй, право на голос имел только запевала.
Вышли из положения нехитрым и, по сути, комическим образом: отчество реального автора превратилось в фамилию автора литературного. Покрутили так и сяк, попробовали на зуб, посмотрели издалека, набрали полужирным шрифтом – вроде бы возражений быть не должно. Возражений не было.
Рубрика предназначалась для подростков. В забалованных сегодняшних мозгах может возникнуть вопрос: была ли там политика? Нет, не было. По той причине, что темы такой в журналистике не было. Был пропагандистский шквал, в котором мелькали щепки культуры, сучки коммунальных казусов в духе Зощенко, яблочные огрызки преступлений, с ржавчиной давности и справедливым решением суда. Отдельной строкой шли проблемы нравственного воспитания. За этим присматривали строго. Существовала опасность, что автор впадет в абстрактный гуманизм, заговорит о внутренней свободе и, не дай бог, о естественном праве. В этой области присмотр государства был затруднен. Я работал как раз на такой территории, ее прощупывали и изучали в бинокль, лупу и микроскоп.
С благодарностью вспоминаю Александра Матвеевича Шарымова, которого Шевелев вернул в «Аврору» после изгнания того из-за публикации «монархического» стихотворения Нины Королевой. Шарымов и Шевелев приятельствовали в студенчестве. Теперь Саша был вроде как обязан бывшему сокурснику своим возвращением в строй. Тот в свою очередь просил помочь ему поставить журнал после крушения. То есть бдеть и бдеть, чтобы не пропустить очередного идеологического пробоя.
В дружбе Александр Матвеевич был рядовым строевой службы, верным присяге и долгу. Линию главного отрабатывал с присущей ему смекалкой и артистизмом. Но рвение сторожа идеологии никогда не ударяло ему в голову, а также сопровождалось искренним уважением к качественному тексту и его автору. Каким-то образом ему удавалось держать планку интеллигентности и здравого смысла. Тут уместно вспомнить, что после скандала со стихотворением Королевой, который случился до моего прихода в «Аврору», Саша не каялся и не поддакивал негодующим обкомовцам, но заявлял спокойно: «Поэт повел себя, как и должен вести себя поэт: призывал милость к падшим».
В моем случае от него подобного подвига не требовалось. Поначалу Шевелев, глядя на меня комиссарскими глазами, просил, чтобы я вставил в текст что-нибудь из речи генсека на последнем съезде партии, тиснул цитатку из Ленина или, на худой конец, из Маркса. Душевные разговоры эти заканчивались равно безрезультатно. Тогда дело взял в свои руки Шарымов. Он время от времени писал к моему тексту редакционную врезку, из которой явствовало, например, что в «Тетради Прохорова» поднята та самая проблема, на которую настойчиво призывал обратить внимание последний исторический съезд партии. Таким образом, не только не страдало самолюбие главного редактора, а также соблюдался идеологический ритуал, но и я оказывался под прочной защитой.
Между прочим, обратная связь, которая тогда еще в журналах существовала, лишила меня многих иллюзий и избавила от обольщений. Редко приходили письма от людей не задумчивых, а думающих, от талантливых читателей. Чаще это были персонажи, которых принято называть своеобразными: с запущенными комплексами, домашнего изготовления идеями, связанными то с хиромантией, то с опровержением философии Канта. Больше всего пришло откликов на вполне безобидную, на мой взгляд, «Тетрадь» об Алле Пугачевой – читатели упражнялись в способах моего изощренного убийства. На первую, кажется, в истории позднесоветских литературно-художественных журналах публикацию о проблемах секса я не получил ни одного письма.
Эйфория рассвета
Подозрение, что аудитория наша состоит по большей части из людей, с которыми не только не пойдешь в разведку или на баррикады, но и за стол вместе не присядешь, не помешало ни мне, ни моим коллегам встретить первые месяцы перестройки с воодушевлением и надеждой. Все мы, как и полагается, примером пребывающих под спудом творческих сил видели себя. Однако и ощущение нефтяного фонтана народного пробуждения и поумнения было реальным. В литературе с нами заговорили, правда, мертвецы: Булгаков, Шмелев, Кёстлер, Оруэлл, Пастернак, Набоков, Платонов. Плюс к этому, конечно, русские философы. Но какие очереди образовались к гениям! С полок снимали фильмы, пролежавшие там десятилетия. Музыка, живопись, драматургия – всё вынималось из старых запасов. Это не смущало, да и не должно было смущать – в искусстве мгновенный отклик невозможен.
Первыми из настоящего времени заговорили экономисты и историки. На публичные площадки, впервые после хрущевских времен, вышли социологи. И небывалое количество людей желающих и умеющих мыслить политически (через несколько лет кто-то сделал это своей профессией, словарь пополнится словом политолог).
Появился клуб друзей «Огонька», клуб при журнале «Нева», общественно-политический клуб «Перестройка» (межпрофессиональный, но, как мне помнится, с экономическим уклоном). Одни из участников этих клубов быстро потерялись, другие вернулись в профессию, третьи вошли в политическую элиту: Салье, Филиппов, Нестеров, Чубайс, Кудрин…
Освобожденная энергия творила погоду. Памятники плакали, смеялись и удивленно смотрели на веселые толпы, сплошь состоявшие из политиков и творцов истории. Только очень внимательный и трезвый ум, по какой-то невероятной причине не задетый этим весенним ветром, мог разглядеть в происходящем признаки грядущего краха, подступающей овечьей апатии и подлого вдохновения агрессии. На тот момент котел был открыт, вода кипела, пар уходил в небо. У всех объявилось свое мнение, все превратились в стратегов и выборщиков, делом никто не занимался или, во всяком случае, оно отошло на второй план.
Этот сатирический взгляд появился, конечно, много позже. Слоган «партия, дай порулить», прозвучавший в еще не коммерческой, не обыдлившейся программе КВНа, выглядел молодой дерзостью, а не репетиловским бурлеском. Нам и правда казалось, что мы держим в руках руль истории. Из стихотворения Мандельштама помнили только: «Ну, что ж, попробуем: огромный, неуклюжий, Скрипучий поворот руля». А ведь там же было и про «сумерки свободы», и про «власти сумрачное бремя», и про то, что «В ком сердце есть, тот должен слышать, время, Как твой корабль ко дну идет». Здесь обращение ко времени, если кто не заметил, это его, времени, корабль идет ко дну. Слышали? Ну, если и слышали, то очень немногие.
Нам было весело, но и серьезны мы были до последней степени. Так, вероятно, должны чувствовать себя люди на войне в ожидании близкой победы. Это была война, да, к сожалению. Впрочем, не знаю, могло ли быть иначе. Однако ожидание скорой победы было определенно синдромом подростковым.
В стихотворении Мандельштама «сумерки» – одновременно и утренние и закатные. Вернее так: эйфория рассвета не обещала дня: «Восходишь ты в глухие годы, О солнце, судия, народ». Между тем, в мае 18-го он был близок по возрасту к нам, апрельского розлива 85-го. Даже моложе.
Сопротивление пассивного большинства мы, конечно, ощущали. Популярной стала библейская притча о Моисее, который водил народ сорок лет по пустыне. Но по интеллигентской традиции идентифицировали мы себя не с народом, а с Моисеем. Интересно, если бы кто-то догадался тогда озвучить эту нашу тайную уверенность, хватило бы у большинства из нас самоиронии? Не много ли Моисеев, даже и на такую географически безразмерную территорию?
Каждый из читателей самиздатовских «хроник» чувствовал себя не только званым, но и избранным. Если и не делом, то сердечным сочувствием мы тоже как бы готовили эту революцию.
Увы, и лучшие из нас были не теми, кто требовался для управления кораблем. Не только в том дело, что сознание наше было сформировано советской эпохой, покрывшей всё наше физическое существование, – порода не та.
И в то же время, сколько же тогда объявилось светлых умов и чистых душ!
Однако опыта мечтательства, опыта отрицания, бесконечных обновлений и переустройств, а по-существу ломки, и снова того же отрицания и снова того же мечтательства для вырабатывания породы недостаточно. Порода – явление не только генетическое, но и историческое. По тому и по другому полю Россия не раз прошлась беспощадным двенадцатиглавым огнедышащим Змеем-Горыничем. (Написал и подумал: и как это язычники угадали христианское число? Вот одно из объяснений его значения: «Число 12 в духовной нумерологии – число порога между жизнью и смертью, между переходом Сознания с одного уровня Бытия на другой». Ну-ну!) И снова Мандельштам, и снова прав: «Мы будем помнить и в летейской стуже, Что десяти небес нам стоила земля».
Попытка бунта
В связи с чрезвычайностью положения в 1988 году решено было созвать ХIХ партийную конференцию. Несмотря на лозунг «партия, дай порулить», все восприняли это как жест демократический. Без санкции партии на тот момент сдвинуть с места паровоз было невозможно. В 1952 году партийные конференции были отменены: незачем, жизнь развивается планово и все проблемы можно решить на очередном съезде. Но в 1966, если не ошибаюсь, положение о конференции вернули в партийный устав. Это была, скорее всего, уступка демократическим процессам шестидесятых. Она ни к чему не обязывала. И действительно, прошло 22 года, прежде чем возникла реальная нужда и эта имитация демократии пригодилась.
Весной или в начале лета ленинградские газеты опубликовали списки делегатов. И тут все увидели, что прежняя государственная и партийная машина вовсе не скрипит, как многим казалось, а работает вполне проворно. Мотальщица чесального цеха и сортировщик цеха колбасного, секретарь райкома и главный редактор газеты «Ленинградская правда», беспартийная свинарка из Тихвина и партийный директор завода, солдат срочной службы и генерал, олимпийский чемпион и глава зоопарка – все социальные слои, как полагается, были представлены. Номенклатура, военные и назначенные передовики производства. Интеллигенции по вкусу: щепотка чиновных писателей и академиков. Тот в целом состав, который на первом съезде депутатов и образовал агрессивно-послушное большинство.
Утром мы созвонились с соседом по лестничной вертикали поэтом Виктором Максимовым. Шуршали перед трубкой утренней газетой со списками. Перекидывались фразами из нецензурного фольклора. Но быстро поняли, что жевать привычную резину при нынешней погоде невкусно, да и неприлично. Идея возникла неожиданно: созвать собрание всех творческих союзов и засунуть в задницу обкому раскаленный ультиматум. Пусть знают: с нами так нельзя! Делегатами на конференцию должны быть избранными реально думающие, деятельные, смелые и самоотчетные люди.
Порыв этот вслед за последующими событиями можно было бы счесть едва ли не подвигом. Но: подобные идеи носились в воздухе. Не менее героические прожекты обсуждались в пивных. Определенная опасность, конечно, была, но уже далеко не смертельная. В том же, что прожект этот оказался осуществимым, тоже заслуга времени. Поднесли спичку – вспыхнул пожар.
Контраст с недавним прошлым, конечно, огромный. На собрания обычно собирались вяло, многие, отметившись в списке, направлялись прямиком в ресторан, где собрание и заканчивалось. К трибуне выходили либо те, кого подписали на выступление, либо недовольные и обиженные. Полного сбора творческих союзов в практике и вообще, кажется, не было.
Началось все с обыкновенного обзвона знакомых номеров, а уже через два дня дом писателя на Войнова был переполнен не меньше, чем на эрмитажной скандальной выставке Пикассо в 56-м году. И к дверям можно было прикнопить ту же записку, которую кто-то вывесил тогда на дверях Эрмитажа: «Если бы я был жив, я бы это запретил… И. Сталин».
Вопросов нет – событие было потрясающее, для партийных верхов – происшествие, для нас – праздник на баррикаде (никто не знал, что впереди еще и реальные баррикады). Художники гибнущей империи стояли, сидели, курили и выпивали на всех этажах. Дом радиофицировали. Выступающие стояли в очереди к трибуне. Оставшиеся без работы стукачи то там, то здесь были замечены в нетрезвой попытке братского поцелуя. Гэбэшники и посланцы обкома конфузливо подпирали косяки распахнутых дверей.
Однако, сколько помню, реальные последствия оказались ничтожными. Если не считать реального страха держателей власти, когда она, эта власть, с мистической наглядностью уходила из-под их рук.
О плюрализме, трусости и свободе слова
Но я забежал вперед. До всех этих событий мне еще предстоит перенести легкий редакторский скарб из «Авроры» в журнал «Нева». Это опять же недалеко. Если идти прямо по Мойке – 10–15 минут. Невский, дом 3.
И на этот раз звонок был от Бориса Никольского, который в канун перестройки из союзовских функционеров превратился в главного редактора «Невы». Когда он мне позвонил, на дворе уже бушевала перестройка, в журнале можно было заняться реальным делом. К тому же там работал Саня Лурье, с ним перестроечную целину пахать было легче и веселее.
Я обещал рассказать, как подтвердилась устная репутация Бориса Николаевича. Для работника идеологического фронта время было неустойчивое, зыбкое и опасное. Нужно было обладать интуицией шахматиста, чтобы знать на какое поле поставить коня. И, конечно, рисковать. Не всем в жизни рисковать, но удариться можно было больно. Еще существовали, бодрствовали и цензура, и центральный комитет партии, и обком, и госкомпечати СССР, и номенклатурные клеточки, ячейки и лесенки. Скоро, скоро уже начнут выбирать не только директоров завода, но и главных редакторов издательств. Но еще не сейчас.
Короче, необходимо было сделать выбор. И Никольский этот выбор сделал. Никто из нас не ждал от него литературного полета и самопожертвования. Литератор он был рельсовый, новых маршрутов не предлагал. В разговоре не слишком изобретателен. Но и к интриге был категорически не приспособлен и подлости от него никто не ждал. При этом обладал интуицией, не столько литературной, сколько социальной и, может быть, человеческой. Нередко готов был дать дорогу тому, что душевно, эстетически и, так сказать, тематически ему было не близко.
Мы с Саней Лурье задумали опубликовать в журнале книгу Роберта Конквеста «Большой террор», которую многие (или немногие) из нас читали до того в самиздате. Вынесли это на обсуждение редколлегии, которая на моей памяти собралась в первый и последний раз. Прозаик Иван Иванович Виноградов, в прошлом сапер, был категорически против. Токарь Евгений Николаевич Моряков, герой соцтруда, человек, вообще говоря, живой и толковый, решил послушать людей в литературе более авторитетных. Видно было, что дух антисоветчины ему претит, но с другой стороны… Михаил Александрович Дудин, тоже, между прочим, герой соцтруда, пропел высоким тенором: «Ну, зачем? Не надо, братцы, торопиться. Обождите маленько. Не стоит так ретиво запрягать. Придет время – напечатаем».
У нас было ощущение противоположное: время пришло, потом оно может только уходить. Не успеем сейчас, – не успеем, может быть, никогда. Тогда или чуть позже стал ходить стишок: «Товарищ, знай, пройдет она, так называемая гласность, и вот тогда госбезопасность припомнит наши имена». В это никто в глубине души не верил (и напрасно, кстати). А вот перестроечный анекдот был, что называется, ближе к телу. Петька спрашивает Чапаева: – Василий Иванович, что такое «гласность»? – Это значит, Петька, что ты можешь говорить что угодно и про меня, и про комиссара, и ничего тебе за это не будет. – В самом деле, ничего? – Ничего, Петька. Ни шашки, ни бурки, ни сапог.
Никольский дал нам отмашку искать текст и связываться с автором, если он жив. Автор был жив, координаты его у кого-то в Москве раздобыл Саня и вскоре получил телеграмму: «Уважаемый Самуил Иванович…»
Примеров редакторской доблести Никольского множество. Приведу еще один. Виктор Топоров принес статью. Политическую. Написана она была в его обычной злобной манере, с публичной поименной поркой и с зашкаливающей революционностью. Но очень, как мне тогда казалось, важная и полезная. Я сказал: или эта статья будет напечатана, или я подам заявление об уходе. Вите запомнился этот эпизод, он его в одной из своих книжек описал. Но, кажется, не отметил, что ультиматум мой не был пущен в дело – главный редактор дал добро на публикацию.
Как всегда в такие эпохи на сцену выползают юродивые и мошенники. Как-то ко мне в редакцию пришел ветеран войны и труда, а говоря применительно к ситуации, один из старейших графоманов Советского Союза. Он принес труд, который назывался «История колхозов». Я принял его, как полагается, то есть доброжелательно и заинтересованно. Хотя судорога скуки имеет свойство сводить скулы до того, как начнется обязательное чтение.
Но содержимое папки оказалось еще удивительнее, чем можно было предположить. Это было нечто среднее между растянутым историческим очерком и поэмой Некрасова «Кому на Руси жить хорошо?». И все бы ничего. Беда в том, что повествование о страданиях русского крестьянства было изложено гекзаметром. На восьмистах, примерно, страницах.
Автор в самой дипломатичной форме, если исключить спровоцированную им идейную перепалку, получил отказ. Но на мое несчастье он оказался еще и ветераном партии. Последовала жалоба в обком. Меня вызвал на ковер некий Барабанщиков, которого поминают в своих мемуарах и Магда Алексеева и Владимир Рецептер.
Попробовал выяснить в интернете, как устроился этот персонаж в новом времени. Ничего! Жаль! Натворил человек много, а растворился бесследно. Даже фамилии, такой выразительной, в интернете не нашел. В памяти осталось лишь круглое лицо, обладатель которого превращал всякую попытку диалога в мелкую барабанную дробь перед повешеньем.
Мои аргументы не произвели на Б. никакого впечатления. Я, по его мнению, поглумился над актуальной темой, совершил оскорбительный плевок в ветерана партии, а таким образом и в саму партию, неуклюже прикрываясь при этом эстетскими соображениями. Подробный письменный отчет о собственных преступлениях велено было передать в обком через главного редактора.
Анекдот не анекдот, а выговор я мог схлопотать, а также лишиться премии. За неэтичное, например, поведение, проявившееся в неуважении к ветерану, и за антипатриотизм в грубой форме.
Но, то ли времена менялись, то ли главный редактор проявил мужество и порядочность. Борис Николаевич пожевал губами, как бы готовя улыбку, которая так и не случилась, посмотрел задумчиво в окно, выходившее на Невский, и сказал: идите работать.
Порой от редактора требовалось мужество иного порядка. Однажды в редакцию пришла статья вполне респектабельного, остепененного молодого автора, посвященная теме, которая тогда еще лишь робко пробивалась на свет: о многопартийной системе. Автор предлагал ввести, если не ошибаюсь, четырехпартийную систему: КПК, КПР, КПС и КПИ. Уже по этим аббревиатурам можно догадаться, что речь шла о четырех коммунистических партиях: крестьян, рабочих, служащих и интеллигенции. Мало того, что политические партии превращались фактически в профсоюзы, но и монополия на коммунистическую идеологию в свободной стране будущего сохранялась. Такая вот предлагалась краснознаменная утопия. А могли бы и внедрить на голубом глазу. Под видом политической реформы.
В публикации мы отказали. Свободная дискуссия легко выявила бы, конечно, кто есть кто. Но парень работал в каком-то институте, громко проявлял себя в общественных тусовках, а молва, как всегда, выбирает только главное, пренебрегая конкретностями. Долго еще я, да, не сомневаюсь, и Борис Николаевич слышали разговоры о том, что «Нева» лишь позиционирует себя как прогрессивный журнал, а вот N в грубой форме вернули статью о многопартийной системе.
Между прочим, отсутствие заметных размолвок между мной и главным редактором, предупреждало некоторые конфликты с авторами. Серию блестящих статей опубликовал в «Неве» Лев Самойлов. Под эти псевдонимом скрывался ученый Л.С.К., известный в стране и в мире археолог и антрополог. В позднее брежневское время он несколько лет по путевке КГБ со стыдной статьей провел в лагере, а нам принес не столько воспоминания, сколько исследование этого перевернутого мира. Статьи имели колоссальный успех, а работа и общение с Львом Самойловичем доставляли удовольствие.
Через некоторое время Л.С. принес мне статью «Легко ли быть евреем?». Тезис ее, как всегда блистательно изложенный, был таков: наши ближайшие предки не только жили, но и родились в России. Мы пропитаны русской культурой и являемся ее искренними адептами. Оставьте нас в покое, перестаньте подозревать, оскорблять и показывать пальцем, и мы будем в не меньшей, а то и в большей степени русскими, чем вы.
Я отказался печатать статью. Среди моих друзей были евреи, глубоко внедренные в иудейскую культуру. Кто-то из них уехал, многие остались. Мне казалось, говорить за всех евреев, что их тайным, страстным желанием является ассимиляция, было неправильно. И нехорошо.
Мы, конечно, поспорили. Но лежащего на поверхности аргумента «я еврей, и мне виднее» автор не выдвигал. Статья была для него очевидно не проходная. Можно было бы сказать: давайте покажем Борису Николаевичу. Возможно, у него будет другое мнение. Но он не сделал и этого. Хороший или плохой, но возник бы конфликт. Л.С. был человеком интеллигентным.
Между тем, подобные столкновения с автором и способы их разрешения до сих пор дискуссионны. В другой раз я отказал в публикации, автор которой стремился в своем исследовании доказать антисемитскую основу романа Булгакова «Мастер и Маргарита». Ссылки на источники едва ли не превосходили по объему саму статью. Дело было не в отсутствии аргументов, а в их тенденциозном использовании. Дело опять же и не в самой проблеме булгаковского антисемитизма, а в том, что антисемитизм по определению не мог быть горючим материалом для создания и запуска этого романа. Исследование оскорбительно шло мимо природы текста, не углубляясь, а пренебрегая его прочтением. Это было исследование конспиролога, а не филолога. Да и читательской аудиторией роман еще не был толком прочитан. Подобного рода интерес к «творческой лаборатории» за счет текста тогда только начинал пускать ростки, которые сегодня цветут.
Когда дело касается литературы, трудно считать себя абсолютно правым. Возможно, я был не прав (текст о романе Булгакова, кстати, довольно скоро появился в печати). Субъективность и, стало быть, вероятность ошибки в редакторской работе неизбежны. Об авторе речи нет, однако – имеет ли право на субъективность редактор? На мой взгляд, несомненно, если это касается не только цеховых разногласий, но и способов повлиять на общественное сознание. Из таких убеждений исходил я и работая потом на радио.
Сейчас каналы и издания взяли за правило приглашать авторов, придерживающихся противоположного их кампании направления. Свобода слова. А иначе, напротив, зажим гласности, и какая же это тогда демократия? Такой позиции придерживаются не только либеральные издания, но и бесогонные ток-шоу на главных федеральных телеканалах.
У последних просто: дирижируемая аудитория возмущенно зашикивает оппозиционеров, захлопывает и обкладывает трехэтажным смехом. Так в эпоху гласности побеждает глас народа, находящийся на скромном довольствии у государства в эпоху санкций.
Либеральные каналы стараются быть честными. Ажиотажные националисты и блефующие коммунисты получают у них трибуну. Хорошо еще, если интеллигентная ведущая пытается слабо возражать им, но случаются и монологи. Это тоже гласность? На мой взгляд, ситуация, когда некто без всякой опасности для своей жизни и карьеры приглашает кого-то отвести на дыбу, ничего общего не имеет со свободой слова.
Даже в пору советского единомыслия каждый знал, что и кого встретит под обложкой «Нашего современника» или «Нового мира». Ущерба гласности это и в ту пору не наносило. Сегодня имитируемый или вынужденный плюрализм оборачивается нередко балаганом. В этом ни на йоту не проглядывается широта взглядов, зато хорошо просматривается трусость.
Тебя всегда могут спросить: «А ты кто, собственно, такой? Кто ты такой, чтобы не давать мне слова? Что ты о себе возомнил?». Даже уверенный в себе человек начинает при этих вопросах испытывать дискомфорт. И думает про себя что-нибудь вроде: «А действительно?».
Ответ же на самом деле простой: я не возомнил себя главным редактором, а избран им. Я приглашен ведущим колонки или, там, программы. Это моя частная территория, и я имею право выбирать себе собеседников и гостей. Иначе, зачем я здесь?
После этого следует, конечно, прием демагогический: ты установил монополию на информацию, узурпировал свободу слова! Да ничего подобного! Вернее, так: идите к себе подобным! Их много, у них свои каналы и издания, и они, поверьте, будут рады вам.
К тому же, стоит все-таки различать информацию и мнение, хотя иногда и трудно. В чистом виде информация – приоритет новостных материалов. В любом случае, монополистами и на мнение и на информацию являются исключительно федеральные каналы. Их общедоступные площадки зачищены настолько, что упрек в узурпации даже писком не может на них прорваться. Но зато какой-нибудь «Дождь», если Проханов или Кургинян не исполняют на нем свои барственно истерические арии, те же медийные агрессоры с удовольствием обвинят в посягательстве на свободу слова.
Оставим, однако, в стороне литературную субъективность. Но не следует из трусости, прикидывающейся плюрализмом, предоставлять микрофон даже и респектабельному, умеющему складывать слова на пороге уголовного кодекса расисту. С расистом не о чем спорить. И незачем. Это однажды и очень убедительно объяснил выдающийся этолог Виктор Дольник: «Отвращение к близкому виду призвано было защищать от случайного спаривания, что действительно очень плохо. Могут попросту рождаться уроды. Вот и получилось, что при исчезновении близких видов, а их был целый пучок – только австралопитеков было пять видов – защитная программа перестала срабатывать на близкий вид и выбрала себе различие по национальному признаку внутри одного вида. То есть на другую расу стали реагировать как на чужой вид. Человек другой расы воспринимался как отклонение: он, может быть, не хуже и не лучше нас, но он другой…Этология позволяет ясно понять, в чем тут дело. Рассчитанная на другой случай (разные виды), инстинктивная программа ошиблась, приняв особей своего вида за чужой. Расизм – это ошибка. Поэтому слушать такого человека – расиста или националиста – не нужно. Он говорит и действует, находясь во власти инстинкта, да еще ошибшегося. Его поведение и разговоры абсурдны. Спорить с ним бесполезно. Наивно ведут себя те, кто пытается увидеть в расизме точку зрения или даже систему взглядов, имеющих право на существование, но нуждающихся в оспаривании. К расизму нужно относиться как к заразной болезни».
Альтернатива
Споры по существу, споры в пользу истины, а не из одной потребности самовыражения, – дело совсем иное. В журнале «Нева» мы завели рубрику Политический клуб «Альтернатива». Напомню, что слово это происходит от лат. alternatus – другой. И выступали там не только Леонид Гозман и Александр Эткинд, но и, например, Сергей Андреев, придерживающийся взглядов едва ли не противоположных первым двум. При этом, думаю, что у Андреева сочувствующих читателей было больше, хотя Гозман и Эткинд мне ближе.
Полемика плодотворна, когда противостоят друг другу люди близкие по интеллекту и компетенции, уж не говорю, искренние и порядочные. Только такой диалог может быть интересен третьему.
Последний пример. Алексей Пурин принес в «Неву» эссе «Пиротехник, или Романтическое сознание». Стихи Пурина я любил, а эссе вызвало энергичное неприятие. Я предложил полемику, автор, нельзя сказать, чтобы с удовольствием, но согласился.
Наши эссе так и вышли под рубрикой «Литературная полемика», хотя литературной она была только отчасти. Все публикации того времени были в большей или меньшей степени политизированными. Тон задал именно Алексей Арнольдович, суммировав разнообразные проявления романтического сознания и переложив опыт литературный на мировую историю, политику и культуру. Вот несколько пассажей: «…романтическое сознание, запаянное в непроницаемую оболочку, напоминает ребенка с врожденным иммунодефицитом… Тоталитарное сознание и есть такое смертельно отравленное микроорганизмами Больших Идей романтическое сознание – имперский, расовый, социальный романтизм ХХ века (с широким диапазоном – от Редьярда Киплинга до Йозефа Геббельса)…Ищущие общей абстракции – общее и обрящут. Они – и Федоров, и Чернышевский, и Сталин, и Гитлер – романтики».
Во-первых, в самом глобальном обобщении чувствовалась повадка романтизма с его Большими Идеями и попыткой найти универсальный ответ. Во-вторых, соединение имен и явлений из разных рядов неизбежно вело к натяжкам, не только историческая и культурная, но и психологическая конкретика игнорировались, тонули, стирались в эпической картине зла. Кроме того, опасно пересаживать литературные законы на почву, допустим, политики, как неплодотворно с помощью физических законов трактовать законы психики и общества. И, наконец, мне стало обидно за романтиков, которым обязан не только я, но и многие поколения. По отношению к ним это было несправедливо. А в целом это обобщение было неправдой.
Почему же я тогда согласился печатать статью Пурина? Потому что в ней была правда. Прежде всего, правда момента, который мы все тогда переживали, пытаясь найти корень зла и выйти на свет нового дня с сознанием, чистым от грез и наваждений. А идеальные концепции и представления, выращенные в изолированном, аутичном сознании, действительно принесли человечеству много несчастий.
Но романтический склад личности художника это – одновременно его дар и его беда. Странно упрекать в этом, не говоря уже о том, что без этого дара к многим вершинам духа (как, впрочем, и к его смертельным безднам) человек никогда бы не поднялся. Проецирование его поведения на другие области жизни возможны, конечно, но удачней всего они в интонации иронического откровения. Как, например, в стихах Александра Кушнера об Иосифе Бродском: «Я смотрел на поэта и думал: счастье, что он пишет стихи, а не правит Римом». И, наконец, у поэта, в отличие от тирана, совесть всегда в рабочем состоянии. Он существо рефлектирующее, знает не только о безднах человеческого, но и о собственных провалах, и о грядущем возмездии. В подтверждение этого я приводил строчки Марины Цветаевой:
И не спасут ни стансы, ни созвездья. А это называется – возмездье За то, что каждый раз, Стан разгибая над строкой упорной, Искала я над лбом своим просторным Звезд только, а не глаз.Отступление о «Правде»
В сталинские времена статья в «Правде» нередко служила сигналом к началу травли. И хотя пора репрессий и публичной порки вроде бы прошла, память об этом была свежа, а главная партийная газета по-прежнему оставалась рулевой и направляющей. Симон Соловейчик рассказывал мне, как безошибочно определял начало новой кампании по фотографии на первой полосе. Если на ней была свинарка, например, жди указа о развитии животноводства.
И вот весна 85-го. Конечно, на трибуне молодой генсек, и в речи его много новых слов, и обещает реформы – а как же! Но одним из первых был указ о борьбе с алкоголизмом, и вырубание виноградников в Грузии и Молдавии. Это мы уже проходили. Короче, чаши на весах дрогнули, но исход был далеко не ясен.
И вот в «Правде» появляется статья Павла Ульяшова об Александре Кушнере «…Тогда лишь ты станешь Мастером». Статья зубодробительная. Стихи цитировались так:
Сентябрь выметает широкой метлой Жучков, паучков с паутиной сквозной, Истерзанных бабочек, ссохшихся ос, …стрекоз.Приговор: «энтомологический бред». Даром, что стихотворение было за несколько лет до того опубликовано в «Библиотеке всемирной литературы». Теперь это не защита. Начинаем по новой.
Я написал в «Правду» письмо с просьбой его опубликовать. Недели через три получил ответ ни о чем и, разумеется, ни слова о публикации. Показал ответ Сане Лурье. Тот вынул из стола точно такое же письмо из «Правды». То есть, мы оба почувствовали знак опасности и оба написали первое, быть может, в своей жизни письмо в редакцию. Потом выяснилось, что в Ленинграде было таких человек двадцать. И не только в Ленинграде. Недавно в интернете некий Эмир Шабашвили из Казани опубликовал свое письмо того же времени и по тому же поводу. Он, правда, обращался не в редакцию, а к самому автору, но с тем же опасением, которое владело нами: «Будь эта статья опубликована в „ЛГ“ в дискуссионном разделе… Но Вам представлена трибуна „Правды“! Ее выступления – почти закон…»
Новое в этой истории – мгновенная реакция читателей. В 30-е годы такое вряд ли было возможно. Однако монополия на правду по-прежнему оставалась в одних руках.
Еще один контакт с «Правдой» у меня случился через несколько лет. Перестройка в разгаре. Шумно отменено постановление ЦК от 14 августа 1946 года. На собрании писателей меня избрали главным редактором не существующего журнала «Ленинград». «Правда» предложила принять участие в дискуссии, уже не помню по какой проблеме. С альтернативным мнением. Ставить вопросы для обсуждения, было знаком времени. Как это происходило в реальности, я узнал на себе.
Кто-то из сотрудников Смольного (кажется, это был тот же Барабанщиков) принял у меня заметку. На следующий день она появилась в газете, но… лихо переписанная в нужном направлении. Чьё это рукоделие, узнать было невозможно. Телефон редакции всегда занят. Письмо осталось без ответа. Барабанщиков опускал на глаза шторку невинности.
Время выборов. Журнал «Ленинград»
Началась пора демократической эйфории, в которой было столько же нелепого, сколько и остроумного; основательные соображения соседствовали с вульгарным вкусом и хмельной интуицией, которая сплошь и рядом ставила не на того и из двух зол уверенно выбирала большее.
Я наблюдал, как на одном из заводов в Парголово рабочие выбирали директора. Самыми ходовыми были соображения: любит ли он давать в долг, точно ли по пьянке пять лет назад угодил в очко сортира, честно ли играет в карты, он или ему дали в глаз на юбилее прошлого директора и правда ли, что он прежде многих в прошлом году определил жеребость у заводской кобылы Элиты?
Никольского выдвинули кандидатом в депутаты Верховного Совета. Началась предвыборная гонка. Слово демократ обладало магическим действием. Я сверился с листовкой Общественного комитета «Выборы-89»: в ней предлагалось «голосовать за кандидатов, которые будут добиваться радикальной ДЕМОКРАТИЧЕСКОЙ перестройки» со списком избранных депутатов. Все демократы прошли, включая Собчака, Болдырева и Никольского. Но прошел, правда, и первый секретарь обкома, коммунист Гидаспов, и председатель исполкома Ходырев. То есть, гипноз высокого кресла продолжал действовать. Что из этого вышло, теперь известно.
Слово демократия отзывалось в каждом радостным, интимным, глухим звуком, как пустая стеклянная банка, которую каждый наполнял тем, что подсказывало ему взволнованное воображение. Технологии еще не были отработаны, пиарились по-пионерски наивно. Из листовки Бориса Николаевича: «Никольский – за глубокие и коренные демократические, политические реформы, и категорически против их половинчатости и непоследовательности, против сиюминутного латания экономических дыр за счет подлинных интересов народа». У избирателя должно было создаться впечатление, что соседний по списку кандидат также энергично выступает за половинчатые и непоследовательные реформы, и он не прав, а прав кандидат Никольский, который, единственный, не желает, чтобы экономические дыры латали за счет народа.
Уровень политической и экономической подготовки был еще тот. На встрече с избирателями, где я выступал как доверенное лицо Никольского, главного врача детской стоматологической поликлиники и тоже кандидата спросили ее мнение по поводу инфляции. Она ответила не задумываясь: «Я категорически против!» В зале раздалось лишь несколько смешков.
Мы боролись, конечно, за своего кандидата и главного редактора, не заботясь о том, что отсылаем его на два года в Москву. Никто не пытался понять, действительно ли он достойней и нужнее на депутатской работе, нежели его соперник. Достижения соперника Никольского Людвига Дмитриевича Фаддеева мало что говорили сердцу. А голосовали, сердцем, конечно же, сердцем. Но решение задачи трех тел в квантовой механике (уравнения Фаддеева) разве могло сравниться с громкими публикациями «Невы», тираж которой в эту пору составлял 675 тысяч? Перед вторым туром сам Никольский предложил пустить в народ слоган, сыграв на том, что они с Ельциным тезки: «Одного Бориса Николаевич выбрали. Выберем второго!»
Паровоз летел вперед и ни машинисты-дилетанты, ни диверсанты и провокаторы с номенклатурной душой, ни безбилетные компании, набившиеся в вагоны, не могли его на первых порах остановить. Борис Николаевич Никольский стал заместителем председателя комитета по гласности, закон о гласности был принят и, можно сказать, свою форточку, через которую в страну входил ветер перемен, он помог отворить и миссию выполнил.
В это же время возникла новая традиция – выборы главных редакторов журналов. «Звезда» выбрала Геннадия Николаева. 20 октября 1988 года было отменено постановление о журналах «Звезда» и «Ленинград». Общественность стала требовать от Кремля, чтобы приняли решение о возрождении журнала «Ленинград». Добились и этого.
Главного редактора избирали на общем собрании писателей. Кандидатов было человек семь. Помню Курбатова, Нинова, Куклина, Воронина. После первого дня голосования остались мы с Ниновым. На следующем собрании редактором избрали меня. Союз писателей раскололся. Масштаб войны принял всесоюзный характер.
Поляризация мнений в отношении перемен не обещала мирного исхода. В мощную силу превратилось общество «Память», с которым Ельцин считал нужным говорить доброжелательно и осторожно. Я присутствовал на собрании писательского «Апреля» (ассоциация писателей в поддержку перестройки) в ЦДЛ, куда проникли националисты с плакатами: «Жиды пархатые! Убирайтесь в ваш Израиль!» Люберецкий журналист Евгений Луговой выкрикнул: «Сегодня мы пришли с плакатом, а завтра – с автоматом!». Драку, впрочем, устроили тут же. Избили Анатолия Курчаткина, заломили руки Булату Окуджаве, который шел к «открытому микрофону». Когда организатора и зачинщика этого мероприятия Смирнова-Осташвили с помощью милиции все же выдворили из зала и из здания, никому не пришло в голову его задержать.
Все эти деятели вместе с националистически настроенными писателями боролись за Воронина. В этом контексте понятна реплика Елены Георгиевны Боннэр, когда мы с Самуилом Лурье позвонили Сахарову, чтобы пригласить его в редакционный совет нового журнала: «Андрюша, возьми трубку! Тебе звонит парень, который победил этого бандита Воронина». К сожалению, через две недели после нашего звонка Андрей Дмитриевич умер.
В мою поддержку выступали люди мне вовсе незнакомые или едва знакомы: Сергей Довлатов по «Голосу» из-за океана, Евгений Евтушенко в «Комсомольской правде», ассоциация «Апрель», разумеется, и пр…
Наше общество живет от кампании к кампании, мало вникая в суть дела: ведутся на имя, даже на звук имени. В это время из нескольких НИИ мне звонили с предложением выдвинуть мою кандидатуру на очередные выборы в парламент. Я благоразумно отказался. Температура борьбы, то есть, любви и ненависти, зашкаливала. Однако, как только политическая острота момента исчезла, и очередь дошла до рутинной работы по организации журнала, список желающих в этом участвовать сильно поредел.
Хотя не такие уж рутинные проблемы стояли перед нами. Не было финансов, не было помещения, дефицит бумаги изъедал и уничтожал газеты, издательства и журналы, типографии закрывались. Анатолий Собчак в должности мэра на просьбу помочь возрожденному журналу, ответил: «Подождите, сейчас не до этого. Я каждый день встречаю поезда с сахаром и хлебом». Сегодня многие участники и очевидцы утверждают, что продовольственный кризис в Петербурге был следствием воровства и саботажа. Не знаю. К нашей истории, во всяком случае, это прямого отношения не имеет.
Процесс разрушения империи нарастал не годами, а часами и днями. Когда я подобрал редакцию, и надо было приступать к работе, ЦК КПСС, принявший решение о возрождении «Ленинграда», приказал долго жить. Исчез Госкомпечати СССР, призванный не только руководить, но и обеспечивать печатные органы необходимым. Не стало и самого СССР, а город, давший имя журналу, вернул себе название, которое было у него со дня основания.
Редакцию я собрал из своих друзей: Самуил Лурье, Леонид Дубшан, Елена Скульская, Дмитрий Толстоба, Марина Токарева. В «Письме к читателю», открывающему номер, я писал: «Наш журнал открывали те организации, которых уже нет, и нет одноименного города, и нет некоторых их тех, кто начинал.
…Мне хотелось бы, чтобы подписчиков у нашего журнала было не больше, чем собравшихся для разговора полуночников. Всех прочих не хочу обижать, но есть ведь куда пойти – столько изданий. Возможно, нас совсем мало и мы прогорим. Но вместе все одно гореть веселее.
Сегодня, когда нецивилизованный рынок буянит и хамит, заводить новое издание, пусть даже и возрождаемое, пусть даже со своей легендой и биографией – идея безумная. Но, может быть, только безумные идеи и стоят риска.
…Не для упреждения сплетен: редакторы будут часто авторами журнала. Продолжение одной работы. Больше крест, чем привилегия. Основу пушкинского „Современника“ составляли произведения редактора и его друзей. Речь не о сравнении уровней, а о преемственности принципов».
Журнал мы создавали по лучшим, но старым лекалам, быть может, «серебряного века», явно не попадая в уже набирающий силу мейнстрим века грядущего. Долго сочиняли композицию книжки. Так появились главы «Тексты этого города», «Воспоминания о ХХ веке», «Избранные сочинения в стихах и прозе», «Частная жизнь ума». Среди материалов воспоминания Дмитрия Сеземана «Париж – ГУЛАГ – Париж», «Дневник 1946 года» Бориса Эйхенбаума, «Коммунизм: сюжет и персонажи» Петра Вайля и Александра Гениса. Проза Валерия Попова, стихи Александра Кушнера с предисловием автора, Михаила Еремина с эссе о нем Льва Лосева, эссе Наталии Рубинштейн «Абрам Терц и Александр Пушкин». В «Частной жизни ума» Леонид Гаккель, Андрей Битов, Александр Боровский, Яков Гордин – эссе «Ничто человеческое…» с публикацией стихов Иосифа Бродского, написанных на случай.
Успели выпустить первый номер в двух книжках. Следующий номер был готов, в нем читателю обещали: пьесу Эдварда Олби «Крошка Алиса», переведенную специально для нашего журнала (текст, кажется, до сих пор не опубликован, а пьеса не поставлена), переписка Сергея Довлатова с Израилем Меттером, очерк о Михаиле Чехове Натальи Крымовой, стихотворения Роберта Конквеста, сценарий «Демона» Сергея Параджанова.
Увы, все это осталось в проекте. Первое, еще соблазнительное политическими дивидендами время, нас финансово поддерживал СП «СЛ Интернейшенел». Но за прошедшие год-полтора их терпение иссякло. Мы квартировали то в Доме писателей, то в мансарде при журнале «Нева». Последняя недолгая стоянка находилась на Таврической улице. Денег уже не было. Помещение захватили какие-то бандиты, скинув рукописи и документы в подвал. Стоило больших усилий договориться, чтобы мне позволили в бумажной груде хотя бы отыскать свою трудовую книжку. Под понукания стоящих надо мной автоматчиков я ее все-таки нашел, благодаря чему стал ведущим Авторского канала «Невский проспект» на «Радио России».
Еще несколько месяцев я по крохам собирал деньги на издание журнала. Какую-то сумму дали прежние хозяева, образовательная ассоциация «ОМИС», газета «Эстония». Когда Володя Аллой узнал, что для выпуска журнала недостает всего четырехсот долларов, он мгновенно включился и серьезно помог мне в общении с типографией. Тогда же он, имеющий к тому времени большой издательский опыт за рубежом и в России, сказал мне: «А ты думаешь, что редактор журнала это только литература, компания единомышленников, так называемое, направление и работа с авторами? Нет, это и помещение, и транспорт, и финансы, и детектив с типографией и торговлей. Иначе не бывает». Разумеется, он был прав. Но я еще обеими ногами стоял в прежней истории.
Времена наступали новые, то есть те, в которых мы с вами живем уже более четверти века. А с ними и новая история, которая принесла с собой свои истории, и про них нужно рассказывать уже в других записках.
2017

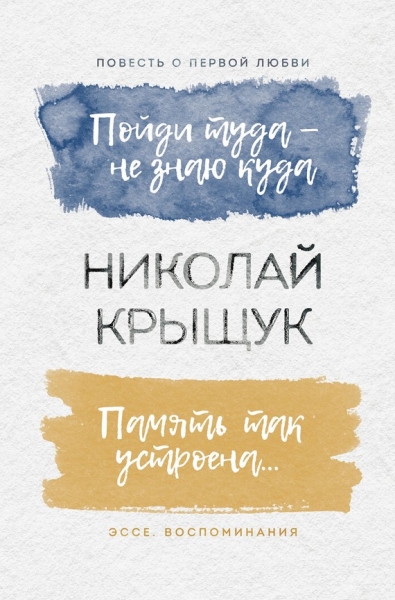





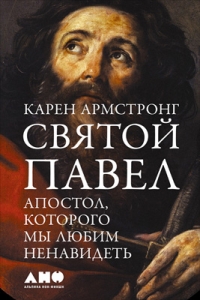




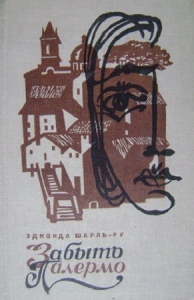
Комментарии к книге «Пойди туда – не знаю куда. Повесть о первой любви. Память так устроена… Эссе, воспоминания», Николай Прохорович Крыщук
Всего 0 комментариев