Йоханнес Марио Зиммель Из чего созданы сны
Посвящается человеку, который в этом романе выведен под именем Берти.
Появления этой книги не хотели.
Рукопись в первой редакции была у автора украдена и уничтожена, чтобы любой ценой воспрепятствовать ее публикации.
Автор — журналист — после этого уехал за океан. Оттуда поступали ко мне магнитофонные кассеты с записями, в которых он подробно описывал свои впечатления. Мне были даны авторские права рассказать об этих впечатлениях. Я это сделал и при этом использовал все мыслимые методы для того, чтобы не выдать этого журналиста и всех невинных.
В самом деле совершенно невозможно этими полностью зашифрованными фактами, которые я к тому же излагаю в форме романа, навредить хоть кому-то, и именно благодаря тем многочисленным изменениям, которые я внес.
В соответствии с пожеланием уехавшего (который уже много лет живет под другим именем) я написал эту историю именно так, как когда-то написал ее он, — от первого лица.
Прекрасное стихотворение, которое читает фройляйн Луиза, взято из вышедшего на экраны в 1948 году американского фильма «Портрет Дженни» по одноименному роману Роберта Натана.
Й.М.З.
Я просто хочу сказать, что куда плодотворнее верить в неведомое, чем разочаровываться в знакомых нам вещах. Давайте замолвим доброе слово за Веру, Любовь и подобные нелогичные вещи, и давайте бросим недоверчивый взгляд на реальность и аналогичные продукты разума.
Пэдди ЧайефскиПОИСК ТЕМЫ
1
— И теперь мои друзья этого человека убьют, — сказала мне фройляйн Луиза.
Это было вчера. За окнами ее комнаты стояли старые голые каштаны. Лил дождь, стволы и ветви деревьев блестели.
— Убьют в любом случае. При любых обстоятельствах. — Она счастливо улыбнулась.
— Так вы его наконец нашли? — спросил я.
— Нет, все еще нет, — ответила фройляйн Луиза.
— Ах так, — сказал я.
— Так вот, — продолжала она, — это, как и раньше, может быть мужчина, может, женщина, этот человек. — Готтшальк[1] фамилия фройляйн Луизы. Ее лицо светилось безграничной верой. — Молодой он или старый. Иностранец или немец. («Нямец», — сказала она. Фройляйн Готтшальк родом из Райхенберга, теперь Либерец, в бывшей Судетской области, и ее речь слегка окрашена чешско-австрийским говором.) Есть ли у него брат, сестра, отец, мать? Какие-нибудь родственники? Может быть. А может быть, у него и никого нет, у этого человека. Профессия? Какая? Любая. Никакой. И то и другое возможно («визможно»).
— Понятно, — сказал я.
— Где его дом? Или он в бегах? («бягах»). Как его имя? Или ее, если это «она»? Ничего этого пока не знают мои друзья. Вообще пока ничего об этом человеке. Никогда же его не видели, так?
— Да, никогда — ответил я. — И все-таки вы совершенно уверены…
— Да, уверена! Знаете, почему? Потому что я их перехитрила.
— Перехитрили?
— Спорила с ними, пока они сами не завелись так же, как я. Нельзя ведь допустить, чтобы тот, кто сотворил зло, творил зло и дальше. Ради него самого нельзя! Ради него самого! Понимаете, господин Роланд?
— Да, — сказал я.
— Хитро, а?
— Да.
— И они мне пообещали, мои друзья. Поэтому! Мои друзья могут все, нет ничего, чего бы они не могли сделать. Так что я точно знаю: они его найдут, этого человека, о котором еще ничего не знают. И они его избавят, мои друзья, — сказала фройляйн Луиза Готтшальк. У нее белые, как снег, волосы, ей шестьдесят два года, и последние сорок четыре из них она работает воспитательницей. — Можете себе представить, как я рада, господин Роланд?
— Да.
— И вот для моей души, когда они его поймают и дадут ему избавление, настанет лучший день в моей жизни! — засмеялась фройляйн, как ребенок, который радуется предстоящему Рождеству. Дождь стучал теперь по стеклам с такой силой, что каштаны уже едва можно было различить.
Я еще не встречал никого, кто был бы добрее Луизы Готтшальк. Только с тех пор как узнал ее, я понял, что́ на самом деле означают все эти извращенные или утратившие от бессовестного злоупотребления смысл понятия: терпимость, вера в добро, верность, надежность, любовь, мужество и неустанный труд ради счастья, покоя и мира других.
Друзья фройляйн Луизы — это американец, специалист по рекламе с нью-йоркской Мэдисон Авеню; голландец, издатель школьных учебников, — из Гронингена; немец, производитель майонеза, — из Зельце под Ганновером; русский — клоун из Ленинградского цирка; чешский архитектор из Брюнна; польский профессор математики — из Варшавского университета; немец, служащий сберкассы, — из Бад-Хомбурга; украинский крестьянин из деревни Петриково на Днепре; француз, репортер судебной хроники, — из Лиона; норвежец, повар, — из Кристиансанда на самом юге страны, близ мыса Линдеснес; и немецкий студент философии — из Рондорфа под Кёльном.
Друзья фройляйн Луизы совершенно разного происхождения. И у них совершенно разные характер, опыт, предпочтения и антипатии, взгляды и образование. Их объединяет только одно: уже не один десяток лет все они мертвы.
2
Он услышал семь выстрелов. Потом голос отца. Казалось, голос шел издалека. Выстрелы его не напугали — он слишком часто слышал их с тех пор, как был здесь, и в его сне тоже как раз стреляли, но голос отца его разбудил.
— Что? — спросил он, протирая глаза. Его сердце бешено колотилось, губы пересохли.
— Пора вставать, Карел, — сказал отец. Он склонился над кроватью, в которой спал мальчик, и успокаивающе улыбнулся. Отец был стройным высоким мужчиной с широким, высоким лбом и красивыми руками. В этот вечер его усталое лицо приобрело матовый свинцовый оттенок.
— Я говорил с людьми в деревне, — сказал он. — В полночь меняются посты. И ров с водой на пять минут остается без охраны. Тогда мы сможем через него перебраться.
— А если посты не будут меняться? — спросил Карел.
— Они меняются каждую ночь, — ответил отец. — Каждую ночь люди перебираются на ту сторону. Ты выспался?
— Да. — Карел вытянул руки над головой и потянулся. Почти пятьдесят часов назад они с отцом покинули Прагу. Уже почти пятьдесят часов они были в бегах. Выбраться из города было трудно. В переполненных трамваях, на попутном грузовике и пешком они пробирались сложными обходными путями, чтобы избежать чужих солдат и их танковых заграждений и контрольных пунктов. Под конец они ехали по железной дороге, долго, в порожнем вагоне для скота.
Отец знал, что его ищут. Он знал это еще до того, как его предупредили. Все, что надвигалось, что должно было случиться, он ясно осознал уже в первые утренние часы 21 августа, как только новость до него дошла. Его искали, чтобы арестовать, и это показалось отцу всего лишь логически неизбежным. Он не держал зла на тех, кто его преследовал, сейчас это был их долг действовать так, так же как и его долгом было то, что он до того делал. Его действия спровоцировали это, так же, как и действия его и его друзей были спровоцированы деяниями других.
То, что его ищут, сделало отца очень осторожным. Он выверил каждый шаг. До сих пор все шло хорошо, они были почти у границы с Баварией. Еще два километра — и дело сделано. Но эти последние километры были самыми опасными, поэтому отец настоял, чтобы Карел как следует выспался здесь, в маленьком домике у бабушки, матери отца. Только друзья знали, где живет его мать, а они никогда не выдадут.
Старушка жила одиноко на краю деревни. У нее был магазинчик по продаже бумаги и письменных принадлежностей. Когда привозили газеты, продавала и их. Уже два дня газет не было. Бабушка ходила согнувшись, она страдала радикулитом. Отец и Карел пришли к ней, потому что она жила на участке границы, который, как считалось, еще не совсем перекрыли, а значит, через него легче было бежать. И, кроме того, сыну и внуку удавалось еще и попрощаться с бабушкой перед бегством в чужие земли.
— Который час? — спросил Карел.
— Десять, — ответил отец и положил руку на лоб мальчику. — Да ты же совсем горячий! У тебя температура?!
— Нет, — ответил Карел на чешском. По-немецки, в отличие от отца, он понимал мало. Это был трудный язык, вот английский давался ему легче. Английский и немецкий он изучал в школе. — Это из-за львов.
— Каких еще львов?
— На площади Венцеля. У меня во сне. Там было много львов. И еще больше зайцев. У львов были винтовки, и они были просто повсюду, и зайцы не могли от них убежать. У всех львов были винтовки. Они из них стреляли по зайцам. И каждый раз, как выстрелят — так убит.
— Бедные зайцы.
— Да нет же! С зайцами ничего не случалось! Каждый раз, когда лев стрелял, лев же и падал убитым! Сразу. И больше не шевелился. Странно, да?
— Да, — сказал отец. — Очень странно.
— Семь львов выстрелили один за другим, и все семь упали замертво, — сказал Карел. — Тут ты меня и разбудил. — Он отбросил клетчатое одеяло и выпрыгнул голый из высокой, скрипучей бабушкиной кровати, на которой спал. Карелу было одиннадцать лет. У него было крепкое загорелое тело и длинные ноги. Большие глаза, такие же черные, как и его коротко стриженые волосы. Волосы блестели в свете электрической лампы. Карел был задумчивым мальчиком и очень много читал. Учителя хвалили его. Он жил с отцом в большой квартире, в старом доме на Ерусалемской. Если высунуться из окна, можно было увидеть красивые деревья, цветущие кустарники и цветы Врхлицкого сада, и озеро посередине.
Еще малышом Карел каждый день ходил гулять туда с мамой. Это он еще хорошо помнил. Его мать подала на развод и уехала жить в Западную Германию к другому мужчине, как раз накануне пятого дня рождения Карела. И больше от нее не пришло ни письма. Все эти годы почти ежедневно Карел старательно и сосредоточенно смотрел из окна своей комнаты в сторону Врхлицкого сада, в снег и холод, в солнечный зной посреди лета во всей его цветущей красоте. Смотрел на множество молодых женщин, которые, держа детей за руку, ходили по аллеям парка или играли со своими маленькими сыновьями и дочерьми. Карел смотрел из окна, вспоминал их прогулки и надеялся вспомнить свою мать. Напрасная затея! Уже давным-давно он не помнил, как выглядела его мать. Когда в утренний час 21 августа отец поднял Карела с постели, упаковал два чемодана и они поспешно покинули свой дом, чтобы поначалу спрятаться у друзей, тогда среди роз, гвоздик, кустов золотых шаров и клумб с георгинами Карел заметил башни танков с пулеметами, такие игрушечные и призрачные в предрассветной дымке, обещавшей жару наступающего дня. На башнях танков сидели мужчины в чужих униформах, растерянные и грустные. Карел помахал им, и многие из солдат помахали ему в ответ.
— Я уже приготовил твои вещи, — сказал отец и показал на кресло возле кровати. Здесь лежал синий костюм Карела, праздничный, который ему разрешалось надевать только по воскресеньям. — Мы должны надеть все лучшее, — сказал отец. На нем тоже был темно-синий костюм, белая рубашка и темно-синий галстук, расшитый множеством крошечных серебряных слоников. На улице в летней ночи прозвучали два выстрела, один за другим, без промежутка. — Возможно, мы потеряем наши чемоданы или придется оставить их здесь, — объяснил отец.
— Да, потому и эти красивые вещи, — отозвался Карел. — Я понимаю. — Он сел на пол, чтобы натянуть носки. Несмотря на прошлый день с его палящим зноем, в бабушкиной комнате держалась прохлада. Здесь всегда было прохладно, воздух вечно был влажным, и все вещи пропитались сыростью. Во всем доме чувствовался запах плесени и залежалых тряпок. Приезжал ли Карел к бабушке на летние каникулы или на Рождество — в желтом доме с деревянной крышей и крошечной бумажной лавкой, над входом в которую в маленькой нише стоял святой, всегда пахло плесенью. Витрину уже много лет украшали два больших стеклянных шара, наполненных пестрыми матовыми карамельками — бабушка продавала также дешевые сласти. Только эти шары и были в витрине, больше ничего.
Пока Карел натягивал через голову рубашку, отец подошел к узкому окошку, чуть-чуть отодвинул ситцевую занавеску и выглянул на деревенскую улицу, пустынную в лунном свете.
— Проклятая луна, — промолвил отец и посмотрел вверх на круг медового цвета, который плыл по бархатно-темному небу, полному звезд. — А я так надеялся, что будут облака.
— Да, облака было бы хорошо, — согласился Карел. — Завяжи мне, пожалуйста, галстук. — Он всегда говорил чрезвычайно вежливо. Когда отец затягивал узел красного галстука, Карел отклонил голову назад. — Но твою трубу мы ведь возьмем с собой? — спросил он взволнованно. — Она же тебе пригодится в другой стране!
— Обязательно, — сказал отец, низко наклонясь к нему и неловко затягивая галстук. — Мы возьмем оба чемодана и мою трубу.
Отец был музыкантом. На этой трубе, которую он сейчас со своей родины, Чехословацкой Социалистической Республики, хотел перенести в Федеративную Республику Германии, он играл три года. Это была совершенно чудесная труба, Карел часто тоже играл на ней. Он был очень музыкален. Последние три года, до ночи 20 августа, отец работал в «Эст-баре». Это был один из самых приличных ночных ресторанов Праги, он располагался в роскошном отеле «Эспланада» на улице Вашингтона, прямо возле Врхлицкого сада, совсем неподалеку от их квартиры на Ерусалемской.
— Я понесу чемоданы, а ты футляр с трубой, — предложил отец.
— Здорово! — Карел посмотрел на него сияющими глазами. Он восхищался своим отцом, потому что тот был большим артистом и так чудесно умел играть на трубе. Карел, когда вырастет, тоже будет музыкантом, без всяких сомнений! Каждый раз как отец репетировал дома, когда у них еще был дом, Карел сидел у его ног и увлеченно слушал. Его отец, конечно, — самый лучший трубач на свете! Конечно, он был не самым лучшим, но очень хорошим и поэтому уже долгое время руководил своей секцией в Сваз складателю — Союзе музыкантов. Когда началась «Пражская весна», Карелу уже не доводилось слушать репетиции отца. Тогда в их просторной квартире стали появляться много мужчин и женщин, знакомых и незнакомых, они разговаривали с отцом и друг с другом долгими вечерами. Карел слушал. Все говорили о «свободе», о «новом времени» и о «будущем». «Должно быть, это очень хорошие вещи», — взволнованно думал мальчик.
А потом наступил тот вечер, когда Карел испытал бесконечную гордость за своего отца! Сваз шписователю — Союз писателей, пригласил другие творческие союзы принять участие в дискуссии на телевидении. Дискуссия длилась много часов, и рядом со знаменитыми людьми, чьи портреты и имена мальчик знал из газет, он снова и снова видел на телеэкране своего отца и слышал, что он говорит, а отцу было что сказать. Карел мало что понимал из этого, но был уверен, что речь идет только об умных и хороших вещах, и не отрываясь смотрел на экран. Дискуссия продолжалась до половины четвертого утра, телевидение сняло все ограничения по времени, и не будет ложью сказать, что миллионы людей, почти все взрослые в стране, следили за этой передачей и при этом плакали от радости и хлопали ладонями по своим телевизорам, чтобы выразить свое одобрение мужчинам и женщинам, которые говорили то, что хотели сказать, о чем так долго, долго и напрасно мечтали эти миллионы.
Карел заснул в кресле, и когда, наконец, отец вернулся домой (было уже совсем светло), его сын лежал, свернувшись калачиком, перед мерцающим экраном включенного телевизора. Среди многих вещей, которые Карел еще не мог понять, было и то, что из-за этого телевизионного выступления потом, позже, когда пришли чужие солдаты, им пришлось покинуть свой дом, прятаться несколько дней у друзей, а теперь среди ночи бежать. И все-таки это было так, отец сказал, что причиной было именно это.
— Я бы лучше остался в Праге, — сказал мальчик, завязывая шнурки.
— Я тоже, — ответил отец.
— Но это невозможно, — сказал Карел и серьезно кивнул.
— Нет. К несчастью, не возможно.
— Потому что они тебя посадят, а меня отдадут в детский дом?
— Да, Карел.
И так как он всего этого не понимал, мальчик снова начал задавать вопросы.
— А если бы вы тогда не говорили так много о будущем и о свободе, и о новом времени, то чужие солдаты к нам бы не пришли?
— Нет, скорее всего, они остались бы дома.
— И мы могли бы дальше жить на Ерусалемской?
— Да, Карел.
Мальчик надолго задумался.
— И все-таки это было здорово, то, что ты говорил по телевизору, — сказал он поразмыслив. — На следующий день в школе мне все завидовали, что у меня такой отец. — Карел опять задумался: — Они, конечно, и сейчас еще мне завидуют, — добавил он, — и сейчас еще все, что говорили ты и остальные — это здорово. Я никогда не слышал по телевизору ничего такого хорошего. Честно. И родители моих друзей, и все другие люди, с которыми я говорил, тоже нет. Не может же что-то быть очень хорошим, а потом вдруг перестать быть очень хорошим — ведь не может?
— Нет.
— Вот поэтому, — наморщив лоб сказал Карел, — я и не понимаю, почему ты теперь должен со мной бежать и почему они хотят тебя арестовать. Почему?
— Потому что это понравилось далеко не всем людям, — ответил отец Карелу.
— Чужим солдатам это не понравилось, да?
— Да нет, чужие солдаты тут ни при чем, — сказал отец.
— Как это?
— Они только делают, что им прикажут.
— Значит, это не понравилось тем, кто им приказывает?
— Это и не должно было им понравиться, — ответил отец.
— Как все сложно! — вздохнул сын. — Они что, такие могущественные, те люди, которые приказывают солдатам?
— Да, очень могущественные. Но, с другой стороны, и очень бессильные.
— Ну, теперь я уж совсем ничего не понимаю, — сказал Карел.
— Видишь ли, — начал объяснять отец, — в глубине души многим из тех, кто приказывает солдатам, это понравилось точно так же, как тебе и твоим друзьям и людям в нашей стране. Большинству, наверное. И им теперь будет так же грустно, как тем солдатам в парке.
— Так они, значит, не злые?
— Нет, не злые, — подтвердил отец. — Но им нельзя признаться, что понравилось. И нельзя признать, что у нас могут говорить, думать и писать такие вещи, потому что иначе для них все плохо кончится.
— Как это плохо? — спросил Карел.
— Их народы могут их прогнать, как мы прогнали наших могущественных, — объяснил отец. — Поэтому эти люди так сильны и все же так бессильны. Понимаешь?
— Нет, — сознался Карел. Он снова наморщил лоб и добавил так, как будто это его извиняло: — Это политика, да?
— Да, — согласился отец.
— Ну, ясно, — сказал Карел. — Поэтому я не могу этого понять.
Где-то за освещенными луной домишками, на полях, где еще стоял урожай, коротко и без отзвука прозвучала автоматная очередь.
— Опять они стреляют, — сказал Карел.
— Но уже не так часто, как днем, — сказал отец. — Пойдем, бабушка ждет на кухне.
Они покинули темную, старомодную спальню с мебелью прошлого века. Отец бросил короткий взгляд на картину над кроватью. Это была большая олеография,[2] изображавшая Иисуса и апостолов в Гефсиманском саду. Апостолы спали, только Иисус бодрствовал, один-одинешенек. Он стоял на переднем плане с поднятой рукой и говорил. По нижнему краю картины были Его слова на чешском языке: «Бодрствуйте и молитесь, дабы не впасть в искушение! Ибо крепок дух, но плоть слаба». Слева в углу было напечатано очень мелким шрифтом: «Напечатано в типографии Самуэль Леви и сыновья, Шарлоттенбург (Берлин), 1909».
Снаружи в нереальном лунном свете опять застрочил автомат. Завыли собаки. Потом все стихло. Спаситель мира, оттиснутый в 1909 году Самуэлем Леви и сыновьями в Берлин-Шарлоттенбурге на олеографии, все еще говорил со Своими спящими учениками.
Это было в двадцать два часа четырнадцать минут 27 августа 1968 года, во вторник.
3
«…Говорит радио „Свободная Европа“. Мы передавали новости для наших чехословацких слушателей. Передача окончена», — прозвучал голос диктора. Из студии в Мюнхене радио «Свободная Европа», вещающее на многих языках на государства Восточного блока, передавало увертюру к «Фиделио».
Старый радиоприемник стоял в углу закопченной низенькой кухни. Бабушка слушала, прижавшись ухом к динамику. Потом передвинула движок настройки точно на волну пражского радио и выключила аппарат. Согнувшись, она пошла к плите, на которой стоял большой горшок. Чем больше бабушка старилась, тем меньше становилось ее лицо, и она все больше сгибалась. От радикулита врач делал ей инъекции, но уколы не очень-то помогали. Бабушка часто призывала смерть. Но смерть не торопилась.
— А вот и вы, — сказала бабушка, когда отец с Карелом вошли на кухню. Она взяла половник и наполнила три тарелки. — Сегодня у нас фасолевый суп, — сказала она. — Я покрошила туда пару кусочков копченого мяса.
— Жирного? — забеспокоился Карел, усаживаясь за накрытый стол возле печки.
— Постного. Совсем постного, мое сердечко, — успокоила бабушка. Она всегда называла Карела «сердечко».
— Слава богу, постное! — мальчик улыбнулся ей, облизывая черпак. Где-то далеко в ночи снова раздался выстрел. Карел повязал себе на шею большую салфетку, подождал, пока другие начнут есть, и только тогда окунул ложку в суп. — Отлично, бабушка, — похвалил он. — И правда. Постнее не бывает!
На протянутых над столом веревках блестели желтые кукурузные початки. Огонь в плите громко трещал. Но и на кухне по-настоящему не становилось тепло, и здесь всегда тоже припахивало плесенью.
Бабушка четыре раза поднесла ложку ко рту, потом заговорила:
— Радио «Свободная Европа» только что сказало, что ООН из-за нас заседает беспрерывно.
— Очень трогательно со стороны ООН, — отозвался отец.
— И что американцы вне себя от возмущения!
— Ну, а как же, — сказал отец. — А после новостей поставили Бетховена, да?
— Не знаю. Вроде бы.
— Уверен, что Бетховена, — сказал отец.
— Откуда ты знаешь? — спросил Карел.
— Когда происходит что-то вроде того, что у нас, всегда все радиостанции после новостей передают Бетховена, — ответил отец. — Пятую симфонию или увертюру к «Фиделио».
— «Фиделио» — это прекрасно, — сказал Карел. — И Пятая симфония тоже. У Бетховена все прекрасно, правда ведь?
— Да, — подтвердил отец. И погладил Карела по черным волосам.
— Мы должны оказывать сопротивление и сохранять мужество. Радио сказало, что мы — героический народ.
— Да-да, — отец продолжал хлебать ложкой суп.
— И они придут нам на помощь.
— Ну, разумеется. Как пришли тогда на помощь венграм, — сказал отец.
— Нет, на этот раз точно! Радио сказало! Все ждут, что американцы потребуют от русских, чтобы они немедленно вывели войска из нашей страны. И все другие государства тоже.
— Черта с два они потребуют, — возразил отец. — И уж тем более американцы. Им-то русские специально предварительно сообщили по своим каналам, что они нас оккупируют. Чтобы американцы не всполошились, что началась Третья мировая война. Русские сказали американцам, что вынуждены захватить нашу страну, но больше ничего не предпримут. А американцы ответили: «Прекрасно, если вы ничего больше не сделаете, то все о’кей».
— Этого я не понимаю, — сказала бабушка испуганно.
— Политика, — вставил Карел.
— Откуда ты это знаешь? — спросила бабушка своего сына.
— Наши люди в Праге успели все это выяснить. Это сговор великих держав. Для вида они там, на Западе, должны изображать возмущение. А эта радиостанция еще берется внушать нашему народу надежду и призывать к сопротивлению! Точно так же, как во время восстания венгров, а перед этим — восстаний в Восточной Германии и в Польше!
Повисло молчание.
— Американцы и русские — самые великие и сильные в мире? — спросил, наконец, Карел.
— Да, — ответил отец. — А мы относимся к самым маленьким и слабым.
— Надо этому радоваться, — поразмыслив, сказал Карел.
— Радоваться? Почему?
— Я так считаю. Если бы мы были такими же сильными, то нам бы пришлось сейчас врать, как могущественным американцам, или мы были бы такими же грустными и так же боялись, как могущественные русские. Я имею в виду… Ты же сказал, что им грустно, но от страха им приходится командовать… — Карел смутился. — Или то, что я думаю, неправильно?
— Ну, в общем, правильно, — сказал отец. — А теперь доедай-ка свой суп.
— Ты такой умный, сердечко мое, — сказала бабушка.
— Нет, совсем нет. Но так хочу стать таким, — сказал Карел. Он сидел за столом прямо, положив левую руку на левое колено. Правую руку с ложкой он аккуратно, заученным жестом подносил ко рту.
Бабушка спросила:
— А как я узнаю, что вы благополучно перешли? Как я узнаю, что с вами ничего не случилось?
— Да ничего с нами не случится, — сказал отец.
— И все-таки. Я должна это точно знать. Ты мой последний сын. А Карел — мой единственный внук. Кроме вас двоих, у меня больше никого нет.
— Мы берем с собой трубу, — сказал отец. — Как только будем на той стороне, я сыграю песню, которую ты знаешь. Граница так близко, что ты ее точно услышишь.
— Я тоже уже могу играть на трубе, бабушка!
— Правда, сердечко мое?
— Да, — Карел гордо кивнул. — Я могу «Skoda lasky»,[3] «Где родина моя»,[4] «Плыла лодка до Трианы» и «Strangers in the Night»,[5] и еще другие. Но эти я умею лучше всего!
— Сыграй, пожалуйста, «Strangers in the Night», — сказала бабушка своему сыну. — Это совсем старая песня, которую они сейчас опять откопали.
— Да, Фрэнки-Бой, — сказал Карел.
— Она была любимой песней моего Андрея, упокой Господи его душу. И мне она так же нравится. Сыграешь эту песню, сынок?
— Хорошо, мама, — сказал отец.
Вдруг бабушка опустила ложку и закрыла свое маленькое лицо красными натруженными руками. Карел испуганно посмотрел на нее. Отец опустил голову.
— Ей так грустно, потому что мы уходим в другую страну? — тихо спросил Карел.
Отец кивнул.
— Но здесь же мы не можем остаться, — шепотом сказал Карел.
— Поэтому ей и грустно, — прошептал отец еще тише.
4
В двадцать три часа пятнадцать минут они вышли. Бабушка уже успокоилась. Она поцеловала Карела и сына. И обоим перекрестила лбы.
— Прощай, мама, — сказал отец и поцеловал ей руку. Потом поднял чемоданы, большой и маленький. Карел взял черный футляр, в котором лежала джазовая труба.
Они покинули дом через дверь, ведущую к фруктовому садику и огороду, с задней стороны дома, так как отец посчитал опасным показываться на пустой деревенской улице. Бок о бок они вышли в лунный свет, от которого вся местность, деревья, изгороди, дома и поля казались какими-то призрачными. Они прошли через сад, мимо грядок, под фруктовыми деревьями и в конце перелезли через низкую ограду, отделявшую участок от проселочной дороги.
Бабушка осталась стоять в дверях, скрюченная и неподвижная, а ее старческие губы беззвучно шептали: «Господь Всемогущий на небесах, защити моего сына и малыша, дай им перейти на ту сторону, сделай так, чтобы я услышала трубу. Я сделаю все, что ты захочешь, Господи, все-все, дай только мне услышать трубу…»
Когда отец и Карел исчезли из виду, бабушка закрыла дверь в сад и заспешила обратно в кухню. Она широко распахнула окно, чтобы лучше слышать, что делается снаружи. Свет она давно погасила и теперь сидела неподвижно в темноте…
Тем временем отец с Карелом дошли до конца деревни и пошли шаг в шаг, осторожно, постоянно прислушиваясь, через поле напрямик. Здесь еще не жали. Пшеница скрывала Карела почти полностью, отцу она была по грудь. Ночь стояла теплая. Когда они пересекали полевую дорогу, Карел рассмотрел вдалеке огни.
— Это уже на той стороне? — прошептал он.
— Да, — так же шепотом ответил отец. — Мы как раз возле рва с водой. — Призрачный лунный свет вдруг разозлил его и он подумал: «Надо взять себя в руки. Не хватало еще потерять самообладание».
— Если они нас обнаружат, — прошептал он, — сразу падай на землю и не шевелись. Если потом они закричат, чтобы ты встал и поднял руки, так и сделай. Делай все, что они прикажут, понял?
— Да.
— Но если я скажу «беги!», то беги, что бы ни случилось и что бы они ни кричали. Беги все время на огни на той стороне. Беги, что бы ни случилось, что бы я ни делал. Если скажу «беги!», то беги.
— Да, — снова сказал Карел. Его лицо светилось в лунном сиянии. Пшеничное поле кончилось. Дальше была узкая полоска леса. Ели стояли здесь густо. Земля была покрыта слоем хвои, их шаги стали неслышными. Они крались по мягкой подстилке. Постоянно оглядываясь по сторонам, отец пробирался от ствола к стволу. Под его ногой хрустнул сучок. Они замерли. Потом осторожно двинулись дальше.
За деревьями проступил силуэт сколоченной на скорую руку сторожевой вышки. Безобразное высокое сооружение с четырехугольным навершием. Там наверху ничто не шевелилось, через щели не виднелось ни огонька. До сторожевой вышки было еще с полкилометра. Они дошли до края леса.
Отец улегся на покрытую хвоей землю, Карел — вплотную к нему. Земля была теплая, от хвойных игл шел сильный терпкий запах.
— А часовые — они там наверху? — прошептал Карел отцу на ухо.
— Нет, — так же на ухо ответил Карелу отец. — Люди в деревне говорили, что на башне никого нет. Часовые стоят возле своих танков, растянувшихся в цепочку. А танки они замаскировали. — Он посмотрел на часы. — Еще одиннадцать минут до полуночи, — проговорил он тихо. — Надо подождать.
Карел кивнул. Он лежал, вжавшись в землю и глубоко вдыхая запах почвы, покрытой хвоей. «Как все просто, — думал он. — Вот уже и лес прошли, а вот и вода».
Черная вода перед ними в прямом как стрела рве медленно несла свои воды с севера на юг. Местами она блестела, отражая лунный свет. Ров с водой был метров пять шириной. Первые беженцы преодолевали его вплавь. Теперь через искусственное русло был переброшен еловый ствол, а над ним где-то на высоте метра была протянута тонкая проволока, за которую можно было держаться, пробираясь по стволу. Ель явно срубили в леске и стащили к воде по открытой полосе метров в десять шириной. Здесь был склон.
— Будешь переходить первым, — прошептал отец. — Ствол выдержит только одного, я подержу, чтобы он не вращался.
— А если я упаду в воду… Я же не умею плавать…
— Не упадешь. Видишь проволоку? — Проволока мерцала в лунном свете. — Крепко держись за нее. Хочешь, оставь трубу здесь. Я ее прихвачу.
— С двумя чемоданами? Нет, трубу возьму я! — кулачок Карела крепко сжал кожаную ручку черного футляра. Они помолчали. Отец не отрывал взгляда от циферблата часов. Казалось, минуты превратились в часы, в первую секунду вечности.
Потом где-то далеко послышался звук мотора, сначала тихо, потом громче и замолк. В ту же секунду часы на деревенской церкви начали отбивать полночь.
— Как точно, — прошептал отец.
— Они сменяются?
— Да. — Отец еще раз огляделся, потом слегка шлепнул Карела. — А теперь беги. Беги!
Пригнувшись, Карел помчался по мокрой открытой полосе вниз к воде, к еловому стволу. Через два удара сердца отец с двумя чемоданами побежал следом за ним. И когда Карел уже забирался на ствол, отец поставил чемоданы на землю и уселся на толстый конец дерева.
Левой рукой Карел сжимал ручку футляра, а правой ухватился за холодную скользкую проволоку. Медленно пробирался он по стволу над водой.
— Так, так, хорошо, — шептал отец.
Проволока вдруг покачнулась. У Карела подогнулись колени. На секунду показалось, что он падает, потом он восстановил равновесие. Его мордашку заливал пот, и от волнения стучали зубы. Вот уже середина рва. Он думал: «Только не смотреть вниз. Если я не буду смотреть вниз, все будет хорошо. Единственное — не смотреть вниз…» Еще шаг. Еще один.
Карел почти выдохся. Еловый ствол стал тоньше, прогнулся. Мальчик напряженно смотрел вперед.
«Не смотреть вниз!»
Теперь от другого берега его отделяли каких-то полтора метра. Метр. «Не смотреть вниз… Не смотреть вниз…» Ствол покачнулся. Карел снова поскользнулся, снова восстановил равновесие. Еще два шага…
Он спрыгнул на землю. Пригнувшись, обхватив кожаный футляр руками, он помчался по открытой полосе, такой же широкой, мокрой и мягкой, как и на другой стороне, туда, где начинался лес, и спрятался за первыми деревьями. Там он присел на корточки. «И тут те же иголки, — подумал он. Опять одни ели, почти как на той стороне, только лес меньше».
Он видел, как отец взобрался на ствол: один чемодан в левой руке, другой, поменьше, под мышкой. Правой рукой он пытался держаться за проволоку, как до того Карел. Отец продвигался намного быстрее. Карел восхищался его ловкостью. С такими тяжелыми чемоданами! Несколькими большими шагами отец достиг середины ствола. Еще шаг — и на сторожевой вышке вспыхнули два прожектора, слепо пробежали по водной глади и выхватили в круге света отца, который, будто парализованный, застыл на месте.
Карел сдавленно вскрикнул.
Яркие лучи прожекторов поймали отца и ослепили его. Он раскачивался на стволе, пытаясь повернуть голову так, чтобы свет не бил ему в глаза.
Карел в ужасе подумал: «Значит, там, наверху, есть люди! Значит, башня не пустует? А люди в деревне обманули отца? Нет, не может быть! Это же были земляки, хорошие люди. Они просто не знали, что на башне снова кто-то есть — может быть, только с сегодняшней ночи. Выходит, ловушка? Выходит, все насчет часовых возле танков, которые сменяются в полночь, — ложь?»
Мысли в голове Карела проносились с бешеной скоростью. Искаженный мегафоном голос угрожающе прогремел: «Вернитесь, или мы стреляем!»
Карел упал на живот. Широко раскрытыми глазами он смотрел на отца, когда снова прогрохотал хриплый голос: «Назад, или мы стреляем!»
Отец изогнулся, чтобы не потерять равновесие, он выронил оба чемодана. Они с шумом упали в воду. А потом по человеку в свете прожекторов начали стрелять из автоматов.
— Беги! — резко выкрикнул отец. — Беги, Карел, беги!
Пули, попавшие в отца, резко развернули его тело, и он тяжело рухнул в глубину. Автоматы продолжали стрелять, пули шлепали по воде, поднимая фонтаны брызг, и настигали отца, который медленно плыл по течению лицом вниз.
Один прожектор двигался за отцом, второй взметнулся на другой берег, к опушке леса, у которой лежал Карел. И в эту секунду жизнь вернулась к мальчику. Он вскочил и побежал прочь. Он мчался изо всех сил по хвое, как еще никогда в своей жизни. Споткнулся о корень, упал, тут же поднялся и побежал дальше. Сердце неистово билось, а он все бежал и бежал.
Лунный свет освещал мягкую почву между деревьями, светло-коричневую, темно-коричневую, зеленую. По скользкому ковру хвои зигзагами петлял Карел между стволами деревьев. Показалось поле. Выбежав на твердую землю, он дважды споткнулся. Добежал до полевой дороги, по краям которой стояли фруктовые деревья. Далеко позади, от того рва послышались неясные голоса. От этих голосов Карел опомнился. Он опустился на пыльную дорогу и, тяжело дыша, посмотрел вверх, на луну. Футляр с трубой лежал позади него. Вдруг он вспомнил об отце. Он совершенно забыл о нем. И мальчик закричал во всю мочь: «Отец!» И еще раз: «Отец!» И снова: «Отец!»
Ответа не было.
У него сорвался голос. Как зверь, на четвереньках, Карел катался в пыли, и голос снова вернулся к нему. И снова он закричал: «Отец!.. Отец!.. Отец!» Качаясь и прижав руки к глазам, чтобы не заплакать, он поднялся. Вокруг него все кружилось. В голове у него было только одно: отец умер. Они застрелили отца. Отец умер. Мой отец. Они его застрелили. И все-таки он закричал тонким, отчаянным детским голосом: «Отец! Я здесь, отец! Отец! Иди ко мне!»
Отец не отвечал. С той стороны доносился лай собак, брань солдат. Карел закричал снова. Его желудок вывернуло наизнанку, и он едва не захлебнулся рвотой. Он тихо проскулил: «Отец… Отец… Отец…» И затих.
А может, отец вовсе и не умер? Может, он выбрался на землю и теперь ищет Карела в этом серебристом мраке? Может, он просто не слышал Карела?
Ребенок вскочил на ноги.
Ему пришла в голову одна мысль. Если не слышно его голоса, то трубу, конечно, будет слышно далеко вокруг! Отец сам это сказал. Он же хотел сыграть для бабушки эту песню… Если Карел сейчас сыграет, отец обязательно его услышит. Обязательно! Обязательно! Карел смеялся и плакал одновременно. У него так кружилась голова, что он то и дело падал, пока бежал обратно к черному футляру, брошенному на краю дороги. Дрожащими руками он открыл футляр. Теперь отец отыщет его! Только нужно подольше играть на трубе, и отец снова будет с ним. Карел плакал и смеялся, смеялся и плакал. Обеими руками поднес он к губам тяжелую, отливающую золотом трубу. Потерял равновесие, упал, тут же поднялся.
— Отец, — шептал он, — погоди, отец, погоди, сейчас… — И снова упал.
На сей раз он прислонился к яблоне, ветви которой были густо увешаны плодами и низко свисали. Маленькие ботинки крепко уперлись в почву. Так он стоял, вскинув инструмент. И заиграл. Пронзительно и страстно зазвучала старая мелодия. Не все звуки, которые Карел извлекал из трубы, были правильными по тону и чистыми по звучанию, но песня легко узнавалась.
«Strangers in the Night» — выдувал на нейтральной полосе мальчик и думал: «Отец услышит ее. Он меня найдет. Он не умер. Он только притворился. Он умный. Он только сделал вид, что в него попали, а потом упал в воду и приплыл к берегу на этой стороне. Ну, конечно, так это и было. Это именно так и было…»
— Послушай-ка, — обратился обервахмистр[6] Хайнц Субирайт, патрулировавший на внедорожнике Федеральной службы пограничной охраны примерно в двух километрах от Карела, к своему другу, отрядному стрелку Хайнриху Фельдену.
— «Strangers in the Night», — отозвался Фельден, сидевший за рулем машины.
— Сумасшедший, — сказал Субирайт. — Только сумасшедший может играть здесь на трубе.
— «…exchanging glances, wond’ring in the night»,[7] — тихо подпел Фельден.
— «…what were the chances we’d be sharing love before the night was through»,[8] — играл Карел: «Приди ко мне, отец. Ну, пожалуйста, приди. Мне так страшно. Отец, прошу тебя, дорогой отец».
— «…something in your eyes was so inviting»[9] — напевал за рулем стрелок отряда Фельден.
— Прекрати, — сказал обервахмистр Субирайт. — Перестань. Это где-то здесь перед нами.
«…Something in your eyes was so inviting», — играл Карел, и крупные слезы катились по его детским щекам: «Отец жив. Отец жив. Он ко мне придет. Теперь он меня слышит. Да-да, теперь он меня слышит…»
«…little did we know that love was just a glance away…»[10] — Песня поднималась со старой равнодушной земли ввысь, к старому равнодушному небу с его луной и его бесконечно далекими, холодными звездами. Она летела над землей. Солдаты, которые вытаскивали мертвеца из рва с водой, тоже слышали ее, как и бабушка в своей низенькой кухне.
«…a warm embracing dance away, and ever since that night we’ve been together, lovers at first sight…»[11]
Бабушка тяжело опустилась перед печкой на колени и, сложив руки для молитвы, произнесла: «Благодарю тебя, Господи, за то, что спас моего сына и дитя».
Мелодия трубы все еще звучала в ночи. Бабушка стояла на коленях на полу кухни и не могла удержать от слез от избытка счастья.
5
— …А он все играл и играл свою песню, бедный парнишка, пока его не нашли солдаты Федеральной службы пограничной охраны, — рассказывала фройляйн Луиза Готтшальк.
Было примерно пятнадцать часов тридцать минут двенадцатого ноября 1968 года. На безоблачном синем небе сияло яркое солнце поздней осени; погода стояла удивительно теплая для середины ноября. Между тяжелой от плодов яблоней на баварско-чешской границе и той ночью побега в первом часу утра 28 августа и местом и днем моего знакомства с фройляйн Луизой было добрых тысяча километров и ровно одиннадцать недель. Я познакомился с фройляйн Луизой в Северной Германии, в забытой Богом глухомани между Бременом и Гамбургом, около двух часов назад, сразу после того, как мы сюда прибыли, мой друг Берт Энгельгардт и я.
Энгельгардт был крупным мужчиной пятидесяти шести лет с очень светлыми глазами и волосами, розовым молодым лицом и жизнью, настолько полной приключений и опасностей, что этого человека уже ничто, абсолютно ничто на свете не могло потрясти. Да что там потрясти? Даже хоть в малейшей степени тронуть! У него было большое сердце, веселый нрав и стальные нервы. Это и помогало ему оставаться таким молодым. Никто не мог бы угадать его возраст. Он почти всегда улыбался — сердечно, дружески, приветливо. Он улыбался и тогда, когда сердился. На лбу у Берти была белая повязка. Вчера вечером он ее сменил. Повязка нужна была Берти, чтобы прикрыть рану на лбу. Он получил ее семьдесят два часа назад в Чикаго.
С 1938 года Берти был фоторепортером. Начинал он в «Берлинер Иллюстрирте». Он сам уже не знал, сколько раз он с тех пор облетел планету ради сенсационных политических событий и громких процессов об убийствах, ради кинозвезд, миллионеров, нобелевских лауреатов, прокаженных, мотался на остров контрабандистов Макао, в самые страшные нищие кварталы Калькутты, в самые глубинные районы Тибета, Китая, Бразилии и Мексики, на золотые рудники Южной Африки, в зеленый ад Борнео, в Антарктиду, на просторы Канады и снова и снова в самое пекло войн. Войн было больше, чем он мог запомнить, и его всегда посылали туда, где дела, конечно, шли особенно дерьмово и где больше всего убивали, а с тех пор, как Берти занялся своим делом, в войнах недостатка не было. Он получил много международных наград, и по миру путешествовала выставка с его лучшими фотографиями, так же как скитался по этому миру сам Берти. Пару раз он был легко ранен на этих больших и малых чужих войнах, а один раз ранен тяжело на нашей собственной Второй мировой войне, которую мы начали и проиграли. Он был ранен в правую ногу. Берти и сейчас еще слегка прихрамывал.
Мне, Вальтеру Роланду, как раз исполнилось тридцать шесть лет, когда мы вляпались в одну запутанную и странную, милую и страшную историю, которую я хочу сейчас рассказать, и если Берти выглядел намного моложе, чем был на самом деле, то я выглядел старше своих лет. Притом намного старше, о да. Я высокий, но не склонный к полноте. Цвет лица не так свеж, как у Берти, а, скорее, желтоват, под карими глазами, которые всегда казались усталыми, темные круги, русые волосы на висках уже совсем побелели, и на голове все больше пробивались седые пряди. Вечно без аппетита, если вам это о чем-то говорит. Вечно с сигаретой в углу рта. Вечно с недовольно поджатыми губами, как многие утверждали. Похоже, так и было. Так я себя и чувствовал. Так и жил. Слишком много работы, слишком много женщин, слишком много сигарет, слишком много выпивки. Прежде всего, выпивки. Уже много лет я просто не мог прожить без виски. Если под рукой постоянно не было бутылки, у меня появлялась боязнь пространства. В дороге у меня всегда была с собой в кармане большая плоская фляжка из серебра. Время от времени я бледнел и чувствовал себя отвратительно, просто отвратительно, и тогда каждый раз очень боялся, что свалюсь. Вот в таких случаях мне была необходима пара больших глотков, и все снова было в норме. Алкогольная зависимость в чистом виде.
Я был журналистом. Лучший автор иллюстрированного издания «Блиц». Уже четырнадцать лет. Берти работал здесь уже восемнадцать. Два аса — он и я. Я не хочу хвастать, в самом деле. Да и нет для этого ни малейшего повода. Но мы были асами в этой навозной яме. По эксклюзивному контракту. Берти — самый высокооплачиваемый фотограф Германии, я — самый высокооплачиваемый журналист. Вы же знаете «Блиц». Одно из трех крупнейших иллюстрированных изданий Федеративной Республики. Кроме того… но об этом позже. Теперь позвольте перейти к делу, мне еще нужно очень много сказать. Вначале все шло прекрасно, и я еще не напивался и не загуливал. Потом, в «Блице», все переменилось. И я изменился. Берти — нет. Он оставался, как был, надежным, добродушным и смелым парнем. Только меня с годами словно прокрутили в мясорубке.
Поскольку я много зарабатывал, я сделался снобом, шил себе костюмы, рубашки и даже туфли на заказ, ездил на одном из самых сумасшедших автомобилей, жил в пентхаусе класса люкс; и пил только «Чивас Регал» — самый дорогой сорт виски на свете. Только так. Все другое в расчет не принималось. Девочки тоже всегда были исключительно первого класса и стоили целое состояние.
В последние годы я все больше и все чаще глушил себя виски, женщинами и рулеткой. Потому что мне осточертело все, что приходилось писать для «Блица», — об этом я тоже еще расскажу. Были времена, к счастью, не часто, когда я не мог работать, был вынужден валяться в постели и немерено глотал валиум или что-нибудь посильнее, чтобы заставить себя проспать сутки, двое суток, потому что вдруг на меня нападала жуткая слабость, от паники и беспомощности я задыхался, начинались перебои в сердце, кружилась голова, мысли разбегались и меня охватывал страх, страх, страх. Кто знает, перед чем. Перед смертью? Нет, это не главное. Не знаю, что это был за страх. Может, он вам тоже знаком. Разрушенная печень. И, конечно, много еще чего. От той жизни, которую я вел. У меня был свой «шакал». Я называл это так, потому что временами меня охватывало чувство, что эта скотина кружит поблизости, подходя все ближе и ближе, и, наконец, склоняется надо мной, и я начинаю задыхаться от его адского зловонного дыхания. Через два дня приступы, о которых я сейчас рассказал, проходили. Мне было нужно только напиться до потери пульса, и тогда все снова шло как по маслу, я снова мог работать. И то, что я снова мог работать день и ночь, больше, чем весь прочий журналистский сброд, было моей гордостью. А когда я уже больше не мог, я захотел изменить свою жизнь. Еще одна дурацкая затея. К врачу я мог бы обратиться только в случае крайней необходимости, потому что и так знал наизусть все, что они мне скажут, если так пойдет и дальше, я не дотяну и до сорока. Четыре года они мне говорили это. Все. Потрясающие ребята, эти врачи. Ничего не скажешь!
Издательство «Блиц», его редакция и типография находились во Франкфурте. Вы спросите, почему именно Берти и меня послали сюда, в глухомань, нас, самых высокооплачиваемых парней? Причина, конечно, была. Когда я вам расскажу о «Блице» побольше, вы поймете. Но как бы то ни было, мы были здесь. И познакомились с фройляйн Луизой. И пока еще не знали, что нам предстоит. Не имели ни малейшего понятия.
— …Отбивался, как сумасшедший, этот Карел, — рассказывала фройляйн Луиза. — Не хотел оттуда уходить. Он же верил, что его отец жив и придет к нему… — Всю эту историю побега, которую я записал, она рассказывала Берти и мне в своем кабинете. Этот большой, уродливый кабинет располагался в бараке, где находились и другие кабинеты. Письменный стол, телефон, пишущая машинка, стулья, полки с папками и электрическая плитка, на которую фройляйн поставила кастрюлю с водой, чтобы приготовить нам кофе. («Столько уж вам показала, сделаем небольшой перерыв. Мои ноги. После кофе я приведу вам моих чешских детей и все расскажу о них. Этот мальчик как раз здесь, у меня…») На пыльном подоконнике стояли три глиняных горшка с плачевного вида кактусами.
Напротив окна висел большой рисунок. В черно-серо-белых тонах на нем была изображена гигантская гора из черепов и костей. Над этим апофеозом ужаса в чистое небо возносится массивный крест. Я его внимательно рассмотрел. Справа внизу я прочитал: «Готтшальк, 1965». Так значит, фройляйн Луиза сама нарисовала эту мрачную картину. Под ней стояла печь-буржуйка с многоколенчатой трубой, выходящей через внешнюю стену барака. Огонь в печи не горел: в этот день, 12 ноября, было еще совсем тепло.
— Дрался с солдатами, этот Карел, — продолжала фройляйн Луиза. — Кулаками, ногами, ногтями и зубами. У него было не в порядке с головой в то время.
— И что они с ним сделали? — спросил я. Я сидел напротив фройляйн верхом на стуле, опершись локтями на его спинку. Далеко, пока далеко я почуял своего «шакала». Без паники! В кармане моих брюк наготове фляжка с «Чивас». К себе я всегда относился очень заботливо.
— Они перепугались. По радио вызвали «скорую». Врач сделал Карелу укол, тот обмяк и успокоился, и они смогли его увезти. — «Смягли», — сказала она. — Было странно здесь, далеко на севере, встретить кого-то с богемским акцентом.
— И куда же они его отвезли? — спросил я, стряхивая истлевший кончик моей дорогой сигареты «Голуаз» в пепельницу из алюминиевой жести. Я курил только черные французские сигареты. Возле пепельницы на письменном столе лежал один из блокнотов, которые я всегда возил с собой. Стенографировал я хорошо и быстро. И моя память тоже пока еще функционировала. Многие страницы были уже заполнены, потому что здесь на севере я успел кое-что повидать. Услышанное я не стенографировал. У меня был кассетный диктофон с питанием от сети и от батареек. Я его всюду возил с собой. Сейчас этот приборчик с миниатюрным микрофоном стоял на письменном столе включенным. У меня всегда была с собой куча кассет, а такое или подобное устройство я использовал при каждом своем расследовании. Магнитофон записывал с тех пор, как мы встретились с фройляйн Луизой. С паузами, естественно.
— Куда? Сначала туда, потом сюда, и наконец, в Мюнхен. В клинику. Тяжелый шок. Шесть недель ему пришлось пробыть в больнице, бедняжке. Потом отправили его к нам, в этот лагерь.
— Значит, он здесь уже пять недель?
— Да, и еще надолго останется.
— Насколько?
— Насколько я смогу добиться. Я не хочу, чтобы он попал в какой-нибудь приют. Мы ведь все еще ищем его мать. Она вроде бы живет в Западной Германии. А больше у него никого нет, у малыша Карела. С тех пор как он здесь, он только и говорит, что о своей матери. Постоянно! — и, сидя за своим заваленным бумагами столом, фройляйн тяжко вздохнула: — Мир жесток, господа. Особенно к детям. Жесток, сколько я ни работаю. Да и раньше он был не лучше. Поэтому я и стала воспитательницей. Почему же еще? Что могут поделать дети, если он так жесток, этот мир?
— С какого времени вы работаете воспитательницей? — спросил я.
— С 1924 года.
— Что?
— Да, так вот. Сорок четыре года! Почти всю свою жизнь я была воспитательницей, всегда жила только для детей. Со своих восемнадцати. Были злые времена, тогда, после инфляции. Сначала работала в Вене. Двадцатый округ. Нищета, скажу я вам. Голод. Ни еды, ни денег, грязь и нужда, такая нужда! Мы создавали детские ясли. Ходила по конторам, вымаливала деньги для моих детей. Стерла тогда себе ноги до крови. Но лучше не стало. Экономический кризис 1929 года. Дальше — хуже! В те времена они меня и… — она внезапно замолчала.
— Что — они? — насторожился я. — И кто?
— Ничего, — смутилась она. — Вовсе ничего. Еще бо́льшая нищета после 1929 года! Безработные. Можно было подумать, половина Австрии без работы, когда Гитлер потом пришел к власти. Потому у него так легко все получилось. А почему же еще? Он пообещал работу и хлеб, так ведь?
— Да, — согласился я. — А во времена Гитлера?
— Конечно же, была воспитательницей! Как и после войны. И всю войну заботилась о бедных детях. Перебралась с ними в деревню, подальше от ужасов войны. К себе на родину. Рядом с Райхенбергом! В 1945-м, в январе, снова пришлось уезжать. Двести пятьдесят детей и только три попечительницы. Я их провела по снегу и льду (буквально «провела», сказала она) до самого Мюнхена, в надежное место в пригороде, тоже в лагерь. Всех довела, только трое у меня замерзли от сильного холода… — они печально смотрела в пустоту. — От сильного холода, — повторила она потерянно.
Фройляйн Готтшальк («Называйте меня фройляйн Луиза», — попросила она, когда мы здоровались) была среднего роста и производила впечатление очень усталой, измотанной работой женщины. Она была очень худой. Ее белые волосы просто сияли, гладко зачесанные назад и собранные в узел на затылке. Большие голубые глаза смотрели с бесконечным радушием — это же выражало и все ее тонкое, узкое бледное лицо с большим ртом и бескровными губами. У нее были еще очень хорошие, крепкие зубы. Вместе с серой юбкой она носила старый коричневый вязаный жакет, из-под которого выглядывал воротник блузки, а на ногах ботики — надежная опора для ее опухших ног. («Трудновато мне много ходить, вода, знаете, в ногах. — Она сказала „нягах“. — Но я не жалуюсь! Всю жизнь на ногах, вечно бегаю. Пока еще держат, ноги-то…»)
— А потом, — спросил я, притушив окурок и закуривая новую сигарету от зажигалки, разумеется, золотой, в восемнадцать карат, — потом в Баварию пришли американцы, не так ли?
Взгляд фройляйн Луизы вернулся из пустоты. Она кивнула.
— Да. Милые люди. Хорошие люди. Дали мне еду, одежду, уголь и бараки для моих детей. Русские тоже очень милые люди! — быстро добавила она. — Их танки обгоняли нас во время нашего большого бегства. Русские солдаты бросали нам еду и одеяла со своих танков — для детей. И организовали пару телег с лошадьми. Без помощи русских мы бы никогда не добрались до янки с их помощью. Смешно, да? Война, смерть, разорение, и люди были плохие, это я на себе почувствовала. Но когда большая беда, наши враги нам помогли, все, моим детям, и даже русские, несмотря на все, что они пережили, ах… — Она вздохнула. А магнитофон все записывал и записывал. — Ну, потом, при американцах, я заботилась о малышах в Баварии, до раскола и блокады, когда много-много людей перебралось из зоны сюда, в том числе и дети. Потом они послали меня сюда.
— Что? В 1948? — спросил я ошеломленно и выронил сигарету. — Вы здесь уже двадцать лет?
— Двадцать лет, да. Треть моей жизни. Лагерь для несовершеннолетних. До восемнадцати лет. Как и сегодня. Не всегда ведь семьи могли бежать все вместе, правда же? Дети отдельно, родители отдельно. Сотни тысяч в то время перебирались сюда, миллионы! И так много детей! Господи Боже мой, иногда мы совсем теряли голову. После восстания семнадцатого июня 1953 года, ну, тогда нам совсем не удавалось поспать. В лагере была такая толчея, а ведь это огромный лагерь. Вы же его видели. Малыши для меня всегда были как родные… Дети! Дети! Целый большой город можно было бы населить детьми, которых я оберегла и защитила с 1924 года…
— И продолжаете это делать, — добавил я.
— И буду делать, пока не умру, — сказала фройляйн Луиза. — Какая разница, что это за дети, какого цвета у них кожа или какая религия, или из какой они страны. И мне все равно какой будет режим! Мне подходит любой, лишь бы разрешал остаться при детях, — она смущенно улыбнулась мне. При этом ее нижняя губа слегка подрагивала.
Берти не мешал мне. С тех пор как мы сюда прибыли, он занимался своим делом. Он взял с собой две камеры: «Никон-Ф» с малоформатным объективом и «Хасселблад-Дингер» с невероятно мощными объективами. Берти мог снимать в закрытых помещениях при плохом освещении без вспышки. Он снимал фройляйн Луизу, пока я с ней беседовал. «Human interest».[12] Если из этой истории что-нибудь получится, тогда нам будет нужен «human interest». А тут фройляйн давала массу материала.
— Но после строительства стены, должно быть, приток беженцев сильно сократился, — спросил я. — Вряд ли кто-нибудь еще прибыл сюда.
— Не из Зоны, — ответила фройляйн Луиза. — Что нет, то нет. До строительства стены в Федеративной Республике было двадцать четыре лагеря. Сейчас осталось всего ничего. Фридланд и Цирндорф под Нюрнбергом — это самые известные, для взрослых и семей. И этот — здесь, в «Нойроде», для подростков и детей. Теперь мы стали по-настоящему международным лагерем! Я же говорю, что мир жесток. Люди по-прежнему вынуждены бояться, опять войны, революции, диктатуры, и людям приходится бежать. Вы же сами видите — Чехословакия. Восточная Германия! И Греция! — Она чуть слышно засмеялась. — Даже пять маленьких вьетнамцев были у меня здесь полгода назад… Нет-нет, никакого затишья нет, мира нет, и все продолжается, мне приходится и дальше заботиться о моих детях, бедных червячках… В последние месяцы, конечно, в основном чехи…
— Дети с вашей родины.
— Да. Здесь есть переводчики, вы сами видели. Но с малышами можно и так объясниться. А я говорю по-чешски, поэтому всех чешских детей направляют ко мне. Я их опекаю. И Карела, конечно, тоже, бедняжку…
— Это ваш любимец? — предположил я.
— Все они — мои ангелочки, все, — ответила фройляйн Луиза. — Все как один. Но Карел — он такой беспомощный и до сих пор такой перепуганный и боязливый, так что он — моя особая забота…
Карел был совсем близко, только деревянная дощатая стена отделяла нас от него. Я уже глянул на Карела, Берти тоже, как только мы сюда пришли. Дверь в соседнее помещение была открыта. Там была жилая комната с лоскутным ковром, шкафом, книжной полкой, кроватью, торшером, радиоприемником и шестью картинками на стенах, которые нарисовали дети. Фройляйн Луиза сказала, что это ее комната, что здесь она живет. Мне это показалось странным.
Все воспитательницы, вообще-то, жили в двух больших, довольно удаленных отсюда бараках. И я решил спросить фройляйн Луизу, почему же она живет отдельно.
Когда мы вошли, посреди второй комнаты на табуретке сидел Карел. Его изящный синий костюм был чистым и отутюженным, белая рубашка свежевыстиранной, красный галстук красиво завязан. Ботинки начищены. Карел казался маленьким, хрупким и бледным. На коленях он держал сверкающую джазовую трубу. Он сидел лицом к стене, к нам спиной и выглядел печальным в своей отрешенности.
— Слушай, Вальтер, какой лакомый кусочек! — Берти в волнении нацелил свой «Никон-Ф». Карел не шелохнулся, когда услышал наши голоса и шаги. Во дворе возле барака в мягком полуденном солнечном свете играли дети. Они водили хороводы под музыку из динамиков. Ликующий мужской голос пел: «День такой, прекрасный, как сегодня, день такой не кончится вовек…»
Мы подошли к Карелу вплотную. Фройляйн Луиза сказала нам, как его зовут. Карел не взглянул на нас и не шевельнулся.
Над лагерем промчалась эскадрилья реактивных истребителей. Шум был адский, я занервничал и поспешно затянулся дымом сигареты. Чего я не выношу, так это безумного рева, и особенно — хлопков, с которым пилоты преодолевают звуковой барьер. Здесь постоянно ревели «старфайтеры», каждые двадцать минут — по подразделению.
На рев самолетных двигателей Карел тоже никак не отреагировал. Ни жилка не дрогнула. Казалось, он умер сидя.
— Здравствуй, Карел, — сказал я.
Молчание.
— Почти не понимает по-немецки, — извиняющимся тоном промолвила фройляйн Луиза. Это было смешно и трогательно. Она взяла кусок шоколада и протянула мальчику, сказав что-то по-чешски. Он покачал головой.
— Не хочет, — вздохнула она. — А ведь это молочный шоколад с орехами! Он его так любит. Просто он все еще не в себе, все время твержу им об этом. А они говорят, ничего, мол, с парнем особенного, и нечего ему сидеть тут у меня целыми днями. Если б он сам так думал! Он сказал: здесь он не боится.
— Не боится чего?
— Что они опять будут стрелять.
— Кто?
— Откуда я знаю, кто? Все ведь у него в маленьких мозгах перемешалось. Он боится, что кто-то будет в него стрелять, как они стреляли в отца. Он сказал, что здесь у меня с ним ничего не случится. Так что он всегда здесь, а я работаю рядом, дверь открыта, и у него мир на душе. Только есть и спать он должен, конечно, с другими чешскими детьми в том ихнем бараке. — Фройляйн Луиза наклонилась к Карелу. Он посмотрел на нее и слабо улыбнулся. Это была страшная улыбка, самая страшная из всех, какие мне только приходилось видеть. Страшнее самого страшного плача. Фройляйн Луиза снова заговорила по-чешски. Она указала на нас. Карел повернул голову и посмотрел на Берти и меня. Улыбка умерла на его лице. Он повернулся к нам спиной.
— Сказала ему, что господа из иллюстрированного издания, — объяснила фройляйн Луиза. — Из большого иллюстрированного издания, и что будут писать и фотографировать и напишут рассказ про наш лагерь.
Берти щелкал без остановки. Он снимал Карела и его трубу во всех возможных ракурсах. Берти знал, что делает. Дети и животные, голые девицы и несчастные случаи, во всех подробностях — вот что хотят видеть люди! Что разжигает их страсти и похоть. Что их трогает. Sex appeal. Human appeal.[13] Дерьмовая профессия.
— Это правда большое иллюстрированное издание? — спросила фройляйн Луиза.
— Да, — ответил я.
— А насколько большое, простите?
— Тираж продаж один и девять десятых миллиона экземпляров еженедельно, — сказал я.
Берти все еще фотографировал мальчика. Теперь он улегся в своей кожаной куртке и вельветовых брюках на дощатый пол и снимал Карела снизу, хотя тот, казалось, вообще не замечал его присутствия. Берти всегда был одет небрежно, если не было необходимости в смокинге или фраке в соответствии с заданием. В исключительных случаях он, хоть и редко, надевал галстук, а так в основном спортивные рубашки. Я, напротив, всегда был разодет, как картинка. В этот день на мне был коричневый костюм из тонкой шерсти, кремовая рубашка, подходящий модный галстук и коричневые туфли из крокодиловой кожи. Пальто из верблюжьей шерсти я оставил в машине.
— Исходя из моего опыта, каждый экземпляр прочитает не менее пяти человек. Значит, это составит ровно девять миллионов, — завел я избитую пластинку…
И тогда я увидел это в первый раз.
Фройляйн Луиза склонила голову слегка набок, ее взгляд стал каким-то рассредоточенным, она посмотрела через мое плечо и заговорила вполголоса, словно не для нас:
— Придите, я покажу вам долю великой блудницы, сидящей там, над водами, с которой блудили все короли и все властители земли и пьянели от вина ее и от блуда с нею. Так ли это? Что скажете?
Она напряженно всматривалась через мое плечо и слушала с приоткрытым ртом. Мне стало не по себе. Ее слова были необычны и бессмысленны. Кто-то вошел в комнату и стоял у меня за спиной? Я молниеносно обернулся.
Никого. За моей спиной никто не стоял. Ни души. Ни следа человека. Фройляйн Луиза говорила «вы», значит, она обращалась сразу ко многим. Это было невероятно. Это было похоже на сумасшествие. Она разговаривала с людьми, которых я не видел, которых там просто не было, и не могло быть! Я снова посмотрел на нее. Склонив голову, она все еще прислушивалась, потом тихо сказала:
— Они будут сражаться с ягненком. Но ягненок их одолеет. Вы точно уверены?
— Кто точно уверен? — спросил я громко.
Ее взгляд мгновенно прояснился, она как будто проснулась и тихо спросила:
— Уверен? В чем?
— Относительно ягненка, — ответил я.
— Какого ягненка?
— Это я у вас спрашиваю! Вы говорили о ягненке! И о других вещах. Вы сказали…
Фройляйн сделала шаг вперед, ее бледное лицо залилось румянцем:
— Ничего подобного я не говорила!
— Нет говорили!
— Нет! — воскликнула фройляйн взволнованно и, как мне показалось, испуганно.
— Я тоже слышал, — сказал Берти, все еще лежа на полу и продолжая фотографировать, сказал это с милой и простодушной улыбкой. Он так сконцентрировался на Кареле, что не заметил перемены, произошедшей с фройляйн, и не придал значения смыслу ее странных слов.
— Вам обоим послышалось, — заявила фройляйн Луиза. — Мы ведь слышим только земное. Пройдемте, пожалуйста, в кабинет, мальчику нужен покой. Прежде чем мы пойдем дальше, по лагерю, я приготовлю нам кофе и расскажу, что он пережил, бедный малыш. — С этими словами она вышла впереди нас, тяжело ступая на своих опухших ногах.
Берти поднялся с пола перед застывшим Карелом. Мы переглянулись через голову мальчика. Берти с улыбкой посмотрел вслед фройляйн и покрутил указательным пальцем у виска. В этот момент меня вдруг пронзило ослепляюще яркое чувство, что все не так просто с Луизой Готтшальк. Что это не просто заскок. За этим стояло что-то большее, большее и значительное. Среди прочего, благодаря своей высокооплачиваемой работе, я научился писать так, как это было нужно «Блицу». И так же благодаря этому у меня развился нюх на вещи и людей. И я почуял: здесь начинался след, хоть и уходящий во мрак, но, я был твердо уверен, ведущий к чему-то редкому и значительному. У меня закружилась голова. Мой «шакал» снова напомнил о себе. Где-то в отдалении он кружил вокруг меня. Меня слегка подташнивало. Я быстро достал из бокового кармана большую плоскую фляжку, отвернул крышку, сделал глоток «Чивас» и для надежности — второй.
— Эта штука тебя погубит, — сказал Берти.
— Ага, — сказал я и затянулся своей «Голуаз». «Шакал» испарился. Тошнота отступила. Головокружение тоже.
— В чем дело, вы не идете, господа? — позвала фройляйн Луиза из соседней комнаты.
— Идем-идем, — отозвался Берти. Он пошел к ней, а я уставился на шкаф, куда обращалась фройляйн, как будто перед ним стояло несколько человек. Уродливый дешевый шкаф из клееной фанеры, светлый, даже не прокрашенный. Никакой другой шкаф не мог быть более уродливым и дешевым. Просто шкаф и ничего больше. А я стоял перед ним и тупо пялился на него.
Вот так это началось. Так началось то, что скоро, очень скоро должно было стать историей моей жизни, самой значительной из всех историй, с которыми мне приходилось иметь дело, — болото лжи и обмана, с преступниками и предателями, с идеалистами, обманщиками, оборванцами и подлыми убийцами, с «послушными» органами власти и фальшивыми свидетелями, болото безграничной неправедности и убийств, совершенных с крайней жестокостью, воровства духовного и материального, целенаправленного, изощренного оболванивания и сознательного обмана масс, самого подлого шантажа и планов, которые, атакуя небо, безоглядно сея зло, разрушились над головами своих инициаторов.
Да, так это началось. Перед шкафом из клееной фанеры, убогим и даже не прокрашенным.
6
Тогда, в своем кабинете, фройляйн Луиза рассказывала нам историю Карела. С улицы из динамиков все еще доносилась радиомузыка, а потом и она кончилась, и только полуденное солнце ярко светило в пыльное помещение. Волосы фройляйн Луизы казались нитями из чистого серебра тончайшего плетения. До нас долетали голоса играющих детей и спорящих подростков. Множество языков. Мне в голову пришла одна идея.
— Фройляйн Готтшальк…
— Луиза, — сказала она просящим тоном. — Фройляйн Луиза. Так меня все называют.
— Фройляйн Луиза, ведь все воспитательницы живут вон в тех двух белых бараках, так?
Берти уселся рядом со мной и слушал. Его работа здесь закончилась. Так он думал в ту минуту, и я тоже, Боже мой.
— Ну да, — сказала фройляйн, — все другие воспитательницы, потому что они меня не любят. Меня здесь многие не любят. — И, насупившись, добавила: — Я их тоже терпеть не могу.
— Всех?
— Большинство. Некоторые мне очень нравятся, они хорошие люди! Господин Кушке, например. Это водитель лагерного автобуса. И господин доктор Шиманн, здешний врач. Или господин пастор Демель, евангелический священник. И его Преосвященство Хинкель. Это католический. Они мне очень нравятся! Особенно господин пастор. Может, потому что я евангелистка. Нет, — поспешно возразила она сама себе, — не поэтому. А потому, что он очень хороший человек. Его Преосвященство тоже хороший человек. Но мне ближе господин пастор.
А диктофон все записывал и записывал.
— Но это христианские священники, — сказал я. — А здесь есть дети и других религий…
Фройляйн Луиза рассмеялась.
— Да, это просто напасть, уж точно! Турецкие дети — мусульмане, греческие — православные… и так далее… а еще маленькие вьетнамцы… Но у наших священников доброе сердце, они понимают, что на небе есть только один Бог, и поэтому они любят всех детей и заботятся обо всех, независимо от их религии. Потому они мне так и нравятся, слуги Господни.
— А дети вас любят? — спросил Берти.
Фройляйн, сияя, кивнула.
— Дети? Ну конечно! Они — мои настоящие друзья, моя жизнь, да… Дети не такие злые, как взрослые…
— Вы всегда жили здесь, из-за того, что не ладите с другими воспитательницами? — спросил Берти.
На лице фройляйн Луизы промелькнуло беспокойное выражение.
— Нет, — ответила она. — Сначала я жила вместе с ними, в их бараках. Там у меня была своя комната. Просто не обращала внимания на этих баб. Двадцать лет там прожила. Двадцать лет! Все изменилось пять недель назад.
— Пять недель?
— Да, — сказала она. — Пока не привезли Карела. В тот день я переселилась сюда и устроила себе здесь комнату рядом с ним.
— Почему? — спросил Берти.
— Потому что… — Фройляйн запнулась. — Ах, там пошли сплетни и был большой скандал и… Но это, наверное, вам не интересно.
— Почему же, — возразил я, — еще как интересно!
— Ну, раз так, — проговорила, запинаясь, фройляйн Луиза, — другие воспитательницы пожаловались на меня.
— Пожаловались?
— Да. Сказали, что я… что я… что я очень странная.
— Странная?
— Не в том смысле странная. По-другому… слишком своеобразная. Так они сказали. Прежде всего эта Хитцингер. Хитцингер меня терпеть не может. Она плохой человек. Часто злится на детей. Сколько раз выводила меня из себя! Такие ни в коем случае не должны быть воспитательницами! Но эта Хитцингер настроила всех против меня… — ее слова перехлестывали друг друга, — …и натравила всех на меня, так что теперь меня никто не любит. — Она наклонилась над столом и доверительно понизила голос: — Знаете, тут против меня настоящий заговор.
— Не может быть! — воскликнул я.
— А почему? — спросил Берти.
— Они хотят от меня избавиться, — тихо и озабоченно сказала фройляйн. — Они хотят, чтобы я ушла. Ушла от моих детей! Можете себе это представить? А куда я без детей?
— А что за заговор? — спросил я. — Должна же быть какая-то причина, фройляйн Луиза.
— Ну да, эта Хитцингер со своими лживыми выдумками! Она рассказывает обо мне только ложь! Гадости! То, что она узнала от своей подруги Райтер. Ее тут больше нет, этой Райтер. Но Хитцингер здесь! И теперь они хотят от меня избавиться. Все! Даже господин доктор Шалль, начальник лагеря! Хотят отправить меня на пенсию. А мне всего шестьдесят два года!
— Не понимаю, — сказал я. — И что послужило поводом?..
Фройляйн Луиза меня не слышала, она провела рукой по глазам и с трудом проглотила слезы.
— Я уж и спать толком не могу от страха! Каждое утро для меня мука! Все время дрожу от мысли, что получу синий конверт.[14] И никто мне не поможет. Никто! Я совсем одна. И все они против меня…
Сначала тихо, но быстро нарастая, раздался свист новой группы пролетающих реактивных истребителей. Свист перерос в грохочущий рев. Оконные стекла дребезжали. Я подумал, что самолеты, должно быть, промчались прямо над бараком, и сразу после этого увидел их в окне. Я зажмурился. На глаза навернулись слезы от яркого солнца и от сигаретного дыма, но успел рассмотреть три «старфайтера», которые промчались совсем низко над нами и только вдалеке на правом повороте взмыли вверх, в ясную небесную высь.
Я чертыхался, пока нельзя было разобрать ни единого слова, а потом раздраженно сказал фройляйн Луизе:
— И как вы только выдерживаете!
— Я их уже не слышу, — ответила она. — На той стороне болота авиабаза бундесвера. У них всегда тренировочные полеты, когда погода такая хорошая. — Она со значением посмотрела на меня: — Я сказала, что никто мне не помогает.
— Это я слышал.
— Совсем никто. — Было видно, куда она клонит. — У такого человека, как вы, господин Роланд, конечно, много связей!
— Что вы имеете в виду?
— Ну, вы работаете в таком крупном издательстве. Две книги написали, наш господин пастор мне об этом вчера рассказал, когда вы позвонили и сказали, что приедете.
— Написал, десять лет назад, — сказал я. — Обе — ерунда.
— А господину пастору они понравились, — настаивала фройляйн. — Мне не удается много читать, у меня тут же начинают болеть глаза. Но господин пастор сказал…
— Перестаньте! — Где-то, пока вдалеке, показался этот проклятый «шакал». — Я не хочу знать, что говорит ваш господин пастор. Книги были дрянь, одна хуже другой!
— Что вы вдруг так рассердились? — испуганно посмотрела на меня фройляйн Луиза.
Я взял себя в руки. Упоминание об обеих книгах, которые я написал еще до прихода на работу в «Блиц», невольно напомнило мне о том времени и о… обо всем, что было потом. Берти сразу понял, он смотрел на меня с беспокойством. Он уже не улыбался.
— Извините, фройляйн Луиза, я не хотел вас обидеть, — произнес я с кривой усмешкой. — Мне сейчас как раз… — Это было свыше моих сил. — …нехорошо… мне жаль…
Я вытащил из кармана фляжку, отвинтил пробку, снова ухмыльнулся все еще испуганной, и к тому же удивленной фройляйн. Плевать. Мой «шакал». Мне еще работать. Эти книги достали меня. Те годы. Много лет. Много растраченных лет… Дерьмо!
Я сделал большой глоток.
— У меня не все в порядке с желудком, — объяснил я.
Мысли фройляйн Луизы путались, навязчивая идея не отпускала ее. Она вернулась к своим заботам:
— Вот и хорошо, что не хотели, господин Роланд. И вы, господин Энгельгардт, тоже, конечно, знакомы со многими людьми! Большими людьми! Богатыми людьми! У богатых людей сила и влияние! Может, некоторые из богатых людей могли бы мне помочь. Я обязательно должна остаться со своими бедными детьми!
Берти смущенно покачал головой со светлыми спутанными волосами над белой повязкой.
— Фройляйн Луиза, — начал я, — мы просто два репортера…
— Знаменитых репортера!
— …мы едем туда, куда нас посылают, — продолжал я, оставив без внимания ее реплику. — Мы фотографируем и пишем то, что от нас требуется. Да, мы действительно знаем многих людей, в том числе знаменитых, богатых, но они ничего не будут делать. Мы существуем для них, а не они для нас. Мы повсюду ездим и летаем туда, куда нас посылают. И сюда мы приехали, в этот молодежный лагерь, потому что нас послали. Но боюсь, мы ничего не сможем для вас сделать. Мы не можем вам помочь. Мы… — Я заметил, что все еще держу в руке свою фляжку, и что фройляйн на нее смотрит, и сказал нерешительно: — Могу вам предложить глоточек? В кофе?
— Это коньяк?
— Нет, виски.
— У-у! Однажды я его пила. По ошибке. На вкус как лекарство. — Фройляйн передернуло. — Нет-нет, спасибо, господин Роланд. Кофе… А что там у нас с водой? Она уже давно должна была… — Она встала и подошла к кастрюле на плитке. Наморщила лоб. Осторожно сунула палец в воду.
— Холодная! Как лед! — Вскрикнула она, сняла кастрюлю и подержала руку над плиткой. — Тоже холодная! Плитка сломалась! — Берти снова взялся за свой «Никон-Ф», она этого не заметила. Неожиданно она вышла из себя: — Нет, вы посмотрите! Не удивительно, что вода не греется! Спираль перегорела! — Берти все снимал и снимал. — Тут одна из тех снова брала мою плитку! Какая бесцеремонность! Когда мне необходим кофе! Жить они со мной не хотят, а плитку мою берут! Нет, черт возьми, я этого так не оставлю! Какое свинство! Я доложу об этом господину начальнику лагеря! — И потом это случилось снова, неожиданно, в одно мгновение, а в этот раз Берти среагировал правильно и продолжал снимать фройляйн, которая вдруг на полуслове прервала ругань, слегка наклонила голову и с тем странным туманным взглядом, приоткрыв рот, словно прислушиваясь, смотрела мне за спину три секунды, четыре. Берти фотографировал ее, мягко улыбаясь. Она обращала на это так же мало внимания, как прежде Карел, когда Берти суетился вокруг него. Она стояла, застыв, и слушала неслышимый голос. Я обернулся. Позади себя я увидел мрачную картину с горой костей и с крестом и печку-буржуйку, больше ничего. Ни души. Я снова повернулся. И тут фройляйн заговорила с картиной, тихо, не очень отчетливо:
— В смирении, да. И в покое. Ладно. Твои люди давали нам тогда хлеб и смалец, я же помню, я помню. А твои люди — хорошие армейские пайки. У вас была такая богатая армия, а русские были бедными, им самим толком нечего было есть, и все-таки… Да, и одеяла. Хотя все промерзло. В сильный буран это было, я точно помню.
На этот раз это проняло и Берти. Работая, он уже не улыбался. Я поднялся. Нельзя было так обращаться со старой женщиной, но в эту минуту я не рассуждал, а действовал инстинктивно. Я раздавил сигарету в пепельнице и очень громко произнес: «Фройляйн Луиза!»
Фройляйн замигала. Она заметила, что Берти ее фотографирует, и опустилась в кресло.
— Вы не имеете на это права, господин! Отдайте мне, пожалуйста, пленку!
— Мне жаль, но…
— Прошу вас!
— Нет! — сказал я непреклонно. — Сначала вы нам расскажете, с кем вы разговаривали и что все это значит.
Фройляйн Луиза закрыла лицо руками. Берти снова ее сфотографировал. Она не шевелилась. Потом прошептала: «Если сейчас появятся еще и эти мои фотографии, как я с… тогда конец, тогда уже конец всему…»
И тут, прямо в этот момент совсем близко раздался крик. Ужасный, полный муки, долгий крик. В нем уже не было ничего человеческого, в этом крике, он звучал как предсмертный крик большого зверя.
Фройляйн Луиза забыла обо всем, что ее только что так волновало. Забыла о своих опухших ногах. Она бросилась к двери своей комнаты, рывком распахнула ее и вбежала туда. Мы побежали следом. В комнате стоял малыш Карел. Его глаза были широко раскрыты, лицо перекошено и белое как мел. Изо рта текла слюна. Он снова завыл зверем, и еще раз. Это было жутко.
— Сахар, чистый сахар! — проговорил рядом со мной Берти с восторженной улыбкой. Он припал глазом к объективу своего «Никона-Ф» и щелкал без перерыва.
Карел выл и выл.
Фройляйн бросилась к нему и закричала ему что-то по-чешски. Он завопил в ответ, отрывисто, обрывками фраз, отдельными словами, тоже по-чешски. Он показал на окно. Глаза у него закатились, и были видны только белки. Труба, которую он прижимал к себе, упала на землю. Карел схватился за горло, захрипел и камнем упал на пол. Он лежал неподвижно с ужасно вывернутыми руками и ногами.
— Эта песня! — крикнула фройляйн Луиза.
И тогда мы с Берти тоже услышали мелодию «Strangers in the Night», которая звучала на улице из динамиков. Постепенно усиливалось печальное соло трубы.
— Он услышал свою песню! — прошептала фройляйн Луиза. — Свою песню! Ему показалось, что он снова стоит… и они придут и убьют его… Он…
— Что с ним? — Я поспешил к мальчику, опустился на колени и быстро его осмотрел. — Потерял сознание.
— На кровать! — воскликнула фройляйн. — Положите его на мою кровать! Я позову доктора Шиманна… — Она заторопилась в соседнюю комнату, в свой кабинет. Я хотел поднять Карела.
— Минуту, — сказал Берти со спокойной улыбкой. — Отойди-ка в сторону. Мне нужно сделать еще пару снимков, как он сейчас лежит. Подожди, я возьму цветную пленку. Это годится даже для обложки. Это именно то, что выжимает слезу. — Пока он вкладывал пленку в свой «Хасселблад», я слушал, как фройляйн в соседней комнате говорит по телефону.
— Выключить музыку! — кричала она в трубку. — Выключить!.. Потому что я вам говорю! Потом объясню! Нет, возможно! Спасибо… — Музыка внезапно оборвалась. На мгновение повисла какая-то нереальная тишина. Потом снова донеслись голоса детей с улицы и голос фройляйн, которая набрала другой номер: — Алло! Это фройляйн Луиза… Мне нужен господин доктор… Кто? Кто это? Ах, сестра Рита… Что, уже? О, Господи… Нет-нет, я понимаю… — Берти снова принялся за работу. Я отошел в сторону. Он снял лежащего без сознания Карела шесть раз под разными углами, в цвете, а потом еще три раза на черно-белую пленку «Никоном-Ф». Тут можно не сомневаться — это обязательно выжмет слезу. К тому же Берти так положил трубу, чтобы она эффектно выглядела на снимке. Точно выжмет слезу. Они всегда хнычут, когда видят нечто подобное. Пища для масс, прежде всего для женщин.
— Старина, старина, какая удача, — шептал Берти.
— …Да, хорошо, я понимаю… Пусть он позвонит, как только освободится, пожалуйста, — доносился из соседней комнаты голос фройляйн Луизы.
— Готово, — сообщил Берти. — Положу мальчика на кровать и открою окно. Небольшой обморок, ничего страшного. — Он был самым мягким человеком на свете, но, когда дело касалось его профессии, становился беспощадным и бесчувственным. Я видел, как заботливо он поднял Карела. При этом обе камеры, которые висели у него на шее, начали раскачиваться. — Помоги мне, — попросил Берти.
Я помог.
Возле кровати стоял столик под ночной лампой. На столике — будильник, я увидел упаковку таблеток снотворного и раскрытую книгу. Пока мы укладывали Карела и поворачивали его голову набок, чтобы он не подавился языком, я бросил взгляд на раскрытую страницу, где были пометки красным карандашом. Я заложил пальцем книгу и посмотрел на обложку. Шекспир. Собрание сочинений. Том 3-й. Значит, она все-таки читала. А как же ее глаза, которые сразу начинают болеть? Я снова раскрыл книгу на странице, где были пометки. «Буря». 4-й акт. 1-я сцена. Просперо:
…Окончен праздник. В этом представленье Актерами, сказал я, были духи. И в воздухе, и в воздухе прозрачном, Свершив свой труд, растаяли они…[15]Мне не удалось прочитать дальше, так как прямо у меня за спиной раздался голос фройляйн:
— Ну, как он?
Я опустил книгу на столик как можно незаметнее.
— Ничего страшного. Он скоро придет в себя… — Я открыл окно. Берти расправил шерстяное одеяло, которое лежало в ногах, и укрыл мальчика.
— А где доктор? — спросил я.
— У Панагиотопулос. У гречанки.
— А что с ней?
— Рожает. Но преждевременно. Слишком преждевременно! Только бы все прошло хорошо!
Карел слегка пошевелился и застонал. Фройляйн Луиза присела на край кровати, погладила его заострившееся лицо и ласково заговорила с ним по-чешски. Он еле заметно кивнул, потом закрыл глаза.
— Очень хорошо — свежий воздух. Ему уже лучше, — сказала фройляйн.
— Здесь рождается много детей? — спросил я.
— Вы представить себе не можете, сколько их уже родилось за последние двадцать лет! Некоторые девушки поступают сюда уже на девятом месяце.
В кабинете зазвонил телефон.
Фройляйн Луиза поспешно направилась туда. Я пошел за ней следом. Берти остался возле Карела. Тот опять открыл глаза. Они были огромные. Мальчик дрожал. У Берти снова была работа…
Когда я вошел в кабинет, фройляйн уже говорила по телефону.
— Центральная станция?.. Что случилось?.. А-а, телеграмма для Хроматки… — Я напряженно прислушивался. Во мне все больше крепло чувство, что я приземлился в другом мире. И это чувство должно было еще больше укрепиться, о, в тысячу раз! Другой мир! Параллельный мир!
— Откуда на этот раз?.. Пльзень через Лейпциг, мило, мило, — проговорила фройляйн, и теперь ее голос звучал жестко. — И что? Кто на этот раз умирает?.. Мать. Так-так. Прекрасно. Ни в коем случае ничего не говорите Хроматке. Католики уже знают? Хорошо, тогда они об этом позаботятся. Спасибо. — Она положила трубку.
— Какая мать умирает? — спросил я ошеломленно.
— Скорее всего, вообще никакая, — ответила фройляйн Луиза.
— Но только что по телефону…
— Нашим ребятам уже давно приходят сюда фальшивые телеграммы. Это давняя история. Первой начала ГДР, и другие страны быстро освоили эту методу.
— Какую методу?
— Ну, с фальшивыми телеграммами! Чтобы дети вернулись домой. Потому что кто-нибудь умирает. Мать. Тетя. Старшая сестра. Брат.
— Или отец, — добавил я.
— Нет, никогда, — сказала фройляйн Луиза. — Его-то они и хотят заполучить обратно.
— Не понимаю, — сказал я.
На улице теперь, играя, припевали немецкие дети: «Пусть разбойники пройдут…»
— Это же так просто! Часто сначала бежит отец, потом дети, потом мать. Если семьи большие, то сразу всем не получится. А телеграммы, кстати, всегда получают только дети врачей…
«…по мосту златому…»
— …или ученых, или политиков и так далее. Раньше мы отдавали телеграммы детям, сразу же. Это было большой ошибкой и приносило много несчастья. Теперь мы всегда сначала устанавливаем, правда ли то, что в телеграммах.
— Как вы можете это установить?
— Церкви поддерживают связь, по крайней мере, хоть они. У них везде есть свои люди. И возможность договориться и проверить. Быстро. Но в то время дети не выдерживали те один-два дня проверки, убегали от нас и — раз — назад в свою страну. А их там потом сажали. Что делать отцу? Конечно, уезжал обратно.
— Милая метода.
— Да уж, — сказала фройляйн. — С другой стороны, возьмите, например, ГДР. От них сбежало столько врачей, что это стало для них катастрофой. Вы считаете, врач хорошо поступает, когда бросает своих больных? Бедные люди, говорят о праве и бесправии, а смысла не понимают. Все земное и все суета. Только мысль человеческая не может это вместить. Услышаны будут страждущие, сытым не обрести блаженства. Знаете, я уже давно никого не сужу. Мое дело — защищать детей. Дети не отвечают за то, что творят взрослые, дети не должны страдать. — Последние слова фройляйн Луизы заглушил шум. — Ну, что там опять?
Мы поспешили к окну. Фройляйн Луиза распахнула его. Далеко, на другой стороне огромного лагеря, у входных ворот, я рассмотрел в свете заходящего солнца большую толпу: дети, молодежь, взрослые. Я увидел лагерных полицейских — пожилых мужчин в униформе охранников — стройного молодого человека, коренастого здоровяка в комбинезоне, обрюзгшего толстого мужчину в сером пальто и девушку с черными волосами. Дети кричали, мужчины матерились. Здоровяк в комбинезоне выхватил дубинку у одного из казавшихся совершенно беспомощными лагерных полицейских и сбил ею с ног толстяка. Девушка кричала как резаная, я не мог разобрать, что именно.
Через кабинет, прихрамывая, пробежал Берти.
— Настоящий сумасшедший дом! — прохрипел он восторженно и уже мчался по бетонным дорожкам и бурому вереску с камерой в руках.
Фройляйн Луиза закричала срывающимся голосом:
— Индиго! Индиго… Ирина Индиго!
Верно, девушку звали Индиго, потому что она обернулась к нам.
— Немедленно идите сюда! — крикнула фройляйн.
— Нет! — закричала в ответ девушка. — Я хочу уйти! Я хочу уйти! — Она попыталась бежать.
— Господин пастор Демель! — крикнула фройляйн.
Молодой человек в черном костюме схватил девушку по имени Индиго за руку.
Толстяк быстро вскочил на ноги и вырвался. Он ударил здоровяка в живот и развернулся, отчаянно пытаясь пробиться к лагерным воротам. Двоих мужчин он оттолкнул в сторону, третьего ударил кулаком в лицо. Я уже думал, что ему это удастся, но тут здоровяк в комбинезоне накинулся на него сзади и еще раз дал ему по черепу дубинкой. Толстяк упал. Мужчина в комбинезоне рывком поднял его на ноги.
— Господин Кушке! — изо всех сил закричала фройляйн.
Здоровяк повернулся к нам. Низким голосом с сильным берлинским диалектом он прогудел:
— Все нормально, фройляйн Луиза. Все путем!
Он и один из полицейских схватили толстяка, который громко ругался, — ему явно было больно. Тут господин Кушке ухватил его покрепче, чтобы усмирить, — тот все еще сопротивлялся и пытался вырваться.
— Приведите Индиго ко мне, господин пастор! — крикнула фройляйн Луиза. — И этого мужчину тоже!
— Не хочу! Не хочу! — кричала девушка по фамилии Индиго.
Пастор, которого фройляйн причисляла к своим друзьям и к «хорошим» людям, повел упирающуюся девушку в сторону нашего барака. Лагерный шофер, берлинец Кушке, тоже один из друзей фройляйн, причисленный ею к «хорошим» людям, схватил толстяка за шиворот и заломил ему руку за спину. По толстяку было видно, как ему не по себе. Они быстро приближались, вся группа. А вокруг них прыгал Берти на своей хромой ноге, туда-сюда, с поднятой камерой, и снимал, снимал.
7
Франкфурт. Кассель. Гёттинген. Ганновер. Бремен. Четыреста шестьдесят шесть километров по автобану.
Рукой подать для «Ламборджини 400 GT». Это моя машина. Белый «Ламборджини 400 GT». С двенадцатью цилиндрами, в экстра-исполнении. Рабочий объем двигателя — 3930 куб. см. Компрессия — 9:1. Мощность — 330 л.с. по стандарту DIN[16] при 6500 оборотах двигателя в минуту. Двойной карбюратор. Бак на 80 литров. Максимальная скорость 250 км в час. Двухместный. Это еще к теме снобизма.
Мы выехали из Франкфурта в семь часов утра, Берти и я. У него, как всегда, был рюкзак, у меня большой чемодан, а костюмы висели на плечиках, у бокового стекла автомобиля. Мы не знали, как долго пробудем в дороге и куда попадем. Поэтому я уложил с собой три большие бутылки «Чивас» и наполнил фляжку.
Когда мы, наконец, выехали из перерытого, погруженного в хаос Франкфурта, на автобане еще лежала густая мгла и мне приходилось ехать осторожно, с включенным ближним светом, как и все другие машины. Становится не по себе и появляется какое-то мерзкое чувство от такой вот езды с зажженными фарами, когда уже светло и в то же время толком ничего не видно. Вот и сейчас: все проплывало мне навстречу, мимо меня, как в кошмарном сне, как в каком-то нереальном мире.
Вот! Я и написал это!
Около половины девятого прояснилось, выглянуло солнце, и я нажал на газ. И все-таки мы добрались до своего отеля в Бремене только в двенадцать часов тридцать минут. До «Парк-Отеля», конечно. Поскольку ничего лучшего не было. Девочки из секретариата знали, что́ нужно заказывать для меня. Всегда самое лучшее из лучшего. После продолжительных сражений мне удалось убедить издателя в том, что лучше всего я пишу в обстановке максимально возможного комфорта. Особенно о нищете и нужде, с чем мы и должны были столкнуться в «Нойроде». Ради этого они нас сюда и прислали. У человеческого несчастья и страдания тоже ведь есть своя продажная цена. На этот исключительный случай у издателя Херфорда были свои виды, и поэтому именно нам, двум асам, выпало ехать в «Нойроде».
В «Парк-Отеле», где меня встретили как родного сына, как, впрочем, и во многих других отелях высшего класса по всему миру, мы съели у стойки бара несколько бутербродов и поехали дальше на север. Мы хотели успеть поснимать при солнечном освещении. И что-то подсказывало мне, что нам нужно торопиться. Это «что-то» меня никогда не обманывало.
Берти проспал до Бремена, он только накануне вернулся из-за океана. Я дал ему подремать. У меня была одна странность: в своей машине я всегда чувствовал себя великолепно. Тут мне никогда не было плохо. Тут мне никогда не было противно. Тут я был счастлив. И я не выпил до Бремена ни глотка. Только потом, в баре отеля, — два двойных виски. Но вообще-то лишь потому, что чувствовал себя прекрасно, — никакой другой причины не было.
Я ехал по второму, ведущему с запада автобану А-11 в направлении Гамбурга. Из Бремена иначе не получалось. Автобан А-10 проходил через Ганновер намного восточнее. Светило солнце, и стало так тепло, что я мог откинуть верх. Я доехал до съезда с автобана на Бокель и оттуда по федеральной дороге 71, которая еще была в приличном состоянии, мимо Вельдорфа и Брюттендорфа до Цевена. Дома в этих городках, крытые красной черепицей, с выкрашенными в белый цвет дверями и оконными рамами, располагались всегда вдоль дороги. Белыми были и балки в кирпичной кладке.
За Цевеном началась ужасная дорога. Такой дерьмовой трассы я раньше никогда не видел. Никакой разметки, сплошные выбоины, такие виражи, что приходилось до упора выворачивать руль. Дальше — хуже. Теперь это вообще уже была скорее проселочная дорога для телег! Через каждые пару сотен метров слева или справа по молодой поросли были проложены глубокие колеи — объезды на случай встречного транспорта. Но никакого встречного не было.
Поселки становились все меньше и выглядели все более унылыми. Иногда всего дюжина домов, да и того меньше. По краям — заросли дрока и других колючих кустарников да скелеты ив, изогнутые и безобразные. Дальше за ними, по левую сторону, кустарники и тростник. Заросли тростника. Заросли кустарников. На расстоянии примерно с пол километра начиналось болото, которое, похоже, вообще нигде не кончалось. Огромные пустоши, покрытые бурой луговой травой. Все остальное — уже отцветшее и сгнившее. То там то тут проблескивала вода, бурая и черная. Я чувствовал ее запах. Пахла она приятно. Но местность становилась все безотраднее. На болоте во многих местах вырублены и сложены высокими штабелями куски торфа. И повсюду белые с черным березы, черная ольха и сучковатые ивы — без конца.
Позади остались три деревни — да какие там деревни, горстка скучившихся домов! Одна меньше другой. Церковь. Лавка. Постоялый двор. Конец. И опять бескрайность болот. Мне пришлось сбросить скорость до пятнадцати километров, машина прыгала по колдобинам.
— Вот по этой дороге они возят молодежь, — сказал Берти, сделав пару снимков местности. — Бедный лагерный шофер. Здесь на автобусе! Лагерь просуществует еще долго, судя по тому, как идут дела в мире. Так хоть бы дорогу привели в порядок!
Еще кучка домов. И сразу за ними болото, за кустарниками и тростником.
— Вот эти колючие кусты — можжевельник, — сказал Берти. Он интересовался природой. Я — нет. — Вот эта полоса от дороги до болота относится еще к песчаной местности, которая справа от нас, это нанос из ледникового периода, он лежит здесь немного выше болота и ограничивает его. Вообще, это верховое болото.
— А что еще тут есть? — спросил я, пытаясь ехать как можно осторожнее, чтобы поберечь свой «Ламборджини». Я чувствовал сердечную привязанность к своему «Ламборджини». Мало о ком из людей я мог бы это сказать.
Тема увлекла Берти. Он рассказывал о низинных болотах, которые возникали там, где открытые водоемы заносились почвой, и о флоре верхового болота. Помимо луговых трав, там было много разных интересных растений, в том числе насекомоядных (Берти рассказывал мне все это с явным удовольствием): три вида росянки, два вида пузырчатки и один вид мухоловки. Я ему верил. Когда-то он хотел стать естествоиспытателем. Я — юристом. В обоих случаях обучение прервалось.
— Там, где есть торф, в большинстве случаев будет верховое болото. В отличие от низинного болота, верховое медленно растет вверх. — Я, во всяком случае, ничего такого не видел. В некоторых местах вид закрывали полосы тумана, и солнце не могло туда пробиться. Мне еще не приходилось бывать в такой унылой местности. — Верховое болото — выпуклое, как стекло на часах, — продолжал Берти. — Там, где часто идет дождь и высокая влажность, испарение крайне ограничено, там на бедной питательными веществами кислой почве хорошо растет торфяной мох. Торфяной мох формирует болото. Он называется сфагнум…
Я следил за колдобинами, а Берти рассказывал мне, что нежные растения торфяных болот густо разветвлены и плотно усеяны листьями:
— Стебли мхов, — говорил Берти, — постепенно отмирают в их верхней части, а внизу продолжают расти, при этом веточка пониже верхушки ответвляется и становится таким же крепким стебельком, как материнский побег, вполне самостоятельным. Листочки торфяного мха способны в больших количествах и на длительный период накапливать необходимую для их жизни воду, а торфяные подушки всасывают воду, как губка. Мох сфагнум может впитать в себя в пятнадцать-двадцать раз больше своей собственной сухой массы. (Берти в свое время явно увлекался преимущественно ботаникой!) Если ты сожмешь в руке клочок зеленого мха, то после этого он выглядит серо-белым, потому что теперь вместо воды в большие накопительные ячейки проник воздух… А что свойственно отдельной торфяной подушке, то же свойственно и всему болоту: подушки растут в стороны и вверх, сливаются, и с течением времени возникает выпуклое верховое болото. Такое верховое болото, как подсчитано, растет вверх на один-два сантиметра в год. Но по этому признаку, однако, ты не сможешь вычислить его возраст, так как с увеличением глубины торфяные слои все больше спрессовываются. Можно считать, что один миллиметр высоты соответствует одному году. Таким образом, торфяник в шесть метров толщиной откладывался в течение пяти-шести тысяч лет.
— Странно, — сказал я. — Смотри-ка…
— Что? — спросил Берти.
— Уже, наверное, с километр я не вижу штабелей торфа! Только болота, вода и эти полосы деревьев на них. Здесь что, больше не добывают торф?
— Видимо, нет, — ответил образованный Берти. — Уже нет. Значит, этот участок истощился. Тут больше нечего добывать. Тут уже ничего нет, кроме, разве что, трупов…
— Каких трупов? — оторопел я.
— Людей, которые упали туда или были сброшены. Ты еще никогда не слышал о болотных трупах?
— Может быть. Но не помню.
— Ну, это…
— Что там с ними?
— Они не разлагаются.
— Хочешь сказать, что выглядят, как при жизни?
— Болотные трупы, которые находили, именно так. Абсолютно законсервированы. И одежда тоже. В Шлезвиге нашли несколько еще из бронзового века!
— Как это законсервированы?
— Почвенные кислоты дубят тело и одежду и препятствуют любому разложению и любому распаду, — пояснил Берти.
В первый раз мы говорили о трупах. Поэтому я так подробно и передаю описания Берти, касающиеся верховых болот.
Трупы — да, тогда мы впервые говорили о них в мягком свете солнца на убогой дороге в «Нойроде», в прекрасный ноябрьский полдень. И не имели ни малейшего понятия о том, что на нас надвигалось. Голые ольхи и березы упирались в синее небо.
8
«Нойроде» показался после крутого поворота, с дюжиной-двумя домов. Почва здесь была покрыта тонким слоем кирпично-красной пыли. Мы проехали мимо двух ресторанчиков и нескольких магазинов и снова оказались на той же дороге для телег. Табличка с облупленными буквами извещала: «Молодежный лагерь — 1 км». Его мы тоже преодолели. Местность здесь даже днем была такой, что я сказал:
— Слушай, Берти, если бы я ехал тут ночью и захотел по нужде, то не решился бы остановиться и выйти. Лучше бы наделал в штаны.
— Пожалуй, пожалуй, — отозвался Берти. — Опасно находиться на краю болота и тем более идти через него. Слишком легко нога погружается в сырой мох, коварно блестит вода в бледном свете луны, блуждающие огни манят путника в сторону от твердой насыпи, в бездонную пучину, вниз, вниз…
— Кончай, — сказал я. — Вон там, впереди, возле стрелки. — Я доехал до второго указателя, и резко повернул налево. Здесь болото отступало, песчаная полоса широким языком вклинивалась в болото, и с трех сторон окруженный болотом лежал молодежный лагерь «Нойроде». Широкая короткая дорога, асфальтированная (!), вела ко входу. Берти присвистнул, я тоже был немало удивлен.
Ну, во-первых, это был огромный лагерь! Я и не представлял себе, что он такой большой. Казалось, ему вообще не было конца. Между бараками — площадки. И бараки, бараки! Их невозможно было сосчитать, столько их было. И еще: все это было чертовски похоже на концентрационный лагерь. Он был окружен высокой проволочной оградой, которая в верхней части была с наклоном внутрь и со множеством рядов колючей проволоки. Вышки с прожекторами, которые сейчас, конечно, не горели. Шлагбаумы. Загородки. Асфальтированная дорога вела к очень широким закрытым решетчатым воротам. Только калитка рядом была открыта. Прямо за ней находился, видимо, барак для охраны.
Но самое необычное: на большой площадке перед входом на бурой луговой траве стояло, наверное, дюжины две автомобилей. Дорогие и очень дорогие, большие и очень большие. «Мерседесы». «Дипломаты». «Шевроле». «Бьюики». «Форды». Очень много американских моделей.
— Что тут творится? — спросил я, паркуя свой «Ламборджини» на стоянке рядом с какой-то допотопной моделью.
Мы вышли из машины. Берти прихватил камеры и кучу пленок, которые сунул в свою кожаную куртку. Я взял диктофон и блокнот, и мы двинулись к лагерю.
Вдоль ограды, растянувшись метров на триста-четыреста, если не больше, стояли владельцы машин, мужчины и женщины. Многие из женщин были в мехах — леопард, ягуар, норка, каракуль. Это были благородные дамы, на руках у них блестели украшения. Большинство мужчин были в темных костюмах, многие — в модных шляпах, белых рубашках и нарядных галстуках. Публика из высшего света. Все эти господа стояли вдоль внешней стороны ограды. Вдоль внутренней стороны стояли молодые люди, парни и девушки примерно от пятнадцати до восемнадцати лет. Часть из них тоже была одета в дорогие костюмы (еще со времени побега), на других была спортивная форма или пуловеры, или простенькие платьица.
Через частую сетку ограды шли оживленные переговоры. Дамы и господа говорили что-то девушкам и парням, яростно и страстно жестикулируя. Молодые люди внимательно слушали. Я попытался прислушаться, чтобы понять, что там говорилось, но по мере моего приближения разговоры смолкали, и посетители смотрели на меня изучающе и враждебно. Среди мужчин я заметил немало весьма сомнительных типов, несмотря на их элегантные костюмы и пальто. А по другую сторону ограды — девушек — беленьких, рыженьких, черненьких, целую кучу девушек! Настроение у меня упало. Берти фотографировал. Один из типов вдруг обернулся, заметил, что Берти собирается его снимать, прикрыл руками лицо и крикнул:
— Вали отсюда, парень, пока не схлопотал по морде!
— Милые люди, — сказал Берти.
— Что здесь происходит? — спросил я.
— Пошли, узнаем.
Мы вошли на территорию через калитку. На больших воротах висела табличка: «Посторонним вход в лагерь строго воспрещен!» Мы не сделали и трех шагов, как перед нами, словно из-под земли, вырос лагерный полицейский.
— Добрый день вам, господа. Куда направляетесь? — это был пожилой, болезненного вида мужчина.
Я достал свое удостоверение прессы. Поскольку я заранее звонил относительно нашего приезда начальнику лагеря, некоему господину доктору Хорсту Шаллю, тот выдал нам разрешение на посещение лагеря, интервью и съемки.
Охранник окинул внимательным взглядом Берти и меня, снова заглянул в наши удостоверения, и когда я объяснил ему, что нас ждут, он кивнул.
— Вы приехали по поводу чешских детей?
— В основном, но не только.
— Прошу вас следовать за мной, — сказал он и пошел впереди в караульный барак, в котором сидели еще трое охранников, ответивших на наше приветствие. Всем было далеко за пятьдесят. Первый позвонил по телефону. Они были с нами вежливы и корректны. Нам предложили присесть и сказали, что сейчас кто-нибудь придет и проведет нас по лагерю.
Через шесть минут появилась фройляйн Луиза Готтшальк.
— Благослови вас Бог, господа, — сказала она и приветливо улыбнулась нам, после того как мы познакомились. — Поскольку господа интересуются прежде всего чешскими детьми, то послали меня. Я-то как раз и занимаюсь чешскими детьми. — Она недобро усмехнулась. — Поэтому я здесь. А то бы вам прислали кого-нибудь другого. Прошу вас за мной. Сначала я вам немного покажу, как он вообще выглядит, наш лагерь.
Последние слова можно было расслышать с трудом, так как в эту минуту над нами на бреющем полете пролетела первая с нашего приезда эскадрилья реактивных истребителей, с таким ревом, что земля дрожала.
9
В течение следующих двух часов фройляйн показывала нам лагерь. Конечно, не все, но очень многое. Лагерь поддерживался и управлялся Красным Крестом, а также Каритас,[17] Внутренней Миссией, обеими церквями[18] и Рабочим благотворительным обществом. Перечисления поступали из Бонна. Правда, по мнению фройляйн Луизы, этого было явно недостаточно, чтобы сводить концы с концами.
Невидимый радиоприемник передавал через громкоговоритель развлекательную музыку. Мы видели молодых людей и детей многих национальностей. Маленькие играли с воспитательницами или одни, старшие ходили от одного ведомства к другому, которые имели здесь своих представителей, или спорили с серьезным видом, прогуливаясь по потрескавшимся бетонным дорожкам, окаймленным облетевшими березами и голой черной ольхой.
Бараки все походили друг на друга — деревянные, длинные, приземистые. Они были свежеокрашены, но, если войти внутрь, было видно, что они очень старые. Стояла вонь от многих-многих лет и многих-многих людей, та вонь, от которой невозможно избавиться, как бы дочиста ни было все оттерто.
Существовали два лагеря — для девочек и для мальчиков. Мы видели общие комнаты, спальни (с нарами в три этажа, как на корабле), столовые. Все было аккуратно прибрано, букетики цветов, на стенах пришпиленные булавками кадры из фильмов или картинки с девочками, собственные рисунки воспитанников. У малышей — игрушки.
Все, с кем мы встречались, вежливо здоровались. Берти фотографировал. Я слышал много языков. В одном из помещений мы обнаружили девочку, которая в совершенном одиночестве сидела у стола. Она положила руки на стол, а голову на руки и беззвучно плакала. Берти, конечно, ее сфотографировал. Девочка нас вообще не заметила.
Да, все было очень аккуратно, но пахло отчаянием и нищетой, неприкаянностью, сырой одеждой и невыразимой печалью. Шлейф этой печали висел над всем лагерем.
У входной двери каждого барака висели списки названий готическим шрифтом. Я прочитал: «Восточная Пруссия. Земля Мемель. Западная Пруссия. Данциг. Позен. Кенигсберг. Штеттин. Верхняя Силезия. Герцогство Бранденбург. Саксония. Тюрингия. Мекленбург». Под названиями были нарисованы гербы провинций и городов — явно уже давно, так как краски совсем стерлись. На многих бараках были старые и новые названия тех областей, которые после войны отошли Советскому Союзу, Польше или ГДР. Конечно, в них жили в основном дети из Польши или из ГДР, но также и подростки из многих других стран.
Нам все время встречались девочки. Мне показалось, что девочек было больше, чем мальчиков. Или, может быть, мне так только показалось, потому что среди девочек было так много хорошеньких? После войны в мире выросло целое поколение симпатичных девушек. Их можно было встретить даже здесь. Почти все девушки были сдержанны, лишь немногие нам улыбались. Мальчики держались проще.
Здесь была и довольно большая церковь, полностью деревянная, с высокой открытой колокольней на четырех столбах, так что наверху можно было видеть колокола. Внутри было холодно. Берти сфотографировал маленького мальчика, который заснул, молясь на коленях перед алтарем.
Фройляйн Луиза торопливым шагом шла впереди нас и все нам объясняла.
Она объяснила нам технологию экстренного приема и сводила к представителю органа власти по этой процедуре. У него как раз были какой-то чех и переводчик. Такой процесс был долгим и трудным делом, с оформлением целой кучи бумаг. «Но так надо», — объяснила фройляйн. Она сводила нас к представителю бюро по трудоустройству, на станцию дезинсекции и в барак, где все дети сразу по поступлении проходили полное медицинское обследование. Фройляйн отвела нас к представителям Ведомства по охране конституции. Здесь за письменным столом сидели двое мужчин и беседовали с испанцем и греком. Мужчины говорили на этих языках. Как только мы вошли, они замолчали. Эти господа были немногословны. И, кроме того, они не разрешили Берти здесь фотографировать. Во всех других местах было можно, а здесь — нет.
Одного из господ этого ведомства звали Вильгельм Рогге, другого Альберт Кляйн.[19] По крайней мере, так они представились. Кляйн был крупным и толстым, Рогге был худым и в очках с очень толстыми стеклами.
Я понимал по-испански и спросил, не могу ли я участвовать в разговоре с молодым испанцем.
— Нет, — отрезал Рогге. — Исключено.
— Если вы уже огляделись, то мы бы просили вас покинуть кабинет, — сказал Кляйн. — У нас масса работы.
— Послушайте… — начал я.
— Прошу вас, — сказал Кляйн.
С Ведомством по охране конституции ничего не поделаешь. Без прикрытия тут нельзя. Я выразил это вслух. Господа Кляйн и Рогге улыбнулись, вежливо и непринужденно.
Фройляйн Луиза продемонстрировала нам кабинет Каритаса, кабинет Рабочего благотворительного общества и кабинет лагерного психолога. Показала нам два белых барака, в которых жили воспитательницы. Сводила нас в большую кухню общины, где девочки в синих передниках чистили картошку. Повела нас в медицинский барак. Врача в тот момент на месте не было, но мы увидели, что барак был очень хорошо оснащен медицинскими приборами, аппаратурой, медикаментами и располагал помещением, в котором был даже операционный стол. Фройляйн Луиза проводила нас на коммутатор лагеря. Там сидела симпатичная девушка перед древним распределительным шкафом и вставляла штепсели. Ее звали Вера Грюндлих, и я с ней немного пофлиртовал.
Мы хотели поговорить со взрослыми, с детьми и подростками. Фройляйн Луиза привела двух переводчиков, владеющих всеми языками, на которых здесь говорили. Мы попросили детей и молодых людей рассказать, почему они бежали. Причины всегда приводились политические. Диктофон записывал, микрофон я держал в руке.
— Не всегда политические, — шепнула мне фройляйн Луиза. — Довольно часто что-нибудь другое, но им нужно говорить, что по политическим, чтобы в процессе приема их признали политическими беженцами, понимаете?
Потом, примерно через два часа, фройляйн Луиза высказала желание показать нам свой рабочий кабинет. Мы пошли по луговой траве в сторону барака на задах лагеря.
— Там я обретаюсь, — сказала фройляйн Луиза.
Мы прошли мимо высокой мачты с флагом, которая стояла в середине огромной потрескавшейся бетонной площадки. Когда-то это явно был плац для построений.
— Сколько лет лагерю? — спросил я у фройляйн Луизы.
Она не ответила. Я спросил еще раз. Она, кажется, снова меня не услышала.
— Сколько у вас тратится денег на одного ребенка в день? — спросил Берти.
— Две с половиной марки, — без запинки ответила фройляйн. На этот вопрос она отвечала с готовностью. — На одежду, питание, постель, карманные деньги, зимой отопление, вообще на все. Негусто, правда?
— Да уж, — с улыбкой согласился Берти. — Негусто.
— Взрослые — в двух других лагерях, у них приходится только по две марки сорок пфеннигов в день на человека. А мои дети получают здесь на десять пфеннигов больше.
Она сказала «мои дети».
Две с половиной марки в день на человека!
А в шестидесяти километрах отсюда Берти и я сняли в «Парк-Отеле» две комнаты с ванной, каждая из которых стоила восемьдесят пять марок в день. Только комната. Только проживание. И «Парк-Отель» был даже ближе шестидесяти километров.
Мы подошли к бараку фройляйн Луизы. Позади него открылся плотный ряд черных ольховых стволов, а дальше опять высокая ограда с колючей проволокой и прожектора на мачтах.
— Здесь лагерь кончается? — спросил я.
— Там, сзади, да, — ответила она.
— А что за оградой?
Она опять не ответила.
Я повторил вопрос. Ответа не было. И тут я увидел сам.
По ту сторону высокой ограды с колючей проволокой лежало зловещее, бесконечное, сейчас уже большей частью покрытое туманом болото.
10
Дверь кабинета фройляйн Луизы распахнулась.
— Вали сюда, в этт славную комнатку, — прогудел лагерный шофер Кушке на своем забавном берлинском диалекте. На его добродушном лице проступало свирепое выражение. Вместе со старым, нетвердо стоящим на ногах лагерным полицейским он втолкнул перед собой толстяка.
— Руки прочь, вы, пролетарии! — шумел толстяк, у которого под серым пальто был светло-голубой костюм, розовая рубашка, фривольный галстук и который пах сладковатой косметикой. У него был напевный женский голос, сам он был мягкотелым и округлым, скользким и неприятным. — Вы еще пожалеете! У меня друзья в Гамбурге! В том числе старший советник в руководстве города! Я ему расскажу, какие тут царят порядки.
— Ну, морда, — сказал Кушке. — От вам этт жаба, фройляйн Луиза. И Индиго мы вам тоже привели. Хотела удрать с этт жабой.
В эту минуту в кабинет, в сопровождении пастора Демеля, вошла девушка по фамилии Индиго. Она была вне себя от ярости. Очень молодой пастор, в черном галстуке и с короткой стрижкой, мягко успокаивал ее, но попусту. Индиго заорала фройляйн Луизе:
— Я тут больше не выдержу! Мне надо уйти отсюда! Уйти отсюда!
Подошел Берти. Теперь он фотографировал «Хасселбладом». Очень тихо он спросил у меня:
— А кто этот толстяк?
— Понятия не имею.
— Я его знаю.
— Что?
— Я его знаю! Я его знаю… — Берти уставился на толстяка. — Черт меня побери, если бы только знал, откуда! — Берти почесал на затылке.
Тем временем фройляйн Луиза накинулась на девушку. Она нападала на нее на удивление резко, особенно если принять во внимание, какой дружелюбной она была до сих пор. Но потом я вспомнил, как она взорвалась из-за испорченной электроплитки. Похоже, она была склонна к таким внезапным взрывам.
— Фройляйн Индиго, вам абсолютно точно известно, я вам специально говорила, покидать лагерь без разрешения и пропуска нельзя!
У Ирины Индиго были черные, подстриженные под пажа волосы, черные печальные глаза, которые сейчас сверкали, полные алые губы и очень белая кожа. Высокая, стройная, она была обута в коротенькие полуботинки, на ней была юбка, не закрывавшая колени, голубая двойка с джемпером и синее пальто. У нее были длинные шелковистые ресницы. Легкий, едва уловимый чешский акцент.
— Мне нужно к моему жениху! Я вам уже десять раз говорила! Мне нужно к нему! — она указала на толстяка. — Этот господин хотел взять меня с собой на своей машине!
— Чисто из любезности, — проворчал тот и потрогал ушибленный череп. — Из-за доброты всегда страдаешь.
Шофер Кушке замахнулся свободной рукой, словно для удара. Толстяк молниеносно втянул голову в плечи и тявкнул: «Не смейте!» И тут заметил, что Берти его внимательно рассматривает.
— А вам чего надо?
— Я вас знаю, — сказал Берти.
— В жизни не видел! — заявил толстяк и с гримасой боли потрогал затылок, где под волосами вздувались две хорошенькие шишки. Удары Кушке были не слишком нежными.
— Нет, нет, — задумался Берти. — Все-таки я вас знаю.
— Да пошли вы… — огрызнулся толстяк. Кушке рванул его заведенную за спину руку вверх. Толстяк взвыл от боли.
Фройляйн Луиза пошла на него, готовая к бою, как самка, защищающая своих детенышей.
— Что вы делаете в лагере? У вас есть пропуск?
— Ничего у него нет, — смущенно ответил старший полицейский.
Кушке снова взялся за дубинку, висевшую у него на запястье.
— Кругом! — скомандовал он толстяку. — Лицом к стене! Руками в притолоку. Что? Не ясно?
Отпущенный толстяк, задыхаясь от ярости смерил его презрительным взглядом:
— Кусок дерьма!
— Щас ище раз схлопочешь по репе, — пригрозил Кушке.
А магнитофон все записывал, все…
На комбинезоне Кушке, над животом, там, куда его ударил толстяк, был виден пыльный отпечаток ботинка. Кушке толкнул толстяка вперед. Тот уперся руками в стену и позволил Кушке себя обыскать. Охранник держал свою дубинку наготове. Берти фотографировал.
— Если у него нет разрешения, как он в таком случае попал в лагерь? — спросила фройляйн Луиза у охранника.
Его лицо залилось краской.
— Ну! — требовательно произнесла фройляйн.
— Наша вина, фройляйн Луиза, — смущенно пролепетал тот. — «Германия — Албания».
— Что?
— Ну, международный матч. По телевизору. В бараках многие мальчики тоже смотрят.
— Прекрасно, — сказала фройляйн. — Так и происходит, когда люди думают только об удовольствиях, а не выполняют свои обязанности!
— Да, — с несчастным видом согласился усталый измученный охранник.
— Все четверо смотрели телевизор?
— Да, все четверо, фройляйн Луиза. Тут-то он, наверное, и прокрался.
— Хорошенькое дельце! — горячилась фройляйн Луиза. — А в это время может произойти что угодно!
— Нам очень жаль. Никогда раньше такого не было…
— Вот этт да! — шофер Кушке вытащил у толстяка из-за пояса пистолет и подал его лагерному полицейскому.
— «Вальтер». Семь-шестьдесят пять. — Охранник вынул магазин.
— Полнехонек, — оценил Кушке и вынул еще два из левого кармана брюк толстяка, от которого исходил удушающий запах мускуса. — Прям арсенал!
— У вас есть разрешение на ношение оружия? — спросил лагерный полицейский.
— Само собой, — нагло ответил толстяк.
— Где оно?
— В Гамбурге. Вы что же, думаете, я повсюду таскаю эту бумажку с собой?
— Во дает! — высказался Кушке. И тихо спросил у охранника:
— Какой там счет?
— Было ноль-ноль. Первый тайм. Тридцать пять минут, — так же тихо ответил тот. А потом громко объявил: — Пистолет конфискован.
Толстяк повернулся с поразительным проворством.
— Вы вообще не имеете права ничего конфисковывать, — взвизгнул он своим необычно высоким голосом. — Все, что здесь творится, абсолютно незаконно.
— Заткни пасть, слышь? — угрожающе-спокойно сказал Кушке, могучий мужчина в форменной фуражке и с огромными ручищами. — А то щас так размажу по стенке, что отскребать придется.
Когда Кушке нашел пистолет, Индиго страшно испугалась. Девушка стояла в растерянности и отводила глаза от взглядов фройляйн Луизы. Берти ходил вокруг толстяка, оглядывая его со всех сторон, и судорожно вспоминал, откуда тот ему знаком. Я улыбнулся Индиго, но она этого, кажется, не заметила.
— Документы! — потребовал лагерный полицейский.
— Зачем это?
— Ищё один такой дурацкий вопрос — и схлопочешь! — рявкнул Кушке.
Толстяк вздрогнул, потом достал из кармана пиджака паспорт. Охранник направился к письменному столу и начал записывать данные.
Неожиданно Ирина Индиго закричала:
— Этот господин оказался в лагере из-за меня! Я ему помахала!
Она еще кричала, а Берти уже поднял свой «Хасселблад» и фотографировал толстяка.
— Не имеете права! — пронзительно завопил толстопузый и бросился на Берти.
Я в одно мгновение оттолкнулся от стены, у которой стоял, пролетел через кабинет и так вмазал толстяку раз по ребрам и другой в живот, что тот заловил ртом воздух и свалился в кресло.
Берти снимал как бешеный. Здесь было главным ухватить действие! Индиго для разнообразия теперь закричала на меня:
— Что вы себе позволяете? Кто вы вообще такой?
— О’кей, крошка, — сказал я и закурил новую сигарету, — о’кей. Сейчас поговорим. — Я повернулся к Берти: — Все в порядке?
— Отлично, — сказал тот и сделал еще два снимка.
Я уже говорил: у меня чутье на людей, нюх на события. Меня охватил охотничий азарт. Сначала я думал, что мы напрасно приехали в это убогое захолустье, но с тех пор, как фройляйн Луиза заговорила со своими невидимками, все изменилось, полностью изменилось. Я подошел к полицейскому, который выписывал данные из паспорта.
— Как зовут парня?
— Карл Конкон, — ответил полицейский.
— Конкон, — повторил Берти. — Конкон…
Полицейский добавил:
— Профессия — портье в отеле.
— Портье в отеле! — скривился Кушке. — Шишка на улице Реепербан, не? Извините, фройляйн Луиза, разе этт не свинство? Они уж стадами к нам прут, эти сутенеры. Обещают этим дурехам собственную квартиру, гарантированных две штуки в месяц! А что они получают в самделе? Гонорею!
— Господин Конкон мне вообще ничего не обещал! — закричала Индиго. Теперь она встретилась с моим взглядом.
Я снова улыбнулся. Она негодующе посмотрела на меня.
Берти приложил ладонь ко лбу.
— Вспомнил! Теперь я знаю, кто вы такой, — сказал он с улыбкой. — Я никогда не забываю лица. Вас судили. В 1956 году. Нет, в пятьдесят седьмом. Я там был. Мы давали репортаж. В «Блице».
— У вас в голове сумбур, — засмеялся Конкон, но весьма неуверенно.
— Суд в Гамбурге, — повернулся ко мне Берти. — Был только фоторепортаж.
— И что он натворил? — спросил я. — Кто это?
— Свинья, — ответил, сияя, Берти. — Самая настоящая свинья. Педик. Хотя я ничего не имею против педиков.
— Я тоже, — сказал я. — Бог свидетель! У меня полно друзей педиков. Надежные ребята, лучше не придумаешь.
— Да-да, — кивнул Берти. — Только вот эта свинья не из их числа. Этот педераст шантажировал других педерастов. Среди них был один высокопоставленный немецкий офицер. Потому его и судили.
— Шантажировал на деньги? — спросил пастор.
— Нет. На разглашение военных секретов.
— Меня оправдали! — злобно выкрикнул Конкон и снова потрогал пальцами шишки на голове.
— За недостаточностью улик, — улыбнулся Берти.
— Разглашение военных секретов? Шантаж? — заволновалась фройляйн.
— Именно, — подтвердил Берти. — Шантаж. Разглашение военных секретов. Господин Карл Конкон. За это время вы еще немного потолстели, господин Конкон. Выпиши себе все данные, Вальтер, и номер паспорта, и дату выдачи. Раз уж нас сюда прислали, давай тут хорошенько покопаемся.
— Мне эти данные тоже нужны, — заявила фройляйн Луиза.
Пастор удивленно посмотрел на нее, но ничего не сказал. Фройляйн взяла лист бумаги и карандаш и подошла к полицейскому. Раздался щелчок, кончилась кассета. Я быстро заменил ее на новую, потом встал рядом с фройляйн Луизой и выписал все данные из паспорта толстяка.
Берти прав — это того стоило, чтобы направить сюда лучшего фотографа и лучшего журналиста. А в общем-то, это была работа наших репортеров по сбору материала. У нас было с дюжину таких дьявольски ловких ребят. Они выезжали с собственной камерой или с фотографом туда, где намечалась сенсация, и собирали материал, по которому потом я (или другой) писал. Все данные и факты. Это и было их делом — добыть как можно больше сведений, как можно точнее и подробнее. В этот раз все пошло по-другому. Я списал паспортные данные. Господин Карл Конкон родился в 1927 году, тринадцатого мая. То есть ему сорок один.
Фройляйн Луиза обратилась к злосчастному охраннику:
— Посадите его под замок и сообщите по телефону полиции в Цевен. Пусть приедут и заберут его.
— Слушаюсь, фройляйн Луиза.
— Права не имеете меня арестовать! — заверещал Конкон и вздрогнул. Шишки на голове у него, похоже, здорово болели.
— Ище как имеем. Давай топай с господином, и без глупостей. — Кушке потер свои огромные руки: — Я тя провожу. Чтоб чё не надумал. А мы ище посмотрим «Германия — Албания», пока за тобой не приедут. С полчаса так придется ждать. По этой дерьмовой дороге.
— А я говорю, вы не имеете права меня арестовывать, свиньи! — визжал Конкон.
— Мы сообщим о ваших правонарушениях, — сказала фройляйн Луиза.
— Не смешите меня! И каких же?
— Вход на территорию лагеря без разрешения, — объявила фройляйн Луиза. — Нарушение неприкосновенности жилища. Попытка похищения несовершеннолетней.
— Я ничего не…
— Ага, не. Нам все этт приснилось!
— …И заявление господина Энгельгардта мы также попросим перепроверить, — сказала в завершение фройляйн Луиза.
— А ты, кусок дерьма, — Конкон злобно поглядел на Берти.
Тот улыбнулся ему в ответ.
Индиго попросила умоляющим тоном:
— Позвольте хотя бы позвонить моему жениху, фройляйн Луиза.
— Исключено.
— Дайте девушке позвонить, — вмешался я.
— Я уже столько раз просила! — воскликнула Индиго. — И опять, и опять! И всегда один ответ — нет.
— Потому что не разрешается, — отвечала фройляйн Луиза. — В принципе, невозможно. Постоянно все хотят позвонить. Так дело не пойдет! На каждую из вас мы получаем всего две с половиной марки в день!
— Я оплачу разговор, — вмешался я.
— Вы?
— Да. Мне тоже нужно позвонить в редакцию.
Фройляйн все еще колебалась.
— Пожалуйста, — сказал я. — Очень вас прошу…
Зазвонил телефон. Фройляйн Луиза подняла трубку.
— Готтшальк!.. Да, господин доктор… Ах, вот как!.. Хорошо, мы придем к вам… — Она положила трубку и объявила: — У Панагиотопулоса родилась девочка.
С этими словами она подошла к двери своей жилой комнаты и открыла ее. Кушке и я пошли за ней следом. Шофер проговорил:
— Ну, как я рад! А то она все боялась, что будет мальчик и ему придется стать солдатом в будущей войне.
Мы заглянули в соседнюю комнату. Карел, очень бледный, маленький и со спутанными волосами, сидел на кровати фройляйн Луизы. Его труба все еще лежала на полу.
— Ах ты, Господи, вот же, — растроганно сказал Кушке, — вот ж бедная козявка. Ну чё за проклятый мир! Хоть бы детям-то не приходилось бежать.
Фройляйн Луиза подошла к Карелу.
— Нам надо к доктору. Он всегда очень занят. Как думаешь, сможешь идти? — спросила она по-немецки, но потом сообразила, что Карел плохо понимает немецкий язык, и повторила вопрос по-чешски.
Воспитанный мальчик серьезно кивнул. Он встал и слегка покачнулся. Фройляйн Луиза подхватила его. Берти подвинул меня в сторону и сделал два снимка. Фройляйн Луиза повела мальчика через кабинет. Обращаясь к Индиго, она сказала:
— Ну, раз господин Роланд оплатит, можете позвонить. Но больше не пытайтесь сбежать!
— Нет-нет, госпожа воспитательница! — сразу просияла Индиго. — Только разрешите позвонить моему жениху…
— Вы закончили? — спросила фройляйн Луиза лагерного полицейского.
— Так точно! — охранник поднялся, спрятал в карман свою записную книжку и пистолет Конкона. — Ну, идем, — сказал он толстяку, стараясь выглядеть бравым, бедный старый человек. — И не валяйте дурака. Я вас немедленно ударю!
— Да и я-тт пока что тоже здесь, — хмыкнул Кушке.
— Я с ними, — сказал мне Берти.
— О’кей, — кивнул я. — Когда приедет полиция из Цевена, позови меня.
— Будет сделано.
Фройляйн Луиза уже была на пороге кабинета, как Карел, не говоря ни слова, высвободился, пошел обратно в комнату и тут же вернулся. Он захватил свою трубу, которая осталась там, на полу, и теперь крепко сжимал своей маленькой ручкой большой, сверкающий золотом инструмент. Он не произнес ни единого слова и двигался как слепой, осторожно и медленно.
— Вперед! — скомандовал полицейский Конкону.
— Ну, пшёл и смотри мне! — пригрозил Кушке. — Али больно шагать?
— Я еще поговорю со своим знакомым старшим советником в городском руководстве! — заорал уже в дверях Конкон. — Вы все отсюда вылетите! Мы за это налоги платим!
Было слышно, как он шумел дальше в коридоре барака. Берти поковылял вслед за группой. Карел подошел к фройляйн Луизе. Он посмотрел на нас и учтиво поклонился.
— До встречи, Карел, — сказал я.
— Я тоже пойду с вами, — предложил пастор Демель.
Тут фройляйн Луизе кое-что пришло в голову:
— Я попрошу вас, господин пастор!..
— Да?
— С мальчиком я справлюсь сама. Но моя плитка опять сломалась. Спираль. Вы ведь такой умелый, вы ее уже пару раз чинили. Не могли бы вы ее еще разок посмотреть?
— Конечно, — дружески кивнул ей пастор.
— Спасибо, — сказала фройляйн. Дверь за ней и за Карелом закрылась.
Пастор осмотрел плитку, достал из кармана брюк большой перочинный нож со множеством приспособлений и приступил к работе.
Ирина Индиго посмотрела на меня. У нее были очень большие и темные глаза, теперь опять очень грустные. Я тоже посмотрел на нее. Мы стояли метрах в двух друг от друга и не отводили взглядов.
С гулом приближалась еще одна эскадрилья «старфайтеров». Грохот их реактивных двигателей становился все громче и громче. Опять задребезжали стекла. Рев достиг своего апогея. Я боялся, что снова впаду в тревогу и раздражительность. Нет, ничего подобного не произошло. Я оставался совершенно спокоен, впервые. Я прислушался, не появился ли мой «шакал». Его не было. Вообще. Грохот стал тише и смолк.
Мы с Ириной все еще смотрели друг на друга.
11
— Вы первый человек в ФРГ, который ко мне хорошо отнесся, — сказала она, наконец.
— Глупости.
— Никакие не глупости! — Покачала она головой. — Все остальные мной только командовали. И прежде всего эта ведьма — воспитательница. — Она глянула на пастора, который возился с электроплиткой: — Извините за выражение, эта старая женщина, она только исполняет свои обязанности, я понимаю. И прибывают все новые беженцы. Я понимаю, что людям в этой стране уже надоело, и они уже видеть нас не могут.
— Это не так, — отозвался молодой пастор, который теперь уселся за стол. — Никто против вас ничего не имеет. Вовсе нет. Беженцам живется плохо. А нам хорошо. То, что вы принимаете за отказ, это просто угрызения совести. Потому что после всего, что мы натворили, это же величайшая несправедливость, что мы так скоро снова начали процветать, — а людям, в ГДР например, еще долго жилось трудно. Сейчас, слава Богу, уже нет. Ну, а теперь звоните же, наконец!
Я подумал, что я измученный тяжким трудом и запоями репортер в вечной погоне за сенсациями, а не удачливый плейбой, способный уложить прекрасную юную беззащитную девушку, во всяком случае, не оказав ей сначала помощи. Так что, я взял себя в руки и спросил:
— А вы знаете номер телефона вашего жениха?
— Во время всего побега я твердила его как молитву. «Гамбург, 2 20 68 54».
— У него квартира в Гамбурге? — изумился Демель. У пастора было темное от непогоды и ветра лицо и серые глаза под густыми каштановыми бровями. Его короткие волосы были каштановыми, как и у меня. Он был в моем возрасте, а выглядел лет на десять моложе. Как минимум на десять.
— Нет, это квартира его лучшего друга в Федеративной Республике. Его зовут Рольф Михельсен. Они знакомы много лет. Господин Михельсен живет на улице Эппендорфер Баум. Дом номер сто восемьдесят семь. — Диктофон с новой кассетой был по-прежнему включен и записывал. — Господин Михельсен поселил моего жениха у себя, как мы и договаривались еще задолго до побега. Господин Михельсен часто посещал Яна в Праге.
— Яна?
— Ян Билка. Так зовут моего жениха.
— А чем занимается этот господин Михельсен? — поинтересовался я.
— Не имею понятия.
— Да ну!
— Я с ним лично не знакома. Мне о нем рассказывал Ян. Он, знаете, не мог мне все рассказывать. Он был капитаном в Министерстве обороны. О многих вещах он просто не имел права говорить.
Я почувствовал, что мне вдруг стало жарко.
— Ну конечно, не мог, — согласился я. — Так, значит, капитан?
— Да, — подтвердила Ирина. — Можем мы теперь заказать разговор?
— Заказывайте, — сказал я.
Снаружи, из нескольких бараков, донесся многоголосый крик, отдаленный и приглушенный.
— Гол, — прокомментировал я. — Кто-то забил гол.
— Думаю, албанцы, — ответил моложавый пастор, не поднимая глаз. — Отличные игроки, эти албанцы.
— Если он был капитаном, то ему должно быть не меньше тридцати, — сказал я.
— Тридцать два. Не смотрите так! Мне восемнадцать. Ну и что?
— Абсолютно ничего, — сказал я.
— Я изучаю психологию, — продолжала Ирина. — У него была собственная квартира, я снимала частным образом мансарду. Этого вам достаточно?
Я кивнул, подошел к телефону и наугад набрал «девятку». Ответила действительно телефонная станция, я узнал этот голос.
— А, симпатичная фройляйн Вера, — сказал я любезно. — Это Роланд, фройляйн Вера. Да-да, недавно я у вас был. Дайте мне, пожалуйста, Гамбург, номер… — я взглянул на Ирину.
— Два-два-ноль-шесть-восемь-пять-четыре.
— Два-два-ноль-шесть-восемь-пять-четыре, — повторил я. — Я зайду и оплачу разговор, он за мой счет, фройляйн Луиза разрешила. Большое спасибо, фройляйн Вера.
Я передал трубку Ирине. Она быстро произнесла, не дыша: «Алло!» — И потом после короткой паузы: «Да, конечно, я понимаю…» — и уже обращаясь к нам:
— Она набирает, я подожду.
— Отлично, — сказал я.
— Так вы господин Вальтер Роланд? — спросил пастор. Он опустил электроплитку и с пытливым любопытством смотрел на меня.
— Да, это я, — ответил я более нелюбезно, чем хотел, но в тот момент мне было наплевать.
— Пауль Демель, — представился он.
— Очень приятно. — И к Ирине: — Когда бежал ваш жених?
— Почти три месяца назад, — ответила Ирина. — Двадцать первого августа. — Она держала трубку прижатой к уху.
— Фройляйн Луиза рассказывала мне, что вы должны приехать, — сказал пастор с улыбкой. — Очень рад познакомиться с вами лично. У меня к вам много вопросов.
— Вы тот господин, которому понравились обе мои книги, — сказал я и сразу снова почувствовал эту мерзкую скотину «шакала».
— Да. Особенно удачная, на мой взгляд, — «Безбрежное небо».
— И вы, конечно, хотите спросить, почему я перестал писать книги.
— В том числе и это, — дружелюбно подтвердил он.
Изо всех сил стараясь подавить свое раздражение, что мне плохо удавалось, я сказал:
— Потому что я не могу писать книги! Поэтому! Хватит мне и иллюстрированного издания!
— Это неправда, — возразил пастор. — Вы же доказали…
— Ничего я не доказал, — ответил я. — Прошу вас, господин пастор!
— Вы слишком рано утратили мужество, вот и все, — сказал он.
— И голодал, — добавил я.
И все же я был рад, что он ничего не подозревал о втором имени, под которым я писал уже много лет. Второе имя, собственно говоря, должно было быть известным только в области журналистики как мой псевдоним, но слишком много людей в этой области были в курсе, а в ней принято страшно много болтать. Так что и немало посторонних было осведомлено, что я пишу и под другим именем, этого невозможно было избежать, несмотря на всю мою осторожность. Судя по всему, пастор Демель об этом не догадывался. Мне было бы очень стыдно перед этим молодым священником, узнай он, кто сейчас стоит перед ним.
— Так вы репортер? — спросила Ирина. В ее голосе прозвучал испуг.
— Как видите, — буркнул я все еще неприветливо. — Вас это смущает?
— Нет, почему… — Она засмеялась, но ее смех прозвучал неискренне. — Почему это должно меня смущать?
— Многих это смущает, — ответил я. — Если я хочу о них написать.
— Ну, обо мне-то нечего… Алло? Да? — Она прислушалась. — Ага, — сказала она потом. — Спасибо большое. — И положила трубку. — Номер в Гамбурге занят. Фройляйн попробует еще раз.
— Только не волнуйтесь, — сказал я.
— Да-да, — отозвалась она.
— А почему вы, собственно, бежали? — спросил я Ирину.
— Из-за моего друга.
— То есть как это?
— Сразу после его бегства ко мне пришли. Из органов. Чешских. И советских. Меня на два дня арестовали и допрашивали. Много часов подряд. День и ночь.
— Что они хотели знать? — спросил я.
— Только о моем женихе, — ответила Ирина.
— Что, например?
— В каком отделе он работал. К каким документам имел доступ.
Пастор внимательно посмотрел на меня. Я ответил ему тупым взглядом. Этот рефлекс тупости я отрабатывал годами. Выглядело очень убедительно.
— Его должность, его личная жизнь, наши отношения… Их интересовало все. Но я могла ответить только на немногие их вопросы. Я не знаю, в каком отделе был Ян, какую должность он занимал и к каким документам имел доступ. Я вдруг поняла, что действительно почти ничего о нем не знаю. Это меня испугало. Очень испугало. Вы понимаете?
— Хорошо, — сказал я. — А дальше?
— Дальше… Они мне не поверили. Отпустили меня, но приходили снова и снова, каждый день. У моей хозяйки сдали нервы, и она хотела меня выгнать. Добрая женщина, но это уже было для нее чересчур. Они приходили иногда в четыре часа утра. Конечно, она меня не выгнала. Но боялась. Страшно боялась. Я тоже.
— И вы не выдали гамбургский адрес или имя немецкого друга вашего жениха?
Ирина посмотрела на меня с возмущением:
— Разумеется, нет!
— Я просто спросил. Не сердитесь. А потом?
— Потом… потом они снова вызывали меня на допросы, которые тянулись целыми днями. Каждый раз одни и те же вопросы! Каждый раз другие сотрудники. Они запретили мне продолжать учебу в университете. Они запретили мне уезжать из Праги. Каждый день я должна была дважды отмечаться в своем полицейском участке. И все время допросы.
— У этих людей, очевидно, был острый интерес к вашему жениху, — сказал пастор.
— Да, — отозвалась Ирина. — Но почему? Почему же?
Мы оба промолчали, пастор и я, и посмотрели друг на друга.
— Потом, — продолжила Ирина, — на прошлой неделе, в четверг, все друзья, знакомые и коллеги Яна были арестованы. Все разом. Да, я забыла сказать: с этими людьми уже раньше мне постоянно устраивали очные ставки. Некоторых я знала, большинство только по именам, многих даже не знала как зовут. Но об их аресте я узнала.
— Как? — спросил я.
— Был телефонный звонок. Анонимный. Очень короткий. Я не знаю, кто звонил. Во всяком случае, не прошло и часа, как я бежала. Я просто не выдержала! Я думала, теперь заберут меня! У меня совсем сдали нервы! Я хотела только одного: попасть к Яну! В Гамбург! Можете вы это понять?
— Конечно, — ответил я. — Но теперь вы в безопасности. В полной безопасности. Успокойтесь. Прошу вас, успокойтесь.
— Да, вам нужно успокоиться, — поддержал меня пастор, а потом, чтобы сменить тему, обратился ко мне: — Нет, вы только посмотрите! Спираль совсем сплющена. Тут, наверное, кто-то бил молотком. — Он посмотрел на меня: — Ну, ладно, ни слова о ваших книгах. Можете мне немного помочь? Эта штука все время выскальзывает у меня из рук!
Я подсел к нему и крепко держал плитку, пока он пытался соединить разорванные части нагревательной спирали. Из других бараков снова донесся приглушенный крик.
— А теперь, может, и мы забили, — произнес пастор Демель. — У нас в национальной сборной есть несколько хороших ребят. Ничего не выходит! Придется эту штуку разобрать, иначе ничего не получится. — Он нашел на своем перочинном ноже отвертку, открыл ее и продолжил работу. — Могу я все же дать вам один совет — репортеру Роланду?
— Пожалуйста.
— Ну, ладно, чехи. Горячие события. Это понятно. Но выйдите еще раз за ворота лагеря и посмотрите на роскошных дам и господ. Ведь не только сутенеры приезжают к нам на «кадиллаках» и «линкольнах» и забирают наших девушек.
— Куда забирают? — спросила Ирина, и, глядя на нее, я подумал, какой невинной она выглядела, какой нетронутой, светлой и чистой, а потом я подумал, что многие девушки, которые мне здесь встретились, выглядели так. Нежными, красивыми, но тихими и совсем невинными. И при этом у Ирины уже два года была связь с мужчиной намного старше ее…
— В свои заведения, — ответил пастор. — Стриптизершами, барменшами или действительно проститутками. Через год-два бедные девочки снова возвращаются — помятые, чуть живые, часто больные. Мы делаем, что можем, но за пределами лагеря мы ничего не в силах запретить. А кто здесь побудет подольше, получает и право на свободный выход, вы ведь это знаете.
— Да, — сказала Ирина.
— Как давно вы здесь? — спросил я.
— Со вчерашнего дня, — ответила она.
— Тогда еще, конечно, слишком рано, — сказал Демель. — Вы еще даже не побывали во всех местах, в бюро по трудоустройству и в Охране конституции и так далее. И сходите вон напротив, в бар «Выстрел в затылок».
— Куда?
— Бар «Выстрел в затылок». Так восточногерманские дети окрестили тут один кабачок.
— Почему?
— Уже несколько лет подростки находят там в окрестностях, в песке, человеческие кости. И черепа тоже. В лагере поднялся большой шум, можете себе представить. Потом крестьяне рассказали, что в нацистские времена там, где сейчас стоит кабачок, было место казни. Они не любят об этом говорить, крестьяне, мы у них с трудом это выпытали. Человек, который после войны построил кабачок, тоже ничего об этом не знал. Так вот. Здесь, возле забора они договариваются. А в баре «Выстрел в затылок» дамы и господа ожидают потом юношей и девушек. И скрываются с ними. Этот господин Конкон невероятно спешил с вами.
— Да, — сказал я. — Невероятно. — Мне все еще было жарко. — А почему вы полностью не закроете выходы? Почему не запретите выход вообще для всех?
— Это было бы незаконным лишением свободы, — ответил Демель. — Кроме того, тогда эти типы у ограды увозили бы молодежь прямо отсюда, после того, как мы пристроили бы их куда-нибудь через бюро, заключили договор о временном трудоустройстве, и они бы собирались туда ехать. Это так же бессмысленно, как если бы мы решили огородить площадку перед воротами лагеря. Тогда эти типы ждали бы в Цевене. Или по дороге туда.
— А что это за типы? — спросил я. — Кроме парней с Реепербан.
— Как долго нет звонка… — сдавленным голосом проговорила Ирина.
— Не будьте такой нетерпеливой. Состоится еще ваш разговор. Что за другие типы, господин пастор? Дамы, например.
— Вы ведь живете на Западе, — ответил он. — Есть у вас служанка?
— Уборщица, — сказал я. — Два раза в неделю.
— Ну, это вам еще повезло, — продолжал он. Ирина от нетерпения начала покусывать нижнюю губу и расхаживать по кабинету взад-вперед. — Служанок ведь больше нет. Но у нас они могут набрать столько, сколько хотят. Нашим бедным девочкам не надо даже обещать отдельную комнату с душем и телевизором и меховую шубу к Рождеству. Они будут рады уже тому, что такая благородная дама возьмет на себя поручительство и все хлопоты с органами.
— А откуда приезжают эти дамы? — спросил я.
— Дюссельдорф, Кёльн, Франкфурт, Гамбург, Мюнхен. Удивлены, верно? Из любой дали, откуда только можно добраться.
Снова раздался рев голосов из нескольких бараков. Кто-то басил:
— Тирана! Тирана! Тирана!
— Ну, а вот теперь забили албанцы, — сказал пастор и немного помолчал, прислушиваясь. — Да, благородные дамы со всей Федеративной Республики. Но им нужны не только служанки! Их посылает и промышленность. Конвейер. Чулки. Готовая одежда. Фармацевтические заводы. В общем, все. От яичной лапши до сталелитейных заводов. Требуется рабочая сила! Мальчики могут прямо здесь заключить договор, через ограду, и от бара «Выстрел в затылок» их увозят на работу. А иллюстрированные издания! Вы меня извините, господин Роланд, но я готов держать с вами пари, что там за оградой стоит, как минимум, пара господ из вашего круга.
— А этим что нужно?
— Парни, которые ходили бы из дома в дом и собирали подписку на журнал. Даже самые бедные студенты уже не занимаются этим за такую нищенскую плату. Наши парни готовы на все. Так что у нас тут самая настоящая ярмарка.
Резко зазвонил телефон.
Ирина бросилась к аппарату и схватила трубку.
— Алло!.. Алло, Ян? — На ее лице проступило разочарование: — Ах, так. — Она положила трубку и сказала мне таким тоном, будто я был в этом виноват: — Все еще занято.
Внезапно я почувствовал его близко, совсем близко, моего «шакала». Я встал. Снова сел. Снова встал.
— Ну вот! — воскликнул пастор, все еще чинивший плитку. — Вы отпустили — и опять захлопнулась.
— Мне жаль.
— Что это с вами? — Он пригляделся ко мне: — Вы ужасно выглядите. И губы у вас посинели.
Мне уже было все равно. Я достал фляжку, отвинтил пробку и протянул пастору:
— Хотите виски?
— Нет, — ответил он. — Днем я никогда не пью. И вам бы не надо. Это вредно.
Я выпил.
— У меня иногда так кружится голова, — сказал я. — Время от времени. И бывает плохо. — Я отпил еще раз. — Здесь все действует так угнетающе. Ваша фройляйн Луиза, например. Послушайте, а у нее не…
— Вы имеете в виду, в порядке ли у нее с психикой? — Он посмотрел на плитку: — Я думаю, будет держаться. Теперь только нужно оба конца спирали…
— Господин пастор!
— Да.
— Она такая странная. Она прислушивается к пустоте. Она говорит в пустоту…
— Да, — снова сказал он. Потом вздохнул: — Вот беда. Такой хороший человек. Ценный человек. А как она любит детей! Но, к несчастью, пересудам и травле не видно конца. Все говорят, что ее пора, наконец, отправить на покой. И сказать по совести, мне трудно что-нибудь возразить. А если это произойдет, если ей придется уйти отсюда, от своих детей, — для фройляйн Луизы это будет конец. Она возьмет веревку. Нет — уйдет в болото.
— Но кого она все время слушает? С кем все время разговаривает?
— Это ее друзья.
— Что за друзья?
— Теперь — мертвые, — ответил пастор Пауль Демель.
12
Она стояла на болоте, далеко от края, на небольшой твердой, слегка выпуклой возвышенности, и вокруг нее, почти замыкая окружность, стояли одиннадцать фигур. Фройляйн Луиза разговаривала с ними, горячо, взволнованно, она потрясала кулаками, поднимала руки в воздух, наклонялась вперед и откидывалась назад. Ветер снова и снова проносил над ней и над фигурами клочья тумана и делал всех невидимыми. Светила полная луна. Ее серебристый свет рассеивался в тумане над болотом. Черным отливали открытые водные поверхности. Зловещими были звуки ночного болота, его призрачные голоса.
«Тюке-тюке-тюке-тюке-тюке…» — это были крики болотных бекасов.
Потом раздавалось глухое громыхание: «У-у-румммм! У-у-румммм! У-у-руммммм!» — это ухали выпи.
«Гунг-гунг-гунг-гунг-гунг!» — как удары колокола, звучали крики жерлянок.
«Бу-бу-бу-бу!» — подавала голос болотная сова.
С шумом взлетали с воды утки.
Огромные пространства опасных для жизни топей, поросших травой, булькали и клокотали. Где-то вдалеке протяжно и печально гудел паровоз.
Прополз еще один клок тумана, и стала отчетливо видна фройляйн Луиза со светящимися белыми волосами — она и одиннадцать фигур вокруг нее. Собрание духов. Встреча призраков… Молодая женщина, которая уже четверть часа наблюдала за фройляйн, дрожала. Молодую женщину звали Хильда Райтер, она стояла на широком основании наполовину растрескавшейся бетонной опоры на восточной окраине лагеря. Когда-то давно здесь закрепили ограду и колючую проволоку вокруг лагеря. У этой опоры ограждение поворачивало с востока на юг под углом ровно девяносто градусов.
Хильда Райтер пришла сюда в паническом страхе и спешке. На ней было пальто, в руке — дорожная сумка. Она собиралась бежать из лагеря. Для этого у нее была очень веская причина. Хильда Райтер знала, что полицейские, в соответствии с предписанием, известят об этом начальника лагеря. Поэтому она прокралась сюда, к наполовину растрескавшемуся бетонному столбу. В течение четверти часа, кашляя и напрягая все силы, она пыталась свалить его, а с ним опрокинуть и часть ограды с колючей проволокой.
Это было единственное место в лагере, где можно было попытаться бежать. Хильда Райтер была страшно напугана, она была в панике. Если остаться, завтра за ней придут, устроят против нее процесс, посадят в тюрьму и… Молодая женщина навалилась на опору и раскачивала ее до изнеможения. Опора устояла. У Хильды Райтер не хватало сил. В отчаянии, со слезами ярости на глазах, она, наконец, выпрямилась — и увидела фройляйн Луизу посреди болота.
«Наверное, я схожу с ума, — думала молодая женщина. — У меня не в порядке с головой! Как старуха могла туда попасть? Туда же не может пройти ни один человек…»
Хильду Райтер знобило, хотя ночь была теплой — начало июня 1968 года, теплая ночь сырым дождливым летом. Год был чрезвычайно влажным, здесь, на севере, почти каждый день выпадали осадки. И заброшенное в течение уже очень длительного времени болото было поэтому залито водой и абсолютно непроходимо. Канавы для отвода воды, на гнилой поверхности которых отражалась луна, были переполнены, дамбы справа и слева от них давно разрушены, погрузились в болото и стали невидимыми. На редких возвышениях, которые, казалось, теперь плавали в воде, стояли старые ветлы, уродливо согнутые, почти похожие на людей своими неправильной формы верхушками-головами, возвышались заросли можжевельника, там и тут виднелись засохшие болотные сосны, и повсюду стояли березы, высокие, стройные и тонкие.
Сейчас фройляйн Луиза разговаривала с одной из фигур. Хильда Райтер икнула. Ей приходилось крепко держаться за опору, иначе она свалилась бы с цоколя, на котором стояла. Страх, который привел ее сюда, неожиданно пропал. Как завороженная, всматривалась Хильда Райтер туда, где в нескольких сотнях метров от нее фройляйн Луиза разговаривала с одиннадцатью фигурами, страстно, вне себя от волнения.
«У-румммм! У-руммм! У-руммм!» — ревела выпь. С первым звуком она глубоко втягивала воздух в себя, наполняла легкие, со вторым выталкивала воздух обратно.
Воспитательница Хильда Райтер работала в этом лагере уже два года. Она приехала в «Нойроде», потому что ее подруга, Гертруда Хитцингер, которая была здесь воспитательницей уже три с половиной года, написала ей, что работа эта легкая и приятная, ее не так много, и есть масса свободного времени.
Хильде Райтер было тридцать три года, она была симпатичной, но строгой, и у нее были свои особенности. Прошло немало времени, пока фройляйн Луиза выяснила, что́ это были за особенности. Полтора года ушло на это. Однажды фройляйн Луиза застала коллегу за избиением одного маленького мальчика. Та стащила с него штанишки и била его камышовой тростью по голой попе. Малыш кричал. (Фройляйн Луиза, у которой ее коллега уже давно была под подозрением, наблюдала за этим из укрытия.)
— Ты кричал, — сказала Райтер. — Прекрасно. Получишь три удара дополнительно. За каждый крик будет еще три удара.
Фройляйн Луиза медленно вышла из своего укрытия. Мальчишка орал как резаный. Сбежались воспитанники и взрослые. Был большой скандал. Фройляйн Луиза была вне себя. Вон эту садистку! Вон из лагеря! Она продолжала бушевать перед начальником лагеря, к которому вызвали ее и Хильду Райтер. Доктор Хорст Шалль очень серьезно предупредил Хильду Райтер. Она больше не должна допускать ничего подобного. В следующий раз против нее будут приняты меры.
А фройляйн Луиза заверила: «Уж я за этим прослежу, господин доктор, можете быть уверены!»
Прослежу! От этого обещания Хильда Райтер буквально сходила с ума. За ней теперь шпионили, за каждым ее шагом пристально следила эта старая корова, которая разговаривала с пустотой и явно слышала голоса, так как часто посреди разговора застывала с открытым ртом и вслушивалась в то, что ей говорил какой-то невидимка. И от такой сумасшедшей она теперь вынуждена терпеть слежку?!
Хильда Райтер перешла в наступление. Вместе со своей подругой, воспитательницей Гертрудой Хитцингер, она следила и шпионила за каждым шагом фройляйн Луизы, так осторожно и осмотрительно, что та ничего не замечала. И обе женщины строчили доктору Хорсту Шаллю донос за доносом о странном поведении фройляйн. Доктор Шалль уже много лет знал Луизу Готтшальк как верную душу, в любую минуту готовую погибнуть, если это спасет жизнь хоть одного-единственного из многих-многих детей. Шалль пока что оставил все эти заявления без движения. Как-то в разговоре с фройляйн Луизой, мягко убеждая ее, он заговорил с ней о невидимках, с которыми она беседовала.
— Я? С невидимками? — воскликнула фройляйн возмущенно. — Да никогда в жизни! Это подлая ложь, об этом вам могла наговорить только эта Райтер и ее подруга Хитцингер!
Тот факт, что все их заявления не дали никакого результата, страшно разозлил Хильду Райтер, и только разожгли ее ненависть к фройляйн. Еще неотступнее, чем прежде, она и Хитцингер шпионили за фройляйн Луизой. Они обратили внимание, что по вечерам фройляйн часто покидала лагерь — и никто не знал, куда она уходила. Обе женщины часто крались за ней. Фройляйн Луиза всегда шла по краю песчаной полосы вдоль деревни, через деревню, дальше через камыши и кустарники — а потом вдруг каждый раз исчезала. Напрочь. Бесследно. Как будто проваливалась сквозь землю. Это было жутко. Подруги постоянно рассказывали все, что им удавалось узнать о фройляйн и что они домысливали сами, другим воспитательницам. (В то время фройляйн Луиза еще жила вместе со всеми.) Их слова падали на благодатную почву. Ни одна из воспитательниц не относилась к старой фройляйн по-настоящему хорошо. Виной тому были ее излишняя резкость, нелюбезность, недоверчивость и чудаковатость. Всю свою любовь она отдавала детям, другим ничего не оставалось. Ее не интересовали соперничество и мышиная возня воспитательниц, и ни одна из них не сочувствовала ей. Потому все сразу поверили россказням Хильды Райтер и Гертруды Хитцингер. Фройляйн Луиза получила два прозвища: «Сумасшедшая» и «Ведьма». А напряжение все нарастало. Доктор Хорст Шалль чувствовал себя несчастным. Дальше так продолжаться не могло. Он попытался как-то уладить ситуацию. Напрасно. Он снова поговорил с Луизой Готтшальк. Напрасно.
— Ложь! Ложь! Это все ложь, клянусь вам, господин доктор! — кричала фройляйн, при этом ее лицо то бледнело, то пылало огнем.
В первую неделю июня на Хильду Райтер опять нашло. В лагерь прибыл мальчик из Греции, четырнадцати лет, симпатичный, темноволосый, неугомонный. Он разбил футбольным мячом оконное стекло. Солнце светило, все дети были на каникулах. Хильда Райтер вызвала мальчика к себе, приказала ему снять брюки, взяла линейку и, чтобы он ее не «испачкал», как она выразилась, высоко задрала свою юбку. Мальчику пришлось лечь на ее обтянутые чулками ляжки. Она пришла в сильное возбуждение, пока его била. Он не издавал ни звука. Ее дыхание становилось все тяжелее, в нижней части ее живота горячими толчками билась кровь. Она не заметила, что дверь комнаты отворилась. Теперь она уже пыхтела. Когда она подняла затуманенные глаза, оттого что услышала шорох, было уже слишком поздно. В ее комнате стоял доктор Шалль.
Он произнес только пару фраз:
— Вы, естественно, уволены. Немедленно отстраняетесь от службы. Я подам на вас заявление. Завтра поедете со мной в криминальную полицию в Цевен. До того вам запрещается покидать лагерь.
Это произошло вечером пятого июня 1968 года, в среду.
13
— Все еще занято, — произнесла Ирина Индиго и положила трубку. Она была очень взволнованна. Рассказ пастора, который тем временем отремонтировал электроплитку, ее мало интересовал. Она ждала голоса своего жениха, она его так ждала!
— Какой-то долгий разговор, — коротко сказал я, так как был захвачен рассказом Демеля. — Или несколько долгих разговоров. Девушка на телефонной станции попробует еще. Наберитесь терпения.
Ирина Индиго пожала плечами и опустилась в кресло.
— Продолжайте, господин пастор, — попросил я. — Рассказывайте дальше.
14
— Гертруда! Гертруда! Проснись, Гертруда! — Хильда Райтер, стоя на коленях возле кровати подруги, трясла ее. Хитцингер пробуждалась медленно и с неудовольствием.
— Господи, да-да… кто хочет… что опять?
Хильда Райтер взахлеб рассказывала о том, что только что видела. С Хитцингер моментально слетел сон:
— И старуха все еще на болоте?
— Да говорю тебе!
— Но этого не может быть! Туда же нельзя пройти! Это невозможно!
— Но она там! Она на болоте! И с ней люди, и она с ними разговаривает!
— Мужчины? — Хитцингер прищурила глаза.
— Вроде, да… Да, мужчины, мужчины! — Она и сама поверила в это, пока говорила. Конечно, мужчины, кто же еще может быть возле старой ведьмы! Райтер среагировала неосознанно, но вполне типично для ее характера: эта проклятая Готтшальк выследила ее в тот раз, когда она била мальчишку! Эта проклятая Готтшальк и сейчас была виновата в ее отчаянном положении. Ну, если уж ее застукали, то и она постарается, чтобы эта ведьма получила по заслугам, чтобы с треском вылетела отсюда!
Гертруда Хитцингер уже вскочила с постели. Она влезла в ботинки и плащ и заявила:
— Пусть это увидят и другие. Разбуди их. Давай, давай, Хильда!
Через несколько минут группа из восьми воспитательниц в спешке двигалась по песчаной насыпи, луговой траве и бетонным плитам плаца для построения, впереди — Хильда Райтер. Луна светила ярко, туман рассеялся. Чуть погодя женщины столпились у бетонной опоры, на цоколе которой недавно стояла Хильда Райтер.
— Ну и где она? — Гертруда Хитцингер всматривалась в сторону болота. — Я ее не вижу.
Никто не видел фройляйн Луизу.
— Но она была там! — крикнула Райтер. — Она была там! На холмике!
— Где?
— На каком?
— Их там много!
— Вон на том слева, где ветлы, — указала Райтер. — Или нет, не там… Дальше, справа! Возле сломанной сосны, видите?
— Сосну видим, а старуху нет.
— Ну, значит, ушла.
— Ушла? Как? По болоту? По воде? Это же невозможно!
— Совершенно невозможно! Сама посмотри! Через пару метров кончается песок и начинается болото. Ты там сразу потонешь!
— А сегодня еще прошел такой дождь!
— Ага!
Они галдели, перебивая друг друга:
— По трясине?!
— А твердой дороги нет!
— Да говорю же вам, Гертруда и я каждый раз видели, как она вдруг пропадала за деревней! — кричала Райтер. — Богом клянусь, все правда! Она была там и говорила с мужчинами! С мужчинами! Я это видела! Собственными глазами! Ослепнуть мне на этом месте, если вру!
Фройляйн Луиза вернулась в лагерь через час. Худой охранник, который был в ночной смене, отдал ей из своего барака честь, когда она отпирала и снова запирала собственным ключом калитку. Она приветливо кивнула ему, потом тяжело проковыляла дальше. Войдя в свою комнату и включив свет, она увидела женщин. Восемь женщин.
— Что это значит? — спросила она испуганно.
— Это мы у вас спрашиваем! — заявила Хитцингер. — Сейчас полвторого. Где вы были?
— Я… я… — У фройляйн перехватывало дыхание. — Я не могла уснуть… И пошла прогуляться.
— Посреди ночи?
— Ну.
— Где?
— Что — где?
— Где вы гуляли? В лагере?
— Ну, — запнулась фройляйн. — В лагере.
— Вранье! — заголосила Райтер. — Мы просили часового позвонить нам, когда вы подойдете к воротам и откроете. Вы были за оградой, не в лагере! Где вы гуляли, фройляйн Луиза. Где?!
Луиза Готтшальк не удостоила ее ответа.
— Где? — злобно допытывалась Хитцингер.
— Не ваше собачье дело, — не сдержалась фройляйн Луиза. — И если вы немедленно не уберетесь из моей комнаты, я позову господина начальника лагеря!
— Это мы уже сделали, — Хитцингер злорадно ухмыльнулась. — Он просил вам передать, чтобы вы зашли к нему завтра в восемь утра.
Фройляйн Луиза опустилась на кровать.
— Боже мой, — прошептала она. — Господи Боже мой…
15
— Фройляйн Луиза, — говорил Пауль Демель, — мы же всегда хорошо понимали друга, не так ли? Мы ведь друзья, да?
— Конечно, господин пастор, — отвечала Луиза Готтшальк.
Она сидела напротив Демеля в его кабинете. Она была совершенно спокойна и невозмутима, с невинной улыбкой на устах.
— Вам совершенно не нужно меня бояться, — продолжал Демель.
— Я и не боюсь, — проговорила фройляйн.
— Кофе?
— Да, пожалуйста.
Демель снял с электроплитки кофейник и наполнил две чашки, стоявшие на столе. Потом закурил сигарету.
— Боже, какой аромат, господин пастор. Я прямо без ума от этого кофе!
— Молоко? Сахар? Один кусок, два?
— Три, пожалуйста.
Демель снова сел.
Фройляйн Луиза пила с наслаждением.
— Да, — сказала она. — Вот это кофе. Никто в лагере не умеет готовить кофе, как вы, господин пастор.
— Фройляйн Луиза, — осторожно начал Демель, — мне нужно задать вам один вопрос.
— Задавайте, задавайте, господин пастор. Бог мой, какой кофе. За него можно и рай отдать!
— Воспитательницы Хильды Райтер здесь больше нет. Так что можете ее не бояться.
— Я ее никогда и не боялась, этой заблудшей, что бьет детей! Я вообще ничего не боюсь, господин пастор.
— Прекрасно. Но так ли это?
— На самом деле так!
— Почему же вы тогда не захотели сказать господину доктору Шаллю, где были вчера ночью? Может, вы все же боитесь господина начальника лагеря?
— Да, неправду я вам все-таки сказала, что ничего не боюсь, — засмущалась фройляйн Луиза. — Боюсь, конечно.
— Чего?
— Люди ведь разные бывают. И я часто натыкаюсь на непонимание. И с господином доктором Шаллем я тоже боялась не найти понимания. И что он не оставит меня с моими детьми, если я ему все расскажу. — Ее голова поникла.
— И из-за этого вы не стали отвечать господину доктору?
Фройляйн Луиза кивнула.
— А если я скажу вам, что господин доктор попросил меня поговорить с вами, потому что мы лучше знаем друг друга, и если скажу, что он называет вас своей самой ценной работницей и даже не думает отсылать вас отсюда — за что, вы ведь не сделали ничего плохого?! — тогда вы мне расскажете, где вы были сегодня ночью?
— Он, правда, так сказал, насчет лучшей работницы и что он об этом не думает?
— Да, фройляйн Луиза, слово в слово. Так расскажете мне?
Она подняла голову, и ее большие голубые глаза были исполнены доверия и облегчения.
— А как же, — кивнула она, — конечно, господин пастор. Все, что захотите узнать. Вы поймете! Мы же друзья, и я знаю, что вы хотите мне только добра.
— Так где вы были?
— На болоте, — с готовностью ответила фройляйн Луиза. — Далеко за оградой. Там, куда я всегда хожу. У моих друзей. Знаете, у меня есть еще друзья, господин пастор. Эти друзья лучше, чем многие люди.
— Так кто они?
— Ну, значит, — начала фройляйн, — русский танкист, потом пилот американского бомбардировщика, и чешский радист — он воевал в английской армии, — и один польский артиллерист, и украинец на принудительных работах, штандартенфюрер СС, и один норвежский коммунист, и свидетель Иеговы, немец, и французский пехотинец, и голландский социалист, и один на государственной трудовой повинности. Постойте, все ли? Раз, два, три… одиннадцать. Да, все одиннадцать. У них у всех были свои заботы и печали. Они мне иногда об этом рассказывают. У француза, у того была астма, жуткая астма. Теперь, слава Богу, нет.
16
На какое-то время в комнате пастора повисла тишина.
Фройляйн Луиза допила свой кофе, с блаженной улыбкой посмотрела на Демеля и спросила:
— А можно мне еще чашечку, господин пастор? Такой вкусный!
— Ну, конечно, с удовольствием, сейчас. — Пауль Демель был потрясен. Он взял большой кофейник и, заново наполняя чашку фройляйн Луизы, попытался придать своему голосу твердость: — Много у вас друзей… и из стольких многих стран!
— Спасибо большое, — сказала фройляйн Луиза. — И чуточку молока. И снова три кусочка, если можно. Да, из многих стран. И все такие разные по возрасту. С госповинности — тот самый младший. Двадцать три года, еще и неполных. Он умер здесь еще в тысяча девятьсот тридцать пятом. — Она отхлебнула кофе. — А вы знали, что этот лагерь уже тогда существовал?
— Нет.
— Он здесь с конца тысяча девятьсот тридцать четвертого! Что вы на это скажете? Уж если у нас в Германии строится лагерь, то это навсегда. И всегда найдется, кого сюда поместить. Вообще-то, сначала это был лагерь для отбывавших госповинность. Они должны были осушать это болото. Они тут недолго пробыли. Только до тридцать седьмого года. Потом он стал лагерем для политзаключенных, сначала немецких, а потом из всех стран, на которые мы нападали. Концлагерь, да. Так сюда попал свидетель Иеговы, бедолага, и норвежский коммунист, и голландский социалист. Все они умерли здесь. И погребены в болоте. Да-да, господин пастор, не смотрите так! А вы что думали?! Там, за оградой, лежат сотни мертвых! Болото полно мертвецов! Нацистов так устраивало, что здесь болото. Проще и быть не может, так?!
— Да уж проще не может, — сказал Демель. Сгоревшая сигарета обожгла ему пальцы, и он поспешно загасил окурок.
— Ну, а после политических они сделали из концлагеря лагерь для военнопленных, и военнопленные стали поступать сюда отовсюду. Чех, мой земляк, француз, поляк, русский. Из других лагерей, которые были переполнены, отправляли сюда людей. «Нойроде» ведь огромный лагерь, да? Здесь они и умерли, эти военнопленные, о которых я говорю. Ну, а когда все их лагеря были уже так переполнены, что они уж и не знали, что со всем этим делать, тогда-то нацисты и разделили этот наш лагерь на две части и вторую половину забили теми, кого пригнали. На принудительные работы. Так и этот украинец попал сюда, здесь и умер от воспаления легких… Да, а уже к концу войны они поместили сюда сбитых летчиков. В специальном отделении на задах лагеря. Для англичан и американцев. Так и мой американец здесь приземлился.
— И умер, — едва слышно закончил пастор.
Снаружи слышался детский смех.
— И умер. А как только война закончилась, сюда пришли англичане, и они приняли лагерь! Были в полном восторге от уединенной местности и идеального расположения. Поместили в лагере нацистских бонз и высоких эсэсовских чинов. Среди них и моего штандартенфюрера. Ну, и три года это был лагерь для нацистов. Потом у нас уже была блокада, и появились первые беженцы из ГДР, так? Лагерь снова перешел к немцам, убрали сторожевые вышки, отключили ток в колючей проволоке, покрасили бараки свежей краской, цветочков немного посадили, чтобы выглядело приятней — и лагерь опять был полон! На этот раз детьми. До сегодняшнего дня. Можно сказать, господин пастор, что с момента его сдачи в эксплуатацию он ни дня не пустовал! — Фройляйн Луиза невольно рассмеялась от этой маленькой шутки.
— Так значит, ваши друзья — сплошь мертвецы из болота, — с тяжелым чувством произнес пастор. Он заставил себя улыбнуться.
— Я же говорю! — кивнула фройляйн Луиза сияя. Для нее все, что она рассказала, было совершенно естественным. Дела обстояли так, а не иначе.
Пастор решил заглянуть в личное дело фройляйн Луизы и проверить, не находилась ли она когда-либо под наблюдением психиатра. «С тех пор как она здесь, у нее почти нет друзей среди взрослых, — думал пастор грустно. — Я, доктор и мой католический коллега. Ну, может, еще начальник лагеря. Только ее дети». «Многие из взрослых терпеть ее не могли» — пришло Демелю в голову. И еще он подумал о том, что она всегда производила впечатление чуть экзальтированной, замкнутой и несговорчивой.
— Откуда вы столько знаете об этом лагере? — спросил он.
— Мне рассказали старики в деревне. Они еще помнят.
— И давно вы ходите на болото к своим друзьям?
— Ну, я бы сказала, уж года два, наверное. А до этого, года три назад, они поговорили со мной, представились и рассказали, кем они были раньше.
— Так вы только слышали их голоса?
— Только голоса, да. Но уже скоро я точно знала, кому какой голос принадлежит. Совершенно точно. Как и сегодня. Часто они появляются, когда я работаю. Ну, или по ночам. Особенно по ночам. Я имею в виду голоса. Видеть их в лагере я не могу, еще и сегодня не могу. В лагере они невидимые, понимаете?
— Понимаю, — сказал Демель. — Но они разговаривают с вами, и иногда вы им отвечаете, так?
— Так, господин пастор.
— А сейчас?.. Я имею в виду… есть здесь сейчас кто-нибудь из ваших друзей? Здесь, в комнате?
Фройляйн наклонила голову набок, немного послушала, устремив взгляд в пустоту, потом кивнула:
— Да, господин пастор. Француз и украинец. Я только подождала, согласятся ли они, чтобы я вам это сказала. Они согласны. И еще они считают, что будет правильно, если я вам все расскажу. Почему бы и нет? Они оба говорят, что вы хороший человек, с пониманием.
— Ах, знаете…
— Нет! Нет! — воскликнула фройляйн. Потом снова отпила глоток.
Она выглядела очень счастливой. «Такой счастливой она давно уже не была», — думал Демель.
— Ну, так вот, — продолжала Луиза Готтшальк, — а года два назад, однажды ночью пришел студент, мой любимец. Когда я его вижу, у меня просто сердце разрывается.
— От радости?
— От радости и от печали, одновременно. Я и сама не знаю, что это такое. Как будто вся моя жизнь, какую я прожила, — в одном этом мгновении, когда я его вижу, этого студента, худого, маленького, бедного. Наверное, я выражаюсь непонятно, я же всего лишь глупая женщина, но ведь господин пастор понимает, правда?
Пауль Демель кивнул и подумал: «Каким же одиноким должен быть человек, чтобы с помощью фантазии создать людей, для него абсолютно реальных, только чтобы почувствовать радость иметь друзей, чтобы больше не быть одиноким!»
— Ну, так вот, пришел он ко мне, этот студент, и спрашивает меня, почему бы и мне не навещать их иногда, как они приходят ко мне.
— То есть чтобы вы приходили к своим друзьям на болото?..
— На болото, да. Тогда, в ту ночь, я даже увидела этого студента в лагере! Странно, да? Он был в своей робе: тиковый костюм, серый, и сапоги. Доходяга, совсем мальчишка. Боже мой, у него лопатки торчали! Наверное, всю жизнь не доедал. Но такой умница! Я уже сказала, что он мой любимец?
— Да.
— Я их всех люблю, очень-очень, но студента — того больше всех.
— Куда же вам надо было на болоте? — спросил Демель тоскливо.
— К холму, на котором стоят одиннадцать ветел, господин пастор уже знает. Довольно далеко.
— Но туда же нет дороги! Там не пройдешь! Там сплошная трясина!
— Уж поверьте мне! — рассмеялась фройляйн Луиза. — Дорога есть. В каждом болоте есть такие дороги. Обычно их знают только крестьяне, которые ходят зимой резать камыш для застилки пола в хлеву. Потому что хлеб у них здесь плохо растет. И такую дорогу один крестьянин мне показал. Надо пройти через всю деревню до конца, потом еще метров пятьдесят, и там начинается дорога. Вообще-то, это не дорога. Это совсем узкая тропа, можно даже сказать, ряд кочек…
— Ряд кочек, — подумал Демель. И по этим кочкам фройляйн Луиза ходила уже два года. Балансировала. На узкой тропке между… — усилием воли он оборвал свою мысль и спросил: — И вам никогда не было страшно, фройляйн Луиза? Это же смертельно опасно!
— Не для меня, господин пастор! Не для меня! А что? Я же иду к своим друзьям, которые меня ждут и с которыми я потом соединяюсь там, на холме.
— Среди ветел, — добавил Демель.
Она энергично замотала головой и снова засмеялась:
— Когда я туда прихожу, это уже не ветлы, это мои одиннадцать друзей. Это, знаете, обман зрения для тех, кто не может видеть моих друзей. То есть, собственно говоря, для всех людей. Они, и когда я там, на болоте, тоже видят только ветлы. Но это мои друзья. Ветлы исчезают, когда мы там вместе.
— Но Райтер видела не ветлы, — напомнил пастор. — Она видела людей. Мужчин.
Фройляйн задумалась.
— Да, — озадаченно сказала она. — И как раз такая злая баба. Как же это может быть? Я-таки думаю, она видела ветлы, а решила, что это мужчины! Обманулась, потому что хотела, чтобы я там за оградой разговаривала с мужчинами, и она могла меня в чем-нибудь обвинить. Так, наверное, и было. У злых людей тоже много силы, господин пастор, вы ведь знаете?
— Да, — ответил он со вздохом. — Значит, на холме вы соединяетесь со своими друзьями.
— Соединяемся, да! Там я в безопасности! Под их защитой! Там со мной ничего не может случиться! Поскольку я это знаю и так твердо в это верю, со мной еще никогда ничего не случалось на тропке. И никогда ничего не случится!
— Когда вы идете к холму, ваши друзья вас уже там ждут?
— Да, все!
— Как они выглядят?
— Ну, точно, как выглядели при жизни. Я чувствую их дух, и поэтому вижу их совершенно отчетливо.
— Значит, они все еще на этом свете? Еще не упокоились с миром?
— Ну, конечно, упокоились! И какой чудный мир они обрели, господин пастор! Объясню вам все это, как объяснили мне мои друзья, господин пастор. Ну, значит, сначала умерший после своей смерти еще годы бродит по земле, потому что он ведь с этой земли. В это время он еще может являться людям. Потом он, наконец, уходит в другой мир. Сначала на самый нижний уровень другого мира.
— Уровень? — переспросил Демель.
— Да. Уровень. Представьте себе это вроде лестницы со многими-многими ступеньками, господин пастор. — Фройляйн загорелась. Щеки у нее раскраснелись, глаза сверкали: — Внизу, у основания лестницы, — там человеческое бытие. А на самом верху, в конце лестницы, — там Божественное бытие, там святые. Мои друзья, они на ступени посередине…
— Понимаю…
— Пока еще не со святыми! Ниже. На пару ступеней ниже святых.
— На предварительной стадии, — сказал Демель и поперхнулся дымом своей сигареты.
— Да, на предварительной стадии. Это вы хорошо сказали. И знаете, господин пастор, что самое чудесное: на том уровне, на котором живут мои друзья, есть только дружба, только мир, там только добро.
— Значит, ваши мертвецы все были хорошими людьми?
Фройляйн заколебалась:
— Да нет, так нельзя сказать, нет… теперь да, теперь они, конечно, хорошие, иначе они никогда не попали бы на тот уровень, понимаете?
— Понимаю.
— Я имею в виду, если бы все мелочное не слетело с них. На том уровне, на котором мои друзья живут между людьми и Всезнающим Господом, там у них еще остались воспоминания об их телесной жизни на этой земле, о положении, которое они здесь занимали, об их национальности и об их профессиях. Чех, например, был архитектором в Брюнне. Норвежец — поваром. Голландец — издателем школьных учебников в Гронингене. Американец — специалистом по рекламе в Нью-Йорке, на Мэдисон Авеню. — Она произносила иностранные слова правильно. «Как же так? — размышлял пастор. — Как она могла их правильно произносить?» — И так далее. Штандартенфюрер производил майонез в Зельце под Ганновером. Русский работал клоуном в цирке в Ленинграде. Поляк был профессором, преподавал математику в университете в Варшаве. Украинец был крестьянином. Француз работал репортером судебной хроники в одной газете в Лионе. — Снова все было произнесено правильно. — Свидетель Иеговы — тот был служащим сберегательной кассы в Бад-Хомбурге. А тот, что отбывал трудовую повинность, самый молодой, тот умер раньше их всех, он был студентом философии из Рондорфа под Кёльном. Будет очень неприлично, если я попрошу еще чашечку кофе? Нет? Вы просто ангел, господин пастор!
— Рассказывайте дальше, прошу вас, фройляйн Луиза, — попросил Демель.
— Ну, вот, это все они еще помнят. И свои сущности… Свои личности… — да, можно так сказать — их они тоже пока в основе своей сохраняют. Но вот что самое чудесное: они все друзья, группа друзей, ведь все они уже на одном из высших уровней. Там уже нет ничего низменного! Ни ревности. Ни ненависти. Ни агрессивности. Ничего сексуального. Вообще никаких инстинктов. Они совершенно лишены инстинктов, мои друзья.
— Лишены инстинктов, — повторил Демель.
— Ну да, — подтвердила фройляйн. — Потому что они всего лишь духовные сущности. Инстинкт — это же просто тюрьма для тела. Видите ли, в этом-то отсутствии инстинктов они и едины, и едины со всеми святыми, вот. И я принадлежу к их группе, они меня приняли, и мы встречаемся на болоте и разговариваем друг с другом…
— О чем вы разговариваете? — спросил Демель.
— Обо всем, что происходит в лагере. К этому у моих друзей самый большой интерес. И о моих заботах. Если я не знаю, как мне лучше поступить с каким-то мальчиком или девочкой, если ребенок трудный или больной, или сбежал, или что-то плохо, тогда они советуют мне, — фройляйн склонила голову набок, прислушалась и кивнула.
— Что там? — спросил Демель.
— Француз, — ответила фройляйн. — Он же слушает!
— Да, конечно. И где он?
— Возле окна, сзади вас, господин пастор. Француз просит сказать вам, что они никогда не дают мне точных советов — он сказал «конкретных», — они не дают мне ни приказов, ни указаний. Они, например, не говорят: «Возвращайся в лагерь и будь особо ласковой и снисходительной к злому ребенку, он злой только потому, что видел так много зла». — Нет, они говорят: «Делай побыстрее то, что решила, потому что это у тебя получится». — Ну, и я, конечно, совершенно точно понимаю, о чем идет речь! Это же однозначно, правда?
— Гм-гм! Да, конечно. Совершенно однозначно. Предупреждают ли вас иногда эти голоса, фройляйн Луиза?
— Конечно, они это делают! Часто! Но тоже всегда таким образом, чтобы я сама искала смысл. Они же не могут говорить по-другому.
— Почему?
— Ну, потому что конкретного на том свете нет, — ответила фройляйн Луиза. — Это же ясно, как Божий день, господин пастор!
17
— Шизофрения, — сказал я.
— Конечно, — подтвердил Пауль Демель. Он пригладил рукой короткие волосы. — Бедная фройляйн! Все это я рассказал вам только потому, что тем временем и так все узнали. Потому что воспитательницы хотят, чтобы в их бараках ее больше не было. Потому что женщины практически вытолкали ее, и она укрылась здесь. Потому что травля против нее, вопреки всем моим усилиям как-то сгладить ситуацию, приняла такие формы, что и доктор Шалль вынужден подумать, не отправить ли фройляйн Луизу на пенсию. Это большое несчастье…
— Я сойду с ума! — резко сказала Ирина. Она сидела возле телефонного аппарата и смотрела на него не отрываясь, будто хотела загипнотизировать: — Не может же он быть занят часами!
— Бывает, — отозвался я.
— Девушка на коммутаторе забыла про меня!
— Уверен, что нет. — Я положил руку на плечо Ирины. — Наберитесь терпения. Еще немного. Сейчас вас обязательно соединят.
— Обязательно, — подтвердил пастор.
— Тогда вы собирались выяснить кое-что из ее прошлого, — напомнил я. — Проходила ли она когда-нибудь курс лечения у психиатра.
— Да, — отозвался он.
— И что? — я бросил взгляд на диктофон. Он работал.
— Родилась и выросла в Райхенберге, — начал Демель, вынимая вилку шнура электроплитки из розетки. — В порядке. Снова отлично нагревается. Да. Рано потеряла родителей. Десять лет в приюте. По складу характера была милой доброй девочкой, открытой и отзывчивой. С восемнадцати лет работала воспитательницей в Вене. В двадцать четыре была временно направлена в Исполинские горы. В богемскую часть. Буквально рядом с Белым Лугом.
— Что такое Белый Луг?
— Верховое болото, такое же, как здесь, — ответил он. — Да-да, вы видите, все сходится. Подождите, еще больше сойдется. Там, в Исполинских горах, фройляйн Луиза пережила свою первую, относительно позднюю любовь. Насколько я смог установить, вообще ее единственную любовь. Этот молодой человек — немного моложе ее — пошел однажды на Белый Луг и в этом болоте погиб. Его труп так и не нашли. Мне также не удалось выяснить, был ли это несчастный случай или молодой человек имел склонность к меланхолии или чему-то подобному.
— Как бы то ни было, умер он молодым, — сказал я. — До своего срока. Задолго до срока, который, возможно, был ему отпущен. Как и те… — Я не договорил.
— Как и те друзья, которые появились у фройляйн Луизы здесь, — закончил за меня пастор Демель и кивнул. — Далее, после пребывания в Исполинских горах — провал на полгода. Я не знаю, что там было.
— Возможно, первый приступ шизофрении, — сказал я и погладил вздрагивающее плечо Ирины. — Спокойно, — сказал я, — спокойно. Разговор обязательно будет. Могут дать в любой момент.
Она подняла на меня глаза и вымученно улыбнулась.
— Полагаю, вы правы, — произнес Демель. — Скорее всего, она была в какой-нибудь клинике. Потом, после выздоровления, она снова работала воспитательницей, всегда только воспитательницей, и всегда в лагерях. В лагерях всех типов.
— И при режимах всех типов, — добавил я.
— И при режимах всех типов, да, — согласился пастор. — Именно потому, что по документам она значилась как душевнобольная. — Он сказал это без всякого цинизма. — Скорее всего, она в то время уже была такой же, как сегодня. Чуткой и отзывчивой, но необщительной. Недоступной, когда речь шла о взрослых. Только детям она дарила свою любовь. Поэтому все режимы направляли ее в лагеря. И еще потому, что она даже в самых страшных условиях — в холоде, голоде и нужде — никогда не забывала о своих детях, заботилась о них из последних сил. Хотя порой ей встречались люди, которых она очень ценила и с которыми умела наладить контакт. Немногие. Слишком немногие. Уже двадцать лет она здесь, господин Роланд, уже двадцать лет! Вы не представляете себе, как тут все выглядит, когда по-настоящему спускаются туманы, или зимой, когда нас на метр заваливает снегом! В Цевен фройляйн ездит раз в месяц. А в Гамбурге или Бремене не была уже много лет. Ну, вот я и думаю, что из обрывков воспоминаний о людях в ее жизни, с которыми она нашла контакт, и из рассказов крестьян о множестве мертвецов здесь, в болоте, со временем возник…
Тут снова зазвонил телефон.
Одним прыжком Ирина оказалась у аппарата и подняла трубку:
— Да… да… Благодарю вас… — Нам она сказала: — Сейчас соединит.
— Ну вот, — сказал Демель.
Ирина ждала. Вдруг ее лицо вытянулось от удивления.
— Что такое? — спросил я.
— Музыка в трубке, — ответила она. — Музыка… и какая, Боже мой!.. Вот послушайте… — Она подала мне трубку.
Я услышал, как сквозь шумы помех тихо, словно дуновение ветра, доносится протяжная, грустная мелодия в исполнении многих скрипок.
— «Хоровод», — сказал я и передал трубку обратно.
— Моя любимая песня, — сказала Ирина. — Старомодно, да? — Она вполголоса напела несколько тактов.
Я смотрел на нее, и мне вдруг стало ясно, что Ирина, несмотря на профессию, которую она избрала, и на ее интеллект, была беспомощным, беззащитным существом. Ее, конечно, легко было обмануть. Ее, конечно, легко было обидеть. Она, конечно, верила всему, что говорили близкие ей люди. Людям было легко с Ириной Индиго. А Ирине Индиго, этой девочке с грустными глазами, было с людьми трудно, я вдруг почувствовал в этом уверенность. Всю свою веру, всю свою любовь она отдала человеку, который был ее женихом, которому она сейчас звонила, этому капитану по имени Ян Билка.
— Яну тоже так нравится «Хоровод», — говорила в этот момент Ирина. — И как раз сейчас я его слышу… хороший знак, правда? — В следующую минуту она закричала: — Ян! — После этого быстро заговорила по-чешски. Мы с пастором смотрели на нее. Она захлебывалась словами, но вдруг резко замолчала, и ее лицо исказилось от гнева. — Алло! Алло! — закричала она. — Алло, фройляйн! — Она стукнула по рычагу.
— Что-то не так?
— Нас прервали… — похоже, позвонила фройляйн Вера с коммутатора, потому что Ирина опять заговорила резко и отрывисто: — Фройляйн, связь неожиданно оборвалась! Нас прервали… Нет-нет-нет, связь уже была прервана, когда я стукнула по рычагу!.. Прошу вас, наберите еще раз… Пожалуйста!.. Да… да… Хорошо… Благодарю вас.
Ирина ждала. Пальцами свободной руки она барабанила по крышке стола. «Жаль, что нет Берти и он не может ее сфотографировать», — подумал я и спросил:
— А что, собственно, случилось? Что вы сказали?
— Я… я…
— Спокойно, — сказал я, — только спокойно. Что вы сказали?
— Я сказала: Ян, это Ирина. Я на Западе. В лагере «Нойроде». Ты можешь забрать меня отсюда, если приедешь со своим другом и…
— И что?
— И тут связь прервалась.
— А кто ответил?
— Ян, конечно!
— Вы уверены?
— Абсолютно! — закричала она вне себя от злости.
— Нет никакого смысла злиться на меня, — сказал я. — Я тут ничего не могу поделать.
— Мне очень жаль. Извините меня.
— Ладно, — ответил я и подумал: «Маленький мальчик. Фройляйн-шизофреничка. Беглый капитан. Если так и дальше пойдет…» Здесь лежал зарытый клад, фунт золота, я это чувствовал, я всегда чувствовал, когда выходил на след сенсации. Я спросил:
— Что сказал ваш жених?
— 2 20 58 64.
— По-немецки?
— Да.
— И больше ничего?
— Но потом же я заговорила!
— Потому что узнали его голос?
— Ну, конечно!
— Это был точно его голос?
— Говорю же вам, да. Это был голос Яна! Его голос! В этом нет никакого сомнения! — Она прислушалась: — Есть гудок! — Она схватила трубку двумя руками. — Гудок… Еще гудок…
Заходящее солнце освещало ее кроваво-красным светом. Я взглянул в окно. На западе голые ольхи и березы резко выделялись черным цветом на фоне пылающего неба.
— Все еще гудки… — Ирина вдруг начала всхлипывать. — Этого не может быть! Он же ответил!
Я взял у нее трубку. Она была влажная от пота. Я прислушался. Звучали длинные гудки.
«Свободно».
«Свободно».
«Свободно».
Ирина громко всхлипнула.
Пастор подошел к ней.
— Не надо, — сказал он. — Пожалуйста, не надо. Сейчас мы выясним, что случилось. Не бойтесь.
— Но это же был его голос! Он только что был там! Как такое может быть?
— Минуту, — сказал я, стараясь не выдать своего волнения, положил трубку, снова поднял и набрал коммутатор.
— Фройляйн Вера, это Роланд. Не сердитесь, пожалуйста. В Гамбурге никто не отвечает.
— Я набрала 2 20 68 54, — раздраженно сказала телефонистка.
— Конечно, конечно. Может быть, неправильно сработало реле. Попробуйте, пожалуйста, еще раз. Прошу вас… Ради меня. — Мое воздействие на женщин. Просто потрясающе! В самом деле. Мне нечего жаловаться, хоть я и был таким старым пьянчужкой. Пока еще я получал любую, какую хотел. Женщины считали меня charmant.[20] Когда я напивался, я объяснял это Берти и прочим в редакции по-французски: «Totes les femmes sont folles de moi».[21]
— Ну, ладно, ради вас, господин Роланд. У меня в самом деле много других дел, понимаете?
— Ну?! Пожалуйста! Благодарю вас, фройляйн Вера!
— Этот парень… недавно… который хотел взять меня с собой… его судили за вымогательство? — заговорила, заикаясь, Ирина. В ее темных глазах отражалось ярко-красное солнце, и они сверкали. В просторном кабинете все окрасилось вдруг в красный цвет, все стало кроваво-красным. — Вы думаете, он хотел меня похитить? Вы думаете, это связано с Яном? С Яном что-нибудь случилось?
«Да, — подумал я, — уж это точно». А вслух сказал:
— Что за глупости. Разумеется, никто вас не собирался похищать. У этого грязного типа были насчет вас другие планы. И что значит: «случилось с Яном»? Вы же говорите, что только что слышали его голос.
«Фунт золота? Пять фунтов! — думал я. — Чистое золото, старина!»
— Опять гудки, — сказал я. Она протянула руку за трубкой, но я отодвинулся от нее. На этот раз я хотел быть первым, если кто-нибудь ответит. Я смотрел на свои часы и ждал, пока гудки «свободно» не прозвучат в течение трех минут.
— Ничего, — сказал я и положил трубку. — Никто не отвечает.
У Ирины дрожали губы. Задыхаясь, она проговорила:
— Боюсь… Я боюсь… Там что-то случилось!.. Там точно что-то случилось!
«Голову даю на отсечение, там что-то случилось», — подумал я и сказал:
— Прошу вас, возьмите себя в руки. Да, там явно что-то пошло не так. Но мы не знаем, что именно. Все может оказаться совершенно безобидным. Может быть сто причин, почему никто не отвечает.
— Назовите мне хоть одну!
«Ну, нет», — подумал я и сказал:
— Фройляйн Индиго! Вам сейчас нужно сохранять ясную голову. Это самое важное. Тогда я тоже попытаюсь вам помочь.
Она посмотрела на меня, как на злейшего врага:
— Вы? Почему именно вы?
— А почему не именно я? Я репортер. Мне всегда нужны разные истории. Это как раз и может быть одной из них. Но я смогу вам помочь, только если вы будете мне доверять.
Зазвонил телефон. Ирина тихо вскрикнула. Я поднял трубку. Это была фройляйн Вера.
— Ну что, теперь получилось? — поинтересовалась она.
— К сожалению, нет. Тут ничего не поделаешь. Но все равно большое спасибо. Я вам сейчас перезвоню, милая фройляйн Вера. Теперь мне нужно сделать звонок во Франкфурт.
— С удовольствием, господин Роланд. Мне жаль, что не получилось с Гамбургом.
«Toutes les femmes…»
— Ну, так как же? Вы мне доверяете?
— Нет, — ответила Ирина резко.
— Фройляйн Индиго, — предостерегающе произнес пастор.
— Я здесь никому не верю! Почему это я должна доверять? — Ирина заплакала. Она опустилась на стул, уронила голову на сложенные на краю стола руки и безутешно зарыдала.
Я дал ей немного пореветь. Я уже знал, как все пойдет. У нее не было выбора. И она, разумеется, подняла в конце концов залитое слезами лицо, проглотила комок в горле, всхлипнула еще раз, а потом сказала:
— Я… я не хотела…
— Так, значит, вы мне доверяете?
Ирина молча кивнула.
— Отлично, — сказал я. — Теперь будем продвигаться очень быстро. — И взялся за телефон.
Я попросил фройляйн Веру соединить меня с моей редакцией во Франкфурте и дал ей телефон издательства. Этот номер ответил сразу.
— «Блиц», добрый день, — произнес девичий голос.
У меня хорошая память на голоса. Всех наших телефонисток я знал уже много лет.
— Привет, Марион, моя сладкая, — начал я. — Это Роланд.
— Ой, господин Роланд! — секунды без слов и дыхания. А что я вам говорил?!
— Я на севере Германии. Дайте мне, пожалуйста, господина Крамера.
— Сию минуту, господин Роланд.
— Спасибо, золотко.
Потом отозвалась секретарша Крамера, а потом и сам Пауль Крамер. Он был шефом нашей литературной редакции и моим добрым другом. Я знал его с тех пор, как пришел в «Блиц».
— Привет, Хэм, — сказал я.
— Привет, Вальтер, — сказал он. — Ну, что у тебя? Опять где-то там на севере напился? Объявился «шакал»?
— Нет, Хэм, — начал я, мы называли его «Хэм», потому что Пауль Крамер, пятидесяти шести лет от роду, был сильно похож на великого Хэмингуэя — лицом, вечно нечесаными седыми волосами, очками в стальной оправе, которые он иногда надевал, потертыми фланелевыми брюками и пестрыми рубашками лесоруба, которые он любил носить, — но прежде всего своим характером. Если меня что-то в «Блице» и заставляло держать себя достойно, то это был Хэм. Самый великодушный, самый умный и самый лучший редактор, которого я знал и который, вероятно, вообще был на свете. Единственный человек, которого я уважал. Я очень хотел бы быть таким, как он, но таким я никогда не стану.
— Ты на мели? — спросил Хэм.
— Нет.
— Тогда ты меня заинтриговал. Рассказывай, что там у тебя на душе.
Я начал рассказывать. Ирина и пастор внимательно слушали. Свет в комнате сгущался, становился зловеще-красным. Я рассказывал, что увидел и услышал. Во время повествования об Ирине и ее женихе я старался выражаться осторожно. Тем не менее Хэм понял, что я чую большую сенсацию. Он сам это тоже умел. За долгие годы мы выработали для таких случаев свой собственный язык. Хэм разволновался почти так же, как я.
— Вальтер, старина, если из этого что-нибудь получится…
— Да, — сказал я. — Да, именно.
— Только не выходи из игры!
— Да.
— Даю тебе карт-бланш. Делай, как считаешь нужным. Связь не реже, чем каждые пару часов. Звони постоянно.
— Да, — снова сказал я.
Я уже долго произносил только «да». Пастор и Ирина смотрели с недоверием. Я им простодушно ухмылялся.
— Ночью звони мне домой. Номер у тебя есть.
— Да.
— Полагаю, ты попытаешься уехать с малышкой и с Берти в Гамбург — как можно скорее, так?
— Да.
— Она слушает, да?
— Да.
— Я сейчас же сообщу Лестеру и Херфорду. — Лестер был главным редактором, Херфорд — издателем.
— Хэм, мне сейчас нужны деньги, — сказал я.
— Понятно, так я и думал. — Мне не нужно было даже говорить, для чего они мне были нужны, уже годами мы понимали друг друга с полуслова, Хэм и я. — Сколько? — спросил он.
— Пятнадцать тысяч, — ответил я. — Пусть бухгалтерия сразу же вышлет их телеграфным переводом. «Парк-Отель», Бремен. На мое имя. Нет, на имя Берти. — Мне кое-что пришло в голову.
— Ладно. Подожди минуту. Я только скажу об этом Рут. Чтобы не терять времени. — Рут была моей секретаршей. Я слышал, как он коротко с ней переговорил.
— Я снова здесь. Давай дальше, Вальтер.
— Дальше мне нужны из архива все, какие есть, документы об этом Карле Конконе. Запиши по буквам. — Я продиктовал.
— Когда его судили? — спросил Хэм.
— Берти говорит, в пятьдесят седьмом. Мы тогда давали фоторепортаж. Пришлите оригиналы или фотокопии, как хотите.
— Все отправить в Гамбург, я полагаю?
— Да. Аэропорт Фульсбюттель. До востребования. Мы получим, Берти или я. Пусть архив напишет, что получатели мы оба. Самолеты летают беспрерывно. Авиапочтой-экспресс.
— Понятно.
— Так, и последнее — отправьте, пожалуйста, сообщение Конни, Хэм. — Конни — это Конрад Маннер, наш корреспондент в Гамбурге. — Пусть немедленно едет… Минуту. — Я повернулся к Ирине: — Напомните адрес вашего господина Михельсена.
— Адрес… — растерялась она, подавленная этим ураганным пулеметным огнем нашего с Хэмом разговора. — Эппендорфер Баум, 187.
— На Эппендорфер Баум, 187, — повторил я в трубку. — Пусть Конни попробует разыскать Яна Билку. Но незаметно. Пусть только наблюдает!
— Само собой понятно, — ухмыльнулся Хэм, — как делаются такие дела.
— И пусть не срывается с места, если его найдет. У Конни же есть киска, с которой он живет. Не могу вспомнить имя.
— Эдит, — подсказал Хэм. — Прекрасная Эдит.
— Точно. Пусть постоянно дает ей знать по телефону, где находится и что происходит, пока я не приеду. Я заеду сначала к Эдит. Конни нужно описание этого Билки. Подождите, Хэм, сейчас я дам вам фройляйн Индиго. — Я передал ей трубку. — Опишите вашего друга, — сказал я.
— Хорошо, — покорно согласилась она и заговорила в трубку: — Добрый день! Я должна… Да, так вот, ему тридцать два года… рост примерно метр восемьдесят… светлые волосы, очень коротко подстрижены… да, армейская стрижка… глаза серые… лицо продолговатое… справа на подбородке шрам… стройный… но очень крепкий… смуглое лицо… больше я не знаю… да, минутку… — Она передала мне трубку обратно…
— Этого, наверное, хватит, — сказал Хэм. — Сообщение немедленно отправим по телетайпу. А ты звони мне как можно чаще.
— Будет сделано. Пока, Хэм. Дайте мне теперь, пожалуйста, доктора Ротауга.[22] — Доктор Хельмут Ротауг был юрисконсультом «Блица» и заведующим юридического отдела.
— Ты, очевидно, не можешь говорить там открыто, — сказал Хэм, и мне на мгновение почудился аромат табака «Данхилл». Хэм всегда курил трубку. — Я полагаю, Ротауг должен дать тебе точную формулировку заявления на передачу неимущественных прав.
— Именно это, — сказал я с благодарностью.
— Я его проинформирую, он тебе продиктует, а ты только запишешь. Пока, Вальтер. — В трубке раздался щелчок.
Я ждал и при этом улыбался Ирине. Она смотрела на меня серьезно и печально. Это можно было понять.
Потом отозвался Ротауг своим тихим голосом, в котором, как ни странно, тем не менее всегда слышалась угроза. Этот Ротауг был мужчиной шестидесяти лет, работал в «Блице» со дня его основания, пользовался неограниченным доверием издателя и выглядел, как черепаха в человеческом обличии. Он был приземистым и согбенным, носил только черные костюмы, белые рубашки, серебристые галстуки и жесткие высокие воротнички с острыми уголками, как у покойного доктора Хьялмара Шахта.[23] У него была длинная шея, на которой складками свисала дряблая кожа, желтушная и вся в темных пятнах, овальное, всегда с холодным выражением лицо, тоже желтушное и в пятнах, и совершенно лысая голова. Кожа на черепе выглядела так же, как на шее, только была натянута. Веки его маленьких, немигающих глаз были почти без ресниц. На узле своих галстуков он всегда носил красивую большую жемчужину. У него было лицо, какое бывает у людей, связанных с деньгами, — у банкиров, председателей наблюдательных советов, финансистов. В своей области он был гением. Гением, а не человеком. Еще ни разу я не заметил в нем ни одной человеческой черты. В его лице «Блиц» обрел одного из самых ловких адвокатов страны и, несомненно, крупнейшего специалиста по авторским правам.
Наши отношения? Вежливо-холодные. Мне было известно, что много лет назад Ротауг сказал обо мне издателю: «Автор высшего класса, прекрасно. Мы на нем заработаем миллионы, хорошо. Роскошный мальчик. Но попомните мои слова: однажды из-за этого роскошного мальчика мы поимеем самый страшный скандал за всю историю нашего издательства».
И сейчас этот самый доктор Хельмут Ротауг после вежливо-холодного приветствия, тут же перешел к делу:
— У вас есть бумага и карандаш?
— Минуту, — я выудил из кармана блокнот и авторучку. — Готово.
— Пишущая машинка у вас с собой?
— В машине.
— Хорошо. Это должно быть отпечатано. В трех экземплярах. Оригинал получает клиент, копии привезете нам. Итак, место и дата. Далее: Заявление. Под этим: Я, нижеподписавшийся… — И он продиктовал мне весь мудреный, хитроумно составленный текст. Никто, подписав такое заявление, не мог уйти у нас из рук. Я стенографировал. Получился довольно длинный документ. Ротауг продумал буквально все. Под конец он сказал:
— Вот вам точный текст. При передаче денег обязательно берите расписки. Еще вопросы?
— Нет, — ответил я. — Спасибо за дружескую услугу, доктор.
— Всего хорошего, — сказал он и повесил трубку. Ну, конечно. («Однажды из-за этого роскошного мальчика мы поимеем самый страшный скандал за всю историю нашего издательства…»)
Я положил трубку и спрятал блокнот. Когда я закрывал авторучку, снаружи донесся пронзительный женский голос: «Беги, Карл, беги!»
Мы все бросились к окну. То, что случилось дальше, произошло во много раз быстрее, чем это можно описать.
Первое, что я увидел, был толстый Карл Конкон, который мчался к открытой калитке у больших входных ворот. За ним, спотыкаясь, бежали двое охранников.
Я распахнул окно, и снова раздался тот же женский голос. Он доносился из-за ограды лагеря, как мне показалось, с автостоянки, из какой-то машины: «Карл, беги! Беги, Карл!»
Карл Конкон мчался.
— Придурки! — заорал я. — Не устерегли парня! — Я перескочил через подоконник наружу. По песчаной почве с бурой травой, по бетонным дорожкам я быстро, как только мог, побежал к лагерным воротам.
Как я уже сказал, все произошло за несколько секунд, не больше.
Снаружи тоже все было окрашено красным светом заходящего солнца. Дамы и господа за лагерной оградой, казалось, оцепенели. Многие пригнулись или даже попа́дали на землю. Ничто не шевелилось. Все там выглядело будто застывший кадр. Карл Конкон удирал к лагерным воротам. Пригнувшись, он бежал зигзагами, как заяц. Да, кричала женщина в черном «бьюике», и она снова закричала: «Карл! Беги! Беги! Карл, беги!» Я видел ее голову, высунутую из окна автомобиля. На ней был платок, и это все, что я разглядел. Расстояние было слишком большое. В следующую секунду я увидел фройляйн Луизу.
Она вышла из медицинского барака в сопровождении Берти, держа за руку маленького Карела. Барак располагался у входа в лагерь, был покрашен в синий цвет и на нем был изображен красный крест на белом фоне. Я бежал к ним троим, я быстро приближался. Со всех сторон сбегались подростки, дети и взрослые. К своему удивлению, я увидел, как маленький Карел, держа в руке трубу, вырвал другую руку у фройляйн Луизы и тоже побежал к воротам. Ему было недалеко, он бежал изо всех сил, как только мог. При этом он что-то кричал по-чешски, я разобрал только слово «мама» и похолодел. Мама!
Я понял: мальчика звали Карел, а эта педерастическая задница был Карл. И мальчик, скорее всего, подумал, что тот женский голос звал не Карла, а Карела.
«С тех пор как он здесь, постоянно говорит о своей матери», — говорила мне фройляйн Луиза. Теперь это промелькнуло у меня в голове. Его отец во время побега наказывал ему бежать, если он крикнет: «Беги, Карел, беги!» И вот Карел бежал. Бежал, Господь всемогущий!
Фройляйн Луиза закричала и бросилась следом за ним. Она кричала что-то по-чешски. Карел не реагировал. Я видел, как Берти тоже побежал, держа свой «Никон-Ф» в руке. А потом там, у ворот, разразился хаос.
Из темного «доджа», припаркованного рядом с «бьюиком», раздалась автоматная очередь. Я увидел ствол, торчащий из окна со стороны водителя. Пули из автомата ударялись в песчаную почву и поднимали фонтанчики грязи. С бешеной скоростью перемещались они к лагерным воротам, через которые только что пробежал Конкон. Стреляли, чтобы прикрыть Конкона и остановить всех преследователей.
Оба охранника, которые гнались за педерастом, мгновенно бросились на землю. Некоторые автоматные пули перебивали проволоку в ограде и рикошетом отлетали в стороны по невероятным траекториям. Берти схватил старую фройляйн и вместе с ней упал на землю. Так что все там впереди вдруг оказались на земле. Я еще бежал. Одна пуля просвистела рядом со мной. Тогда я тоже распластался на песке.
Дети кричали, взрослые грязно ругались.
Ледяная рука сжала мое сердце, я увидел, что Карел продолжал бежать. Его ничто не останавливало. Он был уверен, что его зовут и бежал на голос. Он бежал, пошатываясь, словно в оцепенении. И он налетел как раз на следующую автоматную очередь.
И сегодня, когда я пишу эти строки, не хочу утверждать, что стрелявший целился в мальчика. Об этом нет и речи. Нет, он хотел любой ценой прикрыть своего человека, а может, думал, что начнут стрелять охранники. Он не знал, что они не могли этого сделать, поскольку их единственным оружием была дубинка.
И был момент, от которого все внутри перевернулось, когда сноп огня настиг Карела. Страшная сила одновременно ударивших в его тело пуль подбросила его на целый метр в воздух и отбросила назад. Я видел, как Берти слегка приподнялся и щелкнул фотоаппаратом. Если этот снимок удастся, он будет стоить целого состояния! Карел упал на землю, покрытую вереском. Его труба отлетела в сторону. Крик из всех глоток. Карел не шевелился. Карл Конкон добежал до «бьюика» и прыгнул в машину. Женщина за рулем, та что кричала, дала газ, «бьюик» описал большую дугу на визжащих тормозах, и помчался прочь. Следом двинулся темный «додж», в котором сидел стрелявший. Его тормоза тоже провизжали на развороте. Он рванул вслед за первой машиной. Оба мелькнули вдалеке на правом повороте этой убогой дороги и пропали из виду.
Все задвигалось и заголосило, перекрывая друг друга. Из медицинского барака пулей примчался мужчина в белом халате, судя по всему, доктор Шиманн. Фройляйн Луиза, доктор, Берти и лагерные полицейские вместе с двумя или тремя десятками любопытных побежали к неподвижному Карелу. Я вскочил и побежал дальше. Из барака охраны, ковыляя и сгорбившись, вышел третий полицейский. За ним показался четвертый, такой же скрюченный и хромой. Двое их коллег, ругаясь и крича, оттесняли подростков.
— Прочь отсюда!
— Убирайтесь, черт вас побери!
— Вон, пошли вон!
Толпа отодвинулась.
Я подбежал к небольшой группе вокруг мальчика. При этом я столкнулся с Берти, который, как и я, весь в пыли держал в руках свой большой «Хасселблад» и снимал как сумасшедший.
— Boy, o boy,[24] — стонал он. Он больше не улыбался. — Какие снимки! Я снимаю только в цвете.
— Света хватает?
— Ясное дело, диафрагма полностью открыта, одна тридцатая секунды. — Прихрамывая, он обежал вокруг группы, встал на колени и снова щелкнул. Я подошел к фройляйн Луизе. Она раскачивалась с такой силой, что я боялся, как бы она не упала.
— Карел… мой Карел… какое горе… — пробормотала она, когда узнала меня. — Если бы этого сучонка не звали Карлом, ничего бы этого не случилось. Он подумал, что его зовет мать. Он кричал: «Да, мама, я иду!» Господин доктор сделал ему успокоительный укол. Он был не в себе. «Да, мама, да, я иду!» Ах ты, Господи милосердный, почему ты это допустил? — По ее лицу текли слезы. Врач, стоявший возле мальчика на коленях, поднялся. Лицо у него стало суровым.
— Он?..
— Да, — ответил доктор Шиманн. — Умер, несомненно сразу.
Фройляйн Луиза с воплем упала на колени рядом с мальчиком, склонилась над ним, гладила его лицо, шептала ему по-чешски слова утешения, как будто хотела вернуть его этим к жизни. Земля вокруг Карела быстро обагрилась кровью. Фройляйн Луиза стояла на коленях уже в крови. Она этого не замечала.
— Как это могло случиться? — спросил я одного из полицейских.
— Парень вел себя совершенно спокойно… Мы следили, в самом деле… Потом вдруг подпрыгнул и сбил с ног одного из наших, а другого ударил.
— В брюхо, — добавил подошедший хромой, который со стоном держался за живот. — Изо всей силы. — От боли у него на глазах выступили слезы. — Я отлетел на Евгения, — он указал на одного из полицейских, — и мы оба упали. Тут он и сбежал.
— Нас всего четверо, — добавил Евгений. — Фриц, — он указал на своего коллегу, который, тяжело дыша, стоял рядом, — как раз звонил. Мы ничего не могли сделать. Правда ничего.
— Почему вы не погнались за теми двумя машинами?
— На чем? У нас же нет автомобиля. — Краем глаза я увидел, что Берти сфотографировал меня и старого усталого лагерного полицейского.
— А наручников у вас тоже нет? — спросил я.
— Наручников? Наручников у нас нет… нам не положено…
— Тогда надо было привязать парня к стулу или еще что-нибудь… Вы же знали, что он опасен, — не успокаивался я.
— Слушай, пошел ты знаешь куда… чего ты тут выделываешься, кто ты такой? — психанул полицейский, получивший в живот.
— Я репортер, — сказал я. — Вы еще прочитаете о самих себе. Можете не сомневаться.
— Я не это имел в виду, — пошел на попятную ударенный. — Вы должны понять…
— Да ладно.
— …Мы все так переволновались и…
— Ладно!
— …Сами не знаем, что говорим. Ничего такого раньше не было и…
— Ладно! — рыкнул я на него. Я рыкнул так, что все на меня посмотрели. Охранник, тот даже выпрямился и, в свою очередь, зарычал на толпу:
— Назад! Живо! В бараки!
Его коллеги теснили тех, кто медлил. Они рычали точно так же. Последние любопытные испуганно отступали.
— Носилки! — крикнул доктор Шиманн. — Перенесите его ко мне! Или нет, — проговорил он быстро. — Оставьте на месте. Пусть лежит так. Не трогайте. Позвоните в Цевен. Пусть приедет криминальная полиция! Как можно быстрее!
— Слушаюсь, господин доктор! — Один из лагерных полицейских побежал к бараку охраны.
— Отойди-ка, Вальтер! — сказал Берти. Он лежал растянувшись на земле с «Хасселбладом» в руках. — И вы, доктор, пожалуйста, тоже.
Мы отошли в сторону. Берти фотографировал мертвого мальчика и склонившуюся над ним фройляйн Луизу, и низко, совсем низко над нами пролетела эскадрилья из трех «старфайтеров» с воющими реактивными двигателями. Земля дрожала. Воздух содрогался. На меня вдруг нашла смертельная тоска. Эти три самолета, как черные точки, вонзились в горящий закат. Над красным пламенем на западе угрожающе чернела стена туч. Был виден только маленький краешек солнечного диска. Еще печальнее, чем прежде, показались мне голые кустарники и деревья, темневшие в отблеске заката. Я посмотрел на фройляйн Луизу. Она окаменела в своем горе, не двигалась и не говорила. Низко склонившись, она стояла на коленях над мертвым ребенком.
Я вынул из заднего кармана фляжку, отвинтил крышку и пил, пока не задохнулся.
Мой «шакал» снова отступил. Он вдруг подкрался очень близко.
18
Через четверть часа.
Было уже почти темно. Здесь быстро темнело. Фройляйн Луиза все еще стояла на коленях возле мертвого Карела. Дамы и господа за оградой испарились. Автостоянка была теперь покинутой и пустынной. Пустынными и покинутыми были и дорожки, площадки и поросшая вереском территория лагеря. Подростки разошлись по своим баракам. Калитка возле ворот была заперта.
Охранники ждали криминальную полицию из Цевена. Они могли прождать ее еще долго. Пока даже первая машина, которую они вызвали, чтобы забрали Конкона, до сих пор не пришла. У закрытых ворот стоял на карауле полицейский. Теперь он там стоял! Никто не решался отослать фройляйн Луизу.
— Ну, так что? — спросил я тихо. Мы с Ириной Индиго стояли, прижавшись к стене барака, чтобы нас никто не мог видеть. Я нашел такой уголок. Она смотрела широко распахнутыми глазами в мои.
— Вы хотите отвезти меня в Гамбург?
— О господи, об этом я и твержу! — ответил я нервно.
Берти фотографировал в бараке охраны, где, как и во многих других, горел свет.
— Мы вас отвезем, мой друг и я. Мы поможем вам в поисках вашего жениха. Или вы не хотите?
— Конечно, я хочу… но… только недавно ведь говорили, что ни один человек не должен покидать лагерь…
— Мне и моему другу можно, как только приедет криминальная полиция и получит наши показания. А когда мы выйдем из лагеря, вы тоже выйдете.
— Где? Как? — она дрожала и прижимала скрещенные руки к груди. Воротник ее пальтеца был поднят. Холодало. Я вдруг тоже замерз. Мое пальто лежало в машине, перед въездом в лагерь.
— Вы же слышали, что рассказывал пастор… об этом растрескавшемся бетонном столбе. Это рядом с дорогой в сторону деревни. Это та опора, возле которой стояла Хильда Райтер, пытаясь сбежать, когда она увидела на болоте фройляйн. Вон там, впереди. — Я указал подбородком.
— Но она не смогла выбраться. Не смогла сдвинуть столб.
— Человек не может, — убеждал я. — Но у нас есть машина. Машиной получится. — «Надеюсь», — подумал я.
— Машиной? Какой машиной?
— Моей. Вон она, единственная осталась на автостоянке. И с буксирным тросом. Гарантированно получится. — «Надеюсь», — подумал я. — Сейчас без десяти пять. Криминальная полиция должна быть здесь не позднее чем через сорок пять минут. С десяти часов жду вас возле опоры.
— Но мои вещи…
— Что у вас за вещи?
— Полный чемодан…
— Оставьте здесь! Там же только платья, верно? Можно купить новые. Вам же, надеюсь, ясно, что вы отсюда по-нормальному не выйдете, раз вами с самого начала занялась Охрана конституции.
— О господи, — воскликнула она и неожиданно вцепилась в меня. — Значит, вы все-таки думаете, что все это связано с Яном!
— Да, — ответил я.
— А раньше вы говорили…
— Раньше я говорил неправду. Чтобы вас успокоить.
Теперь я спешил. Мне нужна была эта девушка. Мне надо было ее забрать. Мне надо было ее убедить. И до десяти часов я не мог увезти ее из лагеря, потому что мне ведь еще нужно было отправить Берти в Бремен, чтобы забрать наши вещи и переведенные телеграфом деньги. И потом я должен был поговорить с криминальной полицией. И заключить пару договоров о передаче неимущественных прав. Дел было невпроворот.
— То, что вы задумали, противозаконно, — сказала Ирина. Ее черные глаза были полны печали.
— Естественно, — ответил я. — Итак: будете вы у опоры в десять? Это ваш последний шанс добраться к жениху, я имею в виду — быстро. И выяснить, что случилось в Гамбурге. Да или нет?
— Да, — прошептала она.
— Отлично. Идите сейчас в свой барак. Незаметно. Держитесь, по возможности, в тени. Никто не должен видеть, что…
— Вот вы где, — произнес мужской голос.
Я резко обернулся. Передо мной возвышалась худая фигура Вильгельма Рогге в очках с толстыми стеклами, того, из Ведомства по охране конституции. Я проклинал самого себя. Мне надо было сразу увезти Ирину, сразу после всего, что случилось. Но как я мог это устроить?
— Добрый вечер, господин Рогге, — сказал я.
Он лишь кивнул.
— Я вас повсюду искал, фройляйн Индиго. И мой коллега Кляйн тоже.
— Зачем? — спросила она, запинаясь.
— Мы хотели бы с вами побеседовать, — вежливо ответил Рогге.
— Прямо сейчас?
— Прямо сейчас. Если бы мы не были так перегружены работой, мы бы сделали это еще вчера. Вы первая в нашем списке.
— Первая? — пролепетала Ирина.
— Естественно. Такая видная беженка с таким видным женихом. Всего хорошего, господин Роланд.
— Всего хорошего, — ответил я и проводил их взглядом, пока они не исчезли в сумерках.
Черт возьми, дела были из рук вон! Что же теперь будет? Если Ирина расскажет этому Рогге и его коллеге то, что рассказала пастору и мне, — а ей ничего другого и не оставалось! — тогда Бог знает, что с ней будет и сможет ли она вообще прийти в десять к ограде. Проклятье! Я был вне себя от ярости. Но недолго. Я снова успокоился. Теперь надо было рассчитывать только на свою удачу. До сих пор мне везло в таких делах. Всегда! Тьфу, тьфу, тьфу! Продолжать дело, как будто все идет как надо. Отступиться никогда не поздно. Я посмотрел на мертвого Карела. Уже поползли туманы и накрывали землю. Они клубились над телом Карела и над фройляйн Луизой, которая все не двигалась с места. Я подумал, что это современный вариант Пьеты.[25] (Так опошляешься в моем ремесле!) Да, и я надеялся, что Берти видел это оплакивание и, несмотря на густые сумерки, смог как-нибудь снять эту картину, хотя бы силуэты.
Должно быть, я прислонялся к стене столовой, потому что вдруг услышал множество детских голосов, которые молились по-немецки: «Приди, Иисус, будь нашим гостем, и благослови то, что Ты нам дал, аминь!»
19
— Не поверите, — говорил шофер Кушке, — но что б там ни было, я всё равно берлина.
— В самом деле?
— Смешно, да? — он наморщил лоб. Мы беседовали в его комнате в административном бараке. Полиция и криминалисты находились теперь в лагере, Берти еще два с половиной часа назад выехал в Бремен, чтобы получить деньги и взять наш багаж в «Парк-Отеле». Предварительно я забрал из «ламборджини» пишущую машинку, бумагу, копирку и свое пальто. Я тоже уже побывал на допросе у криминальной полиции. Ничего особенного. Фотографы и эксперты выполняли свою работу при свете прожекторов. Тельце Карела увезла «скорая помощь». Об Ирине я больше ничего не слышал. Тут оставалось только молить Бога. Фройляйн Луизу я тоже больше не видел, с тех пор как встретил ее перед допросом. Внешне она казалась спокойной, но, отвечая на мое приветствие, определенно меня не узнала. Она что-то невнятно пробормотала и шаркающей походкой побрела в ночь, к своему бараку.
Сейчас было девятнадцать сорок пять. За это время я многое успел. У меня уже было несколько заявлений о передаче неимущественных прав. Обратиться к пастору я не решился. Но я повидался с этой Хитцингер, огромной бабой с мощным выменем, жадной до денег, как и до всего остального. Она знала ту же историю фройляйн Луизы, которую рассказал пастор. Только у нее она, естественно, была окрашена ненавистью. Передачу своих прав она оценила в 1500 марок. Двое из четверых полицейских также позволили себя уговорить за 500 марок на брата. Полной неожиданностью стала для меня фройляйн Луиза. Перед ней я довольно сильно трусил. И напрасно.
— Пишите, господин Роланд, напишите обо всем, что случилось, я вас прошу! И обо мне все, что хотите! — Она несомненно долго проплакала. Я разговаривал с ней в ее кабинете перед появлением полиции. — Эти бандиты, которые убили бедного невинного мальчика… Люди должны это прочитать! Они должны это знать!
Она не хотела брать деньги, я почти насильно заставил ее взять их 2000 марок. Все эти люди настолько доверяли мне, что подписались еще до получения денег, которые Берти только должен был привезти. И вот теперь я сидел у шофера Кушке. Он охотно рассказывал о своей жизни. Я сидел напротив, передо мной — пишущая машинка, текст я уже давно напечатал, но Кушке непременно хотел выговориться и довести свой рассказ до конца. Что мне еще оставалось, как только внимать ему?!
— Жил я в Нойкёльне. С женой и дитем. Как раз было два годика, как все этт началось с расколом.
— Да, господин Кушке.
— Честно скажу вам, господин Роланд. Я ведь был в СЕПГ! А как же! Я всё время говорил, если б коммунисты и социалисты держались вместе в конце Веймарской республики, а не били друг дружку по головам, никогда б этт Гитлер не пришел к власти, никогда! Что вы скажете?
— Полностью разделяю ваше мнение, господин Кушке. И если вы сейчас подпишете…
— Еще минутку. Видите ли, я ведь был коммунистом, да. Душой и телом. А потом русские устроили все это с молоком.
— С каким молоком?
— Да вы что, а блокада?![26] Молоко, и то они перестали пропускать в Берлин. Даже для малышей! Ни грамма, понимаете, ни грамма! Это уж было чересчур! Всё, сыт по горло! Порошок, что привозили американцы на своих самолетах, он же не годился для таких малюток. Такому ребеночку нужно хорошее, цельное молоко. Самое свежее! Ну, тут я, конечно, объявил о своем выходе из СЕПГ и сбежал.
— А ребенок? И ваша жена?
— Крошка Хельга у нас умерла. От плохого питания. А моя Фрида, так та меня бросила. С каким-то пианистом. После смерти Хельгочки наш брак развалился. Ну, ладно. Хватит об этом. Давно этт было. В общем, в сорок девятом я осел здесь. И с тех пор тут. Почти так же долго, как этт бедная фройляйн Луиза.
— Бедная фройляйн Луиза? — спросил я с глупым видом.
— Ну, вы уж, небось, заметили! Она ж слегка не в себе, моя хорошая. Она этт при вас тоже делала? С мертвыми разговаривала?
— Да.
— Во, видите! Ох, ну что за дерьмовый мир! Встретишь порядочного человека, а у него не все дома. Ну, давайте уж вашу бумажку, я подпишу. Слушайте-ка, а как с пенунзами — ваш приятель их в сам деле привезет или как?
— В самом деле, можете не беспокоиться, господин Кушке.
— Не хватало мне еще, чтоб вы меня надули!
— Вы что, не верите людям, господин Кушке?
— Девятнадцать лет здесь, господин Роланд! Вся этт нищета и подлость, что я тут пережил! Обо мне одном вы могли б написать целую книгу. Не, знаете, не. Ище верить кому-то? Этт не для меня! Я больше никому не верю! А, нет, одна все ж таки есть: этт бедная фройляйн Луиза…
20
Мы закрепили петлю буксирного троса на самом верху растрескавшейся опоры, чтобы рычажное усилие было наибольшим. Другой конец нейлонового каната был защелкнут на задней оси «Ламборджини». Я осторожно съехал за деревней с дороги, проехал сквозь кустарник. По неприятно мягкой почве, поближе к ограде. Теперь «Ламборджини» стоял в укрытии, между кустами дрока и можжевельника. Это было необходимо прежде всего из-за мощных ламп на высоких столбах, горевших по всему лагерю, и здесь тоже светила лампа. Было чертовски светло. Ко всему прочему было полнолуние. Безоблачное небо. Много звезд. Высоко над нами слышался свист ветра, но его порывов мы пока не чувствовали.
— Она не придет, — сказал Берти. Он сидел в машине рядом со мной.
— А может, и придет. Еще без пяти десять.
— Она не может прийти. Она загремела в Охрану конституции. С тем и конец. Ей теперь шагу не ступить без присмотра.
— А может, и придет, — упрямо повторил я. Иногда Берти умеет здорово действовать на нервы. Мы оба курили и не отрываясь смотрели на освещенный лагерь, в котором все было неподвижно. Полиция все еще была там. Я увидел над болотом странные огни. Они недолго мерцали, затем исчезали, потом вдруг снова появлялись совсем в другом месте. Сильно пахло водой и гниющим мхом. — В любом случае ждем до одиннадцати. Говорю тебе, она придет. Я это чувствую. Отчетливо чувствую. Хочешь, поспорим?
— Что она придет? Это все равно что отнять шоколадку у ребенка. Нет, я не буду спорить. Прекрасная испорченная история.
— Почему испорченная?
— Без девушки?!
— Мы и одни поедем в Гамбург. Поедем в любом случае.
— Да, но без девушки…
— Берти!
— Да?
— Заткнись. Я уже не могу это слушать.
Берти обиженно замолчал. Он преодолел дистанцию лагерь — Бремен — лагерь за рекордное время. Деньги, которые он привез, я распределил в соответствии с договорами и получил расписки. Потом нам пришлось еще раз пройти через допрос криминальной полиции. Как ни странно, за все это время из Охраны конституции никто так и не появился — ни большой господин Кляйн, ни господин Вильгельм Рогге в очках с толстыми стеклами.
Наконец, мы покинули лагерь и приехали сюда. Мы сидели здесь уже сорок минут. Я спорил с Берти без всякой уверенности. Я тоже не мог себе представить, что Ирина придет, что ей удастся прийти, потому что Охрана конституции…
— Эй!
Мы оба резко повернулись. Мое сердце бешено забилось. За оградой с колючей проволокой, на земле, лежала Ирина. Она подняла руку. Я выпрыгнул из машины и пригнувшись побежал по мягкой почве к столбу.
— Пунктуально, — прошептал я.
Она только кивнула.
— Не поднимайтесь, — сказал я тихо. У меня был с собой домкрат. Берти сидел за рулем и смотрел на нас из окна. Я дал ему знак. Он завел мотор. Осторожно дал газ. Двинулся медленно, очень медленно. В тишине ночи «Ламборджини», как мне казалось, производил адский шум. Канат натянулся. Машина вдруг задергалась. «Если колеса начнут сейчас буксовать, мы пропали», — подумал я.
Колеса не буксовали. Сантиметр за сантиметром машина ползла вперед с туго натянутым канатом. Там, где на бетонной опоре была трещина, по внутренней стороне образовался разлом. Опора стала клониться наружу. Я бросился к ограде, вставил в разлом домкрат и изо всех сил рванул его вверх. Машина продвинулась еще немного вперед. Разлом стал еще чуть больше. Натянутая сеткой проволока скрежетала. Берти делал свое дело отлично. Ни разу не дал слишком много газа. Опора стонала. Все ряды проволоки, в том числе колючей, натянулись до предела.
Теперь я сделал наоборот: руками и всем своим весом я надавил на домкрат и стал отжимать его вниз. Я оторвался от земли и повис в воздухе, сильно перевесившись вниз головой — прямо перевернутая латинская U. Только бы нам теперь повезло! Только бы сейчас никто не появился! Только бы мимо не проехала машина и нас не увидел водитель! Проклятые лампы на мачтах! Я чувствовал, как по всему телу у меня струится пот. Над головой я слышал тихий скрип. Это был нейлоновый канат. Если он порвется…
Он не порвался. Нам чертовски повезло. Это было невероятно. Внезапно верхняя часть растрескавшегося бетонного основания начала со скрипом клониться наружу, сначала медленно, потом все быстрее. Она потащила за собой проволочную ограду. Дальше. Дальше. Еще дальше. Мне пришлось отскочить, чтобы меня не зацепила падавшая на меня колючая проволока.
— Пора, — шепнул я. Ирина вскочила. На ней было пальтецо, с собой никакого багажа. — Пробирайтесь по сетке на четвереньках… Она почти горизонтальная… Держитесь за узлы… Спокойно… Спокойно… Скоро все закончится… — Теперь пот заливал мне глаза. Берти выключил мотор. — Осторожно, колючая проволока… Наступайте на нее… — Она так и сделала, по-прежнему держась за наклонившуюся ограду, которая висела в метре над землей. — А теперь быстро выпрямитесь и прыгайте на меня…
— Я боюсь!
— Прыгайте! Я вас поймаю!
— А если я в колючую проволоку…
— Прыгайте, быстро! — прошипел я.
Ирина выпрямилась, слегка покачнулась, а потом прыгнула, прямо в мои объятья. Ее лицо прижалось к моему. Я почувствовал ее дыхание. Оно было чистое и сладкое, как парное молоко. «Молоко, которое во время блокады не поступало в Берлин», — пришла мне в голову идиотская мысль.
— Готово, — сказал я.
Она посмотрела на меня, и в первый раз ее печальные глаза сияли. Ирина была прекрасна…
Пока она перебиралась через ограду, Берти смотал нейлоновый канат и бросил в багажник. Мы с Ириной побежали к машине. Двухместной, как я уже говорил. Ирина устроилась между нами. Теперь за руль сел я и снова завел мотор. Двумя минутами позже мы уже ехали по убогой дороге в сплошных выбоинах. Я не осторожничал, не старался беречь свой «Ламборджини», ехал так быстро, как только было возможно. Нас бросало туда-сюда.
— Вы ведь не верили, что я приду, да? — спросила Ирина, переводя дух.
— Не верили, — ответил Берти.
Неожиданно в полосу света фар прыгнул заяц. Он бежал перед машиной и никак не мог сойти с дороги. Я на мгновение выключил свет. Когда я включил его снова, зверька уже не было.
— Я тоже, — призналась Ирина. — После того как они меня допросили в первый раз, эти двое, Рогге и Кляйн.
— И как они вас допрашивали?
— О, крайне корректно и вежливо. Но они хотели знать абсолютно все. Все! Все! Больше, больше, во много раз больше, чем вы, — сказала мне Ирина. — Так же, как и в Праге. Мне даже показалось, что я снова в Праге. Я была совершенно уверена, что после допроса они меня куда-нибудь увезут из лагеря, откуда я не выберусь. Совершенно уверена.
— Но они этого не сделали, — сказал я.
— Нет, не сделали. В соседней комнате зазвонил телефон. Рогге туда пошел и долго говорил.
— Что? С кем?
— Не знаю. Дверь была закрыта. Потом он позвал Кляйна. Они говорили очень долго. Я не могла разобрать ни слова. Потом они вернулись. Еще вежливее, еще любезнее. Это было невыносимо! И сказали, что я могу идти в свой барак. Если я им буду нужна, они ко мне придут.
— Они вас так просто отпустили? Без сопровождения и без охраны? — спросил Берти изумленно. Но я был изумлен еще больше.
— Да! Да! Просто отпустили! — Я почувствовал, что Ирина задрожала.
— Знаете, что?
— Что? — спросил я, стараясь как можно быстрее проехать проклятую дорогу и при этом не сломать ось.
— Я думаю, это связано с Яном и с телефонным звонком. Мне кажется, что они что-то узнали, что случилось в Гамбурге. И после этого потеряли ко мне всякий интерес.
— Если бы в Гамбурге что-нибудь случилось, вот тогда бы у них как раз появился к вам настоящий интерес, — возразил я.
— А почему же все не так? Что случилось? Что, господин Роланд, что? — Она схватила меня за плечо и начала трясти. Машина прыгала по колдобинам. Нас бросало из стороны в сторону. Я оттолкнул Ирину правым локтем в бок. Она взвыла от боли.
— Больше так не делайте, — сказал я. — Никогда. Понятно?
— Извините, — прошептала она. — Извините. У меня сдали нервы.
— О’кей, — ответил я. — О’кей, малышка. Пока вы не будете так делать, все будет о’кей. Мы очень скоро будем знать, что там в действительности происходит в Гамбурге, — сказал я.
Я, идиот несчастный.
21
«Откуда я пришла, никто не знает. Всё движется туда, куда и я. Пусть море плещет, ветер завывает — Никто не знает тайны бытия…»[27]Фройляйн Луиза твердила эти строки и шаг за шагом продвигалась вперед. Ее глаза горели от пролитых слез. Она чувствовала себя жалкой, и все-таки в ней пылал ярый огонь возмущения. Левая нога. Правая нога. Левая нога. Правая нога. Она шагала по узкой тропке шириной не более двух ладоней, которая тянулась между омутами с водой и топей, вглубь болота, все дальше и дальше. Ей было тяжело дышать. У нее болели ноги. Взлетали утки. Блуждающие огни, которые были ей так хорошо знакомы, плясали, загорались, исчезали. Было полчаса до полуночи. На фройляйн Луизе было старое черное пальто и капор с завязками. В руках — довольно большая сумка. Луна светила на ее белые волосы. Дальше! Дальше! Она торопилась. Там впереди, на возвышении, она видела темные фигуры. Друзья ждали ее. Она не должна заставлять их ждать. Они позвали ее, когда фройляйн Луиза уже лежала в постели, без сна, терзаемая мучительными мыслями, они пришли и поговорили с ней.
— Мы всегда здесь для Луизы…
— Пусть Луиза к нам придет, к нам на болото…
Она встала, оделась и пошла. Охрана у входа в лагерь увидела ее и поприветствовала, когда она отпирала калитку у ворот. Лагерный полицейский знал, куда она идет. Он давно уже был нездоров, и когда, в такие минуты, он видел фройляйн Луизу, ему очень хотелось тоже во что-то верить, тоже иметь возможность поговорить с высшими существами, чтобы сказать им, какие заботы и печали его тяготят. Но он не мог, потому что не умел верить, просто не получалось, он пытался, много раз…
Фройляйн Луиза торопилась дальше. В лунном свете серебром отливали голые стволы берез, лунный свет освещал тропинку под ногами. Но она не смотрела на землю, она смотрела вперед, туда, где ждали ее одиннадцать друзей, застывшие, неподвижные. Болотная сова снова и снова снижалась над головой фройляйн. «Болотная сова удивляется, она, наверное, принимает меня за куст можжевельника, — думала фройляйн, — и не может себе объяснить, как это куст можжевельника бегает». Да, бегает, потому что теперь фройляйн действительно бежала по тропинке, которую знали только она и старый крестьянин, показавший ее. Она ходила по ней так часто, что знала наизусть каждый поворот, каждое узкое место. Так спешила она по тропе в лунном свете, между бездонными омутами с водой и обманными плавающими островками травы. И для поддержания духа разговаривала сама с собой. То, что она говорила, она знала уже давно. Лет двадцать, не меньше. Она уж и не помнила, откуда она это знала. Иногда ей казалось, что этим словам ее научили ее друзья. А потом ей начинало казаться, что когда-то давно, сразу после войны, она смотрела удивительный фильм, в котором действие тоже происходило между временем и пространством и в котором звучали эти стихи, навсегда оставшиеся в памяти фройляйн…
«…Ответа нет, откуда ветер веет. Куда умчит — никто спросить не смеет. Откуда я иду — там бесконечность. Куда иду — там распахнется вечность…»По правую руку раскинулось огромное, чернеющее в ночи мертвое пространство без признаков жизни. Это было место, где в прошлом году вспыхнул большой пожар. От Пасхи до начала зимы он все не гас. И долго тлел даже под первым снегом. Только отводные каналы не позволили огню сжечь весь торф на болоте. Пятьсот моргенов[28] были точно так же обуглены до самой песчаной полосы со всеми косулями, оленями и множеством птиц в гнездах. Потом полетели на черный торфяной уголь вместе с ветром семена диких роз, уцепились за почву, и весной все огромное пожарище покрылось зеленью. Летом на длинных стеблях появились бутоны, и потом, несмотря на бесконечные дожди, там, где совсем недавно были только копоть, мертвое пространство и черная почва, все заполыхало красным и розовым цветом. Чудесный розовый сад, огромный, больше не бывает. Фройляйн постоянно приходила сюда из лагеря, в этот сад, сияющий алым цветом, и радовалась ему. Теперь цветы давно завяли, и вокруг снова простиралось черное пространство, обугленная земля, которой нужны были годы и десятилетия, чтобы восстановиться и ожить.
Все это и последующее рассказала мне вчера фройляйн Луиза. Пока я пишу, я иногда приезжаю к ней. Редко. Слишком редко. Надо делать это чаще. Я пишу лихорадочно, я хочу только одного: продолжать и закончить, полностью закончить. То, что я знаю, нужно сохранить. Я должен сберечь свои знания, эти знания о многих тайных и смертельных вещах. Я должен быть очень осторожным. Так я и делаю. Вчера я опять был у фройляйн Луизы. Она меня любит, и она мне доверяет.
— Вы хороший человек, — сказала она.
Я запротестовал.
— Ну, раз так, может, и нет, — рассудила фройляйн, — но вы же хотите стать хорошим.
— Да, — согласился я. — Этого я, пожалуй, хочу.
— Вот видите, — сказала фройляйн. И потом рассказала мне, что случилось в ту ночь. И вот я сижу и записываю ее рассказ.
22
Если не знать точно, как фройляйн Луиза, что это были одиннадцать мужчин, то можно было бы поклясться, что это одиннадцать ветел, которые среди ночи, подернутые легким туманом, в бледном свете луны стоят, похожие на людей, на мягком возвышении посреди болота в конце тропинки, в окружении кустарников и камышей. Задыхаясь, добралась фройляйн Луиза до места. Первым ее поприветствовал русский.
— Наконец-то матушка пришла. По-настоящему добрый вечер.
— Добрый вам вечер, счастливые, — ответила фройляйн Луиза.
Другие тоже поздоровались.
Русский был коренаст. На нем была защитного цвета форма, в которой он воевал.
— Мы так рады, — сказал русский, — что Луиза снова с нами.
— Представьте себе, как я рада, — отозвалась фройляйн.
Вокруг нее в болоте мерцали блуждающие огни. Когда-то до войны русский был великим клоуном, прежде чем ему пришлось стать солдатом. Люди смеялись над ним до слез, когда он кувыркался на манеже цирка. Но без грима и маски его лицо выглядело серьезным.
— Вы, конечно, знаете, что случилось, — произнесла фройляйн Луиза, и ее одиннадцать друзей молча кивнули. — Вы знаете также, что Ирина сбежала — вероятно, с этими приезжими репортерами. Они сломали бетонный столб у ограды, а сетку ограды сорвали. Там-то она, конечно, и перелезла. Я обнаружила по дороге сюда. И следы автомобильных колес. Вы это тоже видели, да?
Друзья снова кивнули.
— И как они уезжали? — спросила фройляйн.
— Да, Луиза, — ответил американец. Он был крупным мужчиной и все еще носил свой летный комбинезон.
— Этот Роланд и другой, фотограф, эти несчастные грешники. Они еще обеими ногами на этом свете.
— Но и для них есть надежда, — сказал свидетель Иеговы. На нем была бело-серая полосатая роба, похожая на пижаму, с полинявшими полосками на штанинах. В одной руке свидетель Иеговы держал красную книгу.
— Вы только предполагаете? — неуверенно спросила фройляйн Луиза. — Или точно знаете?
— Мы всё еще так мало знаем, — сказал украинец, в тужурке, в брюках из рубчатого плиса и убогих сапогах на деревянных подошвах. Лицо его было похоже на пашню, так оно было изборождено морщинами, такое землистое, такое старое. — Собственно, мы почти ничего не знаем.
— Но вы верите в это? — спросила фройляйн. — Вера надежнее, чем знание.
— Да, мы в это верим, — откликнулся поляк. — Но не это важно. Луиза должна верить, только она сама, — настойчиво говорил поляк. Он тоже все еще носил свою униформу, сильно потрепанную.
— Все зависит от того, что ты хочешь сделать, — сказал немецкий студент, самый молодой из всех. Он был в сером тиковом костюме и грязных сапогах, доходящих до икр. Студент был единственным, кто обращался к фройляйн на «ты». Все остальные говорили о ней в третьем лице. Фройляйн Луиза посмотрела на студента и снова почувствовала, как он трогает ее сердце. Этот юноша напоминал ей о чем-то, что было в ее долгой жизни. Она никогда не могла вспомнить, о чем именно, и в этом неясном воспоминании была неутихающая, но сладкая боль.
— Наша Луиза хочет ехать в Гамбург, — сказал студент. — Как можно скорее. Она уже надела свое зимнее пальто и прихватила свою сумку, потому что она так торопилась. Нужно ей ехать в Гамбург? Мы одобряем?
Остальные молчали.
— Дети! — страстно воскликнула фройляйн Луиза. — Дети! Они же оба были только детьми… мой бедный Карел… и Ирина тоже! Карела они у меня убили, Ирину они у меня похитили и увезли — Бог знает, куда! Я не могу этого допустить! Я не хочу этого допустить! Я… — Ей не хватало воздуха. — …Я должна найти Ирину, и я должна найти человека, который убил Карела! И этого человека нужно спасти! Потому что он убил! Это обязательно должно у меня получиться, чтобы мой мертвый Карел мог его простить и избавить! И потому этот человек должен покинуть этот мир!
А одиннадцать мужчин молчали.
— Вы считаете точно так же! — воскликнула фройляйн, все больше и больше выходя из себя. — Вы же знаете, что я права! Что есть высшая справедливость! И что она никогда не свершится, если я об этом не позабочусь!
А одиннадцать мужчин смотрели на нее и молчали.
— Говорите же! — закричала фройляйн рассерженно. — Если вы не заговорите, зло снова победит! Несправедливость и произвол будут снова господствовать на этом свете, на котором и вы пострадали до вашего избавления!
Штандартенфюрер СС, рослый человек с длинным узким лицом, у которого когда-то была майонезная фабрика в Зельце под Ганновером, печально сказал:
— Я не страдал. Я приносил страдания невинным.
На штандартенфюрере была черная униформа и высокие сапоги.
— Ты же это признал, — утешая его, произнес голландец. Голландец был одет в старый цивильный костюм и рубашку без воротника.
— Невинные, которым ты принес страдания, привели тебя к более высокому уровню существования, — добавил русский.
— Ну, так, — упавшим голосом ответил штандартенфюрер.
— И ты вместе с нами лежишь в болоте, — подвел итог поляк.
— Не вместе с вами, — возразил штандартенфюрер опечаленно. — Нет, не вместе с вами.
Фройляйн понимала, что он имел в виду. Других, когда они умирали, нацисты просто бросали в болото в мешках, заложив туда несколько камней. Штандартенфюрер встретил свою смерть, когда лагерем управляли британцы. Они подыскали для этих целей место позади лагеря, где почва была потверже, выкопали там могилы и опускали туда мертвых пленных нацистов в деревянных гробах. Это и имел в виду штандартенфюрер, когда говорил, что лежит не вместе с друзьями.
— Ты лежишь в том же болоте, что и мы, — сказал русский. — Ты умер там же, где и мы. Какая разница — мешок с парой камней или деревянный гроб в могиле? Вообще никакой!
— Там, где мы сейчас, там все люди равны, — добавил украинец.
— Ну так сделайте же теперь так, чтобы справедливость восторжествовала! — закричала фройляйн нетерпеливо, страшно нетерпеливо.
— Справедливость — не наше дело, — сказал американец.
— Нужно отказаться от этой мысли, — сказал русский.
— Почему? — прокричала фройляйн Луиза.
— Потому что это вредно для справедливости, — ответил голландец.
Это окончательно вывело фройляйн из себя.
— Для справедливости вредно только то, когда ничего не происходит! — закричала она. В следующую минуту все поплыло у нее перед глазами, а когда картина вокруг прояснилась, одиннадцать мужчин исчезли, и фройляйн Луиза увидела вокруг себя одиннадцать старых чахлых ветел. Она вдруг почувствовала, как она одинока, абсолютно одинока, далеко-далеко на болоте.
— Не надо! — закричала она в ужасе. — Не надо, не-ет… Не уходите… Вернитесь…
Но никто из одиннадцати не вернулся.
Тогда фройляйн Луиза упала на колени, в отчаянии сжала руки и прошептала:
— Я кричала… Я сама виновата в том, что они исчезли… Я кричала… А если я кричу, они исчезают…
Над болотом пролетела на ночные учения эскадрилья «старфайтеров». На фюзеляже и на несущих поверхностях самолетов мигали красные, зеленые и белые позиционные огни, но фройляйн их не видела. Она так глубоко ушла в себя, что ее сложенные руки и лоб касались земли. Всхлипывая, она шептала:
— Простите меня… Пожалуйста, простите меня… Я больше никогда не буду кричать… Только вернитесь… Вернитесь ко мне… Я ведь так одинока… И вы мне так нужны… Умоляю вас, ради Христа, вернитесь…
Порыв ветра прошелестел над ней, и к своему бесконечному облегчению — о, миг блаженства! — она услышала голос голландца:
— Мы здесь, Луиза.
23
— Простите мне, пожалуйста, что я кричала, — произнесла фройляйн. Ее друзья кивнули.
Чешский радист, приземистый, маленький, с веселым лицом, одетый в британскую униформу, сказал:
— Раньше, в мире Луизы, я часто кричал. От радости. Или от ярости. Но как живой на живых. Это большая разница. На мертвого кричать нельзя. Тогда он должен исчезнуть. Просто должен.
— Это все потому, что я была в таком отчаянии, — сказала фройляйн. — Я хочу, чтобы восторжествовала справедливость. Мне нужно позаботиться об Ирине. Нужно найти убийцу малыша Карела. А вы не считаете, что я должна это сделать?
Американский пилот ответил:
— Если что-то непременно хочешь сделать, то это удастся.
— Да? — в радостном волнении спросила фройляйн Луиза. Как странно! Перед исчезновением друзья сомневались, правильно ли она решила ехать в Гамбург. Теперь, похоже, их мнение изменилось.
— Да, — подтвердил американец.
А русский спросил:
— Но почему матушка так торопится, так спешит? Время… — он запнулся, а потом продолжил: — Время, правда, земное понятие. В нашем мире времени нет. Но то, что матушка в своем мире называет временем, работает на нее. Пусть она не будет нетерпеливой. Добро в конце концов всегда побеждает.
— Но пока что не всегда в моем мире! — тихо сказала фройляйн Луиза.
— Верно, часто нет. Но тогда в нашем. А какое это имеет значение? — спросил русский.
— Для меня большое. Я не могу так долго ждать. Я уже старая, — ответила фройляйн Луиза.
Украинский крестьянин, угнанный на принудительные работы и здесь погибший, сказал:
— Кто-то по сравнению с нами Высший будет помогать Луизе и направлять ее. А мы дадим ей силы нашей надеждой и нашими молитвами.
— Этого недостаточно, — удрученно сказала фройляйн Луиза. — Всего этого недостаточно. Я ведь одна. В полном одиночестве я должна бороться на этом свете против всемогущего зла.
Штандартенфюрер покачал головой:
— Луиза вела отважную жизнь. И если Луиза и теперь будет бороться с высшим напряжением сил, то, в конечном счете, неважно, окончится это успешно или нет. Не спрашивайте об успехе.
— Но я должна его спрашивать, — возразила фройляйн Луиза. — Я на этом свете. Я не вынесу, если мне это не удастся.
— Потому что она еще жива. Это несчастье Луизы, — проговорил штандартенфюрер.
— А ты? — спросила фройляйн Луиза француза, который когда-то был репортером судебной хроники в Лионе и умер здесь пленным пехотинцем. Француз, одетый в старую униформу и ботинки с обмотками, был еще совсем молодым. С вечной иронической усмешкой на устах. Он сказал:
— В принципе, я придерживаюсь мнения нашей подруги.
— Да? — удивилась фройляйн.
— Да. — Он поднял голову и глубоко вздохнул. — Погода меняется, — сказал он. — Приближается буря. — «Но он же умер, и для него это не имеет никакого значения, — думала фройляйн, — и астмы у него теперь нет!» А француз тем временем говорил:
— Но слишком много действия на земле всегда приносит зло. Может быть, предоставим лучше это дело кому-то Высшему, которого мы хоть и не достигли, но можем чувствовать лучше, чем Луиза.
От этих слов фройляйн опять пала духом и тихо заплакала.
— Я вам верю, — проговорила она. — Скоро я буду с вами. Я вас люблю. Но я вас не понимаю. Почему именно сегодня я не понимаю вас?
— Именно потому, что мы друзья, — ответил свидетель Иеговы в полосатом серо-белом тиковом костюме. Потом бывший служащий сберегательной кассы в Бад-Хомбурге поднял руку с красной книгой. — Маленький Карел вырван из злого мира и ступил в наш добрый. Это такое счастье! Все сущее на свете служит только для того, чтобы прийти к Богу. И если бы с Ириной что-то случилось, то она была бы счастливее, чем сейчас. Поэтому я считаю, что все идет своим путем к добру, путем, предначертанным Всемогущим Господом.
— Послушай меня, мой друг, — сказал норвежский повар, которого арестовали и привезли в лагерь «Нойроде» как коммуниста. Он был очень крупным, еще больше американца, и носил робу узника концлагеря с красным треугольником политзаключенного. — Пока все люди не будут по правде жить в мире и дружбе друг с другом, до тех пор будут угнетатели и угнетенные, убийцы и их жертвы. Поэтому я считаю, что Луиза должна начать борьбу. Все больше людей вступают в борьбу за победу добра.
— Я поддерживаю то, что сказал повар, — высказался голландский книгоиздатель из Гронингена.
— И вы стали бы действовать так, как хочу действовать я? — взволнованно спросила фройляйн Луиза.
— Да, — одновременно ответили норвежский повар и голландский книгоиздатель.
— Вы меня понимаете! — воскликнула фройляйн, снова обретая надежду.
— Я тоже буду действовать, — отозвался польский артиллерист, который когда-то преподавал математику в Варшавском университете.
— Ты тоже? — вскрикнула фройляйн Луиза.
— Конечно, я тоже, — подтвердил поляк.
— Ты коммунист?
— Был им при жизни. И я взял с собой в высшие сферы все, что было в этом доброго и вечного, — ответил поляк.
— А ты, Франтишек? — спросила фройляйн Луиза чеха, бывшего архитектора из Брюнна. Он был ее земляком и единственным, кого она называла по имени. К остальным друзьям она обращалась просто со словом «ты».
— Ну разве не глупо, что малыши вечно бегают повсюду, как угорелые! Хоть сто раз им говори, чтобы были осторожными! Разве будут? Нет. Как глупо, в самом деле!
— И это все? — разочарованно спросила фройляйн Луиза.
— А что? Ах, да. Нет. Конечно, нет. Я буду действовать так же, как моя землячка, — ответил чех.
— Я тоже за Луизу, — сказал худой, слабый юноша, отбывавший трудовую повинность.
— Ты тоже! — обрадовалась фройляйн. А про себя подумала: «А как же! Он же мой любимец. Разве мог он поступить иначе?!»
— Да, я тоже, — повторил он. — Потому что во время учебы я ясно понял: на этом свете станет лучше только тогда, когда философы начнут действовать.
— В точности мое мнение, — поддержал норвежский повар.
— Послушайте меня, — сказала фройляйн взволнованно. — Прошу вас, послушайте меня! Мне нужно вам еще кое-что рассказать.
А ночное болото было полно шорохов и жизни, полно жизни и полно смерти.
24
— Вам известно, — сказала фройляйн внимательно слушавшим мертвецам, — что моя мать рано умерла, когда ей было только тридцать шесть лет. Я была единственным ребенком, и после ее смерти я совсем отчаялась. Вы ведь знаете, да?
Мертвецы кивнули.
— Мой отец был стеклодувом. Тихий человек. Люди в Райхенберге всегда говорили, что он знает много тайн. Мы с ним оба очень любили мать! Ну, вот, как он увидел, что я так убиваюсь, то поговорил со мной, примерно так: «Перестань плакать, Луиза, — сказал он, — не печалься. Мать умерла слишком рано. У нее не было времени пережить и сделать все, что ей было предназначено. Но когда человек умирает преждевременно, до назначенного ему срока, — сказал он, мой отец, — тогда его душа может вернуться в этот мир, чтобы завершить то, что осталось незавершенным». Это правда?
Мертвецы посмотрели друг на друга. Они казались озадаченными.
— Я вас спрашиваю, это правда?
Мертвецы долго молчали. Наконец, студент-философ сказал:
— Да, правда.
— Души тех, кто умер слишком рано, если захотят, — добавил американец, — могут вселяться в тела живущих.
— Так же говорил и мой отец! — воскликнула фройляйн Луиза. — Души могут вселяться в тела живущих! И могут определять поступки живущих, их мысли и деяния!
— Луизин отец хотел ее, конечно, утешить, — сказал свидетель Иеговы.
— Конечно, — согласилась фройляйн Луиза. — Но дальше он говорил так: «Это только кажется, что наша мать от нас ушла. Если она захочет, ее душа вернется к нам. В нас. И когда мы творим добро, и когда поступаем справедливо, и когда нас направляет наш внутренний голос, то мы должны понимать: это голос матери, которая говорит внутри нас». Так мне говорил мой отец, и вы сейчас говорите то же, вы говорите, что это так.
Она смотрела на своих друзей, а друзья смотрели на нее и молчали.
— Вы все, присутствующие здесь, — торжественно, как клятву, произнесла фройляйн Луиза, — умерли преждевременно. До своего срока. Вы все не смогли завершить то, что вам было предназначено. Значит, вы можете, вы все можете вернуться, если только захотите!
— Нам не нужно возвращаться, — ответил поляк. — Мы и так здесь.
— А наши души могут вселиться в живых, если мы решим, что можем направить бедняг, живущих на земле, к лучшему бытию, — добавил русский.
Фройляйн Луиза молитвенно сложила руки.
— Решите так! — сказала она умоляюще. — Я прошу вас! Я вас заклинаю! Я слишком старая и слабая и одна справиться не смогу! Мне нужна помощь! Ваша помощь! Другой у меня нет. У живых ожесточились сердца. Им знакомы только ненависть и ложь… Все богатые и могущественные… Все политики и человекоубийцы с орденами, они ведь мне не помогут, нет… Они только возлагают венки, пожимают руки, обнимаются, целуют маленьких детей, а сами — лжецы, все до одного… Они меня не заботят, а мои дети не заботят их! Почему? Да потому что они не знают, что такое невинность! Потому что они и мысли не допускают о вашем мире!.. Вы меня слушаете?
— Очень внимательно, Луиза, — отозвался американец.
— Я изменил свою точку зрения, — заявил украинский крестьянин. — Я думаю теперь так же, как повар, профессор и остальные, кто думает, как Луиза.
— Ты считаешь, что мы действительно должны заняться земными делами? — с сомнением спросил француз.
— Да, да, конечно! И помочь мне! Поддержать меня! — воскликнула фройляйн.
Мужчины опять помолчали. Некоторые что-то бормотали про себя.
— Луиза должна знать, что если мы это сделаем, это будет опасно, — произнес француз. — Потому что наш мир совсем иной, и Луиза не может полностью представить его себе. И ни один живущий не может. Это действительно опасно.
— Но почему? — воскликнула фройляйн.
— Потому что сейчас у нас нет страстей и мы друзья. А в мире Луизы — кем мы будем там? Сможем ли мы остаться друзьями?
— Конечно, — сказал норвежец. — Мы же узнали, что такое добро и зло.
— Тем не менее, — вставил француз.
— Вернитесь в мир, прошу, я прошу вас! — умоляла фройляйн. — Вы будете творить только добро, я знаю. Вы же прошли чистилище. Вы теперь не сможете делать зло, это невозможно! Так вы вернетесь?
Мужчины плотно сомкнулись, фройляйн Луиза стояла в сторонке. Она не могла разобрать, о чем шептались эти одиннадцать. Они совещались. А фройляйн Луиза смотрела, как лунный свет протянул через болото мост, словно мост между царством живых и царством мертвых.
— Ну, так что? — спросила фройляйн Луиза. — Что вы решили?
— Мы попытаемся помочь Луизе, — ответил американец.
— Но я повторяю: это опасно, — заявил француз.
— Да успокойся ты, — сказал норвежский повар.
— Я только хотел, чтобы это прозвучало еще раз, — сказал француз, со своей вечной усмешкой на устах.
Фройляйн Луиза очень волновалась:
— А когда вы будете мне помогать, вы будете знать друг друга?
— Нет, — ответил русский. — Мы ведь познакомились после смерти.
— А как вы будете выглядеть в жизни?
— Этого мы еще не знаем. Мы можем появиться в самом разном обличье. Это зависит от того, кого каждый из нас изберет для своей души, — объяснил студент.
— Что значит: как мы будем выглядеть в жизни? — удивился поляк. — А как мы выглядим в смерти? Мы выглядим и будем выглядеть так, как видит нас Луиза.
А свидетель Иеговы сказал:
— В смерти мы больше похожи на Бога. Мы есть, пока Луиза верит, что мы есть. Когда она не будет верить, и нас больше не будет.
— Я верю в вас, — сказала фройляйн. — Вы останетесь со мной! И когда я поеду в Гамбург, я буду не одинока! Очень скоро много чего случится, так ведь? Уже завтра?
— Уже завтра, — подтвердил голландец.
— Через сколько часов? — спросила фройляйн Луиза.
— Разве это важно? — спросил русский. — Пусть матушка знает, всегда есть завтра. И сегодня когда-то было завтра.
— Благодарю вас! Благодарю вас! Ах, как я счастлива! — в слезах воскликнула фройляйн Луиза.
Она торопливо подошла к студенту и обняла его. И он был таким холодным на ощупь в этой старой одежде, твердой и жесткой, как кора дерева.
МАКЕТ
1
«Член поднимается. Теперь мужской половой орган в состоянии выполнять свою функцию. Продолжение следует».
Я торопливо напечатал эти слова. Потом вынул из тяжелой машинки стандартный лист бумаги вместе с копиркой и вторым экземпляром.
Так. Страница восемнадцать заполнена до конца. Между вертикальными линиями стандартного листа шестьдесят знаков с пробелами, три страницы образуют при печати один столбец. С этим продолжением я должен был уложиться в шесть столбцов. Все выполнено с точностью до строчки. Я практически всегда выполняю задания с точностью до строчки. Дело опыта. В конце концов, я ведь работаю в этой сфере с 1954 года, последние три с половиной года пишу серии вроде этой. «Совершенный секс». Это уже шестнадцатое продолжение. А будет двадцать пять, а то и все тридцать — это уже полностью зависит от отдела распространения, слава им и благословение! До этой были серии под названиями: «Умеете ли вы любить?», «Чудо-эстроген»,[29] «Любовь втроем?» (не то, что вы подумали, а о поведении супругов, у которых уже есть ребенок), «Почему девушки любят девушек», «Золотая таблетка», «Сделай меня счастливой!» и так далее и тому подобное. «По-настоящему богатый ассортимент», — подумал я, отделяя страницы оригинала от копий. Еще никогда, с тех пор как существуют ФРГ и ее свободная демократическая пресса, ни одна тема не попадала настолько в точку. Это был тот успех, о котором мечтают все в отрасли! Другие иллюстрированные издания, естественно, тут же бросились брать пример с «Блица», хотя до тех пор не могли найти такой беспроигрышной темы. Кроме того, у них ведь не было — без ложной скромности, чего уж там! — Курта Корелла. Страница пятнадцатая, страница четырнадцатая, страница тринадцатая… Курт Корелл — это я. Это мой псевдоним. Собственно говоря, и за пределами этой бесконечно заболтанной отрасли человеческой деятельности кое-кто, несомненно, знал, что Вальтер Роланд и Курт Корелл — это одна и та же личность. Но их было не особенно много. По крайней мере это я отстоял и сумел добиться того, что миллионы людей помнили большие прекрасные серии, которые я когда-то писал под именем Вальтера Роланда, и не отождествляли меня с тем малым, который в последние годы преподносил им эти сексуально-просветительские кушанья. Я всегда говорил, что нет дерьма, которое я не мог бы написать. Но когда начался этот сексуальный бум, меня бросило в дрожь, и я взял себе псевдоним. В конце концов, всему же есть предел! Пусть даже Курт Корелл пользовался такой популярностью, о которой Вальтер Роланд мог только мечтать. В последние три с половиной года этот не опубликовал почти ничего…
То, что я пишу сейчас, как видите, не вписывается хронологически в ход событий. Но по-другому у меня не получается. Я так глубоко запутался в гигантской паутине индустрии иллюстрированных изданий, она играет такую важную роль в моем рассказе, что я вынужден ее упомянуть. И притом основательно. Основательно именно сейчас, на этом месте. Самое время. Чтобы вы поняли ситуацию, в которой я находился, когда забирал Ирину Индиго из лагеря в Нойроде.
То, о чем я сейчас пишу, произошло за день до моих приключений в лагере, за день до отъезда в Гамбург. Даже почти за два. Потому что в Гамбург мы поехали поздно ночью, а события, о которых я хочу рассказать, разыгрались утром предыдущего дня. Ранним утром. Так недавно я был еще в моем прежнем мире. Невероятно много событий может произойти за сорок часов. Кроме того, все пережитое мной научило меня тому, что нет ничего более условного и преходящего, чем время и пространство. Вот я и скольжу теперь, да, видно, буду скользить иногда и дальше, между пространством и временем туда-сюда, сюда-туда. Думаю, никакой путаницы не будет. Такую историю, как моя, надо писать так, чтобы события стояли там, где лучше всего видна их взаимосвязь. Так как все, что произошло, подчинено своей строгой, неумолимой логике.
Итак…
Три с половиной года назад тираж «Блица» был не в лучшем состоянии. Скажем откровенно: он падал. Такое случается и в лучших издательствах. Отдел рекламы, понятное дело, ударился в панику. Все (между прочим, астрономически высокие) цены на рекламу в иллюстрированных изданиях прямо зависят от нотариально заверенного тиража на продажу. При его снижении следует снижать и цены на рекламные анонсы, которые, чтобы издание не было убыточным, должны занимать около половины каждого номера. Списки с тиражами продаж и ценами изданий регулярно публикуются, каждые полгода. Крупные рекламодатели проплачивали рекламу (на разворот или на полосу с многокрасочной печатью) на месяцы вперед. И если тираж однажды скатывался на более низкий уровень цен, в руководстве издательства начинались вой и скрежет зубовный. Потому что тут же вытекают два следствия. Во-первых, в случае если тираж плохо раскупается, издатель обязан при снижении на каждые пять процентов немедленно оповещать все заинтересованные фирмы и вернуть им деньги или кредит, поскольку рекламные объявления при падающем тираже становятся все дешевле. И, во-вторых: допустим, что происходит чудо, и тираж вопреки всем древнейшим законам не катится все дальше вниз, а быстро и устойчиво восстанавливается, — издатель вплоть до следующего взноса не имеет права взимать дополнительно ни единого пфеннига! Драконовские условия, да?
Да, и вот таким было положение в «Блице» три с половиной года назад. Близко, близко-близко-близко держались мы к ужасному уровню. И опускались. И опускались. А день опубликования нового прайс-листа все приближался. И тут случилось чудо. Brainstorm[30] — и я придумал тему секса с элементами познавательной информации. Написал первые части серии. И надо же, тираж подскочил. Да еще как!
— Это же звон литавр! — со слезами на глазах воскликнул издатель Томас Херфорд, когда после первых четырех продолжений творения Курта Корелла тираж продаж «Блица» подскочил на девяносто тысяч экземпляров. Поэтому по пятам этой спасительной серии само собой последовала вторая, а за ней третья, а за той четвертая, и так далее, беспрестанно, без перерыва, пока Курт Корелл не стал благодаря своему гению королем-пленником этой темы.
Неделя за неделей, двадцать пять раз в году приходилось мне плести кружева из этого сказочного материала, так нежно любимого отделом реализации. Я был вынужден еженедельно «ударять в литавры» и выдавать новое продолжение этой — Слава Тебе, Господи! — поистине неисчерпаемой темы. В моем распоряжении была специальная литература — целая библиотека! Огромный фотоархив. Фотографы и графики ожидали моих приказов, деньги в этом деле не играли никакой роли, они возвращались обратно сторицей!
Факты, невинные фотографии, объяснения, указания, утешения и «научные» комментарии для отчаявшихся тинэйджеров, супругов, влюбленных, больших и маленьких, молодых и старых, для беспомощных импотентов, фетишистов, лесбиянок, гермафродитов, гомосексуалистов… Все это свойственно людям, все подлежит пониманию. Но чтобы понять, надо, по меньшей мере, знать. Понять значит принять, значит избавиться от комплексов, чувства вины, фригидности, ошибочных наклонностей, короче говоря — вести полноценную любовную жизнь. Вот это все я еженедельно круто замешивал, рассчитывая до малейшего компонента, в наукообразное тесто, а потом пек из него свои чудесные пирожки. А подавались они с графическими рисунками, выполненными с отменным вкусом, когда нельзя было использовать фотографии. Эти рисунки, по опросам отдела исследований, пользовались особой популярностью.
В серии «Сделай меня счастливой!» такая графика как-то появилась даже в четырехцветной печати, на целую страницу, с пояснительной надписью и множеством обозначений: A, B, C, a, b, c, 1, 2, 3, I, II, III и так далее до 27 и XXVII, и на весь алфавит большими и маленькими буквами. Это было настоящее произведение искусства, выглядевшее как помесь карты генерального штаба и картины Дали:[31] пенис — красным цветом, влагалище синим, все прочие половые органы золотистым и фиолетовым, и всё испещрено сплошными, точечными и пунктирными направляющими, указателями и стрелками, а надо всем — надпись огненно-красными прописными буквами:
КАК СПЕРМАТОЗОИД ПОПАДАЕТ К ЯЙЦЕКЛЕТКЕ?
После этого один крупный журнал новостей окрестил «Блиц» «фиговым листком».
— Зависть, — пожал плечами в ответ на это Томас Херфорд. И в одном из номеров внутриотраслевого вестника для всех редакторов, авторов и торговых представителей было рекомендовано обратить внимание на превосходную книгу Хельмута Шёка «Зависть. Теория общества», которую издатель настоятельно рекомендовал для чтения.
При анализе тиража «Блица» можно было подумать, что издатель прав. Поскольку тираж этот все время рос, и «Блиц» оказался уже в тревожной близости к двум гигантам среди иллюстрированных изданий. При этом Херфорда, наряду с возвышенными чувствами, посещали и эмоции совсем другого рода. Как-то он заявил в узком кругу своих сотрудников (на это совещание пригласили и меня): «Конечно, я за мощный тираж и самые высокие цены на рекламу. Но не слишком! Ни в коем случае! Всегда помните об этом, господа! Не зарываться! Стань слишком большим — и это обернется миллионными затратами в год. Так недолго и разориться…»
Небезосновательный кошмар!
На самом деле, существует некий порог цен на рекламные объявления. Его нельзя переступать, даже если объемы тиража это и позволяют. Гигантский тираж пожирает громадные суммы на бумагу, печать, изготовление, сбыт и на статьи, которыми нужно заполнять эти толстые номера. До определенного предела плата за рекламу компенсирует эти затраты в здоровой для торговли пропорции. Но это не срабатывает, если издательство становится слишком крупным, если приходится издавать слишком толстые журналы, а за рекламу — тем не менее — те же цены!
Тогда приходится, как парадоксально это ни звучит, приплачивать. И притом немало. Миллионы в год, как сказал издатель. В общем, наш девиз был таким: максимально возможный успех на грани максимально возможного! Иначе фирма вылетит в трубу. О, как безжалостна и жестока жизнь к миллионерам…
2
Было восемь часов двадцать минут 11 ноября 1968 года, понедельник. Бледно-голубое небо. Бессильное солнце. За городом по земле стелился туман. Прохладно. Мне было жарко. Как всегда.
С засученными рукавами, с распущенным галстуком, с сигаретой «Голуаз» в углу рта сидел я за письменным столом. Рано утром я принял душ, и волосы еще влажно блестели. Мой кабинет находился на восьмом этаже сверхсовременного двенадцатиэтажного высотного здания из стали, стекла и бетона на Кайзерштрассе во Франкфурте. Окна выходили во двор — к счастью, так как Кайзерштрассе была разрыта, там прокладывали линию метрополитена, визжали краны, гудели машины — ад кромешный.
Во двор тоже проникал шум, но это было еще терпимо. В издательском доме, естественно, работали кондиционеры. Не было необходимости открывать окна. На восьмом этаже располагались главная и литературная редакции. Художественная редакция находилась этажом ниже. Чудовищным по размерам аквариумом было это издательство! Даже многие стены в помещениях были стеклянными. Я видел насквозь множество кабинетов, почти все крыло. Еще не показался никто из сотрудников, трудились только уборщицы и я, за письменным столом.
Кое-кого из редакторов этот стеклянный дворец время от времени доводил до безумия. Мне он, в общем-то, не мешал. Я был не редактором, а свободным сотрудником, правда, связанным эксклюзивным договором, но не обязанным сидеть здесь постоянно. Когда у меня было больше времени, чем сегодня, я, как правило, работал дома. Авторы очень редко писали в издательстве, а если уж приходилось, то в общей комнате. Мне же выделили отдельное помещение. Поскольку я был в «Блице», выражаясь по-английски, «топ-райтером»,[32] мальчиком на все руки; спасителем тиража; вундеркиндом, который из любой самой дохлой историйки мог сделать хит…
Передо мной стояли пустые бутылки из-под кока-колы, переполненная пепельница. Повсюду были разложены книги и журналы, из которых я делал выписки: «Кинзи-репорт»,[33] «Мастерз-репорт», старый добрый Магнус Хиршфельд,[34] Медицинская еженедельная газета, «Лексикон эротики». И листки с пометками. Всего несколько записок — больше мне не требовалось. Бальзам для души, «настоящая отдушина» (я не мог об этом думать без усмешки), я отбивал их на клавишах своей машинки почти не задумываясь, и все шло как по маслу.
И вот на этом дерьме можно зарабатывать деньги! И вот на этом издатель выкарабкался!
Я притушил сигарету, тут же закурил следующую, глотнул из бутылки колы — сегодня с утра у меня такой пожар! — и занялся редактированием. Я взял карандаш с очень мягким стержнем из банки из-под конфитюра, в которой торчала масса карандашей. Так, посмотрим… Эрогенные зоны. Неккинг, петтинг.[35] Отлично, отлично. Clitoris. Стоп! Тут мы поставим крестик и сделаем пометку на широких корректурных полях — примечание в скобках: (клитор, лат.). Это примечание в скобках мы давали уже сто раз. Но «клитор» — это хорошо.
После некоторого колебания я расширил вставку. Было важно — как часто это упускают из виду! — придать этим сериям как можно более научный вид. Ради государственного прокурора, Союза охраны нравственности и Добровольного самоконтроля иллюстрированных изданий. И в конце концов, этого желали читатели!
Где же эта книга, черт побери, где — а, вот она! В ней отметил я одно место, его надо сюда, а для этого в абзаце о фимозе[36] я потом вычеркну пару строк, чтобы получилось ровно шесть столбцов.
Итак, дополнительная вставка:
«И поскольку результатом такого прикосновения к клитору становится сильное возбуждение женщины, это рекомендовал еще голландец Ван Свитен, лейб-медик императрицы Марии Терезии, когда она консультировалась у него в начале своего брака по поводу бесплодия…» «Нет-нет, вначале мы напишем по латыни, как здесь (серьезное дело, о читатель, эта дурацкая игра): „Praetero cenveo, vulvam Sacratissimae Majestatis ante coitum diutius esse titillandam“». И в переводе: «Кроме того, я придерживаюсь мнения, что половые органы Вашего Всесвятейшего Величества следует щекотать перед половым сношением длительное время». И какой же результат этого в высшей степени разумного совета? — Я сделал примечание максимально четко, отдельными буквами, чтобы наборщики не ворчали, что не могут разобрать мой почерк: «Императрица родила шестнадцать детей!»
Такие вещи создают настроение.
Я снова усмехнулся. Мне вспомнился номер в одном франкфуртском кабаре, который я недавно видел. На маленькой сцене двуспальная кровать. На ней сидит мужчина и спрашивает лежащую рядом с ним девушку: «Ты читала на этой неделе новую статью Корелла?» На что девушка, испуганно лепечет: «Да, конечно… А что?.. Я что-то неправильно сделала?»
Вот это и есть популярность, господа!
И тут уж мой тайный смертельный враг, главный редактор Герт Лестер, мог десять раз в неделю брехать на меня, что я сдал, что я халтурю, что мой индекс упал, что я уже не тот first class,[37] что раньше. Я был Курт Корелл — тот же, что и всегда!
Я отпил из бутылки, вытер ладонью рот и продолжал редактировать.
Что у нас дальше хорошенького?
Дальше у нас малые половые губы. Большие половые губы. Венерин бугорок. А это, конечно, называется мастурбация, а не масторбация. Опечатка от скоропечатанья. Мягкий карандаш отчеркивает абзацы, подчеркивает волнистой линией слова, которые должны быть набраны курсивом, рисует звездочки в начале новой главки. «А ведь это дерьмо читается первоклассно», — подумал я.
3
За четыре часа до этого я думал: «Вот это будет номер, если выдержу!»
Ровно в четыре тридцать я проснулся, часы на запястье. Я всегда мог просыпаться, когда хочу, надо было только сказать себе, а сегодня ранний подъем был необходим, потому что я оказался чертовски близко к dead-line.[38] Продолжение в номер, над которым я работал, нужно было сдать еще в пятницу. Но я был болен. Это никого не касалось, это было мое личное дело. Только Хэму мне, конечно, пришлось сообщить по телефону.
— Сегодня я не могу сдать, Хэм.
— Что, опять «шакал»?
— Да. Лежу в постели.
— Слишком много выпил, да?
— Чересчур много. И слишком много выкурил. Сегодня не получится ни строчки.
— Погубишь ты себя, парень, — сказал мне Хэм, мне, лежащему в постели с моим «шакалом».
— Ерунда, Хэм! Просто надо поспать. Приму двадцать граммов валиума и продрыхну весь день.
— Ладно, парень. И скорейшего тебе выздоровления.
— Знаете, Хэм, просто чудо, что я вообще еще могу писать эту серию! Это барахло мне уже поперек горла. Блевать хочется, как о ней подумаю!
— Могу понять. А что делать? Надо же ее затрахать в номер.
Это Хэм! Вот такая манера выражаться у этого неслыханно образованного человека.
«Что делать? Надо же ее затрахать в номер!» — как часто приходилось говорить это Паулю Крамеру, сделавшемуся в нашем ремесле набожным и мудрым. Когда-то он мечтал стать великим композитором. Но не стал. Его творения оставались неизвестными, дела у него шли плохо, он играл на пианино в барах. Потом ушел на войну. В 1946 году вернулся из плена. Снова пытался сочинять музыку. Опять потерпел крах. Друзья привели его в какую-то ежедневную газету в качестве музыкального критика. В «Блице» обратили внимание на его блестящие рецензии и пригласили к себе — сначала редактором, а вскоре уже и на должность заведующего литературной редакции. Это был рискованный эксперимент, но в те времена в «Блице» еще проводили эксперименты. Этот оказался удачным — и еще каким удачным! Из несостоявшегося композитора получился журналист, которого знали и которым восхищались в нашей отрасли.
У большинства сотрудников нашего иллюстрированного издания были раньше другие профессии, другие надежды, мечты о совсем другой жизни. Нельзя сказать, что все они были неудачники. Но какой-то надлом был, по крайней мере, у лучших из них. Жизнь их сломала, кого раньше, кого позже. Гигантский резервуар для давно потерявших надежду и еще отчаянно надеющихся людей представляла собой эта «фабрика грез», и именно благодаря этому пышно процветала.
— Да-да, знаю, ничего не поделаешь, — отозвался я.
— Вот видишь. Конечно, другие развопятся…
— Да пошли они в задницу! Сами пусть пишут!
— …но я тебя прикрою.
— Спасибо, Хэм.
— Не за что. Чисто из соображения смысла. Если я тебя сейчас облаю и заставлю-таки написать, ты со своим «шакалом» такого говна понапишешь. А вот когда отойдешь, могу рассчитывать на что-нибудь стоящее.
— У меня еще и выходные про запас…
— Ничего не обещай, Вальтер, не первый год знакомы. Но в понедельник в девять утра это барахло должно лежать у меня на столе, иначе я тебя не знаю.
Всю пятницу у меня был «шакал», и всю субботу — еще хуже, еще отвратнее, но я и не думал вызывать врача. Обычно обходилось. В воскресенье до обеда он все никак не отпускал. Тогда я пошел кратчайшим путем: заставил себя пообедать в ресторане, очень плотно, и едва успел добраться до квартиры, как меня вывернуло наизнанку. Этого я и ожидал. Теперь мой желудок стал восприимчивым и чувствительным, теперь «Чивас» должен был подействовать. Я начал пить часов эдак с трех, пил всю вторую половину дня и заметил, что «шакал» стал отступать. Тогда я вышел в город. Я совершил рейд по семи или восьми ночным ресторанам, точно не помню, главное, что в каждом была «моя» бутылка «Чивас», и в какой-то из этих конюшен я взял двух девочек, которые теперь, в четыре тридцать утра в понедельник, лежали возле меня, рыжая — слева, брюнетка — справа, обе голые, юные и во сне невинные.
Я осторожно встал. Мне не хотелось будить девушек. Бросил только один взгляд на прекрасные тела и снова укрыл их. Брюнетка слегка посапывала. Я и сам был голым, по всей спальне были разбросаны детали дамского туалета. На проигрывателе лежала пластинка, лампочка все еще светилась и показывала, что он включен. Я его выключил. И тут мне все вспомнилось. Чайковский, «Патетическая». Мой любимый композитор. Я его слушал сегодня ночью, когда обе девицы персонально для меня одного выдавали крутой стриптиз.
Ах, какая чудесная музыка! Я сидел, пил «Чивас» и смотрел на девушек. Я им заплатил заранее — слишком щедро, как обычно, и сказал:
— Ну-ка, займитесь любовью!
После этого они устроили мне грандиозное шоу: катались по моей суперширокой кровати, преувеличенно громко стонали и вскрикивали. Даже если они были лесбиянками, вряд ли что-нибудь получили от этого, потому что были сильно пьяны.
— А ты что? — спросила под конец рыжая. — Не хочешь к нам присоединиться? — Она лежала на моей кровати, широко раскинув ноги, рядом с черноволосой.
— Да, сейчас. — Еще немного Чайковского. Еще немного «Чивас»…
У рыжей был естественный цвет волос, а черная — перекрашенная блондинка. Груди у нее были красивее.
— Мы тебе нравимся?
— Вы мне очень нравитесь, мои сладкие.
— Хочешь, мы сделаем тебе минет?
— Очень мило, но нет, спасибо.
— Или, может, я… — черная, которая на самом деле была блондинкой, задала еще один вопрос.
— Этого тоже не надо. Я только схожу в душ, потом приду к вам.
— Вау, класс!
Я сходил в душ и помылся. Что мы потом устроили втроем, описывать не буду, это не для печати. Я достал их, достал их обеих, да так, что под конец они заныли, чтобы я остановился, что они больше не могут. Хотя я был пьян не меньше, чем они. Но у меня всегда стоял особенно хорошо, когда я был пьян. Тогда я мог бесконечно. Поэтому я вообще не боялся — пока его не было — ни «шакала», ни тяжелой болезни, ни смерти. Смерть не для того, кто вкалывает, как лошадь, вдрызг пьяный имеет двух девиц и при этом хочет их все сильнее. Неподходящий кандидат для смерти. Я всегда, когда подступал «шакал», приводил домой двух девочек.
В ноябре 1968 года я, Вальтер Роланд, он же Курт Корелл, находился на вершине моей — какое там смущение, если подумать о том, что́ сегодня творится на свете, и кто и как зарабатывает кучу денег! — на вершине моей карьеры. Именно так! У меня был пентхаус, принадлежавший издательству, которое за все платило, я — ни гроша. Это была шестикомнатная квартира со всем возможным комфортом, какой только можно себе представить, на крыше одного из этих роскошных небоскребов на Грегор-Мендель-аллее в Лерхесберге — престижном районе для элиты, южнее Майна. Настоящий дом на доме! Суперсовременная обстановка. Дорогая полированная мебель различных цветов: красная, оранжевая, синяя, белая, лиловая — подобранная в каждой комнате к цвету стен. Частью это были совершенно новые разработки мебельного дизайна, вроде вращающихся стульев-скорлупок. В спальне, выдержанной в белых тонах, стояла огромная кровать из коричневой кожи. Рассеянное освещение и свет от торшеров с разноцветными абажурами. Многие предметы обстановки в шокирующих цветах. Все полы выстланы лучшими сортами велюра. На нем китайские мостики. Огромная стенка с книгами и встроенным телевизором. Из любой комнаты можно было через стеклянную дверь выйти наружу, на просторную плоскую крышу. Летом тут цвели цветы и кустарники, повсюду стояли шезлонги и навесы от солнца, ночью можно было долго сидеть под открытым небом и любоваться видом всего Франкфурта. Все это я заработал своей писаниной! Как и белый «Ламборджини 400GT». На нем я и приехал домой вместе с обеими ночными подружками. Я мог быть как угодно пьян, но ездить (и прочее) у меня получалось всегда. Денег у меня куры не клевали.
Я их расшвыривал обеими руками. Несмотря на огромные гонорары, у меня все время были долги перед издательством, и мне приходилось брать все новые авансы. Всего я задолжал на кругленькую сумму в двести десять тысяч. Ну и что? И пусть! Они же давали мне деньги с превеликим удовольствием, просто-таки ходили за мной с поднятыми руками и умоляли: возьми, ну, возьми! (Чтобы я не перешел к конкурентам, которые регулярно делали мне как минимум одно предложение в месяц.)
Кое-чего я все-таки достиг, пусть идиоты ухмыляются, злословят и не принимают меня всерьез, кое-чего я достиг! Правда, мне приходилось постоянно убеждать себя в этом. Я ездил на безумно дорогой машине, всегда появлялся в обществе с самыми красивыми старлетками, устраивал свои знаменитые званые вечера, останавливался только в первоклассных отелях…
Рыжая перевернулась на живот, ее волосы разметались по подушке. В последнее время я все чаще прибегал к этому средству — полежать между двумя девушками. Каждый раз, когда у меня был «шакал». После этого я прекрасно засыпал среди теплой, упругой, молодой плоти.
Голым я побрел на кухню ставить кофейник. Мне надо было много кофе, теперь пришла пора засесть за работу, а я все еще не протрезвел.
В дурмане, шатаясь, я поплелся в ванную, выложенную черным кафелем, и долго стоял под контрастным душем. Это помогло. В голове прояснилось. Я побрился, слушая радио. У меня был крохотный японский транзистор, с которым я никогда не расставался. По УКВ передавали новости.
Ожесточенные бои в дельте Меконга. Волна чисток в Чехословакии. Дубчек утрачивает власть. Американский самолет угнан на Кубу, израильский — в Афины. Тяжелые бои на израильско-иорданской границе, попытка военного переворота в Сирии. Кровавая религиозная война в Ирландии. Расовые волнения в США. Ревальвации, девальвации, забастовки, катастрофы. Ничего особенного. Каждое утро я начинал с новостей. Надо быть в курсе событий.
Из ванной я прошел в гардеробную, в которой были одни только встроенные шкафы кремового цвета, образующие сплошную стенку, все с зеркалами. Как и везде, здесь тоже велюровое покрытие с китайским мостиком, столик и диван кремового цвета посреди комнаты. Я выбрал серый фланелевый костюм, белую рубашку из шелка-сырца, черный галстук, черные носки, черные туфли. На кухне я нацедил себе очень крепкого кофе и выпил его маленькими глоточками. Голода я не чувствовал.
Потом еще раз посмотрел на спящих девушек, вынул из кармана четыре сотенные купюры и подсунул их краешком под лампу на ночном столике. На листке бумаги я написал красным фломастером: «Чао, мои сладкие. Это вам еще. Заприте и бросьте ключ внизу в почтовый ящик». Ни подписи, ни даже инициалов. Устанавливать близкие отношения мы не станем. И никогда больше не увидимся.
А теперь вперед! У меня мало времени!
Я ехал к издательству по безлюдному прохладному городу. Я знал, где строители метро разрыли улицы. В конце 1968 года Франкфурт представлял собой настоящий сумасшедший дом. Чтобы добраться до издательства, приходилось проезжать до Таунусанлаге, но тогда нигде нельзя было свернуть налево. Снова приходилось проталкиваться через Майн на Заксенхаузен, если чертовски досконально не знать города. На многих перекрестках висело до двенадцати табличек разных размеров и цветов, одна над другой, с названиями обществ или отелей. Отель «Франкфуртский двор», всемирно известные фирмы «Дегусса» или «Инвестиционный и торговый банк» пытались с помощью этой сложной системы дорожных указателей провести гостей и клиентов по фарватеру через хаос строительных площадок и объездов. В верхней части Кайзерштрассе и возле Кайзерплац маялись проститутки. Никакой дорожной разметки и полос, по которым можно ехать. Перед баром на Гутлейтштрассе, который я знал, прохожих, слегка потянув за рукав, вовлекали внутрь, и он, будь то мужчина или женщина, уже не мог выбраться наружу — такой узкой была там пешеходная дорожка. Нельзя было разойтись, тесно не соприкоснувшись друг с другом. Для одних это оборачивалось неожиданным наслаждением, для других, тоже неожиданно, потерей бумажника.
Вайсфрауенштрассе была перекрыта. Движение поворачивало с Берлинерштрассе на тихую Бетманнштрассе, на которой стоял «Франкфуртский двор». Одностороннее движение на Бетманнштрассе развернули в другую сторону, через Кайзерплац к театру. Там в асфальте бурили шестьсот отверстий для стальных опор и перекрытий. Даже подъезда к театру не оставили. Директор театра сам совершал контрольные поездки на трамвае, чтобы проверить, объявляют ли кондукторы новую остановку «Театр», поскольку старая с таким названием больше не существовала.
Разразился страшный скандал, когда пошли разговоры, что стоимость запланированной станции метро «Театерплац» может оказаться на десять миллионов больше объявленной! А шумиха вокруг собора! Здесь землю раскапывали в непосредственной близости от старинного здания, церковь прикрывала бетонная стена. Площадь между собором и ратушей Рёмер, до сих пор бывшая самой удобной в городе автостоянкой, превратилась в строительную площадку, огороженную забором. И однажды по всему этому району разлилась ужасная вонь. В котлован прорвались сточные воды канализации. Они даже затекали рабочим в резиновые сапоги. Да, работать в центре города было сплошным удовольствием!
К издательству на Кайзерштрассе, выше рынка Россмаркт, я подъехал с задней стороны, по Эккерманнштрассе и Хиршграбен. Там был еще въезд для грузовиков во двор высотки. Я плавно въехал на своем «ламборджини» в подземный гараж. В холл поднялся по ступенькам. Как всегда. Никакого лифта на этот подъем! Надо заботиться о своем здоровье.
Когда я позвонил, гигант-портье в синей униформе с золотыми галунами открыл дверь из гаража в холл. Как и все, оказывающие мне услуги, он получил чаевые сверх меры.
— Доброе утро, господин Клуге.[39]
— Доброе утро, господин Роланд, и большое спасибо!
У меня был туго нафаршированный дипломат. В нем лежали материалы: книги, журналы, заметки для продолжения, которое мне сейчас предстояло написать. В громадном холле с мраморным полом, мраморной плиткой на стенах, кожаными креслами и обитыми кожей столами появился, влетев через высокие стеклянные входные двери, автоматически управляемые с помощью селеновых элементов, крупный плотный мужчина в помятом костюме, небритый и невыспавшийся. У него на плечах болтались четыре фотокамеры, а в руках он тащил под завязку набитую дорожную сумку, которая, казалось, вот-вот лопнет. Я узнал своего друга Энгельгардта.
— Привет, Вальтер!
— Хэлло, Берти. Слушай-ка, да тебе досталось!
— Так, мелочь. Попали камнем. — Он, как всегда, улыбался.
Три дня назад в Чикаго был застрелен знаменитый негритянский лидер. Это вызвало расовые волнения.
— Когда ты прилетел?
— Полчаса назад. Остальные будут дневным рейсом. — «Блиц» посылал в Америку команду фотографов и репортеров. — Ну, парень, они там, в Чикаго, точно повесятся от зависти. Какие я привез снимки!
— Ваши репортажи пойдут во все межрегиональные газеты, — объявил я.
— А место? Места у нас хватит?
— Девять полос.
— Черт побери!
— Я вчера видел пробные оттиски этих материалов. Это да! Тебя они, конечно, упоминают персонально. — И еще, помнится, текст, набранный жирным шрифтом:
СМЕРТЬ ЧЕРНОГО ИИСУСА!
Чтобы разместить девятистраничное сообщение об убийстве негритянского вождя Иисуса Марии Альбермора и о кровавых волнениях, последовавших за ним, было проявлено три тысячи пятьсот шестьдесят два негатива, принято двести девяносто восемь фоторадиограмм, проведено четыреста четырнадцать телефонных переговоров между Франкфуртом и Америкой, отправлена и получена двести тридцать одна телеграмма, и наши сотрудники налетали в сумме шестьдесят семь тысяч километров. Лучший фотограф «Блица» Берт Энгельгардт и семь других фоторепортеров, а также пятеро журналистов летали в Чикаго, Лос-Анджелес, Детройт, Нью-Йорк, Балтимор и Бостон. Шеф художественной редакции Курт Циллер[40] прервал свой отпуск и отправился с Тенерифе в Чикаго, где взял эксклюзивное интервью у вдовы убитого…
И так далее, с шумной рекламой, по обычаю, возникшему еще в то время, когда ни один человек не знал, сколько негативов будет проявлено, сколько фоторадиограмм принято, сколько телеграмм отправлено и принято и сколько налетается километров. Но так было всегда. А для главного редактора Лестера имели значение только порядок и планирование. Если он чего и не терпел, так это суматохи и импровизации. Газетные объявления можно было бы и сейчас набрать, матрицировать и отправить. Но нет! Предварительная разметка — это половина успеха. Это было свято для Лестера. При такой предварительной разметке можно было, к примеру, твердо рассчитывать на рекламное место в ежедневных газетах на правой, как мы называли, «масляной», стороне, которая намного больше бросается в глаза, чем левая.
И система контрастов тоже была свята для Герта Лестера, который пытался сожрать меня, как и я его. Хватало, конечно, людей, которым было наплевать на убитого негра. Поэтому под текстом о черном Иисусе, набранным во всю строку, в конце анонса шли еще две строки тем же кеглем:
ЭКСКЛЮЗИВ ИЗ ПАРИЖА! МОДА ОСЕНЬ/ЗИМА-69: БОРЬБА МИНИ С МИДИ И МАКСИ!
Берти понесся через холл.
— Куда? — крикнул я ему вслед.
— Вниз, в лабораторию. Надо проявить три пленки!
— Я думал, вы выслали все авиапочтой?
— Ты и представить себе не можешь, что еще привезут парни!
Так что и сейчас не было точно известно, сколько пленок на проявку. Этот мне Герт Лестер…
Я пошел к лифтам. Издательство было очень крупным, со множеством служащих. Отдел распространения. Отдел рекламы. Бухгалтерия по заработной плате. Бухгалтерия по гонорарам. Художественная редакция. Литературная редакция. Отдел исследований. Отдел по работе с читателями. Возле одного лифта целый день толпились в ожидании люди. Другой был, как правило, свободен. И вот почему: лифт, перед которым всегда кто-то стоял и ждал, предназначался для сотрудников младшего и среднего звена и для посетителей. Другой — только для ведущих редакторов, главного редактора, руководителя издательства, руководителя отдела распространения, директоров и заместителей директоров и, естественно, для издателя. У каждого из этих важных господ был собственный ключ от так называемого, «бонзовоза».[41] Пользоваться им было наградой и честью! Право пользования «бонзовозом» получали вместе с ключом. Для первого лифта ключ не требовался. Дверь в нем открывалась сама собой, когда приходила эта «пролетчерпалка». Правда, ее никогда не было. И народ ждал.
Четырнадцать лет назад, когда я, прервав свое юридическое образование, пришел сюда и увидел это славное устройство с двумя подъемниками, я всерьез задумался, можно ли вообще работать в издательстве, где практикуются подобные вещи. Я был искренне возмущен. Возмущение улеглось, когда я начал работать в этом издательстве. Восемь лет назад, когда я уже выбился в топ-райтеры, на праздновании Рождества мне, в растроганных чувствах, был вручен ключ от лифта для избранных. Во мне все взбунтовалось, и четыре следующих года я демонстративно пользовался вечно переполненной, душной «пролетчерпалкой». Однажды я понял, что это глупо. (Мне как раз удался «удар в литавры» с первой сексуально-просветительской серией, и я получил свой «Ламборджини».) Этот паршивый лифт все никак не приходил, тогда я вынул ключ от лифта для «избранных» и поехал на нем. И стал ездить постоянно. Да пошли они к черту!
В этом лифте всегда пахло, как в парфюмерном магазине. Специальные ароматизаторы распространяли благовония, и в течение всего дня с магнитной пленки через мембраны скрытых динамиков звучала тихая, нежная музыка. Сейчас, в этот ранний час, когда я поднимался на «бонзовозе», было еще тихо. Но аромат чувствовался. Пахло приятно!
Восьмой этаж.
Я вышел, пошел к своему стеклянному боксу, по пути прихватив из холодильника три бутылки кока-колы, потому что во мне все горело. И вот уже вытащил книги и журналы, закатал рукава, ослабил галстук, расстегнул воротник рубашки. Прикурил сигарету. Так.
Я вставил в тяжелую машинку стандартный лист бумаги, копирку и еще один лист бумаги и посмотрел на наручные часы.
Шесть часов двенадцать минут. Ну, с Богом!
Я начал печатать. Начало я обдумал по дороге в издательство: «Человек является христианином или нет, — отмечает Мартин Лютер со свойственной ему откровенностью и прямотой, — плоть его неистовствует, пылает и выделяет семя. И если оно не течет в плоть, то оно течет в рубашку…»
После этого продолжение писалось, так сказать, само собой. В тишине стук машинки звучал как автоматная очередь. Я изготавливал свою недельную норму сексуального суррогата для рациона миллионов людей. Хотите — вот вам!
Кушайте на здоровье!
4
«…Значительную роль играет поцелуй гениталий. Он вызывает оргазм такой степени, что этот способ сексуального сношения в некоторых местностях и в отдельные времена встречается наиболее часто». Восемь часов тридцать пять минут.
Я начал редактирование этого продолжения. Перечитал еще раз последние фразы. И понял, чего не хватает. Крестика!
Примечания на полях корректуры.
У нас это, конечно, называлось не «гениталии», а «женские гениталии»!
Эти серии глотали большей частью женщины, несчастные создания. Почти все они не получали в этом смысле нормальным способом ничего. И как приятно им было читать это в журнале, напечатанное черным по белому. Теперь они могли ткнуть это своим парням под нос: видишь, что говорит Курт Корелл! Всегда помни о женщине. И не будь свиньей! Составляющими успеха этой похабщины как раз и были: научность, моральность, изящность и (ну, вот, снова) «настоящая отдушина»!
«…Общепринятое обозначение для такой ласки — французский поцелуй…» Редактируй быстрее, товарищ! Помни о dead-line. Это уже сегодня. Именно так, Хэм не преувеличивал. Два господина редактора будут страшно ругаться, если им придется ждать всю ночь напролет, пока сверстанные и откорректированные страницы будут доставлены из типографии в редакцию, где их следует в срочном порядке подписать в печать, так как они идут на вторую полосу.
Ах, как они будут ругаться! Но про себя. Вслух меня никто не посмеет ругать. Разве что главный редактор Герт Лестер. Он мог себе это со мной позволить! Никто в издательстве не хотел портить со мной отношения. Напротив. Один за другим ребята приползали ко мне! Если кому-то грозило увольнение с работы, то он незаметно пробирался ко мне и скулил: «Вальтер, помоги, пожалуйста. Скажи им, что ты уволишься, если они меня выгонят!» Они в самом деле просили меня об этом, с влажными собачьими глазами, отцы семейств, часто за пятьдесят! Для них действительно было страшно потерять работу. Где бы они нашли другую в этом возрасте? И кто из них действительно что-нибудь умел? Хэм! Он да. Он мог больше, чем все остальные вместе взятые. Всю нашу лавочку он мог заткнуть за пазуху. Но сколько балласта тащила на себе такая редакция, как наша! И если для кого-то попахивало жареным, он приходил ко мне и канючил: «Тебе всего-то надо сказать, что уволишься, и они не посмеют!» И я делал это. Ходил к начальнику отдела кадров, к главному редактору, к руководителю издательства, вплоть до самого издателя, устраивал спектакль. А парень, которого собирались уволить, бегал в это время кругами или сидел в клозете с поносом.
Эти угрозы всегда срабатывали. Никто из тех, за кого я вступался, не вылетел. Так что уж, черт их побери, могут посидеть здесь ночку, потягивая пиво и подписывая материал в печать, если я, из-за своего «шакала» сдаю его слишком поздно! Восемь часов сорок минут.
Все приложение отредактировано. Я скрепил отдельно оригинал и копию большими скрепками и поднялся. Все еще ни единого редактора, ни одной машинистки. Девчонки придут только в девять, редакторы — около половины десятого. Я смотрел в окно, вниз, на большой двор, простиравшийся между высотным зданием издательства и приземистыми строениями наборного цеха и типографии. Типография занимала два подземных этажа. Там уже шла работа. Вокруг стояли огромные грузовики. Рабочие с помощью блоков снимали с их платформ рулоны бумаги для глубокой печати высотой в человеческий рост. Закрепленные канатами и цепями, эти рулоны скользили по балкам вниз, в подвалы типографии, к ротационным машинам. Во дворе болтали и курили метранпажи и наборщики.
Я набросил на плечи куртку, оставив рукава рубашки засученными и галстук тоже, как был. Ничего не убрав со стола, прошел из своего стеклянного бокса по стеклянному переходу к стеклянной двери, на которой было написано:
«Пауль Крамер
Заведующий литературной редакцией»
Дверь была открыта, и я вошел.
В кабинете Хэма пахло, как всегда, трубочным табаком. Уборщица протирала пол. Она заговорщически улыбнулась:
— Здрасьте, господин Роланд!
У меня вдруг стали влажными ладони. Изобразив на лице улыбку, я любезно ответил:
— Доброе утро, госпожа Васлер.
— Новое продолжение? — спросила Васлер, стоя на полу на коленях с тряпкой в руках рядом с тазом, наполненным моющим раствором. Я кивнул и положил рукопись на убранный письменный стол Хэма. Вдруг куда-то подевались легкость и приподнятое настроение сегодняшнего утра.
— Любопытно, — изрекла Васлер, протирая пол размашистыми движениями.
— Надеюсь, вам понравится, — хрипло выдавил я и ретировался. На лбу у меня выступили капли пота. Я пошел по переходу к лифтам. И снова наткнулся на двух уборщиц. Они натирали полы.
— Здрасьте, господин Роланд! — фамильярно кивнули они мне, словно я был их коллегой или приятелем, и, пожалуй, даже чуточку высокомерно. На то, что эти и другие уборщицы занимались уборкой в издательстве так поздно, были свои причины…
— Доброе утро, госпожа Швингсхаксль, доброе утро, госпожа Райнке. Хороший сегодня денек, не правда ли?
— Больно уж тепло для ноября, — откликнулась Швингсхаксль, баварка.
— Уж сдали? — спросила Райнке, крупная костлявая берлинка.
— Да, только что. — Пот уже затекал в глаза. Я вытер его ладонью. Эта Райнке была мне страшнее страшного. Звали ее Лора, еще нет тридцати, с вечно недовольным лицом.
— А чёй-то с вами?
— Со мной? А в чем дело?
— Чёй-то вы совсем зеленый. Как призрак какой. Может, вам…
— Со мной все в порядке. — Меня и впрямь начало трясти, как только я столкнулся с этими Райнке и Швингсхаксль. Уборщицы! Так было всегда, когда я рано утром приходил в издательство и встречал их всех.
— А как дела у вашего мужа, госпожа Райнке? — Противно и недостойно вот так подлизываться к кому-то. Но я подлизывался, всегда! — Как его нога, зажила?
— Давно уж! Токо он притворяется, что еще нет. Потому как работать не хочет, колода ленивая! Мужчины! — Райнке пренебрежительно завозила своим электрополотером. — Да уж вы-то, поди, все знаете об этих субчиках, не? О мужчинах-то вы хоть что написали?
— Конечно. И о мужчинах тоже, госпожа Райнке.
— Вот это мне будет особенно интересно! — Это прозвучало угрожающе.
— Вот и замечательно! — Я уже едва держался на ногах. — До свидания, мои госпожи! — Я заторопился к лифту и на «бонзовозе» спустился в холл. Теперь уже Центральная включила успокаивающую журчащую музыку. Мантовани[42] и его оркестр ста скрипок. И, как всегда, благоухание из ароматизаторов. Уже много лет мне каждый раз становилось плохо после этих встреч с уборщицами. Я боялся каждую из них в отдельности. Каждая в отдельности была моим врагом. Да, перед каждой из этих бедных, измученных жизнью уборщиц я испытывал безграничный страх. И не только перед ними, нет, но и перед секретаршами в издательстве, перед телефонистками, телеграфистками, бухгалтершами, ученицами, поварихами в столовой, официантками, посудомойками, упаковщицами, дамами из архива, фотолаборантками! Они мне постоянно снились, я ничего не мог с этим поделать, и это были отвратительные кошмары. Как только я вспоминал обо всех этих бабах, у меня все внутри сжималось. И мне становилось все хуже и хуже. Я уже с трудом его переносил, этот омерзительный страх перед тем, что опять приближалось ко мне, уже скоро, скоро…
5
«Откуда я пришла — никто не знает. Все движется туда, куда и я… Пусть хлещет море, ветер завывает… Никто не знает тайны бытия…»Около полуночи 12 ноября, когда фройляйн Луиза, шепча эти слова, с жгучей болью в глазах от пролитых слез, торопилась по узкой тропинке через болото к своим друзьям, я с сидящими рядом со мной Ириной и Берти добрался до моста через Эльбу в конце автобана Веддель. Я выжал из «Ламборджини» все, что мог. Теперь меня подгоняло время. Моя тачка выдавала двести тридцать километров в час. Машину бросало из стороны в сторону на опустевшем автобане, потому что ночью поднялась буря, ледяной штормовой ветер с северо-запада косыми порывами бил навстречу «Ламборджини», сотрясая его. Я уверенно держался за руль и был предельно внимателен. При такой скорости любой порыв ветра мог легко сбросить меня с автобана. Но я знал свою машину.
Поначалу Ирина несколько раз вскрикнула, когда штормовой ветер наскакивал на «ламборджини», и мы все чувствовали дикую силу, с которой он ударялся о металл. Но потом Берти сказал ей:
— В чем дело? Не бойтесь. Уж ездить-то господин Роланд умеет. И вы ведь хотите как можно скорее к своему жениху, или нет?
Временами, когда машину начинало бросать, Ирина хваталась за мою правую руку и вцеплялась в рукав, но не произнесла больше ни слова. Мы сидели, тесно прижавшись друг к другу, и через одежду я чувствовал тепло ее тела. Это было приятное чувство, оно меня возбуждало, и я подумал, что с удовольствием переспал бы с Ириной. Но подумал только два раза. В остальное время, если я вообще думал, а не следил за тем, чтобы удержать разогнавшуюся машину на автобане, то только об истории, на которую нарвался. Теперь я был абсолютно уверен, что наткнулся на «горячую» тему, и мое сердце начинало сильнее биться при мысли, что я напишу эту историю, я, я, я! Наконец-то настоящую сенсацию после многолетней отупляющей гонки по замкнутому кругу моих сексуальных серий.
Три человека, тесно прижавшиеся друг к другу в одной машине, каждый со своими мыслями: я — о том, что это будет мое возвращение в качестве серьезного репортера; Ирина — определенно только о своем Яне Билке и о любви, разрываясь между страхами и надеждой; а Берти… в мирных сновидениях. Он, как водится, уснул и счастливо улыбался. Ох, уж этот Берти!
У него вообще не было нервов. Он попросту засыпал где угодно. Помню, нас с ним однажды послали в Йоханнесбург, и над Африкой, ночью, наш «боинг» попал в страшную грозу, самолет то и дело проваливался в воздушные ямы, били молнии, нас швыряло туда и сюда. Пассажиры кричали, плакали или громко молились, свет в салоне то вспыхивал, то гас, и многим было дурно. Вонь стояла на весь салон. Когда мы провалились не меньше чем метров на пятьсот, и я почувствовал, как, несмотря на пристегнутый ремень безопасности, поднимаюсь вверх, милому Берти упало на голову одеяло из багажной сетки, и он, наконец-то, проснулся. Свет в салоне мигал. Берти посмотрел на меня с усмешкой, потер череп, послушал спросонья, как молились, плакали и издавали разные звуки люди, которых рвало, и изрек:
— Немного беспокойный полет, да?
— Послушай, — сказал я, — уже целый час мы в середине грозы и никак не вырвемся. — Новая молния как раз ударила с грохотом в крыло, и самолет швырнуло, как камень из пращи. — И уже давно так. Я чуть в штаны не наложил. Ты что, совсем не боишься?
Берти удивленно улыбнулся:
— Чего?
— Ну, к примеру, что мы разобьемся.
— Ну, и что? — не понял он. — Я хорошо застрахован. Моя мать получит кучу денег. — Через две минуты он уже снова дрых. У него была старая мать, с которой он жил вместе и которую очень любил. Оба его брака закончились разводом. Молодые женщины просто не могли вынести той жизни, которую вел Берти.
Я подъехал к Новому мосту через Эльбу и ее рукава. Каждый раз, когда я ночью въезжал в Гамбург, от этой картины у меня замирало сердце. Многочисленные огни верфей, складов, кораблей и лодок. Красные, зеленые и белые сигнальные фонари, отражающиеся в воде. Лучи неоновых светильников на ясно, как днем, освещенном мосту. Все это я любил и не отрываясь смотрел вниз на воду и на множество разноцветных огней.
Теперь я ехал медленнее, и Берти проснулся. Он протер глаза, посмотрел на часы и сказал: «Шустро у тебя получилось, Вальтер. Старина, какой воздух!»
Ураган бушевал и над Гамбургом. Корабли раскачивались на воде. С крыш слетала черепица, грохотала жесть, ветер свистел и выл. Я проехал вдоль по Хайденскампвег через мрачные пригороды Клостертор и Боргфельде до дамбы Берлинер-Тор. На улицах ни души. Я хорошо знал Гамбург. Через Бюргервайде, Штайнхауердамм и Мюлендамм я проехал дальше на север до Армгартштрассе. Там повернул налево и поехал в западном направлении по Мундсбургердамм до Шваненвик, которая находится буквально рядом с Аусенальстер. Воды Альстера тоже были неспокойны, и огни больших отелей по ту сторону обоих Ломбардных мостов, один из которых, новый, называется теперь мост Кеннеди, плясали на волнах. По небу летели клочья туч. От Уленхорстер-Вег и Шене-Аусзихт начиналась Адольфштрассе с сумасшедшим односторонним движением, направление которого менялось в зависимости от времени дня. Я заехал на эту тихую сейчас улицу и остановился на тротуаре возле дома 22А, красивого старинного белого особняка, расположенного за небольшим садиком. Здесь жили несколько семей.
— Мы уже на Эппендорфер Баум? — взволнованно спросила Ирина. — Это тот дом?
— Нет, — ответил я. — На Эппендорфер Баум мы сейчас поедем. Но сначала нам надо сюда, на Адольфштрассе. Здесь живет Конрад Маннер.
— Кто?
— Наш корреспондент в Гамбурге, — пояснил я. — Вы же помните, я при вас звонил в редакцию и просил послать ему телеграмму, чтобы он немедленно выехал и попытался отыскать Яна Билку.
— Ах, да, — сказала она беспокойно и нетерпеливо.
— Нас ждет подружка Конни. От нее мы узнаем, что ему удалось выяснить. Ну, идемте.
Я помог Ирине выбраться из машины. Берти вылез с другой стороны.
— Его подружка Эдит, — сказал он с улыбкой. — Прекрасная Эдит.
Ураган ревел. Деревья вдоль улицы стонали и трещали, ветви низко склонялись и полоскались на ветру. Причудливые тени плясали на асфальте в свете уличных фонарей.
Мы прошли через маленький садик — калитка была открыта, — и я нажал на кнопку звонка, возле которой была табличка с именем Конни Маннера. Он жил на третьем этаже. Ждали мы довольно долго. Потом услышали, как включилось переговорное устройство дома. Из динамика послышался очень испуганный женский голос, в котором звучали слезы:
— Кто там?
— Роланд, — ответил я в динамик. — Роланд, Энгельгардт и еще кое-кто.
— Кое-кто еще — это кто? — спросил женский голос. Потом послышалось что-то похожее на всхлип.
— О Господи, да откройте же, Эдит, — воскликнул я. — Я объясню вам все наверху.
— Я хочу знать, что такой этот кое-кто.
— Молодая дама.
— Что еще за молодая дама?
— Эдит, вы выпили?
Снова всхлип. Потом:
— Значит, вы не хотите мне сказать?
— Нет. Не здесь. Нам надо войти. Быстро. Откройте же, наконец, черт возьми.
Голос Эдит спросил:
— Вы можете назвать еще одно имя господина Крамера?
— Послушайте…
— Не знаете?
— Конечно, знаю! Но что все это значит?
— Тогда назовите это имя! Или я не открою!
— Хэм, — ответил я. — Теперь довольны?
— А сколько ему лет?
— Проклятье…
— Сколько лет?
— Пятьдесят шесть.
Загудел сигнал кодового замка. Мы быстро вошли. Я отыскал кнопку выключателя. Лифта в узком высоком подъезде не было. Нам пришлось пешком подниматься на третий этаж. Ступени лестницы были крутые. На каждом этаже жил только один квартиросъемщик. Дверь в квартиру Конни Маннера была закрыта. Я снова позвонил. После этого дверь приоткрылась, насколько позволяла цепочка. Я заметил, что в прихожей было темно. Потом я увидел пистолет. Он был огромный. «Кольт-45», калибр девять миллиметров — небольшая пушка. Ее использует американская военная полиция. Матово блестящий ствол просунулся в щель. Я знал, что у Конни была такая штука. Теперь, очевидно, эту вещь держала в руке его киска. Ее мы не видели, только немного руку на рукоятке пистолета. И мы услышали дрожащий голос:
— Встаньте у окна, чтобы я могла вас видеть. Все трое. Или сколько вас там.
— Трое, черт побери, — ответил я. — Я же говорил, Эдит.
— К окну, живо, — повторила Эдит из темноты.
Свет в подъезде погас. Я включил его снова. Потом посмотрел на Берти и Ирину и пожал плечами. Что нам было делать? Я первым подошел к окну, которое, как и весь дом, было оформлено в лучших традициях югендстиля.[43] На окне, состоявшем из многочисленных разноцветных, обрамленных свинцом кусочков, были изображены морские змеи в женском обличье. Очень женском.
— Хорошо, — сказала Эдит из-за двери. — Это вы, господин Роланд. Теперь остальные.
Ирина и Берти встали рядом со мной.
— А это господин Энгельгардт, — сказала Эдит за дверью. Огромный ствол пистолета был направлен на меня. За последние часы я видел достаточно безумия. А что если Эдит тоже сошла с ума?
— Кто эта молодая дама? — спросила она.
— Послушайте, это же идиотизм, откройте, наконец, Эдит, или… — начал я, но она перебила меня:
— Или что? Или ничего! Я опять захлопну дверь и вызову полицию!
— Вы явно перебрали!
— Я в полном порядке, — всхлипнула она. — Кто эта дама? Быстро!
Что ж, я представил их друг другу, и при этом никак не мог вспомнить фамилию Эдит. «Херваг», — подсказала она.
— Эдит Херваг, — сказал я Ирине, смотревшей на меня с испугом. После этого Эдит потребовала объяснить, откуда взялась Ирина. И только после того, как я выложил ей всю эту распроклятую историю — свет в подъезде, конечно, снова погас, и нам дважды пришлось включать его заново, — ствол пистолета исчез, цепочка откинулась, дверь открылась.
— Входите, — сказала Эдит Херваг.
Она была действительно очень красива. Высокая и белокурая, раньше она работала моделью, пока не переехала к Конни. Ему эта работа не нравилась. Он хотел на ней жениться. «Наверное, так бы скоро и случилось», — подумал я, входя следом за Ириной и Берти в просторную прихожую. Комод в стиле бидермейер,[44] красивое зеркало, обои в стиле бидермейер. Так же была обставлена вся квартира. Конни любил стиль бидермейер. В прихожей стояли еще несколько кресел в стиле бидермейер, в нише за шторой находилась кладовка для одежды. Эдит была бледной, ее слегка покачивало, а ее зеленые глаза были неестественно расширены. Я подумал, что она, наверное, наркоманка и сейчас в кайфе, этого нам только не хватало! Она стояла, держала пистолет направленным мне прямо в живот и вдруг снова заплакала. Она содрогалась так сильно, что я мог думать только о том, как легко спускается курок такого пистолета.
— Что случилось, Эдит? — с улыбкой спросил Берти.
— Конни, — всхлипнула она, теперь пистолет нацелился в живот Ирине, что было не намного приятнее.
— Что, Конни? — снова спросил Берти со своей непоколебимой любезностью. — С ним что-то случилось?
Эдит смогла только кивнуть. От этого кивка мне стало холодно. Она все еще держала палец на спусковом крючке, а оружие было снято с предохранителя и направлено Ирине в живот.
— Что с ним случилось?
Теперь она плакала навзрыд.
— Эдит! — позвал я. — Эдит!
— Дай я, — мягко сказал Берти. Он спросил: — Несчастный случай?
Эдит помотала головой. С ресниц у нее стекала черная тушь и оставляла причудливые следы на щеках.
— Не несчастный случай?
Она помотала головой.
— А что?
— Убийство, — ответила Эдит Херваг.
6
Конни Маннер вышел из своего синего «Порше 911S» и медленно пошел через дамбу к дому 187, который мы ему указали и в котором у своего друга Рольфа Михельсена жил Ян Билка.
Эппендорфер Баум — это оживленная торговая улица, расположенная в хорошем районе. Первые этажи большинства ее прекрасных домов занимают магазины. На верхних этажах, определил Конни по окнам, находятся жилые квартиры. Конни был среднего роста, стройный, тридцати лет и уже четыре года работал в «Блице». Раньше он работал в центральном офисе ДПА,[45] до этого в Юнайтед Пресс Интернэшнл, в Администрации земли Гамбург. На нем была спортивная куртка цвета ржавчины, шляпы он не носил.
Он был дома, когда телетайп начал отстукивать мое сообщение для него. Было без десяти пять. Конни подтвердил получение задания, сказал своей подружке, что, возможно, вернется не слишком скоро, но будет ей время от времени звонить и сообщать новости. А она должна их записывать и потом прочитать мне. Я приеду позже вечером. И Конни уехал на своем «Порше 911S». Он не рассчитывал попасть в час пик и злился, что до Эппендорфер Баум пришлось добираться почти три четверти часа. Если точно, то от получения телеграммы из Франкфурта до прибытия на место ему потребовалось сорок восемь минут.
В семнадцать часов тридцать восемь минут он пересек дамбу Эппендорфер Баум. Это сообщили позже двое свидетелей, которые наблюдали все происшествие. Оба свидетеля видели также, что фары «мерседеса», стоявшего дальше и ниже на Эппендорфер Баум, трижды коротко мигнули, как только Конни ступил на дамбу. После третьего сигнала из укрытия на другой стороне улицы выехал тяжелый темный автомобиль. «Мерседес» проехал мимо Конни и скрылся. Темный автомобиль был примерно на таком же расстоянии от Конни, как и от «мерседеса», — около ста метров. Конни припарковался возле «зебры». По ней он и двинулся. Тяжелый темный автомобиль поехал вниз по Эппендорфер Баум. Его водитель быстро переключал скорости и, по утверждению очевидцев, разогнался до скорости более ста километров в час. Мужчина за рулем держал курс прямо на Конни и налетел бы на него точно на середине перехода, если бы Конни, понявший в последнюю секунду, что происходит, не совершил отчаянный прыжок назад. Мужчина, управлявший тяжелым легковым автомобилем, резко вывернул руль и ударил Конни левой передней стороной. Конни отбросило в сторону, он пролетел по воздуху и тяжело упал на асфальт на пешеходном переходе. Тотчас вокруг него образовалась лужа крови.
Автомашины резко тормозили, суматошно крича, со всех сторон бросились люди, один из двух свидетелей помчался к телефону и вызвал полицию. Через шесть минут приехала «скорая помощь» из Университетской больницы, расположенной неподалеку, на Мартиништрассе, через семь минут прибыли две радиофицированные патрульные машины, через одиннадцать минут — два автомобиля со следователями криминальной полиции, которых вызвали патрульные. Следом за ними подъехал один из фургонов дорожной полиции для расследования и допросов.
Как сообщил врач «скорой помощи», Конни получил опасные для жизни повреждения, ему срочно требовалась операция. Его осторожно положили на носилки и отнесли в машину «скорой помощи». «Скорая» включила сирену и тут же уехала. Полицейские и криминалисты оставались на месте происшествия еще больше часа. Были допрошены оба свидетеля. Специалисты фотографировали, делали измерения на местности и выполняли обычные протокольные действия. Стекло одной из фар совершившего наезд автомобиля, левой, разбилось. Специалисты собрали его осколки, а также кусочки краски и сложили все в нейлоновые пакеты.
Следователи еще беседовали с обоими свидетелями в машине для допросов, когда им позвонили с центрального пункта. Это был очень странный звонок, как сказал позже Эдит Херваг один из свидетелей.
— Значит, сначала центральный пункт вызвал эту машину по ее позывному. А потом голос по громкой связи сказал что-то совершенно бессмысленное, — рассказывал он.
— Что? — спросила тогда Эдит этого свидетеля.
— «Капри нужен городской лоцман».
— Что?
— Да, именно так. «Капри нужен городской лоцман», слово в слово, — подтвердил второй свидетель.
— И что? Что ответил криминалист центральному пункту? — спросила Эдит.
— Он ответил: «Рухлядь идет через Северный полюс, понял», — сказал Эдит первый свидетель. — А потом он снова повернулся к нам, и я сказал: «Это не был несчастный случай, это однозначно преднамеренное убийство».
— Совершенно верно! — воскликнул второй свидетель. — Мы же оба видели, как «мерседес» еще подавал автомобилю-убийце сигналы светом!
— Допрашивавший нас служащий принял вдруг совершенно отсутствующий вид и сказал: «Сигналы светом, так-так. Сигналы светом…»
7
— Мне позвонили из полиции две минуты седьмого, — рассказывала Эдит Херваг. Мы сидели в комнате Конни Маннера. Эдит немного пришла в себя, но еще то и дело принималась плакать. Я нашел бутылку виски и время от времени давал ей по глотку выпить. Это была бутылка Конни. Я не хотел расходовать слишком много моего «Чивас». В комнате стояла очень красивая мебель, на стене, оклеенной такими же обоями, как и в прихожей, висели две красивые картины. — Они сказали мне, что Конни сбила машина и что он лежит в Университетской больнице на Мартиништрассе. Я сразу туда поехала. — Она снова заплакала, и я налил ей полстакана. Мы сами ничего не пили. Нам надо было выслушать эту историю и ехать дальше, теперь мы торопились еще больше, чем прежде.
— Спасибо, — поблагодарила Эдит. «Кольт-45» лежал между нами на столе. Эдит выпила, перестала плакать и говорила теперь неестественно ровным, глухим голосом. — Я вызвала такси. Без десяти семь я была в Университетской больнице. Мы попали как раз в вечерний час пик. Когда я пришла, Конни делали операцию. Мне сказали, что ждать не имеет смысла и что мне следует уйти, но я, конечно, осталась. Я ждала перед дверью операционной. В четверть восьмого они его вывезли.
— Вы его видели?
— Нет. Он был накрыт с головой, и один из врачей шел рядом и держал колбу с раствором, Конни поставили капельницу, я видела пластиковую трубку. Но руку я не видела. Я побежала за санитарами, которые везли его каталку. Врач сказал, что нельзя. Я начала кричать. Тут подошли двое в гражданском, взяли меня за руки и повели к выходу. Я снова закричала и стала пинать их, но они не говоря ни слова потащили меня к выходу, а там стоял третий, и он сказал, что я должна на такси вернуться домой, а они мне, когда Конни можно будет видеть, или если ему станет хуже, или если он… — она замолчала.
— Что это были за парни? — спросил я.
— Не имею понятия.
— Из криминальной полиции?
— Может быть. Я не знаю. Все было так жутко. Первые двое со мной вообще не разговаривали, а третий бросил только пару фраз, потом они ушли.
— Ушли куда? — спросил Берти с улыбкой.
— В больницу. Конечно, я тоже снова побежала внутрь, через минуту или около того, и дежурная медсестра, которая явно ни о чем этом не имела понятия, сказала мне, что Конни лежит в одиночной палате в отделении реанимации на третьем этаже.
— После операции все попадают в отделение реанимации, — сказал Берти.
— Знаю. Но почему в одиночную палату? — спросила Эдит. — Я поднялась патерностером[46] на третий этаж, искала отделение реанимации, а когда нашла, снова увидела тех обоих парней, которые меня выводили. Они стояли перед входом в отделение и сказали мне, что сейчас я ничего не могу сделать, что мне нужно ехать домой, а они мне позвонят.
— Они сказали, что они вам позвонят? — уточнил я.
Ирина сидела неподвижно, как в оцепенении, смотрела на Эдит и слушала, а снаружи ночная буря гремела ставнями.
— Да. Не знаю. Нет, — ответила Эдит, — те парни сказали, что мне позвонят из больницы. А при таких обстоятельствах дела у Конни идут хорошо. Так они мне сказали. Когда мимо пробегал врач и я хотела с ним заговорить, они мне не дали.
— И как же эти типы выглядели?
— Как служащие, — ответила Эдит. — Очень крепкие, совершенно гражданские. И по одежде тоже.
— Молодые?
— Может, чуть старше тридцати.
— Они вам угрожали?
— Когда я сказала, что не собираюсь ехать домой, а сяду на скамейку и буду ждать здесь, один из них сказал, что, если я немедленно не исчезну, то он сам отведет меня вниз, посадит в такси и позаботится о том, чтобы меня больше не пускали в больницу.
— Но такого не может быть! — сказала Ирина растерянно.
— До этого я тоже так думала, — ответила Эдит. — Но, как видите, бывает. Я отказалась уйти со скамейки, тогда один из парней действительно схватил меня, потащил к выходу, посадил в такси и дал водителю этот адрес.
— Но это же должны были видеть какие-нибудь люди в больнице?
— Только врачи и сестры. Все больные были уже в кроватях. А посетители давно ушли.
— И что? — спросил я.
— И ничего, — ответила Эдит. — Сестры и врачи даже не пикнули. Они делали вид, что не видят меня и этого парня. Тогда я в первый раз испугалась и за свою жизнь, понятно? А потом еще больше.
— Потом — это когда?
— После того, как поговорила с обоими этими свидетелями, и они мне все рассказали. Домой я, конечно, не поехала. То есть, поехала, но не сразу. Я сказала шоферу, что хочу сначала на Эппендорфер Баум, 187. А он там должен подождать. — Она задрожала.
— Еще? — спросил я и снова потянулся за бутылкой виски.
— Нет, спасибо, больше не надо. — Слезы снова потекли по красивому лицу Эдит. — Не могу забыть кровь. Кровь на дамбе. Уже давно стемнело, горели уличные фонари. Кто-то засыпал кровь опилками, но во многих местах она проступила, темная и блестящая… — Она откинула голову назад. — Тогда я отыскала обоих свидетелей.
— Откуда вы вообще о них узнали? — спросил Берти.
— Когда мне звонили в первый раз, полицейский сказал мне что-то о двух свидетелях. Он еще не был проинформирован.
— Еще не был проинформирован о чем?
— Ну, о… Я тоже не знаю, о чем… А вы знаете?
Берти покачал головой.
— Нет, — сказал я.
— Но тут же явно что-то происходит… Я имею в виду, ведь это ненормально, как со мной поступили! — воскликнула Эдит.
— Да, — сказал я. — Это ненормально.
— Тайна, — сказала Эдит. — Вся эта история покрыта тайной. А что я ничего не должна об этом узнать, этот полицейский еще не был осведомлен. Так ведь?
— Очевидно, — согласился я. — Так вы нашли обоих свидетелей?
— Конечно. Иначе я не знала бы того, что сейчас рассказала вам. Об этом я узнала от них. Но номера тех двух машин они не рассмотрели.
— Кто эти двое?
— Один — портье в доме 187, другой — продавец антиквариата. У него в том доме магазин. Мы беседовали у него в квартире, мы втроем. Поляк боялся, что меня увидят с ним.
Я видел, что Ирина вздрогнула.
— Какой поляк? — тихо спросила она.
— Ну, этот портье, — ответила Эдит.
— Портье — поляк? — задал я идиотский вопрос, потому что все еще не мог поверить, да и Ирина, я видел, тоже. Мы оба подумали о фройляйн Луизе и о том, что нам рассказал о ней и ее друзьях пастор Демель.
— Я же говорю. Портье — поляк. Что вы на меня так смотрите? Продавец антиквариата, кстати, тоже иностранец. Француз.
— Поляк и француз, — сказал Берти. Теперь он уже не улыбался.
— Да, Господи, Боже мой, да! — вспылила Эдит. — Поляк и француз! Живые люди, не моя выдумка, не призраки, можете их сами навестить. Или вы считаете, что я выдумываю? Вы что, мне не верите?
— Верим, — ответил я. — Конечно, верим.
— Так что же в этом необычного? — спросила Эдит Херваг. — В Гамбурге масса иностранцев. Всех национальностей! С тем же успехом я могла попасть на китайца и негра.
— Но встретили поляка и француза, — произнесла Ирина Индиго и посмотрела на свои туфли.
Эдит вдруг снова сильно занервничала.
— В чем дело? — спросила она. — Может, вы их обоих знаете? Вы что-то знаете и скрываете от меня?
— Нет-нет, — ответил Берти.
— Тогда я не понимаю, чего вы волнуетесь, — сказала Эдит. — Двое очень милых, очень приветливых людей. Они как раз стояли на улице, когда это случилось. Кстати, француз болен, он чувствовал себя не совсем хорошо.
— А что с ним? — спросил я.
— Астма, — ответила Эдит Херваг.
8
«Нет-нет, не большие артишоки! Вот эти маленькие, нежные, в масле, пожалуйста…»
«И еще триста граммов смешанной нарезки…»
«Сегодня утром получили, милостивая госпожа! Очень рекомендую, отличный омар…»
Франкфуртский магазин «Деликатесы Книфалля» находится наискосок от здания издательства. Сюда тоже долетают шум и грохот от строительства метро. «Деликатесы Книфалля» — самый любимый и знаменитый магазин деликатесов во всем Франкфурте. Просторный зал выложен белым кафелем, сплошные ряды самых разных отделов: мясо, живая рыба в бассейнах, колбаса, сыр, овощи, пикантные салаты, спиртные напитки, хлеб, консервы. У Книфалля есть все, любые деликатесы! И все высшего качества! И все дешевле, чем у других! Огромный оборот у этого толстого, проворного господина Вальдемара Книфалля. По заказам он высылал первоклассных официантов и симпатичных официанток со сказочными холодными буфетами к людям, устраивавшим вечеринки. Его желание расширять сферу своих услуг, его инициатива и предприимчивость не знали границ.
Позади этих многочисленных разнообразных отделов огромного магазина глава клана (сыновья, дочери, его жена и два зятя тоже работали вместе с ним, так что это было настоящее семейное предприятие) распорядился оборудовать стойку бара с табуретами, установить на стойке кофейную машину для эспрессо, за ней — витрину с бутылками спиртного, а перед стойкой — пару столиков со стульями. Блестящая идея! Домохозяйки могли здесь присесть и поболтать, выпить кофе, погрызть чего-нибудь, пока выполняется их заказ; к середине дня приходили деловые люди, работающие по соседству, служащие, продавщицы, брали аперитив, бутерброды, легкие, приятные (и недорогие!) закуски, от которых не полнеют и не клонит в сон. В обед здесь всегда было набито битком. Многие рестораны могли только мечтать о таком наплыве посетителей и о таком обороте. Тем более, что это продолжалось практически без перерыва с обеда до вечера. Здесь заключались соглашения, проводились переговоры (магазин деликатесов Книфалля имел частную автостоянку, теперь машины заезжали на нее по улицам Гроссе Галлусштрассе и Кирхнерштрассе, так как спереди, с Кайзерштрассе, это было невозможно), постоянно везде сидели и стояли люди, всегда что-то происходило.
В такой ранний час здесь, конечно, было еще пусто. Только один человек сидел на стуле со стаканом в руке, лицом к стене — я.
— Повторите, пожалуйста, фройляйн Люси!
— Но у вас и так уже двойной, — с несчастным видом начала молодая симпатичная фройляйн Люси, стоявшая за стойкой бара, но я прервал ее:
— Не беспокойтесь. Я свою норму знаю.
В стену было вмонтировано зеркало, и я с отвращением рассматривал себя в нем. Утром, когда брился, я ведь тоже смотрел в зеркало. Как бы я хотел вернуть то отражение!
Внезапно я стал выглядеть как совсем другой человек. Уж точно не красавец, ей-богу! Лицо посерело, погасли искрящиеся весельем глаза, которые у меня еще были, когда я печатал продолжение, исчезло эйфорическое настроение утра. Я, который с циничным видом и с уверенностью в победе еще недавно стучал на пишущей машинке, сидел теперь в сумраке маленькой закусочной «Деликатесов Книфалля», ожесточенный, без сил, упавший духом.
Девушка Люси, светловолосая, темноглазая, двадцати лет, в чистой белой курточке, поставила передо мной на маленький столик новый стакан виски и бутылку содовой. Мы познакомились уже давно, и она была довольно сильно в меня влюблена, эта Люси. Я это ясно видел, да и другие тоже. Она плохо умела скрывать, хотя очень старалась. Я пишу это без гордости, видит Бог, не для того, чтобы похвастаться этой победой. Люси в меня просто втюрилась. Как я уже говорил: «Tout les femmes sont folles de moi. К сожалению».
Люси уже два года работала во Франкфурте, в «Деликатесах Книфалля», родом она была из Брандоберндорфа, местечка в Таунусе. За эти два года у Люси был один-единственный друг, с почты, такой симпатичный, что все девушки оборачивались ему вслед, он развозил экспресс-почту на желтом «фольксвагене». Любил Люси, обманул Люси. Деньги у нее он тоже забрал. Тогда она рассталась с ним. С тех пор она жила в полном одиночестве в огромном городе Франкфурте. Это было нелегко для молодой девушки. Жить в полном одиночестве нелегко для любого человека — даже для святых. Даже те считали, что это трудно.
А как Люси беспокоилась обо мне! Я точно знал, что она думала: «Почему он всегда злой, когда приходит сюда? Почему всегда пьет виски до обеда?»
«И еще сыра… Дайте мне камамбер, горгонцолу, гервес…»[47]
«Креветки! Наконец-то снова креветки!»
«Свежие, только что получены, милостивая госпожа…»
— Ваше виски, господин Роланд, — буркнула Люси.
Я поднял взгляд, кивнул и криво улыбнулся. Люси тут же улыбнулась в ответ, но я видел это только в зеркале, потому что снова опустил голову, приготовил себе напиток и сделал огромный глоток. «Шакал» вдруг объявился снова. Близко. Совсем близко.
«Что это с этим Роландом, — наверняка ломала себе голову Люси. — Все время что-то бормочет про себя. Как будто ругается».
Ну, да, именно это я и делал.
«Живу как свинья! — бормотал я. — Дрянь паршивая, абсолютная дрянь. Господи, Боже, как же я испоганил свою жизнь!»
Теперь я только нечленораздельно мычал. Я думал: «Мне тридцать шесть лет, можно подводить итоги. Промотал, растранжирил, растратил я свою жизнь. Зарыл свой талант. А ведь я был когда-то одарен, о да! Тогда я писал вещи получше. Прошлогодний снег!»
— Тьфу, черт! — сказал я вслух.
Девушка Люси посмотрела на меня из-за стойки, где мыла стаканы, долгим взглядом. Нижняя губа у нее вздрагивала.
— Дерьмо! — громко выругался я, а про себя добавил: «Писатель-ас, зарабатывающий и просаживающий целые состояния, счастливчик, которому все завидуют». Такого рода невеселые мысли посещали меня именно в этом сумеречном, прохладном месте уже в течение семи лет — постоянно, снова и снова. Я сидел здесь, когда Люси еще не было, а была другая девушка, а перед той еще одна и еще одна другая, так много девушек, разве их всех упомнишь?! Но постоянным было не только место моего самобичевания, но и время: раз, иногда несколько раз в неделю, по утрам — с девяти до половины одиннадцатого. Могло затянуться и до одиннадцати. Собственно, дело было так.
Семь лет назад в «Блиц» пришел новый главный редактор, этот самый Герт Лестер. Лестер был один из тех бойких и ловких tough-boys[48] с их молниеносной карьерой, локтями, жестокостью и пронырливостью — каких теперь повсюду: в экономике, в промышленности, в издательствах встречают с распростертыми объятиями. В свои тридцать семь Лестер стал главным редактором «Блица». Между им и мной с первого взгляда возникла сильнейшая антипатия. Но ни один ничего не мог поделать с другим. Так что мы оба стали изображать дружбу и гармонию.
Лестеру еще довелось поучаствовать в последней войне. И уже четверть века он рассказывал всем и каждому, что это было лучшее время его жизни. Все, что было связано с армией, вызывало у него восторг. Униформа и женщины — это то, что должен любить настоящий мужчина, считал Лестер, который сам, естественно, был настоящим мужчиной. С тех пор, как он пришел к руководству «Блицем», в журнале определились две основные темы: война и секс. Начали с войны, Лестер был на ней совершенно помешан. Прошло уже ровно двадцать лет после ее окончания — повод вспомнить о бравых парнях! Так что все было заново реанимировано в огромных сериях (и написано мной, «писателем-звездой»): «Ответный огонь с четырех сорока пяти!» (Польша); «Танки на запад!»; «Немецкая кровь в песках пустыни»; «Имперский военный флаг над Кавказом»; «Акрополь-экспресс»; «И все-таки вы победили!» (Сталинград); «На Западе есть новости» (высадка десанта); «Фронтовой город Берлин»; «До последнего патрона». А потом о военной авиации — Люфтваффе: «Бомбы сбросить!» И еще о подводных лодках: «Потому что мы идем на Engelland!»[49] И о судьбах боевых кораблей «Бисмарк», «Принц Евгений», «Граф Шпее»! После пятой серии о кораблях со мной случился нервный срыв. Ничего страшного, чего не вылечишь с помощью сна, гип-гип, ура!
«Нет, лучше crab-meat,[50] крабы всегда такие соленые…»
Телефон у стойки зазвонил. Люси подняла трубку и тут же сказала:
— Вас, господин Роланд!
— Что, уже пора? — Я сильно побледнел.
— Нет, это просто дама…
Я встал и пошел к телефону. Стакан я взял с собой. Сначала назвался, потом допил и с привычным жестом отправил стакан через стойку симпатичной Люси, которая грустно кивнула. Здесь тоже имелась «моя» бутылка «Чивас». Из трубки донесся прекрасный берлинский диалект:
— Привет, Вальта. В издательстве они мне выдали, чтоб звонила в «Книфалль».
Шофер Кушке в лагере. Уборщица Райнке. А теперь еще по телефону моя старая приятельница. Невероятно, сколько берлинцев на моем пути в этой истории! Кажется, полгорода перебралось в Западную Германию. Действительно, с ума сойти!
— Доброе утро, Тутти, — сказал я приветливо. — Что стряслось?
Благодаря моей работе знакомишься со многими людьми. Тутти я знал по документальному репортажу о проституции во Франкфурте. Обворожительная девушка. Ее звали Гертруда Райбайзен,[51] но она называла себя Тутти, потому что имя Гертруда казалось ей безобразным. Сейчас моя старая приятельница ответила всего одним словом:
— Ляйхенмюлла.
— Ах, Ляйхенмюллер![52] — воскликнул я. — Так он у тебя!
— Ага, у меня, — услышал я в ответ. — И не хочет уходить. Каждый раз тот же спектакль! Но этт последнее представление! Если он ище раз сюда заявится, Макс тут же вытряхнет из него душу!
— А что он делает?
— Макс? Стоит рядом со мной. Дать ему трубку? Подожди-ка, я…
— Да нет, не твой Максе, Тутти! Ляйхенмюллер!
— Ах, этт! Отдувается в постели и говорит, что не уйдет, что хочет еще раз. — Голос Тутти помягчел. — Я без попрека, Вальта! Ты ж ничего не можешь поделать. Звоню же только потому, что ты сам велел, если Ляйхенмюлла опять будет у меня выкрутасничать.
— Я тебе очень благодарен, Тутти. Так трогательно с твоей стороны.
— Да ладно те, кончай! Ты ж мне нравишься, а чё ты ко мне не приходишь? Слушай, Вальта, этот Ляйхенмюлла торчит у меня с пятницы. Макс говорит, я должна помалкивать, парень хорошо платит и значит все о’кей. Как будто пенунзы[53] — это все! О моей бедной ракушке никто не думает!
— Так он у тебя с пятницы?
— Ну, уж три дня как! Ладно бы на пару часиков. А то мне уж кажется, что я — хомбрека![54]
— Кто-кто?
— Ты ж знаешь, Вальта. По-английски. Так ведь называется, хомбрека, не? Ну, баба, которая разрушает брак. Этт парень должен в выходные быть дома с семьей, не? А он тут вместо того раз за разом и все ему мало. Слушай, это уж не мужик, а бык какой-то! Не говоря уж о Гансике.
— Что еще за Гансик?
— Ну, моя канарейка. Он уж совсем не поет. Потому что мне некогда дать ему хоть бы пару листиков салата. Да и утром он долго сидит накрытым, потому как этот проклятый Ляйхенмюлла затрахает меня до полусмерти, а я потом не могу встать.
— А что Макс не может принести салата и открыть Гансика?
Макс Книппер[55] был сутенером Тутти, душа-человек.
— Дак он же меня ревнует к этому кенарю! — заявила Тутти, поставив ударение на последний слог.
— Ревнует? К птичке? Почему?
— Потому как я всем сердцем привязана к этт крошке, — ответила Тутти. — Моя птичка по крайней мере никогда не бьет меня по морде! — Я услышал неразборчивый мужской голос. — Ага, так оно и есть, можешь себе слушать, Макс, когда-то я должна была это сказать! Ну, так что, вызывать полицию?
— Нет, — сказал я. — Пожалуйста, не надо. У меня есть предложение получше. Передай Ляйхенмюллеру, что ты мне звонила, и я тебе сказал, что в пятницу Лестер торжественно поклялся…
— Кто торжественно поклялся в пятницу?
— Лестер. Главный редактор.
— Ах, так.
— Так вот, он торжественно поклялся, что уволит Ляйхенмюллера без предупреждения, если это еще хоть раз случится, и если парень не будет сидеть сегодня в десять часов в редакции.
— Этт что — правда? — в ужасе воскликнула Тутти.
— Конечно, нет. Он не решится. Такого специалиста! Но это единственная возможность без скандала доставить Ляйхенмюллера в офис. К счастью, он слабый человек.
— Разве? Я этого не заметила!
— Не в твоей области. Во всех остальных.
— И ты уверен, что это поможет?
— Обязательно. Только ты должна очень серьезно и драматично рассказать об увольнении и что я глубоко озабочен и уже списал его. Тогда он точно придет!
— Твое бы слово Богу на ухо! В любом случае, я щас этт так впарю твоему Ляйхенмюлла, что у него шляпа дыбом встанет, а не только его дурацкий сучок! Если кто уж поимел и, видит Бог, хорошо поимел, и не хочет свалить, хоть и видит, что я дошла до ручки, так я того терь на дух не выношу! Пока, Вальта. Если у меня не получится, я те опять позвоню. Не уходи!
— Нет-нет, я еще здесь. Но у тебя получится! До свиданья, Тутти. Привет Максу.
— Передам. So long,[56] Вальта! — И Тутти отключилась, а я со вздохом положил трубку на рычаг и вернулся к столику.
Бедная Люси уже подала новую порцию виски. Я сделал большой глоток.
— Плевать на парня, — сказал я.
— На Ляйхенмюллера? — с любопытством спросила Люси. — А кто это? Ну, и фамилия!
— Ну, вообще-то он Ляйденмюллер. Генрих. Но мы все зовем его Ляйхенмюллером, потому что он так выглядит. Всегда как перед смертью — худой, бледный, со впалыми щеками и вечно воспаленными глазами. Но, черт его побери — наш лучший макетчик за все время! Еще раз то же самое, пожалуйста, фройляйн Люси!
— Да, господин Роланд, — отозвалась Люси, огорченная до смерти. Она пролила немного «Чивас», когда наполняла стакан, ее рука дрожала, словно с похмелья. Но это была только жалость.
— Важная персона, — продолжал я тем временем.
— Кто?
— Ну, этот Ляйхенмюллер. Наш главный layouter.[57] Такой бравый бюргер, понимаете? Женат, двое детей. Но время от времени на него нападает темная страсть к проституткам, и он бесследно исчезает — на два-три дня. Каждый раз именно тогда, когда он больше всего нужен. Со второй половины пятницы на него опять нашло. Из-за него у нашего главного редактора Лестера уже приступы эпилепсии. К счастью, он больше всего любит бывать у этой Тутти. Я имею в виду — Ляйхенмюллер, а не Лестер. Когда-то давно я пообещал госпоже Ляйденмюллер («В пьяном виде, конечно», — подумал я), что буду следить за ее мужем. Поэтому попросил проституток и сутенеров звонить мне, если он закусит удила. Мне приходится выдумывать все новые угрозы. И после этого он опять появляется. А так, милейший парень на свете. Слава Богу, он опять у Тутти, которая меня хорошо знает.
Люси поставила передо мной новый стакан виски и бутылку содовой.
— Ну-ну, не смотрите так сердито, — сказал я.
— Я… я смотрю не… — Она героически собралась с духом. — И вовсе я смотрю не сердито, господин Роланд. А что это такое — лэйаутер?
Все дальше и дальше отступал «шакал» — как шум с улицы за окнами. Постепенно я чувствовал себя лучше.
— Layouter… английское слово, — я назвал его по буквам. — Это такой особо одаренный график, который придумывает полное оформление и разметку — так это называется — всех страниц в журнале. Например, решает, какого размера будут заголовки и подзаголовки, набирать их или рисовать, если набирать, то каким шрифтом, а если рисовать, то как. И еще он говорит, где на странице должны размещаться рисунки и фотографии, и какой люфт, то есть, свободное пространство, должен быть между заголовками и текстом… Короче, layouter дирижирует, чтобы все заиграло на своих местах. Есть у вас теперь представление о его работе?
— Да, господин Роланд.
— Высоко оплачивается. Хороших совсем мало. Лепить они все могут. Но Ляйхенмюллер — он действительно первый класс! А теперь принесите-ка мне, так будет проще, мою бутылку, фройляйн Люси, — добавил я и ласково посмотрел на девушку, которая меня так любила. — И еще лед и содовую. Дальше я сам справлюсь.
— Целую… целую бутылку?
— Ну, да. Я же ее всю не выпью!
— Пожалуйста, — ответила Люси и быстро ушла.
«Нет, лучше салями!» — кричала полная дама в торговом зале.
Люси вернулась и демонстративно поставила мне под нос бутылку дорогого «Чивас». Теперь она по-настоящему рассвирепела. Ну и пусть. Бутылка передо мной. Я пил и смотрел в зеркало, и тут мое лицо перекосила гримаса отвращения, потому что я снова подумал о том, что уже три с половиной года пишу эти просветительские серии. Сначала это дерьмо даже приносило мне удовольствие. Потом тираж начал расти как сумасшедший из-за этих сексуальных серий. И все удовольствие пропало. Это стало вдруг смертельно серьезным делом, которым все восхищались и хвалили, и оно уже не прекращалось, не прекращается и по сей день!
Когда я однажды заявил, что больше не хочу возиться в этом навозе, Лестер предложил мне больше денег. Лестер разбирался в людях. Я взял деньги и продолжал писать. Но в перспективе ничего хорошего мне это не предвещало.
С тех пор как моим шефом стал Лестер, меня не покидало чувство, что я не обойдусь без постоянного допинга — девушек или виски, или рулетки. Пока что я выдерживал. Но вечно так продолжаться не может. В полунаркотическом состоянии прожил я последние семь лет. И только два человека знали, почему: я сам и Пауль Крамер, потому что как-то я сказал ему:
— Я панически боюсь минуты, когда останусь совсем без виски и совсем без девушек, Хэм. Можете меня понять?
— Да, — ответил мне тогда Хэм, — очень хорошо понимаю, старик.
Потрясающий парень, наш Хэм, самый лучший из всех!
«Так, копченого угря и еще большую банку оливок и большую банку корнишонов…»
Впрочем, для этих утренних возлияний была еще одна мерзкая причина. Новый главный редактор сразу же распорядился создать так называемый «отдел исследований», который должен был выяснять, что из материалов, помещенных в журнале, пользуется успехом, пользуется слабым успехом, вообще не пользуется успехом. Сначала прибегали к помощи малооплачиваемых студентов, которые шли к киоскам и брали интервью у их владельцев и покупателей иллюстрированных изданий, репрезентативные опросы, тенденции изменений тиража после начала новой серии. Позже — массовое тестирование (десятками тысяч рассылались анкеты, кто их заполнял, получал полугодовую подписку на «Блиц» бесплатно!) и многие другие методы, от которых не было проку, ну да ладно. И, наконец, при помощи компьютера.
Вы будете смеяться до упаду, скажете, что я лгу, — нет, я не лгу, это чистая правда! Все, что вы потом читали в «Блице» или видели на фотографиях — стиль, содержание, темы, краски, — все это определял компьютер.
9
Компьютер, черт его побери, именно он!
Он кормился результатами исследований Института изучения мнений. Руководил отделом исследований некий Эрхард Штальхут,[58] друг Лестера, неудавшийся студент-математик. Кстати, Институт изучения мнений принадлежал его шурину. Так что все по-родственному оставалось внутри семейки.
«Пожалуйста, помелите мне его, этот кофе, но только мелко, совсем мелко…»
Для издателя Херфорда выводы компьютера, которые чудесным образом соответствовали его собственным ощущениям, тем временем давно превратились в библейские тексты. Темно-зеленый цвет и индекс 100 означают верх совершенства, высшую положительную оценку, которую может выдать компьютер. Достичь этой идеальной оценки пока еще ни разу не удалось. Абсолютный рекорд с девяносто двумя баллами держали мои просветительские серии. Наихудшей оценкой был темно-красный цвет и индекс 1. Между ними располагались все возможные оттенки цветов — от красного до зеленого и, соответственно им, числа — от одного до ста.
Кто посмел бы сегодня сказать что-то против компьютера? Никто. Никто бы и не отважился. Но все его проклинали. Мне вспомнился стишок моего друга Берти: «Ах, как хорошо, что никто не узнал, как я на этот компьютер нас…ал!»
«И жемчужных луковичек, самых мелких…»
Штальхут, когда еще только начинал, сказал издателю Херфорду: «По-настоящему хорошие создатели иллюстрированных изданий должны держать руку на пульсе народа. Одних опросов о напечатанном недостаточно. Вообще нельзя печатать никакого материала, о котором мы заранее с большой долей вероятности не знаем, что его ждет успех у народа!»
А издатель Херфорд спросил: «А как же это сделать?»
Штальхут ответил: «Очень просто! У нас на фирме достаточно „народа“! Идеальная публика! Я предлагаю читать им то, что мы хотим напечатать, каждое продолжение — роман, документальный репортаж, серию — все! И пусть люди скажут свое мнение! Их мнение — это и есть голос народа! Плевать на всех интеллектуалов! Их все равно от иллюстрированных изданий тошнит! Так вот! Пусть наши рабочие и служащие — и прежде всего женщины! — скажут, что им нравится и что не нравится, прежде чем это будет напечатано! И в зависимости от этого авторам, возможно, придется переписать!»
Эта великолепная идея буквально подбросила издателя и главного редактора в креслах. Сначала они от восторга потеряли дар речи! А уже на следующей неделе состоялось первое такое чтение, для мужчин — поскольку речь в статье шла о войне. На читке романа присутствовали только женщины. Если материалы не были с ярко выраженной мужской направленностью, то их всегда читали женщинам, потому что в основном наше иллюстрированное издание покупали и читали женщины!
Начиная с той первой пробы почти семь лет назад, мы так и остались при этом методе. Материалы читались вслух. Все. Всегда. Ни для одного автора не делалось исключения, даже если речь шла об иностранце, написавшем бестселлер, который был приобретен за большие деньги. Даже его, по замечаниям «народа», нужно было обработать и поставить с ног на голову.
И даже если это был я!
У меня был особый дар писать для женщин, он был у меня всегда. Ну, а эти просветительные серии, они ведь были прямо обращены к женщинам! Разумеется, и мои продолжения читались вслух, а как же!
Это и было той причиной, по которой я после сдачи каждого продолжения приходил в «Деликатесы Книфалля». Здесь я ждал, пока по ту сторону улицы, в издательстве, разбирали мою свежую продукцию.
«И еще спаржи, четыре банки. Но только вон той, потолще! Нет, больших, толстых!»
10
— Значит, это, про рот, это обязательно нужно выразить пояснее, — вещала уборщица Васлер. — Там слишком много говорится вокруг да около. «Французского поцелуя» недостаточно. Пусть господин Роланд опишет все ясно и понятно. Без латыни и без иностранных слов!
— Но он же и так пишет вполне понятно! — воскликнула молодая женщина из бухгалтерии по гонорарам.
Раздался многоголосый протест.
Васлер продолжала:
— Он, господин Роланд, пишет не вполне понятно! Уже в последнем номере было так! Я дала почитать моему мужу, и он сказал, что совершенно не понимает, что Роланд имеет в виду!
Ее коллега, вечно недовольная Райнке, сердито прервала ее на своем берлинском диалекте:
— Берта, ну, ты тоже глупая! Все он прекрасно понял, твой муженек. Он просто притворяется. Не хочет он, вот в чем дело!
— Ты думаешь? — спросила Васлер испуганно. — У нас же четверо детей!
— Ну! Вот те и объяснение!
Воздух в просторном конференц-зале был сизым от сигаретного дыма. Вокруг длинного стола сидели мои судьи — уборщицы, стенографистки, бухгалтерши, официантки — всего двадцать семь женщин и девушек. А во главе стола — двадцать восьмая женщина: одна из немногих редакторш «Блица», Анжела Фландерс. Анжела Фландерс, пятидесяти четырех лет, ухоженная и элегантно одетая, четверть века проработала журналисткой, сначала в ежедневных газетах, потом в иллюстрированных изданиях и уже десять лет в «Блице». Позже она мне подробно расскажет, как проходила эта конференция…
Анжеле Фландерс, умной, энергичной женщине, постоянно приходилось утверждаться в мире мужчин. Иногда это давалось ей довольно тяжело. Но чего только не вынужден проглатывать человек, обязанный работать, если у него нет никого, кто бы о нем заботился, если муж погиб на войне, если ничему другому не научилась, а только понемногу пописывала — собственно говоря, просто для времяпрепровождения. Со временем то, что вначале, когда еще были живы состоятельные родители Анжелы Фландерс, делалось для времяпрепровождения, превратилось в суровую необходимость. Так что Фландерс образца 1968 года была чрезвычайно довольна должностью редактора в «Блице». Ради этого она была готова на все. В том числе и на то, чтобы каждый раз читать женщинам вслух продолжения, выслушивать все, что они говорят, записывать и потом докладывать Лестеру. Герт Лестер был благовоспитанным человеком. Он никогда бы не допустил, чтобы мои просветительские серии читал женщинам мужчина, и никогда сам лично не сидел в конференц-зале, чтобы наблюдать за их реакцией, как он практиковал, когда речь шла о других темах. Но ведь тогда его слушателями были именно мужчины или мужчины и женщины. Но мои серии… Это было нечто деликатное, очень деликатное, и говорить об этом вслух было неловко! Вероятно, даже самим женщинам между собой, считал Лестер.
Тут он, конечно, ошибался. Женщины вообще не испытывали неловкости! Перед ними стояли чашки кофе и кофейники, многие не отказывали себе в удовольствии покурить. Повсюду лежали пачки сигарет. У каждой женщины, у каждой девушки был блокнот и карандаш. Они сидели группами в соответствии с их профессиями: телефонистки рядом с телефонистками, поварихи с поварихами. Анжела Фландерс уже много раз пыталась нарушить этот порядок — безрезультатно. Те, кто знали друг друга, обязательно хотели сидеть вместе.
Спокойным голосом Фландерс как раз дочитала продолжение до конца и попросила начать обсуждение. Она была в светло-зеленом костюме с золотой брошью на лацкане пиджака, ее волосы были тщательно выкрашены в каштановый цвет. Она очень следила за собой, ей приходилось работать тяжело, как мужчине, тяжелее, чем мужчине, потому что чем старше она становилась, тем больше ее преследовал страх: «Я не справляюсь, за мной идут те, кто помоложе, что я буду делать, если меня уволят?»
Многие коллеги, которые знали об этом ее страхе, использовали редакторшу. Часто в дни перед сдачей номера она засиживалась на фирме до двух часов ночи. Она мне нравилась, я ей тоже. Иногда я приносил ей цветы.
Фландерс постучала карандашом по столу.
— Милые дамы! Прошу брать слово по очереди!
Серая мышка с кухни, в очках и с волосами, стянутыми в узел, робко подняла руку.
— Да, госпожа Эггерт?
Эггерт начала тихим голосом, запинаясь:
— Ну, значит… это же только подсказка… но из этого продолжения не вполне понятно… и притом ведь для нас, женщин, все зависит от того… — она покраснела и замолчала.
— От чего, госпожа Эггерт? Ну, говорите же! Мы же здесь все свои. И никто от меня не узнает, кто что сказал.
Эггерт начала снова:
— Ну, вот, я имею в виду, там должно быть ясно сказано, что мужчины должны растягивать время акта… долго… растягивать как можно дольше!
Раздались крики всеобщего одобрения.
Карандаш Анжелы Фландерс летал по странице блокнота. А Эггерт, ободренная поддержкой, продолжала:
— Особенно если в последних сериях нам постоянно напоминают, что мы должны принимать эстрогены!
Аплодисменты.
— И теперь многие из нас принимают эстрогены… И вы же знаете, какие у этого последствия!
Райнке, все еще с платком на голове, воскликнула:
— Он заставляет нас отдаваться более страстно, да, но оргазм не ускоряет!
После этих слов собрание оживилось, Фландерс с трудом успевала стенографировать.
Толстая повариха:
— А что, разве пока ничего не изобрели, госпожа Фландерс, чтобы у мужчин получалось дольше?
— Конечно, средства для этого есть…
— Но тогда их тоже нужно указать!
— Вот именно! Дайте названия!
— Как они называются!
— Я это записала, дамы. Дальше?
Худая, как щепка, секретарша около сорока:
— Я вот тут себе выписала: «щекотать половые органы». Имеется в виду — императрицы Марии Терезии. Но тут же об этом сказано слишком коротко!
— Правильно! — крикнула одна из бухгалтерш по зарплате.
— Вы видите, даже императрице это было необходимо! А уж нам тем более нужно точно объяснить, притом подробно, как надо щекотать!
— Совершенно верно!
Разливали по чашкам кофе, закуривали новые сигареты.
Райнке энергично начала:
— Ну дак, в принципе, госпожа Фландерс, да? Ничего не хочу сказать против господина Роланда. Само по себе это здорово — в сам деле просвещать народ. Токо не совсем ясно, кому это! Просто, в принципе: если хорошенько глянуть всю эту серию — она ж написана для мужчин! Не поймите меня неправильно. Само собой, мужчинам тоже нужно совать такие вещи под нос! Чтоб до них, наконец, дошло, черт их побери, как исполнять свой долг и обязанности!
Крики «браво».
— Но, — продолжала Райнке и подняла руку, — но, мои дамы, не будем водить ся за нос! Ведь читаем-то это мы, не? А эти сволочи, они разе что на картинки попялятся, и то если там голая баба, но всерьез-то никто из них не принимает, что пишет господин Роланд, этт я могу вам сказать из своего личного печального опыта. Раньше… — Ее речь прервали громкие аплодисменты, и она повысила голос, чтобы их перекричать, — …раньше, девять лет назад, как мы токо поженились, мой муж и я, тогда я была ище деушкой. Не имела обо всем этом никакого понятия. Ничего этого не было. А сёдня? И сёдня нет! Сёдня у моего все делается так: туда, обратно — обидно!
— Извините, как это происходит? — смущенно продолжила исследование Фландерс.
— Ну, как, — отозвалась одна из бухгалтерш по зарплате, — вы же понимаете: господин Райнке производит половой акт без всякой предварительной игры, и госпожа Райнке возбуждается, но не получает удовлетворения.
— Ах, так.
— Так оно и есть! — подтвердила Райнке.
— Точно, как у меня! — воскликнула клейщица из отдела почтовых отправлений, ребенком увезенная в 1946 году из Вартегау. — Мой все время твердит мне, что это я виновата. Говорит мне, нахал: мол ты получаешь все, что нужно, но просто у тебя замедленный оргазм. — В зале оживление. — Он говорит, что знает это точно, ему объяснял какой-то студент медицины. Теперь я спрашиваю вас: что значит замедленный? Или я кончаю, или нет. А я не кончаю! Так вот, пусть господин Роланд даст нам подробное разъяснение по этому вопросу!
— Пусть господин Роланд даст! Правильно!
«Господин Роланд». Вот, пожалуйста. Видите, все мои судьи были, конечно, в курсе, что Корелл значит Роланд, и рассказывали об этом всякому встречному-поперечному. Именно это я и имел в виду, когда писал, что и вне нашей отрасли многие люди знали мою тайну. Этого просто нельзя было избежать. Оставалось только одно утешение: миллионы этого все-таки не знали!
— Я всегда знала, — воскликнула клейщица, — что мой муж делает только, как ему удобно! Думает только о своем удовлетворении! А я? Ему наплевать! Я же не пулемет! Мне нужно время! Как и нам всем! Вы ведь со мной согласны, дамы, так?
Еще бы они не были с ней согласны, с этой изгнанной с родины клейщицей!
— Само собой!
— Как и нам всем!
— Что есть, то есть, — вздохнула баварка Швингсхаксль, в очередной раз используя свое любимое выражение.
— И потому, — выкрикнула Райнке, — вся этт серия — вы уж меня извините, — в общем, она неправильно направлена! Там подробно расписано, что должен делать мужчина, чтобы сделать счастливой свою дамочку. А он этт делает? Не! Он этт даже не читает, чтоб чё не потребовали. Да если и читает, все равно не делает! Все они эгоисты! И поэтому, — продолжала Райнке, опять повышая голос, чтобы перекричать аплодисменты своих подруг по полу, — и потому, и в этом большая разница с тем, чё пишет господин Роланд, потому центр тяжести нужно перенести на то, что должны делать мы, женщины, чтоб расшевелить своего усталого Ганса!
— Правильно!
— И я того же мнения!
— Мы, — на повышенных тонах продолжала Райнке, — мы, женщины, устроим нашим козликам такое, что они проснутся и весь сон с них слетит! Чё я имею в виду: в этой серии должно быть указано, чё нам надо делать, чтоб мужчина делал то, чё там написано. Потому что сначала мы должны вести себя активно, а то ничё не получится! И в этом смысле должно быть написано о мужчине и как его возбуждать! Намного больше именно об этом! Чтоб он тоже на кой-чё решился, если его, наконец, завели! И этт особенно важно для женщин, которые давно замужем! Потому как иначе им вообще кранты! Как вы знаете, статистикой доказано, что женщин старшего возраста намного больше, чем молоденьких — и я говорю вам, госпожа Фландерс: этт читают именно женщины постарше!
— Конечно, конечно, на этот пункт нужно обратить особое внимание, — ответила Фландерс и подумала: «Когда-то я была корреспондентом политических новостей, видела мир и писала статьи, которые цитировались в зарубежных газетах. А сегодня?» — Мы обратим на это внимание, — повторила Фландерс.
— Это большое заблуждение, госпожа Райнке! — воскликнула бледная дама, работавшая на приеме фоторадиограмм. — У нас, молодых жен, тоже есть проблемы! Не думайте, что у нас все так уж хорошо!
Райнке добавила:
— Видите, госпожа Фландерс, этт прямо касается всех браков, хоть молодых, хоть старых!
На что Швингсхаксль — от всего сердца:
— Что есть, то есть.
— Не могу с вами согласиться, госпожа Райнке! — возразила официантка из столовой. — Я замужем уже два года. Сначала у нас не очень получалось. А теперь просто потрясающе! Мы все серии прочитали очень внимательно, особенно мой муж.
— Может быть, госпожа Пурцель! — с чувством воскликнула Райнке. — Этт потому, что ваше поколение живет щас в эпоху сексуального прогресса. В годы моей молодости в иллюстрированных изданиях о таких вещах не писали!
— Что есть, то есть.
— А то бы мы все стали счастливыми женщинами! А сёдня, когда я знаю, чё за возможности есть в любви, сёдня уже поздно! Даже если я заставлю своего прочитать этт десять раз, чё вы думаете, он изменится? Задержит хоть на минуту? Не, не, я уж сказала: это написано для мужчин! И это нехорошо! Потому, как они ж не будут делать то, чё там написано, если сначала мы, женщины, не сделаем свою часть! И все эти женские штучки-дрючки, их должен господин Роланд описать!
— Очень серьезное замечание, госпожа Райнке, — объявила Фландерс. — Мы поговорим об этом с господином Роландом.
Веселая дама под тридцать из отдела приема новостей с невероятными формами:
— Я вообще не понимаю, чего вы хотите! Я каждый раз, за редким исключением, получаю то, что нужно. Я…
— Вы!
— Это мы уже знаем! Вы рассказываете каждый раз!
— Это вам подарок судьбы!
— Я не могу этт больше слышать! Не могу этт слышать! — завыла Райнке.
— Эта фройляйн прямо какое-то биологическое чудо! — насмешливо заявила секретарша из научной редакции.
Фландерс энергично вмешалась:
— Уважаемые дамы! Уважаемые дамы! Прошу потише! — И повернувшись к худой как щепка секретарше: — Ваше замечание записано. Дальше, пожалуйста.
Но Райнке, не скрывая возмущения, наклонилась через стол к даме с подарком судьбы и издевательски проговорила:
— Выдайте нам все-таки вашу тайну! Как у вас происходит коитус?
— Обыкновенно. Мой Уве, он делает так долго, как я хочу, а потом спрашивает меня, хватит или нет, и я говорю: «Да, Уве, теперь кончай, и тогда он кончает!»
У Райнке отвалилась челюсть, на минуту она потеряла дар речи, потом пришла в себя.
— А мы не можем поменяться, госпожа Шенбайн?
— Вам бы это так подошло!
— А-а! — завопила на это Райнке. — Прекратите вы, наконец, с этим вашим сказочным чудо-пенисом!
Анжела Фландерс, опасаясь, что обе женщины вцепятся друг другу в волосы, в отчаянии стукнула кулаком по столу:
— Дамы, прошу вас!
И тут служащая из отдела реализации страшно разрыдалась. Слезы так и хлынули из ее тусклых глаз.
— Что случилось… что случилось… — растерялась Фландерс. — Почему вы так плачете, фрау…
— Вестфаль, — сквозь рыдания выговорила та.
— Фрау Вестфаль…
— Фройляйн!
— Что с вами, фройляйн Вестфаль?
Вестфаль, сквозь слезы:
— Я… Я этого больше не вынесу! Я прошу меня в будущем с этих заседаний отпустить!
— Но почему?
— Что случилось?
— Они же такие интересные, эти заседания!
Райнке осведомилась:
— А у вас вообще-то хоть раз было чё с мужчиной?
— С одним? — всхлипнула Вестфаль. — Со многими! Но я ничего не чувствую! И притом они были всех возрастов! У меня никогда не было организма!
— Она имеет в виду оргазм, — мягко пояснила Райнке и энергично повернулась к Фландерс: — И этт тоже надо записать!
— Простите, что?
— Душевные травмы! — ответила Райнке. Потом стала допытываться у отчаявшейся дамы из отдела реализации: — Может, вас в ранней молодости изнасиловали?
— Да! — завыла Вестфаль. — И так жестоко…
— Видите? — торжествовала Райнке. — А я чё говорила? Душевные травмы! Этт надо записать! Этт надо записать!
— Записала, госпожа Райнке, записала.
— Русский? — спросила Райнке, охваченная собственными печальными воспоминаниями.
— Нет, американец.
— Странно…
Одна из телефонисток подняла палец.
— Да, слушаю.
— Я уже давно хотела обратить ваше внимание вот на что. И как раз в этом продолжении мне снова бросились в глаза несколько предложений, которые при некоторых обстоятельствах вызывают смех. Я говорю об этом, потому что в прошлое воскресенье мой муж читал продолжение, и после этого так рассмеялся, что эта так называемая эрекция, о которой как раз очень много говорилось в этом продолжении, вообще не наступила. Причем я ему еще специально сказала: «Прочитай это обязательно!»
— Что есть, то есть, — пожаловалась Швингсхаксль.
Много голосов одновременно. Все разделяли точку зрения, что серия должна быть абсолютно серьезной.
— Обратите внимание, госпожа Фландерс. Как я вам сказала, и сегодня там есть несколько таких мест!
Молодая женщина из бухгалтерии по зарплате:
— А мой муж прочитал номер с эрекциями и совсем не смеялся. У него была совершенно противоположная реакция.
Одна из упаковщиц, с намеком:
— А как давно вы женаты?
— Шесть месяцев.
Злой хохот.
Упаковщица злорадно прокричала:
— Побудьте замужем восемнадцать лет! Через восемнадцать лет — Боже мой!
А Райнке проговорила со значением:
— И вот мы снова пришли к тому, о чем я уж говорила: Всю серию нужно повернуть! Мы, бабы, должны знать, что заводит мужчин, чтоб они заводили нас! Больше о мужчинах, говорю, а то все этт будет жемчуг перед свиньями!
11
Когда мы подъехали на машине к Эппендорфер Баум, буря превратилась в небольшой ураган. Над нами ревело и бушевало. Ураган чуть не сбил Ирину с ног, когда она вышла из машины. Мне пришлось ее поддержать. Она вцепилась в меня. Она очень боялась. Это было неудивительно после того, что произошло двадцать минут назад. Я еще удивлялся тому, что у нее хватало силы и самообладания. На проезжей части ураган сдул все опилки, и кто-то смыл кровь.
Бедный Конни. Надеюсь, он справится. Пока мы сидели у Эдит Херваг, звонка из больницы не было, и в конце концов мы оставили ее в отчаянии и с бутылкой виски. Я надеялся, что после нашего отъезда она не напьется, потому что тогда она не сможет реагировать, если действительно что-нибудь случится — с Конни или еще что-нибудь. Теперь мне приходилось учитывать все возможные варианты. Преодолевая силу урагана, мы с Ириной пробивались к воротам дома номер 187. Кроме нас, на улице никого не было. Мои часы показывали один час пятьдесят пять минут.
Справа от ворот я увидел витрину и входную дверь антикварного магазина. Там были выставлены в основном прекрасные изделия с Дальнего Востока, в витрине горел свет. На стеклянной двери была надпись: «Андре Гарно» и далее «Антиквариат» на немецком, английском и французском языках. Надписи были сделаны золотыми буквами на стекле. Слева от ворот дома располагался небольшой магазин, но его витрина не была освещена. Когда мы подошли к воротам, я не увидел там таблички с именем квартиросъемщика, только кнопку звонка и над ней маленькую табличку с надписью: «Станислав Кубицкий, портье». Я позвонил, подождал и позвонил снова. Дом с большими балконами был выкрашен в желтый цвет, высокие окна, обрамленные большим количеством лепнины. В деревянных воротах дома имелись матовые стекла, прикрытые ажурной кованой решеткой. Ничто не шелохнулось.
— Все давно спят, — сказала Ирина, сильно взволнованная.
Я снова позвонил и на этот раз я долго держал палец на кнопке. В другой руке в кармане пальто я сжимал двадцатимарковую купюру. Эта рука ощущала также холодную сталь «кольта-45», принадлежавшего Конни. Я отобрал его у Эдит, чтобы она не наделала глупостей. И еще потому, что сейчас я и сам хотел иметь оружие. Магазин был полон.
Мы хотя бы частично успокоили бедную Эдит. Мы позвонили в больницу, и врач на ночном дежурстве сказал нам, что, хотя дела у Конни идут относительно неплохо, пока еще рано говорить что-то определенное, нужно подождать еще несколько часов. После этого мы договорились с Эдит, чтобы она никого больше не впускала, кроме нас, и в любом случае оставалась дома до нашего возвращения, потому что ей позвонят из больницы (а она должна перезвонить туда, чтобы убедиться, что звонили действительно из больницы), и мы снова уехали, Ирина, Берти и я. После этого я немедленно поехал на Центральный вокзал, где люди еще спускались по огромной лестнице к поездам и несколько пьяных спали на скамейках, и пошел к телефонной кабине, откуда можно было позвонить во Франкфурт. В билетной кассе я наменял целую кучу монет по одной марке. Берти и Ирина остались ждать в машине. Ирина пыталась возражать, что хочет, в конце концов, добраться до улицы Эппендорфер Баум к своему жениху. Но мне обязательно нужно было поговорить с Хэмом, а телефон Конни после всего, что с ним случилось, не казался мне надежным, как и его телетайп.
В кабине было жарко. Когда я вышел из машины, я раскрыл багажник, открыл одну из трех больших бутылок виски «Чивас», которые возил с собой, и снова наполнил свою фляжку. Сейчас я набрал номер Хэма и отпил пару глотков. В кабине пахло духами и мочой. Меня бросило в жар, но я не успел открыть дверь, потому что, как только я хотел это сделать, Хэм ответил. Он еще не спал и был совершенно бодрым. Я рассказал ему все, что произошло за это время.
С нашей профессией всегда такая странная вещь. Ее можно проклинать, испытывать отвращение к этой сфере человеческой деятельности, но если вдруг перед вами окажется крупная рыба, то каждый раз вас снова захватывают возбуждение и азарт, как будто в первый раз. Меня захватило. А теперь захватило и Хэма.
— Вальтер, дружище, если так пойдет и дальше, то у нас будет самая настоящая сенсация.
— Да, я тоже так думаю, Хэм.
Мочой пахло сильнее, чем духами. Я отпил еще глоток, и мне стало плохо в этой кабине.
— Я немедленно созвонюсь с ночным редактором, с шефом художественной редакции, а также с Лестером и Херфордом. Я абсолютно уверен, что мы освободим три страницы, как минимум три, и уже можем дать рекламный анонс с фотографиями. Надеюсь, ты оформил права на публикацию, как тебе советовал Ротауг?
— Естественно. — Я повысил голос. — Но если эта сенсация пойдет в номер, то напишу ее я — под своим именем!
— Конечно, Вальтер. Только не кричи так громко.
— Я волнуюсь. Первый такой материал за много лет, который я обязательно должен написать под моим собственным именем! Никто его у меня не отберет!
— Никто, я тебе обещаю. И успокойся, ладно? Эти три или, может, четыре страницы мы до среды освободим для твоего материала. Но это значит, что нам как можно скорее нужны фотографии от Берти.
— Я немедленно пошлю его в Фульсбюттель. И он их переправит с первым же самолетом. Они будут у вас во Франкфурте в восемь утра.
— Хорошо. Пусть Берти адресует их нам в аэропорт до востребования. Мы пошлем водителя, так будет быстрее. От тебя нам нужен короткий анонс примерно на одну страницу машинописного текста и информация для подписей к фотографиям. До десяти. Передай ее на отдел приема.
— О’кей, Хэм.
— И постоянно мне перезванивай, когда будут новости. Я поставлю телефон возле кровати.
Во время этого диалога, как только появлялась надпись («Время разговора заканчивается»), я бросал еще одну монету. И сейчас сделал это снова.
— Смотрите только, чтобы девушка от вас не сбежала!
— Я прослежу.
— Где ты будешь спать?
— Думаю, поеду в «Метрополь». — «Метрополь» был одним из отелей класса люкс в Гамбурге, я там всегда останавливался.
— Позвони мне из «Метрополя».
— Ладно, Хэм.
— А Берти может заодно забрать в Фульсбюттеле архивные материалы по этому Карлу Конкону. Они, конечно, давно уже там.
— Я ему скажу.
— Куда ты сейчас едешь?
— К Михельсену. Малышка хочет к своему жениху. Уже бушует.
— Поезжай. Но не оставляй ее там. Ни при каких обстоятельствах!
— Гм.
— Что значит «гм»?
— Как вы это себе представляете, Хэм? Если это действительно ее жених, и он скажет, чтобы она осталась с ним? И она тоже не захочет уезжать?
— Ерунда, — ответил Хэм. — Эта девушка — ключ, я это чувствую… Ключ ко всему… Мы просто не можем ее отпустить.
— Но как…
— Пригрози полицией, если по-другому не получится. Скажи, что сообщишь в полицию, где она находится. Тогда ее немедленно вернут в лагерь.
— Возможно, это подействует.
— Конечно, подействует! Надеюсь, у Билки хватит ума оставить ее у вас. Он же сможет видеть ее в любое время. У тебя уже есть с ней договор?
— Пока нет. — Еще одну монету в автомат.
— Почему же нет, черт возьми?
— Потому что до сих пор для этого не представилась возможность, черт возьми! А девушка — сплошной комок нервов!
— Не надо кричать!
— Но вы сами кричите, Хэм!
— Потому что мне приходится волноваться.
— А мне не приходится? Первая сенсация за много лет, Хэм, первая, под которой мне не стыдно будет подписаться собственным именем!
— Да-да-да. Только нужно сначала ее создать, эту сенсацию! Теперь послушай внимательно, Вальтер, это очень важно: Берти, несомненно, знаком с несколькими большими начальниками в гамбургской полиции.
— Конечно. А что?
— Когда вы привезете девушку в отель, один из вас должен съездить в полицейское управление и рассказать там всю правду. Что вы сейчас с девушкой, где и почему.
— Но это же…
— Что? Безумие? Безумием было бы, если бы вы этого не сделали! Они же вас ищут с тех пор, как девушка исчезла! Они ведь тоже умеют считать до пяти. Ты что, собираешься ждать, пока они вас всех схватят?
— Нет, конечно…
— Ну, так вот. — Еще монету в автомат. — Лучше, если пойдешь ты. К тому человеку, которого тебе назовет Берти. А он пусть ему предварительно позвонит.
— Его сейчас, наверное, не будет на месте…
— Идиот. Пусть Берти потребует связать с ним. Скажет, что это срочно. Важное дело. Это же так и есть. Ему дадут номер домашнего телефона. Он туда позвонит. Объяснит все своему другу. Чтобы обеспечить тебе радушный прием в полицейском управлении, когда ты туда придешь. А там сам разберешься. Скажи, что ты берешь на себя, — нет, скажи, что «Блиц» берет на себя поручительство за эту девушку! Что у тебя есть полномочия действовать так. В любое время можно позвонить издателю и убедиться. Если нужно будет внести залог, то деньги перешлем телеграфным переводом. Или уплати сам, если это не слишком много. Это обязательно нужно уладить! Иначе вы загубите все дело. Нам нужно, чтобы полиция была на нашей стороне. А без этого, если ты и дальше будешь разъезжать по городу на своей тачке, они тебя сцапают.
— Да, не сомневаюсь. Об этом я и не подумал.
— Так, — сказал Хэм. — А теперь еще кое-что очень важное. Я хотел… У тебя достаточно монет по одной марке?
— А что?
— Я много думал о том, что ты мне рассказал. И хочу, чтобы ты подошел к этому случаю с определенной установкой. Чтобы донести до тебя эту установку, мне потребуется немного времени. Ну, так что?
— Штук двадцать монет у меня еще есть.
— Хорошо, — ответил он. — Главная фигура — для меня самая главная — в твоей истории — конечно, эта фройляйн Луиза.
— Ну, не знаю…
— Дай мне договорить! — Хэм сильно вспылил, таким я его никогда не знал. Но он тут же успокоился и продолжал: — Фройляйн Луиза — шизофреничка, так ведь?
— Да, душевнобольная. С заболеванием мозга.
— Ага, — сказал Хэм. — С заболеванием мозга. А ты на что полагаешься в своей работе, Вальтер? Тоже ведь на свой мозг, разве не так?
— На то, что вижу, на то, что слышу. На свой инстинкт.
— Инстинкт, зрение, слух — это же все связано с мозгом, — говорил Хэм. — Я имею в виду все ощущения, которые ты воспринимаешь.
— Вы это к чему? — спросил я. — Ясно же, что все это связано с ним. Мозг…
— Да, мозг, — произнес Хэм. — Тебе покажется странным, если я сейчас расскажу тебе пару вещей, которых ты от меня, я уверен, не ожидаешь. Но у меня сложилось такое мнение после того, как я тут кое-что прочитал, и я очень хотел бы, чтобы и у тебя было в этом случае такое же мнение. Обрати внимание, наш мозг — это же не только пульт переключения раздражений и реакций.
— Неужели? — отозвался я.
— Нет, — ответил он. — Спроси у специалиста! Мозг — это нечто совсем другое, это в высшей степени сложная вычислительная машина — не зря же сейчас повсюду говорят об электронном мозге.
— Ах, это, вы имеете в виду, что мозг — это компьютер, так это давно известно.
— Давно известно, — повторил он. — Не забывай бросать монеты. — Я бросил еще одну марку.
Тем временем перед моей кабиной разыгралась целая драма. По лестнице, ведущей к поездам, спустился прилично одетый мужчина маленького роста под руку с очень расфуфыренной симпатичной женщиной намного моложе его. Волосы у женщины были выкрашены в иссиня-черный цвет, и на ней была норка. У нее было возбуждающе вульгарное лицо. Мужчина выглядел очень в нее влюбленным. И только он остановился, чтобы ее поцеловать (при этом ей пришлось наклониться к нему), как вдруг из соседней кабинки выбежала довольно полная блондинка не первой молодости, одетая в драповое пальто, бросилась на них и оттолкнула их друг от друга. Она кричала так громко, что я мог слышать ее в закрытой кабине.
— Наконец я тебя застукала, подлец! Так, значит, ты вернешься из Мюнхена только завтра утром?
— Магда, прошу тебя! — вскрикнул маленький мужчина, до смерти испуганный.
— Долго я за тобой следила, кобель ты эдакий! — кричала Магда. — Но теперь ты попался! И твоя потаскуха тоже!
— Что вы сказали? — закричала темноволосая, ярко раскрашенная дама.
— Я сказала — потаскуха! — продолжала кричать Магда. — Грязная жалкая потаскуха, таскаешься с женатым мужчиной!
Несколько человек, заинтересовавшись этим развлечением, остановились. Пока что в зале было очень мало людей.
— Что там у тебя за шум? — спросил Хэм.
— Две бабы сцепились из-за мужчины, — объяснил я. — Трагедия брака. Продолжайте, Хэм.
— Ты говоришь, компьютер, Вальтер, — доносился его голос. — Да, компьютер, и если будешь продолжать, то всегда помни, — в этом случае особенно.
— А при чем тут компьютер? — удивился я. — Тем более, что у этой шизофренички он явно сломался.
— Ну, ладно! — воскликнула черноволосая возле моей кабины и выхватила что-то из своей крокодиловой сумочки. — Вот моя регистрационная карта, ты, старая сова! А теперь покажи мне свою!
Окружающие засмеялись и захлопали в ладоши. Им очень нравилось это представление. Маленький мужчина попытался влезть между женщинами. Они оттолкнули его в сторону.
— Пошел отсюда, скотина! — закричала его супруга.
— Это я и хочу тебе объяснить, — продолжал Хэм, — а ты не торопись говорить о сломанном компьютере. Что такое мозг на самом деле, мы и сейчас вряд ли можем себе представить, настолько невероятно сложно он устроен. Трудно сдержать удивление, когда читаешь у такого исследователя мозга, Как Грей Уолтер,[59] что мы знаем об этом компьютере.
— Ну, давай, давай, ворона, показывай свою карту! — кричала черноволосая. Блондинка не первой молодости бросилась на нее с криком: «Ах ты, свинья!» — и вцепилась ей в волосы. Бабы начали таскать друг друга за волосы. Маленький мужчина стоял тут же, как памятник отчаянию.
— Так что, ничего удивительного, — говорил Хэм, — что постоянно говорят и пишут о человеческом мозге как о чуде.
— Вы так пренебрежительно сказали «чудо», — заметил я.
Монета.
— Да, так и есть.
— Почему?
— Сейчас я до этого дойду. Итак: только в коре головного мозга, по грубым оценкам, содержится десять миллиардов нервных клеток — в три раза больше, чем живет на земле людей, и в тысячу раз больше, чем элементов памяти в большом компьютере, но все это в маленьком по размеру черепе еще и связано между собой миллионнократно…
Магда получила от брюнетки удар в грудь и отлетела. Руками она все еще вцеплялась в волосы соперницы, и, когда она отлетела, все волосы остались у нее в руках. Оказалось, что та носила парик. Из-под него показались ее собственные темные, жирно блестящие волосы. Зрители зааплодировали.
Оставшаяся без парика дама зарыдала. Супруга торжествовала, правда, не очень благородно:
— Так вот как ты выглядишь, свинья!
— В одном только зрительном нерве импульсы проходят к зрительному центру через миллион нервных волокон, — доносился голос Хэма. — Там у тебя возле телефона происходит что-то шикарное.
— О да, — подтвердил я.
Потаскуха с криком ярости бросилась на Магду и свалила ее на пол. Женщины катались по грязному цементному полу. Маленький мужчина беспомощно подпрыгивал неподалеку и ломал руки от отчаянья.
— А теперь они по-настоящему дерутся, — сказал я.
— Миллиарды клеток, — продолжал Хэм, — прямо или косвенно связанных между собой триллионами нервных волокон в единое целое. Если это сравнивать с компьютером, то у нас на плечах вместо головы должен был бы стоять высотный дом. Но нет, у нас на это все хватает мозга весом в два с половиной фунта. Это уже чудо, ты не находишь? Безумно тебя впечатляет, а? Заставляет поверить в Бога, верно?
— Да, — согласился я.
Женщины подкатились вплотную к моей кабинке и ожесточенно дрались. У супруги из носа текла кровь. Потаскуха оказалась сильней. Она поднялась, встала на колени, наклонилась над соперницей и начала бить ее по лицу. Магда пронзительным голосом стала звать на помощь. Печальный супруг тоже. Черный парик валялся в пыли. Я снова бросил монету в автомат.
— А теперь слушай внимательно, Вальтер, — рассказывал Хэм. — Мозг — это чудо, это величайшее чудесное творение нашего мира — вот тебе мое признание в вере, — является, по сравнению с бесконечным космосом и с еще более непостижимым для нас понятием бесконечности, ничем иным, как всего-навсего смешной маленькой ничтожностью.
— Что?
Потаскуха ударила супругу по зубам. Несколько человек стали громко звать полицию. Супруг заплакал.
— Именно так, смешной ничтожностью! Прямо-таки грустно от его примитивности, если ты сравнишь его с вечностью и с бесконечным пространством, в котором мы живем, на одной из миллиардов и еще раз миллиардов звезд! Если ты сравнишь эти понятия, то вынужден будешь признать, что это чудо, наш мозг, о котором у нас только жалкие мизерные знания из всего непостижимого во Вселенной, в состоянии только осознать сам факт своего существования в Космосе как результат Творения.
Прибежали двое вокзальных полицейских. Они попытались растащить дерущихся женщин и в свою очередь щедро раздавали при этом удары. Маленький мужчина теперь вскрикивал попеременно:
— Магда… Лило!.. Лило… Магда! Прекратите! Прекратите же!
— Почему именно мы являемся планетой с высокоразвитыми живыми существами? Ха! Кто это говорит? Что это за высокомерие? Представь себе звезду где-нибудь в системе Млечного пути. Я это могу. И думаю, что там одаренные разумом существа тоже обладают мозгом, по сравнению с которым наш — это примитивнейшее из примитивного! Люди на этой звезде — или на какой-либо другой, — может быть, обладают мозгом с таким широким спектром восприятия, что чувствуют и видят такие вещи и события, предвидят их в будущем и продолжают воспринимать их из прошлого, о которых мы вообще не в состоянии получить никакого представления. Ты следишь за моей мыслью?
— Да, — ответил я. И снова опустил монету. Полицейские развели женщин в стороны. Те яростно бранились. — А почему вы мне все это рассказываете именно сейчас, среди ночи?
— Сейчас поймешь, — ответил Хэм. — Я могу представить себе существа с мозгами, где-то в бесконечном мировом пространстве, для которых, например, понятий времени или хронологического хода времени — было, есть, будет — не существует! Тогда эти существа воспринимают все Творение одновременно! Для них спокойно могут существовать Гомер рядом с Гитлером, Эхнатон рядом с Эйнштейном. И давно умершие или живые рядом с еще не родившимися. Эти существа охватывают восприятием столько, сколько нам никогда не будет доступно. Они видят все взаимосвязи. Они смотрят в будущее, в прошлое и в настоящее одновременно, и поэтому они не связаны нашим рационализмом, нашим материализмом!
Полицейские развели дравшихся женщин. Обе они выглядели как мегеры, пальто и платья на них были разодраны в клочья. Полицейские увели их, супруг поплелся за ними следом.
— Возможно, — сказал Хэм, — возможно, Вальтер, у шизофреников такие или похожие мозги. И твоя фройляйн Луиза — возможно, она принадлежит к этим существам! Да что мы знаем о шизофрении? Почти ничего. Только то, что представления шизофреников часто имеют религиозное содержание. Как у твоей фройляйн Луизы.
— Вы имеете в виду, что действительность — то, что воспринимает она, а не то, что воспринимаю я и все мы? — воскликнул я.
— Может быть, Вальтер, может быть. И я хочу, чтобы ты всегда помнил об этом, когда будешь продолжать работу. — Толпа зевак разошлась. Один из полицейских прибежал обратно и забрал парик потаскухи Лило, который лежал на полу. Так же бегом он удалился. — Многие душевные болезни создают так называемые философемы — предпосылки для философий. Это чувство дежа-вю, видение прошлого, предугадывание и предвидение будущего у шизофреников, их пророчества — все это может как нельзя лучше подтверждать, что они обладают значительно более утонченными и грандиозными по восприятию мозгами, чем мы, так называемые нормальные.
— Черт побери, — изумился я. — Такие вещи — и из ваших уст, Хэм.
— Да, — отозвался он. — Такие вещи из моих уст. Полагаю, это связано с возрастом. Двадцать лет назад я тоже еще так не думал. Церкви отмирают, это уже неотвратимо после всего, что они натворили, Вальтер. В следующем году американцы хотят отправить человека на Луну. И значит, Папа римский будет смотреть на Луну в телескоп и молиться за астронавтов. Это же конец всему, друг мой! — Я бросил еще монетку. В зале опять было тихо. — Это будет уловлено мозгом какого-то существа где-нибудь на звезде в Млечном пути, то есть таким мозгом, который улавливает все в миллиарды раз тоньше, чем наш, когда американцы действительно высадятся на Луне и если все пройдет успешно, и это перед лицом бесконечной Вселенной будет иметь не большее значение, чем… ну, чем, например, гол Мюллера в матче против Албании сегодня после обеда. Не большее! То, что мы делаем, что происходит на этой земле, всего лишь ничтожно, мелочно и глупо для такого мозга, какой я могу себе представить… и, возможно для мозгов шизофреников! Кто знает, может, их мозги воспринимают бытие таким, каким оно является на самом деле? По крайней мере, мы — нет.
— Вы полагаете, что в доме на Эппендорфер Баум действительно сидит поляк, да еще и француз с астмой, а среди друзей фройляйн Луизы есть мертвый француз-астматик и поляк, и что это что угодно, но не случайное совпадение?
— Именно так я считаю, Вальтер, — ответил Хэм. Снова засветилась надпись. Я поспешно бросил монету. — Помни об этом всегда. Не слишком полагайся только на свой мозг. Учитывай, что возможно и то, о чем я тебе сейчас рассказывал. Ты знаешь, что я в церковь не хожу. Но тебе известна также моя точка зрения, что человечество не выработало ничего действительно положительного и действительно великого, кроме религий. Все равно каких. Я это все больше осознаю. И они потому такие великие, что от материализма и рационализма, захвативших этот мир и позволяющих нам понять только самые примитивные вещи, уводят нас прочь, уводят вверх, ввысь, Вальтер, может быть, к тем существам с поистине чудесными мозгами.
— Такими, какой, возможно, у фройляйн Луизы, — продолжил я его мысль.
— Да, — задумчиво сказал Хэм, — какой, возможно, у фройляйн Луизы. Это просто-таки преступные измышления газетчика, который настраивает тебя на большую сенсацию, но я ощущал мучительную потребность все это тебе рассказать. Надеюсь, ты меня понимаешь, так ведь?
— Да, Хэм, — ответил я. — Я всегда буду об этом помнить.
— Но только ничего не выдумывай! — воскликнул он торопливо. — Постарайся меня правильно понять! Конечно, твоя фройляйн Луиза — во всяком случае, в этом мире — совершенно очевидно душевнобольная. Конечно, с помощью своего мозга ты напишешь для других мозгов на этой планете, таких, как у тебя и у меня. И конечно, истории не получилось бы, если бы ты не изобразил свою фройляйн шизофреничкой, а ее переживания не описал как переживания больной шизофренией, как зрительные галлюцинации и так далее… Но я хотел бы, чтобы ты немного поколебал нашу самодовольную уверенность, что мы всегда и всюду можем различать безумие и реальность, чтобы некоторые люди задумались. Ты меня понимаешь?
— Да, понимаю, Хэм. Пока. До скорого.
Я отпил большой глоток из фляжки, сунул ее в карман и вышел из зала. В здании вокзала были страшные сквозняки. «Бедные пьяницы на скамейках, они все обязательно заболеют, — думал я. — Или уже заболели». Потом я подумал о мозге фройляйн Луизы. Я подошел к своей машине на большой автостоянке, в это время совершенно пустой, и велел Берти вылезать со всеми пленками. Он сложил их в один из конвертов с прокладками, которые мы всегда использовали, и выбрался из «Ламборджини». Ирина смотрела на меня со страхом.
— Я только посажу Берти в такси, — сказал я, — и сразу вернусь.
Я не хотел, чтобы она еще больше разволновалась от того, что я собирался сказать Берти о его задании. В конце концов, у меня еще не было договора с Ириной. Мы с трудом двигались навстречу урагану к единственному такси на краю автостоянки. При этом я кричал Берти в уши все, что ему нужно было знать.
— Как только все сделаешь, сразу приезжай на Эппендорфер Баум, 187. Мы ждем тебя там! — проорал я.
— Договорились, мой милый! — с улыбкой проорал Берти в ответ и сел в такси. Я еще слышал, как он назвал шоферу адрес — аэропорт, потом захлопнул дверь, и машина тронулась. Не успел я повернуться, как услышал слабый из-за ветра крик Ирины: «Господин Роланд!»
Я резко обернулся и остолбенел.
За рулем «ламборджини» я увидел мужчину. Фары загорелись, машина пошла задним ходом на разворот. Я помчался изо всех сил. Я почти летел, потому что теперь ураган дул мне в спину. «Ламборджини» описал большую дугу, потом водитель переключил скорость, и машина поехала на меня. Я подбежал к ней.
— Господин Роланд! Господин Роланд! Помогите! Помогите! — кричала Ирина.
Окно со стороны водителя было опущено. Я увидел за рулем мужчину со светлыми волосами под синей морской фуражкой, который пытался меня оттолкнуть. При этом он на мгновение поднял глаза. От мужчины — он, наверное, был матросом — несло шнапсом. «Как этот пьяный оказался в машине?» — подумал я. Он должен был сделать это за те несколько секунд, когда я с Берти шел к такси. Я выхватил из кармана «кольт-45», приставил холодный ствол к виску матроса и прорычал: «Стой или я стреляю!» Он дико испугался, убрал ногу с педали газа — я бежал рядом с машиной, которая шла довольно быстро, — и заглушил мотор. Ирина ударилась головой о металлическую арматуру под обивкой, упала и лежала неподвижно. Очевидно, она ударилась очень сильно и потеряла сознание. Машина остановилась. Нигде не было видно ни души. Я поднял ствол к виску парня и приказал: «Живо вылезай!»
Он не двигался. Я рванул его за рукав, рукав с треском разорвался наверху, у плеча. Тогда я ткнул ему кольтом в череп и заорал: «Вылезай, или я нажму курок!»
Неожиданно я получил удар и невольно сделал пару шагов назад. Мужчина выпрыгнул из машины. Я испугался. Это был орангутан, чудовище. От его опьянения не осталось и следа. Парень ударил меня снизу по руке. «Кольт» отлетел. Матрос бросился на меня и своими огромными ручищами сдавил мне горло.
Я успел еще подумать: «Как странно, здесь, в центре Гамбурга, на площади возле Центрального вокзала, среди множества людей… Нет, — подумал я, — людей здесь нет, не видно ни одного человека… Последнее такси увезло Берти».
Мужчина в морской фуражке не говорил ни слова. Его пальцы сомкнулись у меня на горле и сжимали железной хваткой. Мне было ясно, что он хочет меня убить. Оружия у меня не было. Бушевал ураган. Вокруг меня уже все начало вращаться. Я не мог уже даже хрипеть. Тогда я резко, со всей силы, ударил матроса левым коленом в промежность. Это было неблагородно, но, в конце концов, речь шла о моей жизни. К тому же парень пытался похитить Ирину, и в случае моей неудачи мне бы пришел конец, а он все-таки достиг бы своей цели.
Но он ее не достиг. Он издал крик и рухнул на колени. Мне снова удалось вздохнуть, взглядом отыскал блестевший «кольт», сбегал за ним, поднял и понесся обратно к матросу. Тот лежал на асфальте с искаженным от боли лицом и держался за ушибленное место. Он попытался ухватить меня за правую ногу. Я со всей силы наступил ему левым ботинком на руку, а потом ударил ногой в низ живота. Он перекатился на бок, и его стошнило.
На другой стороне улицы я увидел, наконец, людей. Они выпрыгнули из притормозившей машины и шли против урагана. Они явно направлялись ко мне, эти трое мужчин. Немедленно прочь! Только прочь!
Я подбежал к «ламборджини», прыгнул за руль, включил зажигание и дал газ. Машина рванулась. При этом я заметил, что Ирина сидит прямо и держится за голову. Прочь! Прочь! Прочь отсюда!
Я вылетел с автостоянки к северной стороне Центрального вокзала на двух колесах. Ирина вскрикнула. Меня это не беспокоило. На визжащих тормозах я свернул на Глокенгисервалль и промчался по старому Ломбардному мосту к эспланаде до станции метро «Штефансплац». Я долго смотрел в зеркало заднего вида, но ни одной машины сзади не было. Однако страх не отпускал меня еще долго. Возле станции метро я резко вывернул руль вправо и как бешеный помчался вверх к железнодорожному вокзалу Даммтор, потом через площадь Теодор-Хойсс-плац, довольно далеко на Ротенбаумшоссе. Здесь я, наконец, остановился.
— Что… что это было? — с трудом выговорила Ирина.
— Это я у вас спрашиваю! Как этот парень оказался в машине?
— Он вдруг как-то сразу оказался внутри… Не сказал ни слова… Я хотела выпрыгнуть, но тут он поехал… Вы оставили ключ… пьяный матрос…
— Он не был пьян, — возразил я. — Нет.
— Но чего же он хотел?
— Уехать с вами, — ответил я.
— Уехать?.. Вы имеете в виду — похитить? Господин Роланд! Господин Роланд! Что здесь происходит… Скажите мне!
— Если бы я сам это знал, — сказал я. — Как ваша голова?
— Болит. Ничего, пройдет. Я на пару секунд отключалась, да?
— Похоже на то, — сказал я. — Давайте я вас осмотрю. — Я включил освещение в салоне и осмотрел лоб Ирины.
— Что-нибудь видно? Шишка?
— Ничего не вижу, — ответил я. Но все-таки я кое-что увидел, когда снова наклонился вперед. На полу между педалями лежал кусочек ткани. «Скорее всего, я сорвал его у матроса с рукава», — подумал я и наклонился, чтобы его поднять. Это был четырехугольный кусочек красной ткани, по всей длине пересеченный синим закрашенным крестом. Поперечная перекладина примыкала к одной из узких сторон четырехугольника. Все перекладины синего креста были окантованы тонкой белой линией.
— Это… это флаг… маленький флаг, — догадалась Ирина.
— Да, — подтвердил я. Похоже, это была нарукавная нашивка.
Ураган бушевал вокруг машины, шум от него был адский.
— А что это за страна? — спросила она.
— Норвегия, — ответил я, и мне вдруг вспомнилось все, что рассказывал мне по телефону Хэм, и меня пробила дрожь.
— Норвегия? — прошептала Ирина. Ее глаза были широко раскрыты.
— Да, Норвегия, — повторил я и неожиданно заметил, что у меня дрожат руки. Скорее фляжку! Я сделал большой глоток.
— Можно мне тоже? — тихо произнесла Ирина. Я передал фляжку ей. Она выпила и посмотрела в штормовую ночь за окном. — Норвегия… — прошептала она.
12
Наконец, за матовыми стеклами двери зажегся свет. На стеклах появилась тень, сначала огромная, потом она становилась все меньше и меньше, по мере того как человек приближался к нам. Одно из окон открылось. В его проеме показался пожилой человек в очках с жидким венком седых волос, обрамлявших большую лысину.
— Добрый вечер, — произнес он неприветливо и в то же время боязливо. «Ужас послеобеденных событий у него еще не прошел», — подумал я.
— Добрый вечер, господин Кубицкий, — сказал я. — Мне жаль, что пришлось вас разбудить. Нам нужен господин Михельсен.
Услышав это имя, он заметно вздрогнул. Очки сползли ему на нос, и он сдвинул их на место. На нем было теплое пальто поверх пижамы.
— Михельсен, — как эхо, откликнулся он.
— Михельсен, — повторил я.
— Да, чтобы… — начала Ирина, но я прервал ее, сжав ей руку и этим подавая сигнал замолчать.
— Он ведь здесь живет?
— Что?
— Господин Михельсен здесь живет?
— Я… он… да, конечно. Он живет здесь. — Станислав Кубицкий говорил с легким польским акцентом. От страха его лицо стало совсем маленьким. Он ухватился за прутья ажурной металлической решетки на окне. — Но в такое время… среди ночи… Кто вы вообще такой?
Я подал ему свое журналистское удостоверение.
Он его внимательно изучил.
— Господин Вальтер Роланд, — констатировал он. — Журналист. — И добавил: — Ах ты, Господи Боже мой.
Мое терпение кончилось.
Я забрал у него удостоверение и закричал:
— Мне это надоело! Откроете вы или нет? Если нет, я вызываю полицию! Она тут сегодня уже была!
Это подействовало. Он открыл дверь и впустил нас. В подъезде стояла мертвая тишина. После рева урагана на улице мне показалось, что я оглох.
— Вы меня практически вынудили открыть дверь, — с несчастным видом сказал портье.
— Да, — подтвердил я.
— Если будет скандал, я об этом тоже скажу, — заявил он.
— Конечно, — согласился я, обратив внимание, что говорит он как-то уж слишком громко. Подъезд был очень приличный. С мраморными плитами на стенах, старомодным лифтом в черной проволочной клетке, расположенном в середине подъезда, и красной ковровой дорожкой.
— Где живет господин Михельсен? — спросил я.
— Четвертый этаж, — сообщил Кубицкий, пряча двадцатимарковую купюру.
— Большое спасибо, мой господин. Вам будет нетрудно найти. На каждом этаже проживает только один квартирант. Вы поедете на лифте?
— Да, — ответил я.
Мы направились к лифту. Кубицкий открыл сетчатую металлическую дверь, потом раздвижную дверь деревянной кабины лифта. Было заметно, что его опять охватил страх. Этот человек был сплошной комок страха.
— Но только скажите наверху, что я сначала не хотел вас впускать, потому что уже поздно, прошу вас, ладно? — Он сказал это умоляющим тоном.
— Да, — отозвался я.
Он закрыл обе двери, я нажал кнопку, и старый лифт с легким треском медленно заскользил вверх. Станислав Кубицкий остался внизу и смотрел нам вслед. Губы у него шевелились, как во время молитвы. Я подумал, что очень хотел бы узнать, действительно ли Кубицкий молился и о чем.
— Чего боится этот мужчина? — спросила Ирина, которой сейчас и самой было страшновато.
— Боится? Этот мужчина? Ничего он не боится, — ответил я. — Просто мы его разбудили, и он расстроен. А страх тут ни при чем.
— Нет, боится, — возразила Ирина.
— Да нет же, — сказал я.
Лифт остановился. Я вышел из кабины первым, следом Ирина. Я закрыл обе двери. Лифт остался на месте. Здесь, на четвертом этаже, тоже лежали красные дорожки на мраморном полу, и была только одна очень высокая и широкая двойная дверь, прямо напротив лифта. На латунной пластинке было написано: «Михельсен». Над пластинкой находился смотровой глазок. Около глазка, на дверном косяке, был звонок. Я позвонил. В этом подъезде свет не гас автоматически, он продолжал гореть. В этом я мог убедиться, потому что мы ждали перед высокой дверью добрых десять минут. В это время я постоянно звонил снова и снова.
— О Господи, — сказала Ирина и сжала мою руку. Она вдруг стала у нее холодной как лед. — О Господи, что тут происходит?
— Ничего, — ответил я с усмешкой, потому что как раз в эту минуту металлическая крышка, прикрывавшая глазок с внутренней стороны двери, открылась, и на нас неподвижно уставился человеческий глаз. Он смотрел чрезвычайно высокомерно.
— Ну-ка, — сказал я громко и зло, — открывайте, наконец, черт вас побери!
— Я просил бы вас, если возможно, выражаться несколько приличнее, — произнес мужчина, которому принадлежал глаз в дверном глазке, оставаясь для меня невидимым. Голос тоже звучал чрезвычайно высокомерно. Он все еще рассматривал нас.
— Какая безграничная наглость — трезвонить здесь в такое время!
— Моя фамилия Роланд, — сказал я, стараясь говорить спокойно и терпеливо. Потом достал свое журналистское удостоверение и поднес к глазку.
— Журналист?
— Да.
— Исчезните. В это время журналистов здесь не принимают.
— Вы господин Михельсен?
— Нет. Так вы не исчезнете?
— Ни в коем случае.
— Тогда я вызову полицию.
— Хорошая мысль, — поддержал я. — Я и без того хотел бы, чтобы она была здесь, когда мы войдем. Особенно потому, что вы не господин Михельсен. — Женихом Ирины он, несомненно, тоже не был, иначе она вела бы себя не так. А сейчас она стояла совершенно тихо и неподвижно.
— Ну, давайте, — настаивал я, — вызывайте полицию! Если не хотите, я могу спуститься вниз и позвонить.
Я повернулся. В ту же секунду я услышал, как замок щелкнул и дверь открылась. В дверном проеме стоял высокий худой мужчина лет примерно пятидесяти, чрезвычайно холеный, с черными волосами и бакенбардами, с продолговатым лицом, тонкими губами и приподнятыми бровями. На нем был темно-синий костюм, белая рубашка и голубой галстук.
— Пожалуйста, — произнес мужчина. Я увидел хрустальную люстру, сверкавшую у него за спиной, в прихожей. На стенах я рассмотрел красные шелковые обои, на старом комоде стояла большая китайская ваза.
— Кто вы? — спросил я.
— Меня зовут Нотунг, Олаф Нотунг. Я слуга господина Михельсена.
— Вы его — кто?
— Слуга, — повторил он. — Я же, кажется, ясно говорю?
Я был слегка ошарашен. Значит, есть еще люди, имеющие слуг. В доме, сдающемся внаем. Довольно необычно. Хотел бы я знать, какого рода слугой был господин Нотунг, какие обязанности исполнял. Я спросил:
— А это ваша рабочая одежда?
— Нет, господин Роланд.
— А почему это вы еще не спите? У господина Михельсена гости?
— Нет, господин Роланд. Сегодня после обеда я свободен. Я был в центре. Сначала встретился с друзьями, потом сходил в театр. Я ходил в театр с друзьями. Потом мы еще немного выпили в баре. Я вернулся домой полчаса назад. — Он сделал вежливый жест рукой. — Входите, пожалуйста, у вас ведь, несомненно, какое-то дело. Мы не должны обсуждать его между дверью и порогом.
Я пропустил Ирину вперед. Нотунг закрыл за нами дверь.
— Может быть, пройдем в салон? — предложил он, не давая нам сказать ни слова.
И сразу пошел вперед. Даже его походка была высокомерной. Из прихожей много дверей вели в другие помещения. Дверь, которую открыл слуга, вела в салон. Салон был размером в половину теннисного корта. Мы увидели дорогую лепнину, несколько кресельных гарнитуров, холодный камин, желтые шелковые обои, прекрасную старинную мебель, три люстры и огромные ковры. На стенах висели четыре картины, три больших и одна поменьше. Та, что поменьше, была кисти Ренуара, в этом я мог бы поклясться, и притом подлинник. Остальные картины я не знал.
— Садитесь, пожалуйста, — сказал слуга. — Что позволите вам предложить? Что-нибудь выпить? Кофе? Чай? Сигареты? Разрешите ваши пальто? Я немедленно…
— Кончайте, — прервал я его.
— Прошу прощения?
— Прекратите этот вздор. Где остальные?
— Какие остальные?
— Господин Михельсен и господин Билка, — объяснил я.
— Я не понимаю, — ответил он с неподвижным лицом. — Не хотите ли все-таки присесть?
— Нет. Вы очень хорошо понимаете. Я задал вам вопрос. Итак! — я был в ярости, этот парень вывел меня из себя.
— Я все-таки вас не понял, — сказал Нотунг. — То есть не совсем. Господин Михельсен в отъезде.
— Где он? — испуганно спросила Ирина.
— В отъезде, милостивая фройляйн.
— Куда? На сколько? С какого времени? — задавал я вопросы.
— Этого я не знаю. Я имею в виду, я не знаю, куда и на сколько он уехал. Он покинул квартиру сегодня примерно во второй половине дня. Когда я вернулся, я обнаружил только вот эту записку. — Нотунг сунул руку в карман пиджака и достал листок из блокнота, на котором карандашом было написано заглавными буквами:
«ДОРОГОЙ ОЛАФ! МНЕ НУЖНО СРОЧНО УЕХАТЬ ПО ДЕЛАМ. ЗАВТРА ПОЗВОНЮ И СООБЩУ ВАМ, КАК ДОЛГО МЕНЯ НЕ БУДЕТ. ПРИВЕТ. МИХЕЛЬСЕН».
Последнее слово было написано, как обычная подпись.
— Это часто бывает?
— Что, извините?
— Что господин Михельсен так неожиданно уезжает! — закричал я.
— Да, это бывает часто, мой господин, — ответил он подчеркнуто тихо. — Господин Михельсен — владелец крупной экспортно-импортной фирмы. Офис находится на улице Юнгфернштиг. Господин Михельсен много времени проводит в разъездах. Ему приходится ездить часто и далеко.
— Тогда мы хотим поговорить с господином Билкой, — заявил я.
— Опять это имя, — произнес Нотунг с выражением абсолютного непонимания.
— Что значит — опять?
— Вы прежде уже спрашивали об этом господине. Поэтому я сказал, что не понял вашего вопроса. Господина по фамилии Вилка…
— Билка! — прервал я. — Ян Билка!
— Господина по имени Ян Билка я не знаю, — договорил слуга.
— Не говорите глупостей! — закричал я на него. Он удивленно поднял брови. Я продолжал кричать: — Вы, конечно, знаете господина Яна Билку! Он близкий друг господина Михельсена, и он живет здесь!
— Я бесконечно сожалею, — ответил слуга с достоинством, — но кроме господина Михельсена и меня здесь никто не живет.
Ирина, судорожно прижав руки к горлу, спросила:
— Это значит, что вы никогда не видели Яна Билку?
— Я его никогда не видел и никогда о нем не слышал, милостивая фройляйн, — подтвердил Олаф Нотунг.
13
Ирина опустилась на большую кушетку. Она просто не держалась на ногах.
— Я это чувствовала… Я догадывалась… — произнесла она и вдруг сильно задрожала всем телом.
Слуга посмотрел на нее с интересом. Я достал свою фляжку.
— О, — отозвался Нотунг, — может быть, я…
— Не утруждайтесь, — перебил я, отвинтил пробку и наклонился к Ирине. — Выпейте, — сказал я. Она отрицательно покачала головой. У нее побелело лицо, маленькие руки сжались в кулаки. Я боялся, что она свалится без сознания.
— И все-таки, — настаивал я.
— Я… не… хочу…
— Обязательно, — сказал я, наклонил ее голову немного назад и поднес фляжку к губам. Она отпила и задохнулась, начала хватать ртом воздух. — Еще раз, — сказал я. — Один большой глоток. — Она отпила большой глоток и ее передернуло. Но дрожь унялась. Она пробормотала:
— Но… но… но этого не может быть! Господин Билка живет здесь! Я это знаю! Я знаю!
Слуга посмотрел сначала на нее, потом на меня, как будто хотел показать, что достиг предела своего разумения. Потом сказал:
— Господа, это явное недоразумение. Я искренне сожалею. Прошу вас, не плачьте, милостивая фройляйн.
— Я не плачу, — отозвалась Ирина, всхлипывая, и слезы полились по ее лицу. Она их не вытирала. Я дал ей свой платок. Нотунг сказал:
— Я могу только повторить: кроме меня и господина Михельсена никто здесь не живет и никто не жил. Я бы точно знал, я…
— Стоп, — сказал я.
— Простите?
— Прекратите. Сделайте остановку. Заткнитесь, — грубо добавил я и, прежде чем завинтить крышку, сам отпил глоток. — Вы лжете. Вы точно знаете…
— Это оскорбление. Немедленно покиньте квартиру! — тут же воскликнул он.
— …что это ложь, — продолжал я, качая головой. — Еще сегодня после обеда мы говорили с господином Билкой по телефону. Тогда он был здесь. Здесь, в этой квартире.
— Это исключено! Этого не может быть!
— Какой у вас номер телефона? — спросил я.
— 2 20 68 54, — ответил он, не раздумывая.
— Вот видите, — сказал я. — По этому номеру мы говорили с господином Билкой.
— Повторяю вам, это исключено. Здесь нет никакого господина Билки! — повторил Нотунг.
— Скажите правду! — закричала Ирина, вскакивая на ноги. — Пожалуйста, пожалуйста, ну, пожалуйста, скажите правду! У меня от этого зависит все! С ним что-нибудь случилось? Вам нельзя об этом говорить? Что-то случилось?
— В самом деле, — сказал Нотунг смущенно. — В самом деле, вам нужно успокоиться, милостивая фройляйн.
— Успокоиться? Я не могу не волноваться! — кричала Ирина. Теперь она снова дрожала, но я не решался дать ей виски. Уже много лет мне никого не было жалко. Разве что самого себя. А сейчас, в первый раз за последние годы, мне было жалко другого человека, жалко искренне и от всего сердца. Ирина была такой беззащитной, такой юной, такой одинокой. Я осознавал, что был сейчас ее единственной опорой в жизни. Хорошую опору она себе нашла. — Я обручена с господином Билкой! Господин Михельсен — близкий друг моего жениха! Он приезжал к нему в Прагу! И они договорились, что после побега мой жених приедет сюда! И сегодня после обеда я слышала его голос отсюда, из этой квартиры, когда мы набрали его номер!
На лице Нотунга не дрогнул ни один мускул. Потом тихо сказал мне:
— Может быть, я должен врача…
— Вы должны заткнуться! — грубо прикрикнул я на него.
Неожиданно Ирина вцепилась в меня с искаженным в панике лицом.
— Что теперь… Что мы будем теперь делать? — лепетала она. — Господин Роланд, прошу вас… помогите… помогите мне! Тут что-то случилось… с Яном что-то случилось… Пожалуйста, господин Роланд…
— Спокойно, — сказал я и погладил ее по шелковистым волосам. — Спокойно. Мы это все выясним. Обязательно. Но сейчас вам нужно взять себя в руки. — Она кивнула, вытерла последние слезинки и отпустила меня.
— Вам, конечно, понятно, что сейчас мы сообщим в полицию, — проговорил я.
— Это вам не возбраняется, — холодно ответил слуга. — Я хотел бы даже просить об этом. Я не собираюсь позволять Вам и далее оскорблять меня. Я сам сейчас немедленно вызову полицию и подам на вас заявление по поводу нарушения неприкосновенности жилища. Я буду…
— Цыц! — сказал я. Слуга вдруг обнаружил, что к его желудку прижато дуло «кольта-45». Я был в таком возбуждении и в ярости, что действовал инстинктивно, когда выхватил — уже не в первый раз! — из кармана пальто пистолет Конни. Я понимал, что из-за этого у меня действительно могут быть неприятности, но мне было все равно. Это дело очень сильно и дурно пахло! События, в которые я оказался втянутым, все время разрастались. Нервный срыв Ирины стал для меня последней каплей. Теперь мне на все наплевать. «Этот подлец не станет звонить в полицию, — все-таки подумал я в этот момент, — точно нет».
Нотунг смотрел на меня. Он пытался смотреть на меня с презрением, но во взгляде у него был страх, безграничный страх. И не только из-за ствола пистолета, упиравшегося ему в желудок, но и из-за чего-то другого, в этом я мог бы поклясться.
— Что это… Вы с ума сошли?.. Отдайте оружие, или я зову на помощь!
— Кричите, зовите на помощь! — ответил я.
Прошло две секунды. Три. Пять. Восемь. Десять.
Он не закричал. Его глаза стали щелками:
— Чего вы от меня хотите? — спросил он хрипло и уже совсем не высокомерно, нет-нет, отнюдь не высокомерно.
— Повернитесь, — потребовал я. — И не забывайте, что пистолет все время направлен вам в спину. Так что не пытайтесь делать глупостей. Сейчас мы совершим маленькую прогулку.
— Куда?
— По квартире, — ответил я. — Вперед! — Я слегка подтолкнул его пистолетом в спину: — Сначала вернемся в прихожую, — сказал я. Дверь туда оставалась открытой, на это я обратил особое внимание. Я же не вчера родился. — А теперь закройте дверь и заприте на засов.
Он двинулся, мы пошли следом. По толстому ковру мы дошли до двери. Нотунг притих. Он запер входную дверь, как я и требовал от него. Если все другие двери останутся открытыми, я теперь непременно услышу, если кто-то попытается выйти из квартиры.
— Ну, что ж, начнем, — скомандовал я и снова подтолкнул его пистолетом.
Мы обошли всю квартиру. Она состояла из семи больших комнат и множества смежных помещений. Одних только спален я видел три штуки. Все помещения были оборудованы очень богато и со вкусом, на что явно ушло безумно много денег. Повсюду были шелковые обои различных цветов, сплошь под старину.
— И это все вы тоже убираете сами, так что ли? — спросил я.
— У нас есть уборщица и повариха. Но они приходят утром и вечером уходят. По понедельникам они обе только до обеда.
— Как их зовут? Где они живут?
— Уборщицу зовут Мари Гернольд, повариху — Эльсбет Курц. Где они живут, я не знаю.
— Конечно, нет, — отозвался я. — Но это нужно будет выяснить.
— Зачем это выяснять?
— Возможно, обе эти женщины видели господина Билку! — ответил я.
Он не ответил.
Мы переходили из комнаты в комнату. Я вытаскивал ящики из комодов, открывал встроенные шкафы. В квартире действительно не было ни души. Содержимое ящиков я вытряхивал на пол. Так я устраивал разгром в одной комнате за другой.
Еще раньше я предупредил Ирину: «Смотрите внимательно, не найдете ли вы чего-нибудь, принадлежащего вашему жениху. Хоть запонку от манжеты. Все равно. Достаточно любой мелочи».
Но она не нашла никакой самой ничтожной мелочи.
В гардеробной двери встроенных шкафов были открыты. Двух или трех костюмов недоставало, на их месте было пусто.
— Вот пожалуйста, — сказал слуга, — белого чемодана, который господин Михельсен всегда берет с собой в самолет, тоже нет. — Я открыл дверь в стене. За ней находилось маленькое помещение с многочисленными пакетами. Слуга проверил в шкафах. — Нет также белья и туфель, — сообщил он. Мы разговаривали теперь очень тихо, так я распорядился, потому что все время прислушивался к шорохам в прихожей. Но по-прежнему было тихо. Наконец, мы закончили обход. Без всякого успеха. Ни Михельсена. Ни Билки. В квартире был только господин Олаф Нотунг. В конце концов мы опять оказались в огромном салоне.
— Теперь вы мне, наконец, верите? — спросил слуга.
— Нет, — ответил я. — Ни единому слову.
— Позвольте мне дать вам один добрый совет…
— Оставьте ваш добрый совет при себе! — оборвал я. — И не думайте, что этим все кончится. Я приду снова. И не один. Можете не сомневаться, господин Нотунг. Если вы собираетесь сейчас тоже уехать, то хочу вам отсоветовать делать это, не сообщив в полицию, где вас можно найти. Поскольку я немедленно расскажу полиции, что здесь было. — Нам обоим все равно нужно было обращаться в полицию, как требовал Хэм, так что это не было блефом.
— Мне тоже придется многое рассказать полиции, — кротко сказал Нотунг. Я спрятал пистолет. Мы вышли обратно в прихожую. Ирина держалась невероятно спокойно, это было заметно. Нотунг снова открыл входную дверь. Мы вышли на площадку. Никто не произнес слов прощания. Дверь захлопнулась и закрылась изнутри на засов и на замок. Я привел Ирину к лифту, который все еще ждал, закрыл обе двери, сетчатую металлическую и раздвижную, и нажал на кнопку первого этажа. И в тот момент, когда лифт с треском двинулся вниз, Ирина упала мне на грудь. Ее просто качнуло, она заплакала, и казалось, никогда не сможет остановиться. «Ну, старина, — думал я. — Старина, старина, разве может из этого не получиться сенсация? Которую напишешь ты, под своим именем. Под своим именем!»
Я гладил Ирину по спине и машинально говорил ей в утешение какие-то глупости, потому что я и сам не имел теперь ни малейшего понятия, что происходит и что будет дальше.
— Ян, — всхлипывала она. — Ян… Они с ним что-то сделали… Я уверена, они что-то с ним сделали…
— Нет, — сказал я. — Я так не думаю.
Я и сам не знал, как я думал. Я смотрел через плечо Ирины сквозь сетку лифта в полумрак подъезда и говорил:
— Я его найду, Ирина. Я пролью свет на это дело, даже если это будет последнее, что я…
Я не закончил фразу, потому что, взглянув вниз, увидел мужчину в расшитом шелковом халате, который стоял возле двери своей квартиры на втором этаже и энергично махал нам рукой.
14
Андре Гарно оборудовал свою квартиру в старинном испанском стиле. Мебель была темного дерева, стулья обтянуты дорогими тканями, в полоску — красную, коричневую и цвета зеленого горошка. Здесь были и высокие бронзовые подсвечники со множеством свечей, и скрытая подсветка, и настольные лампы, и старинные ширмы из пергамента. Стены были обтянуты обоями с крупной структурой красного и охристого цвета. В некоторых комнатах были проложены декоративные потолочные балки — в том числе и в салоне, где мы сидели. На стенах цвета охры висели картины, тарелки, старый циркуль, шпаги и очень красивые старинные часы.
Мы сидели вчетвером за низким столом — торговец антиквариатом, портье, Ирина и я. На Кубицком все еще было тяжелое зимнее пальто поверх пижамы. Он бормотал что-то про себя по-польски — от волнения и страха, как я уже знал с первой нашей встречи. Андре Гарно был высоким поджарым мужчиной с короткими седыми волосами, торчавшими вверх, как густая щетка, с чувственным лицом и красивыми глазами под густыми бровями. И сам он выглядел в этом элегантном халате, как поместный дворянин, да и говорил так же…
— Ну, именно этого мы и ждали, — произнес он с легким акцентом, выслушав мой рассказ о наших приключениях со слугой Нотунгом.
— Да, именно так, — подтвердил маленький поляк.
— А чего вы так боитесь? — спросил я.
— Тех, наверху, — ответил Кубицкий.
— Слугу?
— Слугу и этого Михельсена.
— А почему вы боитесь?
— Господин Михельсен несколько… ну, скажем, странный господин, — объяснил француз. — И гости, которых он принимает, такие же странные.
— Иностранцы? — спросил я.
— В том числе, — ответил Гарно. — Но и очень много немцев. В любое время дня и ночи. У большинства есть ключ от дома. Там наверху иногда так орут, что слышно здесь, внизу, даже среди ночи.
— А что орут?
— Не знаю.
— Как это не знаете, если здесь внизу слышно?
— Они орут друг на друга на каком-то иностранном языке, господин Кубицкий и я не смогли определить на каком. Может быть, на нескольких языках.
— Уже и стреляли там, наверху, — добавил портье с жидким венком волос вокруг большой лысины и посмотрел на меня поверх толстых стекол очков.
— Когда?
— Пару раз. Однажды они потом кого-то унесли. Двое мужчин. Третьего тащили между собой. Его ноги тащились по полу. Засунули в машину и уехали.
— И вы не сообщили в полицию?
— Ну, конечно, — ответил Гарно. Он держал что-то в руке, похожее на серебряный штифт губной помады. Он им играл.
— И что?
— Нас допросили как свидетелей. Потом сотрудники пошли наверх. Пробыли наверху два часа. Снова спустились вниз, не сказали ни одного слова, исчезли и больше не появились.
— Этого же не может быть! — воскликнул я.
— Может, может, — сказал Гарно, выглядевший очень бледным. — Уж поверьте, бывает. А на следующий день был звонок господину Кубицкому. Если он еще раз вмешается в то, что происходит наверху, то познакомится с бетонной бочкой.
— С чем? — спросила Ирина.
— Бочка с бетоном. Звонивший подробно объяснил господину Кубицкому, что это такое. Его засунут в бочку, заполнят ее бетоном и бросят в Эльбу. Можете себе представить, как господин Кубицкий напуган. Вообще, такие звонки были еще пару раз. Да еще сегодня это происшествие с двумя машинами. Это же было чистое покушение на убийство!
— Вы в этом уверены? — спросил я.
— Абсолютно. — Гарно неожиданно схватился за грудь и застонал.
— Что случилось? — испуганно вскочила Ирина.
Гарно откинулся в высоком кресле назад и поднял руку. Он закашлялся, поднес маленький серебряный предмет ко рту и нажал на его колпачок. Раздалось тихое шипение.
— Астма, — объяснил Кубицкий шепотом. — У бедного господина астма. В такую бурю это еще хуже, чем обычно.
Это был баллончик с аэрозолем. С усилием вдыхая воздух, Гарно распылил содержимое баллончика в открытый рот. Лицо у него стало синюшного цвета, а тяжелое дыхание сопровождалось хриплым шумом. Мы сидели неподвижно. На улице бушевал ураган.
У меня в голове вращалась только одна мысль: «Астма. Мертвый французский друг фройляйн Луизы. Астма…»
— Вы не сможете ему помочь, — тихо сказал Кубицкий. — Нужно подождать, пока поможет лекарство.
Оно помогло быстро.
Через две или три минуты синюшная краска сошла с лица Гарно, хрип прекратился. Он опустил баллончик с аэрозолем.
— Извините, — сказал он. — Это действительно из-за этой ужасной бури. Тогда мокрота особенно легко обволакивает бронхи, не говоря уже о том, что они, конечно, судорожно сжимаются.
— То есть вы не можете нормально вдыхать, — сказал я.
— Нет, — отозвался Гарно. — Скорее перед таким приступом я не могу нормально выдыхать, понимаете? При выдохе в легких остается больше воздуха, чем обычно, и при следующем вдохе я получаю меньше свежего воздуха, чем требуется. Ладно, хватит об этом. Это же отвратительно. Pardon.[60] Я вижу, вы торопитесь. Давайте короче. Тот мужчина, которого вы ищете, Mademoiselle[61] и Monsieur[62] — ему примерно лет тридцать?
— Да, — ответила Ирина.
— Рост примерно метр восемьдесят?
— Да!
— Короткие светлые волосы. Очень коротко пострижены? Можно сказать, по-армейски?
— Да! Да! Да! — Ирина вскочила.
— Продолговатое лицо, выглядит очень крепким, смуглая кожа и шрам на подбородке?
— Это он! — вне себя закричала Ирина. — Это он, да! Это Ян Билка!
— Имени его мы не знаем, — сказал портье.
— Как это? Если он жил у Михельсена как квартирант или даже как гость, он должен был зарегистрироваться в полиции, — заявил я.
— Да, — подтвердил Кубицкий и закусил нижнюю губу.
— Так что же, Михельсен не давал вам никакого заявления на регистрацию?
— Нет, — ответил Кубицкий.
— И вы его не потребовали?
— Нет. Он мне сказал, что сам зарегистрировал своего друга в полиции.
— И вы с этим согласились?
— Да, — сказал Кубицкий и опустил голову.
— Он боялся, — объяснил Гарно. — После всего, что уже произошло там, наверху, у Михельсена… и потом ему же сказали, чтобы он не лез в дела Михельсена.
— Ну, хорошо, — сказал я. И, обращаясь к Гарно: — Вы тоже знали мужчину, соответствующего этому описанию, который жил у Михельсена?
— Да, конечно. Я видел этого мужчину пару раз. Хотя он большей частью сидел в квартире Михельсена, — ответил Гарно.
— Так он там все-таки жил! — воскликнула Ирина.
— Конечно. Мы же это все время и говорим!
— С какого времени? — спросил я.
— С конца августа, — ответил портье. — Но только, я вас умоляю, не выдавайте, что узнали это от меня!
— Значит, слуга лгал.
— Разумеется. Этот господин… Как, вы говорите, его фамилия?
— Билка, — сказала Ирина и сжала руки. — Ян Билка!
— Этот господин Ян Билка жил у господина Михельсена с августа до сегодняшнего дня. Вместе они и покинули дом.
— Они… — Ирина не смогла договорить.
— Садитесь, — сказал я и силой усадил ее рядом с собой.
— Да, вместе покинули дом, — подтвердил Гарно. — Господин Кубицкий видел это, и я тоже это видел.
— Когда это было? — спросил я быстро. — До того, как машина сбила человека?
— После того, — ответил Гарно. Он снова начал дышать тяжелее и поднял баллончик с аэрозолем. Мы смотрели на него с беспокойством. Он покачал головой и улыбнулся. — Уже прошло. Действительно противно при этой погоде… После того, господин Роланд.
— Через сколько после того?
— О, через какое-то время, — сказал Гарно. — Там же еще сначала была полиция, так ведь?
— Они вышли из дома ровно в двадцать часов и четыре минуты, — сказал Кубицкий. — Я посмотрел на часы. — Он провел платком по лбу, вытирая выступивший от страха пот. — Тут подъехали три машины. И потом этот господин Михельсен и этот господин Ян Билка спустились на лифте. Оба с чемоданами, Михельсен с одним, Билка с двумя. Сели в среднюю машину. Людей на улице было мало, и я мог все хорошо видеть.
— Я тоже, — продолжил Гарно. — Вон из того окна. В машинах сидели мужчины.
— Сколько? — спросил я.
— Всех вместе девять, — ответил Гарно. — Они вышли из машин и стояли на улице, здесь и на другой стороне. Руки в карманах. Выглядело так, как будто они обеспечивали безопасность.
— Вы можете узнать этих мужчин?
— Нет. Просто мужчины. Пальто и шляпы. Все были в шляпах, — ответил Гарно. — Михельсен и этот господин Билка сели в среднюю машину, в черную. Она была довольно большая, похожа на легковой фургон. Полностью закрытая. Мне показалось, что там что-то нечисто, и я на всякий случай записал номер. — Он взял со столика клочок бумаги. — Вот, пожалуйста.
Я взял бумажку. Номер был такой: HH-DX 982.
— Это, конечно, правильный номер? — спросил я.
— Абсолютно точный. Машина стояла как раз под фонарем. Остальные машины стояли дальше, в тени. Когда оба мужчины сели, все три машины очень быстро уехали. Мужчины, которые приезжали, бросились к машинам и уехали вместе с ними.
— А слуга?
— Он по понедельникам после обеда действительно свободен, — сказал портье. — Повариха и уборщица тоже. И слуга действительно вернулся домой только поздно ночью. — Он стукнул себя по лбу. — Мы совсем забыли, господин Гарно! А эта молодая дама!
— Конечно, как глупо, — сказал торговец антиквариатом. — Михельсен и господин Билка приехали с этой молодой дамой.
— С какой молодой дамой?
— С блондинкой, очень симпатичной. Еще совсем молоденькой. Она поселилась в августе у Михельсена вместе с господином Билкой.
Я почувствовал, что рука Ирины в моей руке стала холодной как лед.
— Эта молодая дама тоже уехала? — пробормотала она.
— Конечно, тоже! Ну, как глупо, что мы о ней чуть не забыли. Просто мы оба так взволнованны, — объяснил Гарно.
— Кто была эта молодая дама? — спросил я. — Вы случайно не знаете ее имя?
— Нет, — ответил Гарно. — Имя не знаем.
— Но один раз я встретил Михельсена вместе с ней в прихожей, — сказал Кубицкий. — Я поздоровался, и он и она тоже поздоровались, и Михельсен пробормотал какое-то имя, я его не разобрал. А потом он сказал еще кое-что.
— Что? — спросила Ирина.
— Он сказал, что эта молодая дама — невеста его друга, который у него в гостях, — ответил Станислав Кубицкий.
15
— Не сердитесь, господин Роланд…
Я сидел, глядя прямо перед собой, там же, в задней части магазина деликатесов Книфалля — прошло только сорок два часа — и все еще ждал, что они позовут меня в издательство, чтобы сообщить, какого мнения эти проклятые бабы о моем новом продолжении.
Передо мной стояла Люси, лицо у нее горело. Было видно, что она собрала все свое мужество.
— Я знаю, что это не мое дело, но…
«Должен признать, ваш студень из телятины выглядит очень аппетитно!»
«Две большие банки гусиной печенки…»
«Одну упаковку Реми Мартэн, одну — Блэк Лэйбл, одну — Кампари…»
Там, в зале, стояли мужчины и женщины. Работы невпроворот.
— Да, и все же? — спросил я Люси.
— Почему вы всегда пьете до обеда так много? — спросила белокурая Люси. И поспешно добавила: — Конечно, это ваше дело. Только я… — ее голос сильно задрожал, — …я очень беспокоюсь за вас!
— Вы беспокоитесь?! — Я посмотрел на Люси. Меня вдруг охватило сильное чувство жалости к самому себе. «Это хорошо, — думал я. — Это очень хорошо. В первый раз девушка говорит мне такие слова. Те две потаскухи, например, с которыми я развлекался сегодня ночью, обо мне совсем не беспокоились. Они проспались после пьянки, а когда проснулись, включили приемник на полную громкость, помылись, позавтракали, сделали прически и накрасились. И все остальные точно так же. Только эта Люси, она обо мне беспокоилась…»
А Люси разошлась, заговорила без запинок.
— Когда вы приходите, вы все время пьете, бормочете про себя и с каждым разом выглядите все хуже. Что с вами, господин Роланд?
— А что со мной может быть? У меня все замечательно!
— Господин Роланд!
Я отпил глоток чистого виски, поморщился, и вдруг эта юная девушка показалась мне единственным добрым человеком на свете. Конечно, это действовал выпитый мной алкоголь и огромные дозы виски прошлой ночью, это мне показалось под воздействием «Дешевого Якоба». Его воздействием можно объяснить и мое дальнейшее поведение.
У каждого человека есть, так сказать, критическая точка, независимо от того, пил он или нет. Достигнув этой точки, он выкладывает все, что у него на сердце, не самому близкому человеку, а кому-то, кто в этот момент рядом и выглядит симпатично, с кем он едва знаком — какому-нибудь бармену, водителю такси, проводнику спального вагона, маленькой продавщице в дорогом магазине деликатесов…
— Ну, ладно, — сказал я. — Дела у меня идут вовсе не замечательно. Все у меня дерьмово. — И мне казалось совершенно естественным, что я говорил это блондинке Люси с очень темными глазами, о которой я ничего не знал, кроме того, что она была родом из Брандобердорфа.
— Как это? — Люси посмотрела на меня и покачала головой. — Вы зарабатываете так много денег. Вы знаменитый. Все люди читают то, что вы пишете…
— А-а-а-а! — взвыл я от отвращения. — Меня погубит то, что я пишу!
— Не понимаю! — испуганно сказала Люси. — Если это вас так мучит, почему же вы тогда пишете?
Да, почему? Хороший вопрос. Теперь мне пришлось бы сказать: «Потому что я уже стал слишком продажным, морально разложился и влез в долги, чтобы попытаться предпринять что-нибудь порядочное». Так и было сказано? Нет, сказано было:
— Я писал другие вещи. Раньше. Совсем другие. Лучше.
— Но и теперь тоже неплохо! Я же читаю! — Люси покраснела до корней волос. Она, конечно, знала мой псевдоним. — И все мои знакомые читают! Это же так интересно… так много можно узнать… и так научно…
— Дерьмо все это, — сказал я шепотом. — Самое настоящее дерьмо! Только никому не рассказывайте, что я так сказал, фройляйн Люси!
— Никому! Честное слово! — она стояла передо мной, сжав маленькие кулачки.
«И еще тунца, пожалуйста…»
— Скажите, а у вас не будет неприятностей? Вам можно вот так просто со мной разговаривать?
— Вы же постоянный клиент! — успокоила меня Люси. — А кроме того, тут пока нечего делать.
— И все-таки. — Я встал со стаканом в руке и заметил, что уже захмелел. — Давайте лучше поговорим возле стойки. Там это будет не так бросаться в глаза. — Я пошел впереди осторожной походкой пьяных, которые знают, что должны себя контролировать. Она пошла за мной следом с бутылкой «Чивас» и скользнула за стойку. Я взобрался на табурет и аккуратно поставил стакан. — А вы чего выпьете?
— В такое время! Что вы, господин Роланд!
— Вы тоже должны что-нибудь пить. Хоть что-нибудь. Иначе я не смогу вам ничего рассказать, — упрямо настаивал я.
— Ну, ладно, тогда стакан томатного сока, если можно…
— С водкой. И водки побольше.
— Нет, без водки, пожалуйста.
— Без вод… — ну, хорошо. Как хотите. — Я внимательно смотрел, как она принесла стакан, достала из холодильника кувшин с темно-красным томатным соком, как наполнила стакан.
— Ну, хоть перца добавьте, — сказал я.
Она послушно добавила перца из большой деревянной мельницы.
«Филе, пожалуйста, хороший, большой кусок филе…»
— Так на чем я остановился? — спросил я.
— Что вы когда-то раньше писали другие вещи, лучше…
Люси подняла стакан, кивнула мне и выпила. Я выпил «Чивас».
— Да. Писал. Это было, когда я только пришел в «Блиц». — Я вертел стакан в руке. — В то время это было не только крупнейшее, но и лучшее немецкое иллюстрированное издание. С настоящим уровнем! Его признавали за границей! Как «Лайф»…
Люси, не имевшая, очевидно, никакого понятия о том, что такое «Лайф», кивнула.
— Все это заслуга Хэма…
— Кого?
— Нашего шефа литературной редакции. Пауль Крамер — так его зовут. Мы называем его Хэмом. Он прилагал все силы, чтобы сделать из «Блица» самый лучший журнал — так много лет подряд! В то время работать в «Блице» было честью! Мы печатали рассказы Хемингуэя и Сомерсета Моэма, романы Яна де Хартога[63] и Ремарка… и новеллы Эрнста Лемана, Ирвина Шоу и Трумена Капоте,[64] «Завтрак у Тиффани», например…
— Грегори Пек! И Одри Хёпберн![65] — проговорила Люси, задыхаясь от волнения. — Я видела этот фильм. Он просто прекрасный! Помните, как они вдвоем искали кота под дождем?
— Да.
— А песню? «Moon River»?[66] — Люси напела несколько тактов.
— О Господи, да знаю я эту песню! — воскликнул я сердито.
Она испугалась.
— Все, молчу. Пожалуйста, рассказывайте дальше!
Но я уже был выбит из колеи. Я сидел и рисовал из мокрых кружков, которые оставались на стойке от моего стакана, причудливые фигуры. Люси молчала…
— Так вот, этот Крамер, — все-таки заговорил я и хлебнул виски. — Я вообще только от него узнал, что такое журналистика! Он поручал мне писать объемные статьи, когда я был готов… Историю медицины… исторические серии… научные… — Я улыбнулся. — Одна, моя самая любимая, называлась «Пчелиное государство»!
— «Пчелиное государство», — повторила Люси с благоговением. — Это, должно быть, была прекрасная статья!
Я опрокинул стакан.
— Еще один, пожалуйста.
— Господин Роланд…
— Еще один!
— Боже, как сердито вы умеете смотреть! Конечно… сию минуту…
— Благодарю, фройляйн Люси… И еще крупные криминальные происшествия: я на них специализировался! Я был сам себе изыскателем. Это я тогда понимал…
«Что же это может быть — изыскатель?» — несомненно, размышляла Люси, но усердно кивала.
— В то время Хэм давал мне задания по каждому крупному преступлению. И не только в Германии! По всей Европе! Даже в Бразилии — та история с монахинями-убийцами. По этому поводу я два раза летал за океан в Рио. — Я сделал глоток. — Да, — сказал я, — поначалу был огромный спрос на литературу, все хотели наверстать упущенное! Это было как жажда в пустыне, жажда знаний, настоящая мощная волна! Потом страна стала интенсивно развиваться, и пошла волна любопытства. Крупные криминальные происшествия и политические скандалы. Потом у нас была — ну, скажем, историческая волна. Был такой интерес к прошлому во всем народе. Какими же они были на самом деле, эти старые добрые времена? И тогда появились наши самые большие серии об императорах и королях, о Гогенцоллернах,[67] Виттельсбахах…[68] — иногда такая серия могла состоять из сорока пяти, пятидесяти частей, без преувеличений!
Я отхлебывал виски, погрузившись в воспоминания.
— После этого, когда мы снова стали преуспевать и вообще дела пошли в гору, нахлынула волна интереса к жратве. Помните? «Не каждый же день вкушать икру»! Тогда ведь этот Зиммель написал роман, в котором тайный агент страстно увлекается кухней, и напечатаны все рецепты приготовления блюд. Вышел не у нас — в «Квике». Но мы все по его примеру немедленно открыли у себя в иллюстрированных изданиях регулярные страницы рецептов — какой бы журнал вы сейчас ни пролистали, обязательно найдете одну-две страницы на тему кухни и жратвы…
— Да, и правда! — засмеялась Люси. — А рецепты в «Блице» — тоже ваши?
— Нет, их готовил не я. Но после волны интереса к жратве пришла волна строительства… «Ура, мы строим дом!» Это уже было мое… и все другие серии тоже…
«Молочного поросенка пятьсот граммов…»
«Тостов три пакета, и один батон из муки грубого помола, пожалуйста…»
Я отпил еще и замолчал. Люси терпеливо смотрела на меня, поэтому я посмотрел на свои руки и вспомнил…
Как раз в то время, после серий на темы дома, к нам пришли Герт Лестер и его команда.
В то время «Блиц» и начал деградировать, благодаря «утонченному» вкусу господина Лестера и господина Херфорда, а также благодаря нашему несравненному отделу исследований под руководством любезного господина Штальхута.
Какие битвы приходилось тогда выдерживать Хэму ради одной-единственной хорошей статьи! Ради того, чтобы не все материалы переделывались на слезливый или военный, или сексуальный, или криминальный лад. Какие были скандалы! Как героически держался Хэм! Тщетно. В конце концов оказалось, что все напрасно. И поэтому он тоже смирился, уже давно.
— Это что такое, парень? Надо же соответствовать…
Журнал стал заполняться дерьмом, оно выдавалось во все в больших и больших количествах, рассчитанное на самые низменные инстинкты. Начали печатать дерьмовые романы, ориентируясь на вкусы самых слабоумных в стране, иногда их писали до пяти авторов, целой «бригадой»: мужчина — диалоги мужских персонажей, женщина — женских, был специалист по действующим моментам сюжета, еще один — по развитию сюжета и по описанию отдельных сцен, и еще один по чисто повествовательной, описательной части. И все это до мелочей предварительно запрограммированное на компьютере, по его последним расчетам.
А если мы получали хороший готовый роман для журнальной публикации, то «в соответствии с потребностями журнала» полностью переворачивали его с ног на голову. Эту идею переделок принес на фирму Лестер! Какая была шумиха вокруг романа того умершего всемирно известного американца. Лестер нанял тогда двух парней из рекламного бизнеса, двух продувных бестий. Правопреемник этого американца прислал потом письмо и спрашивал, кто же под именем его автора выдал такое низкопробное дерьмо, поскольку собирался подавать на него в суд. Господин доктор Ротауг доказал тогда этому господину, что, по условиям договора, он вообще ничего не может сделать. Но, конечно, после этого мы больше никогда не получали романов от хороших авторов. О таких вещах сразу становится известно. Ну, что ж, мы сами наловчились стряпать свои романы из подручных средств! И обманывали читателя, и врали без зазрения совести. Так что же, нужно было рассказывать все это девушке Люси? Мои глаза жгло от усталости. Я пил, не замечая, что виски течет у меня по подбородку. В глубоком раздумье я смотрел на Люси. Может быть, моя жизнь сложилась бы по-другому, если бы когда-то я полюбил такую девушку, полюбил по-настоящему? Эта Люси была хорошей девушкой. Может быть, под ее влиянием я бы вел себя иначе — возражал бы, ушел бы, когда в «Блице» все переменилось. Да, такой Люси это бы, пожалуй, удалось. Такая сама бы пошла вкалывать, если бы дела у меня какое-то время шли дерьмово. Да только такими девушками, у которых на лице написана порядочность, я никогда не интересовался. И начинаю только теперь, когда уже слишком поздно. Смешно! Я хрипло рассмеялся.
— Почему вы смеетесь?
— Так, ничего.
— Я что-то не понимаю… Все же было чудесно… Вы, должно быть, были тогда счастливым человеком, — сказала она растерянно.
— Да, был… и никогда не пил по утрам, никогда!
— Но что же случилось потом? — так же растерянно спросила Люси.
— Тираж, — ответил я с такой горечью, как будто это был мой злейший враг, корень всех бед. — Проклятый тираж!.. И этот… и этот компьютер… — И заговорщицки прошептал: — Это тайна, фройляйн Люси, никому не говорите! У нас там есть компьютер, который определяет, что нужно писать… Хэм получит инфаркт, прежде чем сможет теперь поместить в журнале хоть одну хорошую статью…
— Компьютер?
— Ага, компьютер! За ним следит уважаемый господин Штальхут… А за мной следят уважаемые дамы нашей фирмы, за каждой строчкой, которую я написал… каждую строчку рассматривают под микроскопом эти милые дамы, как вот сейчас, поэтому я и здесь…
— Я знаю, — прошептала Люси.
Я водил пальцем по черной поверхности стойки и рисовал буквы из влажных кружков, оставленных стаканом. Потом произнес:
— Тогда просто было другое время. Оно уже не вернется… — Нервным движением я прикурил сигарету. — У меня проблемы, да? — Я засмеялся: — Это все только отговорки для пьянства! Вы же знаете: у каждого пьяницы обязательно должны быть отговорки, чтобы объяснить причины своего пьянства: у одного — собака издохла, у другого — любовная драма, у третьего — проблемы с детьми. Не качайте головой, фройляйн Люси! Я — пьяница. Остерегайтесь меня.
— Вы несчастны, — произнесла фройляйн Люси очень тихо. И только теперь мы по-настоящему посмотрели друг другу в глаза, а там, в магазине, господин Книфалль протрубил: «Чудесные ананасы, милостивая госпожа!»
Возле стойки зазвонил телефон.
Мы оба вздрогнули, потом Люси взяла трубку. Коротко ответила, положила трубку и сдавленно проговорила:
— Вас просят туда.
Я осторожно встал. Люси с несчастным видом наблюдала, как я пытался надеть пиджак. Черт побери, я набрался, как сапожник. Ну, и что? Ну, и наплевать! Я рассчитался — заплатил только за томатный сок и за содовую, потому что бутылка «Чивас» была моя, я оплатил ее раньше, и как всегда и везде, дал слишком большие чаевые.
— Ну нет, господин Роланд! Нет, я не возьму!
— Возьмете, — ответил я и торжественно протянул ей руку. — Прощайте, фройляйн Люси.
— До свидания, господин Роланд…
Держась неестественно прямо, я прошел через магазин. Один раз я обернулся и увидел, что в глазах Люси блестели слезы. Она вытирала их и смотрела на буквы, которые я изобразил на стойке бара пролитым виски. Я написал там: «Люси». И потом дважды перечеркнул это имя. Я быстро отвернулся и убрался из магазина. «Ну, — думал я, — вот теперь слезы польются рекой…»
16
Чуть заметно покачиваясь, сжав руки в кулаки, по-боксерски подав плечи вперед, шагал я обратно в издательство. Светило бледное холодное солнце. Мне было жарко. «Не надо было столько пить, — думал я. — С той дозой виски, что выпил сегодня ночью, — многовато. Черт возьми, как я чувствую „Чивас“! В коленях, в глазах, в голове. Больше всего в голове. Там кружится карусель, кружится, кружится. Ну, ничего, иногда я напивался и сильнее, когда они вызывали меня к господину главному редактору Лестеру…»
Мне пришлось идти в обход, потому что строители метро, разрывшие здесь Кайзерштрассе до самых земных потрохов, только в нескольких местах проложили мостки с одной стороны улицы на другую. Мостки были сколочены из толстых досок, стояли на деревянных опорах и были снабжены перилами. Люди, сталкиваясь, пробирались по ним в обоих направлениях, тут царило настоящее столпотворение.
Сотни, много сотен рабочих в защитных касках копошились в глубине как муравьи: рыли шахту; пробегали туда и сюда под громадными кранами, переносившими стальные балки невероятной длины; возились с механизмами, подсоединенными к кранам, — свайными молотами, отбойными молотками.
Я остановился посередине мостков, прислонился к перилам и посмотрел в шахту будущей станции метро, которая поднималась здесь день за днем. Шахта крепилась тысячами балок, внутри вдоль стен проходило ограждение из плетеной проволоки, мощные бетономешалки заливали бетон в поддерживаемые железными траверсами будущие стены тоннеля. На широком высоком постаменте стояло что-то похожее на барабан, вокруг него пятеро итальянских рабочих готовили бетон и при этом кричали (пением назвать это было нельзя) хором:
— Evviva la torre di Pisa, di Pisa, che pende — e pende e mai va in giu!
Я усмехнулся. Я понимал по-итальянски. «Да здравствует Пизанская башня, Пизанская башня, потому что она клонится и клонится и никогда не упадет!» — вот что это значило. А дальше шли совершенно неприличные слова.
Я смотрел на рабочих так, как будто все-все они были моими друзьями. Как легко потерять на таком мосту равновесие и сверзнуться вниз. Я вцепился руками в доску перил, испуганный тем, что почва уходит из-под ног. Меня толкнули.
«Вот порядочные люди, — думал я, — сосредоточенно и серьезно рассматривая рабочих внизу. Они что-то создают. Это настоящие парни. Греки, итальянцы, югославы, турки, немцы, не знаю кто еще. Рабочие! А я? Я — паразит, кусок дерьма. Вот если бы я был рабочим, одним из тех, кто что-то строит, создает что-то полезное, чтобы людям было легче жить…»
«Эй, а поосторожней нельзя?!» — злобно заорал один из прохожих, столкнувшись со мной. Я поплелся дальше, уже не глядя вниз на рабочих. Потому что теперь мне почему-то было стыдно перед ними, перед ними всеми.
17
— Если это случится еще хоть раз, хоть один-единственный раз, слышите меня, то вы будете уволены!
Громкий, командный голос главного редактора несся мне навстречу, когда на восьмом этаже я вышел из «бонзовоза». Я шел по проходу между стеклянными стенами, за которыми располагались кабинеты редакторов отдельных направлений. Шеф отдела обслуживания, зарубежного отдела, внутреннего отдела. Светских новостей, театра и кино. Науки. Техники. Юмора…
— Всему есть предел! Я долго терпел все ваши выходки! Незаменимых людей нет, и вам замена найдется! — бушевал Герт Лестер в своем стеклянном ящике. Перед ним стоял одержимый темными инстинктами отец семейства и первоклассный шеф-макетчик Генрих Ляйденмюллер, страшно худой человек в очках и с большими ушами. Он все время кланялся. Он был бледным и небритым, впрочем, как всегда. Кроме него в кабинете Лестера находились Анжела Фландерс и Пауль Крамер, они сидели справа и слева от его письменного стола из стальных трубок. В креслах из стальных трубок. Кабинет был оборудован в современном холодном стиле. Полки из стали и стекла. Шкафы для папок и низкие длинные полки из стали с раздвижными дверцами.
— В моей редакции вы не будете вести себя, как похотливый козел. Не в моей редакции!
«Свинья! — подумал я. Внезапно меня охватила слепая ярость. — Грязная свинья этот Лестер!» В присутствии Анжелы Фландерс он позволял себе бесноваться. И прекрасно знал, что каждое слово было слышно в этом хлеву. А Ляйхенмюллер, тот только повторял: «Да», «Так точно», «Конечно», «Больше никогда» и после этого каждый раз с поклоном: «Господин Лестер!» Эта собака выставляла бедного парня в дурацком виде перед всей литературной редакцией. Мне становилось все жарче, я снял пиджак.
Без стука я распахнул дверь в приемную Лестера.
— Здравствуйте, госпожа Цшендерляйн, — произнес я.
Софи Цшендерляйн страдала вторичной почечной недостаточностью. Ей приходилось принимать кортизон, который врач прописал ей с небольшой передозировкой. И это чертово поддерживающее жизнь средство немедленно обеспечило ей типичные для принимающих кортизон лицо-луну и общее увеличение веса. Болезнь настигла женщину, до того писаную красавицу, совершенно неожиданно два года назад. Вообще-то ей нельзя было работать. Да она и в самом деле часто справлялась с большим трудом. Но что значит нельзя работать, когда у безвинно разведенной женщины одиннадцатилетний сын в гимназии, а его отец за границей и не платит ни гроша алиментов? Легко сказать. От болезни и тяжелой жизни она стала суровой и строгой. Всем сердцем она была предана шефу и служила ему не за страх, а за совесть. Так у нее, по крайней мере, было чувство, что в издательстве есть мужчина, которому она нужна и который хочет ее видеть — несмотря на изменившуюся внешность. Поэтому друзья Герта Лестера всегда тут же становились ее друзьями, а его враги — автоматически ее врагами. Цшендерляйн постоянно носила строгую черную юбку и белую блузку. Как и все сотрудники, окна кабинетов которых выходили на Кайзерштрассе, она страдала от нервных перегрузок, от длительных головных болей, а иногда и от приступов головокружения, потому что здесь, со стороны фасада издательства, стоял невероятный шум, создаваемый рабочими — строителями метро, который с утра до вечера грохочущими волнами проникал в каждое помещение. И так из месяца в месяц. Действительно можно было сойти с ума!
Я уже открыл дверь к Всесвятейшему.
— Вам нельзя… Вы же видите… — Цшендерляйн вскочила.
Ох уж, эти возлияния! Я только пьяно ухмыльнулся ей и уже стоял в кабинете Лестера. Главный редактор встретил меня ледяным взглядом.
— Какая радость! Господин Роланд, наша звезда! Стучать и ждать, пока я разрешу войти, вы уже разучились, а, господин Роланд? Садитесь же, господин Роланд (Лестер сменил тон на иронический), не будьте скованным, чувствуйте себя как дома.
— Я так себя и чувствую, господин Лестер.
— Прекрасно, прекрасно, — сказал Лестер, — еще только одну минутку, мне нужно закончить одну мелочь, прежде чем я уделю внимание вам, господин Роланд.
В кабинет Лестера тоже проникал этот убийственный непрекращающийся шум строительных работ. Я поклонился Анжеле Фландерс (у нас с ней действительно была старая дружба) и кивнул Паулю Крамеру. Тот озабоченно провел рукой по спутанным седым волосам и пригладил свою хемингуэевскую бороду. Про себя он, конечно, чертыхнулся. Угораздило же меня снова напиться! Крамер посмотрел на Фландерс. Она тоже выглядела грустной.
На Хэме была разноцветная рубашка в клетку и фланелевые брюки. Галстук он снял вместе с пиджаком. Он никогда не надевал пиджак, когда его вызывали к Лестеру. И точно так же никогда не расставался с данхилловской трубкой, которую держал сейчас во рту. Он курил, как всегда, когда бывал здесь. Это был его способ выразить главному редактору свое мнение о нем. В кабинете приятно пахло. «Хоть что-то приятное!» — подумал я.
Герт Лестер (в темном костюме, белой рубашке и с шейным платком вместо галстука) прошелся рукой по коротко стриженым волосам. Его глаза сощурились, орлиный нос подрагивал. Но я был нужен Лестеру, и ему пришлось взять себя в руки. Поэтому он заорал на бедного Ляйхенмюллера:
— Немедленно вниз и приступайте к работе! На этот раз я вас прикрою — в последний раз! Убирайтесь!
Ляйхенмюллер, все еще униженно кланяясь, пробормотал: «Этого больше никогда не случится, господин Лестер. Больше никогда!»
«Ясное дело, случится, — подумал я. — И тебя не уволят, ты слишком одарен. Но эта свинья снова будет устраивать тебе такие унизительные сцены».
— Очень благодарен вам за доверие, господин Лестер… — Ляйхенмюллер двинулся к выходу по-лакейски, спиной вперед, и столкнулся со мной.
— О, пардон!
— Прекрати, — зашипел я. — Нечего перед ним сразу делать в штаны!
— Что вы там только что сказали? — прокаркал Лестер.
— Ничего особенного.
— Но я желаю это знать!
Я пожал плечами. Между тем Ляйхенмюллер, не переставая кланяться, улетучился из кабинета. В многочисленных соседних офисах работа остановилась, стучали только одна-две пишущие машинки. Люди здесь, наверху — репортеры, авторы, редакторы, машинистки — заглядывали теперь в кабинет Лестера. С Ляйхенмюллером вышел порядочный скандал. И, кажется, будет продолжение!
— Я ему сказал, чтобы он не делал перед вами в штаны, господин Лестер, — дружелюбно объяснил я. Потом поклонился Фландерс. — Извините, Анжела.
Хэм пососал трубку, выпустил облако дыма, но на лице его не дрогнул ни один мускул.
— Это неслыханно! — взвился Лестер. — Как вы смеете…
Я повернулся и пошел обратно к двери.
— Куда вы?
— Выйду. Подожду, пока вы успокоитесь.
Прошло пять секунд. Мы молча смотрели друг на друга.
Высотный дом чуть заметно дрожал от сотрясения земли на улице, пронзительно визжали машины…
Наконец, Лестер заключил:
— Опять хлебнули глоточек!
— Не один глоточек, — поправил я его.
— Сядьте! — рявкнул Лестер.
Я пожал плечами и сел в неприятно качающееся кресло из стальных трубок возле письменного стола. Пиджак упал. Я поднял его и положил на колени. В соседних офисах уже никто не работал.
— Если позволите, — ответил я.
Лестер изо всех сил пытался сохранять спокойствие и скрыть свою антипатию ко мне. Но я каждый раз выводил его из равновесия. Лестеру становилось плохо от одного моего присутствия.
— Какая муха вас укусила, господин Роланд?
— Никакая.
— Но выглядите вы именно так!
— Неужели?
— Мы вам что-то сделали, господин Роланд?
— Нет.
— Вы очень разговорчивы сегодня, господин Роланд. Так что случилось?
«Если ты не оставишь этот казарменный тон, я дам тебе пару раз в морду, — подумал я про себя. И вслед за этим: — Я намного пьянее, чем думал. Надо поосторожнее. Да-да, Хэм, не бросай мне таких предостерегающих взглядов. Я уже и сам это понял».
— Я кое о чем вас спросил, господин Роланд!
— Я слышал, господин Лестер!
Главный редактор наклонился.
— Вы хотите поссориться?
— Нет, господин Лестер.
— А мне кажется, вы все же ищете ссоры.
— Тут вы ошибаетесь, господин Лестер.
— Но если вы хотите ссоры, вы ее получите! Я как раз в подходящем настроении!
— Сожалею, господин Лестер. Может, мы все же перейдем, наконец, к делу? (А ты все-таки получишь пару раз в морду, я твою физиономию видеть не могу, карьерист несчастный. Не надо было так много пить.)
— Хорошо, можем перейти к делу! Мы даже должны! Вам предстоит еще очень много поработать с продолжением, господин Роланд! Женщины многое раскритиковали. К сожалению, и основные моменты тоже. А время поджимает. Вы ведь опять сдали материал в самый последний момент!
— Я просил меня извинить. Я себя плохо чувствовал. Я…
— Вы слепили продолжение на соплях! Сегодня утром! Меня проинформировали!
— Ах, так.
— Таким оно и получилось, это ваше продолжение! На соплях! Вы, видимо, считаете, что можете все себе позволить, да?
— Господин Лестер, как я понимаю, вы разговариваете со мной во враждебном тоне.
— Ах, вы понимаете?
— Да. И я не думаю, что могу позволить вам этот тон.
— Вальтер, — вмешался Хэм, вынимая трубку изо рта, — веди себя все же как нормальный человек, а не как пьяный идиот!
Я кивнул. От слов Хэма я немного пришел в себя.
— Прошу прощения, господин Лестер.
— Пожалуйста. Госпожа Фландерс, не будете ли вы так любезны прочитать нам замечания дам.
Фландерс взяла свой блокнот для стенограмм и начала расшифровывать свои записи. При этом она постоянно поднимала на меня взгляд, как будто просила прощения. Замечаний действительно было очень много. Дважды я хотел что-то возразить, но ловил предостерегающий взгляд Хэма и молчал.
Фландерс читала, давала комментарии к записям и постоянно сводила все к основному замечанию женской конференции: это продолжение, как и всю серию, я с самого начала неправильно ориентировал. В значительной степени надо было учесть особенности, предпочтения, действия и реакции со стороны мужчины.
Лестер раскачивался в кресле, слегка барабанил пальцами по крышке стола и злобно посматривал на меня. Чем дальше Фландерс читала, тем больше я успокаивался. Я даже улыбался. Хэм озабоченно наблюдал за мной. Фландерс тоже занервничала, пожалуй, даже испугалась. Она начала запинаться по ходу доклада. Наконец, она закончила. Довольно долго в большом стеклянном бассейне было тихо. Я заметил, что все смотрели на меня, и поинтересовался:
— Других пожеланий нет?
— Других нет, господин Роланд. — Лестер снова забарабанил по крышке стола. — Я во всяком случае считаю, что этого достаточно. Мы должны немедленно сменить курс! Давно нужно было это сделать. Это продолжение будет сориентировано уже совсем иначе! Работы, конечно, невпроворот. Обсудите все подробно с господином Крамером. Прежде чем начать, зайдите еще раз ко мне. Мы не можем рисковать успехом серии. К счастью, вы пишете быстро. А сейчас побольше черного кофе, чтобы протрезветь. Это должно быть готово в печать до восемнадцати часов. Это ваша вина! Если бы вы раньше сдали…
Ну, и в этот момент от избытка виски у меня перегорели последние предохранители. Внезапно после слишком долгого подневольного труда внутри человека что-то обрывается, он больше не может, больше не хочет, да, больше не хочет! Шум на улице показался мне вдруг слишком громким, и я снова увидел перед собой гигантскую шахту метро и множество рабочих в глубине, и снова услышал, как они пели, пели песню о Пизанской башне, и это стало последней каплей. Слухом, зрением и мыслями уносясь далеко отсюда, я сказал:
— Нет.
— Что — нет? — Лестер, на минуту был совершенно сбит с толку.
— Вальтер… — вскочил Хэм. Он пытался меня прервать, но я, с трудом поднявшись, жестом подал ему знак помолчать.
Мой голос вдруг стал очень тихим:
— Нет, я не буду это переписывать.
— Вы…
— Я больше ничего не буду переписывать, господин Лестер, — продолжал я. — Я больше никогда не буду ничего переписывать. Делайте это вы, господин Лестер.
Низкорослый главный редактор подпрыгнул — он был смешон за своим огромным письменным столом — и заорал:
— Какая наглость! Я уже давно замечаю эту обструкцию! Не думайте, что я ее не замечаю! Но со мной это не пройдет! Я и не с такими справлялся! Я вас уничтожу, Роланд, я размажу вас!
— Вальтер! — воскликнула Фландерс. — Будьте же благоразумны, прошу вас! Ради меня!
— Я абсолютно благоразумен, — ответил я. — Мне жаль, Анжела, сожалею, Хэм, если я поставил вас в затруднительное положение, в самом деле. Но так… так… так дальше не пойдет!
— Вальтер, ради Бога, Вальтер! — вмешался Хэм. — Заткнешься ты, наконец! Ты что думаешь, для нас это сплошное удовольствие? Но что поделаешь! Это же бессмысленно! Номер должен быть сдан! Продолжение надо переписать!
— Только не я, — сказал я жестко. — Я пьян, я знаю. Но не настолько, чтобы не понимать, что говорю! Я не буду переписывать продолжение! Evviva la torre di Pisa![69]
— Ну, это мы еще посмотрим! — взревел Лестер. — Вы еще станете у меня вот таким, вот таким… он соединил большой и указательный пальцы. — Вы… Вы алкоголик! — Лестер любил орать. Это было известно всем и каждому на фирме. Армейская дисциплина. Там все просто и ясно. Почему же здесь должно быть иначе? — Еще раз повторю вам, господин Роланд: вы опускаетесь, — рявкнул Лестер. — Ваша писанина давно уже не такая, какой была когда-то! И это не только мое мнение! Это подтверждается и анализами отдела исследований!
— Анализы отдела исследований — это какашка.
— Ну, это… это же… Да что я так волнуюсь?! — орал Лестер. — Это все шнапс! Вам же в мозги ударил шнапс! Последнее продолжение — это же просто скандал! Кое-как сляпано! Кое-как размалевано! И за такой огромный гонорар! И когда я требую переписать, то вы еще и отказываетесь? Хорошо! Очень хорошо! Издатель очень обрадуется! — Лестер орал так громко, что это слышали уже все в стеклянных боксах. Некоторые вышли из своих отсеков и подошли поближе. Редакторы, авторы, секретарши у внешней стены кабинета шефа, как возле аквариума, прекрасно все видели и прекрасно все просекали. Подтягивались все новые сотрудники, с любопытными, возбужденными, напуганными, ухмыляющимися, обеспокоенными или крайне довольными физиономиями — Лестер получил, наконец, по заслугам.
Вперед головой, медленно, очень медленно двигался я мимо Хэма, который безуспешно пытался меня остановить, к столу, прямо на Лестера.
То, что я потом сказал, я, выдержавший четырнадцать лет в этом аду за счет своего здоровья и нервов, напившийся сейчас до потери пульса, — все сказанное мной было пропитано ненавистью и гневом на всю эту отрасль. Что странно, я не кричал, просто говорил — очень медленно, очень тихо и очень четко:
— Годами я писал то, что вы от меня требовали, господин Лестер! Любую дрянь! Любое оболванивание народа! Как мы, оказывается, победили под Сталинградом! Как германский кронпринц, самый лучший кронпринц на свете, оказывается, все-таки победил под Верденом! Всю героическую немецкую историю я, по вашему заданию, последовательно и бодро переврал и поставил с ног на голову, чтобы она стала действительно героической! Каких героев я только для вас ни придумал! Насильники над детьми! Потрясающие судьбы проституток! Я даже писал мемуары выпущенных из тюрем нацистских военных преступников, поскольку эти братки не могли составить ни одного правильного предложения на немецком языке!
— Вальтер! — ко мне заспешил Хэм. С несчастным видом он, запинаясь, сказал: — Одумайся… прошу тебя, Вальтер… Будь благоразумным…
Я как раз дошел до письменного стола и, огибая его, руки за спиной, наклонившись вперед, пошел прямо на Лестера.
— Благоразумным, — сказал я. — Нет, Хэм, я больше не хочу быть благоразумным. Уж простите! И вы тоже, Анжела. Вы оба мои друзья. Мне жаль, что вы сейчас здесь. Я хотел бы сейчас быть с этим господином наедине…
— Что вы здесь устраиваете! — закричал главный редактор, с побледневшим лицом, руками, прижатыми к груди. А в проходе прижимались к стеклам носы любопытных — с жадностью, со злорадством, с ужасом — теперь там столпились все, кто работал на этаже.
— А кто все время взвинчивал тираж нашего журнала? — спросил я со зловещим спокойствием в голосе. — Я! По вашему приказу я сделал из порядочного иллюстрированного издания клоаку!
Теперь я уже склонился над Лестером. Он сделал шаг назад. Еще один.
— Господин Роланд, я требую, чтобы вы немедленно…
— Ни черта вы не можете от меня требовать! — перебил я.
Лестер отступил еще на два шага. С раскрытыми ртами, затаив дыхание, следили стоявшие в коридоре за каждым словом, за каждым движением. Какая-то девушка вскрикнула. В кабинет ворвалась возмущенная Цшендерляйн.
— Господин Лестер, что…
— Вон! — сказал я, мой голос прозвучал тихо, но с такой угрозой, что Цшендерляйн сочла за благо спастись бегством.
— Вы, жалкий дерьмовый пропойца, вы позволяете себе…
Я в первый раз выпрямился и закричал, тоже в первый раз, как озверевший унтер-офицер:
— Молчать, скотина!
После этого случилось что-то невообразимое: Лестер вытянулся во фрунт. Это выглядело точно так, как в армии принимают стойку смирно.
Анжела Фландерс, рыдая, закрыла лицо ладонями. Хэм беспомощно опустился в кресло, его трубка погасла.
Лестер опомнился, но это уже не спасало, все видели, все, столпившиеся в проходе за стеклянной стеной. Они видели, и они, конечно, расскажут всем остальным!
Лестер хватал ртом воздух. Потом заговорил:
— Вы… вы…
Но теперь я гонял его все быстрее по просторному стеклянному боксу, я шел на него шаг за шагом, а он так же отступал. Мы двигались по кругу, по кривой. Это выглядело карикатурно, но ни один человек не смеялся, ни один. Лица, расплющенные о стекла, казались гримасами.
Я продолжал гонять своего главного редактора по кабинету.
— Что мы с вами наделали, господин Лестер? От чудодейственных средств против рака мы доболтались до полного вздора! Совокупление подняли до уровня мировоззрения! — Хотя я снова говорил совершенно спокойно, в тот момент я абсолютно не был в состоянии отвечать за свои поступки. Отвращение, унижение, скорбь по утраченным годам — все это сдавило мне горло. — О, какие у нас заслуги перед Отечеством, у нас обоих! Нам за это полагается Бундесфердинсткройц![70] Какие у нас достижения! И лучшее из них — немецкие оргазмы! Читайте «Блиц» — и вы станете как арабский жеребец, как кобыла во время течки! Читайте «Блиц» — журнал с духовным уровнем его главного редактора!
— Вы сукин сын! — дико взвыл Лестер. — Я буду…
Но мы так и не узнали, что он будет делать, потому что в эту секунду под потолком включился один из динамиков, висевших в каждом кабинете и приводившихся в действие с центрального пульта. Это была установка для вызовов у нас в издательском доме.
Из динамика раздался равнодушный девичий голос:
— Прошу внимания! Господина главного редактора Лестера, господина Крамера, господина Роланда и господина Энгельгардта просят немедленно зайти к господину Херфорду. Повторяю: господин главный редактор Лестер, господин Крамер, господин Роланд и господин Энгельгардт, пожалуйста, немедленно к господину Херфорду!
18
— Со своей невестой…
— Да.
— Но это я его невеста!
— Ну…
— Значит, у него была еще одна?
— Очевидно.
— Она была у него еще в Праге! Портье же рассказывал, что эта девушка говорила с чешским акцентом и что этот Михельсен сказал, что Ян привез ее с собой из Праги!
Это нам тоже рассказал портье.
— Мне очень жаль, — сказал я. — Но это так.
— Выходит, он обручился сразу с двумя женщинами!
— Да, — снова сказал я. Много говорить мне не требовалась, она все равно не слушала. Она сидела рядом со мной в «Ламборджини», на безлюдной улице, ураган выл за окнами машины и сотрясал ее. Я завел мотор и включил обогреватель, потому что стало чертовски холодно. А между тем было два часа тридцать пять минут ночи. И мы стояли возле дома 187 на Эппендорфер Баум и ждали Берти, с которым я договорился встретиться здесь. А Берти все не появлялся. Аэропорт был не так уж далеко — возможно, Берти что-то задержало. Ирина перестала плакать. Поначалу она плакала, а теперь оцепенело смотрела прямо перед собой на улицу и говорила каким-то металлическим голосом. Из последних сил она старалась держаться, чтобы окончательно не свихнуться. Я считал, что нужно дать ей еще немного выговориться, а потом приступить к делу. Я курил и время от времени отхлебывал по глотку.
— Но мы были вместе два года! — не успокаивалась она.
— Да, — произнес я.
— А та, другая? Как долго он ее знал? Дольше? Меньше?
— Не знаю. — Мне было ее искренне жаль, но эту вторую женщину мне послало само небо. «Теперь проблем не будет», — думал я.
— Может мужчина любить двух женщин?
— Да, — ответил я.
— Нет! — закричала она. — Не одновременно. Не по-настоящему. Одну он любит, а с другой только спит.
— Не обязательно, — отозвался я. Где же Берти?
— Но это было так! Ту, другую, — ее он любил! А со мной просто спал. Для постели я ему годилась. А сбежал он с другой! Он взял с собой ее, ее, а не меня!
— А вы хотели с ним?
— Естественно, — ответила она своим металлическим голосом. — Но он тогда сказал, что одновременно нам бежать нельзя, что он меня позовет, когда устроится на Западе. Сообщит мне. Этого сообщения я и ждала. Целых три месяца. Я бы ждала еще дольше, если бы не…
— Знаю, — сказал я.
— Ничего вы не знаете! — сорвалась она. — Простите. У меня совсем плохо с нервами. Вы так добры ко мне. Простите.
— Понятно, — сказал я. — Ну, конечно. Я вас понимаю. Он обманул вас…
— Да.
— …и заставил остаться…
— Да.
— …а сам сбежал с другой.
— Да, — подтвердила она тоскливо.
— Я думаю, так мог поступить только подлец, — сказал я с надеждой, но осторожно.
«Есть много женщин, которые продолжают любить таких подлецов. Но Ирина не из них. Слава Богу, не Ирина», — подумал я, когда услышал ее крик:
— Свинья он, вот он кто! Подлая свинья! Я ему так верила! Верила всему, что он говорил!
«Так, — подумал я. — Пора приступать».
— А теперь он с этой другой удрал отсюда, кто знает куда. Может быть, его уже и в стране нет. А вы сидите без денег и не знаете, что делать. Это уже настоящее свинство.
Она вдруг снова всхлипнула. Я опять дал ей свой платок. Она громко высморкалась.
— Спасибо.
— Знаете, Ирина, — продолжал я как можно более деловым тоном, — я забрал вас из лагеря, привез сюда и…
— Я вам очень благодарна, господин Роланд.
— Глупости, вы не обязаны меня благодарить. Но я репортер. Я должен написать об этой истории. В этой истории будет, конечно, и про вас…
— Ну, и что? А, вы имеете в виду права на публикацию… — Ей вспомнился мой разговор с портье Кубицким и торговцем антиквариатом Андре Гарно, который мы вели в его квартире. Он получился довольно напряженным, когда я захотел взять у них обоих письменные заявления. Портье тогда словно лишился рассудка.
— Заявление? Подписать? А вы потом обо всем напишете? Я же в своем уме! Мне это будет стоить жизни! Нет, господин Роланд, нет, от меня вы разрешения не получите, только через мой труп! Это непорядочно с вашей стороны, что вы у нас сначала все выспросили, а теперь говорите, что хотите о нас написать!
— А вы как думали, зачем я вас тут выслушиваю? — спросил я.
— Это непорядочно! Нет! Я ничего не буду подписывать! А если вы хоть строчку обо мне напишете, я подам на вас в суд!
— Послушайте, — сказал я, — все, что вы мне рассказали, я в точности передам полиции.
Он был вне себя.
— Нет! Прошу вас, не надо! Вы не пойдете на такую подлость!
— Пойду, — ответил я. — Это мой долг. Вы не можете запретить мне пойти в полицию. Тогда расследование начнется и без этого.
— Но моя жизнь…
— Мы не в Техасе.
Так продолжалось с четверть часа. Потом включился Гарно:
— Господин Кубицкий, я советую вам — подпишите заявление. Если знаешь об очевидном беззаконии и ничего не делаешь против него, то и сам служишь беззаконию. А кроме того, в полиции уже известны наши имена — как свидетелей. Так что мы уже все равно замешаны в этом деле. Я доверяю полиции. Она нас защитит.
— Да, как те приятные сотрудники, которые были здесь, а потом сказали, чтобы я больше не вмешивался в дела Михельсена!
— Я не буду обращаться ни к каким сотрудникам, — ответил я. — Я пойду в управление полиции. У нас не гангстерское государство. Опасность для вас будет намного больше, если я не пойду в управление и не предам это дело огласке, согласитесь, господин Кубицкий!
— Господин Роланд прав, — поддержал Гарно. — В конце концов, мы же сами позвали его сюда и добровольно все ему рассказали, разве нет?
Кубицкий начал поддаваться.
— Ну, хорошо… я не против… Но денег я не возьму, слышите, ни пфеннига не возьму!
— Я тоже, — сказал Гарно.
Я еще немного с ними поспорил, но переубедить их не смог. Тогда я принес из машины пишущую машинку, отпечатал заявления, и они их подписали. При этом у Кубицкого так дрожала рука, что он едва смог написать свою фамилию.
Это было четверть часа назад. Теперь, в машине, я ответил Ирине:
— Да, права на публикацию. Вы можете мне запретить писать о вас. Там, наверху, я немного блефовал. С вами я хочу быть откровенным. Если вы мне запретите, я ничего не смогу сделать. Правда, тогда, если дело пойдет дальше — а так оно скорее всего и будет, — о вас будет писать вся пресса, а не исключительно я один. Но вы можете мне разрешить, чтобы о вас писал только я…
— Конечно, я вам разрешаю, — сказала она к моему безграничному облегчению. — Пишите! Напишите все, всю эту подлую историю!
Значит, я правильно сделал, что так долго откладывал этот разговор с Ириной. Теперь она созрела. Я выбрал нужный момент. У меня и раньше было такое предчувствие, что в Гамбурге она переживет разочарование и будет в большом отчаянии. Это предчувствие появилось у меня сразу после того странного прерванного телефонного разговора. И я выжидал. Теперь оставались сущие пустяки.
— Только тут… — начал я.
— Что?
— А-а, — сказал я небрежно и засмеялся. — Вы представления не имеете, что такое крупное издательство. Там сидят юристы. Крючкотворы. Боятся потерять свои теплые места. Они обязательно должны чем-то заниматься. Поэтому требуют, чтобы мы, репортеры, у каждого, о ком хотим написать, брали письменные разрешения на публикацию, как мне пришлось брать их у Гарно и Кубицкого.
— Я дам вам его, конечно, и письменно.
— Хорошо. А я вам дам денег. Ну, скажем, пять тысяч марок, идет?
Все-таки она была ключевой фигурой, на нее издательство могло и раскошелиться.
— Но я не хочу денег, — ответила Ирина.
— Почему? — спросил я. — Это же не мои. Это деньги «Блица». Возьмите их. В этом нет ничего оскорбительного.
Она замотала головой.
— Ладно, сейчас я напечатаю договор и поставлю пять тысяч, и вы можете их забрать, а если не хотите сейчас, то потом.
Ирина не ответила. Она смотрела застывшим взглядом в окно на бурю, которая несла по воздуху клочки бумаги и листья.
Я отодвинул сиденье назад, чтобы стало просторней, обернулся и взял свою маленькую портативную пишущую машинку и плоский чемоданчик-дипломат, в котором хранил бумагу и копирку. Я поставил чемоданчик на колени, на него машинку, вставил в нее бумагу, копирку и еще один лист, включил освещение салона и начал печатать.
Ирина сидела рядом со мной и смотрела на меня. Я это чувствовал. Сигарета свисала у меня из уголка рта, от обогревателя с легким шумом шел теплый воздух, а я заново печатал текст, который продиктовал мне доктор Ротауг. В качестве гонорара я вставил сумму в пять тысяч дойчмарок. Фляжка лежала на обтянутой кожей широкой передней панели.
— Можно мне глоточек? — спросила Ирина.
— Да, — кивнул я, не отрываясь от машинки, — сколько хотите. У меня в багажнике есть еще.
Она поднесла фляжку к губам, откинула голову назад и отпила. Я прекратил печатать и посмотрел на нее, на ее белую шею, на профиль и подумал, что она очень красивая девушка. Совершенно одинокая. Покинутая. Сейчас со мной. Видимо, надолго со мной. Если я…
Я прогнал эти мысли, смял сигарету в пепельнице машины и допечатал договор до конца. Потом поднял машинку и попросил:
— Возьмите чемодан.
Она взяла. Я подал ей оригинал, копию и авторучку. Медленно, как в трансе, она подписывала документы.
— Деньги в вашем распоряжении, — сказал я. — В любое время. Можете получить их сейчас, если хотите.
— Нет, не хочу, — ответила она, продолжая медленно подписывать.
— Ну, ладно, потом.
— Да, — сказала она, — потом, может быть. — Она заплакала, тихо, без содроганий.
Я переложил бумагу, чемодан и письменную машинку к заднему стеклу машины, где лежал диктофон, потом повернулся к Ирине, обнял ее за плечи и начал говорить слова утешения, сплошные глупости, это я понимал, но что еще я мог ей сказать? Тому, что случилось с Ириной, не было подходящих утешительных слов. Мне, правда, было жаль ее, очень жаль — и в то же время я был страшно рад, что у меня теперь есть право на публикацию.
Кто-то постучал по стеклу с моей стороны.
Ирина негромко вскрикнула.
— Второй раз такого не случится, — сказал я. Прежде чем опускать стекло, я сунул руку в карман и вытащил «кольт-45». Возле машины стоял полный мужчина в клетчатом пальто. На нем была клетчатая шляпа и очень яркий галстук. Он нерешительно улыбался. На вид мужчине было лет сорок пять. В правой руке я незаметно держал «кольт», а левой опустил стекло в окне.
— Хэлло! — сказал полный мужчина.
— Хэлло! — ответил я.
— Sorry to disturb you,[71] — произнес он. — Вы понимаете?
— Yes, — ответил я. — What’s the matter?[72]
— Я Ричард Мак-Кормик, — представился он с сильным акцентом. — Drogist[73] из Лос-Анджелеса.
— Glad to meet you,[74] — сказал я.
— Говорите, пожалуйста, по-немецки. Я любить немецкий. Хотеть больше изучить. Я здесь в большой поездке по Европе, понимать?
— Да.
— Я и Джо.
— Джо?
— Мой друг. Джо Риццаро. Тоже drogist. We got lost. Заблудились. Понимать?
— А где ваш друг? — спросил я и крепче сжал «кольт».
— В машине, — ответил он и махнул рукой. Я обернулся и увидел позади моей машины большой оливкового цвета «шевроле». Сидевший за рулем мужчина тоже ухмыльнулся и помахал мне рукой. Я так увлеченно печатал на машинке, что не услышал, как подъехала их машина. Ну, и еще из-за урагана. И в моем «ламборджини» горел свет. Наверное, поэтому я не увидел света фар «шевроле», — подумал я. А сейчас они были выключены.
— Мы хотим Реепербан, Сан-Паули, понимать? — продолжал Мак-Кормик.
— Да, — ответил я.
— Well,[75] где это?
— Вы слишком далеко заехали, — сказал я. — Слишком далеко.
— Мы хотим Сан-Паули, — повторил Мак-Кормик. — Мы хотим прекрасных фройляйнс. Вы понимаете, что я имею в виду. — Он поклонился. — Excuse me, lady.[76]
Ирина уставилась на него.
— Реепербан хорошо для прекрасных фройляйнс, а?
— Очень хорошо, — отозвался я, держа палец на спусковом крючке.
— Ну так как мы туда попадем?
— You turn your car and…[77] — начал я.
— Говорите по-немецки! Я любить немецкий, — перебил меня Мак-Кормик. — Значит, развернуть машину, а потом? — Он просунул карту города, которую держал в руке, в открытое окно. Обычная складная карта. Он протянул мне карандаш. — Нарисуйте, пожалуйста, дорогу, мистер.
— Послушайте…
— Пожалуйста! Мы хотим к прекрасным фройляйнс. Вы понимаете, зачем! — Он посмотрел на меня лукавым взглядом.
Я взял карандаш в левую руку и сказал:
— Мы здесь. Назад по улице до конца… — Закончить мне не удалось. Мак-Кормик (или как там его звали) мгновенно другой рукой зажал мне рот и нос влажным платком.
Я вскинул «кольт». Он бросил карту и так сильно вывернул мне руку, что я выронил пистолет. Он оказался невероятно сильным. Я видел, как Ирина распахнула дверь машины со своей стороны и выпрыгнула на улицу. Платок был пропитан противно и резко пахнущей жидкостью и очень холодный. Я пытался вдохнуть и надышался проклятых испарений. Последнее, что я слышал перед тем, как все вокруг меня стало черным, был вскрик Ирины и после этого быстрые шаги по тротуару.
19
«Господь Всемогущий дал мне мои деньги.
Джон Дэвидсон Рокфеллер, 1839–1937»
Эти слова были выгравированы на золотой пластине такого же размера, как журнал «Блиц» в поперечном формате. Ее вмонтировали на свободное место книжной стенки, доходившей до потолка высокого помещения. Три стены были сверху донизу закрыты книгами, пестрыми новыми и дорогими старинными, обтянутыми кожей. Полки — все, конечно, из красного дерева — были освещены софитами. Я уже знал это святилище издателя, потому что часто здесь бывал и мог бы поклясться, что из тысяч книг этой библиотеки их владелец вряд ли прочитал хотя бы с дюжину.
Я вошел последним, Хэм, Лестер и Берти шли впереди меня. Добрая Цшендерляйн, несчастная жертва кортизона, еще во время моей ссоры с главным редактором приготовила для меня крепчайший черный кофе, и прежде чем идти наверх, я заставил себя проглотить две чашки, хотя он был обжигающе горячим и в него было добавлено много лимонного сока. Вкус был отвратительным, но подействовало чудесно. Фирменная панацея Цшендерляйн. Она готовила его очень часто, почти ежедневно для кого-нибудь, хотя в десять часов утра довольно редко. После второй чашки меня вырвало в душевой, и потом я выпил еще одну чашку кофе с лимоном на раздраженный, теперь пустой желудок. Нельзя сказать, что я протрезвел, до этого было далеко, но и пьяным я уже не был. Цшендерляйн пообещала послать мне этого кофе в кабинет начальства, чтобы я мог выпить еще.
«Господь Всемогущий дал мне мои деньги» — девиз моего издателя Томаса Херфорда. В свое время Джон Дэвидсон Рокфеллер был самым богатым человеком в мире, мультимиллионером в долларах. Херфорд тоже был мультимиллионером, конечно, меньшим «мульти» и в немецких марках, но все-таки. И таким же набожным, как его титанический кумир. На старинной конторке лежала обтянутая свиной кожей и постоянно раскрытая Библия, мощный фолиант со страницами из пергамента и с красными, зелеными, синими и золотыми буквицами в тексте.
Кабинет Херфорда представлял собой огромное по размерам помещение. Шесть метров в высоту и площадью ровно сто двадцать квадратных метров. На полах повсюду ковры, некоторые из них громадные. Прямо-таки бесконечный стол для конференций и вдоль него множество жестких резных стульев с узкими резными спинками. Три уголка с креслами и низкими столиками. Напротив входа — античный письменный стол Херфорда, заваленный бумагами, книгами и журналами. Четыре телефона, из них один серебряный, а один, как говорили, из чистого золота. Серебряная переговорная установка для внутренней связи. Слева от письменного стола два телевизора: один настоящий, а второй — монитор, подключенный к компьютеру. Монитор был включен. Его экран был черным и мерцал. Как раз когда мы вошли, на экране появился длинный ряд цифр зеленоватым компьютерным шрифтом.
Резиденция Томаса Херфорда находилась на самом верхнем, двенадцатом, этаже, там же, где располагались его руководитель издательства и отдел исследований. Окна позади его письменного стола были трехстворчатыми и казались подражанием, только в гигантском масштабе, окнам в кабине самолета: одно — фронтальное с наклоном, два других под небольшим углом — тоже с наклоном и немного меньших размеров. Войдя в этот зал, каждый сначала чувствовал себя ослепленным огромным количеством света, направленного навстречу входящему. Пока я следом за остальными шел к письменному столу, за которым по силуэту узнал Херфорда, я увидел город в солнечном свете осеннего дня. В сотнях тысяч его окон отсвечивало солнце, и я даже рассмотрел долину Майна и Средние горы вдалеке. Кто попадал сюда в первый раз, невольно испытывал потрясение. Много лет назад я тоже был потрясен. Теперь же только подумал: «Хорошо бы Цшендерляйн поскорее прислала мне обещанный кофе».
Томас Херфорд встал. С уголка рядом с письменным столом поднялись двое мужчин. Я узнал похожего на черепаху доктора Ротауга и руководителя издательства Освальда Зеерозе.[78] А между ними сидела Грета Херфорд, супруга издателя, «мамочка», как он называл ее и как ее называли все в издательстве, очень важная персона, так как для Херфорда вкус жены был еще важнее, чем его собственный. Она присутствовала на всех важных совещаниях.
— А, вот и вы, господа, — прогудел Херфорд, шагая нам навстречу. — Сожалею, что пришлось оторвать вас от работы, но Херфорд должен сообщить вам нечто значительное. — Он по очереди пожал нам руки. Я был последним на очереди и успел еще раз глянуть на экран монитора. Там появилось следующее сообщение зеленоватыми светящимися буквами:
ПРОВИНЦИАЛЬНЫЙ ЮЖНОНЕМЕЦКИЙ ГОРОД, КАТЕГОРИЯ ОПРОШЕННЫХ — КАТОЛИКИ, ВОЗРАСТНАЯ ГРУППА — 35–40 ЛЕТ, СЕМЕЙНЫЕ, СОБСТВЕННЫЙ ДОМ, ДЕТЕЙ — 1–2, ДОХОД — ОКОЛО 1850 МАРОК, ЧИНОВНИКИ И СЛУЖАЩИЕ, ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ НЕТ, ВСЕ СО СРЕДНИМ, ВЫСШИМ ИЛИ СРЕДНИМ СПЕЦИАЛЬНЫМ ОБРАЗОВАНИЕМ… ПРЕДСТАВЛЕНО: 72,7 % — БЛОНДИНЫ, 15,5 % — БРЮНЕТЫ, 3,8 % — РЫЖИЕ, НЕ ОПРЕДЕЛЕНО — 8,0 %… КАТЕГОРИЯ ОПРОШЕННЫХ — ЖЕНЩИНЫ…
— Что с вами, Роланд? — прогромыхал голос Херфорда. Я оторвал взгляд от экрана, я чуть не заснул стоя. Что, протрезвел? Раз больше не хихикаю. Издатель протянул мне руку и снисходительно засмеялся. — Опять приняли с утра? — Он больно сжал мою руку своей волосатой лапой. — Сознавайтесь, Роланд, я вам за это голову не оторву, мой мальчик! Опрокинули стаканчик, пока ждали!
— Господин Херфорд, я…
— На той стороне в «Деликатесах Книфалля». Как обычно.
— Да я… Как вы узнали…
— Херфорд все знает. Везде свои люди. Ха-ха-ха. И только что устроили жуткий скандал у Лестера. Херфорд знает, Херфорд знает все. Шпионы ему донесли. Ха-ха-ха. — Ко всем людям он обращался только по фамилии, за исключением закадычных друзей, и любил говорить о себе в третьем лице. Лестер смущенно кашлянул. После дебоша на восьмом этаже он не сказал мне ни слова. — Но на этом скандалу конец, понятно? Нам нужно кое-что обсудить. Херфорду нужны его мальчики. Все! И чтобы между собой не враждовали! Так что подайте друг другу руки и скажите, что не держите зла!
— Что значит — не держим зла? Господин Херфорд, эта пьянь так нагло на меня набросился, что я должен потребовать… — начал было Лестер, но Херфорд резко его прервал:
— Спокойно, Лестер. И еще спокойнее. Тут есть доля и вашей вины. Я вас знаю. Хороший человек. Отличный человек. Только не умеете обращаться с подчиненными. Никакого такта. Вечно разыгрываете из себя начальника. С художником так обращаться нельзя. — Он сказал это без всякой иронии. — Роланд мой лучший автор. Нервный, чувствительный человек. Поэтому он и пьет. Ну и пусть. Пока он так пишет! Он же феномен, этот Роланд!
Лестер показал себя трусливой свиньей. После того, что Херфорд только что сказал обо мне, он счел за лучшее подавить свою злобу. Я взглянул на него. Лицо у него было серое. Я понял, что сейчас-то он промолчит, но потом отомстит, о да, непременно.
А я?
Я ни на грамм не лучше этого Лестера! Такая же трусливая свинья. Я ведь действительно собирался бросить все к чертовой матери и уйти из «Блица» или добиться того, чтобы меня выгнали. Я на это рассчитывал! Я хотел покончить со всем, обязательно покончить. Если бы я это только сделал — я бы от многого избавился. Но у меня не было характера, по крайней мере, в последние несколько лет, и завод у меня тоже кончился, по крайней мере, после того, как Цшендерляйн напоила меня своим кофе и я уже не был таким пьяным. На этом мое бунтарство и кончилось! Теперь я уже не хотел оказаться в подвешенном состоянии, я думал о своем благосостоянии, о машине, о пентхаусе. Видите, я не пытаюсь врать и выкручиваться. Говорю, как было. Думайте обо мне, что хотите. Все будет правильно!
— Ну, подадите вы, наконец, друг другу руки или нет? — неожиданно проревел Херфорд.
Лестер торопливо протянул мне руку. Я ее пожал. Его рука была словно резиновая.
— Я не держу на вас зла, господин Лестер, — сказал я при этом. Так и сказал.
— Я тоже не держу на вас зла, — проговорил Лестер. Эти слова чуть не стоили ему жизни. Он на каждом задыхался. Хэм у него за спиной улыбнулся мне. И Берти тоже улыбнулся. На нем все еще был помятый дорожный костюм, но он побрился и наложил на лоб свежую повязку. Я отметил, что Хэм надел пиджак и галстук, а трубку оставил внизу. И он, и Берти мне улыбались, но у меня в голове вертелась только одна мысль: Лестер еще отомстит, обязательно отомстит. Его месть так же неизбежна, как аминь в конце молитвы. И я знал, что Лестер думал о том же самом…
— Вот теперь порядок! — прогудел Херфорд. Он жестом указал на обоих мужчин и свою жену. — Господа знакомы между собой, Херфорду никого не нужно представлять.
Мы раскланялись. Лестер быстро подошел к госпоже Херфорд и поцеловал ей руку. Косметика на лице у Мамочки была блеклая (выглядела она как труп), и одета была так же ужасно, как всегда. Поверх белого шерстяного платья — вязаный палантин песочного цвета, а к этому серые шелковые чулки и закрытые массивные туфли без каблука, на толстой подошве. На спинке ее кресла лежала немыслимо дорогая темно-коричневая норковая шуба. Ее седеющие волосы были покрашены в яркий фиолетовый цвет. На волосах красовалась коричневая охотничья шляпка с длинным изогнутым фазаньим пером. У Мамочки было приветливое лицо и добрые глупые коровьи глаза.
— Может быть, кофе для нашего звездного автора? — предложил доктор Ротауг. На нем, как обычно, был черный костюм, серебристый галстук, белая рубашка с жестким воротничком, и он смотрел на меня круглыми как пуговицы глазами без всякого выражения.
— Уже несут, — сказал Лестер с неприязнью в голосе. — Специально несут вслед за господином Роландом. Чтобы он не давал нам расслабиться.
— Мой бедный юный друг, — произнес шеф юридического отдела, когда-то сказавший Херфорду: «Попомните мои слова: когда-нибудь из-за этого роскошного парня мы получим крупнейший скандал в истории нашего издательства». Мне снова вспомнилась эта фраза, которую мне передали, когда я увидел Ротауга прямо перед собой, с лысиной во всю голову, всю в пигментных пятнах, и с прекрасной жемчужиной на серебристом галстуке.
Освальд Зеерозе, руководитель издательства, приветливо заговорил:
— Ну и ворчун, а? Знаю-знаю. А вот позавчера я был на одном званом ужине, ну, ребята, могу вам доложить! Пил все вперемешку!
— Ой, этого никогда нельзя делать, — сказала Мамочка. С ее гессенским акцентом, и всем своим видом она вполне бы сошла за мамочку из любой телевизионной семьи. Но уж никак не за супругу крупного издателя.
— Никогда в жизни больше не буду, милостивая госпожа, — ответил Зеерозе. В элегантном сером костюме, высокий и стройный, он выглядел как британский аристократ. Он, несомненно, был самой симпатичной личностью во всей нашей фирме.
— Прежде чем начать — заведующий художественным отделом Циллер, к сожалению, еще в самолете, на обратном пути из Штатов, поэтому Херфорд не мог пригласить сюда и его, — прежде чем начать, позвольте мне прочитать одно место из Книги книг, — начал Херфорд.
«Книга книг», — так и сказал.
Это тоже было давно известно. Здесь такой обычай. Не проходило ни одного совещания, ни одной конференции, чтобы в начале и по окончании не зачитывалось бы возвышенное слово из Книги книг. Мамочка поднялась, при этом ее охотничья шляпка слегка сползла, и молитвенно сложила руки, на которых не было никаких украшений. Так же сложили руки и все остальные, кроме меня, Хэма и Берти. Я стоял так, что мог видеть монитор. На нем мерцал компьютерный шрифт.
ИТОГОВЫЕ ДАННЫЕ ОПРОСА: 79,6 % ИЗ ОБЩЕГО КОЛИЧЕСТВА ВЫБОРОЧНО ОПРОШЕННЫХ ПРЕДПОЧИТАЮТ БЛОНДИНОК… 17,2 % — БРЮНЕТОК… 3,2 % — РЫЖИХ… АБСОЛЮТНО ОДНОЗНАЧНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ: ДЕВУШКИ НА ОБЛОЖКЕ ДОЛЖНЫ БЫТЬ БЛОНДИНКАМИ, ПОВТОРЯЮ — БЛОНДИНКАМИ…
Я слегка повернул голову и посмотрел на Херфорда, который подошел к конторке с Библией. Мамочка казалась ребенком рядом с издателем, крупным неуклюжим мужчиной. У него был квадратный череп с густыми вьющимися седыми волосами, мощная нижняя челюсть и кустистые черные брови. Насколько безвкусно одевалась его жена, настолько же почти с чрезмерным вкусом был одет он. Сегодня на нем был серебристо-серый костюм с легким блеском (от первого портного в городе), синяя рубашка с закругленными концами воротника, черный галстук и черные полуботинки. На галстуке сверкал платиновый зажим, на запястье — платиновые часы и на мизинце правой руки — кольцо с бриллиантом. Камень вспыхнул всеми цветами радуги, когда Херфорд слегка приподнял волосатые руки. С чувством он произнес: «Из первого послания Павла к коринфянам, тринадцатая глава, о цене любви…»
Пока он говорил, я смотрел на монитор, на зеленые буквы быстро бегущей строки.
ПРОГРАММА 24 А-Н: ГРУДЬ… ДАННЫЕ ОПРОСА… ИТОГ: ГРУДЬ ПОЛНОСТЬЮ ОБНАЖЕНА: ДА — 84,6 %… ГРУДЬ ОБНАЖЕНА НАСТОЛЬКО, ЧТО СОСКИ ОСТАЮТСЯ ЗАКРЫТЫМИ: ДА — 62,3 %… СОСКИ ГРУДИ ЗАКРЫТЫ ПЛАТЬЕМ: ДА 32 %… ЗАКРЫТЫ КУПАЛЬНИКОМ (ВЕРХНЯЯ ЧАСТЬ БИКИНИ): ДА — 69,5 %…
«Если я говорю языками человеческими и ангельскими, а любви не имею, то я — медь звенящая или кимвал звучащий…»
…ПРИЖАТЫМИ РУКАМИ: ДА — 68,3 %… ПРИКРЫТЫЕ РУКАМИ: ДА — 85,4 %… РАСТЕНИЯМИ (ЛИСТЬЯ, ЦВЕТЫ И Т.П.): ДА — 87,7 %… УТОЧНЯЮЩИЙ ВОПРОС А: СОСКИ ГРУДИ, ПРОСМАТРИВАЮЩИЕСЯ ПОД ПРИКРЫТИЕМ: ДА — 92,3 %…
«…если имею дар пророчества, и знаю все тайны, и имею всякое познание и всю веру, так что могу и горы переставлять…»
…УЗНАВАЕМЫЕ ПОД ТКАНЯМИ. НЕПРОЗРАЧНЫМИ: ДА — 52,3 %… ПОД ПРОЗРАЧНЫМИ ТКАНЯМИ: ДА — 68,5 %… СИЛЬНО ВЫДАЮЩИЕСЯ ПОД ПЛОТНОЙ ТКАНЬЮ: ДА — 71,5 %… ВЫДАЮЩИЕСЯ ПОД МОКРОЙ МУЖСКОЙ РУБАШКОЙ: ДА — 93,7 %… УТОЧНЯЮЩИЙ ВОПРОС Б: ФОРМА СОСКОВ… ОСТРЫЕ И МАЛЕНЬКИЕ С МАЛЕНЬКИМ ОБОДКОМ: ДА — 42,4 %… ОСТРЫЕ С БОЛЬШИМ ОБОДКОМ: ДА — 58,4 %… БОЛЬШИЕ И ПЛОТНЫЕ С МАЛЕНЬКИМ ОБОДКОМ: ДА — 67,1 %…
«…а не имею любви, — взволнованно произносил Томас Херфорд, — то я ничто. И если я раздам все имение мое…»
…БОЛЬШИЕ С БОЛЬШИМ ОБОДКОМ: ДА — 89,9 %… УТОЧНЯЮЩИЙ ВОПРОС В: ЦВЕТ СОСКОВ… РОЗОВЫЕ: ДА 49,3 %… СВЕТЛО-КОРИЧНЕВЫЕ: ДА — 55,6 %… ТЕМНО-КОРИЧНЕВЫЕ: ДА — 91,3 %… С ВОЛОСКАМИ: ДА — 11,3 %…
«…и отдам тело мое на сожжение, а любви не имею, — нет мне в том никакой пользы. Любовь долготерпит, милосердствует…»
…УТОЧНЯЮЩИЙ ВОПРОС Г: ФОРМА ГРУДИ… ДЕВИЧЬЯ, НЕЖНАЯ: ДА — 45,6 %… ЖЕНСТВЕННАЯ, ЗРЕЛАЯ И ТУГАЯ: ДА — 60,3 %… ПЛОТНАЯ ОЧЕНЬ БОЛЬШОГО РАЗМЕРА: ДА — 95,4 %…
«…любовь не завидует, любовь не превозносится, не гордится, не бесчинствует…»
…ГРУШЕВИДНОЙ ФОРМЫ: ДА — 39,6 %…
«…не ищет своего…»
…В ФОРМЕ БУТОНА: ДА — 9,1 %…
«…не раздражается, не мыслит зла…»
…В ФОРМЕ ЯБЛОКА: ДА — 93,4 %…
«…не радуется неправде…»
…УТОЧНЯЮЩИЙ ВОПРОС Е: ЦВЕТ ГРУДИ… РУМЯНЫЙ: ДА — 87,7 %… ЗАГОРЕЛЫЙ: ДА — 67,8 %…
— «…а сорадуется истине, аминь», — произнес Херфорд.
— Аминь, — сказали Мамочка, Зеерозе и Ротауг.
Один из телефонов зазвонил.
— Чертовы придурки! — в ярости заорал издатель. — Они же точно знают, что сейчас Херфорда беспокоить нельзя!
Телефон продолжал звонить.
Издатель быстрым шагом подошел к письменному столу и поднял одну из многочисленных трубок — и не ошибся, он знал, какой телефон звонит.
— Что случилось? — рявкнул он. — Я же ясно… Что?.. Так, понятно… Внутренняя связь, хорошо… — Он положил трубку и нажал клавишу серебряной установки внутренней связи. — Херфорд! — Он отпустил клавишу.
Из динамика зазвучал подобострастный голос:
— Мне страшно жаль, если я тебе помешал, Томми, но это действительно важно…
— Что за срочность, Харальд? — спросил Херфорд, наклонясь над аппаратом, и снова нажал клавишу. В дальнейшем он много раз нажимал и опять отпускал клавишу. Харальд — это Харальд Фиброк, начальник отдела кадров, тоже важная птица на нашей фирме.
Мы все молча выслушали следующий диалог.
— Ах, вокруг меня одни идиоты, Томми! Мы же договорились, что увольняем Клефельда, разве нет?
— Ну и что? Все согласовано. В конце февраля молодой Хеллеринг может занять эту должность.
Молодой Хеллеринг, насколько я знал, был не таким уже молодым сыном нашего важнейшего оптовика, которому Херфорд был обязан и, видно, хотел оказать любезность. Упомянутый Клефельд, старый служащий, работал в отделе реализации, группа «Оптовики». Фридрих Клефельд на фирме уже двадцать лет, почти с основания «Блица». Я внимательно слушал. Наверняка они опять затеяли какое-то свинство!
— К сожалению, с молодым Хеллерингом не получится, Томми.
— Что значит, не получится? Должно получиться! Слушай, отец каждый день наседает на Херфорда. Херфорд обещал!
— Да, знаю. Поэтому еще несколько дней назад прямо поговорил с Лангом и Кальтером. Сказал им: Клефельда увольняем. Так что он должен был получить синий конверт вовремя.
— Просто и ясно.
— Да, и я так думал. Но знаешь, что случилось?
— Что? Не тяни, Харальд, у Херфорда гости.
— Ланг и Кальтер, эти козлы, забыли, когда нужно увольнять.
«Если я говорю языками человеческими и ангельскими, а любви не имею…» — думал я, глядя, как лицо Херфорда все больше багровело от гнева и как он прорычал в аппарат:
— Забыли когда? Ты хочешь сказать, что они не уволили Клефельда вовремя?
— Именно так. Я вне себя. Сегодня утром…
— Эти негодяи! Эти задницы! Эти…
— Херфорд, прошу тебя, Херфорд! — подала голос Мамочка.
«…то я — медь звенящая или кимвал звучащий…»
— Именно так, Херфорд! Эти сукины дети! Сегодня утром приходят ко мне с поджатыми хвостами и говорят, что им страшно жаль, но они забыли.
— Страшно жаль! Сучье отродье! Какое свинство! У Клефельда год на увольнение, — продолжал бесноваться Херфорд. — Мы бы ему все компенсировали, если уйдет сразу! И место для молодого Хеллеринга было бы свободно! И нам нечего было бы бояться суда по трудовым конфликтам! У Клефельда же больная жена! Он постоянно опаздывал! Не выполнял свои обязанности с прежней добросовестностью! Однозначное нарушение договора! А если бы он обратился в суд, мы бы выиграли! Верно?
«…если имею дар пророчества, и знаю все тайны, и имею всякое познание и всю веру…»
— Верно, Томми. Все правильно. А если бы даже и проиграли, потому что он ведь очень давно на фирме и практически не подлежит увольнению, мы бы с ним поторговались и что-нибудь выплатили. Ведь такой процесс требует времени, а мы бы его еще затянули. Он бы его не выдержал, уже по финансовым соображениям!
— Вот именно! Его старуха! Больница! Чего он вообще хочет? Мы еще с ним по-человечески! Так он получает зарплату за целый год, если уходит! Он бы с радостью получил расчет за целый год, этот Клефельд! У его старухи лейкемия, так что деньги нужны!
— Одна только консервированная кровь чего стоит! Ваша касса ее больше не оплачивает!
— Вот видите! И мы бы его очень удачно сплавили. Да к тому же этот дристун уже старик, шестьдесят три, кажется?
— Шестьдесят один.
— Шестьдесят один, ладно. Вот дерьмо, давно надо было его уволить!
«…так что могу и горы переставлять…»
— Если мы сейчас объявим ему об увольнении и придется ждать следующего срока, то его старуха уже помрет и что ему тогда проку в деньгах, он еще захочет отработать весь положенный год!
— Ну что за чертовщина! Надо что-нибудь придумать!
— Херфорд, в самом деле…
— Извини, Мамочка, но я не могу быть спокойным! Эти засранцы… Что тут можно еще сделать, Харальд? Херфорд должен оказать Хеллерингу эту любезность с его сыном! Ты же знаешь, что у старого Хеллеринга вся Верхняя Бавария.
— Знаю, знаю. Но тут ты ничего не сможешь сделать. Дальше еще хуже.
— Еще хуже? Что там еще?
— Шеф группы сбыта «Оптовики» ничего не знал об увольнении. Мы же хотели держать все в тайне, верно? Так вот, они вчера устроили для этого Клефельда праздник, собрали деньги, купили подарки, цветы, шнапс… настоящий маленький праздник, и напечатали ему грамоту…
— Вот дерьмо поганое!
…ГРУДЬ ПОЛНОСТЬЮ ОБНАЖЕНА: ДА — 84,6 %…
— …а в грамоте написано, что издательство благодарит его за двадцать лет самоотверженной деятельности и что ты надеешься еще на много лет плодотворного сотрудничества!
— Я-а-а?!
«…а не имею любви — то я ничто…»
— Да, к сожалению, Томми. Они перенесли твое факсимиле на грамоту по новому методу. Выглядит точно как твоя настоящая подпись. Теперь уволить Клефельда никто не сможет! Если он с этой грамотой пойдет в суд по трудовым конфликтам…
— Прекрати! Мне уже плохо! Какие кретины! Все нужно делать самому! Слушай внимательно, Харальд: проследи, чтобы Ланг и Кальтер были уволены прямо сегодня…
— Хорошо, Томми. Я и сам хотел.
— …а потом просмотри личные дела. Кого в отделе реализации мы можем уволить в ближайшее время. Конечно, не какого-нибудь нужного человека. Но молодой Хеллеринг должен попасть в отдел сбыта! У отца вся Верхняя Бавария, слышишь! А Херфорд скажет отцу, что это только, чтобы войти в курс дела, а потом он получит должность Клефельда…
…СОСКИ ГРУДИ, ВЫДАЮЩИЕСЯ ПОД МОКРОЙ СВОБОДНОЙ МУЖСКОЙ РУБАШКОЙ: ДА — 93,7 %…
— Сделаю, Томми.
— И ты лично отвечаешь мне за то, чтобы Клефельд в следующий раз вовремя получил извещение об увольнении!
— Понятно, Томми, понятно. Можешь на меня положиться. Будем молить Бога, чтобы его старуха до того времени не померла и ему срочно были нужны деньги!
«…и если я раздам все имение мое…»
— При лейкемии это иногда длится долго.
— Тьфу, тьфу, тьфу!
«…и отдам тело мое на сожжение, а любви не имею…»
— Немедленно просмотри личные дела, чтобы я принял молодого Хелленринга хотя бы временно…
— Сейчас. Я перезвоню. Пока, Томми.
— Пока, Харальд.
…БОЛЬШИЕ С БОЛЬШИМ ОРЕОЛОМ: ДА — 89,9 %…
Херфорд выключил аппарат, выпрямился и сказал:
— Еще язву желудка заработаю в этой конторе, проклятие! Какое вонючее свинство! Ну, эти двое у меня немедленно вылетят! — Он поправил жилетку, и через несколько мгновений на его все еще искаженном от ярости лице снова появилась отеческая улыбка. — Так, с этим покончено. И без того забот полон рот, так нет, обязательно сваливается еще что-нибудь эдакое! А потом люди думают, что Херфорд зарабатывает деньги во сне.
— Зависть, — с готовностью подбросил Лестер.
— Да, зависть, — согласилась Мамочка. — Ужасная это вещь, зависть, правда? А сколько пришлось господину Херфорду повкалывать, чтобы создать все это. — Я глянул на Хэма, но тот из предосторожности смотрел в окно. «А сколько пришлось господину Херфорду повкалывать». Бедный господин Херфорд! — Прими пилюли, ты опять так перенервничал, — сказала Мамочка. Херфорд выловил маленькую золотую коробочку из кармана жилетки, раскрыл ее, и я увидел там множество разноцветных пилюль. Херфорд был знаменитым пожирателем пилюль. Он глотал их горстями. Говорили, что у себя на вилле в Грисхайме он держит целый шкаф, полный медикаментов. А сейчас он принял две синих пилюли и запил их несколькими глотками воды, налив ее из графина в стакан.
— Если бы Херфорд так не любил свою профессию, он бы давно уже все бросил, — сказал Херфорд.
Свою профессию и свои миллионы. Может быть, больная лейкемией госпожа Клефельд протянет подольше, чтобы можно было хотя бы в 1969 году заставить господина Клефельда немедленно уволиться с порядочной компенсацией…
— Итак, господа!
Херфорд снова подошел к конторке с Библией и снова с головы до ног являл собой образ человека чести. (Голые девушки на обложках должны быть только блондинками! Как выяснилось, брюнеток немецкие читатели не хотят.) Теперь я смотрел на него внимательно, мне было искренне интересно, что он хотел нам так срочно сообщить. Мы сидели в глубоких креслах, и я думал, что Мамочка рассматривала своего мужа как светлый образ святого. Они были созданы друг для друга. До войны, когда Херфорд еще работал в рекламном отделе другого иллюстрированного издания, Мамочка была его секретаршей.
— Господа… — Херфорд осекся. — Что там еще? — Предварительно постучавшись, в кабинет вошла не первой молодости и ни в коей мере не симпатичная секретарша с самой заурядной внешностью (секретарш на двенадцатый этаж подбирала Мамочка). Она принесла мне кофе. — Ах, так, — произнес Херфорд с терпеливой улыбкой акулы, — для нашего сочинителя. Конечно, госпожа Шмайдле,[79] поставьте господину Роланду.
Шмайдле налила мне полную чашку кофе из большого кофейника, а я добавил из графина огромную дозу лимонного сока. Я все еще был довольно пьян. А пришла пора протрезветь.
— Прошу прощения, что помешала, — проговорила Шмайдле и выскользнула за дверь, стареющая серая мышка.
— Ничего, ничего, приветливо отозвался Херфорд. — Ну, пейте же, Роланд. Очень скоро вы нам понадобитесь, — сказал он, обращаясь ко мне. Я кивнул.
— Херфорд пригласил вас, — начал издатель, заложив большой палец в карман жилетки, где находилась коробочка с пилюлями, — чтобы обсудить с вами принципиальный вопрос. Мы с Мамочкой размышляли об этом несколько недель.
— День и ночь, — вставила Мамочка.
— И мы считаем, что просто обязаны это сделать, — продолжал Херфорд.
— Что сделать? — тихо спросил Ротауг, юрист-черепаха. Он всегда говорил очень тихо, никогда не волнуясь и не повышая голоса.
— У нас в стране демократическая пресса, — говорил Херфорд, вдохновляясь собственными словами. — И Херфорд может с гордостью сказать, что «Блиц» всегда находился в самых первых рядах демократических изданий. Ну, а журнал с таким тиражом, как у нас, несет особую ответственность, не так ли?
— Иногда мне кажется, что господин Херфорд не выдержит груза, который лежит у него на плечах, — сказала мне Мамочка. Я кивнул ей с серьезным видом.
— «Блиц» всегда сознавал свою ответственность, — говорил Херфорд. — Херфорд напоминает вам о временах при Аденауэре, когда стала возрастать опасность коммунистического влияния в профсоюзах и в СПГ. — «Никогда она не возрастала», — подумал я. — В то время нашей естественной обязанностью было препятствовать экстремистским устремлениям и ложным направлениям, и поэтому мы твердо придерживались праволиберального курса.
«До сегодняшнего дня у нас никогда и не было никакого другого курса, кроме праволиберального», — подумал я и посмотрел на Хэма, по-прежнему смотревшего в окно.
— Ну, а при теперешнем коалиционном правительстве все сильнее проявляются праворадикальные тенденции. Именно поэтому — мы с Мамочкой уже коротко изложили эти идеи господину Штальхуту и попросили его провести широкое изучение общественного мнения и подготовить его анализы. («Ну, вот, — подумал я, — ну, вот!») — Поэтому именно теперь нашей задачей является как можно быстрее устранить, с помощью того мощного инструмента, который находится в наших руках, эти пугающие проявления — вспомните хотя бы о росте НДПГ — и вернуть народ на правильный путь.
— Господин Херфорд всегда думает о народе, — сказала Мамочка. — И я тоже.
— И мы все тоже, милостивая госпожа, — добавил руководитель издательства Освальд Зеерозе.
— Глас народа — глас Божий, — сказал, ни к кому не обращаясь, доктор Ротауг. Уж не знаю, думал ли он о том, какого рода анализ мог провести Штальхут, но произнес он это с непроницаемым лицом, ни один мускул не дрогнул. Когда он говорил, даже рот у него не двигался, он его почти не раскрывал.
— В авторитарных государствах пресса вынуждена представлять одно-единственное мнение, — продолжал Херфорд. — В демократических государствах она должна его контролировать. — Он положил руку на Библию. — Это наш священный долг. (Так и сказал — «священный»!) Чтобы контролировать это мнение общественности и направлять его на правильный путь, мы приняли решение какое-то время вести «Блиц» леволиберальным курсом. Ради свободы нашего народа! Ради его блага! — Мне стало немного не по себе, где-то, крадучись, бродил «шакал». Я продолжал отчаянно пить кофе с лимоном. С каким удовольствием я выпил бы глоток «Чивас». Боже Всемогущий!
Так значит, Херфорд и Мамочка обнаружили в себе любовь к левым! «Господь Всемогущий дал мне мои деньги». Херфорд и левые. Дьявол и Господь Бог. Вода и огонь. Нюхом охотничьих собак Херфорд и Мамочка уловили, что Большая Коалиция ХДС/ХСС и СДПГ продержится самое большее до ближайших выборов в следующем году, что в ХДС/ХСС появились симптомы усталости, что СДПГ все больше активизируется, что она, по всем предположениям, готова сформировать совместно с ФДП новое правительство на основе Малой Коалиции. И сейчас можно было, отбросив условности, хотя что значит — можно было, сейчас единственно правильным решением было попытаться первыми добраться до большой кормушки и жрать, сколько влезет!
— В свое время наша перемена курса на праволиберальный была превратно истолкована, — все еще держа руку на Библии, продолжал Херфорд, — и наши враги тут же начали тыкать нам в нос, что с помощью этих маневров мы пытаемся повысить тираж.
— Если теперь, с переходом на левый курс, тираж опять увеличится, нас снова будут упрекать, — грустно сказала Мамочка.
— Такие вещи, к сожалению, неизбежны, милостивая госпожа, — изрек доктор Ротауг с лицом игрока в покер. — Не принимайте это близко к сердцу.
— Господин Херфорд, конечно, выше этого, — ответила Мамочка. Ее темно-коричневая норка сползла на пол. Лестер рванулся с кресла и благоговейно поднял ее.
— Благодарю вас, дорогой господин Лестер. Праведнику приходится много страдать, — проговорила Мамочка.
— Справедливые слова, — поддержал директор издательства Зеерозе. — Но пока он верит, что делает правое дело, это не должно его беспокоить.
«Похоже, у нас падает тираж, — подумал я и не сомневался, что Берти, не промолвивший до сих пор ни слова, и Хэм думали так же. — Или, по крайней мере, наметилась тенденция к падению. Смена караула в Бонне, кажется, запаздывает. Было бы нелепо считать Херфорда и Мамочку глупыми. У них инстинкт крыс, всегда знающих, что будет с кораблем. Придет время, и они снова на него вернутся — и притом, благодаря своему тонкому нюху, раньше всех остальных!»
— Добрые намерения, — говорил далее Херфорд, — далеко не всегда связаны с последующим признанием заслуг. До сих пор у они у нас всегда были. Херфорд, конечно, не знает, что будет, когда по велению совести мы сделаем поворот влево. Но даже если они и принесут нам такое признание, это будет только лишний раз свидетельствовать о правильности и порядочности наших намерений.
Мне вдруг вспомнилось одно высказывание Хэма: «То, на чем в последнее время терпели неудачу все идеологи, это вовсе не злобность человеческая, а человеческая narrow-mindedness,[80] — то, что человек, к несчастью, способен мыслить только мелкими, примитивными и ограниченными понятиями.»
20
«Никто, — говорил мне тогда Хэм, — никакое мировоззрение или движение не может позволить себе открыто и прямо пропагандировать абсолютное зло. Потому что большинство людей в основе своей не злые! Они глупые, эгоистичные, беспардонные. Но не злые. Поэтому невозможно было бы привлечь на свою сторону большие массы людей с помощью программы, откровенно провозглашающей зло. По этой причине всем „измам“ и идеологиям, какие только были на свете, как и нынешним католической церкви или коммунизму, приходилось сначала обращаться к людям с благостными и достойными лозунгами».
Этот разговор происходил в его просторной квартире, в которой он жил один, вдовцом. Квартира находилась в старом доме на Фюрстенбергер-штрассе возле Грюнебург-парка. И из окна были видны прекрасные деревья и широкие лужайки, и поднявшиеся там высотные дома.
Эта квартира была слишком большой для Хэма, он пользовался не всеми комнатами. Здесь он жил еще со своим отцом до его смерти тридцать лет назад. Хэм собирал старые партитуры, у него была большая библиотека биографий музыкантов, произведений по истории музыки и критики всех значительных музыкальных сочинений. Он был обладателем самой крупной из известных мне коллекции грампластинок и сложной стереоустановки. У него сохранилась виолончель, и иногда, когда я бывал у него, он играл что-нибудь для меня. Из современных композиторов он предпочитал швейцарца Отмара Шёка.[81] Его он любил больше всего, принадлежал, конечно, к числу членов Общества Отмара Шёка и имел в коллекции все пластинки с записями его музыки.
В тот день, когда он говорил со мной о злобности человеческой натуры и о малоформатности человеческого мышления, из стереодинамиков в его музыкальной комнате звучал концерт ре-мажор для скрипки с оркестром («Quasi una fantasia»), написанный в 1911–1912 годах. Это не был концерт в обычном смысле слова, а, скорее, монолог скрипки в сопровождении оркестра, в котором доминировали рожок, кларнет и гобой.
Музыка разливалась по прекрасным комнатам с мебелью в стиле ампир. Я сидел напротив Хэма, курившего трубку, и слушал музыку его любимого композитора и его самого.
Зазвучала первая часть.
Романтика в стиле Айхендорффа.[82] Началось вступление. Как будто из чудных лесов, раздались призывные звуки рожка. Струнный аккорд соль-диез мажор прозвучал так, словно взошла луна. И вот запела скрипка, мечтательная скрипка! Она поднялась над всеми другими инструментами, плача и скорбя вслед ушедшей любви, заколдованной, растаявшей, прошедшей, давно забытой…
Хэм сказал:
— Знаешь, старик, я все лучше понимаю, что некоторые люди используют красивые, правильные и благородные понятия только для того, чтобы отстаивать собственные интересы. Непостижимо, почему этого почти никто не видит. Правильные лозунги служат этим людям, но сами эти люди никогда не служат своим лозунгам! А ведь они должны были бы жить в соответствии с собственными принципами — синтонически, как говорят в психиатрии, но они этого никогда не делают. Они используют свои мнимые принципы агрессивно, для захвата власти, а не по какой другой причине…
Скрипка пела. Аллегро попыталось резко ее прервать, но было вытеснено звуками рожка. Рожок разделял со скрипкой ее печаль. Вдруг бурно вскипела интермедия высоких и низких струнных инструментов. И вот снова скрипка осталась одна со своей любовью, с воспоминаниями, с тоской.
— Все всегда зависит только от мотива, которым руководствуются при использовании лозунгов или принципов. А мотивы, Господи помоги нам и нашему миру, во все времена были и остаются дурными. Лозунги никогда не были, да и не могли быть такими! В противном случае разве они смогли бы овладевать массами, увлекать, поднимать и заставлять служить им и жертвовать собой? Видишь, Вальтер, это величайший обман, которому когда-либо подвергались люди — во все времена, при всех режимах: я имею в виду, что людей заманивали понятиями, словами и мечтами, которые изначально были, не могли не быть совершенно правильными и хорошими, — если только забыть об их продажных, преступных авторах и инициаторах.
Дикие страсти первой части успокоились, зазвучала реприза, осторожно, мягко, сдержанно. Я смотрел в окно. Стоял сентябрь, деревья и кусты полыхали красным и золотым, желтым и коричневым, каким-то уже совершенно неземным блеском, перед тем как опасть и умереть.
— Всё здесь извращено, — слушал я голос Хэма, — и все избегают говорить об этом, но я скажу: кто-то должен быть честным, верным, мужественным, спортивным, закаленным и здоровым, против этого действительно нечего возразить, ей-богу нечего. Люди, которые это провозгласили, и сами хотели быть такими, но уничтожили шесть миллионов евреев, выламывали им зубы, делали из их кожи абажуры, они виновны в развязывании величайшей войны всех времен, в неописуемых бедствиях и страданиях. Это особенно ясно показывает, каким лживым был образ их мыслей, каким в глубочайшей степени дьявольским и злым. Но по этой причине нельзя заодно с ними и все перечисленные мной качества назвать дьявольскими и злыми! Не станешь же ты утверждать, что отвага и верность, смелость, честность, искренность и готовность к самопожертвованию — это плохие качества! Это хорошие качества!
— Не исключая нацистов?! — воскликнул я. — Но ведь нацисты были настоящими преступниками, Хэм! Не можете же вы…
— Спокойнее старина, — сказал он, — спокойнее. Разумеется, они были преступниками. Величайшими. Но даже в их программу, в их идеологию было встроено благое, им пришлось его встроить. Не могли же они прямо заявить: мы хотим войны! Мы хотим искоренить евреев и еще столько-то народов. Это бы попросту не прошло. Не сработало бы.
— Но в их партийной программе уже говорилось о жизненном пространстве и расовой чистоте, и уже тогда они были ярыми антисемитами!
— Знаю, какая безумная это была программа. Но и время было такое, старик! Я только хочу тебе доказать, что даже величайшие преступники не отваживались обращаться к народу без пропаганды хороших, достойных целей… «Свобода и хлеб»… «Работа для всех»… «Чистота и порядок»…
— А еврейский вопрос?
— Тут было особо дьявольски продумано, — ответил Хэм. — К этому я еще вернусь, позже. Нацисты хотели обратиться к немецкому народу и просто обозначили евреев как не-немцев. Сразу же вслед за этим верные, честные и храбрые жрецы бога Солнца начали насиловать и расчленять еврейских девушек! Досточтимые священники на каком-то церковном соборе выдумали не знаю сколько сотен видов разврата, чтобы потом часами на исповеди девушек распалять свое сладострастие и в конце концов соблазнять несчастных… Но это не повод отвергать понятия морали как таковые! Это величайшая путаница, которая постоянно происходит в наше время. Теперь тебе это понятно?
— Да, Хэм, — ответил я.
Начало Grave из второй части безнадежно и мрачно. Орган. Потом деревянные духовые. Они пытаются вступить в борьбу с мраком. И снова соло скрипки, и оно взаправду звучит так, словно инструмент оплакивает любовь, которой больше нет. А разноцветные листья в парке Грюнебург вспыхивают дивными красками в лучах осеннего солнца…
Хэм продолжал:
— Как и все остальное, ты можешь извратить принцип свободы! Так происходило во всех идеологиях с древних времен и происходит сегодня — на Востоке и на Западе! Нацисты то хорошее, что сами проповедовали, претворили в полную противоположность! Они заставили свою такую чистую, сильную и храбрую молодежь миллионами бессмысленно умирать на полях сражений, чтобы эта свинья Геринг мог собирать свою коллекцию и колоть себе морфий, Геббельс — спать со всеми киноартистками, а Гитлер, этот законченный психопат, — перейти из мелкобуржуазной формы существования в божественную! А посмотри на коммунизм! Я подписался бы его под лозунгами на сто процентов! Стоит ли что ближе к религии, чем коммунизм? Свобода! Равенство! Братство! Отказ от любой не самим лично заработанной собственности! Что может быть прекрасней? И где те двадцать пять миллионов, что погибли во время сталинских чисток? Или вот, назови мне заповедь прекраснее, чем «Возлюби ближнего своего, как себя самого»! И какое угнетение, какой ужас, смерть скольких миллионов людей принесли крестовые походы и инквизиция? Какую огромную вину взвалила на себя церковь? И все это во имя Креста, во имя Бога!
— А как насчет остальных? Насчет демократий? — спросил я.
— Демократия — это не идеология, — ответил Хэм. — Но моя теория подходит и здесь. С одной маленькой оговоркой: если демократия очень старая и прочная, как в Англии, тогда даже самым коррумпированным ее нелегко разрушить. Но все-таки удается. Просто труднее — вот и вся разница. А возьми, например, американскую Декларацию независимости! — Он процитировал: «Следующие истины мы признаем как сами собой разумеющиеся: что все люди созданы равными; что они получили от Творца определенные неотъемлемые права; что к ним относятся жизнь, свобода и стремление к счастью…»! Чудесно, правда? Великолепно, да? Все люди созданы равными! А что происходит в США с черными? В каких масштабах коррупция, насилие и преступность уже погребли эту демократию? Право на счастье! И кого беспокоят миллионы нищих? Несколько сотен семей в Америке владеют тремя четвертями всего богатства нашей планеты! Право на жизнь! А когда ты идешь через Центральный парк, даже днем, должен учитывать возможность быть убитым. Нигде на свете нет такой преступности! Что случилось с убийцей Кеннеди? Что случилось с убийцей Мартина Лютера Кинга? Родились свободными и независимыми! А что происходит во Вьетнаме? Кто убивает вьетконговцев, как скот, в этой, даже не объявленной войне, потому что рассматривает врага только как скот, как паразита, которого нужно искоренить и уничтожить, так же как нацисты искореняли и уничтожали «недочеловеков»… Это то же самое, это всегда и везде, в любое время и в любом месте то же самое.
Вторая часть. В ней зазвучали страх, отчаяние, напрасные усилия. И снова вернулась основная тема — все еще полная надежды, в противоположность печали и плачу вступления. Вот! Жизнерадостный пассаж си-мажор преодолел все, а теперь весело вступили скрипка и кларнет, как будто сами хотят спастись, освободиться и вырваться из-под гнета.
— А возьми программы черных и социал-демократов, — говорил Хэм. — Сильно ли они различаются в действительности? Едва-едва. Поскольку в наше время нет никаких других программ, кроме таких, в которых заложено улучшение социальной структуры, здоровья народа, благосостояния, безопасности, финансовой стабильности и культурного развития! Ведь сегодня любому человеку — от чистильщика обуви до генерального директора — и без того понятно, что только это еще и можно сделать! Кто станет заявлять в своей программе: «Мы не позволим детям заниматься спортом, потому что хотим, чтобы у них были отвислые животы»? Или если какая-либо партия заявит: «Мы пропагандируем курение гашиша», то ее прогонят к черту! Так что программы стали совершенно несущественными! Но и они никогда не исполнятся! Это просто обрывки предвыборных плакатов, которые призваны удержать у власти группы холодных как лед эгоцентриков и тщеславных властолюбцев… Слушай, это основная тема последней части, здесь она появляется, но не может победить. Оттесненное страдание опять заявляет о себе в полную силу. Вот, сейчас мы в си-бемоль-миноре, а потом будет что-то вроде любовного монолога, который так и хочется выразить словами, чувствуешь? Вот отчаяние и страх… А там, в третьей части, еще раз вернутся воспоминания о любви из вступления… — Хэм долго слушал музыку гения. Потом задумчиво сказал: — К сожалению, дело обстоит так, что в конечном счете осуществление целей какой-либо партии возможно только для примитивного типа, не обладающего ни интеллектом, ни необходимой зрелостью для понимания ситуации. Зато как только этот тип придет к власти, он немедленно включит фактор времени! Он скажет: теперь, чтобы остаться у власти, мне нужно как можно быстрее отключить всех политических противников, занять все должности своими людьми и — вот тебе самое главное — заключить гнилые компромиссы по моей программе, а также для видимости прийти к соглашению со всеми враждебными мне группами — будь то церковь, будь то коммунисты или нацисты, будь то ястребы или голуби, демократы или республиканцы — лишь бы только остаться у власти! И через этот примитивный механизм никакие системы, в конечном счете, не будут законным путем отстаивать интересы хороших, порядочных, бедных и маленьких людей. Важнее всего будет только это соглашение об удержании власти. Понимаешь?
Я кивнул.
— Этот примитив кричит: «Мы должны удержать власть!» Члены партии кричат: «Да!» Примитив с головой окунается в работу, нужно устранить или даже ликвидировать тех, кто стал для него опасен и с кем невозможно заключить гнилые компромиссы. Твой недавний вопрос — евреи! Гитлер и его друзья-бандиты знали, что евреи умнее, что у них более древняя культура, — да при чем тут древняя, хватит и просто культуры, у нацистов вообще не было никакой! — что они благодаря уму обладают властью. Так что нужно было ожидать, что евреи окажутся смертельными врагами Гитлера, что они приведут его, притом безусловно, к падению! Поэтому Гитлер с самого начала включил в программу их подавление в качестве стимула для черни, а будучи у власти, евреев уничтожал! Католическая церковь точно знала, что ей грозит опасность от просветителей. Значит, срочно уничтожить, искоренить сволочей, пусть даже их много тысяч! Сталин понимал, что интеллектуалы, каждый, кто пытался самостоятельно разобраться в социалистических идеях, представлял для него смертельную опасность. Значит, уничтожить, искоренить! Пусть даже их много миллионов! Американские патентованные демократы опасались, что будут раскрыты их коррупция и их эксплуататорские методы хозяйствования. Значит, охота на ведьм господина Мак-Карти! Каждый, кто был не за героев Нового Света с горячей кровью, каждый, кто заявлял хоть о малейшем сомнении, подвергался преследованиям, и его объявляли…
— Коммунистом, — закончил я мысль.
— Правильно, коммунистом. Нужно было его арестовать, наложить запрет на профессию, исключить его из общества. Из этой глупости, из этого слабоумия, из этого narrowmindedness, этого примитивного способа мышления возникают все преступления на земле. Настоящее несчастье — это ограниченность, а не злобная натура человека…
Сквозь музыку до меня доносились через раскрытое окно смех и крики играющих в парке детей, и сейчас, когда я это пишу, я думаю, что дети в Врхлицком саду в Праге точно так же играли, смеялись и кричали, как и дети в парках Москвы и Рима, Нью-Йорка и Варшавы, Пекина и Йоханнесбурга.
— Так было, так есть и так всегда будет, — сказал Хэм, — что отдельные люди или группы людей используют какое-либо само по себе правильное учение — их существует совсем немного, прежде всего мировые религии, но не их распространители, их я исключаю! — для укрепления собственной власти. Ах, а сколько движений их противников по всему миру, при всех режимах, в церкви, которые говорят то, что я только что сказал, наступают, слепые от ярости, видят призраки вместо реальности, вместе с водой выплескивают дитя и разрушают остатки порядков — то хорошее, что пока еще осталось! Эти новые пророки, неопытные в реальных отношениях, необдуманно и с революционным пылом рубят направо и налево, так что только щепки летят от всего, на чем еще держится наш мир…
Свобода! Радость! Хотя бы в интермедии. Радостно пела скрипка, и деревянные духовые радовались вместе с ней…
— Почему я об этом говорю? — вслух размышлял Хэм. — Почему вынужден подолгу об этом думать? Потому что я и ты, и все мы каждый день стоим перед этим феноменом в своем малом мире.
— Вы имеете в виду в «Блице»?
— Да, в «Блице», — ответил он грустно. — В самом начале было такое время — без идеологии, без лозунгов и без компьютера.
— Прекрасное время, — сказал я. Радость и свобода для скрипки закончились. Усиленно заявили о себе отчаяние, скорбь, страдание. А скрипка, скрипка пела, пела в тюрьме своих воспоминаний и тоски. — Прекрасное время, — повторил я.
Хэм кивнул и пососал свою трубку.
— Потому что у нас не было ни идеологии, — повторил он, — ни схем, ни догм. Сегодня мы можем выбирать самые чистые и лучшие темы на свете. Но с того момента, когда мы в рамках этого аппарата переводим их в слова и иллюстрации, все они становятся коррумпированными! Возьми свои триумфальные серии. Что, собственно, можно возразить против разумного сексуального просвещения?
— Ничего.
— Ничего, — сказал он. — В наше время коммуникации такое сексуальное просвещение можно было бы только от всего сердца приветствовать, если бы весь этот замысел с самого начала не был организован и направлен только на то, чтобы господин Херфорд и его Мамочка как можно больше заработали!
— И я тоже, — добавил я.
— И ты тоже, и я тоже, и мы все тоже, — продолжил Хэм. — В Библии, из которой Херфорд так любит читать, сказано: «Если вы не одумаетесь, то все погибнете.» — Он покачал головой: — Мы не одумаемся. Ни один из нас. Никто на свете. Ни мы, маленькие люди, ни великие. Мы все погибнем.
Вступил весь оркестр, скрипка собрала напоследок все свои силы в трагическом протесте и смолкла.
21
— Ну, ты, растяпа! — взревел плотный краснорожий надсмотрщик. — Ты, мразь, пес ленивый, собрался улечься здесь на солнышке и подремать? — Он стоял на краю длинного рва, уходившего в болото неподалеку от «Нойроде». Во рву работало множество молодых мужчин с лопатами, отрабатывавших трудовую повинность. Нужно было осушить часть огромного болота.
Надсмотрщик стоял, уперев руки в бока, широко расставив ноги, и рычал на тощего работягу, едва державшегося на ногах, там, во рву. Сапоги бедняги почти до верху погрязли в болотной жиже. Дрожа всем телом, из последних сил, он прислонился спиной к стенке рва. Но надсмотрщик не унимался:
— Я порву тебе задницу, ты, грязный засранец! Тоже мне академик! Думаешь, ты лучше нас! Студент философии! Тут тебе не философия! Тут надо работать, понял? Хоть ты выблюй душу из своего интеллигентского тела, засранец, ты будешь мне работать, как все остальные!
— Я больше не могу, — шептал молодой человек. Пот заливал его узкое лицо. — Я, правда, больше не могу, господин надсмотрщик!
Это происходило около полудня 12 августа 1935 года. Над болотом висела изнуряющая жара. Ни ветерка. Воздух звенел от жужжания комаров. Они беспрестанно жалили работяг во рву. Те чертыхались и лупили себя по обнаженным торсам, но им редко удавалось убить хоть одного из своих мучителей. Тела их блестели от пота. Все они были на пределе сил, хотя все же не настолько, как двадцатидвухлетний студент философии, которого бугай-надсмотрщик гонял и мучил с того момента, как увидел. Надсмотрщик, по гражданской профессии неудачливый мясник, ненавидел «умников-засранцев», как он их называл, проклятых образованных с их созерцательностью, мягкотелостью и беспомощностью.
— Еще как можешь! — заорал надсмотрщик вниз. — Сам удивишься, как долго ты еще сможешь! Посмотри на своих товарищей! Они же еще могут! Ты, грязная ленивая свинья, умник, с задницей вместо морды, я из тебя еще сделаю порядочного человека, можешь не сомневаться! Ну, вперед! Режь дальше!
— Я… я… я правда больше не могу, господин надсмотрщик, — прошептал студент, шатаясь. — Я боюсь…
— Что значит боюсь? — взревел надсмотрщик. — Чего ты боишься, засранец?
— Что упаду и утону, — простонал студент.
Комары пели свою пронзительную песню.
— Здесь еще никто не утонул! — разозлился надсмотрщик. — Значит, боишься подохнуть?
— Да, — прошептал студент.
— Немец не страшится смерти! — заорал надсмотрщик.
— Немец… смерть… это болото… какая здесь связь? — стонал студент.
— Ты еще смеешь мне отвечать… — Надсмотрщик втянул воздух. — Ну, погоди, свинья! — прорычал он и спрыгнул в ров. Высоко взлетели ил и вода. Надсмотрщик со всей силы пнул тощего студента сапогом в бок. Парень упал навзничь. Надсмотрщик дал ему еще пинок под зад. Парень лежал лицом в грязи, неподвижный, как кукла. Его голова ушла под воду, тело начало погружаться. Надсмотрщик пнул еще раз. — Проклятая грязная свинья, — выругался он. Потом зарычал на работяг, возившихся вблизи: — Эй вы, ну-ка сюда! Вытащите эту трусливую свинью!
Полдюжины молодых мужчин подошли по воде и грязи, молча, с ненавистью глядя на надсмотрщика. Они толкались, мешали друг другу, и понадобилось немало времени, пока они вытащили студента из грязи и подняли его. Голова у него запрокинулась назад, он не шевелился. Один из мужчин приложил ухо к его груди, проверил пульс.
— Ну, что? Что там? — бесновался надсмотрщик. — Что там с этой свиньей? Дайте ему пару раз по морде, чтобы очнулся! Давайте! Делайте, как я сказал! По морде! Вот ты!
Тот, на кого он указал, кто проверял у студента сердцебиение и пульс, помотал головой.
— Не хочешь дать ему по морде, ты, собака?
Тот, снова помотал головой.
— И почему же? Почему ты не хочешь дать этой свинье по морде? — Его голос сорвался.
— Потому что «эта свинья» умер, господин надсмотрщик, — ответил тот, держа студента на руках.
Вскрытие показало, что студент скончался от острой сердечной недостаточности. Дело надсмотрщика было передано в дисциплинарный суд Службы государственной трудовой повинности. Его понизили в должности и наложили взыскание. Позже он работал у Генерального уполномоченного по службе занятости, гауляйтера Заукеля. Сегодня — заседает в наблюдательном совете концерна мясных изделий.
22
— Студент — единственный, о ком вы знаете, как он погиб? — спросил я фройляйн Луизу. Она рассказала мне эту историю. Вчера. Вчера я ее навещал снова.
— Да, — ответила фройляйн с седыми волосами и добрым лицом, на котором всегда блуждала улыбка. — Студент — единственный. Остальные не говорят о своей смерти. А студент мне о ней рассказал. Много лет назад.
— Почему именно студент, а не остальные?
— Сама не понимаю, — взглянула она по-детски, и диктофон записал ее слова.
Я подумал, что она, возможно, в самом деле не знала, почему именно студент был для нее любимее всех остальных мертвых, и что она, действительно, уже давным-давно забыла того другого студента, который был ее единственной любовью и много лет назад погиб в Исполинских горах, в болоте Белый Луг. «Она об этом забыла, — думал я, — но пока она жива, все, что она тогда пережила и перестрадала, будет подсознательно влиять на мысли и фантазии фройляйн, совершенно неосознанно для нее самой». Было ли это так на самом деле? Возможно.
Возможно, — подумал я, — но ее, конечно, об этом не спрашивал.
Теперь, после всего, что случилось, я мог говорить с фройляйн Луизой так же, как пастор. За это время она прониклась ко мне доверием и знала, что ничего плохого я ей не хотел. Поэтому она говорила со мной и о своих друзьях. Она не боялась меня.
— И что?
— И уже к вечеру, то есть за несколько часов до того, как ваши друзья пообещали вам помочь, французский торговец антиквариатом Андре Гарно и польский портье Станислав Кубицкий в качестве свидетелей сообщили полиции о жестоком покушении на нашего корреспондента Конрада Маннера.
— И что?
— Вы мне рассказывали, что Кубицкий и Гарно были вашими французским и польским друзьями, возвратившимися в тела двоих живых людей.
— Правильно, так и есть. И что? Я же сама потом с ними обоими…
— Вот именно, — подтвердил я. — К этому я и веду.
— К чему, господин Роланд?
— Если речь шла о двоих ваших мертвых друзьях, то ведь они появились за много часов до вашего разговора с ними! Задолго до того, как они пообещали вам помочь! Вы понимаете? Тем вечером ваши друзья еще ничего не знали о вашем плане! Как вы объясните это несоответствие во времени?
— Он говорит — время, — пробормотала фройляйн и покачала головой, изумляясь моей наивности. — Он говорит о времени, этот господин Роланд! После того, как я ему уже так много рассказывала о бесконечности и вечности. Видите ли, господин Роланд, там, по ту сторону, в ином мире, там времени нет. Время — это совершенно земное понятие. А как же! Как может существовать время в вечности и бесконечности? Можете ли вы мне сказать, сколько там длятся несколько часов?
— Нет, не могу.
— Не можете. А почему? Потому, что если бы вы могли, то не было бы ни бесконечности, ни вечности! Тогда их можно было бы измерить, как жизнь здесь, внизу, которая имеет начало и конец! Мой друг американец сказал мне однажды: «Бесконечность и вечность — это две сети, ну, вроде как у рыбаков, вот, и они тоже состоят из бесконечного множества бесконечностей и вечностей — это их отдельные ячейки, а то, что разделяет эти ячейки, волокна сети, — это и есть времена.»
— Какие времена?
— Все времена вместе взятые с возникновения этого мира, например, образуют одну частицу такого волокна! Просто чтобы вы могли составить себе представление. Вы можете?
Я помотал головой.
— Вы не можете понять?
— Нет, — ответил я.
— Тогда вы должны в это верить, — сказала фройляйн Луиза.
— Этого я тоже не могу.
— Вы должны попробовать все это понять, — настаивала фройляйн Луиза. — Математикам, физикам, философам приходится пробовать то и это. И вы тоже попробуйте! И многие из них снова становятся на свой лад набожными. Чем больше они знают, тем более они великие. Возьмите, к примеру, господина Эйнштейна. Вы утверждаете, что наука имеет дело только с чистым мышлением? Ладно, пусть! Чем больше такая наука развивается, тем меньше она имеет дело только с чистым мышлением! Ученые хотят исследовать Вселенную. Они сами, да-да, сами ученые, господин Роланд, говорят, что Вселенная бесконечна и вечна! И хотя у них нет пока реального объяснения понятий вечности и бесконечности, но все же они работают с этим постулатом, волей-неволей просто принимая его. Как и остальные люди.
— Я не могу, — возразил я.
— Я тоже долго не могла, — ответила фройляйн. — Все никак не могла вообразить это в голове, хоть умри! Ни вечности, ни бесконечности. И как я ни напрягалась, просто до потери сознания, но все-таки думала, что должно быть начало и должен быть конец, должен, должен, должен! — Она задорно рассмеялась: — Да, а что если и вправду нет ни начала, ни конца? Или если они оба — одно? Тогда наш конец всегда есть наше начало, а так оно и есть, когда мы умираем, так ведь? Конец есть начало. — Она нарисовала пальцем в воздухе большой круг. — Где, скажите мне, господин Роланд, в такой Вселенной есть место для времени? Я имею в виду место, если вы возьмете всю Вселенную, в которой начало есть конец, а конец есть начало? Вот вы говорите: около полуночи двенадцатого ноября я встретилась с друзьями, и они мне пообещали помочь. Это было сказано по-земному. Это же глупо! Это слишком просто! Это именно так, как выражаемся мы, глупые живые. Извините. Я не имела в виду кого-то лично, вы же понимаете? Ну да ладно. В действительности я могла бы встретить своих друзей на тысячу лет раньше или позже — все было бы точно так же. Потому что раз на том свете нет времени, то и значения оно не имеет. По нашим дурацким понятиям о времени мои друзья могут передвигаться в нем вперед и назад и сделать что-нибудь намного раньше, чем обещали живому, или намного позже. И еще раз скажу: на том свете времени нет, поэтому француз и поляк спокойно могли оказаться в Гамбурге во плоти живых людей до моего разговора с ними.
— То есть ваши друзья уже действовали, еще до того как вы подвинули их на это?!
— Выражаясь по-земному, да! А выражаясь по-неземному, они, конечно, начинают действовать только после того, как получат импульс. Потому что Вселенная не может быть нелогичной. Теперь понимаете? Хоть немного?
— Немного, — неуверенно ответил я, вспоминая все, что рассказывал мне Хэм, когда я стоял в телефонной кабинке гамбургского Центрального вокзала.
— Ну ладно, я вам еще немножко помогу, — сказала она. — Если вы об этом подумаете, увидите, что так у нас все в жизни и идет. Примерно так.
— Как?
— Ну, к примеру, что мы чувствуем последствия чего-то, прежде чем оно произойдет. Вот подумайте. Разве вам никогда не было грустно и вы при всем желании не могли сказать почему?
— Было, конечно…
— Вот, пожалуйста! Вот об этом я и говорю! Вам было грустно от чего-то, что еще не произошло, что еще только должно было произойти! Но ваша связь с потусторонним миром — у каждого человека есть очень тонкая связь с тем светом — дала вам возможность предчувствовать то, что произойдет, и потому вам было грустно. Это был момент вашего предвидения будущего! Так где же тогда было время? Ну, вот видите. В этот момент вы, может быть, даже знали, что с вами случится, но не хотели допускать этой мысли и выбросили ее из головы. Только грусть — она, конечно, осталась. Если уж мы, бедные живые, можем иногда скользить туда-сюда между прошлым, будущим и настоящим, то, как вы думаете, неужели этого не могут мои друзья! Для них не существует ни пространства, ни вчера, ни сегодня, а одно только завтра!
— Ага, теперь, думаю, понимаю, что вы имеете в виду, — сказал я.
— Ну, наконец-то. Это же так просто! — И она опять засмеялась. — И, пожалуйста, запишите это все, что касается времени и вечности, ладно? И все обо мне, чтобы люди это тоже поняли, все, что случилось. Мое разрешение на это у вас есть. Письменное!
Да, разрешение у меня было, письменное, и фройляйн получила за него деньги, но на суде эта ее передача права на публикацию не имела бы, конечно, никакого значения, не стоила бы даже листа бумаги, на котором была напечатана. Однако перед земным судом нам с фройляйн Луизой никогда бы и не пришлось предстать.
23
— Что вы делали после разговора с друзьями? — спросил я Луизу Готтшальк.
— Ну, я, конечно, сразу отправилась в путь, — ответила она.
— Сразу же?
— Конечно! Возвращаться обратно в лагерь не было необходимости, я уже собралась в дорогу. Сумка с паспортом и деньгами была у меня с собой…
— И много денег?
— Пожалуй, побольше четырех тысяч марок.
— Что?
— Ну, да, — подтвердила она. — Те две тысячи, что вы мне дали, и все, что я скопила. Я же тут, на болоте, никогда ничего не тратила, у меня и так все было, и все мое жалованье осталось при мне — все, кроме того, что я раздарила.
— Много раздарили?
Она весело рассмеялась и ответила:
— При такой нищете, ради Бога, господин Роланд! Не то чтобы я была мотовкой. Только, конечно, дети, бедные мои…
— Но двинуться в путь с четырьмя тысячами… Я имею в виду, это не было легкомысленно с вашей стороны?
— Легкомысленно было бы оставить деньги в лагере! Хоть бы и спрятанными. А как же? Они же за мной шпионят, эти бабы, рано или поздно они бы нашли их и украли!
— А у вас все сбережения были в тайнике?
— Да, и в очень хорошем. Но потом я сказала себе: кто знает, а вдруг они все-таки их найдут.
— А почему вы не отнесли сбережения в банк?
— Идите вы подальше со своими банками! — воскликнула фройляйн. — Да я в это все вообще не верю! Я слишком хорошо помню, как в 1929 или после 1945 все, что люди держали в банке, все пропало, фьють — и нет! Так просто поживились себе эти банки и сберкассы и все остальные.
— Но тогда деньги пропали и у тех, кто держал их дома, — заметил я.
— В самом деле? У меня не было сбережений ни в 1929, ни после 1945. Да хоть бы и были! Ни за что бы не сдала их в банк или в сберкассу! Я в такие вещи не верю. — Она немного помолчала, потом сменила тему. — Я, конечно, так, между прочим, спрашивала господина пастора, с кем это Ирина говорила по телефону, и он ответил, что с этим господином Билкой и что он сначала ответил, а потом не стал. Адрес этого Билки я записала, так? А номер телефона у него — 2 20 68 54. Верно?
— Вы его до сих пор помните? — спросил я изумленно.
— А, память у меня отличная! — Она снова рассмеялась. — Да нет, просто шутка! Видите, вот моя записная книжка, я туда сразу все и записала. — И она показала мне маленький блокнот из искусственной кожи, какие обычно магазины раздаривают покупателям в конце года. На переплете было вытеснено: «Йенс Федеруп, продовольственные товары».
— Вы были уверены, что я с Ириной поеду в Гамбург?
— Ну, а как же! Вы исчезли, Ирина исчезла, она обязательно хочет попасть к своему жениху, вы репортер. Я же не глупая, господин Роланд!
— Конечно, нет, фройляйн Луиза.
— Но как туда попасть, да еще среди ночи? Сначала я вернулась, немножко. Знаете, решила зайти в этот бар «Выстрел в затылок». Там часто кто-нибудь бывает поздно ночью. Думала, может, кто-нибудь поедет в Гамбург и меня прихватит. Вообще, глупое название — «Выстрел в затылок»! Это же очень тихий, спокойный, маленький закуток. Единственное помещение. Только холодные закуски. Напитки какие хотите. На напитках хозяин хорошо зарабатывает, просто здорово! Благодаря нашему лагерю, разве нет? — Я кивнул. — На стенах там приколоты несколько голых девочек из бумаги, вырезанных из «Плейбоя» (она произнесла слово правильно), и еще там есть проигрыватель, хозяин купил для настроения. Ну, и шумная штука… Так вот, иду я от болота к деревне. И тут, думала, меня удар хватит: вылетает он из-за поворота — и прямо на меня…
24
Грузовик ехал тихо и без света. Водитель еще три минуты назад сидел в баре «Выстрел в затылок», пил с лагерным шофером Кушке по последней, и они разыгрывали, кому платить. Именно Кушке предложил на этом закончить.
— Всё, а то ище угожу в ловушку, — сказал он.
Кушке частенько проводил вечера в баре «Выстрел в затылок» — он взялся следить в лагере за старшими детьми, и действительно, когда Кушке нес вахту в этом кабачке, ни одного подростка приезжавшие на машинах посетители не увезли. Что правда, то правда. Шофер сочетал взятые на себя обязательства с приятным. Он любил выпить пару кружек пива и пару рюмочек шнапса, а главное, любил поболтать.
В этот вечер у старших детей был запрет на выход с территории лагеря, и в баре «Выстрел в затылок» сидели только местные и несколько водителей, и Кушке часами снова и снова рассказывал, какие драматические и кровавые события произошли в лагере этим днем. Слушатели возмущались и угощали его. Так что Кушке был уже заметно навеселе и шатался, когда вышел, наконец, на дорогу, ведущую обратно в лагерь. Последним, кому он рассказал свою историю — хозяин хотел уже закрывать, но был вежливым и терпеливым, потому что именно благодаря лагерю у него в течение двадцати лет держался приличный оборот, — стал водитель грузовика в перепачканных брюках, синем свитере и морской фуражке — маленький круглый парень. Его грузовик стоял возле входа в трактир. Пари с Кушке он выиграл. Всего шофер грузовика выпил три пива и три рюмочки шнапса, в общем, в меру, потому что ему еще предстояло ехать. После того как они сошлись на мнении, что во всех несчастьях на свете виновата проклятая политика, мужчины возле входа в бар «Выстрел в затылок» пожали друг другу мозолистые руки, посмотрели друг другу в голубые, у Кушке слегка мутные, мужские глаза и трогательно распрощались. Кушке похлопал своего нового друга, которого ему не суждено было никогда больше увидеть, по плечу и заверил его, что он хороший парень.
— Ты тоже хороший парень, — ответил шофер.
— Но политика…
— Да.
— Политика — дерьмо поганое! — прокричал Кушке.
— Политика — дерьмо поганое, — подтвердил его новый друг.
— И политики — дерьмо поганое! — снова закричал Кушке.
— Поганое дерьмо — политики, — согласился его новый друг. Потом они снова пожали друг другу руки, и Кушке опять похлопал друга по плечу.
— Вот так-то, товарищ, — проговорил Кушке и побрел своей дорогой. Шофер открыл дверцу кабины огромного грузовика, вскарабкался за руль, завел мотор, включил первую скорость и поехал. Был он не пьян, но подвыпивши. Луна светила так ярко, что он даже не обратил внимания, что едет без света. Он вспомнил об этом только когда выехал из-за поворота и неожиданно увидел прямо перед собой тень, а потом почувствовал легкий удар правым крылом и успел еще заметить, как тень отлетела в сторону.
Шофер испугался так сильно, что тут же остановился и даже заглушил мотор. С дрожащими коленями он вылез из кабины и пошел вокруг грузовика к кювету с правой стороны. Немного позади он снова увидел эту тень. Она оказалась маленькой старой женщиной, неподвижно лежавшей в камышах.
— Jezus Maria, doufam ze se stare pani nic nestalo! — хрипло взмолился он.
Он подошел к фройляйн Луизе. Отброшенная в сторону ударом переднего крыла грузовика, она мягко приземлилась и теперь смотрела на шофера широко распахнутыми глазами. Капор на ее белых волосах сдвинулся набок, обеими руками она прижимала к себе увесистую сумку.
— Что с вами? — От страха с шофера разом слетели и сон, и хмель.
Фройляйн Луиза смотрела на него и молчала.
— Ну! — подбодрил шофер.
Фройляйн Луиза дружески подмигнула ему, и ее губы растянулись в улыбке.
— Что такое? — недоумевал тот.
— Это ты сейчас сказал: «Йезус Мария, надеюсь, со старухой ничего не случилось»? — спросила фройляйн по-чешски.
— Ну конечно, я, землячка! — восторженно ответил шофер тоже по-чешски. Поскольку она говорила ему ты, он тоже обратился к ней на «ты».
— Так как? Я тебе ничего не сделал?
— Нет, совсем ничего, — ответила фройляйн Луиза.
Он помог ей подняться на ноги. Она отряхнула пыль с пальто, подняла руки, повернула голову и потянулась всем телом.
— По крайней мере, я считаю, что ничего, — сказала она.
Разговор продолжался на чешском языке.
— Моя вина. Я ехал без света. Я был вон в том кабачке, а потом, когда выезжал, забыл…
— Да, — подхватила фройляйн Луиза, — забыл включить фары. — Она принюхалась. — Земляк, — удивилась она, — да ты выпил.
— Всего-то три кружечки, маленьких.
— Не ври! Я чувствую запах шнапса.
— Ну, и чуток шнапса.
— Разве ты не знаешь, что это преступное легкомыслие, земляк?
Свист ветра над болотом становился все сильнее. Поэтому фройляйн Луиза и не услышала шум грузовика.
— И долго ты пробыл там?
— Может, с час. Я разговаривал о маленьком Кареле, которого сегодня днем застрелили в лагере, и обо всем прочем.
На лице фройляйн Луизы снова появилось восторженное выражение.
— Так ты, выходит, все знаешь? — спросила она прерывающимся от волнения голосом.
— Ну, конечно, знаю.
— Бедный, бедный Карел.
— Да, бедный ребенок. Проклятые свиньи, кто это сделал. Во всем виновата политика. Проклятая дерьмовая политика. Извини, землячка.
Фройляйн Луиза жестом отбросила извинения.
— Ты — мой друг, да? — склонив голову набок, спросила она доверительным и тихим голосом.
— Ну, ясное дело, — ответил шофер, у которого камень с души свалился, когда он убедился, что женщина не пострадала. — Я твой друг.
— Да, теперь я это вижу. Ах, как это прекрасно, Боже мой! — фройляйн Луиза подняла глаза к небу.
— Что там наверху? — Шофер поднял голову, потом сообразил.
— Ах, да, — сказал он. — Господь Бог.
— Да, — отозвалась фройляйн Луиза.
«Она благодарит Господа Бога за то, что у нее не переломаны кости», — подумал шофер. Мог бы, вообще-то, и я это сделать. И он снова поднял глаза вверх и сказал вслух: «Благодарю».
— Не хватало еще, чтобы ты наехал на свою Луизу, Франтишек, — сказала фройляйн.
Шофер ломал себе голову. Что бы это значило? Франтишек? И почему его фройляйн Луиза? Потом в его памяти, как молния, промелькнула история о полусумасшедшей воспитательнице из лагеря, которая разговаривала с невидимками, с мертвыми, история, которую под величайшим секретом рассказал ему Кушке. Эту полусумасшедшую звали… звали… Луиза! Теперь шофер все понял. Луиза! Боже Всемогущий, перед ним была она. Но она такая безобидная, совершенно безобидная, самый лучший человек на свете, как сказал ему Кушке. «Вот так штука, что мы с ней встретились», — подумал шофер.
— Мне очень жаль, Луиза, — сказал он. — Конечно, я не хотел, ясное дело. Но этот проклятый свет…
— Этот проклятый шнапс и кружечки пива, — продолжила она и погрозила ему пальцем. И они оба рассмеялись.
— Я… — начал шофер.
— Да знаю я, кто ты, — перебила фройляйн Луиза, теперь уже совершенно уверенная.
— Да?
— Да.
— И кто же я? — спросил шофер с любопытством.
— Ты — мой чех, земляк!
«Осторожно — сумасшедшая», — подумал шофер, а вслух сказал:
— Правильно, а ты — моя Луиза.
Фройляйн почувствовала, как к глазам подступают слезы радости, она прислонила голову к его широкой груди и проговорила:
— Как прекрасно, ах, как это прекрасно. Так ты мне поможешь?
— Ясное дело, помогу, — ответил шофер, чувствовавший себя немного не в своей тарелке.
— Мне нужно в Гамбург, — сказала фройляйн. — Да ты ведь знаешь. Может, ты едешь в Гамбург, земляк?
— Нет, в Бремен. Я тут забрал торф — там, на другой стороне лагеря, где его еще режут.
Фройляйн Луиза не могла на него насмотреться. На глазах у нее блестели слезы.
— Возьмешь меня с собой в Бремен? — спросила она. — До вокзала, если можно? Чтобы я успела на ближайший поезд на Гамбург?
Шофер немного поколебался, но потом подумал, что эта сумасшедшая может при случае заявить на него, устроить скандал и принести ему массу неприятностей, и согласился.
— Ну, конечно, Луиза.
— Потому что ты мой друг, я так и знала. Значит, так все и начинается.
«Что же, интересно, так начинается?» — думал шофер, а потом решил: какая, к черту, разница!
— Потому что я твой друг, Луиза. Залезай в кабину. Надо поскорей убраться с этого поворота, пока в меня никто не врезался сзади.
— А ты точно уже протрезвел?
— Честное слово, — ответил шофер и утешил себя: «Береженого Бог бережет».
Не прошло и десяти минут, как грузовик, доверху груженый кусками торфа, катился по разбитой дороге, раскачиваясь и подпрыгивая, с включенным ближним светом. Фройляйн Луиза сидела рядом с водителем, держа на коленях свою большую сумку, все еще с широко раскрытыми от волнения и счастья глазами.
— Ты откуда, Франтишек? — спросила она.
— Из Габлонца, — ответил шофер. — Теперь он называется Яблонец, — добавил он. — Да, в общем, все равно. — «Все равно, — думал он при этом. — И меня, вообще-то, зовут Йозеф, а не Франтишек, но если эта сумасшедшая обязательно хочет называть меня Франтишеком, пусть ее!»
— Сосед! — обрадовалась фройляйн Луиза. — Я из Райхенберга!
— Ну, надо же, — удивился шофер, — а вот где довелось встретиться!
Фройляйн Луиза ощущала тихое блаженство.
— Ты бежал, Франтишек?
— Да. Три месяца назад. А ты, Луиза? — И спохватился: — Ах, да! Ну, я дурак! Ты, конечно, нет! Ты же здесь уже двадцать лет!
— Да, двадцать лет, — повторила Луиза. Ей ни на секунду не пришла в голову мысль, что шофер мог почерпнуть свои знания в баре «Выстрел в затылок». Это был ее чех, это был ее мертвый, это был ее друг Франтишек, ведь друзья обещали ей помочь.
— Ты отвезешь меня сейчас в Бремен, потом я поеду в Гамбург, а в Гамбурге вы же будете мне помогать дальше, правда?
— Ну, конечно, — ответил шофер и подумал: «В Бремене я сплавлю эту сумасшедшую и больше никогда ее не увижу, и заявления она на меня не подаст. Спаситель милосердный на небесах, как мне повезло!»
Шофер ехал быстро. Он высадил фройляйн Луизу перед зданием Центрального вокзала примерно в то же самое время, когда мне в Гамбурге, возле дома на Эппендорфер Баум, 187, некий американец, предположительно аптекарь и предположительно по имени Ричард Мак-Кормик, прижал к лицу тряпку, пропитанную усыпляющей жидкостью, и все вокруг меня стало черно.
25
Помещение было просторным, без единого окна. Все в этом помещении было белым: стены, мебель, инструменты, пол и потолок, на котором горело много неоновых ламп, распространяя белый безжизненный свет. В помещении совсем не было пыли, и в нем работал кондиционер. Оно напоминало кошмарный сон, я видел его в первый раз, потому что это святилище издательства могли посещать только избранные, да и то лишь изредка.
Мне тут же вспомнился роман Джорджа Оруэлла «1984». Напротив меня, мощно сверкая тысячами маленьких лампочек, мгновенно вспыхивавших красным, желтым, зеленым, синим и белым светом, с магнитофонными катушками под стеклом, которые рывками вращались вперед-назад, стоял злой дух фирмы, ненавидимый большинством сотрудников, пугавший их, всеми ими проклинаемый и горячо любимый Херфордом и его Мамочкой, — компьютер, это чудовище. В помещении стояли по отдельности и другие приборы, в том числе один, похожий на огромную пишущую машинку. Толстые мотки кабеля тянулись между деревянными опорами от одного прибора к другому. У белого стола пятеро молодых мужчин в белых халатах склонились над сложенной, очень длинной полосой бумаги и тихо переговаривались. Возле странно выглядевшей пишущей машинки сидел еще один человек в белом и печатал. Вся эта аппаратура жужжала, щелкала, трещала и поскрипывала. А разноцветные лампочки непрерывно мерцали, мерцали…
В этом помещении без окон имелись две тяжелые металлические раздвижные двери. Одна вела в вестибюль, закрывалась для безопасности на множество замков и предназначалась для работавших здесь людей. Я часто видел ее снаружи. Она тоже была белая. Под красной молнией, нарисованной на ней, стояла красными буквами надпись: «Посторонним вход строго воспрещен!» Вторая дверь вела в комнату рядом с кабинетом Херфорда. Здесь он мог отдохнуть, здесь принимал пищу. (Специально для него высылали машину, оборудованную емкостью с подогревом, к отелю «Франкфуртер Хоф», а потом его обслуживала девушка из столовой.) Здесь имелась также ванная комната. В этих маленьких апартаментах Херфорд мог переночевать, если работал допоздна, или переодеться. В кабинет он попадал через дверь, которая с другой стороны представляла собой часть книжного шкафа. Она открывалась автоматически, стоило только нажать нужную кнопку. Через нее мы все и вошли и двинулись к следующей двери из белого металла, на которой, конечно, не было ни надписей, ни молнии. Точно так же бесшумно она отходила в сторону, нужно было только набрать определенный номер на имевшемся на ней диске, похожем на телефонный, а потом сама закрывалась снова. Итак, мы попали в царство господина Штальхута.
Он стоял перед нами, но обращался не к нам, а только к Херфорду с Мамочкой. Поджарый мужчина с модными бакенбардами, холодными глазами, с почти безгубым ртом и стрижкой ежиком. Он говорил каким-то неестественным голосом, не допускавшим возражений и всегда звучавшим агрессивно. Мы были в самом сердце издательства и в самом сердце издателя. Все, что здесь происходило, было для Херфорда святыней, откровением, проявлением Божьей воли. А Штальхут служил переводчиком несравненного компьютера, всеведущего, как Господь Бог. «Наверное, Херфорд представляет себе Бога в виде компьютера, — подумал я, — очень даже может быть. Тогда Штальхут выступает в роли его проповедника».
Кофе с лимонным соком все еще не окончательно меня отрезвил. Мне очень хотелось покурить, но здесь курение было запрещено. Я устал от долгого стояния, но стояли все, за исключением молодого человека у пишущей машинки и Мамочки, которую усадили на белый табурет на колесиках.
Штальхут стоял у монитора, точно такого, как и тот, в кабинете Херфорда. Перед пока еще пустым, мерцающим черным экраном он читал нам доклад:
— Мы дали указание нашему Институту изучения общественного мнения предпринять исследование об изменении политического направления с большим углом допустимого отклонения, — произнес он, и мне показалось, что его голос звучал, как смесь из голосов священника, политика и генерала. — В виде исключения мы отвели на это несколько больше времени. Наши вопросы относительно вкуса публики были направлены на две тестируемые группы, и программа состояла, соответственно, из двух частей. По первому варианту мы опрашивали тех людей, которые читают «Блиц», по второму варианту — тех, кто «Блиц» не читает.
«Вот здесь уже и начинается первая манипуляция! — подумал я. — Как бы ни был сформулирован вопрос о сдвиге влево, что могли ответить люди, не имевшие понятия, насколько «Блиц» придерживался левых или правых позиций?»
Похоже, и Берти это пришло в голову.
— Минуточку! — обратился он. — Но ведь люди, не знающие «Блиц», совсем не…
— Тихо! — сердито оборвал Херфорд.
Мамочка посмотрела на него обиженно.
Хэм повернулся ко мне и прошептал:
— Помнишь, что я говорил тебе о хороших принципах и их ужасном осуществлении? — Я кивнул.
— Потише! — прошипел Ротауг и подергал себя за жесткий воротник.
Хэм широко улыбнулся ему в ответ. Ротауг отвернулся.
— Было опрошено десять тысяч лиц, причем на всей территории ФРГ…
— А о чем их спрашивали? — осведомился Берти.
— Будьте так любезны не прерывать меня, — огрызнулся Штальхут.
— Да тихо, черт побери! — заорал Херфорд. Берти посмотрел на него со своей детской улыбкой. Потом повернулся к нам с Хэмом. Я пожал плечами. Хэм закрыл глаза и покачал головой. Подвергать здесь что-либо сомнению не имело смысла. С таким же успехом можно было в присутствии Херфорда и его Мамочки подвергать сомнению существование Бога — «Бога Всемогущего, давшего ему его деньги», ему, решившему после многонощной борьбы с совестью и из неустанной заботы о народе свернуть на левый курс…
«Этот Штальхут — тертый калач», — подумал я. Совершенно безобидно, так что они этого и не замечали, он регулярно осведомлялся у Херфорда и прежде всего у Мамочки, что из услышанного они считали хорошим, что так себе, а что плохим, поскольку он — без всяких шуток, крайне интеллигентный человек! — давно уже убедился, что у Херфорда и Мамочки был такой же несказанный вкус, как и у миллионов представителей немецкого народа, гарантирующий огромные тиражи. Все же я должен оговориться в защиту народа: большинству, Бог свидетель, не был присущ этот вкус. Поэтому, если бы эти репрезентативные опросы проводились честно, то люди Штальхута столкнулись бы с очень многими людьми, которые ответили бы, что мы делаем дерьмовый журнальчик. По этой причине Штальхуту приходилось проводить четко продуманные выборочные опросы, чтобы бить наверняка, да и вопросы ставить так, чтобы гарантированно получить от «своей публики» правильные ответы. И тогда компьютерные итоги каждый раз чудесным образом почти на сто процентов подтверждали мнения Херфорда и Мамочки. Почти на сто процентов. Этот Штальхут был таким ушлым малым, что закладывал еще и маленькие (очень маленькие!) факторы отклонения.
Естественно, компьютерные данные подтасовывались! Мой друг Берти утверждал, что у него есть доказательства того, что Штальхут и его свояк выверяли каждое слово формулировок вопросов анкет, с которыми потом рассылались сотрудники института. Участники опросов отвечали на подтасованные вопросы, что и было нужно Штальхуту. Такие вещи происходили очень просто.
Вот вам пример из политики.
Вы можете ходить из дома в дом и честно задавать вопрос: «Поддерживаете ли Вы восточную политику правительства?» Такой вопрос ничего не стоит, потому что на него есть только три ответа: «Да», «Нет», «Не знаю». Ведь компьютер на самом деле самая глупая вещь на свете. Именно с ответами «Да», «Нет» и «Не знаю» он не в состоянии ничего сделать.
Однако совсем просто слегка изменить формулировку вопроса, например, так: «Считаете ли Вы, что своей восточной политикой правительство предает германские интересы?» Вы понимаете, что я имею в виду. Это уже вопрос, несущий скрытую смысловую нагрузку. «Предавать интересы» — звучит как отказываться от чего-то ценного, этого никто не хочет. Так что здесь в скрытом виде уже подсказан ответ. Фактически более пятидесяти процентов всех людей с помощью таких несущих скрытую смысловую нагрузку вопросов позволяют загнать себя в определенное состояние.
— Наш выбор, — продолжал Штальхут тем же приказным, не допускающим возражений тоном, в котором в то же время звучало так много сердечности (в нем погиб великолепный актер!), — был рассчитан на охват всего населения в целом. В нем учтены все наиболее часто встречающиеся профессии, слои населения по их социальному и образовательному уровню, по полу, возрастным группам, религии, уровню дохода, работодатели и наемные рабочие. Далее мы приняли во внимание особенности отдельных местностей. Как известно из опыта, Юг реагирует иначе, чем Север.
— Ага! — сказал Хэм.
Никто не среагировал. Штальхут продолжал играть роль кудесника.
— Село реагирует иначе, чем город. Необходимо сделать поправку и на величину городов — большие, средние и малые. Из-за этого широкого диапазона нашему институту и нам потребовалось две недели времени, милостивая госпожа.
Он склонился перед Мамочкой. Она смотрела на него сияющим взглядом.
— Только бы вы пришли к правильному результату, — ответила Мамочка. — Крайне важно, чтобы мы точно знали, как воспринимает народ.
— Результат точен, — с поклоном ответил Штальхут. У него за спиной, на широкой передней панели компьютера, с бешеной скоростью мерцали разноцветные лампочки. — Если компьютер запрограммирован правильно и объем данных достаточен, то он не может выдавать неправильных результатов.
— Разве это не чудо?! — Мамочка подняла взгляд на Херфорда.
Херфорд растроганно кивнул. Для него здесь все было так же торжественно, как в церкви.
— Как жаль, что этого не видит Боб! — воскликнула Мамочка.
Боб (Роберт), ее двадцатидвухлетний сын, шалопай, тунеядец, бабник, лентяй, был гордостью Мамочки и источником постоянного гнева Херфорда.
— Компьютер, как потаскуха, — прошептал мне в ухо Хэм. — С обоими ты можешь делать практически все, что захочешь. Просто Херфорд и Мамочка этого пока еще не поняли.
— И никогда не поймут, — так же шепотом ответил я.
— Т-с-с-с! — Ротауг бросил на меня свирепый взгляд.
— Главное — составить такую анкету, чтобы люди могли отвечать свободно, без какого-либо давления и манипуляций, — вещал Штальхут.
«Чем меньше дел, тем больше фанаберии, — подумал я. — Ты же, сука, точно знал, какие ответы получишь. Те, которых ждут твой издатель и его Мамочка. Ответы, которых ты без подтасовок никогда не получишь от такого количества людей, а то бы у нас уже давно было социал-демократическое, а не коалиционное правительство!» Я посмотрел на Хэма и Берти, и они мне кивнули. Они думали точно так же. Джентльмен Освальд Зеерозе рассматривал меня с клиническим интересом и теребил свой платочек в нагрудном кармане. Он был самым рафинированным и холодным из всех! Мне еще никогда не доводилось видеть, чтобы он высказал собственное мнение. Его называли «серым кардиналом». Он был чем-то вроде Талейрана, Фуше или Гольштейна…
— И как выглядела анкета? — спросила Мамочка.
— Могу, милостивая госпожа, сказать только вкратце, — с готовностью ответил Штальхут. — Сначала были общие вопросы: нравится ли участнику опроса «Блиц», что ему нравится больше всего, что частично и что меньше всего. — Мамочка кивнула. — За этим следовали вопросы: какие иллюстрации понравились, какие понравились больше всего, какие он хотел бы видеть, чего не хватает. И почему? Главный вопрос — о политической ориентации — был искусно завуалирован в общих вопросах. У участника опроса ни на секунду не возникало чувства, что его спрашивают о политических взглядах. Многие люди не любят говорить о таких вещах с незнакомыми, не так ли?
— Совершенно верно, — прогудел Херфорд.
Теперь я мог живо представить себе, как интервьюеры опрашивали своих жертв.
Нормально поставленный вопрос звучал бы так: «Вы за или против возрождения правого радикализма в Федеративной Республике?»
Но вопрос определенно был вроде: «Считаете ли вы, что демократический журнал должен развернуть дискуссию с новыми праворадикальными движениями в нашем народе?»
— Далее, — продолжал Штальхут, — анкеты поступили к нам. Нашей командой, — он жестом указал на мужчин в белых халатах, которые вполголоса что-то обсуждали за столом позади него, — была разработана специальная программа. Вначале все анкеты были рассортированы по типу опрошенных групп. Общие ответы мы ввели в компьютер в качестве дополнения к прежней стандартной аналитической программе, которая регулярно обновляется. Особый вопрос, а именно вопрос о желательной политической позиции «Блица» стал основным пунктом новой программы и был введен в компьютер в виде новой серии, раздельно по каждой из названных групп. Я хотел бы особо отметить, что мы ввели также ответы опрошенных, которые хотя и не читают «Блиц», но знакомы с его названием, и имеют свое мнение о том, какую позицию должно занимать такое крупное иллюстрированное издание в современной внутриполитической ситуации. — Берти посмотрел на меня. Я посмотрел на Хэма. Хэм посмотрел на Берти. — Нас интересовало также молодое поколение до сорока лет. Известно, что в этой возрастной группе у нас никогда не было постоянных или потенциальных покупателей. Однако ответы показали, что если журнал изменится соответствующим образом, то мы получим отличный шанс привлечь еще одну, до сих пор не охваченную, прослойку населения!
— Чудесно! — воскликнул Херфорд.
Чудесно, — подумал я, ты уж совсем зарвался, собака, студент-недоучка! Мы и без тебя знаем, что молодые люди придерживаются скорее левых, чем правых взглядов. Скольких молодых людей ты опросил, мой милый друг Штальхут? И скольким из всех опрошенных ты задал такие перевернутые вопросы (чтобы не догадались о твоих уловках), что, вопреки их намерениям, «Нет» в ответах практически означало «Да»?
— А после того как вы рассортировали анкеты, вы ввели результаты через вот эту штуку — эту пишущую машинку или что это такое — в компьютер? — спросила Мамочка.
— Это в самом деле что-то вроде пишущей машинки с определенными контрольными функциями, милостивая госпожа, — ответил Штальхут. — Здесь как раз запускается маленькая программа. Тут мы еще используем эту, ну, скажем, пишущую машинку. При обработке же десяти тысяч анкет мы пошли более современным путем. Благодаря великодушию господина Херфорда, — низкий поклон Штальхута, покровительственный жест рукой издателя, — мы обладаем компьютером такой мощности, что он теперь через фотоэлементы сам считывает анкеты с крестиками на полях «Да», «Нет» или «Не знаю», переносит импульсы на магнитную пленку, а нам нужно только подключить магнитную пленку к установке обработки данных. Поскольку мы с особой тщательностью разделили анкеты на отдельные группы, то компьютер теперь тоже может давать особо точные и подробные ответы. Улли!
Один из мужчин в белом встал из-за стола.
— Да?
— Пожалуйста, программу RX 22, — обратился к нему Штальхут.
Молодой человек по имени Улли подошел к одному из приборов, выглядевшему как большой орган и начал нажимать кнопки. На передней панели компьютера разразился хаос. Разноцветные лампочки плясали, рывками двигались магнитные ленты. На мониторе появилась первая зеленая надпись:
БОЛЬШОЙ ГОРОД, СЕВЕРНАЯ ГЕРМАНИЯ, КОММЕРЧЕСКИЕ ПРОФЕССИИ, ПОЛ МУЖСКОЙ, ВОЗРАСТНАЯ ГРУППА — 35–40, ЖЕНАТЫЕ, ДЕТЕЙ 1–2, ЧАСТНЫЙ ДОМ ИЛИ КВАРТИРА НА ПРАВАХ СОБСТВЕННОСТИ, ДОХОД — 4000–5500 МАРОК В МЕСЯЦ, ЕВАНГЕЛИСТЫ, АВТОМАШИНЫ КЛАССА ОТ ВЫШЕ СРЕДНЕГО ДО ДОРОГИХ…
ИТОГ: ЧЕТКУЮ ЛЕВОЛИБЕРАЛЬНУЮ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ ВО ВСЕХ МАТЕРИАЛАХ «БЛИЦА» ГОТОВЫ ПРИВЕТСТВОВАТЬ… 13,2 %…
Херфорд и Мамочка, как зачарованные, не сводили глаз с мерцающего экрана. В машине по обработке данных слышалось тихое шуршание, щелкали реле, мигали лампочки, рывками вращались кассеты магнитофонов.
…БОЛЬШОЙ ГОРОД, СВОБОДНЫЕ ПРОФЕССИИ, ПОЛ МУЖСКОЙ, ВОЗРАСТНАЯ ГРУППА — 35–40, НЕЖЕНАТЫЕ, ДЕТЕЙ НЕТ, КВАРТИРОСЪЕМЩИКИ, ДОХОД — 1700–2500 МАРОК В МЕСЯЦ, ЕВАНГЕЛИСТЫ, АВТОМАШИНЫ НИЗШЕГО ИЛИ СРЕДНЕГО КЛАССА…
ИТОГ: ЧЕТКУЮ ЛЕВОЛИБЕРАЛЬНУЮ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ ВО ВСЕХ МАТЕРИАЛАХ «БЛИЦА» ГОТОВЫ ПРИВЕТСТВОВАТЬ… 22,4 %…
— Херфорд! Двадцать два и четыре десятых процента! — восхищенно воскликнула Мамочка. Херфорд серьезно кивнул.
Директор издательства Зеерозе стоял, скрестив руки на груди, с отсутствующим выражением на лице.
Доктор Хельмут Ротауг поправил рукой свой жесткий воротник и снова замер.
Штальхут по-прежнему держался, как знаменитый врач. Уже полчаса зеленые надписи, мерцая, ползли по экрану. Я еле держался на ногах. Берти откровенно зевнул. Херфорд бросил на него сердитый взгляд и снова повернулся к монитору, с которого Мамочка не сводила глаз. Лицо у него преобразилось. «Так, должно быть, выглядел Моисей, впервые увидевший Землю обетованную», — подумал я.
…ИТОГОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ… ИЗ ВСЕХ ОПРОШЕННЫХ ЧЕТКУЮ ЛЕВОЛИБЕРАЛЬНУЮ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ ВО ВСЕХ МАТЕРИАЛАХ «БЛИЦА» ГОТОВЫ ПРИВЕТСТВОВАТЬ… 35,6 %…
— Это же просто чудесно! — воскликнула Мамочка. — Херфорд, народ думает так же, как и мы, теперь мы в этом убедились.
— Да, — отозвался Херфорд, — народ и мы едины.
«Больше всего Штальхут восхищает меня тем, — подумал я, — что он вывел не 35 или 36 процентов, а тридцать пять и шесть десятых». Эти шесть десятых вызвали во мне неожиданное уважение к человеку, которого я презирал. Вот это личность!
26
…ИТОГОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ… ВОПРОС: КАКОЕ МИРОВОЕ СОБЫТИЕ ПОСЛЕДНИХ МЕСЯЦЕВ ВАС ОСОБЕННО ПОТРЯСЛО?
Эта надпись мерцающим компьютерным шрифтом появилась на экране монитора в потрясающем кабинете Херфорда. Мы все вернулись сюда, и Штальхут с нами, чтобы давать дальнейшие пояснения. По соседству, в помещении без окон, его коллега Улли выкрикивал по списку некоторые дополнительные вопросы программы, которые могли заинтересовать Херфорда.
…ОТВЕТ: ОККУПАЦИЯ ЧЕХОСЛОВАКИИ ГОСУДАРСТВАМИ ВАРШАВСКОГО ДОГОВОРА — 82,3 %…
— Черт возьми! — воскликнул Херфорд.
«А чего он ожидал?» — подумал я.
— Да, и меня это потрясло больше всего, — отозвалась Мамочка и сдвинула свою охотничью шляпку с длинным пером. Я пристально посмотрел на Штальхута. Он ответил ничего не выражающим взглядом. Я снова отхлебнул разогретого кофе с лимоном.
…ИТОГОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ… ВОПРОС: СЧИТАЕТЕ ЛИ ВЫ ЭТУ ИНТЕРВЕНЦИЮ ОПРАВДАННОЙ?..
ОТВЕТ: НЕТ — 95,4 %…
«Ну, и вопросец», — подумал я.
…ИТОГОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ… ВОПРОС: ЧУВСТВУЕТЕ ЛИ ВЫ СИМПАТИИ К ЧЕШСКОМУ НАРОДУ?..
ОТВЕТ: ДА — 97,8 %…
— Вы видите, — сказал Штальхут, — что одновременно мы подготовили программу для дальнейших серий или репортажей.
Да, мы это видели.
…ИТОГОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ… ВОПРОС: СОЧУВСТВУЕТЕ ЛИ ВЫ СУДЬБЕ ЛЮДЕЙ, ВЫНУЖДЕННЫХ БЕЖАТЬ?
ОТВЕТ: ДА — 98,2 %…
Вот значит, как выглядели вопросы. Хотел бы я знать, кто были эти один и восемь десятых процента, ответивших «Нет» или «Не знаю».
…ИТОГОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ… ВОПРОС: КОГО ИЗ БЕЖЕНЦЕВ ВАМ БОЛЬШЕ ВСЕГО ЖАЛЬ: А — ИНТЕЛЛЕКТУАЛОВ?.. Б — ПОЛИТИКОВ?.. В — ЛЮДЕЙ ИСКУССТВА?.. Г — ПРОСТЫХ ЛЮДЕЙ?.. Д — МУЖЧИН?.. Е — ЖЕНЩИН?.. Ж — ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖЬ?..
ИТОГОВЫЙ ОТВЕТ: ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖЬ — 97,8 %…
— Боже мой, бедные, бедные детки, — вздохнула Мамочка и провела рукой по глазам.
— Это ужасно, — сказал, ни на кого не глядя, доктор Ротауг таким тоном, как если бы говорил: «Мне одну порцию куропатки с гарниром».
…ИТОГОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ… ВОПРОС: ХОТЕЛИ БЫ ВЫ УЗНАТЬ, КАК ЖИВУТ ЭТИ ДЕТИ И МОЛОДЕЖЬ СЕЙЧАС?..
ОТВЕТ: ДА — 85,8 %…
Ну, вот, наконец-то, все стало понятно.
Берти опять не удержался от замечания.
— Этот компьютер — просто чудесная вещь, — вставил он.
— Правда ведь, просто чудо, — поддержал Херфорд. Этот человек никогда не понимал иронии.
Штальхут поднялся, подошел к монитору и нажал на кнопку. Тем самым он, очевидно, подал сигнал своим друзьям прервать демонстрацию программы, потому что зеленые буквы погасли, и на черном экране снова замерцали искры. Снизу издалека еле слышно донесся до двенадцатого этажа гул работ на строительстве метро.
— Судя по итоговым результатам, — снова заговорил Штальхут, — первостепенной темой, гарантирующей наибольший успех, компьютер считает репортаж или серию репортажей о беженцах — детях и молодежи, если «Блиц» собирается сделать поворот на леволиберальный курс. У этой темы — наивысший рейтинг, она интересует в одинаковой степени женщин и мужчин — независимо от уровня доходов, профессии, возраста и социального положения.
— Значит, с первой темой решено, — торжественно произнес издатель. — Херфорд пригласил вас, чтобы продемонстрировать результаты этого исследования, равно как они были продемонстрированы его жене и ему, в первый раз и одновременно с вами. Есть ли у кого-либо из господ возражения против намеченного леволиберального сдвига? Мы живем в условиях демократии. В моем издательстве демократическое руководство. Я и сам демократ.
Меня чуть не стошнило.
— Если большинство аргументированно убедит Херфорда, нет, если просто образуется большинство, то Херфорд готов отказаться от своего плана. Итак?
Молчание.
— Ни у кого нет возражений?
— Ни у кого, — с верноподданическим усердием откликнулся Лестер. — Мы все в полном восторге. Не так ли, господа?
— Все — за, — коротко заключил Ротауг.
— Хорошо, хорошо. Херфорд просил вас, Роланд, и вас, Энгельгардт, принять участие в этом обсуждении, потому что вы — наш лучший автор, а вы — наш лучший фотограф. Херфорд хочет, чтобы первый репортаж или серия, или что там получится были сделаны его лучшими людьми. Понятно?
— Да, — ответил я. Сейчас мне снова стало немного лучше. В фирме с левым уклоном работать куда приятнее, чем с правым, хотя я хорошо понимал, что это только временное состояние. Я имею в виду уклон.
— Это большая честь, благодарю вас, господин Херфорд, — сказал Берти. — С удовольствием поработаю снова с Вальтером. И ваше решение я тоже приветствую. Интеллигентный человек вообще не может быть сегодня ни кем другим, кроме как социалистом.
Все озадаченно молчали.
Наконец Херфорд гулко рассмеялся.
— Вы правы, Энгельгардт. По крайней мере, это свидетельствует о том, что Херфорд не идиот, не так ли? — сказал человек с миллионным состоянием. Он снова стал серьезным: — Значит, вы двое напишете репортаж о детях и подростках.
— Но просветительская серия… — тут же влез в разговор Лестер.
— Бывало, я писал четыре серии одновременно, — возразил я.
— Так-то оно так. Только вот с этой последней частью, которую вы сдали сегодня… — коварно добавил Лестер, он долго ждал этой минуты.
— А что с этой частью? — спросил Херфорд.
— У женской конференции была масса возражений, — пояснил Лестер и улыбнулся мне.
Я улыбнулся ему в ответ.
— Ради Бога! Вы конечно же должны их все учесть, Роланд, — испуганно сказал Херфорд. — И как можно быстрее. Сегодня для вас последний день. Самый последний. А почему…
— Болел, — вставил Хэм.
— Опять слишком много… ага, — Херфорд откашлялся. — Ну, так теперь перепишите, и поскорее.
Лестер выжидающе посмотрел на меня.
«Вот дерьмо!» — подумал я. Видите, какой у меня благородный характер?
— Разумеется, господин Херфорд, — ответил я. — Прямо сейчас и перепишу.
Лестер перекосился от злости. Он так надеялся, что я снова откажусь, и будет скандал.
— И обязательно напишите еще одну часть для следующего номера, раз вы с Энгельгардтом уезжаете! — добавил Херфорд.
— Сегодня к ночи сделаю, — снова согласился я. Вот так характер! Но я хотел писать о детях. Неважно, что у меня получится. Мне нужно, наконец, снова написать о чем-нибудь другом, кроме оргазмов, объятий, петтинга и эрогенных зон. Чтобы не сойти с ума.
— Очень хорошо, — сказал Херфорд.
— Знаем, знаем, чего от вас можно ждать, — добавила Мамочка. Мне опять стало плохо. — Боже мой, да он еще может краснеть, посмотри, Херфорд!
— В самом деле, — искренне удивился Ротауг. Он смотрел на меня, напряженно размышляя.
— Где находятся эти дети, Штальхут? — спросил Херфорд.
— Подростки до восемнадцати лет и дети находятся в лагере «Нойроде». Он расположен к северу от Бремена. Взрослые размещены в других лагерях. В «Нойроде» находятся дети многих наций. Сейчас, конечно, большей частью чехи. Но также греки…
— Греция входит в НАТО, — напомнил Ротауг.
— …поляки и испанцы.
— А как же наш дом на Мальорке! — вскрикнула Мамочка и нервно прикрыла рукой рот.
— Кончайте мне про НАТО и наш дом на Мальорке, — произнес Херфорд, поднимаясь. На лице у него появилось свирепое выражение. — Хотим мы леволиберального курса или нет? Ну, то-то же! Тогда нам нужно немного мужества. Ничего не случится. Целая толпа социалистов имеют дома в Испании. И НАТО ничего не может Херфорду сказать. Кроме того, это будет репортаж с human appeal и human interest! — Он увлекся, широко раскинул руки. — Дети, невинные дети! Конечно, политический background,[83] но с человеческой точки зрения! С человеческой, господа, понятно?
— Да, — сказал Берти.
— Да, — повторил я, — с человеческой. — Я вспомнил о старике Клефельде, которого вовремя не уволили.
— Ну и в то же время — это ваше дело, как вы сделаете, за это вам Херфорд и платит! — в то же время, чтобы это было потрясающее обвинение против бесчеловечности во всех государствах и при всех режимах! Вы слышите, Ротауг? При всех!
— «Нойроде», эта Голгофа невинной молодежи… — изрек Хэм на полном серьезе.
— Голгофа, да-да, Голгофа! Надо бы вынести это в заголовок! — воскликнула Мамочка и снова провела рукой по глазам.
Может, вы думаете, что я здесь преувеличиваю, представляю людей в карикатурном виде. Нет, вовсе нет. Все именно так и было. Именно так. Слова Мамочки казались чудовищным цинизмом, если вспомнить, что творилось в этом издательстве с его компьютерной направляющей. Но Мамочка и Херфорд не были циниками. Они были слишком ограниченными, чтобы быть циничными. Не были они и плохими людьми. Я имею в виду: не хуже других миллионеров, желающих иметь еще больше миллионов. Они были просто частью общественной системы, в которой жили. Ей они были обязаны своим возникновением и своим существованием. Как и все мы. Тот, кто понимал это, как Хэм, был умным и достойным сочувствия, потому что, если в нем еще оставалась хоть капля порядочности, он вынужден был постоянно одурманивать себя, чтобы выдержать на этом предприятии, не послать все к черту. Одурманивать себя музыкой и философией, не ведущей никуда. Одурманивать себя бабами и пьянством, как я, друг и ученик Хэма. «Прямо сейчас в издательстве перепишу это дурацкое продолжение, — думал я, — а потом поеду домой и набросаю еще одну часть для следующего номера. Тогда поздно ночью или рано утром мы сможем двинуться в путь. Главное, не забыть взять с собой карманную фляжку и пару бутылок „Чивас“».
— И позаботьтесь о подходящей фотографии на обложку, господа, — напомнил очень похожий на английского аристократа директор издательства Освальд Зеерозе. Он вообще заговорил в четвертый или пятый раз за эти полдня. Молчаливый господин. Его время говорить было еще впереди, но тогда я об этом не догадывался. — Мы должны подчеркнуть изменение политической ориентации, в том числе и зрительно.
Берти кивнул.
Херфорд снова пошел к конторке. Все встали и молитвенно сложили руки, кроме Хэма, Берти и меня.
— Херфорд прочтет еще одно место из Книги книг. Пусть оно озарит свершение нашего плана, — произнес издатель. Он перелистал огромные тяжелые пергаментные страницы, довольно много, пока нашел то, что искал. Он знал Библию наизусть. — «Господь мой пастырь… — читал Томас Херфорд, и Мамочка взволнованно кивала. — Ни в чем не будет у меня недостатка. Он укрепит мою душу; Он выведет меня на правильную дорогу именем своим». — Херфорд замолчал, потом твердо сказал: — Аминь.
— Аминь, — повторили снова все, за исключением Хэма, Берти и меня. Зазвонил телефон.
Парой широких шагов издатель пересек кабинет, подошел к письменному столу и поднял одну из трубок.
— Да? — Он послушал. — Хорошо. — Нажал клавишу серебряного селектора и прогудел: — Ну, что, Харальд?
— Повезло, Томми! — раздался из динамика ликующий голос шефа отдела кадров. — Сразу же порылся в картотеке и нашел одного! Петер Миле! Работник группы «Кружки читателей»… У нас всего два года. Социалист. Давно уже выступает и подстрекает людей насчет их прав и профсоюза и так далее!
— Значит, социалист? Подстрекатель, да? — прорычал Херфорд.
— Да. И с ним у нас еще достаточно времени для извещения об увольнении! У него жена, трое детей, квартира на правах собственности и куча долгов на шее. Всего двадцать девять лет. Он не будет скандалить и сразу уйдет, не сомневаюсь!
— Ну, отлично, — провозгласил Херфорд, и его лицо расплылось в счастливой улыбке. — Надо увольнять парня, тут и думать нечего! Херфорд знал, что ты кого-нибудь найдешь, Харальд! Так что, Херфорд может немедленно принимать молодого Хеллеринга на фирму, ха-ха-ха!
— Ха-ха-ха! — доносился из динамика пронзительный смех Харальда Фиброка. А мы, значит, перешли на левый курс.
Боже, укрепи наши души.
С леволиберальными принципами.
С грудью, полностью обнаженной.
НАБОР
1
Следующим поездом на Гамбург был скорый из Кёльна, в Бремен он прибывал в 4.30 утра, а в Гамбург — в 5-49. Фройляйн Луиза купила билет второго класса и села на скамейку возле столба. Огромный вокзальный перрон был безлюден. Кое-где на скамейках, как на всех вокзалах, спали, съежившись от холода, бездомные.
Несколько раз фройляйн Луиза вздремнула, но каждый раз, когда ее начинало клонить вперед, она вздрагивала. «Сумка!» — испуганно проносилось в голове. Сумка с огромными деньгами! Сумку она зажала между собой и столбом, и она неизменно оказывалась на месте, когда фройляйн Луиза испуганно встряхивала головой.
В четыре она вышла на продуваемую сильными ветрами привокзальную площадь и купила у торговца сосисками стаканчик горячего кофе, который тут же выпила маленькими глотками. Потом она взяла еще один. Продавец в киоске с закусками безудержно зевал. Он вышел в раннюю смену и явно не выспался. Фройляйн Луиза, вздремнувшая лишь самую малость, была совершенно бодра. «В последний раз я ездила на поезде почти год назад, — вспомнила она. — А в Гамбург я и вовсе никогда не ездила поездом, всегда только на машине. Да, уже три года, как я не была там…»
Фройляйн Луиза чувствовала себя так, словно вместо отчаянно мерзкого кофе выпила шампанского, она просто парила в облаках от счастья. На самом деле, это, конечно, было волнение из-за той авантюры, в которую она пустилась. Из болота и одиночества — сразу в Гамбург, а там куда? Куда податься сначала? И что делать? Плана у нее пока никакого не было. Все, что было, — это телефонный номер, два имени и два адреса.
О, она не имела права ошибиться! А ее друзья! Конечно же, ведь у нее еще были друзья! Они помогут ей, как уже не раз помогали. Разве она добралась бы так быстро сюда без Франтишека? Луиза приободрилась и смело заказала пару сосисок с горчицей. Съедая их, она мысленно взывала к Всевышнему: «Спасибо, что Ты так все устроил и помогаешь мне. Пожалуйста, помогай мне и впредь. Сделай так, чтобы зло было наказано, а добро восторжествовало — так всегда говорит наш господин пастор, правда, он говорит, что это произойдет в отдаленном будущем. Пожалуйста, сделай так, чтобы со мной это произошло очень скоро, у меня больше нет времени долго ждать. Аминь».
После этого она соскребла кусочком второй сосиски остатки горчицы с картонной тарелочки, с которой ела, и отправила сосиску в рот. Затем расплатилась.
— Вы довольны, сударыня? — поинтересовался невыспавшийся продавец.
— Очень, — ответила фройляйн Луиза и великодушно солгала: — Кофе был отличный.
— Спасибо, сударыня.
Луиза внимательно пересчитала мелочь, которую она получила с десятимарковой купюры, пододвинула усталому продавцу двадцать пфеннигов и сказала:
— Это для вас.
— Спасибо, сударыня, — снова сказал продавец.
Поезд из Кёльна прибыл вовремя.
На безлюдной, пустынной платформе завывал ветер. Раскачивались дуговые лампы. Неожиданно раздался хриплый голос из репродуктора. Из поезда никто не вышел. Садились лишь двое — фройляйн Луиза и высокий, крепкий мужчина лет сорока в толстом пальто, без шляпы и с красной книгой в руке.
Дверь вагона, который облюбовала себе фройляйн Луиза, не открывалась.
— Разрешите… — произнес высокий мужчина и улыбнулся фройляйн Луизе. У него были темные глаза, широкое лицо и черные, коротко остриженные, вьющиеся волосы. Он ловко повертел ручку, и дверь внезапно распахнулась. Мужчина протянул фройляйн Луизе руку. — Ступеньки высокие, — произнес он, помогая женщине, словно догадался, что у нее проблемы с ногами. Он поднялся вслед за ней. Как только он закрыл за собой дверь, поезд тут же тронулся. Они пошли по тускло освещенному проходу, фройляйн Луиза впереди. Жалюзи на большинстве окошечек купе в этом вагоне второго класса были опущены.
— Все, конечно, спят, — заметила фройляйн Луиза. — Если открыть дверь, мы их разбудим.
— Там, в конце, в одном купе горит свет, — отозвался мужчина.
Дойдя до него, они обнаружили, что жалюзи были подняты и в купе никого не было.
— Зайдем сюда, — предложила фройляйн Луиза. Мужчина кивнул, и они вошли в купе. Фройляйн Луиза села к окошку, плотно прижав сумку к коленям. Незнакомец, у которого под синим пальто оказались темный костюм и белая рубашка с красно-розовым галстуком, сел напротив нее.
— О, — тут же спохватился он, — вы, может быть, хотите еще поспать? Я выключу свет.
— Нет, нет, не надо, — отозвалась фройляйн Луиза. — Я не хочу спать. Совершенно не хочу. А у вас ведь книга с собой. Вы наверняка хотите почитать.
— Да, если вам это действительно не помешает, — ответил мужчина в розовом галстуке. Он вытащил из нагрудного кармана очки в тонкой золотой оправе и надел их. «Стало быть, он дальнозоркий», — отметила про себя фройляйн. Мужчина улыбнулся ей. Она улыбнулась в ответ. Когда он поднял книгу и открыл ее, у фройляйн Луизы перехватило дыхание. Ей удалось прочитать название, написанное золотыми буквами на красной обложке:
НОВЫЙ ПОРЯДОК НОВОГО НЕБА И НОВОЙ ЗЕМЛИ
А внизу, помельче, стояло:
СТОРОЖЕВАЯ БАШНЯ
Сердце фройляйн Луизы забилось почти с той же скоростью, с какой вращались колеса поезда, уже мчавшегося на всех парах сквозь бушующую непогоду. Мужчина в розовом галстуке читал не что иное, как книгу свидетелей Иеговы! А «Сторожевая башня» — так называлось их издательство!
«Кошмар какой, все будто во сне, — проносилось в голове у фройляйн. — Этот человек… а если он тоже… Наверняка он здесь, чтобы сопровождать ее в Гамбург… А там ее будет ждать еще один друг, чтобы помочь ей… Нет, это было бы слишком чудесно, слишком замечательно»!
Фройляйн Луиза, конечно, побаивалась внешнего мира, который она едва ли знала после стольких лет одиночества на болоте. Поэтому она еще немного сомневалась. Ах, как было бы однако чудесно, если бы друзья вели и наставляли ее в будущем!
Фройляйн Луиза тихонько пробормотала:
— И произошло это в начале судного дня тысячелетнего царства…
— Что? — Мужчина в розовом галстуке поднял голову и, улыбаясь, взглянул на нее поверх очков. — Вы что-то сказали?
— Да, — произнесла фройляйн Луиза. — Я сказала, и произошло это в начале судного дня тысячелетнего царства…
Мужчина удивленно посмотрел на нее.
— И в самом деле, — проговорил он. — Я об этом как раз читаю. В этот судный день, сказано здесь, земля и небо «бежали» от лица того, кого Святой Иоанн Богослов увидел сидящим «на великом белом престоле». «И не нашлось им места», этому растленному небу и этой растленной земле. Они тогда были навеки уничтожены. Так сказано в «Откровении Святого Иоанна Богослова».
Окончательно осмелев, фройляйн Луиза процитировала: «И увидел я великий белый престол и Сидящего на нем, от лица Которого бежало небо и земля, и не нашлось им места…»
— Откуда же вы это знаете? — серьезно и дружелюбно поинтересовался высокий мужчина.
Почувствовав доверие к нему, фройляйн Луиза уверенно произнесла тоном заговорщицы:
— Ну так ты же сам мне все время об этом рассказывал все эти годы на болоте! В чем дело? Ты что, не узнаешь меня? Я же Луиза!
Последовала короткая пауза, потом мужчина кивнул:
— Разумеется. Как это глупо с моей стороны. Ты — Луиза.
Колеса продолжали яростно стучать, поезд мчался в ночи, вокруг все так же неистовствовала буря.
— А ты мой свидетель Иеговы, — продолжила фройляйн. — Ведь это ты? Мой друг, умерший свидетель?
Мужчина ответил еще дружелюбнее, мягким, вкрадчивым голосом:
— Да-да, я и есть твой умерший друг, твой свидетель.
— Из болота, — уточнила фройляйн.
— Из болота, — подтвердил он.
— Я ведь почему спрашиваю, мне нужно быть осторожной, понимаешь? В плохую историю мы ввязались, вот что я тебе скажу. Между нами говоря, только по секрету: я иногда ужасно боюсь.
— Тебе не надо ничего бояться, Луиза, — произнес мужчина. — Я с тобой.
— Вы ведь все со мной, да? — в вопросе женщины звучала надежда.
— Конечно, мы все, — подтвердил мужчина.
— В чье тело ты вселился? — спросила фройляйн Луиза. — Как мне тебя называть?
— Меня зовут Вольфганг Эркнер, — ответил мужчина. — Ты можешь смело называть меня Вольфгангом, я ведь тоже называю тебя просто Луизой, а не… — Он помедлил.
— А не Луизой Готтшальк, — блаженно улыбнулась фройляйн.
— Луизой Готтшальк, — повторил мужчина, которого звали Вольфгангом Эркнером, и кивнул.
— Я помню все, о чем ты мне рассказывал там, на островке в болоте, — с гордостью произнесла фройляйн Луиза. — Я все взяла себе на заметку. Ты так часто разговаривал со мной, столько лет подряд, и летом, и зимой. Мы ведь и впрямь старые добрые друзья, верно? Ты умерший, а я живая. И когда я к вам приду…
— Ну-ну! — воскликнул Вольфганг Эркнер. — Это еще что такое?
— Да ладно, — отмахнулась фройляйн Луиза. — Я уже старая и не слишком здоровая. Я знаю, еще немножко — и я у вас, у моих добрых друзей. Ну, не будем об этом. Нам еще надо успеть кое-какие важные дела доделать, верно?
— Да-да, конечно, — согласился он.
— А сказать тебе, что ты мне еще рассказывал о новом порядке, сказать? — окончательно разволновалась фройляйн Луиза.
— Да, пожалуйста, — кивнул Вольфганг Эркнер. Его взгляд по-прежнему лучился добротой и благожелательностью.
— В общем, это место из «Откровения», — начала фройляйн Луиза, — точно указывает нам время, когда эту вселенную сменят новое и справедливое небо и новая и справедливая земля, — так ведь?
— Да, это так, Луиза, — подтвердил Эркнер.
— И все это будет не в конце тысячелетнего царства Господа нашего Иисуса Христа, после того как все зло на небе и на земле… — Она споткнулась и беспомощно засмеялась. — Как там дальше?
Он взглянул в свою книгу и быстро произнес:
— После того, как все зло на небе и на земле будет уничтожено в символическом «озере огненном…».
— Точно! — воскликнула фройляйн Луиза. — Ну и память у меня стала, словно решето. — Она икнула и прикрыла рот ладонью. — Извини. Это сосиски.
— Какие еще сосиски?
— По-венски, — ответила фройляйн Луиза.
— Ах вот как, — сказал Вольфганг Эркнер.
— Я на вокзале съела парочку, но слишком торопилась, потому что очень голодная была. Теперь они дают о себе знать… Нет, не тогда придет срок, а в начале тысячелетнего царства Господа Иисуса Христа. Там, в «Откровении», так красиво об этом сказано, ты можешь мне зачитать эти слова, Вольфганг? Они есть в книжке, я знаю, ты не расставался с ней там, на болоте. Прочти, пожалуйста.
— С удовольствием, Луиза, — ответил высокий темноволосый гсподин, поправил очки и прочел нужное место из красной книги: «И увидел я новое небо и новую землю; ибо прежнее небо и прежняя земля миновали, и моря уже нет. И я, Иоанн, увидел святый город Иерусалим, новый, сходящий от Бога с неба, приготовленный как невеста, украшенная для мужа своего…»
— Да-да, — вздохнула фройляйн Луиза.
— «…И услышал я громкий голос с неба, говорящий: се, скиния Бога с человеками, и Он будет обитать с ними; они будут Его народом, и Сам Бог с ними будет Богом их. И отрет Бог всякую слезу с очей их, и смерти не будет уже; ни плача, ни вопля, ни болезни уже не будет; ибо прежнее прошло». — Высокий мужчина посмотрел на Луизу. — Вот как это звучит, — произнес он.
Буря продолжала неистовствовать, она словно трепала и раздирала в клочья вагоны мчащегося поезда, в воздухе стоял такой рев и вой, что фройляйн Луиза сказала:
— Какое ужасное рычание. Так, наверное, ревут бедные души в самом низу. Ведь там должно быть ужасно.
— В самом низу, — повторил он.
— Ты ведь понимаешь меня? — спросила фройляйн Луиза.
Мужчина, которого звали Вольфгангом Эркнером, кивнул, серьезно и дружелюбно.
— Эти слова «И смерти не будет уже» — я никогда не могла понять, — произнесла фройляйн Луиза. — Звучит красиво, но ведь все вы, мои друзья, мертвы и счастливы. А в жизни вы были несчастны. Что с вами станет, если смерти больше не будет?
— Сейчас еще рано об этом думать, — заметил темноволосый мужчина.
— Да, конечно, это глупо с моей стороны, Вольфганг, — согласилась фройляйн Луиза. — Это время еще должно прийти. А с ним придут большие перемены, в том числе и для вас!
— Наверняка, — кивнул темноволосый.
— Я вообще-то давно готова быть с вами, — заметила Луиза. — Но не сейчас. Сейчас не получится. Мне ведь надо в Гамбурге дело сделать, верно?
Он кивнул. Теперь буря неслась вдоль поезда. Локомотив издал долгий и жалобный свист. Неожиданно все окутал густой туман, его огромные клочья пролетали мимо окна.
— Убийца маленького бедного Карела должен быть найден, — сказала фройляйн Луиза, — и Ирину мы должны отыскать, пока с ней ничего не случилось. Это самое важное. Это единственно важное! Разве я не права?
— Совершенно права, — ответил темноволосый мужчина. Он наклонился вперед, снял очки и произнес: — Нам надо поговорить, Луиза.
— Так мы ведь это и делаем!
— Еще и о других вещах. О тебе.
— Но ты же все про меня знаешь! — удивилась фройляйн, вдруг почувствовав беспокойство.
— Я еще не все знаю. И должен узнать гораздо больше, — произнес темноволосый мужчина. — И ты должна все обо мне узнать. Меня зовут Вольфганг Эркнер, но я не свидетель Иеговы, и во мне нет духа твоего умершего друга.
— Нет? — испуганно воскликнула она. — Но…
— Подожди, — перебил он. — С тобой ничего не случится. Я позабочусь о тебе.
Странным образом успокоившись, словно смогла заглянуть в будущее, фройляйн Луиза вдруг сказала:
— Да, ты не причинишь мне зла, я тоже так думаю. Все будет замечательно.
Он кивнул. Потом произнес:
— Я должен сказать тебе, кто я по профессии. Я врач.
— Врач? — воскликнула фройляйн.
— Да, психиатр.
— О Господи! — Фройляйн Луиза вновь почувствовала себя несчастной. — А книга? Откуда она у тебя?
— Лежала на лавке на платформе. Я прихватил ее с собой, чтобы почитать.
— А что ты вообще делаешь в это время в поезде? Почему ты не в постели?
— Я бы рад был, — вздохнул он. — К сожалению, мне нужно в Гамбург. И как можно быстрее.
— Зачем? — спросила фройляйн Луиза и почувствовала, что дрожит. Она ошиблась. Он не был ее умершим другом!
— Сегодня вечером из нашей клиники сбежала пациентка, — серьезно произнес Вольфганг Эркнер. — Она очень больна. Мы пока не знаем, как ей удалось покинуть клинику. Во всяком случае, дорожная полиция Гамбурга поймала какую-то женщину и полагает, что это может быть моя пациентка. Поэтому я должен срочно попасть туда, чтобы это установить.
— Вы… Вы… Вы психиатр! — пролепетала фройляйн.
— Да, Луиза, — мягко ответил он.
— Не называйте меня Луиза! — воскликнула она в сердцах.
— Как вам будет угодно, фрау Готтшальк, — произнес он. — Боюсь, что вы не здоровы…
— Я абсолютно здорова!
— …и поэтому нам надо сейчас поговорить о вас. — С этими словами психиатр Вольфганг Эркнер встал и подошел к двери, чтобы опустить жалюзи.
«Западня! — в отчаянии подумала фройляйн Луиза. — Я попала в западню, глупая гусыня! Если я окажусь в руках у этого доктора, он меня уже не выпустит…»
Эркнер спустил первые жалюзи. При этом он повернулся к фройляйн Луизе спиной.
2
Прежде чем потерять сознание, я успел увидеть, как Ирина распахнула дверцу со своей стороны и выпрыгнула из машины. Затем я отключился, жидкость сделала свое дело, и о том, что было дальше, я узнал только потом. Ирина увидела машину, которая спускалась вниз по Эппендорфер Баум, и помчалась на дамбу, размахивая руками. Из оливкового «бьюика», остановившегося за моим «Ламборджини», пулей вылетел мужчина — приятель торговца аптекарскими товарами, который зажал мне лицо мокрой тряпкой. Приятель, который так же мало был в «большом европейском турне», как и второй парень, схватил Ирину за пальто, рывком развернул ее, отчаянно сопротивлявшуюся, и попытался затащить в свою машину. Она ударила его ногой по берцовой кости и заорала как сумасшедшая. Однако буря все заглушила. Ирина освободила одну руку и расцарапала ногтями ему щеки. Из царапин заструилась кровь. Мужчина выругался и изо всех сил ударил Ирину по лицу. У нее перехватило дыхание, и она рухнула. Он подхватил ее и потащил в машину. Парень, так ловко отключивший меня, подскочил к нему, и они вместе попытались засунуть Ирину в «бьюик». Им это почти удалось, но тут, скрипя тормозами, рядом остановилась машина, спустившаяся с дамбы. Это было такси, из которого выскочили двое — Берти и водитель. Шофер, пожилой мужчина, держал в руке домкрат. Он кинулся на парня, усыпившего меня, поднял тяжелый домкрат и обрушил на него. Он целился человеку, который назвался Ричардом Мак-Кормиком, в голову, но попал по затылку. Этого было достаточно. Мак-Кормик дико заорал, упал на колени, держась за шею, а потом опрокинулся. Берти подскочил ко второму парню, воевавшему с Ириной. Она уже почти целиком исчезла на заднем сиденье «бьюика». Берти рванул парня за воротник назад и со всей силой, на которую был способен, ударил его снизу в челюсть. Парень, вероятно, был боксером. Он отряхнулся, словно собака, заворчал и бросился на Берти. В следующую секунду тот повалился, и оба покатились по дамбе. Боксер наносил Берти удары кулаками по лицу. Берти, тоже не какой-нибудь недомерок, изо всех сил молотил того по бокам. Оглушенная Ирина выбралась из машины и стала звать на помощь, но ее крики тонули в реве ветра. Ирина подняла домкрат, выпавший из рук водителя, подбежала к человеку по имени Мак-Кормик, который как раз пытался подняться, и ударила его, опять попав тому по затылку. Он снова повалился.
В этот момент я пришел в себя, и это было первое, что я увидел. Ирина продолжала кричать, но даже я, выйдя из машины почти рядом с ней, не мог разобрать ни слова. Она цеплялась за меня, и наконец я ее услышал:
— Я боюсь… Боюсь… Я так боюсь… Они убьют нас…
— Нет, — ответил я, все еще в легком оцепенении. — Нет! Бегом в мою машину, быстро!
— Но…
— Вперед! — заорал я на нее. Она всхлипнула, обежала «Ламборджини» и снова заползла на переднее сиденье. Понемногу картина вокруг меня начала проясняться. Постепенно ко мне возвращалась способность соображать. Я наклонился, поднял с пола машины из-под руля «кольт-45», выпавший у меня, и вгляделся в этого Мак-Кормика. Он не двигался, и какое-то время должен будет пробыть в отключке. Я подскочил к Берти и второму парню. У Берти дела были плохи. Он лежал на спине, а приятель этого Мак-Кормика, сидевший над ним на корточках, дубасил его кулаками по черепу, обмотанному вновь загаженной повязкой. Водитель пытался оттащить второго парня. Тот размахнулся широким свингом и попал шоферу в живот. Шофер опустился на мостовую, схватившись за живот. Все-таки он был пожилым человеком. Смелым, но староватым. Споткнувшись о него, я направился к Берти и второму парню, поднес к его груди кольт и рявкнул:
— Хватит, или я стреляю, скотина! — Свободной рукой я ударил парня в челюсть. Он прокусил себе губу, и из его рта тонкой струйкой потекла кровь.
— Встать! — гаркнул я.
Покачиваясь, он поднялся, и на нетвердых ногах угодил прямо в руки вновь очухавшегося шофера. Тот размахнулся от всей души и опять долбанул правым кулаком парня в челюсть. Да, сила у этого водилы была. Второй парень закачался. Шофер ударил еще раз по тому же месту. Парень грохнулся о капот «бьюика» и осел.
Водитель побежал к своей машине.
Я заорал:
— Что вы хотите делать?
— Вызвать полицию. По радио…
— Не надо! — закричал я. — Никакой полиции! Пока они приедут, тут все начнется сначала. И кто знает, подфартит ли нам еще раз!
— Вы не высокого мнения о полиции, а? — В его голосе мне послышался подвох.
— Да! — рявкнул я в ответ.
— Ладно, — проорал он. — Мне все равно. Куда вы хотите ехать?
— Прочь отсюда, скорей! — Мне сейчас меньше всего была нужна полиция. После того, как эта полиция расследовала дело Конни Маннера, я потерял к ней всякое доверие.
— Ясное дело, прочь отсюда! Только куда? — заорал шофер. Берти поднялся, слегка покачиваясь и держась за голову, однако снова ухмыляясь. Ох уж этот Берти!
— Отель «Метрополь»! — выкрикнул я.
— Я поеду следом за вами, — проорал шофер. Рев бури почти полностью заглушал наши крики, мы едва понимали друг друга.
— Не нужно! — крикнул я.
— Это вам так кажется! — крикнул он в ответ. — А если снова что-нибудь случится?
— Он прав, — заметил Берти, стоявший вплотную ко мне. — Пусть едет за нами. Старик, это прямо какой-то вестерн. Славный мужик, этот водила. Вовремя мы успели, скажи? — Он махнул рукой шоферу и крикнул: — Езжайте за нами!
Водитель кивнул и прокричал:
— Прихватите мой домкрат! — Он лежал рядом с «Ламборджини». Мы рванули к моей машине, я увидел, что в некоторых окнах зажегся свет и появились силуэты людей. Одно окно было уже открыто. Я не разобрал, что выкрикивал человек в пижаме. Оба туриста, якобы путешествующих по Европе, лежали на дороге. Ну и славно. Я подобрал домкрат, бросил его под сиденье и вскочил в автомобиль. Берти запрыгнул с другой стороны. Обе дверцы захлопнулись. Я с пол-оборота завел машину, мотор взвыл, и, описав на визжащих пневмошинах безумный вираж по дамбе, я помчался в том направлении, откуда мы приехали. За нами, в зеркале заднего вида, я видел фары такси. Старик давал жару, как молодой.
Берти рассказал, что задержался в аэропорту Фульсбюттель, в это время всегда целая вечность уходит на то, чтобы отправить или получить грузы — в отделе фрахта работают только два человека. Такси в аэропорту тоже не было, только то, что сейчас едет за нами.
— Мужик мчался как сумасшедший, — продолжал Берти. — Я ему сказал, дело срочное. У меня было предчувствие, что мы понадобимся. — Он потрогал свою голову. — Сукин сын, чертовски больно. Всегда по больному месту. Что же все-таки произошло?
Ирина вдруг начала так дрожать, что все ее тело просто сотрясалось. Шок проявился с опозданием.
— Они хотели похитить меня… Они хотели похитить меня… Они хотели… — Она вдруг пронзительно завизжала: — Что здесь происходит? Что здесь происходит? Я этого больше не выдержу! Я хочу знать, что здесь… — Она снова вцепилась в руль, «ламборджини» швырнуло в сторону.
— Проклятье! — завопил я. — Не смейте…
Берти влепил ей две пощечины: одну справа, другую слева. Она замолкла и растерянно посмотрела на него. Руль однако отпустила, к счастью. Я уже был двумя колесами на тротуаре.
— Сожалею, — произнес Берти. — Я не мог иначе. Все в порядке?
Она кивнула и снова принялась всхлипывать, я тем временем сбросил скорость и свернул на Ротенбаум-шоссе, на этот раз в южном направлении. Она проговорила:
— Извините. Мне действительно очень жаль. Но у меня все смешалось в голове. Я абсолютно ничего не понимаю. Что здесь произошло? Скажите же мне!
— Мы это выясним, — ответил я. — Вы же сказали в лагере, что доверяете мне, разве не так?
— Да.
— И сейчас еще доверяете?
— Да, господин Роланд. — Это прозвучало очень тихо.
— Тогда все в порядке. — Я посмотрел в зеркало заднего вида.
— Твой дружок исправно едет за нами, — заметил я.
— Слава Богу, — отозвался Берти. — У меня остались бумаги по этому гомику Конкону в его машине.
Я свернул налево на Хагедорнштрассе. Такси ехало следом. Я пересек улицу Миттельвег и оказался на Харвестерхудер-вег. Мы поехали вдоль темного Альстерпарка, за которым я увидел пенящуюся воду озера Альстер.
Я миновал дом с мемориальной доской в честь Генриха Гейне, «поэта, борца и голоса совести», как там было написано. Я часто видел эту доску, когда останавливался в «Метрополе». На другой стороне улицы, в парке, находился Англо-Германский клуб. За улицей Софиентеррассе возвышалось внушительное здание гарнизонного управления, дальше шли виллы, а за ними концерн Герлинга. Большинство домов на правой стороне улицы скрывалось за пышными палисадниками.
— Цирк какой-то, — произнес Берти. — Ни за что на свете не поверю в такие вещи. Но если кто-то поверит, он с этим нахлебается.
— С чем нахлебается? — не понял я.
Такси неизменно шло следом.
— Ну, с твоей шизанутой фройляйн Луизой и ее друзьями. — Незадолго до этого я рассказал ему о своих приключениях с французским антикваром, польским портье и норвежским матросом. — Бред какой-то. А может, нет?
Я пожал плечами.
— Я спрашиваю себя: а может нет? Так просто, не потому что я мог бы в это поверить. Я ни во что не верю. Только странно все как-то.
— Что? — спросила Ирина.
— Шофер, — пояснил Берти.
— А что с ним?
— Да так, — сказал Берти. — Глупо просто даже говорить об этом. Но его фамилия Иванов. Владимир Иванов. Он сам мне рассказал. Он приехал в Германию ребенком с родителями и остался здесь. Тыщу лет назад. В Гамбурге. Говорит вообще без акцента.
— Русский? — переспросила Ирина в полной растерянности.
— В том-то и дело, что русский, — ответил Берти. — Все ведь становятся такими хорошими, когда умрут, как сказала фройляйн, разве нет? Могу только сказать, если бы американец и норвежец вздумали вернуться к жизни, хорошими они бы сейчас точно не были. Но это, конечно, чистейший бред. Мы же нормальные, а фройляйн сумасшедшая. Мертвые не возвращаются.
— Разумеется, нет, — сказал я, вспомнив о своем телефонном разговоре с Хэмом.
— Чушь собачья, — сказал Берти.
— Чушь собачья, — отозвался я.
Мы помолчали, я ехал мимо Пезельдорфервег, мимо многочисленных красивых вилл по правой стороне улицы и темного парка и воды по левой стороне. Я миновал Альстер-шоссе, продолжение которого, уходящее в парк, называется Фэрдамм.
Я знал, что Фэрдамм ведет к причалу парома, который был меньше, чем ходящие по Альстер теплоходы. Днем он все время курсировал между парком и домом паромщика в Уленхорсте на другой стороне озера Альстер. Возле причала стояла маленькая будка паромщика. Сейчас, конечно, паром не ходил, а летом там можно было видеть множество пестрых столиков и шезлонгов под кронами деревьев.
На правой стороне улицы между фешенебельными виллами возвышалась череда монументальных зданий: концерн «Райхольд Альберт Хеми», Главный финансовый комитет Гамбурга, Государственный институт музыки и изобразительных искусств, Британское Генеральное консульство, а внизу, на Альте-Рабенштрассе, находилось Немецкое граммофонное общество…
Ирина произнесла:
— Наверное, мертвые остаются хорошими, пока они мертвы, и снова становятся злыми, когда возвращаются в жизнь?
— Ирина! — возмутился я. — И вы туда же?
— Нет-нет, — смутилась она. — Слишком много виски, шока и страха. Из-за этого я несу такую чушь.
— Нам нужно сохранять ясную голову, — сказал Берти. — Одной сумасшедшей достаточно во всей этой истории. Дайка мне бутылку, Вальтер. Вот скотство, как же этот мерзавец дал мне по башке!
— Ну, ты ему тоже, — заметил я.
— Да уж, — улыбнулся Берти своей ангельской улыбкой и отхлебнул из бутылки. — Я ему тоже пару раз знатно врезал, скажи?
— Первоклассно, старичок, — сказал я, переехав на другую сторону улицы. Мы доехали до отеля «Метрополь». Я остановился у входа. За нами притормозило такси с русским водителем. Из отеля вышел знакомый мне служащий. Мы пожали друг другу руки. Он занялся нашим багажом и моими костюмами, а этот русский — Владимир Иванов — ему помогал.
У Иванова было весьма приятное лицо, он был очень дружелюбен. Я поблагодарил его и дал денег, довольно много. Сначала он не хотел брать, потом, разумеется, взял. Он протянул мне визитную карточку со своей фамилией и номером его такси с радиосвязью и пояснил:
— Там стоит телефон диспетчерской. Я сейчас посплю пару часов, не больше. Если вам завтра, я имею в виду — сегодня утром, понадобится такси, закажите меня. Я вас отвезу куда угодно. Я надежный.
— Да, — согласился я, — мы это заметили.
— А дела идут не слишком хорошо, — добавил он. — Вы вспомните обо мне, господин?
«Почему бы и нет», — подумал я и произнес:
— Непременно.
3
Номер люкс 423 в отеле «Метрополь» представлял собой полную противоположность барачной комнатке фройляйн Луизы, где я впервые увидел Ирину. Я все время возвращался в мыслях к этой каморке. Если она олицетворяла собою нищету, то этот номер — богатство ФРГ. Все окна выходили в парк. Через переднюю вы попадали в салон, откуда мягкая обитая дверь вела в спальню. Из спальни можно было пройти в ванную — синий кафель, пол с подогревом, две ванны и две раковины огромных размеров. Спальня и салон были обиты темно-синими шелковыми обоями с вышитыми лилиями, полы были устланы коврами поверх синего велюра; изысканная мебель, белые потолки с лепниной и плотные шторы из синей камки довершали картину роскоши. Ложе было немыслимых размеров, как и полагается французским двуспальным кроватям, с кремовыми деревянными спинками, позолоченными сверху. В салоне стоял диван. В обеих комнатах были и хрустальные люстры, и торшеры, и интимная подсветка — на любой вкус. Ну и, разумеется, электрические подсвечники на стенах. В салоне висели старинные офорты с видами Гамбурга, в спальне — репродукции картин Буше.
Ирина в своем матерчатом пальтишке, надетом на кофту и жакет, стояла посреди салона. Оглядев все это великолепие, она сказала:
— В таком отеле я еще никогда не жила. А вы, да. Вы, конечно, всегда останавливаетесь в таких?
— Да, — ответил я. — Если нет ничего получше.
Она отодвинула одну из тяжелых портьер и выглянула в темный парк. Я подошел к ней. Дождь хлестал по стеклу, а на другом берегу, на улице Шене Аусзихт, еще сверкали огни, отражаясь в водах озера Альстер и небольшого пруда, расположенного в парке.
— В этом пруду тоже вода из Альстера, — заметил я.
Она опустила портьеру и серьезно посмотрела на меня, ее большие глаза были полны грусти.
В дверь постучали.
Служащий отеля принес мой чемодан, костюмы, магнитофон, дипломат и пишущую машинку, получив за это, как обычно, чересчур щедрые чаевые.
— Спасибо, господин Роланд. Вашу машину диспетчер гаража отогнал вниз, в гараж.
— Прекрасно, — кивнул я. Самое время исчезнуть «Ламборджини». — А можно у вашего диспетчера взять сейчас напрокат машину?
— Разумеется, господин Роланд. Мы работаем круглосуточно.
Он улыбнулся и исчез. Сразу же за ним появился этажный кельнер, свежий, безукоризненно одетый, бодрый и вежливый. (Было 3 часа 25 минут ночи!) Он принес серебряный термос со льдом, два бокала, содовую и бутылку виски «Чивас».
— Ваша бутылка, господин Роланд. Господин Хайнце сразу же уведомил нас, что вы прибыли.
— Спасибо, — сказал я. Кельнер, в свою очередь, также получил чересчур щедрые чаевые.
Затем явился другой служащий и принес упакованную в целлофан зубную щетку, зубную пасту, щеточку для ногтей, жидкость для полоскания рта и баночку очень хорошего крема для снятия косметики.
— С наилучшими пожеланиями от господина Хайнце, — произнес он. — Желаю хорошо отдохнуть.
— Минутку! — ухватил я его у самой двери. — Чаевые.
— Премного благодарен, господин Роланд!
Самые большие чаевые, разумеется, получил господин Хайнце, ночной портье. Он был один. У расположенной напротив стойки приема постояльцев в это время никто не работал. Лишь двое служащих стояли наготове. Я здесь знал всех портье, и тех, кто работал в дневную смену, и ночных. Знал всех по имени. Это было важно. Любому человеку приятно, когда помнят его имя. Я знаю десятки портье во всем мире. Зубную пасту и остальное Хайнце собрал из запасов гостиницы. Ведь у Ирины не было ничего, кроме того, что на ней. «Надо будет пойти и купить ей днем все, что положено», — подумал я.
Хайнце был крупным мужчиной с бледным лицом и большими мешками под глазами. Он просто просиял, когда мы вошли. Я всегда спрашивал себя, искренне ли радуются портье некоторым постояльцам, если, конечно, не брать в расчет чаевые. Думаю, что искренне. Им так часто приходится иметь дело со всякой мразью, что они рады приветствовать того, кто им симпатичен.
В огромном холле позади стойки Хайнце горели все огни. Бесшумно двигаясь, уборщицы основательно драили холл. Даже их пылесосы почти не производили никакого шума. Я сказал Хайнце, что мне нужен номер люкс, желательно как можно выше, и отдельный номер с ванной для Берти.
— У нас сейчас два конгресса, господин Роланд… Но для вас мы, конечно, что-нибудь подыщем, как всегда…
Как всегда.
С какими девочками я здесь только не останавливался. Достаточно было лишь подписать карточку постояльца. Я просто писал «с женой». Так я сделал и на этот раз. Господин Хайнце и бровью не повел. Он обращался к Ирине с изысканной вежливостью, та безумно стеснялась. Казалось, он не замечал, что наша одежда еще хранила следы уличной грязи после драки. Мне никогда не приходилось самому заполнять карточку; если я приезжал ночью, это делал портье, днем — кто-нибудь из администрации напротив. У них были все сведения обо мне. Они меня знали. Я рассказал Хайнце что-то насчет багажа Ирины, по ошибке попавшего не в тот самолет, и он пообещал собрать все необходимое и прислать в номер. Нам отвели номер 423. Классный парень, этот Хайнце. Вообще, все ребята из отеля были классные.
Берти получил номер этажом выше, по-другому не получилось. Хайнце ненадолго оставил свой пост и поднялся с Ириной и со мной в номер, включил свет и убедился, что все в порядке. Уходя, он получил свои чаевые. Если все постояльцы дают ему столько же, он скоро сможет открыть собственный «Метрополь»…
Бесконечно смущенная, Ирина стояла в своем пальтеце посреди салона и осматривала мебель и офорты. От замешательства и усталости у нее слипались глаза. Я подошел к серебряному подносу с виски и откупорил «Чивас». Сделав два крепких напитка, я протянул один стакан Ирине.
— Нет, спасибо, — отказалась она.
— Давайте, давайте, — сказал я. — Выпейте. Иначе вы не сможете заснуть.
— Я не хочу.
— Надо! — Я сунул ей стакан в руку. — Пожалуйста!
Мы оба выпили. Ирина посмотрела на меня с беспокойством.
— Я должна знать, где Ян. Я должна знать, где эта другая женщина. И кто она. Я должна знать…
— Да, — произнес я. — Да, да, да, мы тоже должны это знать. И мы это выясним! Но без вас! Вы останетесь здесь. Для вас это слишком опасно.
— Опасно?
— Разве вы только что не испытали на своей шкуре, что они собирались с вами сделать?
— Вы действительно считаете, что меня хотели похитить?
— Нет, не думаю, — сказал я и закурил сигарету.
— Но почему? Почему, господин Роланд? — заорала она вдруг, и я подумал, а не врезать ли мне ей, как это сделал Берти, пару пощечин, поскольку она все время была на грани истерического срыва. Я надеялся, что виски ее успокоит или она свалится и, наконец, угомонится. При том, что предстояло нам с Берти, Ирина и в самом деле была ни к чему. Я был страшно рад, что привез ее сюда, в «Метрополь». Сначала у меня мелькнула мысль остановиться в гостинице подешевле, где бы меня никто не знал, но потом я решил, что там Ирина будет не столь надежно защищена.
— Почему, господин Роланд, скажите на милость? — Теперь она шептала. Она была такой сонной, что покачнулась, но все же устояла на ногах.
— Дайте мне время. Пару часов. Потом я смогу вам ответить, — сказал я.
Она испугалась.
— Вы хотите опять уйти?
— Я должен.
— Куда?
— Я еще сам не знаю. Мы должны найти этого парня Конкона. Если мы его найдем, мы выудим из него, почему он хотел увезти вас из лагеря. Но сейчас надо действовать быстро. Мы и так уже чертовски опаздываем.
— И я останусь здесь одна?
— Да, когда я уйду, я вас запру…
— Что?
— …и скажу портье, что он имеет право отдать ключ только мне. Вы будете спать глубоким сном и не услышите, если кто-нибудь постучит. Я закрою дверь в салон. Правда, телефон у кровати вы, наверное, услышите. Я не хочу его отключать, потому что сам могу позвонить вам. Отвечайте лишь в том случае, если вы точно узнали мой голос или голос господина Энгельгардта. Ясно?
— Да.
— В других случаях вешайте трубку.
— Но почему?
— Потому что вашей жизни грозит опасность, — грубо отрезал я. — До вас это все еще не дошло?
Она слегка задрожала, допила свой стакан и протянула его мне. Она была очень, очень красива. Я подумал, с каким удовольствием я бы ее… Я снова наполнил ее стакан и сказал:
— Я желаю знать, дошло это до вас или все еще нет?
— Да, — вздохнула она. — Дошло. Но почему…
— Все, больше никаких вопросов. У меня нет времени. Марш в постель. — Я пошел в спальню, где на полке стоял мой чемодан, открыл его и достал темно-синюю пижаму. — Вот, — протянул я ей. — Завтра прибудут новые шмотки.
Ее лицо вдруг запылало.
— Ну что еще на этот раз?
Она показала на французскую кровать.
— Когда вы вернетесь… Я хочу сказать… Вы ведь тоже должны где-то спать, а…
— Ладно, ладно, — сказал я, взял подушку и одеяло с одной стороны кровати и бросил их на диван: — Вы будете спать на кровати, а я тут. — Я вытащил из чемодана вторую пижаму, тапочки и пакет с туалетными принадлежностями. — Не бойтесь. Я не подойду слишком близко к вашей чистой народно-демократической душе.
Затем я прошел в ванную и оставил там свой пакет.
— Неизвестно, когда я вернусь. Раз за ночь мне нужно… я имею обыкновение сходить в ванную. Вам придется извинить меня. Многолетняя привычка. Я пройду очень тихо и ни в коем случае не буду пытаться вас изнасиловать.
— Вы так добры ко мне, — проговорила Ирина.
— Да, — согласился я.
— Как подумаю… Еще пару часов назад я была в этом грязном лагере… а теперь здесь, в этом роскошном отеле…
— Да, — сказал я.
— Все как в кошмарном сне.
— Да, — опять сказал я, подумав, что это был не сон и все еще будет намного кошмарнее. Еще я подумал, с каким огромным удовольствием я бы лег спать с Ириной, как со всеми другими девушками, которых брал с собой в отели. Но потом мне стало ясно, что в действительности я не хочу этого. Это была странная мысль. Я не понимал самого себя. С этой девушкой по имени Ирина впервые в моей жизни все было иначе. Это бесило меня.
— Все, немедленно в постель! — набросился я на нее. — Мне нужно работать.
Она испуганно взглянула на меня, потом затрясла головой, пробормотала что-то по-чешски, неуверенно побрела в спальню и закрыла за собой дверь.
Я снова налил себе виски, почти не разбавляя, уселся возле телефона цвета слоновой кости, который стоял на красивом низком шкафчике, и снял трубку.
Отозвался девичий голос с коммутатора. Я назвал номер Конни Маннера.
— Секунду, господин Роланд, — любезно произнесла девушка.
Сразу же раздались длинные гудки. После трех гудков я услышал, как у Конни сняли трубку. Никто не подавал голос. Кто-то дышал в трубку.
— Эдит, это Вальтер Роланд, — произнес я. — Если вы не уверены, что узнали мой голос, я не обижусь, если вы не ответите.
— Я узнаю ваш голос, — сказала Эдит. Она явно продолжала пить и была полупьяной, что было заметно по манере говорить, реагировала она однако достаточно быстро. Слава Богу.
— Где вы остановились, Вальтер?
— Там же, где всегда останавливаюсь в Гамбурге, — ответил я, по-прежнему не слишком доверяя телефону в квартире Конни.
— Ах вот как, в… понимаю.
— Из больницы звонили?
— Да.
— Ну и?
— Я должна немедленно приехать, Конни стало гораздо хуже, сказал какой-то мужчина… Я перезвонила в больницу и спросила, звонили ли они… — Она всхлипнула. — Они сказали, что нет. Точно не звонили. Состояние Конни не изменилось. До вечера я ничего другого не услышу, сказали они. Вальтер, кто хотел выманить меня из квартиры?
— Не знаю, — ответил я и выпил. — Видите, как хорошо, что я вам посоветовал всегда перезванивать в больницу?
— Да. Почему вы звоните только сейчас? Вы ведь говорили…
— Раньше никак не получалось, извините. Еще кто-нибудь звонил?
— Да. Какой-то незнакомый мужчина. Явно накрыл трубку платком, такое было впечатление.
— Что он сказал?
Она всхлипнула.
— Эдит!
— Он… он сказал, что Конни умрет, даже если перенесет операцию… умрет… очень скоро… Если скажет хоть слово…
— Кому?
— Мне… если я его увижу… Мужчина сказал, я должна его сразу предупредить, если приду к нему. Одно слово — и он не доживет до следующего дня. Они доберутся до него и в больнице.
— Он именно так и сказал?
— Как так?
— Короче, что он дословно сказал?
— «Одно слово — и он не доживет до следующего дня. Мы доберемся до него и в больнице».
— Мы? Не я?
— Нет, мы! Мы! Мы! Мы!
— Эдит!
— Извините. Я уже почти обезумела от страха, Вальтер. Вы должны понять меня!
— Я понимаю. С вами ничего не может случиться, и с Конни тоже ничего не случится, — сказал я, добавив про себя: «Надеюсь».
— Кто был этот человек?
— Я это выясню. Дайте мне время. Я все выясню. А сейчас перестаньте пить и постарайтесь немного поспать!
— Я не могу заснуть!
Мы еще немного препирались, потом я сдался. Я закурил новую сигарету и снова снял трубку. Опять отозвался девичий голос с коммутатора. Я назвал ей домашний номер Хэма во Франкфурте. Он моментально снял трубку.
— Что случилось, малыш?
Я все рассказал ему. Он ни разу не перебил меня. Под конец произнес:
— Это будет крупное дело, я это сразу почуял. Херфорд согласен освободить три или четыре страницы. До десяти мне нужны твой убойный текст и подписи под картинками.
— Да, Хэм.
— Что с этим Конконом?
— Пока не знаю. Мы сейчас туда как раз отправляемся.
— С девушкой ничего не должно случиться, Вальтер! Это самое важное! Что она делает?
— Уже в постели. Я ее запру. На людей в отеле можно положиться.
— Хорошо. Позвони мне, когда сможешь и когда будут новости. Я не сплю. Слишком волнуюсь.
— Не больше моего, — ответил я. — Что вы делаете? Курите трубку?
— Да, — сказал он. — И слушаю пластинки.
— Шёк?
— Да, Шёк, — подтвердил Хэм.
— А что именно Шёка?
— «Заживо погребенный», — сказал Хэм. — Под него хорошо думается.
— О чем?
— Как будут развиваться эти события, чем все закончится.
— И как вам кажется? Хорошо все кончится?
Вместо ответа он только тихо произнес:
— Ни пуха ни пера, Вальтер.
И повесил трубку. Я чувствовал на далеком-далеком расстоянии своего «шакала» (который имел дьявольскую привычку мгновенно оказываться совсем рядом). Поэтому допил залпом свой стакан и поднялся, чтобы пойти в ванную. Мне приспичило. К тому же я хотел посмотреть, спит уже Ирина или нет. Она не спала. Спальня вообще была пуста. В ванной комнате горел яркий неоновый свет. Спиной ко мне стояла Ирина. Склонившись над одной из раковин, она чистила зубы. И была совершенно голая.
Она явно заметила в зеркале над раковиной мое появление, потому что испуганно обернулась, держа в руках стакан и щетку, с пастой вокруг рта. У нее были красивые, крепкие груди с крупными коричневыми сосками и широкими ободками, совсем узкие бедра, длинные ноги, маленький живот, какой бывает у всех истинно красивых женщин, а под ним я увидел темный треугольник.
В мою плоть моментально ударила кровь. Я еще никогда не видел такого совершенного девичьего тела. Я вдруг забыл обо всем, что намеревался делать, обо всем, что произошло и еще должно произойти. Я хотел Ирину здесь и сейчас. Немедленно, сию минуту. Это была единственная мысль, которая владела моим разумом. Я начал приближаться к ней. Она замерла, повернувшись ко мне, не в состоянии сдвинуться с места, в ее глазах застыла паника. Плевать. Мне на все было наплевать. Я хотел обладать этой девушкой. Я должен был обладать ею. У нее была совершенно чистая и белая кожа, соски набухли и устремились ко мне. Я ощущал, как в моем члене неистово и неукротимо стучит кровь. Я медленно приближался к ней. Мысленно я уже был на ней, в ней. Кровь гудела во мне.
Ирина выронила стакан. Он разлетелся вдребезги на полу, выложенном плиткой. Щетка отлетела в сторону. Она стояла, не двигаясь, не делая даже попыток прикрыться. Я дошел до нее. Коснулся ее плеч. Мои руки скользнули ниже. Она смотрела на меня широко раскрытыми черными глазами. На ее губах все еще пенилась зубная паста.
Во всем виноваты были ее глаза. Только глаза.
Я не смог этого сделать. Разумеется, я мог бы. Но это было бы такой подлостью. Эти темные грустные глаза сказали мне, какой бы я был скотиной, если бы сделал это.
Я не сделал этого.
Я схватил свою пижаму, лежавшую на обтянутом махровой тканью табурете, и, подумав, что еще никогда в своей жизни не вел себя так, сказал:
— Простите. — Потом я произнес: — Давайте, я помогу вам. — Я помог Ирине надеть мою пижаму, которая была слишком велика ей. Мы закатали рукава и штанины, Ирина выглядела в ней ужасно смешно. Только мне она не казалась смешной. Ей тоже было не до смеха. Все это время ее глаза ни на секунду не отпускали меня. Я вытер ей платком пасту с губ. — А теперь в постель, — приказал я. — Осторожно, осколки. Подождите. — Я поднял ее, отнес в спальню, уложил в кровать и прикрыл. — Спокойной ночи, — буркнул я, она продолжала неотрывно смотреть на меня. Я пошел. Когда моя рука коснулась ручки двери в салон, раздался ее голосок, такой тихий, что я с трудом услышал его:
— Господин Роланд…
— Да? — Я обернулся.
Все те же глаза. Ее чудесные, грустные глаза.
— Подойдите ко мне, — прошептала Ирина.
Я вернулся к ней, медленно, нерешительно. Остановился перед кроватью. Она сделала знак, чтобы я наклонил к ней голову. Я низко нагнулся. Она легко поцеловала меня в губы и шепнула:
— Спасибо.
Я выпрямился, неожиданно поняв, что не могу больше выносить взгляд этих глаз, этой безбрежной чистоты, ясности, беспомощности.
Я быстро вышел из спальни. В салоне я снова доверху наполнил серебряную фляжку, захватил свое пальто, блокнот, диктофон и вышел из номера, заперев на два оборота входную дверь.
4
Когда я вошел в номер Берти на шестом этаже, он разговаривал по телефону. Я кивнул ему, прошел через комнату в ванную, бросив при этом взгляд на разложенные на кровати вырезки, посвященные Карлу Конкону, которые нам прислали из архива. Они были разбросаны по всей постели. В ванной я воспользовался туалетом, слегка ополоснулся и счистил грязь со своего пальто. После чего вернулся к Берти. Тот все еще висел на телефоне. Теперь он молчал, хотя на другом конце провода явно никого не было.
— С кем это ты? — поинтересовался я.
— Автоинспекция, — улыбнулся Берти. В нем не чувствовалось ни капли усталости.
— Разве там кто-нибудь есть в это время? — удивился я.
— Один-единственный человек. На случай срочных запросов полиции. Но я его знаю. Выиграл у меня когда-то пятьсот марок в покер и с тех пор страдает комплексом вины. Повезло мне, что у него как раз ночное дежурство. Конечно, то, что он наводит для меня справки, запрещено, но он это делает. Друзей надо иметь.
— Тогда, в покер, ты, конечно, помог ему выиграть?
— Ясное дело, — просиял Берти. — Друзей много не бывает.
— А что с полицейским управлением? Ты там кого-нибудь застал? Хэм говорит, мы должны обязательно срочно заявить туда, сам понимаешь.
— Само собой, я уже звонил в полицейское управление. У меня там есть знакомый начальник отдела по розыску пропавших. Ведь нам нужен отдел по розыску пропавших, я правильно мыслю?
— Да.
— Херинг его фамилия. Старший советник по уголовным делам. Он был в Париже. На конференции Интерпола. Вернется только сегодня утром. Фамилия его заместителя Никель, советник по уголовным делам. Этого Никеля я тоже знаю, но поверхностно. Я его из постели вытащил. Он сказал — шеф в спальном вагоне, едущем в Гамбург. Я Никеля здорово прижал. Он назначил нам встречу. В одиннадцать, в управлении у Херинга.
— Чем же ты его прижал?
— Сказал ему, что речь идет об инцидентах в лагере «Нойроде», — ответил Берти, все еще держа трубку у уха. — Тот вмиг проснулся. Старик, мы должно быть угодили в огромное осиное гнездо. Этот Никель во что бы то ни стало хотел знать, в чем дело. Но я оставался непреклонен. Сказал, это мы можем открыть только Херингу. Он так разволновался, что даже забыл спросить, откуда я звоню. Так что — в одиннадцать. — Он ухмыльнулся еще шире. — Ну как, уложил крошку баиньки?
— Заткнись! — разъярился я вдруг.
Однако на Берти это не произвело ни малейшего впечатления.
— Я это сразу заметил, — пояснил он с нежной улыбкой.
— Что именно?
— Что ты испытываешь благосклонность к молодой даме. Такое от Берти не укрывается. От Берти, большого психолога. Однако большой психолог Берти говорит тебе, что юная леди любит своего жениха, даже если у жениха есть вторая невеста, насколько я слышал. Женщины — смешные созданья. На этой ты обломаешь зубы. Если уж такая кого-нибудь полюбит, парень может делать все, что угодно, она все равно будет и дальше… — Он осекся, потому что в трубке объявился его приятель. — Разумеется, я еще здесь! Так вам удалось это выяснить, Штеффене? — Он кивнул мне, сияя во весь рот. — Да? Чудесно! Потрясающе! Огромное спасибо. И кому принадлежит машина? — Он все еще улыбался, однако нервно потирал при этом подбородок. — Гм, — наконец издал он. — Вы уверены? Абсолютно уверены? Я хочу сказать, машина имела допуск на… — Я подошел к нему. — Ну ладно, — произнес он, — если это так, то тут вряд ли может быть ошибка. Я вам очень признателен, Штеффене… Что? Нет, я пока не знаю, сколько пробуду в Гамбурге. Если будет время, загляну… Ах вот как, у вас сорок восемь часов свободных! Ну тогда сыграем снова партию?.. Ерунда, вы вовсе не выуживали у меня деньги! Просто вы лучше играете в покер, чем я, вот и все. Так что ждите моего звонка! И еще раз огромное спасибо. — Он повесил трубку, продолжая расцарапывать свой подбородок и при этом улыбаться.
— Ну, — занервничал я, — может, раскроешь свою пасть?
— Это уже забавно, — произнес он.
— Что, наконец?
— Чертовски забавно. Машина, — сообщил Берти, — на которой уехали Билка, Михельсен и невеста Билки, та, вторая, имела допуск на городские похороны, и она не числилась в угнанных! Городские похороны…
5
Колеса поезда яростно стучали. Психиатр Вольфганг Эркнер встал и подошел к двери купе, чтобы опустить жалюзи.
«Западня, — подумала фройляйн Луиза. — Я попала в западню, глупая гусыня. Если я окажусь в руках этого доктора, он мне никогда уже не даст уйти. А мне ведь надо уйти! Я ведь должна…»
Когда доктор Эркнер опустил вторые жалюзи, она вскрикнула так, словно почувствовала сильную боль. Врач испуганно оглянулся. Схватив свою сумку, фройляйн Луиза бросилась вперед, налетела на Эркнера, оттолкнула его с такой силой, что он отлетел на мягкую полку, и выскочила в проход вагона.
Она промчалась по коридору до последнего купе. Осторожно и тихо отворила дверь. В купе было темно. Фройляйн Луиза различила силуэты трех людей. Все спали. Один тихонько храпел. Фройляйн Луиза вошла и медленно закрыла дверь. Она села. Колеса грохотали. Вот снаружи, в проходе, раздались шаги, они приближались, все ближе… ближе… проскочили мимо. «Это врач, он ищет меня, — проносилось в голове у фройляйн. — Что мне делать? О Боже, о Боже…»
И в этот момент раздался голос умершего студента:
— Будь бесстрашна, Луиза. Ты встретилась со своей судьбой. Это тебе предначертано.
Сердце Луизы громко заколотилось.
Голос умершего американца продолжал:
— Мы послали тебе человека, который поведет тебя к счастью.
Голос умершего поляка:
— Ты вновь увидишь этого человека, Луиза. И когда ты его снова увидишь, все дела будут жалкими и бренными. Но все обернется добром, и ты будешь услышана.
«Друзья мои, — растроганно подумала Луиза, — друзья мои, они начеку, они не оставляют меня в беде, нет-нет! И говорят мне вдруг „ты“ и „Луиза“! Впервые!»
Голос умершего русского прозвучал твердо и громко:
— Не бойся, Луиза! Нисколько не бойся! Выходи. Сейчас!
Фройляйн не задумалась ни на секунду. Она знала: ее защищают и оберегают, она неприкосновенна благодаря своим друзьям. Она поднялась, тихо вышла из купе и пошла по пустому проходу к двери вагона, намереваясь сойти, как ей было приказано. Поезд шел очень быстро. Фройляйн отметила это с легким удивлением. Она дошла до двери и нажала на ручку. Дверь приоткрылась лишь на узкую щелку, попутный ветер давил с другой стороны. Фройляйн Луиза навалилась со всей силой на дверь, чтобы открыть ее. Она была полна решимости сойти, именно сейчас, не медля ни секунды, хотя мимо проносились огни. Ей нисколько не было страшно.
— Мои друзья знают, что делают, — пробормотала фройляйн.
Поезд встряхнуло, заскрипели тормоза, ход замедлился. Неожиданно фройляйн Луиза увидела освещенные улицы, дома, которые быстро увеличивались в размере и надвигались на железнодорожную насыпь, большие белые лампы на сигнальных мачтах и подсвеченное табло перед похожей на бункер бетонной колодой, на которой стояло: Централизованный пост № 2. Фройляйн Луиза никогда раньше не ездила в Гамбург поездом, всегда только на машине. Она не знала маршрута. Поезд въезжал на вокзал.
— Спасибо, друзья, — произнесла фройляйн Луиза.
Поезд остановился. Фройляйн Луиза вышла и ступила на перрон. Лампы раскачивались на ветру. Человек десять сошло с поезда, столько же примерно село. «Это, должно быть, пересадочная станция», — подумала Луиза. В это время из репродуктора донеслось:
— Станция Ротенбург! Станция Ротенбург! Прибывший на третий путь скорый поезд из Кёльна через Бремен стоит очень недолго. Пожалуйста, поторопитесь с высадкой и посадкой!
Фройляйн Луиза стояла возле своего вагона. Она была в полной безопасности и безумно счастлива, абсолютно счастлива.
— Друзья мои, — пробормотала она, — друзья мои…
Снова раздался голос из громкоговорителя:
— В скором поезде на Гамбург, на третьем пути, просьба закрыть двери! Поезд отправляется! — Фройляйн Луиза стояла около катившихся мимо нее вагонов, ожидая появления сигнальных фонарей последнего. Потом она отправилась, наперекор ветру, грозившему сбить ее с ног, к подземному переходу и спустилась вниз по ступенькам. Переход был совершенно безлюден. Внутри стояло несколько скамеек. Луиза села на одну из них, поставив рядом сумку. «Долго я не буду здесь сидеть, — решила она, — скоро придет пассажирский поезд и доставит меня в Гамбург».
Электрические часы в подземном переходе показывали время: 4 часа 56 минут.
«Да, скоро мой поезд, — сказала она себе. — На пассажирском это будет, конечно, дольше, он ведь повсюду останавливается, но это не страшно. Главное, я убежала от доктора Эркнера. — Она улыбнулась. А затем тихо произнесла те самые слова: — „Откуда я пришла — никто не знает. Все движется туда, куда и я…“ Она глубоко вздохнула, ее лицо выражало полное душевное спокойствие, и она процитировала дальше: „Пусть плещет море, ветер завывает… Один Господь все это понимает…“»
6
— Ты, конечно, знаешь братьев Маркс, этих американских комиков, — произнес Хэм. Он зашел в мою комнату в тот самый момент, когда я дописывал последние слова предыдущей главы, и молча, пыхтя трубкой и кивнув пару раз, прочитал их. Волосы, как всегда, торчком стояли у него на голове. На нос он нацепил свои очки для чтения в стальной оправе. Потом посмотрел на меня поверх них.
— Да, — отозвался я. — Их было четыре брата.
— Сейчас в живых остался только один, — сказал Хэм. — Граучо. Ему семьдесят три года. То, что я читаю, напоминает мне один фильм, в котором он играл с одним из братьев. В этом фильме Граучо говорит: «Знаешь, в соседнем доме зарыт клад». Брат ему отвечает: «Слушай, здесь ведь нет никакого соседнего дома!» На это Граучо спокойно говорит: «Ничего страшного. Значит, мы его себе построим». Я не знаю лучшего определения парапсихологии.
— Парапсихологии? — удивился я.
— Да, все эти ощущения твоей фройляйн в поезде и в переходе — она ведь сама тебе о них рассказывала?
— Да, во время моего последнего визита. Я всегда точно записываю то, что она рассказывает, сам я ничего не придумываю.
— То, что пережила фройляйн — это точно из области парапсихологии. Мозг шизофренички функционирует иначе. Ее ощущения видоизменены. Мы не знаем, что, собственно, является причиной этих иных ощущений. Быть может, шизофреники обладают особыми способностями парапсихологии. «Пара» — означает рядом, около, то есть это околопсихология.
— Знаю, — ответил я.
— Я как раз прочитал, что писал на тему парапсихологии один умный публицист — Райнер Фабиан его зовут. Это в высшей степени интересно. Вот послушай…
— Вы в это верите, Хэм?
— Да, — ответил он. — И не только я. Ты бы удивился, если б узнал, кто только не верил во все это. Русский химик Менделеев, астроном Фридрих Цельнер, великий биолог и философ Ханс Дриш, мадам Кюри, Зигмунд Фрейд, Эйнштейн и многие, многие другие.
— Я все это считал надувательством, пока не… — Я запнулся.
— Пока не влип в эту историю, — договорил Хэм, затянулся своей трубкой и кивнул. — В жизни каждого человека наступает момент, когда он вынужден считать парапсихологию надувательством или фантастической наукой о загадочном, когда он становится верящим или неверящим братом Марксом. Мы все братья Маркс, все люди, верующие и неверующие. — Хэм сел. — Смотри, — продолжил он, — в такие «соседние дома» люди верили всегда, насколько мы вообще можем углубиться в историю. Они переносили «соседние дома» на звезды, в болото и чащобу, в зловещие уголки природы, в безлюдные замки, в мозг. Понимаешь, Вальтер, в мозг.
— Да, — отозвался я, — в мозг.
— «Соседние дома» обязательно оказывались в сверхъестественных местах. Необъяснимое всегда нуждается в драматическом обрамлении. Явления, которые ты описываешь у твоей душевнобольной, если исключить случайное совпадение, можно было бы назвать «Praekognition» — то есть предвидением. Предсказывать будущее, прорицать умела Пифия в Дельфийском храме. Даром предвидения обладал сын Данте Якопо. Спустя восемь месяцев после смерти Данте дух отца привел его во сне на то место, где была спрятана рукопись тринадцатой песни «Божественной комедии». На следующее утро Якопо отправился на это место и нашел рукопись. В английском местечке Аберфэн лавина рыхлого снега погребла под собой школьное здание, если помнишь. После катастрофы британские газеты получили десятки писем, авторы которых, живущие далеко от Аберфэна, иногда на других континентах, утверждали, что пережили катастрофу во сне еще до нее. И они с абсолютной точностью описывали жуткое место, хотя никогда не видели его!
— Мне вспоминается, — вставил я, — что сказал космонавт Гагарин, первый человек в космосе. Что-то вроде: «Во время своего полета я видел такое, что превосходит любую фантазию. И если бы мне разрешили рассказать об этом, я бы потряс все человечество!»
— Вот видишь, — оживился Хэм, — в наше время в гораздо большей степени, чем в более ранние времена, появилась готовность и способность осознать парапсихологические феномены. Гораздо большая готовность и способность, чем, к примеру, в век Просвещения, в котором существовал разум, разум и еще раз разум и ничего более. Сегодня вновь возродилась тоска по чудесам. Интерес к необъяснимым вещам никогда не исчезал. Я имею в виду религиозное стремление человека искать смысл во всем, что происходит, объяснять судьбу, выискивать закономерности в случайном, верить в неземные цивилизации и в жизнь после смерти…
— Как моя фройляйн Луиза, — вставил я.
— …и тем самым обретать защищенность! Еще никогда потребность в защищенности не была так велика у людей, как в наши дни. Таким образом и их готовность заниматься парапсихологией и верить в ее феномены никогда не была столь велика, — заключил Хэм.
— Ну что ж, — сказал я, — я тоже могу себе это объяснить. Наше время сегодня подобно двуликому Янусу. Одно лицо зовется разумом, другое — дурманом. Прыгнуть на сверхзвуковом «Джамбо-джет» в Нью-Йорк — и с ЛСД — в соседний мир. Преклонение перед компьютером — и обращение к Водолею в мюзикле «Волосы». С одной стороны, претворение в жизнь сложнейших электронных мегапроектов, с другой — такая книга, как «Воспоминания о будущем», становится мировым бестселлером.
— То-то и оно, — сказал Хэм. — Наше время уже настолько технократизировано, что люди просто вынуждены компенсировать это мечтами о чудесах! Пятьдесят пять процентов всех европейцев читают свой гороскоп. Половина западногерманского населения верит в шестое чувство. Все больше людей, из тех, что могут себе это позволить, ходят к астрологу. Каждый пятый утверждает, что уже получил парапсихологическую информацию из будущего. Это относится и к России! «Техника молодежи» называется у них один журнал с тиражом в пять миллионов. Я как раз отдавал на перевод статью оттуда о таинственном исчезновении самолетов и кораблей между Бермудами, Багамами и Пуэрто-Рико. Один советский ученый чрезвычайно энергично противится в ней рационалистической и весьма сомнительной гипотезе, что в этом «смертельном треугольнике» имеют место несчастные случаи. И, как следовало ожидать, военная индустрия сверхдержав вовсю набирает обороты в этом регионе.
— Не надо шутить, — заметил я.
— Я вовсе не шучу, — возразил Хэм. — В июле 1959 года американская атомная подводная лодка «Наутилус» покинула гавань на Восточном побережье США. На ее борту был один пассажир, никто не знал, как его звали и чем он занимался. Этот пассажир пробыл на борту шестнадцать суток. Дважды в день он запирался в своей каюте, где записывал ряд цифр и запечатывал потом бумагу в конверт. В то же самое время, на огромном расстоянии, в центре специальных исследований фирмы «Вестингхаус», сидел другой человек и также записывал цифры и запечатывал их.
— И что это значило?
— Задание НАСА, мой мальчик! Пассажир «Наутилуса» был медиумом. Два человека должны были попытаться установить нечто вроде беспроволочного «телефонного» контакта без использования энергии и, по возможности, записать одни и те же цифры.
— И результат?
— Военная тайна, — сказал Хэм. — Русские снова экспериментируют в космосе. И причем так давно и так успешно, что, по мнению директора НАСА, некоего Юджина Конеччи, вполне могут быть первыми, кто запустит на околоземную орбиту человеческую мысль!
— Человеческую мысль? — Я был сражен.
— Вот именно, — подтвердил Хэм. — Установлено, что русские усиленно работают над такими парапсихологическими проектами. Посылать и принимать человеческие мысли — это могло бы быть жизненно важно в войне, в которой вышли из строя все другие средства связи. Или возьми информационную лавину, которая сегодня катится на нас! Опять же русский, философ Тугаринов — он больше всех преуспел в области парапсихологии — намеревается обучить всех людей телепатии, то есть передаче мыслей на расстоянии, и тем самым взять их под контроль, чтобы телепатия функционировала так же надежно, как, скажем, телефон. Серии проводимых опытов не поддаются исчислению. Сегодня уже известно, что куриные эмбрионы реагируют на восход солнца, вопреки постоянным световым и температурным условиям в лаборатории…
— Как же до них доходит сигнал о восходе солнца? — ошарашенно спросил я.
— Вот именно — как? И еще! Определенные бактерии обнаруживают активность солнечных пятен в срок до четырех дней до того, как тончайшие приборы зафиксируют взрыв на солнце! А возьми кошек и собак! Человек может уйти на расстояние до двух тысяч километров, не оставляя физических следов, а они находят его! Какая информационная система указывает им дорогу?
— Да, — с горечью произнес я. — А какое чудо, когда свою дорогу найдут атомные боеголовки!
— Над этим давно работают, — отозвался Хэм. — И на Западе, и на Востоке судорожно работают над тем, над чем в пятидесятые годы только смеялись. В Харькове собаку приучили к тому, что у нее время от времени забирают щенков. Однако когда в герметически закрытом помещении щенкам причиняли боль, собака начинала нервничать, лаять и смотреть в ту сторону, в которой удерживались щенки. Французы обнаружили дар предвидения у мышей. Животных помещали в разделенную на две части клетку. Одну из половин с помощью генератора заряжали током, причем этот генератор работал очень неравномерно — его включали совершенно случайно. Избежать боли мышь могла лишь в том случае, если она своевременно перепрыгивала на незаряженную половину. Ни ученые, ни звери не знали, какая часть клетки будет заряжена следующей. И тем не менее мыши каждый раз вовремя перепрыгивали на безболезненную половину!
— Это фантастика! — воскликнул я.
— Ты тоже пишешь о фантастических вещах, — воодушевился Хэм, — только сам еще об этом не знаешь. Малыш, сейчас пришло время, когда ученые готовы расшифровать то, что Парацельс написал полтысячелетия тому назад. — Он процитировал: «Благодаря магической силе воли человек на этой стороне океана может заставить человека на другой стороне услышать то, что сказано на этой…»
— Вы хотите сказать, что больной мозг фройляйн Луизы обладает такой магической силой?
— Я не знаю этого. Я только хочу, чтобы ты не забывал обо всех этих ирреальных явлениях, когда пишешь свою историю о вполне реальных вещах, — сказал Хэм. — Сегодня ученые всего мира говорят как о чем-то само собой разумеющемся о таких понятиях, как «радио мозга», «синхроничность» и «обратная каузальность».
— Это еще что такое? — спросил я.
— «Синхроничность» — это когда два человека или больше ощущают, делают и думают одно и то же в одно и то же время. «Обратная каузальность» — когда действие наступает перед причиной.
— Так же, как друзья фройляйн Луизы, по ее убеждению, действовали еще до того, как почувствовали импульс к этому, поскольку для них не существует понятия времени, — заметил я.
— Примерно так, да, — согласился Хэм. — Физик Паскаль Жордан приводит особо наглядный пример такого предвидения. Он ссылается на наблюдение над мезонами…
— Над чем?
— Мезонами. Это такие непостоянные элементарные частицы, которые возникают и вновь распадаются при определенных процессах внутри атома. Именно там физики наблюдали процессы, которые можно было толковать таким образом, как если бы последствие действия — к примеру, распада атомного ядра — по времени предшествовало его причине, то есть столкновению мезонов с ядром!
— Предшествовало?
— Вот именно. И эту «обратную каузальность», как называет ее Жордан, он считает аналогичной процессу, который имеет место при «предвидении»!
— Белая королева! — воскликнул я.
— Что за Белая королева?
— Из «Алисы в Стране чудес». Та тоже сначала кричала, а потом уж делала себе больно.
— Точно, — согласился Хэм. — Человек, написавший «Алису», Льюис Кэрролл, был, как ты знаешь, математиком. И он также горячо интересовался парапсихологией — тогда это еще называли оккультизмом. Эта детская книжка — единственное в своем роде гениальное собрание математических и парапсихологических парадоксов и проблем.
— Написанная для маленькой девочки, которую любил стеснительный Кэрролл.
— Верно, — подхватил Хэм. — И именно в этой детской книжке он все время пытается разгадать — что способны заметить лишь сообразительные взрослые — загадки и чудеса Вселенной. Все во Вселенной имеет свои закономерности. Случайностей не бывает. Не кто иной, как Эйнштейн, сказал: «Я не могу себе представить, чтобы Бог играл с миром в кости». И духовная сфера имеет свои закономерности. Образы и мысли сочетаются так или иначе благодаря притяжению. Многие ученые сходятся сегодня на том, что особенность аффективного бессознательного состояния — в первую очередь когда затронуты пограничные ситуации существования, то есть смерть, болезнь, опасность, риск, словом, все, что касается твоей фройляйн! — в том, что она действует поверх границ психического мира в качестве «расстановщика» этих образов и мыслей. — Хэм замолчал.
Поразмыслив, я произнес:
— Бог с миром в кости не играет. А если вернуться к вашим братьям Маркс, то это значит вот что: неверующий, скептически настроенный брат, который говорит, что «соседнего дома» вовсе не существует, считает мир и самого себя аппаратами, движение которых не может поддерживаться никаким обслуживающим персоналом, существующим «вне мира». Для него — как выпадут кости, так и решится его судьба. Парапсихологическое явление он считает нормальным, только пока еще не исследованным.
— Согласен. А для другого брата, — продолжил Хэм, — для того, который знает, что в соседнем доме есть сокровище и который готов построить этот дом, если его нет, этому брату невыносима мысль, что им и его жизнью играет случай. Он не верит в свое статистически-физическое существование, зависящее от «костей». Он верит в то, что между землей и небом есть еще множество вещей, о которых человек не подозревает. Вот что думает Граучо Маркс.
— И что думаете вы, Хэм, — добавил я.
— Да, — согласился он, — я — Граучо, в частности, в случае с твоей фройляйн. И даже именно в случае с твоей фройляйн. Ибо одну вещь не могут отнять у человека ни сторонники, ни противники парапсихологии.
— А именно? — спросил я.
— Возможность исследовать самого себя, — ответил Хэм.
7
Архивом «Блица» руководила дама — Карин фон Мертцен. Потрясающая женщина, снимаю шляпу. Что бы ни говорили о нашем издании, к архиву это не относится. Архив был просто первоклассный. Один из самых хороших и обширных, которым вообще мог похвастаться какой-либо журнал или газета в ФРГ! Он был расположен в подвальном этаже и охватывал шесть больших залов. Стены каждого зала от пола до потолка были уставлены выкрашенными в светло-зеленый цвет металлическими каталожными ящичками. Ящички выдвигались. Там были лестницы, достающие до самого потолка и двигавшиеся по полозьям, так чтобы можно было подобраться к самым верхним ящичкам.
Поначалу архив располагался на земле. Но после того, как под тяжестью множества бумаг фундамент начал оседать, архив переместили в подвал и Мертценше с ее командой из пятнадцати голов (как мужчин, так и женщин) пришлось переезжать. С тех пор шесть больших залов опять стали малы, и в течение последнего года Мертценша переводит весь архив на микрофильмы. Еще два года — и работа будет закончена. Фантастическая штука, этот архив, в самом деле! А все потому, что Мертценша — фанатичка. Она построила свой архив по образцу ФБР, а это значит, что по любому событию, по любому человеку, который хоть раз стал достоянием общественности, она собирала «additional informations», то есть дополнительную информацию, строго конфиденциальную, в большинстве случаев, и полученную по таким каналам, о которых Мертценша предпочитала умалчивать. Легальные пути были весьма редки. Потому как те факты и слухи, а также хранившиеся в тайне поступки, которые можно было раскопать об одной-единственной персоне, заставили бы задрожать иного парламентария в Бонне, иного крупного промышленника, доведись им узнать об этом грандиозном архиве.
На ключевое слово «Карл Конкон» Мертценша прислала нам толстый желтый пакет из плотной, проложенной чем-то мягким бумаги, полный вырезок с газетными статьями и комментариями, а к ним свои знаменитые «additional informations». Как сообщения архива Мунцингера, они были напечатаны особо мелким шрифтом на голубой бумаге.
Мы с Берти сидели на его кровати в «Метрополе» и просматривали одну вырезку за другой. Разумеется, там был и фоторепортаж, сделанный Берти для «Блица». В нем было меньше всего информации. Сообщения ежедневных газет о ходе процесса были уже посодержательнее. Из них вытекало, что Конкон, как обнаружилось на процессе 1957 года, в течение нескольких лет, вероятно, шантажировал соответствующе расположенных людей и принуждал их к передаче секретных материалов. Вероятно. Точно доказать ничего не удалось ни по одному из случаев, хотя в каждом из них были подозрительные моменты. В 57-м году однозначно ничего не было доказано, и его были вынуждены оправдать за недостатком доказательств.
Дополнительная информация Карин фон Мертцен раскрывала, почему на этот процесс с определенного момента не допускали общественность, а именно с того самого момента, когда речь зашла о том, какого рода были секретные сведения, которые Конкон намеревался выжать из высокопоставленного немецкого офицера. Там это стояло черным по голубому, этим странным мелким шрифтом пишущей машинки. Я вынул изо рта сигарету, глотнул из фляжки и протянул ее Берти, который тоже выпил. При этом я размышлял, откуда Мертценша, собственно, черпала свою информацию. Становилось не по себе.
— Послушай, — сказал я Берти и зачитал ему самые важные места: «Установлено, что с 1949 по 1953 год Конкон работал на западногерманский правительственный аппарат… очень частые посещения Восточного Берлина… там много знакомых… снабжал своих… западногерманских заказчиков конфиденциальной политической, экономической и военной информацией… и так далее и так далее… В 1954 году был разоблачен службой безопасности Восточной зоны, однако его нисколько не побеспокоили. Во всяком случае, наружу ничего не выплыло… как ни в чем не бывало вернулся в Гамбург… был переброшен и теперь работал на своего нового хозяина, Министерство госбезопасности в Восточном Берлине, оттуда им так блестяще манипулировали и так выгораживали его перед началом процесса, что он не был осужден…»
— Гм, — произнес Берти и отпил из фляжки моего «Чивас».
— «Обвинение, которое было скрыто от общественности, гласило: „Подстрекательство к выдаче сверхсекретных планов НАТО… Превентивные удары… Ответные удары…“»
— Черт побери! — ухмыльнулся Берти.
— «…Невыясненным осталось, был ли Конкон еще раз перевербован и этому обстоятельству обязан своим освобождением или он продолжал работать на соцлагерь… Его заведение в Сан-Паули… „Кинг-Конг“… на протяжении нескольких лет посещали агенты всех лагерей… множество предрасположенных типов… в дни, предшествовавшие вводу войск стран-участниц Варшавского договора в Чехословакию… — я вдруг заорал: — ежевечерне в „Кинг-Конге“ были замечены пятеро чехов!»
Берти присвистнул.
Дальше следовали все новые «дополнительные сведения».
— Смотри, — разволновался я, — «9 сентября 1968 года… налет уголовной полиции на „Кинг-Конг“. Пятеро чехов бежали. Один из них ранен полицейским. Спутники дотащили его до машины, и всем удалось скрыться неопознанными. С тех пор ни разу не всплывали». — Я опустил листок. — Ян Билка был капитаном в министерстве обороны, — произнес я. — После его бегства чешские и русские службы вели себя как ненормальные, рассказывала Ирина. Интересно, почему бы это?
— Вопрос для второклассника, — хмыкнул Берти. — Билка сваливает с секретными документами. Едет в Гамбург к своему другу Михельсену. Собирается передать документы западным немцам или американцам.
— Или продать, — уточнил я. — Не все так благородны, как ты.
— Или продать. Торгуется с ними. В таком случае, он должен чувствовать себя очень уверенно у Михельсена. То есть тот должен быть западным человеком. Верно?
— Насколько могу судить, да.
— Соцлагерь желает заполучить документы назад. Или предотвратить их проникновение на Запад. Однако они не знают, где находится Билка. Поэтому посылают Конкона в лагерь, чтобы похитить Ирину. Она-то ведь знает, где скрывается Билка. Они рассчитывают выжать это из нее. — Он откашлялся. — Нет, ерунда какая-то.
— Да уж, — подтвердил я. — Если все так, как ты предполагаешь, тогда Восточный блок не имел права терять ни минуты. По рассказам Ирины, Михельсен часто бывал в Праге. В Праге наверняка было известно, где живет Михельсен и что он за птица. Стало быть, им не надо было его искать и похищать для этого Ирину.
— Ну тогда расскажи ты мне, как все было, гениальный ты мой.
— Могло быть и так, — начал я. — У Билки находятся документы. Он хочет продать их немцам или американцам. Торгуется о цене. Жестко. Ведь он не торопится. Чувствует себя в безопасности у Михельсена. Запад приказывает в очередной раз перевербованному Конкону сделать попытку похитить Ирину. Ее неожиданное появление может поставить под угрозу все переговоры. Если она узнает, что у Билки есть еще одна подружка, она закатит скандал и… — Я остановился. — Тоже что-то не то?
— Да, опять ерунда, — согласился Берти. — С какой стати Билка будет чувствовать себя в безопасности у Михельсена, если Восточный блок знает, где живет Михельсен? Он должен быть готов к тому, что в любую минуту за ним могут прийти.
— Точно, — сказал я. — Но тут появляется Ирина, звонит Михельсену, и к телефону подходит Билка…
— Подходит к телефону! — фыркнул Берти. — Настолько уверенно себя чувствовал, что подошел к телефону, когда тот зазвонил? Нет, старик, тут опять что-то не так!
— Да, — произнес я растерянно. — Так тоже не получается. С этим Билкой при любом раскладе что-то не то. Сразу после того, как Ирина дозвонилась до него, попытались угробить Конни Маннера, который собирался нанести визит Билке. А после этого исчезают Билка, его вторая невеста и господин Михельсен. И слуга Нотунг заявляет, что никакой Билка и никакая невеста никогда не жили у Михельсена. А портье и француз-антиквар говорят нам, что те все-таки жили там. Куда же они все пропали? И почему? Почему лжет Нотунг? Почему чуть было не убили Конни? Почему сегодня ночью у меня дважды пытались похитить Ирину? Что действительно надо было этому Конкону в «Нойроде»?
Берти поднялся и взглянул на меня:
— Теперь ты мыслишь точно так же, как я.
— Абсолютно, — поддакнул я.
— Тогда вперед в «Кинг-Конг».
8
Мы собрали свои орудия труда, надели пальто и спустились на лифте вниз в холл. Я сдал ключ от своего люкса, Берти от своего номера, а ночному портье Хайнце я наказал, чтобы он ни при каких обстоятельствах никому — кем бы он ни назвался — не разрешал переступать порог люкса.
— Он заперт, — пояснил я. — Вы, конечно, можете открыть дверь, даже если бы я оставил у себя ключ.
— Разумеется, господин Роланд, — сказал Хайнце. Уборщицы все еще работали в большом холле. Стоило мне их увидеть, как я тотчас почувствовал приближение своего «шакала». Не удивительно — я сразу вспомнил уборщиц «Блица». — Но если придет полиция, я ничего не смогу сделать.
— Когда бланки регистрации вновь прибывших постояльцев уходят в полицейский участок?
— Когда я сменяюсь, в семь.
— До того времени я сто раз вернусь, — заверил я. — Никто не может прийти из тех, кто действительно имеет какое-то отношение к полиции. Во всяком случае, не сегодня ночью. Вы знаете меня двенадцать лет. Вы мне верите?
— Да, — ответил он.
— И верите, что я не делаю ничего криминального?
— Да, — сказал он.
— Хорошо, я полагаюсь на вас.
— Можете смело, господин Роланд, — сказал он и подмигнул, убирая стомарковую купюру.
— Если молодая дама…
— Ваша супруга, — тактично поправил Хайнце.
— …позвонит и скажет, что она хочет уйти, ни в коем случае не открывайте дверь. Скажите ей, что я забрал с собой ключ. Я не разрешаю ей уходить.
— Будет сделано, господин Роланд.
— Мою машину отогнали в подземный гараж?
— Так точно.
— Мне нужна машина поменьше. Может быть, «рекорд».
— По-моему, у нас есть четыре «рекорда». Я позвоню господину Крофту.
— Кто это?
— Диспетчер гаража, который дежурит сегодня ночью. Он выпишет вам бумаги и выдаст «рекорд».
— Как зовут диспетчера? — спросил Берти. Под пальто у него все еще была кожаная куртка и вельветовые брюки. Обе свои камеры он держал за ремешки футляров.
— Вим Крофт.
— Англичанин? — спросил я.
— Нет, — ответил портье, — голландец. Очень славный парень. Новенький. Работает у нас только три недели.
— Как — голландец? — устало переспросил я.
— Да, — ответил портье, — из Гааги.
9
Русская императрица Екатерина лежала, раздвинув ляжки, на красном бархатном покрывале, накинутом на широкую кушетку. Вокруг кушетки было разбросано множество предметов одежды — от расшитой пурпурной царской мантии до шелковых подштанников, завязывавшихся под коленками. Я когда-то писал серию репортажей о Екатерине Великой. Скандальную хронику, богато иллюстрированную. Одежда была взята из какого-то проката театральных костюмов.
Екатерина лежала на небольшой сцене, в ярком треугольнике прожекторов, таким образом, чтобы зрители могли видеть все между ее раздвинутых ляжек. Из темноты свешивался огромный гобелен. Императрице было лет двадцать пять, она была довольно пышнотела, хорошо сложена и безумно сексуальна. Она двигала тазом, стонала (репродукторы и спрятанный на сцене микрофон усиливали все звуки), массировала свои упругие груди и закидывала голову. Скорей всего она была натуральной блондинкой. На голове у нее была прикреплена корона из золотого папье-маше со множеством сверкающих поддельных камней. На полу возле кушетки лежали золотая держава и большой золотой скипетр из папье-маше. Было четверть пятого утра, а «Кинг-Конг» все еще был переполнен матросами — белыми, черными и желтыми, — странными фигурами в мешковатых куртках на вате и шляпах, большим количеством проституток вместе с клиентами и несколькими семейными парами. Все сидели за маленькими столиками. Официанты сновали туда-сюда по почти темному залу, разносили бочонки с бутылками шампанского, сервировали напитки. «Кинг-Конг» находился на Зильберзакштрассе, отходящей от Реепербан, как раз за углом от ресторанчика «Ставес», перед Кверштрассе, ведущей к площади Ханс-Альберс-плац с ее большим общественным туалетом. Когда мы пришли на Зильберзакштрассе (пешком, арендованный «рекорд» мы оставили на ярко освещенной Реепербан с мигающей рекламой), Берти сказал:
— Это заведение, а где же отель? Ведь твой Карл Конкон заявлял, что он владелец отеля.
В доме, где находился «Кинг-Конг», не было второго этажа, он был совсем низким и древним, стены были черные, а окна, выходящие на улицу, затемнены изнутри тяжелыми портьерами. Возле входа, в освещенных витринах, были развешаны фотографии. Я прочел написанное красными буквами: «Сенсация программы: Мировая звезда Бэби Блю из „Crazy Horse!“»[84] Двухметровый зазывала в обшитом золотыми галунами пальто до пят уже схватил меня за плечо и гремел над ухом:
— Заходите, господа! Заходите! Вы увидите здесь то, чего никогда не видели! Третья программа в разгаре! Саффо и ее подруги! Горилла и девственница! Настоящее изнасилование с гарантией! Монах с кнутом! Строгая гувернантка! Натуральное половое сношение! Двое мужчин — одна дама! Здесь показывают все! Здесь ничего не утаивается! Заходите, господа! — Он уже тянул меня к себе и подталкивал вперед, прихватив при этом и Берти, и продолжал вещать: — Вы пришли как раз вовремя, к самой кульминации! Знаменитая артистка Бэби Блю из парижского «Crazy Horse» показывает свой международный аттракцион «Екатерина и великан»!
— Послушайте, — произнес я, вцепившись в его руку, — мы ищем господина Конкона. Нам нужно срочно поговорить с ним.
— Полиция?
— Нет. Он здесь?
— Понятия не имею. Узнайте внутри. Заходите, господа! Этого вы еще никогда не видали! Об этом вы еще не мечтали! Бэби Блю и ее «Екатерина и великан»! — Он выпустил меня, и в красном свете гардероба за меня ухватились уже две другие лапы и потащили в зал. На меня вдруг налетел Берти. Кто-то в темноте схватил меня между ног. Я ударил по руке.
— Ну, не будь таким злым, дорогой! — раздался женский голос.
— Старик, ну и профессия у нас, — сказал Берти через пару минут, когда мы, запыхавшись, оказались за столиком в ложе, куда нас наконец отбуксировали. Мои глаза привыкли к освещению, я увидел Бэби Блю на сцене и силуэты большого количества зрителей. — Мне какая-то баба все-таки залезла в штаны. А тебе?
— Что-то в этом же роде, — ответил я.
Из усилителей донесся напыщенный мужской голос, старавшийся говорить на изысканном литературном немецком:
— Какой грустный вечер, Ваше императорское величество! Ни осла поблизости, ни горячих жеребцов, ни хотя бы пары гренадеров…
Бэби Блю задвигалась еще быстрее, закатила глаза и еще сильнее начала тереть свои груди. В зале стало совсем торжественно, словно в церкви. У края сцены стоял рояль. За ним сидел молодой человек в смокинге и играл. Его отсутствующий взгляд был устремлен в темноту, он тихо играл Концерт для фортепьяно си-бемоль минор Чайковского. Я его сразу узнал. Не было ни одной вещи Чайковского, которую я бы не узнал сразу. Мой любимый композитор…
— Ваше императорское величество так одиноки… и так тоскуют, — звучал голос из усилителя. — Соблаговолите, Ваше величество, взять скипетр…
Голая Бэби Блю схватила огромный скипетр из папье-маше.
— …и соблаговолите, Ваше императорское величество, раскрыть скипетр…
Бэби Блю открыла скипетр по длине, как футляр скрипки. Внутри лежал искусственный член огромных размеров. Бэби Блю испустила вопль блаженства, уронила скипетр и поцеловала фаллос.
— А теперь погладьте этим утешителем Ваш высочайший бугор Венеры…
Бэби Блю погладила. Парень за фортепьяно играл великолепно.
— …а теперь соблаговолите, Ваше императорское величество, пощекотать самый божественный клитор принцессы Анхальт-Цербстской…
Бэби Блю проделала и это, и из усилителя раздалось ее первое, тихое, прерывистое постанывание и воркование.
К нашему столику подошел официант:
— Здравствуйте. Что желаете?
— Мы хотели бы поговорить с господином Конконом, — сказал я.
— Молодым или старым? — спросил официант, в то время как стон из усилителя становился все громче.
— Как? А что, их двое? — ошарашенно спросил Берти.
— Да тише вы! — яростно зашипела пожилая толстуха, сидевшая рядом с грузным пожилым мужчиной в соседней ложе. «Вероятно, муж и жена», — подумал я.
— Отец и сын, — шепотом ответил официант. — Так с которым?
— С владельцем, — так же шепотом сказал я.
— …а теперь соблаговолите, Ваше всемилостивейшее величество, погрузить чудесный утешитель в Ваше величественное влагалище…
Бэби Блю засунула себе между ног фаллос, ее тихое повизгивание при этом было усилено репродукторами до истошного визга.
— Его нет, — прошептал официант.
— А отец? — тихо спросил я.
— Он здесь.
— Где?
— В мужском туалете.
— И когда же он выйдет?
— Вообще не выйдет. Он там, внизу работает, — раздраженно прошептал официант, начинавший тяготиться переговорами. — Так что же вам подать?
«Вечно я со своей манией преследования и боязнью получить выпить что-нибудь дурное! Разумеется, виски, — подумал я. „Чивас“ у них здесь нет. А стоит мне только заказать два открытых напитка, они подадут мне Бог знает что, и я еще заболею. Да, вечно я со своей манией преследования».
— Полбутылки виски «Блэк лэйбл», но закрытой, понятно?
— Это будет стоить сотню, — прошептал официант под сильным впечатлением.
Берти с раздражением посмотрел на меня, он ненавидел мое пьянство, я это знал. И потом он наверняка подумал: «Мне б его заботы!»
— Если окажется плохое, будет скандал, — объявил я. — Мы из прессы.
— Конечно-конечно, господа, минуточку! — Официант исчез, кланяясь на ходу.
Из усилителя донеслось громкое дыхание Бэби Блю, затем опять послышался голос:
— А теперь соблаговолите, Ваше величество, подвигать утешителем в самом восхитительном из всех русских влагалищ… и Боже упаси, не забудьте ляжки!
Бэби Блю раздвинула ноги еще шире, поласкала одной рукой свой сосок и задвигала фаллосом вперед-назад. Она быстро вошла в раж, иногда приподнималась, скулила, кряхтела, стонала и подрагивала. По публике прошла волна беспокойства.
— Ох, Эрнст! — тихонько сказала толстая тетка в соседней ложе своему толстому спутнику. — Если так будет продолжаться, гарантирую, что со мной кое-что произойдет!
— Закрой свой ротик и смотри вперед, Франци! — отмахнулся Эрнст.
Два австрийца в Сан-Паули…
— Я и так смотрю, — не унималась Франци. — Слушай, давай потом, когда вернемся в пансионат, ладно?..
— Не могу ничего гарантировать, — сказал Эрнст.
— Что значит отец? — зашептал Берти. — Он ведь должен быть древним старцем!
— Вероятно, — прошептал я в ответ.
Из усилителей раздавались все более громкие стоны и отдельные вскрикивания.
— Скотина! Заставляет отца работать в сортире, — возмущался Берти, у которого было особенно развито чувство семейной спайки. — Ведь это же свинство!
— Я спущусь к нему, — тихо произнес я.
— Только сначала дождись, когда официант принесет твои виски, — потребовал Берти. — Иначе поссоримся. Сначала, будь добр, заплати. Ты и так привлекаешь к себе слишком много внимания. Конкона младшего здесь нет, ты же слышал. Нам нужно быть осторожными!
Из усилителя раздались стоны Бэби Блю:
— О! О! Я умираю! Я сгораю!
Официант пришел с бутылкой и подносом, на котором стояли два стакана, сосуд с кубиками льда и две бутылочки содовой. Он сунул мне бутылку под нос.
— «Блэк лэйбл». Запечатано. Пожалуйста, взгляните на полоску. — Он показал на фирменную полоску бумаги на горлышке.
— Хорошо, — кивнул я. — Спасибо.
— Сто пятнадцать, — произнес кельнер. — Пятнадцать процентов наценки за обслуживание. Пожалуйста, заплатите сразу.
Театр на сцене продолжался, и стоны из усилителей становились все необузданнее. Бэби Блю закатила глаза, все ее тело содрогалось.
— Момент, — сказал я, открыл бутылку, налил виски в один из стаканов и понюхал. Потом попробовал. Безукоризненный продукт. Я был единственным автором в издательстве, который не должен был предъявлять детальные счета по накладным расходам, так что я дал официанту сто пятьдесят марок. — Остальное для вас, — сказал я. Тот чуть на колени не упал. — А теперь мне приспичило, — объявил я.
— Только не посреди номера! Не полагается.
Концерт для фортепьяно близился к кульминации.
— У меня мочевой пузырь лопнет, — сказал я. — Где это?
— Я отведу вас, — сказал официант. — Только подождите еще минуточку.
Из репродукторов разносился рев Бэби Блю. Мужской голос произнес:
— Пусть он дойдет до твоего сердца, о Екатерина, и обдумай еще раз великодушно помилование князя Кропоткина!
Размахнувшись, Бэби Блю неожиданно отбросила фаллос и повелительно воскликнула:
— К черту утешитель! Мужчину, настоящего мужика хочу! Потом и обдумаю помилование князя Кропоткина. Только потом!
В следующую секунду из темноты на сцену вышли три гренадера-гиганта в полном военном облачении, в высоких головных уборах, с саблями и в сапогах. Они навытяжку выстроились в ряд рядом с Бэби Блю. В их роскошных униформах был лишь один изъян: из ширинок упруго торчали три огромных члена. «Разумеется, искусственные, — отметил я про себя. — Таких больших не бывает». Однако выглядели они абсолютно натурально. Пианист оборвал игру. В зале воцарилась мертвая тишина.
Из соседней ложи я услышал стоны сраженной толстухи:
— Уй! Уй! Надо же! У меня такого никогда не будет!
— Уймись ты наконец! — шикнул на нее толстый спутник.
Бэби Блю ухватилась за самого роскошного из трех гренадеров и потянула его за член к себе. Он бросился на нее. Свет погас.
10
— С мятным вкусом, господа, — как раз произнес пожилой мужчина, когда я спустился вниз по лестнице. — Абсолютная новинка. Идет нарасхват. Производители не поспевают.
Двое мужчин стояли рядом со стариком в выложенном голубым кафелем помещении перед туалетом. Помимо раковин и зеркал там стоял столик, на котором было аккуратно разложено все, что могло здесь понадобиться: высокая стопка полотенец, большие и маленькие расчески, масло для волос, одеколон и упаковки бумажных платков. Тут же стояла тарелочка с мелочью. Один из ящиков стола был выдвинут, и я увидел датские порножурналы и упаковки презервативов.
— Если господа желают понюхать, — продолжал старик. Он поднес к их носам открытую коробочку с тремя презервативами. Оба, бывшие в подпитии, послушно принюхались.
— Черт возьми! — воскликнул один. — И в самом деле. Обалдеть, чего они сегодня только не придумывают. Только для чего мятный вкус?
— Ну так для свежего дыхания, идиот, — пояснил второй. — А, старичок?
— Могу предположить, — произнес отец Конкон, на котором была надета белоснежная куртка. — Могу предположить. — Он поклонился.
Я зашел в соседнее помещение и встал к писсуару, чтобы не возбуждать подозрений у двух покупателей. Автоматически зажурчала вода, мягко зажужжал вытяжной вентилятор. У Конкона старшего было безупречно налаженное хозяйство.
— Я возьму одну упаковку, — произнес первый мужчина. — Посмотрим, как оно действует.
— Я тоже возьму одну, — сказал второй и бросил полотенце, которым вытирался, в проволочную корзину. — Маленький сюрприз, хе-хе.
Оба расплатились и нетвердой походкой отправились вверх по лестнице. Молодой пианист наверху играл серенаду «Восход солнца». Я вышел к отцу Карла Конкона, помыл руки и поздоровался.
— И вам прекрасного доброго вечера, сударь. — Он улыбнулся мне. Согбенный, вызывающий жалость старик. Он уже держал наготове полотенце. Работал он механически, словно робот, на лице застыла подобострастная улыбка. Я бросил взгляд в ящик с журналами и особыми презервативами. Судя по надписям на упаковках, Конкон старший торговал особо чувствительными презервативами, то есть снабженными резиновыми звездочками или резиновыми усиками либо с бугристой поверхностью, «безопасными презервативами со спермоубивающим покрытием», еще он продавал «удлинители» и даже довольно большие коробочки, в которых покоились «пневмо-презервативы», что бы это ни значило.
Музыка поменялась. Я услышал «Love is a many splendored thing».[85]
— Господин доволен? — спросил старик.
— Да, — ответил я.
— Уникальная программа, — пробубнил он. Я заметил, что он был довольно дряхлый. Рассеянный и с легким приветом. Но не сумасшедший. В общем, старикан. Он даже не заметил, как по лестнице спустился Берти, и слава Богу, потому что Берти держал наготове маленькую «Никон-Ф». — Каждый вечер все забито до отказа, и так до самого утра, — с гордостью произнес старик.
— Потрясающе, — отозвался я, в то время как Берти щелкнул нас обоих и прошел в соседнее помещение, откуда продолжал снимать. — Господин Конкон, не так ли?
Он испуганно вздрогнул.
— Откуда вы знаете… кто вы?
— Петер Эндерс, — сказал я.
— Полиция?
— Нет.
— А кто же?
— Знакомый вашего сына. Хотел с ним поговорить. Но его нет, да?
— Нет. Я не знаю, где он, — сказал старик. — Такой хороший сын. Лучший сын, о котором только можно мечтать.
— И заставляет вас здесь работать?
— Не заставляет! Я сам хочу! Дома так одиноко. Я совсем один, моя жена умерла двенадцать лет назад. Здесь я могу немного отвлечься. Мне нравится работа. Карл все время говорит, чтобы я прекращал. Но я ему говорю: оставь мне эту маленькую радость, Карл. Вы действительно знакомый моего сына?
— Да. А что?
— За этот вечер приходили уже трое знакомых, — сказал старик. — Двое вместе, третий отдельно.
— И что они хотели?
— Все поговорить с Карлом. Все говорили, что это очень срочно. Что случилось? — Его кадык в непомерно большом вороте рубашки поднимался и опускался.
— Я с ним договаривался о встрече. На сегодняшний вечер, — солгал я. — Я не представляю, что произошло. Что-то должно было случиться, иначе он был бы здесь. Как выглядели эти трое?
Он сделал беспомощный жест.
— Я не в состоянии запоминать ни лица, ни голоса. Я совершенно здоров, понимаете… просто уже довольно стар. Моментально забываю любое лицо. Ужасно… Трое мужчин, вот и все. Те, что пришли вместе, были в пальто и шляпах, это я помню. А тот, что пришел один, был в одном костюме. Все были ростом с вас. Больше я правда не помню.
— Они с акцентом говорили?
— Нет, на нормальном немецком. И они все спрашивали, где Карл. А я сказал, что не знаю. И они снова спрашивали, потому что не верили этому. — Берти, стоявший неподалеку, продолжал фотографировать. Очень пьяный мужчина спустился по лестнице и, покачиваясь, ввалился в туалет, где заперся в кабинке. Я услышал, что пьяному было очень плохо. Невероятно плохо. Сверху доносилась фортепьянная музыка. Пианист играл «Мальчик, вернись скорей назад!»
Пьяный выблевывал из себя душу.
— Когда же эти трое были здесь? — спросил я.
— Двое, которые вместе, были около девяти. А тот, который один, может быть, в десять. Сразу после того, как Карл позвонил мне.
— Он вам звонил?
— Ну я же говорю. До того, как пришли эти двое. Они позвали меня наверх, в гардероб, там есть телефон. Есть еще и второй, в кабинете Карла. Раньше, когда мы держали гостиницу на Кастаниеналлее, я помогал в кабинете. Тогда я еще был способен все запоминать и даже умел печатать, понимаете?
— С какого времени у вас уже нет гостиницы?
— Уже шесть лет… не окупилось… налоги… и нервотрепка. Здесь намного лучше! Никакого сравнения.
— А что ваш сын сказал вам по телефону?
— Послушайте, а какое вам собственно дело… — Он немного оживился.
— Я его ищу. Я его друг.
— Но он никогда не упоминал вашего имени.
— Деловая дружба. Он не хотел трезвонить об этом.
— Что за дела?
— Ну разные. Вы же понимаете.
— Да, я понимаю. — Казалось, это его удовлетворило. — В общем он сказал, что не может прийти сегодня и завтра, скорей всего, тоже нет. У него срочные дела. Какие — он не сказал. Но он мне позвонит завтра вечером. В это же время. И еще сказал, что находится неподалеку. Я не должен волноваться, все в порядке. Он всегда боится, что я о нем волнуюсь. Я ему скажу, что вы здесь были, когда он позвонит. Где он может вас застать?
— К сожалению, нигде. Я уезжаю. Вы правда не имеете понятия, где он мог бы быть? Это очень срочно.
— Другие господа тоже так говорили. Они, впрочем, не называли, как вы, своего имени. И что могло случиться?
— Вот именно, что? Раз он позвонил вам, значит, дела не так уж плохи, — сказал я и положил двухмарковую монету на тарелку.
— Спасибо, господин Эндерс, большое спасибо. — Он вдруг вспомнил: — Вам не нужны пара презервативов? Очень симпатичные. С приятным мятным вкусом. Новинка. Идут нарасхват. Я вам покажу. Производители не поспевают…
11
На углу Детлевштрассе и Зайлерштрассе была почта.
У меня было еще достаточно монет, и я позвонил из автомата около почты во Франкфурт. Берти стоял на часах перед будкой. Я позвонил Тутти. Прошло много времени, прежде чем отозвался ее заспанный, до странности нечеткий голос:
— Да? Алло? Тутти Райбайзен слушает. Кто это? — Было такое впечатление, что рот у нее набит камешками. Вдруг она вскрикнула: — Ай!
Потом я услышал голос Макса Книппера — в их спальне стояла двуспальная кровать. Он явно пытался забрать у нее трубку, и это ему удалось, потому что тут же раздался его решительный голос:
— Чё за свинство! Какая сволочь звонит в пять утра? У вас чё, яйца горят, мать вашу?
— Макс, это Вальтер Роланд. Сейчас всего полпятого, — подал я голос.
— Этот меня страшно радует, что сейчас только половина. Извини, Вальта. Я не хотел обидеть. Тока если я чё не могу терпеть, так этот сраный телефон, который будит нас с Туттиляйн, стоит нам только наконец заснуть. Старик, умница Тутти вкалывала до двух.
— Отдохнула от Ляйхенмюллера?
— Что значит отдохнула? Мы ж купили собственную новую квартиру, ты ж понимаешь, за нее надо расплачиваться, тут уж ничего не попишешь. Старик, ну мы сёдня хапнули! Три дядьки, и все из провинции. По двести с рыла за один минет. А щас у Тутти пасть болит, она языком еле ворочает.
— Не понимаю.
— Ну старик, Вальта! Это ж каждый раз целую вечность длилось! Сплошь пожилые господа! Ну да черт с ними. На выходные я ее повезу в Таунус, там она сможет малость отдохнуть. А то ище надорвется, крошка. Где ты торчишь? Влип в передрягу? Приехать к тебе?
— Нет, — ответил я. — Я только должен тебя кое о чем спросить, Макс. — Я рассказал ему, где находился и — в самых общих чертах — о том, что произошло. Я опять безостановочно, как тогда на Центральном вокзале, бросал монету за монетой в телефон. Вокруг была кричаще пестрая неоновая реклама и толпы проституток и пьяных, а перед телефонной будкой маячила широкая спина Берти. Очевидно, здесь никогда не ложились спать. Я закончил: — Ты же знаешь здешнюю публику, Макс, и, может, знаешь этого Карла Конкона, он голубой…
— Ясное дело, я знаю этот дерьмо. Голубой — ради Бога, его личное дело. Не имею ничего против. А чем он ище занимался, ты знаешь?
— Да, знаю. Раньше у самого Конкона была гостиница на Кастаниеналлее. Можно предположить, что с тех пор он знаком с владельцами других отелей в этом районе и что у него среди них остались друзья, готовые его спрятать, если нужно. Потому что он ушел на дно, пересрав перед кем-то.
— Потому что завалил дело в лагере?
— Да. Похоже, те господа имеют на него зуб и охотятся сейчас за ним. Он не смог вытащить Ирину. Ты знаешь владельцев гостиниц для любовных парочек тут поблизости?
— Оф коз, старик, — ответил Макс. — Я хоть и пробыл только год в Сан-Паули, но нет такого человека из этого бизнеса, которого бы я не знал. — Я услышал воркование, потом слова Макса: — Да, он в Гамбурге. Помощь ему моя нужна. Я те потом все объясню, Туттиляйн… Что? Да. Я должен передать те самый сладкий поцелуй от Туттиляйн.
— Передай и ей от меня, — сказал я. — Ну так как? Где бы мог скрываться Конкон? У кого из друзей? Кто способен держать язык за зубами, чтобы он ненадолго мог уйти на дно?
— Дай подумать, — проговорил Макс. — Настоящие друзья, значит?
— Да.
Он поразмыслил и продиктовал мне названия пяти гостиниц, находившихся вокруг Реепербан и улицы Кляйне Фрайхайт. Я записал названия в свой блокнот. Дождь все усиливался. Буря ослабевала.
12
Особых надежд мы не питали. Если уж Карл Конкон действительно решил уйти на дно, то его друзья будут стоять насмерть и молчать. Наш план хотя и был слабоват, но ничего лучшего нам в голову не приходило. И в первом, и во втором, и в третьем отеле мы называли себя Карстеном и Эндерсом и говорили, что нас ожидает Карл Конкон. Все было безуспешно. За стойками невыразимо унылых отелей заспанные ночные портье недоверчиво трясли головами. Никакого Карла Конкона там не было. Ничего не получалось. Ни просьбами, ни угрозами. Портье оставались враждебными и неразговорчивыми. Никакого Карла Конкона. Один сказал, что когда-то слышал это имя, другие утверждали, что даже имени такого не слыхивали.
— Двигаем дальше, — сказал я. — Улица Кляйне Фрайхайт, отель «Париж».
— Дурацкая затея, — проворчал Берти. — Я до костей промок, старик.
— Я тоже, — ответил я и поехал вниз по Реепербан до Нобистор, проехал немного по Хольстенштрассе и очутился на улице Кляйне Фрайхайт. Здесь было совсем тихо. Я припарковал машину перед сомнительным пристанищем с поврежденной вывеской «…ТЕЛЬ ПА..Ж» и увидел пожилого служащего в зеленом фартуке и в фуражке, который выметал мусор, скопившийся после бури у входа. Мы вылезли и опять стали изображать из себя парочку геев, как и везде до этого, что было не так уж просто, главное было — не переборщить.
Служащий прекратил работу и уставился на «опель», а потом на нас. Лицо его выглядело изможденным, серовато-желтые усы были дурно подстрижены.
— Добрый вечер, милостивые господа, — произнес он со странным акцентом. — Что угодно?
— Доброе утро, — приветствовал я его, держа Берти под ручку. — Мы бы хотели комнатку. А где же портье?
— Он неважно себя чувствует, милостивый государь. Ему пришлось прилечь. Я все сделаю.
— Ну хорошо, номер на один час, — произнес Берти низким голосом. Я играл зрелого мальчика с панели, которого снял гомик постарше. В Вене различают активных и пассивных гомосексуалистов, я был пассивным.
— Пройдемте со мной, господа. — Он проследовал вперед и вошел в гостиницу через вход шириной в две комнатные двери. На стойке горела лампа с зеленым абажуром. Крутая лестница вела наверх. Позади стойки виднелась комнатка с открытой дверью. На походной кровати на спине лежал худой мужчина в одежде и громко храпел. Когда воздух выходил у него через рот, храп перемежался свистом. В эти моменты вокруг распространялось такое облако перегара, что казалось, будто он дышит мне прямо в лицо. В холле воняло шнапсом.
— Очень болен ваш портье, — сказал я.
— Да, очень, — равнодушно подтвердил худой служащий. — Пришлось выпить много шнапса.
— Пришлось?
— От болезни, — пояснил служащий.
Портье был пьян до бесчувствия, его не смог разбудить бы даже взрыв атомной бомбы. Служащий подошел к доске с ключами, висевшей на стене за стойкой. Это была самая дерьмовая гостиница из всех.
— И скажите, пожалуйста, нашему другу, господину Конкону, что мы здесь, — сказал я.
— Конкону? — удивился служащий.
— Карлу Конкону, — раздраженно повторил я. — Ух, до чего же мерзкая погода. Мне холодно, Петер.
— Сейчас будет хорошо, сокровище мое, — сказал Берти.
— У нас нет господина Карла Конкона, — произнес служащий.
— Да нет же, — упрямо повторил я. — Он нас сам сюда пригласил, наш друг Карл. В «Джентльмен’с пабе». На маленькую пирушку. Вы должны его знать. Вы уже давно дежурите?
— С семи, милостивый государь.
— Кто вы? Русский?
— Украинец, — ответил служащий. Меня снова бросило в холод. Одновременно я сказал себе, что мы все еще живем на этом свете и не надо позволять делать из меня дурака. — Из Чаплино. Был военнопленным. — «О, Боже», — подумал я. — Сдался в плен вместе с товарищами. Потом, в сорок пятом, испугался того, что со мной может случиться, если я вернусь домой. Так что скрывался. Потом услышал, что дома все умерли и остался здесь.
— Все время в Гамбурге?
— Да, все время в Гамбурге. Всегда здесь. Сан-Паули. Слуга. По-немецки до сих пор не могу хорошо говорить. Совсем один. Это не интересует господ. Можете получить номер двенадцать. — Он протянул Берти, опытным взглядом определив в нем активного, то есть того, кто будет платить, ключ, на котором висел большой деревянный шар. На шаре стояло «12». — Полотенца и мыло наверху. Час стоит двадцать марок. С вашего позволения.
Берти положил тридцать марок на стойку и сказал:
— Карл Конкон. Приземистый такой господин, довольно полный.
— Мы его еще называем толстячок, — захихикал я.
— Он должен быть здесь, — настойчиво сказал Берти. — Мы действительно договорились.
Служащий посмотрел на нас снизу вверх полуприкрытыми глазами.
— Толстый? — переспросил он тихо и очень быстро, словно боялся разбудить портье (абсолютно напрасная забота).
— Весьма, — снова захихикал я.
— Розовая рубашка, очень яркий галстук, много духов? Сильно пахнет духами?
— Да, — подтвердил Берти. — Это он.
— Но фамилия господина не Конкон.
— А какая же?
— Этого я не знаю. Он пришел семь или восемь часов назад. Разговаривал с господином Вельфертом — шефом. Тот был еще здесь. Я обоих видел. Но он ничего не сказал про пирушку. И фамилии не называл, этот господин. Наверняка уже спит.
— Наверняка нет. Он ждет нас.
— Я не могу уйти отсюда, — сказал служащий.
— А зачем уходить?
— Сообщить господину. Телефонов в номерах нет.
— Неважно, — сказал Берти. — Мы постучимся. Старые добрые друзья. Какой номер? — Он положил еще десять марок на стойку.
— Семнадцать, милостивый государь. Премного благодарен, — сказал украинец.
Он удивленно посмотрел на меня.
— В чем дело? — Я продолжал все время по-идиотски хихикать.
— Ничего, — серьезно произнес украинец. — Ничего, сударь.
— Пойдем, сокровище мое, — сказал Берти и снова взял меня под руку. Мы поднялись по крутой лестнице и попали в узкий коридорчик, освещенный двумя тусклыми лампочками, явственно демонстрировавшими, что по сравнению с верхом внизу было еще чисто.
— Фу, гадость, — тихонько сплюнул Берти.
— Заткнись, — шикнул я. — Старик, он наш.
— А если он не обрадуется встрече? — спросил Берти.
— Еще как обрадуется, — сказал я и вытащил из пальто свой «кольт-45».
— Ну и ну! — присвистнул Берти. — Тогда я тоже, пожалуй. — Он вытащил из-под кожаной куртки камеру «Хасселблад» и открыл объектив. Мы медленно пробирались по коридору. За некоторыми дверями было шумно. Где-то взвизгнула девушка. Потом оглушительно захохотал мужчина. Из-за одной двери доносились звонкие удары плетки или чего-то еще, и низкий женский голос воскликнул: «Гоп-гоп! Но-о, моя лошадка, поскачешь ты, наконец?»
Мы прошли мимо номеров 12, 13, 14, 15, 16.
Номер 17.
Берти подошел к двери, подняв камеру с прикрепленной фотовспышкой. Я подергал ручку. К моему удивлению, дверь тотчас же открылась.
Все было тихо.
— Это я, Конкон, — произнес я. — Роланд, репортер из лагеря. А со мной Энгельгардт, который вас снимал. Не делайте глупостей. Наряд полиции тоже здесь. Мы все вооружены. Если у вас есть оружие, бросьте его на пол и включите свет.
Никакого ответа.
— Включите свет! — повторил я.
Ничто не шелохнулось.
Берти встал в проем двери, словно с ним ничего не могло случиться, и сделал первый снимок. Яркий свет на секунду осветил комнату.
— Всевышний, — прошептал я, проскочил вперед, нащупал выключатель возле двери и нажал на него.
Комнатка была маленькой, с коричневатыми, отстающими от стен обоями. Шторы были задвинуты. Я увидел раковину, два стула, стол и широкую латунную кровать. На кровати, в одежде, лежал на спине Карл Конкон. Кто-то вонзил ему в грудь, по самую рукоятку, кинжал. Это было сплошное кровавое месиво, хотя кровь уже не вытекала, а спеклась, и труп убитого уже начал коченеть.
13
— Да, я знал об этом, милостивые господа, — сказал слуга. Мы стояли внизу, у выхода, защищенные от ливня. Улица была совершенно пустынна, а за нашими спинами храпел и присвистывал пьяный ночной портье. Украинец был очень беспокоен, явно мечтая поскорее отделаться от нас, но, как только мы спустились вниз, я сразу объявил ему, что, если он не ответит на наши вопросы, мы тут же вызовем полицию и его как следует вздрючат. Потом мы предъявили ему наши журналистские удостоверения. Он жутко испугался, ведь он и вправду принял нас за голубую парочку, которые рвались к гомику Конкону.
Он решил, что пусть уж лучше мы сами обнаружим этот ужас наверху, — объяснил он нам. Он не хотел иметь с этим ничего общего. Он и с нами не желал говорить, пока я не сказал ему, что мы, на всякий случай, должны уведомить полицию. А если он будет разговорчив, мы готовы ему немножко помочь. Иначе вставим ему по полной программе. А так еще заплатим ему. К нему вернулась бодрость.
— Сколько?
— Пятьсот.
— Тысячу, — сказал он. — С вашего позволения, милостивый государь.
Милый пожилой украинец.
Сошлись на восьмистах и на том, что он подпишет известное заявление. Этого он поначалу тоже не хотел, но мы опять припугнули его полицией и пообещали, что его фото появится в «Блице». К счастью, он был не только алчный, но и глупый, и идея с фотографией купила его с потрохами. Он согласился. И вот мы стояли в дверях гостиницы, мерзли и расспрашивали украинца.
— В общем, сначала пришли два господина, — рассказывал слуга, — около десяти.
— Как они выглядели?
— Не знаю. Я как раз убирал комнаты. Только голоса слышал и шаги в коридоре. Голос господина Вельферта, директора, я тоже узнал. Он потом сразу ушел.
— Вы считаете, что Вельферт позвал этих людей? — спросил я.
— Не знаю. Господин Конкон, когда пришел, был страшно напуган, все произошло очень быстро и тайком. Господин Вельферт сказал ему: «У меня ты в безопасности, Карл».
— Не слишком-то безопасно оказалось, — заметил Берти.
— Они друзьями были, господин Вельферт и господин Конкон.
— Да, — кивнул я, — это видно. «Этот Вельферт, очевидно, поставил в известность о приходе Конкона тех двоих, кто бы они ни были. За сколько, интересно». — Что эти двое хотели от Конкона? — спросил я. — Вы же подслушивали.
— Да, — ответил украинец, не моргнув глазом, уставясь на меня. — Я точно получу восемьсот?
— Совершенно точно. Вот вам четыре сотни для начала. — Я дал ему четыре сотенных. Он стал разговорчивее.
— В общем, в номере у господина Конкона было много шума. У этих людей были большие претензии к нему.
— Какие?
— Что он девушку не забрал из лагеря. Из какого лагеря, какую девушку — этого я не знаю.
— Так, ясно.
— Но он должен был ее привезти. Это было его задание. Он должен был предотвратить ее встречу здесь с каким-то человеком. Фамилия этого человека… фамилия… забыл. Они часто называли его фамилию, эти двое, которые приходили к господину Конкону, царство ему небесное.
— Постарайтесь вспомнить! — сказал Берти. — Фамилия!
— Милка. Ян Милка, — воскликнул служащий. — Вспомнил! — Он вздрогнул, потому что пьяный портье за его спиной с кряхтением перевернулся на другой бок. Однако храп и свист тут же продолжились.
— Ян Милка, прекрасно, — произнес я. — Значит, с ним девушка не должна была вступать в контакт. И заданием Конкона было это предотвратить?
— Да, мужчины страшно волновались. Этот Милка должен быть важным человеком. Очень важным.
— Важным для кого? — спросил Берти.
— Насколько я понял, для американцев.
— Для каких американцев?
— Не знаю. Они этого не сказали. Только, что из-за господина Конкона теперь все в большой опасности. Все, что так хорошо шло.
— Что хорошо шло?
— Какое-то дело. Этот Милка должен был что-то продать, насколько я понял. Американцам продать. С ними о цене торгуется. Уже давно. Все время требует больше. Американцы психуют из-за этого Милки. Но им нужно. Живет где-то под защитой.
— Под защитой кого?
— Американцев. Или кто на них работает, с вашего позволения.
— Каких американцев?
— Не знаю, милостивые господа.
— А как вы сами думаете?
— Ну, Милка — чех, как сказали мужчины. Беглый. Если он что-то имеет продать американцам, — что это может быть? Что-то политическое, думаю. Мужчины сказали, Милка и американцы почти договорились. Теперь Конкон все испортил. Милка должен исчезнуть, очень быстро. Пока девушка все-таки не пришла. Или репортеры. Это, наверное, вы, да?
— Да, — ответил я. — Куда исчез Милка?
— Не знаю. Мужчины сказали: «Перевезти в надежное место», — больше ничего. Девушка придет. Репортеры придут. Очень сердиться мужчины на Конкона. Сказали, не уходить из комнаты, пока они не разрешат. Конкон очень бояться. Все время: «Сожалею, извините!» Говорил: «Я ведь так много и хорошо на вас работал».
«Минутку, — подумал я. — Тут что-то не так. Тут какая-то ошибка. Какая-то несуразность. Конкон оказал соцлагерю много услуг. Почему же люди оттуда упрекают его в том, что он нарушил планы американцев?»
Я спросил:
— Как говорили мужчины?
— Не понимаю, милостивый государь.
— Иностранцы? Акцент? Ломаный немецкий?
— Нет, совершенно правильный немецкий. Бегло.
Все становилось еще запутаннее.
— А потом? — спросил Берти.
— Потом они ушли, с вашего позволения. Успел как раз спрятаться в соседней комнате. Мужчин не видел. Дальше работал. Комнаты убирал, семь комнат. В это время мужчины наверное пили с портье. Один час, два часа. Был полуживой от пьянки, когда я потом наконец спустился. Мужчин нет, портье на кровати.
— Вы же лжете, — спокойно произнес я.
— Клянусь, это правда.
— Вы хотите нас убедить, что были настолько нелюбопытны, что ни разу не спустились вниз и не посмотрели, что это были за мужчины?
— Я не обманываю, с вашего позволения. Так было. Слишком боялся. Поэтому не спускался. Только, когда они ушли.
— Ложь.
— Правда, милостивый государь!
— Ложь! — не унимался Берти.
— Оставь его, — сказал я. — Ничего не поделаешь. — Я спросил: — А что было потом?
— Пришли люди. Мужчины с девушками. Также мужчины с мужчинами. Много было дел. Много работы, с вашего позволения.
— Но Конкон был еще жив, когда двое мужчин покинули его, это вы знаете точно?
— Совершенно точно. Я еще слышал, как он ругался, тихонько.
— Тогда его должен был убить тот, кто пришел после тех двух мужчин.
— Да, — согласился украинец.
— Кто? — спросил Берти.
— Понятия не имею. Клянусь, господа. Никакого понятия. Это мог быть любой, кто приходил сюда. Это были, по меньшей мере, двенадцать мужчин. По меньшей мере, шесть девушек.
— Это не мог быть любой человек, — сказал я. — Не каждый из тех, кто приходил сюда.
— Почему?
— Потому что напуганный Конкон наверняка заперся изнутри. А сейчас дверь была открыта. Значит, он ее открыл кому-то, кого знал.
— Да, это верно, — согласился служащий. Он опять испуганно вздрогнул, потому что портье за его спиной закашлял, надрывно при этом отхаркиваясь. Мне показалось, что это никогда не закончится. Потом храп опять возобновился.
— Вы больше не подслушивали под дверью Конкона, так? Ни разу? — поинтересовался Берти.
— Ни разу! Я ж должен был быть все время здесь внизу. Столько работы! Стало поспокойнее, может, только за час, как вы пришли, милостивые господа.
— Но тогда вы были наверху?
Украинец молчал.
— Ну!
— Да, — сказал он. — Я был наверху. Еще раз послушал у 17-й. Мне было так жутко. Ни звука, ничего. Я дверь приоткрыл. Он лежал на кровати в своей крови. Ужасно.
— А почему вы об этом нам сразу не рассказали, когда мы спросили Конкона?
— Я ж не хотел быть впутанным ни во что! Я ж не знал, друзья или враги господина Конкона милостивые господа. Сильно боятся. Вы понимаете? И сейчас боятся. Сильно боятся.
— Чего?
— Мести. Я вам все рассказать. Они прийти назад и меня тоже убить. Я идиот. За восемьсот марок рисковать моя жизнь. Идиот, вот кто я. — Он стал плаксивым.
— Берти, щелкни его еще пару раз.
— О’кей, — отозвался Берти. Он сфотографировал украинца со вспышкой, как тот стоял у входа в гостиницу, с искаженным от страха, белым лицом. Потом мы повели его с собой в нашу взятую напрокат машину, я заполнил составленное Ротаугом заявление и заставил украинца показать мне его засаленное удостоверение личности, чтобы он не подписался фальшивой фамилией. Его звали Панас Мырный. 69 лет. Проживает в Сан-Паули, Шмукштрассе, 89, у Швильтерса. Писать он мог с большим трудом, почти никак. «Только подпись», — сказал он. Подпись была похожа.
— Где остальные четыреста? — спросил он, подписав.
— Прекрасные люди, друзья твоей фройляйн, — произнес Берти по-английски.
— Только после смерти, — сказал я. — Только после смерти. Ирина так и предполагала.
— Ну хватит молоть вздор, — сказал Берти, все еще по-английски.
— Как скажешь, — согласился я. — Но все же немного жутко, что нам все время попадаются все эти иностранцы.
— А, к черту! — выругался Берти по-английски.
— А теперь пошли, — сказал я по-немецки Мырному.
Мы вернулись втроем в гостиницу, портье лежал теперь на животе и не двигался. Я позвонил в ближайший полицейский участок Давидсвахе,[86] и сказал:
— Приезжайте в гостиницу «Париж» на Кляйне Фрайхайт. Здесь кинжалом заколот мужчина.
— Кто говорит? — спросил дежурный на другом конце провода. Я повесил трубку. У нас ведь была назначена встреча наутро в полицейском управлении. Столько времени здешней полиции наверняка потребуется, чтобы выяснить, кто мы такие и что проживаем в «Метрополе». На шапке договора о передаче личных неимущественных прав, правда, стояли название и адрес «Блица», но я очень сомневался, что Панас Мырный покажет эту бумагу полицейским. Наши настоящие фамилии, показывая ему журналистские удостоверения, мы закрыли.
— Вы остаетесь здесь и как миленький ждете полицию, — сказал я ему. — И рассказываете все, что рассказали нам.
— И то, что я это вам рассказал? И что вы были здесь?
— Разумеется. Как хотите, — ответил я. Потом мы с Берти бросились к нашему «рекорду», я развернулся и поехал назад, на Реепербан. Нам навстречу ехала полицейская машина с радиосвязью. Маячок поблескивал, сирена выла. После всего, что мы узнали, Ирина все еще была в большой опасности.
14
Гаражный диспетчер, голландец Вим Крофт, дежуривший этой ночью, был полным мужчиной с розовым приветливым лицом и маленькими веселыми глазками. Он помог загнать наш «рекорд» на платформу лифта, опускавшегося в подземный гараж. Было 5 часов 40 минут утра. Все блестело на свету, с нашей машины капала вода, поскольку все еще продолжался сильный дождь. По пути мы заехали на аэродром Фульсбюттель, откуда Берти отправил последние пленки. Всю дорогу в отель он мирно спал рядом.
Грузовой лифт находился за тяжелой металлической дверью с левого бокового фасада «Метрополя». Подземный гараж был двухэтажным. Когда платформа лифта поднималась, металлическая стена скользила вверх и открывала въезд. На Крофте был ярко-желтый комбинезон. После того, как мы под его команды въехали на платформу, он, освещенный светом фар, нажал на рычаг. За нами снова опустилась металлическая дверь, и платформа вместе с автомобилем, слегка вибрируя, мягко заскользила на глубину первого гаража. Здесь Крофт направил нас к свободному месту стоянки. В гараже было множество автомобилей, в свете неоновых ламп мужчины и женщины в тяжелых резиновых фартуках мыли грязные машины. Громко гудел вытяжной вентилятор. Я заглушил двигатель, погасил фары и взял магнитофон и пишущую машинку, Берти забрал свои камеры, и мы вылезли из машины.
— Долго тянется такая ночь, — сказал я Крофту.
— Мне это нравится, — ответил он. — Я предпочитаю работать ночью, а не днем. Мой сменщик тоже. Мы всегда дежурим по неделе. Все в порядке с машиной?
— Да, — сказал я. Мужчины и женщины, мывшие из шлангов машины, производили жуткий шум. Вентилятор тоже громко гудел. Мы были вынуждены кричать. Крофт выдал нам машину перед нашим отъездом. Теперь он внимательно осмотрел ее.
— Все о’кей, — сказал я. — Мы ничего не сломали.
Он не расслышал. Потом поинтересовался:
— Вы уже знаете, как долго вам будет нужна машина?
— Нет, — ответил Берти.
— По работе здесь? — спросил Крофт, посмотрев на камеры и диктофон.
— Да, — ответил Берти. Несмотря на вытяжку, пахло бензином. Как гласила табличка, курить было строго запрещено. Рядом с маленьким кабинетиком Крофта стояли две бензоколонки.
— Я потому спрашиваю, что вы получили последний «рекорд». Все остальные уже розданы, — дружелюбно заметил голландец. — Тут есть еще один постоялец, который тоже обязательно хочет «рекорд». Если б вы только знали, какие машины только не заказывают. Эти два конгресса сведут нас с ума, даже нас тут, внизу! Еще и третий должен начаться послезавтра. Для специалистов по сердечно-сосудистой системе.
— А два других конгресса? — полюбопытствовал я.
— Один — на международной филателии. Другой — на международной нейрохирургии, — пояснил Крофт. — Врачи со всего мира. Этот вот «рекорд» рядом с вашим я как раз только что сюда препроводил. Полчаса назад примерно. Хорошо, наверное, повеселился господин профессор. — Он прошел в свой кабинетик, в котором в качестве единственного украшения на стене рядом с огнетушителем висел кока-коловский календарь, и отметил нашу машину.
— Что за профессор? — заинтересовался Берти.
— Из Москвы, — ответил голландец. — Профессор Монеров. — Он взглянул в свой путевой дневник. — Ну надо же, — хмыкнул он.
— Что? — спросил я.
— У вас ведь люкс № 423, да?
— Да, и что?
— А у профессора Монерова люкс № 424, — сообщил Крофт. — Вы соседи! И оба взяли «рекорд». — Ну не забавно?
— Да, — сказал я. — Очень забавно.
Он обожал трепаться и был добродушен и чрезвычайно бесхитростен, почти как ребенок, этот Вим Крофт. «Многие голландцы такие», — подумал я. А потом, как назло, я снова вспомнил про фройляйн Луизу и ее умерших друзей, но было уже так поздно, и я был таким уставшим, что вдруг ощутил отвращение к миру фройляйн Луизы и подумал: «Я не могу и не хочу верить в этот параллельный мир, что бы мне не пел о нем Хэм. Я могу верить только в то, что я слышу, что вижу, что говорю!»
Сегодня я знаю, что на самом деле все бывает по-другому: то, что я (и это относится ко всем людям) вижу, говорю, слышу, в следующий момент уже устаревает и доводится до абсурда. И лишь предчувствие оказывается долговечным.
15
Она спала как ребенок.
Лежала на левом боку, прижав к губам маленький кулачок и свернувшись калачиком. Я стоял в темной спальне, освещенной лишь полоской света из приотворенной двери в салон, и слушал дыхание Ирины, тихое, с редкими выдохами. Я стоял так довольно долго и глядел на нее, и, как два дня назад, в маленьком баре франкфуртского магазина деликатесов Книфалля, остро ощутил, какую же свинскую жизнь я вел, как прожигал и попусту растрачивал ее, как похоронил свой талант. Эта история, именно эта история должна помочь мне вернуть хоть немного самоуважения, увидеть напечатанным свое настоящее, все еще доброе имя. Однако эти мысли не приносили мне облегчения. Мне вдруг стало скверно — я почуял «шакала» совсем близко, вытащил фляжку и долго пил из нее…
Забирая свои ключи у ночного портье Хайнце, мы поинтересовались новостями. Новостей не было. Ирина не звонила, ей никто не звонил, мне никто не звонил. Никто не наводил о ней справок. Я поехал с Берти в лифте наверх, пожелал ему спокойной ночи и вышел на пятом этаже. Перед дверью 424 стояла пара уличной обуви и пара очень грязных туфель к смокингу. Эти были особенно шикарные. Они принадлежали нейрохирургу, профессору Монерову. Русскому. «Ну и что, — сказал я сам себе. — В большом отеле живут люди разных национальностей. Только не верить в этот бред!» Потом у меня возник чисто рациональный интерес. Я бы с удовольствием узнал, где профессор покупает такие великолепные туфли к смокингу. У меня было три пары, но такой элегантной не было ни одной. После этого я отпер дверь в свой номер, сбросил еще в коридоре обувь, прошел в носках в салон, запер дверь на ключ и зажег лишь торшер возле дивана, где лежали мои подушка и одеяло. Повесил куртку на кресло, снял галстук и тихонько приоткрыл дверь в спальню, поскольку мне было нужно в ванную. Потом я стоял у кровати Ирины, смотрел на нее и думал о невинности и о себе самом, пока не появился «шакал» и мне не пришлось пить, так долго и так много.
Я чуть не задохнулся, когда поставил фляжку, и «шакал» убрался восвояси, но я боялся, вдруг он вернется, поэтому решил поставить фляжку на стол перед диваном, чтобы она все время была под рукой.
Я пробрался в ванную, пытаясь как можно тише открывать и закрывать дверь, сдвинул в сторону платком осколки стакана, который уронила сегодня Ирина, когда я увидел ее голой. Потом быстренько помылся и вернулся в салон. Снял все с себя, надел вторую пижаму, потом сделал на всякий случай еще один большой глоток, хотя только что почистил зубы. Я прислушался, но по соседству все оставалось тихо, поэтому я снял трубку. Девушка, дежурившая ночью на коммутаторе, откликнулась тихим, усталым голосом, и все же очень приветливо. Сначала я попросил номер Конни Маннера. Никто так долго не снимал трубку, что я даже испугался. Потом, наконец, подошла Эдит Херваг, усталая и абсолютно заспанная. Она немного оживилась, узнав мой голос.
— Ах, это вы.
— Я же сказал, что буду звонить каждые два часа. Что с Конни?
— Звонили из больницы. Сказали, если не будет осложнений, я сегодня до обеда могу увидеть Конни.
— Отлично. Когда?
— Они сказали, около двенадцати.
— Хорошо, я снова позвоню. Примерно в пол-одиннадцатого. Извините, что разбудил.
— Ничего страшного. Я… я так рада, что Конни лучше. Я спала в кресле около телефона.
— Ложитесь теперь в кровать.
— Да. И еще… Вальтер?
— Гм?
— Спасибо вам. Вам и Берти. Вы… очень добры ко мне.
— Да-да, — сказал я. — Спокойной ночи, Эдит.
Я повесил трубку, и мне почудился шорох в соседней комнате, но потом опять наступила полная тишина, и я решил, что ошибся. Теперь я почувствовал, как усталость ломает и корежит меня. Я снова хлебнул из фляжки, поблагодарив при этом Господа или кого-то еще за то, что Конни стало лучше и он выкрутится, потом я снова снял трубку и попросил Франкфурт, номер Хэма. Он подошел сразу. Я услышал музыку и женское пение.
— Привет, старичок! — сказал Хэм.
— Привет, Хэм, — сказал я. — Что это? Все еще Шёк?
— Да, — ответил он. — «Замок Дюран». Опера. Либретто по новелле Айхендорффа. Поет Мария Чеботари. Красиво, а? Ну, что произошло?
Я подробно рассказал ему обо всем случившемся, а Хэм внимательно слушал. Только иногда задавал вопросы. Из трубки по-прежнему доносились, только потише, пение и прекрасная музыка.
— Великолепно! — произнес под конец Хэм. — Хорошая работа. Классная история получается. Пленки с мертвым Конконом тоже прибудут первым рейсом?
— Да, Хэм.
— Замечательно. Я сказал Лестеру, что он должен выкинуть четыре страницы. Он отказался. Тогда мы просто позвонили старику, и Херфорд, конечно, разрешил четыре страницы! При такой-то истории. Но нам, разумеется, нужны и такие фотографии!
— Вы их получите, — пообещал я.
— И сногсшибательный текст и подписи под картинками нужно передать до десяти, ты понял, малыш? Нужно! Чтоб на тебя не наехал твой «шакал» или еще чего-нибудь не нашло. Иначе твоя история полетит к черту.
— В десять я все передам.
— Херфорд в восторге от того, что вы сразу наткнулись на такую бомбу. Это дорогого стоит, потому что вообще-то у него чудовищное настроение.
— Почему это?
— Боб.
Боб — это был Роберт, сын Херфорда, плейбой и бездельник.
— Что он опять натворил?
— Обычная история. Опять одну обрюхатил, пятнадцатилетнюю. Херфорд мне в жилетку плакался. Девица — оторва, с ней никто не может справиться. Хочет оставить ребенка. Ни за что не желает делать аборт. Грозится донести на Херфорда, если он еще раз будет требовать это от нее. — Я засмеялся. — Да, очень весело, — вздохнул Хэм. — И алиментов не хочет. Слишком ненадежно для нее. Желает полмиллиона на лапу.
— Рехнулась она, что ли?
— Вовсе нет. Этот дурень Боб ее между прочим изнасиловал.
— Тогда ясно, — сказал я.
— К сожалению, у нее есть свидетели. Это было на молодежной тусовке, представляешь? Пять свидетелей. Ротауг говорит, ничего не поделаешь. Может, удастся уговорить ее снизить до четырехсот тысяч. Но это минимум. Херфорд пару раз врезал своему отпрыску. А мне он сказал, что, если бы Бог его в самом деле любил, он подарил бы ему такого сына, как ты.
— Нет! — не удержался я.
— Так и сказал. Он без ума от тебя, малыш. Так что сделай мне одолжение и доведи как следует это дело до конца. Пожалуйста. Это большое дело, и это твое дело, и…
— Хэм, — сказал я, — эту историю я напишу так, как еще никогда не писал, можете быть уверены. Мне только жаль эту Индиго.
— Тебе жалко какого-то человека?
— Да.
— Черт возьми! — удивился Хэм.
— Нет, правда. Вы только посмотрите, она так любит этого Билку, а после всего того, что мы нарыли, это дохлый номер. Он уже давно и думать забыл об этой Индиго. А если и думает, то только со страхом. Он такие большие дела проворачивает.
— Да, похоже, — согласился Хэм. — Хотя я пока и не знаю точно, что это за дела.
— Я этого пока еще тоже не знаю. Во всяком случае, скоро мы столкнемся с какими-нибудь спецслужбами, если будем рыть дальше, с немецкими или с иностранными.
— Когда вы будете в полиции?
— В одиннадцать.
— Хорошо. Полиция должна быть на вашей стороне, еще раз тебе говорю. Особенно в случае, когда участвуют иностранцы. Четверть часа назад я звонил в редакцию. Служба новостей ничего не знает. По телетайпу ни от одного агентства пока не пришло ни словечка — ни о чем. Даже об убийстве этого Конкона.
— А Билка? Индиго? Стрельба в лагере?
— Ни полслова. Я даже связывался с нашими стрингерами в Бремене и в Гамбурге. Бремен — ничего. Гамбург — ничего. Участок Давидсвахе не сообщает ни о каких особых происшествиях.
Стрингеры — это были наши внештатные корреспонденты, имевшие свои особые связи и способности и первыми откапывавшие все новости. Таких у нас была куча. Итак, «Давидсвахе» не информировал ни о каких особых событиях. А я сам звонил им и сообщал об убийстве.
— Это мило, — сказал я.
— Да уж, — сказал Хэм. — Все, теперь ложись, Вальтер. Скоро уже день начнется. Где ты, собственно, спишь? Откуда ты говоришь?
Я сказал ему.
— Мне кажется, ты влюбился, — произнес Хэм.
— Ах, чепуха.
— Когда ты в последний раз спал на диване, а красивая девушка рядом, одна на кровати?
— Это было давно, но с тех пор я стал импотентом.
— Ах ты Господи, — хмыкнул Хэм. — Приятных сновидений, мой бедный импотент. А в десять ты передаешь. Пока.
Я положил трубку и поднялся, чтобы немного отодвинуть тяжелую портьеру и открыть одно из французских окон. Иначе я не мог спать. Окно выходило на узкий балкон с широкими перилами. Я вернулся к дивану, рухнул на него и выключил свет. В темноте я посмотрел на светящийся циферблат своих наручных часов, которые носил на запястье. Было пять минут седьмого. «В десять я должен передать материал, — сказал я себе. — В одиннадцать нам надо быть в полицейском управлении. Значит, я могу поспать до девяти. Нет, лучше до полдевятого. Ничто не должно мне помешать. Значит, полдевятого», — твердо наметил я. Перед моими глазами вдруг всплыли груди Ирины и все ее обнаженное тело, которое я увидел несколько часов назад. Я почувствовал сильное желание. «Ты хочешь ее, — подумал я. — И Хэм говорит, что ты влюбился. Что за ерунда», — ответил я сам себе. Потом я заснул. Примерно в это же время в Гамбург прибыла фройляйн Луиза. Но об этом я узнал позже.
16
Когда я проснулся, передо мной сидела Ирина и смотрела на меня. Ее глаза были первым, что я увидел в узком луче света, падавшем из щели между портьерами. Смотрела она на меня как-то очень странно, как никогда до этого.
— Доброе утро, — произнес я.
— Доброе утро, господин Роланд, — ответила Ирина.
Я взглянул на свои часы. Половина девятого. С точностью до минуты, как обычно.
Просторный салон был погружен в сумрак, полоска света была тусклой. Свет падал прямо на красивое лицо Ирины.
— Вы уже давно здесь сидите?
— Да.
— Сколько?
— Не меньше часа, — ответила она. — Простите, пожалуйста. Это вам, конечно, неприятно.
— Конечно, — кивнул я.
— Я понимаю, — сказала она.
— Почему же вы это делали?
— Я тихонько заглянула, когда проснулась, и тут услышала, как вы разговариваете во сне. И тогда…
— Вам стало любопытно.
— Да, — призналась она.
— И долго я разговаривал?
— Очень долго. Почти все это время, — сказала Ирина. Я знал, что иногда разговариваю во сне. Иногда, — не часто.
— И о чем же я говорил?
— О многих вещах.
— О каких вещах?
— О неприличных, — улыбнулась Ирина. — Красивых, очень красивых…
— Очень мило. — Я вдруг разозлился: — И вам это доставило удовольствие, да? Такое удовольствие, что вы целый час слушали.
— Вы не весь час говорили только… Я хочу сказать… — Она отвернулась.
Я встал, подошел к окнам и раздвинул портьеры. Ураган улегся, небо было серое, накрапывал мелкий дождичек. Я увидел большой парк с дорожками, черные голые деревья, паромную пристань и Альстер на переднем плане. У пристани сидело много чаек. По реке плыли два белых пароходика. Как раз возвращался паром. В парке за терьером бежала маленькая девочка.
Я закрыл окно, повернулся и увидел, что Ирина вдруг заплакала. У нее опять не было носового платка. Я подошел к ней и дал ей свой. Она вытерла глаза.
— Знаете ли, если вы шпионите за кем-нибудь во сне, то потом не стоит удивляться, что… — начал было я.
— Все нормально, — произнесла Ирина. Она пристально следила за мной.
Я собрал свою одежду и сунул ноги в тапочки. Мой чемодан стоял в спальне. Я собирался надеть другой костюм и свежее белье. Хотел принять горячую ванну и побриться.
— Вы не могли бы заказать завтрак? — спросил я Ирину. — По телефону. Пусть принесут через двадцать минут. Я сам открою дверь кельнеру. Для меня, пожалуйста, четыре порции эспрессо, большой полный кофейник, ветчину и яйца, апельсиновый сок, тосты, масло, джем. Для себя закажите что хотите.
— Я тоже считаю, что Ян подонок, — сказала вдруг Ирина.
Я отнес костюм и белье в спальню и бросил их на широкую кровать. Вернулся в салон, забрал одеяло и подушку с дивана, буркнув при этом:
— Не обязательно всем знать, что я спал не на кровати.
Ирина произнесла:
— Разве можно в один момент перестать любить мужчину, только потому, что узнаешь, что он подонок?
— Женщина, вероятно, не сможет. К счастью, я не женщина.
Она снова заплакала, я понес подушку с одеялом в соседнюю комнату и услышал ее слова:
— Я намочила весь ваш платок, извините.
— У меня еще есть, — сказал я и принес ей из чемодана новый платок. Ее плечи подрагивали.
— Вот, — протянул я ей чистый платок.
— Спасибо. — Она взяла платок и вернула мне мокрый.
— Пожалуйста, — ответил я.
Ирина всхлипнула:
— Если Ян такой мерзавец, как вы считаете…
— А вы так не думаете?
— Да нет, я тоже так считаю, — сказала она. — Я должна вам еще кое-что сказать. Я не спала, когда вы вернулись и собрались идти в ванную и при этом так долго смотрели на меня.
— Но вы же делали вид, что спите.
— Да, — кивнула она.
— Зачем?
— Я подумала, может быть, вы еще раз позвоните в свою редакцию, и я узнаю что-нибудь о Яне. Вы звонили в свою редакцию.
— Моему редактору, — поправил я. — И вы подслушали весь этот разговор?
— Да, — ответила она. — Я встала с постели, прокралась к двери, тихонько приоткрыла ее и все слышала. Все. Теперь я знаю о своем женихе все то, что знаете вы. Это не лезет ни в какие ворота.
— Ни в какие.
— Вы не могли знать, что я подслушиваю. Вы не лгали. Вы передавали новости. Это ваша профессия.
— Да, — сказал я, пошел в ванную и открыл кран с горячей водой. Потом распаковал свой пакет с туалетными принадлежностями и обнаружил на табличке, что розетка около зеркала над раковиной на 110 вольт, как это чаще всего и бывает в крупных отелях. Я переключил напряжение своей бритвы с 220 на 110 и неожиданно увидел в зеркале Ирину, стоящую в дверях. Она больше не плакала, и ее красивые глаза были широко открыты.
— В чем дело? — спросил я, все еще глядя в зеркало.
Кран в ванне был открыт до отказа, хлещущая вода все заглушала, поэтому мне пришлось говорить громко. Она что-то ответила, я ничего не понял. Тогда я повернулся и выключил воду.
— Что вы сказали? — Я стоял вплотную к ней.
— Я сказала, вы ведь сегодня все сделаете, чтобы найти Яна?
— Разумеется, — ответил я. — Как вы изволили заметить, это моя профессия.
— Не надо, — сказала она.
— Что не надо?
— Не надо говорить со мной так. Не сердитесь на меня.
— Я не сержусь. Я всего лишь хочу принять ванну.
— Да, конечно. Я… Понимаете… Я ведь должна доверять кому-нибудь, правда? Ни один человек не может жить, не доверяя хотя бы кому-нибудь.
— Можно попытаться, — сказал я.
— Я не могу, — ответила она. — Я не могу пытаться. Я… я… я… должна тогда доверять вам, мне ничего другого не остается, или…
— Если вам непременно кто-то нужен, тогда вам ничего другого не остается. Итак, вы готовы мне доверять?
Она кивнула.
— Хорошо, — сказал я. — И делать все, что я вам скажу?
Она опять кивнула.
— И не делать ничего, что вам скажет кто-нибудь другой?
— Да, — произнесла она. — Только, пожалуйста, господин Роланд, не обманите и вы меня. Говорите мне всегда правду. Я не перенесу, если замечу, что и вы обманываете меня, что и вы окажетесь подлецом.
— И что же вы тогда бы сделали?
— Я бы убежала, — тотчас ответила она. — Любым способом. Я сейчас не знаю, что бы я стала делать потом. Но от вас я бы убежала, уж это точно.
— Ну что ж, я буду стараться не быть подлецом, — усмехнулся я.
— И будете мне говорить правду?
— И говорить вам, по возможности, правду.
— Спасибо, господин Роланд.
— Пожалуйста. А теперь вы должны сказать мне правду.
Она испугалась.
— Я? Какую правду?
— Какой размер обуви вы носите?
— Для чего это вам… зачем?
— Я должен это знать, — произнес я. — Итак? Только правду!
— 39-й, — сказала она и засмеялась.
— А какой размер одежды?
— 42-й.
— Так, — довольно произнес я. — А ваши объемы? Дайте я угадаю. 85-65-85?
Она внимательно посмотрела на меня.
— Да, верно. Точно. Откуда вы знаете?
— Я гений, — сказал я. — Женщины — это моя специальность. Кроме того, я уже имел удовольствие вас… Простите. Это было нетактично. Мне нужны ваши размеры, поскольку мне ведь надо купить вам платья.
— Исключается!
— И обувь!
— Ни в коем случае! Ни в коем случае!
— И чулки, и нижнее белье. Не перебивайте меня. Разумеется, я должен все это для вас купить. Вам нельзя покидать номер. Но вы же не можете вечно ходить в тех вещах, которые на вас.
— Я…
— Иначе и быть не может! — отрезал я. — Какой ваш любимый цвет?
— Красный, — ответила она. — Но послушайте, это действительно невозможно.
— Очень даже возможно. Вы же можете оплатить из своего гонорара. У вас целых пять тысяч марок — уже забыли?
— Да… Нет… У меня все перемешалось в голове… Я… Извините, господин Роланд.
— Называйте меня Вальтер.
— Вальтер.
— Ирина. — Я все еще как идиот держал в руке бритву.
— Вы такой добрый, Вальтер.
— Вы такая красивая, Ирина.
Она вдруг отвела глаза.
— Я закажу завтрак, — быстро проговорила она.
— Хорошо, — кивнул я. — И позвоните Берти. Номер 512. Пусть он спустится через двадцать минут и позавтракает с нами. Наверняка он еще спит. Пусть встает.
Она кивнула.
— И не забудьте заказать завтрак себе самой.
— Нет, — сказала она, обернувшись. — Чай. Я хочу много чая.
— И как следует поешьте, — сказал я.
— У меня вообще нет аппетита, — сказала она и вышла.
Я как раз снял свою пижамную куртку, когда она снова зашла.
— О, пардон!
— Что случилось?
— Я только хотела сказать, кажется, у меня все-таки есть аппетит, — сказала Ирина и покраснела. — Я для себя тоже закажу ветчину с яйцами, и тосты, и масло, и джем. И я не буду пить чай. Я тоже выпью эспрессо. И апельсиновый сок, как вы. — Сказав это, она быстро побежала в салон.
Я снял свои часы и увидел, что было ровно девять. Я включил маленький японский транзисторный приемничек, который всегда возил с собой и сейчас вынул из чемодана. Покрутив ручку настройки, я поймал «Норддойчер Рундфунк». Потом поставил радио на край ванны, залез в горячую воду, намылился и прослушал последние новости. Новости длились пятнадцать минут, под конец следовали местные, однако диктор ни слова не сказал о лагере «Нойроде» и о том, что там произошло, ничего об убийстве в Сан-Паули, вообще ничего, что касалось бы моего дела. Дослушивал новости я, уже бреясь перед зеркалом. Я стоял голый. Диктор еще сообщил прогноз погоды (пасмурно и дождливо), и я подумал, что дело, за которым я охотился, было гораздо сложнее, чем я предполагал, иначе не было бы этого полного запрета на информацию. Потом мне вдруг вспомнилось, что Ирина захотела вместо чая эспрессо, так же, как и я, ветчину с яйцами и апельсиновый сок.
— Последний удар гонга раздастся в девять часов пятнадцать минут, — объявил диктор.
Я вдруг неожиданно понял, что люблю Ирину.
Такое в моей жизни было один-единственный раз, и я не был уверен, что у меня есть повод радоваться этому обстоятельству. Все это скорее тяготило меня. Моя последняя любовь случилась шестнадцать лет назад, длилась всего полгода и закончилась омерзительно.
17
Мы завтракали втроем за передвижным столиком, который вкатил незнакомый официант. Я спросил его, кто будет дежурить после обеда. Он назвал фамилию хорошо знакомого мне кельнера. Я всегда обращался к нему по имени, называя его «господин Оскар», и теперь был рад, что увижу именно его.
Проглотив яйца, ветчину и кучу тостов, я взял бумагу и ручку и с помощью Берти набросал подписи под фотографиями. Берти маркировал каждую пленку и делал себе пометки. Я пил горячий крепкий кофе и улыбаясь поглядывал на Ирину, но наталкивался лишь на ее серьезный взгляд. Один раз она кивнула. Мы спросили ее разрешения работать за завтраком, она не возражала. После подписей я спросил Ирину разрешения закурить, и она опять не возражала. После трех «Голуаз» и еще пары чашек кофе я написал еще и убойную статью, которая не должна была быть чересчур длинной. Было почти десять.
Я поднялся, перешел к телефону рядом с диваном и назвал девушке-телефонистке (теперь уже работала утренняя смена) номер «Блица» во Франкфурте, надеясь, что на приеме сидела черненькая Ольга. У нее это получалось лучше других. Днем там работали шесть девушек, ночью — две.
— Можно я тоже позвоню? — спросил Берти. — Я позвоню с того аппарата, который в спальне. — Берти переоделся, теперь на нем был шерстяной фланелевый костюм, голубая рубашка и светлый галстук. Он выглядел по-настоящему элегантно.
— Конечно.
Ирина была в замешательстве.
— Оставайтесь здесь, — успокоил я ее. — У нас нет от вас секретов. Вы можете спокойно слушать то, что я буду передавать. Кому ты хочешь звонить?
— Маме, — произнес Берти со своей обычной мальчишеской улыбкой. В поездках он при первой возможности каждый день звонил матери. Разумеется, не из Южной Америки или Японии. Оттуда он слал телеграммы. Он очень любил свою мать, и она обожала своего сына. Берти пояснил: — Ведь сегодня у нас будет сумасшедший день. Позже я уже не соберусь. Еще хочу послать ей цветы через фирму «Флойроп». Магазинчик внизу в холле, наверное, уже открыт.
— Передай большой привет своей маме, — бросил я ему вдогонку, и тут как раз зазвонил мой телефон. Я закурил новую «Голуаз» и снял трубку. Это было издательство. Я назвал свою фамилию и попросил принять материал. Сразу же раздался женский голос. «Слава Богу, — подумал я, — мне повезло».
— Доброе утро, Ольга, — приветствовал я ее. — Это Вальтер Роланд. У меня срочный материал.
— Машинка или стенография? — спросила черненькая Ольга.
— Стенография. А потом передать.
— Начали, — скомандовала Ольга.
— О’кей, — сказал я и начал диктовать, бросив при этом взгляд на Ирину. Она посмотрела на меня очень серьезно и грустно. Я углубился в свои бумаги…
18
Это был большой город, со множеством людей, окруженный мощными каменными стенами, никто не мог его покинуть. В стенах было четыре гигантских башни, устремленных высоко в небо. А на башнях стояли чудовищно огромные фигуры, непрерывно подававшие свои громоподобные голоса. И вот по улицам могущественного города шла фройляйн Луиза вместе со своим умершим любимцем, призванным на имперскую службу труда, — бывшим студентом философии из Рондорфа под Кёльном. И фройляйн была бесконечно счастлива оттого, что с ней был студент, ибо чувствовала себя потерянной и беззащитной в этом огромном городе.
И фигура на первой башне кричала:
— Идите ко мне, вы все, которые живете под тяжким бременем! Все вы рождены равными! Все вы обладаете одинаковыми правами! Все вы по закону одинаково защищены от голода, нищеты и страха! Стремитесь к счастью! Твердо придерживайтесь идеалов справедливости, умеренности, воздержания, скромности и добродетели!
Однако спешившие мимо люди отнюдь не были равнорожденными и отнюдь не обладали одинаковыми правами и не были одинаково защищены от голода, нищеты и страха, и меньше всего было заметно справедливости и добродетели. Гораздо больше бросались в глаза бедные и богатые, цветные и белые, угнетатели и угнетенные, эксплуататоры и эксплуатируемые, бьющие и побитые, преследователи и преследуемые. И фройляйн Луиза спросила своего друга:
— Кто это так кричит на первой башне?
И студент ответил ей:
— Это проводник идей демократии.
И фигура на второй башне гремела:
— Пусть будут прокляты все грешники, которые предаются похоти! Пусть будут прокляты навечно и сгорят в адском огне все, кто и в помыслах и в жизни поддается половым соблазнам и всем другим земным инстинктам!
И люди, пробегавшие мимо фройляйн Луизы, опускали головы, и в их глазах стояли страх и вина. И фройляйн Луиза спросила своего друга:
— Кто это так кричит на второй башне?
И студент ответил:
— Это глава христиан.
И фигура на третьей башне громыхала:
— Боритесь за диктатуру пролетариата! Уничтожайте капитализм! Преследуйте коррупцию и безнравственность! Стройте государство рабочих, крестьян и интеллигенции!
И люди склоняли свои головы в горечи и страхе, и ни один не осмеливался посмотреть в лицо фройляйн Луизе, и она спросила студента:
— А кто это стоит на третьей башне?
И студент ответил:
— Это вождь коммунистов!
И они пошли дальше по бесконечным улицам и услышали, как орала гигантская фигура на четвертой башне:
— Будьте отважными и сильными, будьте готовы отдать свою жизнь за отечество! Уничтожайте выродков еврейской нечисти! Чистота и честь — вот цель вашей жизни ради будущего вашего народа и счастья ваших детей!
И люди сгибались еще ниже и пробегали еще быстрее мимо, и в их лицах отражались террор и страх, от которых они страдали, и фройляйн Луиза спросила студента:
— Кто это стоит на четвертой башне?
И студент ответил:
— Это фашистский фюрер!
И царила в этом городе большая нужда, ибо фройляйн Луиза видела, что все люди жили под гнетом четырех всемогущих великанов на башнях и не осмеливались роптать, они жили в плену и несвободе. И фройляйн очень опечалилась этим…
Так начинался сон, который приснился Луизе Готтшальк в купе пассажирского поезда, выехавшего из Ротенбурга в направлении Гамбурга через три четверти часа после того, как она сошла с кёльнского поезда. Поезд был еще почти пуст и часто останавливался. Фройляйн Луиза твердо решила не засыпать ни при каких обстоятельствах, потому что она знала, что ей нужно быть гораздо осторожнее, чем раньше. Однако усталость была сильнее, и вскоре она уже спала и видела этот странный сон. Позже она рассказывала мне о нем и о своих приключениях в Гамбурге — что я теперь и записываю. Она сказала:
— Это был ужасный сон. И такой страшный. И вообще я уже не знаю, приснился ли он мне, действительно ли я видела его. Но точно, что это было Божье послание для меня.
— А что было потом? — спросил я.
Фройляйн Луиза ответила, что помнит все в мельчайших подробностях и наверняка ей было суждено заглянуть в будущее. Люди вдруг поняли, что не в силах больше выносить свою ужасную несвободу и чудовищные голоса четырех всемогущих. Эти голоса становились все тише и тише, пока не были заглушены криком: «Свобода!»
И крик одного единственного человека перерос в крики сотен тысяч, миллионов: «Свобода! Свобода! Свобода!»
И в закрытом городе разразилась революция, а фройляйн со студентом стали ее свидетелями, и Луиза видела, как люди гроздьями, словно муравьи, висели на стенах и штурмовали четыре высокие башни. Несчетное количество их срывалось, но на их месте появлялись все новые и новые, и, наконец массы достигли возвышений, на которых стояли четверо властелинов. И массы безоружных людей набросились на тиранов, и были страшные бои, и разлетались в разные стороны тысячи тел, когда властелины оборонялись, но в конце концов победили отчаявшиеся, и они сбросили тиранов с башен и забили их тяжелыми камнями.
Когда властелины были уничтожены, всех охватило необычайное ликование, и миллионы людей бросились на стены, окружавшие город, и под их натиском стены рухнули, и люди устремились прочь из города, оглашая воздух воплем: «Свобода!»
Фройляйн Луиза и студент были увлечены обезумевшими толпами; спотыкаясь об обломки стен, они покинули пределы города. И фройляйн Луиза подумала: «Наконец-то эксплуатируемые получат вознаграждение, запуганные обретут уверенность, угнетенные — права, измученные и порабощенные — избавление, убогие — сострадание, отчаявшиеся — надежду».
Но не успела она это подумать, как в толпе послышались крики, она увидела группы людей в людском потоке, их становилось все больше, и она все чаще слышала выкрики:
— Вот теперь у вас есть свобода, но сможете ли вы самостоятельно распорядиться ею?
— Нет, не сможете!
— Мы должны вам в этом помочь!
— Мы покажем, что нужно вам, получившим свободу!
— Благодаря нам ваша свобода станет раем!
И миллионы людей, только что обретших свободу, забыли обо всех своих мечтах, о которых грезили в аду своей жизни в этом городе, и купились на новые грезы громко кричавших и перебивавших друг друга. И кричавшие взахлеб были торговцами.
Торговцы расхваливали своим согражданам то, в чем те, еще совсем беспомощные и растерянные, якобы нуждались, о чем якобы мечтали. А это, так кричали торговцы, были благосостояние и роскошь, любовь и вожделение, желание, чтобы тебя не трогали, карьера и собственность, слава, успех, знания, доступность всего мира, власть, красота, мужественность, секс, наркотики, приключения и еще тысяча вещей. И люди, только что избавившиеся от одной большой кабалы, верили тем среди них, которые были торговцами, и покупали, покупали у них, тут же попадая в новую кабалу, и фройляйн Луиза с грустью смотрела, как преображались лица соблазненных, как они на глазах сникали, становились уродливыми, загнивали и покрывались щербинами, как при оспе. От жадности искажались лица тех, кому торговцы продавали богатство, потухшими и пустыми становились лица тех, кому продали безумные оргии, осунувшимися и серыми — лица тех, кто через торговцев стал жертвой наркотиков. Опустошенными стали лица купающихся в роскоши, жестокими — получивших власть, окаменевшими — купивших карьеру, самонадеянными — славу, злыми — собственность, высокомерными — лица тех людей, которые купили знания. И все неистовее становился этот круговорот, все больше грез приобретали себе люди у торговцев, голоса которых звучали уже несравненно громче, чем когда-то голоса четырех властителей: «Покупайте, люди, покупайте! Покупайте! Покупайте! Покупайте!»
И люди покупали, покупали, покупали.
И все, что они покупали, было ничтожно.
Потому что торговцы продавали им не что иное, как грезы.
19
Хэм зашел в мою комнату, когда я дописывал эти последние строки. Он прочел их. Наконец произнес:
— Да, грезы. — Он пососал свою трубку, выпустил облако дыма и уставился на страницы, напечатанные убористым шрифтом. — Торговцы. Торговцы грезами. Ведь мы, малыш, в нашем «Блице» занимаемся тем же самым. Мы заботимся о людях, которые живут в своем мире как в тюрьме, как за высокими стенами, о людях, которые хотят свободы, абсолютной свободы, и мы продаем им — что? Мечты о свободе.
— Это был сон фройляйн Луизы, — сказал я. — У нее был страх. Страх перед огромным Гамбургом. Страх, что с ней что-нибудь случится в этом чужом гигантском городе.
— Это больше чем сон, — заметил Хэм. — У этой твоей фройляйн всегда бывает нечто большее. Неосознанно она поняла такое, что всегда понимают лишь те, кому не надо.
— Что именно?
— А именно то, что призывы к абсолютной свободе вводят в заблуждение, как и призывы с четырех башен. Люди еще не дозрели до абсолютной свободы. Тот, кто подобно торговцам, знает это, всегда может вновь поработить их, загнать в несвободу информационного, потребительского, вкусового принуждения и бесконечно заключать с ними сделки. Если бы люди действительно созрели, они бы в первую очередь избавились от нас, от торговцев. Но они еще не дозрели, и нам это не грозит…
— Да, мы торговцы, мы продаем грезы, — произнес я. — Что мы делаем? Мы — а мы не лучше, чем Лестер, Херфорд и Штальхут, — мы несем такую же степень ответственности, тщательно выясняя, как лучше всего угодить народу, прицельно и беззастенчиво следуем его самым низменным инстинктам, ибо они самые сильные. Мы знаем, что больше половины нашего населения предпочтет правдивой информации о мире, в котором оно живет, выдуманную идиллию. Мы систематически оглупляем этот несчастный народ. Как можно сделать людей, которые проглатывают наши дерьмовые истории, к примеру, о высосанных из пальца проблемах княжеских родов, политически зрелыми?
— Никто и не хочет делать их таковыми, — сказал Хэм. — Поэтому мы и преподносим им эти истории. В наше время все более совершенствующихся коммуникаций массы чем дальше, тем больше вынуждены обходиться информацией из вторых рук. А ею манипулируем мы! Бесконечно сложный мир мы объясняем в безобразно упрощенном виде. Вот те грезы, которые мы продаем! Мы продаем «простому мужчине» и «простой женщине» постоянный уход от реальности. А сами себя успокаиваем: разве тем самым мы не делаем доброе дело? Разве повседневная жизнь не достаточно тяжела и жестока? Разве «простой мужчина» и «простая женщина» не заслужили этого ухода? Кстати, о надуманных проблемах княжеских родов: ведь большие серии о кайзерах и королях, наряду с твоими просветительскими сериями, были нашим огромным успехом! Ведь мы годами подавали монархию в качестве идеального образа.
— По-моему, это связано с нашим национальным характером, — заметил я. — Это удовлетворяет нашу потребность в покорности, нашу тоску по добровольной кабале.
— Нет, — не согласился Хэм. — Я думаю, тут другое. Мы продаем не удовлетворение потребности в покорности, а удовлетворение генеалогической потребности. Мы продаем мечту, что семья будет существовать всегда, что она большая и настоящая, что она не может погибнуть. Мы продаем мечту о блестящей жизни! Фара Диба[87] и Фабиола![88] Семейные истории богатых! Мы сбываем мечту о герое. Киногерои, герои спорта, вообще известные люди: всеми этими историями мы убаюкиваем покупателей наших грез, и они забывают свои заботы о собственной семье, забывают о неопределенности своей жизни, страх перед которой испытывают все больше людей. Мы переносим все людские проблемы на священные фигуры-символы. Это, конечно, бегство от действительности. Зато читатель чувствует облегчение. Он не отчаивается — пока еще. Мы торгуем грезами, спасающими от отчаяния… — Хэм положил руку на мое плечо и сказал: — Пиши дальше, Вальтер. Торопись. Время не терпит. Записывай все, абсолютно все.
— Да, Хэм, — кивнул я. И принялся писать дальше.
20
Примерно в то же время, когда я заснул на диване своего номера люкс в «Метрополе», пассажирский поезд из Ротенбурга медленно подошел к перрону огромного Гамбургского Центрального вокзала. Фройляйн Луиза давно уже очнулась от своего причудливого сна и чувствовала, как бьется ее сердце. Когда поезд проезжал по нескольким мостам, Гамбург показался ей огромным чудовищем, и ее душа окончательно ушла в пятки, ведь она ехала из болотной глуши и много лет уже не видела Гамбурга. На последней станции вошло много людей, в основном это были рабочие. Теперь поезд был полон. Люди пугали фройляйн Луизу. «Ах, даже люди в этом поезде, — с тоской думала она. — Всего-то несколько человек в моем купе. А что будет, когда я попаду в миллионную толчею? Боже милостивый, помоги мне, я боюсь этого города».
Было бы неверно сказать, что милостивый Боже тут же принял меры и помог фройляйн Луизе. Напротив. Выйдя из своего вагона, она сразу очутилась в потоке пассажиров, устремившихся к широкой лестнице, ведущей от платформы наверх. Фройляйн Луизу толкали и подгоняли. А у нее ведь были такие опухшие, больные ноги! Она качалась. Пот мелкими капельками выступил у нее на лбу, ее мучила одышка. Толпа безжалостно несла ее вперед. Опять вспомнился сон. Теперь она уже с трудом взбиралась по лестнице. Вокруг было столько звуков, столько шума, столько голосов, что у фройляйн по-настоящему закружилась голова.
«Я не имею права сдаваться, — сказала она себе. — Еще ведь ничего не начиналось. Я все обсудила со своими друзьями. Теперь я должна это совершить». Она дошла до вокзала. Газетные киоски и продуктовые павильончики уже были открыты. Перед одним из них стояли трое мужчин, пивших горячий кофе из стаканчиков и евших булочки с колбасой.
Горячий кофе!
Это бы ей помогло. Горячий кофе помогал всегда. Фройляйн Луиза почувствовала моментальное облегчение. Она направилась к павильону и заказала кофе и один бутерброд. Двое из мужчин, стоявших неподалеку, были рабочими, очевидно, приятелями, так как они очень живо что-то обсуждали и громко смеялись. Третий стоял в стороне. Он был высок и строен, у него было узкое лицо, серые, с металлическим отливом, очень коротко подстриженные волосы. На нем было старое пальто из материи, перекрашенной в темно-синий цвет, как сразу установила фройляйн, не один десяток лет прекрасно разбиравшаяся в перекрашенных вещах. Это была бывшая шинель, как она определила с первого взгляда. «Скорей всего, — подумала фройляйн Луиза, потягивая глоточками кофе и разглядывая худого, — это была шинель, какие носили английские офицеры. Подбитые ватой плечи, крой в талию, широкий хлястик на спине — точно, эту шинель когда-то носил английский офицер!»
Фройляйн Луиза повнимательнее присмотрелась к мужчине. Брюки на нем были не синие. «Не перекрашенные, — решила фройляйн, — но старые». Тем не менее были видны острые, как лезвие ножа, стрелки. Ботинки из старой, потертой черной кожи, с чуть скошенными каблуками, но начищены до блеска! Взгляд фройляйн скользнул выше. Старый галстук, немодная рубашка, тоже старая. Все ухоженное.
Лицо мужчины было гладко выбрито, истощенное, однако с выражением превосходства человека, знававшего лучшие времена. Брови серые, глаза голубые и — в странном противоречии с дружелюбным лицом — жесткие и готовые к обороне. Очень прямая осанка. Сколько ему могло быть лет? «Конечно, старше меня», — подумала фройляйн. — Кто-то, проходя мимо, толкнул ее. Фройляйн Луиза задела локтем свою большую тяжелую сумку, и та упала на пол, раскрывшись при этом. Не меньше двух десятков стомарковых купюр вывалились из сумки. Худощавый как завороженный смотрел на деньги. Потом он быстро нагнулся и столкнулся при этом с фройляйн Луизой, опустившейся на колени.
— Пардон, — сказал худощавый. — Разрешите вам помочь?
— Я… я… В общем это… — Фройляйн Луиза дрожала. Ее деньги! Огромные деньги! Все еще стоя на коленях, она смотрела, как худой собирал банкноты и совал их обратно в сумку. Ей казалось, что деньги прилипают к его длинным, тонким пальцам. Он закрыл сумку и передал ее фройляйн Луизе. Потом взял ее за руку и помог подняться.
— Спасибо, — произнесла фройляйн Луиза.
— Рад был помочь, — сказал худой. — Столько денег…
— Да, — отозвалась фройляйн Луиза, — четыре тысячи марок. «Не надо было, наверное, этого говорить», — подумала она.
Худой воскликнул:
— Четыре тысячи! И сумка так легко открывается. Вам надо быть осмотрительнее.
— Да, верно, — кивнула фройляйн Луиза. Рабочие не заметили инцидента, расплатились и, смеясь, ушли. Все больше народа шло по вокзалу, раздался хриплый голос из громкоговорителя. Фройляйн Луиза не разобрала, что он сказал. Она все еще была чересчур взволнована.
— Разрешите представиться, Раймерс, — произнес худой с легким поклоном. — Вильгельм Раймерс.
— Очень приятно, — отозвалась фройляйн. — Моя фамилия Готтшальк.
— Вы издалека?
— Почему вы так решили?
— Ваш акцент… Австрийка?
— Нет, судетская немка. Но я приехала всего лишь из Нойроде. Из тамошнего детского лагеря. Это под Бременом.
— Да-да, — воскликнул Раймерс. — Нойроде. Я об этом что-то слышал. Большое болото, не так ли?
— Да…
— Там, должно быть, очень одиноко.
— Так оно и есть. И когда вдруг попадаешь в такой большой город, начинаешь очень нервничать, вы ж понимаете, господин Раймерс.
— Могу себе представить. — Раймерс немного оживился. — По крайней мере, вы хорошо знаете Гамбург?
— Нет, — грустно призналась фройляйн, — боюсь, что я здесь вообще не ориентируюсь. Я столько лет не была здесь… А то место, куда мне надо…
— Куда же вам надо?
— В… — Фройляйн Луиза осеклась. «Осторожно, — сказала она себе. — Я слишком много болтаю. С тем свидетелем Иеговы, который оказался не свидетелем, а психиатром, я тоже слишком много говорила. Мне надо быть осторожной». — Ну, в общем, туда, — сказала она.
— Может, вам нужен проводник? — с надеждой посмотрел на нее Раймерс. — Это, видите ли, как раз моя работа.
— Проводник? Какой проводник?
— Гид, — пояснил Раймерс. — Вы можете нанять меня на почасовую работу или по дням. Я в вашем распоряжении. Могу быть курьером или посыльным. Знаю Гамбург как свои пять пальцев. Господин Фриц знает меня уже три года. — Он показал рукой на толстого продавца в белой куртке, стоявшего за прилавком между двух девушек.
— Да, можно так сказать, Гамбург господин Раймерс знает как никто. Могу порекомендовать его даме, если она нуждается в проводнике, — пояснил господин Фриц.
— Последние три года я здесь завтракаю, — сказал Раймерс. — Живу тут, за углом. Так удобнее всего. Встаю я всегда рано — и сразу на рабочем месте. Дело в том, что скоро прибудут поезда дальнего следования.
Фройляйн Луиза испытующе посмотрела на Раймерса. Он нравился ей. И мужчина рядом ей бы сейчас не помешал. Но ведь она совсем не знала этого человека. «Осторожно, — снова сказала она сама себе. — Будь внимательна, Луиза!»
Раймерс вытащил свое удостоверение личности и показал ей.
— Вот, пожалуйста! Чтобы вы не думали, что здесь что-то не так.
— Тут все в порядке, — подключился продавец Фриц, разрезавший булочки. — Каждый день господин Раймерс работает со своей клиентурой, уважаемая, и ни разу не было жалоб.
Фройляйн Луиза все еще сомневалась.
— Вам нравится это? — спросила она. — Сейчас, в ноябре, вставать в темноте? В темноте здесь завтракать? Ждать? В такую рань! В любую погоду! Если идет дождь, как сегодня?
— Я всегда вставал очень рано. Я это делаю с удовольствием, в самом деле! Свежий воздух, интересные люди. Встречаешь так много иностранцев. Я говорю на четырех языках. — Он снова поклонился. — Абсолютно честно, мадам. Кроме того, мне нужны деньги. Срочно. Мне приходится подрабатывать.
— Разве у вас нет приличной пенсии? — удивилась фройляйн Луиза. — Мужчина в вашем возрасте… Извините, я не хотела этого сказать.
— Можете смело говорить! Мужчина в моем возрасте! Шестьдесят девять. Нет, у меня нет приличной пенсии. У меня вообще нет никакой. — Губы Раймерса скривились в безрадостную улыбку. — Слава Богу, об этом сейчас можно свободно говорить. Чаще всего я сразу говорю об этом. Кто после этого не захочет иметь со мной дело, пусть уходит.
— О чем вы чаще всего сразу говорите, господин Раймерс?
— О том, что со мной случилось.
— И что же с вами случилось? — спросила фройляйн.
— Я был штандартенфюрером СС, — произнес Раймерс все еще с улыбкой на губах.
Фройляйн Луиза вздрогнула. Штандартенфюрер! Она пристально посмотрела на Раймерса. Он спокойно выдержал ее взгляд. Был ли это ее друг, этот штандартенфюрер? Могла ли она рискнуть заговорить с ним, пообщаться, как со своим другом? После того, что она только что пережила? Нет, она не могла отважиться на это. Ей надо быть начеку.
— Вы в ужасе? Это вызвало у вас отвращение? Вам противно? — допытывался Раймерс.
— Вовсе нет, — сказала фройляйн. — Просто… это так неожиданно… я не ожидала… хотя…
— Хотя что?
— Вы выглядите как офицер, я это сразу заметила. — Она помедлила, потом спросила: — Вам было трудно после войны, да?
— Можно сказать, да. Сначала автоматически меня арестовали американцы. Лагерь. — Фройляйн опять вздрогнула. «Нет, — подумала она, — нет, не надо, это может быть западня. Все еще может быть западня». — За мной не было никакой вины — ни в России, ни во Франции. Ни в малейшей мере. Господин Фриц знает всю мою историю.
— Господин Раймерс был приличным эсэсовцем, — откликнулся продавец Фриц, раскладывая кружки колбасы между половинками булочек. Теперь возле фройляйн Луизы у стойки стояли и пили кофе двое мужчин в комбинезонах, выглядевшие как портовые рабочие. Их обслуживала одна из двух девушек. — Я видел все его бумаги. Поэтому он и отсидел всего два года в лагере. И при денацификации с ним ничего не произошло.
— Да, вообще ничего. — Раймерс опять криво усмехался. — Всего-то, что после денацификации я заболел туберкулезом. Заработал в лагере. Меня отправили в лечебницу. Еще два года. Потом еще год реабилитации для выздоравливающих. До войны я много лет работал самостоятельно на одну фабрику. Тогда я попробовал снова устроиться на эту фабрику.
«Фабрика, — подумала фройляйн, — фабрика… Если он сейчас еще упомянет майонез…» Она спросила:
— Что же это за фабрика?
— Лаки и краски, — ответил Раймерс.
«Только не спешить, — уговаривала себя фройляйн. — Никакого майонеза. Хороший знак? Дурной знак? Мой ли это друг? Или нет? Только ничем не рисковать, только не рисковать. Но это, наверняка, он!»
— Вот как… — отозвалась фройляйн.
— Да, но мне тем временем было за пятьдесят. Такой же пост, как раньше, они не хотели мне давать. Да, наверное, и не могли. Охотнее всего они отослали бы меня. В конце концов, я зацепился в рассылке, пока не достиг в шестьдесят пять пенсионного возраста. Все закончилось. Моя пенсия рассчитывается из тех лет, когда я, к моему счастью, работал на рассылке. Это довольно мало, ведь долгое время я работал самостоятельно. Можете себе представить, что этого ни на что не хватает. И поэтому… — Он замолчал и пристально посмотрел на фройляйн. Господин Фриц также посмотрел на нее.
Фройляйн Луиза произнесла:
— Собственно… я хочу сказать, если я возьму такси… мне ведь тогда не нужен проводник.
— Конечно, это было всего лишь предложение, — сказал Раймерс и развел руками.
— Но там, куда мне надо, я еще никогда не была. Сан-Паули.
— Гм, — хмыкнул Раймерс.
— Вот именно. Тут мне, пожалуй, была бы нужна защита. — «Если бы я только знала, друг ли он мне, — думала она. — Если он друг, а я его отошлю, мне это может принести несчастье. Да что может произойти?» Она спросила: — Сколько же вы берете за час?
— Десять марок, — быстро ответил он.
— Десять… — Она растерянно посмотрела на него.
— Ну, — заметил он, — официальные гиды берут гораздо больше. В особенности такие, со знанием иностранных языков.
— Они мне не нужны. И вы не официальный гид. Пять.
— Восемь, — произнес он.
— Семь, — поставила точку фройляйн в соответствии с тем странным мировосприятием, в котором она жила. — Так хотите или нет?
— Ну ладно, — согласился Раймерс. Его взгляд был прикован к сумке фройляйн Луизы. Она этого не заметила, поскольку как раз оплачивала свою еду. Раймерс тоже расплатился.
— Доброго дня, мадам, до свидания, господин Раймерс, — напутствовал их продавец Фриц с легким поклоном.
Фройляйн Луиза отправилась к выходу, рядом шел высокий мужчина. Расплачиваясь, она вынула из сумки складной зонтик и теперь, выйдя на улицу, в темноту и в дождь, раскрыла его. Мимо со звоном проезжали трамваи, длинные вереницы машин скользили по улице с включенными фарами, куда-то торопились, толкаясь и задевая ее, люди. «О Боже, — подумала фройляйн, — а ведь еще так рано. Что же будет потом? Хорошо, что рядом оказался штандартенфюрер. Все должно быть именно так, как предначертали мои друзья».
Раймерс остановил такси, открыл дверцу и, пропустив вперед фройляйн, сел сам.
— Сан-Паули, — сказал он заспанному шоферу.
— Реепербан, Зильберзакштрассе, «Кинг-Конг», — назвала адрес фройляйн Луиза. Она записала адрес и название заведения в свою маленькую записную книжечку, а в поезде, когда они проезжали по пригородам Гамбурга, заучила наизусть. Уставший водитель рассматривал странную парочку в зеркале заднего вида. «Ну и дела», — подумал он.
— Но сейчас это все закрыто, — произнес он.
— И все же нам нужно туда, — твердо сказала фройляйн Луиза.
— Мое дело маленькое, — сказал шофер. Он уже ехал вверх по Менкебергштрассе. Здесь вовсю била ключом жизнь. Уличные фонари были еще включены, светилась, переливаясь, вся реклама.
— О Боже, о Боже, — прошептала фройляйн Луиза.
— Что с вами? — спросил Раймерс.
— Город. Этот ужасный город, — проговорила фройляйн, снова вспомнив о городе из своего сна. Ее передернуло.
— Что вас, собственно, вынудило приехать сюда и отправиться в Сан-Паули? — полюбопытствовал бывший штандартенфюрер.
— Убийство, — ответила фройляйн, и шофер чуть не выпустил руль. — Но это слишком запутанная история. И к тому же личная.
— Тогда пардон, меня это не касается, — произнес Раймерс, на всякий случай слегка отодвинувшись от фройляйн Луизы. Она это заметила.
— Думаете, я сочиняю?
— Я вас умоляю!
— Или боитесь за ваши деньги?
— С такой дамой, как вы — никогда! — воскликнул он, подумав, какая тяжелая у него жизнь. Потом он произнес это вслух: — Тяжелая у меня все-таки жизнь, в моем возрасте, вы понимаете. Я солгал вам тогда. Я люблю поспать подольше. Это раннее вставание убийственно для меня. Но мне надо ловить клиентов, понимаете?
Шофер такси в который раз подумал, что ему наконец надо написать книгу обо всех его впечатлениях. Вот уж с гарантией будет бестселлер. «Это ж надо такое, — размышлял водитель, проезжая по улице Гроссе Йоханнисштрассе, а затем по Гроссер Буршта, к станции метро Редингсмаркт. Такое даже в голове не укладывается! — Этот прохвост подцепил прямо на вокзале эту старую перечницу, и она тащит его сразу в Сан-Паули. Она ему платит. При этом обоим хорошо за шестьдесят. Неужели у людей это никогда не прекращается? Нет, я бы не смог, даже если бы она пятисотенную на мою штуковину положила. У этого пройдохи член, должно быть, железный».
21
Когда фройляйн Луиза и Вильгельм Раймерс вышли из такси на Зильберзакштрассе перед «Кинг-Конгом», дождь лил как из ведра. До сих пор так еще и не рассвело. Улица была пустынной. Дождь барабанил по мостовой.
— Мне очень неудобно, но не могли бы вы… за такси… — Раймерс держал над фройляйн Луизой раскрытый зонтик.
— Да, конечно, — ответила фройляйн. — Сколько?
Водитель такси назвал сумму. Фройляйн Луиза дала ему еще двадцать пфеннигов чаевых.
— Большое спасибо, сударыня, — иронично сказал разочарованный шофер и отъехал так резко, что поднял фонтан брызг.
Фройляйн Луиза повернулась и посмотрела на расположенные слева и справа от входа в заведение стеклянные витрины с фотографиями, в которых все еще горел свет. Она подошла ближе, и у нее отвисла челюсть.
— Нет! — произнесла она растерянно. — Нет, ну надо же! Это ведь… Господин Раймерс, вы могли себе такое представить?
— Да не смотрите вы туда, — быстро произнес он и потянул ее к входу. — Там наверняка закрыто.
— Не думаю, — сказала фройляйн Луиза с той прозорливостью, которая так часто была свойственна ей.
— Тем не менее вы сейчас убедитесь… — сказал он. — И что вы будете делать потом? Что вы будете… ну надо же! — Он нажал на дверную ручку, и дверь действительно открылась.
— Я же вам говорила, — заметила фройляйн. Он пропустил ее вперед и приподнял тяжелый красный занавес в конце пустого гардероба. Фройляйн Луиза вошла в заведение и тут же остановилась. — Господи Иисусе! — испуганно воскликнула она.
В большом зале с множеством лож и маленькой сценой горел верхний свет, холодный и противный. На стульях сидели или полулежали десятка три мужчин и девушек — официанты, привратник, вышибала, девушки, развлекающие гостей в зале, стриптизерши и их партнеры. Стриптизерши были в махровых халатах, девушки из зала — еще в вечерних платьях, официанты тоже еще не сняли форменную одежду, равно как и привратник, нахлобучивший фирменную фуражку и закинувший ноги на стол перед собой. Так же сидели еще несколько мужчин, среди них три солдата в странных старомодных роскошных униформах. Фройляйн Луиза в замешательстве оглядела присутствующих.
Перед сидящими в зале на столах стояли полные окурков пепельницы, пустые суповые чашки и кофейная посуда, а рядом множество пустых бутылок и стаканов после ночных посетителей. За роялем сидел худой белокурый юноша и тихо наигрывал «Если б я разбогател». Он опустил руки. Никто не шелохнулся. Все смотрели на фройляйн Луизу и ее спутника. Это напоминало музей восковых фигур.
— Доброе утро, — наконец мужественно произнесла фройляйн Луиза. «Хорошо все-таки, что со мной пришел мой штандартенфюрер», — подумала она.
— Доброе утро, — отозвался молодой человек у рояля. Больше никто не сказал ни слова.
— Я бы хотела поговорить с господином Конконом, — сказала фройляйн.
Никто не ответил.
— Вы меня поняли? Я хотела бы поговорить с господином Конконом!
Стриптизерша Бэби Блю, еще пару часов назад изображавшая Екатерину Великую, потуже затянула свой синий халат и медленно спросила:
— Которого господина Конкона?
— Как которого? Господина Карла Конкона! — удивилась фройляйн и уставилась на Бэби Блю, якобы прибывшую из «Crazy Horse» в Париже и вне сцены говорившую на мягком швабском диалекте.
— И отца и сына зовут Карлом, — объяснила Бэби Блю. — Итак, с кем вы хотите поговорить?
— Ой, я этого не знаю. А сколько лет отцу? Около сорока?
— Ха! — только и произнесла Бэби Блю.
Кто-то из официантов сказал:
— Это сын.
— Ну, так значит, я хотела бы поговорить с ним, если можно, — сказала фройляйн Луиза.
— Вы не можете с ним поговорить, — сказала Бэби Блю. — Он мертв.
— Что? — воскликнула в ужасе фройляйн Луиза.
— Мертв, — повторила Бэби Блю. — Убит. В отеле «Париж». На улице Кляйне Фрайхайт. Сегодня ночью. И со старым Конконом, с отцом, вы тоже не сможете поговорить. Во всяком случае, сейчас. Его забрала с собой уголовная полиция туда, в отель.
— Уголовная полиция?..
— Да. Комиссия по убийствам и все такое, — пояснила Бэби Блю в то время, как другие все еще сидели, не двигаясь. — Они были здесь, нас тоже допрашивали. И снова уехали со старым Конконом. Опознать сына и все такое. Сказали, что вернутся. Никто из нас не имеет права уходить. Мы уж думали, кто-то из полиции идет, когда дверь открылась.
— Его убили, — пробормотала фройляйн Луиза и опустилась в плюшевое кресло. Ее шляпка с завязками сползла на лоб, и она выглядела смешно. — Убит. Кем?
— Ну вы даете, — хмыкнула Бэби Блю. — Если бы полиция это знала, мы бы давно все лежали в постельках. Понятия не имею. Отец совсем сломлен. Такой удар судьбы, а? В чем дело? Что вы на меня так уставились?
— Вы, — произнесла фройляйн. Она громко икнула. — Вы…
— Что я?
— Я вас там только что видела на фото. Голой. Как вы можете… такую ужасную вещь… разве вы не знаете, что вы страшная грешница, самая ужасная? Как вы только можете…
— Заткни глотку! — зло бросила Бэби Блю.
— Послушайте… — начал Раймерс, но Бэби Блю осадила и его:
— А ты тоже заткнись, старый дурак! Хайн, я думаю, для тебя есть работа.
Высокий, гибкий вышибала в кепке и рубашонке в косую полоску с короткими рукавами медленно и угрожающе поднялся.
— Стоп! — воскликнула фройляйн Луиза. — Каждый человек, конечно, может делать со своей жизнью все, что хочет, если он не думает о будущем…
— Я думаю о будущем, — произнесла Бэби Блю. — Потом у меня будет много денег, я смогу открыть собственный маленький бар, и тогда я целый год ни с кем не буду спать. А кроме того, то, что я делаю, это искусство, понимаете? Эротический театр. Я артистка. Мы все здесь артистки, — сказала Бэби Блю, показав на других стриптизерш.
— Ах вот как, артистки, — ошарашено вздохнула фройляйн Луиза.
— Вот именно, — вызывающе произнесла Бэби Блю. — А кто вы такая?
— Всего лишь воспитательница из лагеря «Нойроде». Из детского лагеря. — Она не заметила, как все, сидевшие до того неподвижно, неожиданно оживились, повскакивали и зашептались друг с другом. Она дружелюбно смотрела в глаза Бэби Блю. — Меня зовут Луиза Готтшальк. Этот господин Конкон, который где-то убит, как вы говорите, вчера во второй половине дня был у нас и пытался кое-кого похитить.
— Да, — снова миролюбиво сказала Бэби Блю. — Девушку.
— Вам это известно? — Фройляйн Луиза оглядела присутствующих. Все дружно закивали головами. — Но откуда же вы это знаете?
— А вы здесь что делаете? — спросила Бэби Блю.
— Я ищу девушку… и еще убийцу маленького Карела… потому что я…
— Убийцу кого? — переспросила Бэби Блю.
— Еще одно убийство? — воскликнул кто-то из официантов.
— Послушайте, вы должны были меня сразу предупредить, во что вы меня втягиваете, — забеспокоился побледневший экс-штандартенфюрер.
— Не волнуйтесь, господин Раймерс. Я не делаю ничего плохого. Наоборот. Я хочу, чтобы свершилась справедливость.
— Мне кажется, я все-таки лучше пойду…
— Нет, пожалуйста, останьтесь со мной. Я… — Фройляйн Луиза боролась сама с собой. — …Я заплачу вам все же по десять марок за час!
— Десять марок в час — за что? — не поняла Бэби Блю. — И что за второе убийство?
Фройляйн Луиза в изнеможении махнула рукой.
— Когда господин Конкон был у нас в лагере, там кое-кого застрелили. Маленького парнишку, Карел его звали.
— Об этом полиция ничего не говорила, — заметила одна из стриптизерш.
— Полицейские вообще ничего не говорили, — подал голос привратник. — Они все время только спрашивали.
— Откуда же вам известно про девушку, которую должен был похитить господин Конкон? — спросила фройляйн Луиза.
— От Фреда.
— А кто такой Фред?
— Пианист.
— Молодой господин?
— Да.
— А он откуда знает?
— Эй, Фред, расскажи фрау Готтшальк еще раз твою историю, — обратилась Бэби Блю к пианисту. Тот посмотрел в сторону Луизы Готтшальк. У него были красивые, странно неподвижные глаза. Фройляйн Луиза встала и заспешила через весь зал к маленькой сцене, на которой стоял рояль. Она взяла Фреда за правую руку и энергично пожала ее. Неожиданно фройляйн показалось, что ее ударило электрическим током. По всему ее телу побежали мурашки, будто по ней шел ток, исходивший от худенького пианиста. Он сидел за роялем, молодой и застенчивый, и неожиданно фройляйн Луизу осенило, у нее появилась стопроцентная уверенность: это мой студент, умерший на имперской службе труда! Да, да, да, это он! На этот раз она настолько была уверена в своей правоте, что смело и без обиняков спросила:
— Вы учились музыке, да? Но ведь не только музыке, так ведь? Еще кое-чему. — Она говорила тихо, и другие не слышали ее.
— Да, еще кое-чему, — подтвердил Фред. — Философии. Пару семестров, потом бросил.
— Я знаю, — сказала фройляйн.
— Да, конечно, — дружелюбно произнес Фред. Вот он сидел перед ней, самый любимый из всех ее умерших друзей! В телесной оболочке живого…
— Я фройляйн Луиза, не так ли, — произнесла она все с той же сладкой болью в сердце. — Итак, как же все было? Откуда ты это знаешь — откуда вы это знаете?
Пианист опустил голову и посмотрел на клавиши.
К ним вразвалку подошла Бэби Блю.
— Можешь спокойно еще раз рассказать, — сказала она, посмотрев на Луизу Готтшальк почти по-дружески. — Ты же это рассказывал полиции, и мы все слышали. Так что никакой тайны больше нет. Ну давай уже, раз фрау Готтшальк…
— Фройляйн, пожалуйста.
— …Раз фройляйн Готтшальк это обязательно желает знать.
— Должна знать! Я должна это знать!
— Валяй, Фред!
— Ну пожалуйста, — произнес худой парень. Вильгельм Раймерс и другие подошли поближе и обступили рояль. Хрупкий пианист провел рукой по лицу, потом повернул голову к фройляйн Луизе.
— Видите ли, этот клуб всегда открывается только в восемь часов вечера. С утра, до одиннадцати, здесь бывают только уборщицы. А потом ни одной души. Только господин Конкон и я. Я хочу сказать, бывали господин Конкон и я. Теперь он мертв. Он всегда работал в своем кабинете. Он находится там, за сценой. А я всегда приходил и играл. С его разрешения. Новые номера. Аранжировки, собственные вещи. Потом, примерно в два часа, мы часто ходили вместе обедать. Все знали, что только мы вдвоем бываем в это время. Отец господина Конкона отсыпался, он старенький.
— Ну? Ну?
Лицо Фреда все еще было обращено в сторону фройляйн Луизы.
— А вчера утром, вскоре после одиннадцати, в дверь постучали. До этого господину Конкону звонили по телефону. Он ожидал посетителя и пошел к выходу, отпер дверь и впустил его.
— Кого?
— Какого-то мужчину, — ответил Фред. — Он уже несколько раз бывал здесь, этот человек, за последние два-три года. Всегда в одно и то же время. Они прошли мимо меня, в кабинет господина Конкона, а я продолжал играть. А потом я вдруг услышал, как они разговаривают.
— Как это? Разве можно из кабинета…
— Нет, кабинет звуконепроницаем, — сказал Фред. — Но там внутри стоит магнитофон. Для музыки. И для… ну, для разных звуков к отдельным представлениям. Это все идет через микрофон. Довольно старомодный. Не впрямую транслируется. Микрофон существует отдельно от магнитофона, понимаете?
— То есть, если его включить, здесь можно услышать все, о чем говорят в кабинете, — сказал Вильгельм Раймерс. Он становился все взволнованнее. Это так отличалось от скучной рутины его жизни.
— Именно так, господин, — подтвердил Фред.
— Это значит, господин Конкон включил микрофон, потому что хотел, чтобы вы услышали, о чем он говорил с тем человеком!
— Верно, — сказал Фред.
— А раньше он когда-нибудь так уже делал? — поинтересовалась фройляйн Луиза.
— Нет, никогда.
— А почему же именно вчера?
— Вчера он боялся, — тихо произнес Фред и опустил голову. — Очень боялся. Смертельно.
— Почему вы так решили?
— По голосу, — ответил Фред. — Я хорошо разбираюсь в голосах.
Когда он это произнес, у растроганной фройляйн Луизы возникло желание погладить по голове умершего студента, который, по ее твердому убеждению, сидел перед ней.
Она уже почти подняла руку, но остановилась. Ее взгляд уперся в пустоту. Она услышала голос, который четко опознала как голос ее умершего русского: «Сейчас Луиза совершит то, чего ей не следует совершать. Не существует прямой связи между нашим царством и ничтожной суетой мира!»
Фройляйн Луиза отдернула руку и кивнула. Она чуть было не совершила большой ошибки! Никто не обратил внимания на ее поползновение, поскольку студент продолжал свой рассказ:
— …И потом это стало ясно из разговора, который я слышал, хотя я продолжал играть, чтобы это не вызвало подозрений.
— И что вы услышали?
— Разговор был уже в разгаре, когда господин Конкон включил микрофон… — В большом зале стало снова тихо, никто не шевелился. Фред тихо произнес: — Господин Конкон сказал: «Я не хочу! Я не хочу! Не хочу больше! Оставьте меня, наконец, в покое!» На что его посетитель сказал: «Вы должны, дорогой мой. Вы просто обязаны. И вы это сделаете. Потому что, если вы не сделаете то, что я от вас требую, очень быстро всплывут доказательства, которых тогда не хватило суду для вашего осуждения, и вы отправитесь за решетку на ближайшие десять, пятнадцать, двадцать лет!»
— Доказательства! — воскликнула фройляйн Луиза. — Ведь его судили, господина Конкона, насколько я слышала.
— В 1957-м, — сказала Бэби Блю.
— Шантаж высокопоставленного офицера, так?
— Да, — подтвердила Бэби Блю. — Ну и представление тогда было! Оправдан за недостатком доказательств.
— И теперь посетитель угрожал ему, что доказательства, которых тогда не хватило, теперь найдутся? — Фройляйн Луиза сдвинула назад шапочку, сползшую на лоб.
В этот момент Раймерс произнес:
— Если это был западногерманский офицер, которого он шантажировал, тогда он мог это делать только в пользу Восточного лагеря. И доказательства должны быть там же, и посетитель должен был быть послан оттуда же!
— Так, похоже, оно и есть, — кивнул Фред. — Этот посетитель сказал господину Конкону: «Вы сейчас же поедете со мной. Как можно быстрее в Нойроде, в лагерь. Вы поедете не один. Вы получите охрану. С вами еще поедут женщина и мужчина. Возьмете у нас две машины!»
— Две машины! — воскликнула фройляйн Луиза. — Еще женщина и мужчина! Что за мужчина? Именно его я и ищу! Вы что-нибудь знаете о нем, господин Фред? Посетитель что-нибудь говорил о нем?
— Очень мало. Господин Конкон тоже спросил, кто это будет. Гость ответил: либо он сам, либо кто-то другой. В любом случае, кто-то первоклассный.
— Он так и сказал?
— Да. И женщина тоже должна была быть первоклассная. И машины тоже.
— И первоклассно стрелять они тоже умели, — вздохнула фройляйн Луиза. Она промокнула глаза и спросила: — А потом? Итак, господина Конкона шантажировали. Он должен был похитить Ирину.
— Ирину Индиго, точно. Так называл ее посетитель. А потом он показал господину Конкону фотографии и дал ему описание девушки. Восемнадцать лет, среднего роста, черные волосы…
— Я знаю, как выглядит Индиго, — нетерпеливо перебила фройляйн Луиза. — Почему господин Конкон должен был похитить ее? И почему так срочно?
— Об этом он тоже спросил своего гостя, — сказал Фред. — Гость ответил, что нельзя терять ни минуты. Иначе эта девушка попытается приехать в Гамбург, к своему другу, к своему жениху.
— Да, да! И?
— И что это ни в коем случае не должно произойти. Меньше всего сейчас, когда уже почти все улажено.
— А что улажено? Что?
— Этого я не знаю, фройляйн Луиза. Посетитель продолжал угрожать господину Конкону, пока тот не согласился. Его заданием было похитить эту девушку Индиго из лагеря.
— А потом? Что должно было произойти с ней потом?
— Этим господин Конкон также поинтересовался.
— Ну и?
— И ничего. Посетитель ответил, это его уже не касается. Как только он похитит девушку, на этом его миссия будет закончена. О дальнейшем он позаботится сам.
— Кто он? Посетитель?
— Да, посетитель. Он сказал, что все уже подготовлено. И господин Конкон должен взять свой пистолет. На всякий случай. — Фред опять поднял голову. — Потом я услышал, как был выключен микрофон, и сразу после этого господин Конкон вышел с этим человеком из кабинета и сказал мне, что ему предстоят деловые переговоры и он, к сожалению, не сможет со мной пообедать. Я должен запереть клуб и держать ключ у себя. У его отца есть второй ключ, если он захочет открыть клуб. — Фред улыбнулся. — Это было неправда. У отца не было ключа.
— Почему же сын так сказал?
— Между нами была договоренность, уже несколько лет. Каждый раз, когда появлялся этот человек и уводил господина Конкона, он говорил мне фразу про ключ. Это было что-то типа предупреждения и подстраховки. Это значило: «Если я не вернусь до полуночи, извести полицию». Он жил в постоянном страхе, бедный господин Конкон.
— Но вы не известили полицию! — воскликнула фройляйн.
— Да, — подтвердил Фред. — Ведь около десяти вечера господин Конкон известил по телефону своего отца, что все в порядке, не так ли?
— Ах вот как, конечно. Ну а потом? После того, как он это сказал, что было дальше?
— Потом он ушел вместе со своим гостем.
— Как он выглядел, этот посетитель? — спросила фройляйн Луиза.
— Этого я не знаю, — ответил Фред.
— Что значит не знаете? Если он дважды прошел рядом с вами? Если он уже несколько раз был здесь? Вы же сами это сказали! Или вы этого не говорили?
— Говорил, — сказал Фред, смущенно улыбаясь.
— И при этом вы не знаете, как выглядит этот человек?
— Не знаю, — произнес Фред.
— Вот теперь вы лжете! Не надо мне лгать! О Боже, это немыслимо! Так лгать!
— Я не лгу, — с той же улыбкой произнес Фред. — Я в самом деле не знаю, как выглядит этот человек.
— Боже праведный, этого же не может быть! Вы должны это знать! — Фройляйн Луиза ударила ладонью по роялю. — Вы должны это знать!
Фред опустил голову. Теперь он больше не улыбался.
Фройляйн Луиза вдруг почувствовала, как в ее руку кто-то вцепился мертвой хваткой. Она обернулась. Рядом стояла Бэби Блю.
— Ничего Фред не должен, — зло бросила она. — Не хотите же вы мне внушить, что до сих пор ничего не заметили?
— Не заметила? Чего не заметила? — удивилась фройляйн.
— Того, что Фред слепой, — сказала Бэби Блю.
КОРРЕКТУРА
1
Улица Байм Штрохаузе, 31. Это адрес гамбургского управления полиции. Оно находится на выходе из станции метро «Берлинер Тор», там это единственное высотное здание: темно-серое бетонное строение, оно, несмотря на множество окошек, производит впечатление черного.
Я нашел место для парковки нашего взятого напрокат автомобиля. Вместе с Берти мы прошли под моросящим дождем ко входу. Мы оба были в пальто. В этот день так и не рассвело по-настоящему. День для самоубийц. Ирину я снова запер в номере; горничные могли убраться и после моего возвращения. Ирина была очень сдержанна и спокойна, она поняла, что все это делается ради ее безопасности. Кроме того, я поговорил с бригадой портье, которые дежурили днем и которых я всех знал. Все были в курсе. Ночной портье Хайнце их уже предупредил.
К порталу высотного здания нужно было проходить сквозь несколько рядов громадных прямоугольных бетонных колонн. Собственно, их можно было бы назвать бетонными блоками, они возвышались на два этажа вдоль всего вестибюля. Над этим вестибюлем и находилась самая высокая часть здания, справа и слева были расположены более низкие боковые части.
В вестибюле, высотой в два этажа, имелся полуэтаж, похожий на балкон. Черные стены были увешаны диаграммами, графиками и объявлениями. Берти хорошо здесь ориентировался. Он сразу направился к одному из двух черных лифтов, находившихся друг против друга в центре вестибюля. На восьмом этаже мы нашли Отдел неопознанных и пропавших без вести.
Все двери комнат были из непрозрачного стекла, с широкими черными поперечинами и алюминиевыми ручками. Мы вошли в приемную, в которой две секретарши барабанили по клавишам пишущих машинок. Назвали свои фамилии и сказали, что у нас назначена встреча со старшим советником по уголовным делам Херингом.[89] На одиннадцать часов. Одна из секретарш подняла трубку телефона на своем столе, набрала двухзначный номер и представила нас.
— Господин Херинг сейчас выйдет, — сказала она.
Он на самом деле тут же вышел, дверь его кабинета открылась буквально через минуту. Херинг оказался полным мужчиной с лысиной и в очках, выглядел он очень подавленным. Он сердечно пожал руку Берти и сказал, что рад видеть его, потом он протянул руку мне и попросил следовать за ним. Мы вошли за ним в его спартански обставленный кабинет. Письменный стол из светлого дерева у окна. На сером металлическом подоконнике — два горшка с комнатными растениями. Металлические шкафы с папками. Какое-то страшилище с каталожными карточками. В углу напротив окна — круглый стол, четыре стула, диванчик. Диван и стулья современные, обитые синей тканью. На стульях сидели двое мужчин, которые поднялись и посмотрели в нашу сторону. Один был высокий и толстый, второй — худой и в очках с очень толстыми линзами. Это были господа Альберт Кляйн и Вильгельм Рогге из Ведомства по охране конституции, с которыми мы познакомились в лагере «Нойроде».
2
Приветствие было формальным, корректным и очень прохладным.
Вероятно, я тоже «Граучо» из неразлучной четверки братьев Маркс, как это утверждает о себе Хэм. В ту единственную минуту, которую мы ждали господина старшего советника по уголовным делам, у меня вдруг сработало предчувствие и я включил магнитофон. Микрофон был незаметно засунут в сумку на моем плече, единственное, что торчало — это серебряная сеточка головки, не вызывавшая никаких подозрений. Магнитофон я спрятал в сумку, и никто не мог видеть, включен ли он. Я поставил сумку на стол подальше от себя и незаметно записал на пленку все нижеследующее.
Мы все расселись вокруг стола. У старшего советника был на редкость удрученный вид.
Я начал:
— Для нас сюрприз видеть вас здесь, господа. Мы, собственно, хотели поговорить с господином Херингом.
— Да, это нам известно, — произнес высокий господин Кляйн.
— Откуда?
— Он об этом нам сам сказал, — пояснил худой господин Рогге в очках с толстыми стеклами.
— Как только прибыл, — пояснил господин Кляйн. — Мы были здесь задолго до него, приехали ранним поездом.
— Зачем? — спросил Берти. — Что вы делаете в Гамбурге?
Где-то далеко внизу я услышал сирену отъезжающей полицейской машины.
— А что делаете в Гамбурге вы? — спросил господин Кляйн. Он смерил нас обоих скучающим и брезгливым взглядом, ясно давая понять, какого он о нас мнения. Вне всякого сомнения, он разделял мнение канцлера Аденауэра, по изречению которого с прессой нужно было обращаться следующим образом: «Фуршет, вытягивание доносов, определение суда».
Я произнес:
— Именно об этом мы и собирались рассказать господину Херингу.
Старший советник еще больше сник. Теперь он выглядел не подавленным, а каким-то удивительно враждебным. Он сказал:
— Господа из Ведомства по охране конституции считают, что ваш вопрос находится в их компетенции, а не в моей. Поэтому, пожалуйста, будьте добры ответить на их вопросы. — Он посмотрел на Берти и добавил чуть дружелюбнее: — Сожалею, господин Энгельгардт.
— Вы тут ни при чем, — сказал Берти. Обращаясь к двум другим, он произнес: — Мы пришли для того, чтобы сообщить старшему советнику по уголовным делам, господину Херингу как руководителю отдела по неопознанным и пропавшим без вести, что сегодня ночью мы приехали в Гамбург вместе с Ириной Индиго из лагеря «Нойроде» и что она находится у нас.
— Это нам известно, — повторил Кляйн.
— Откуда?
— Достаточно того, что мы это знаем. Вы остановились с фройляйн Индиго, которую принудили незаконным путем покинуть лагерь, в отеле «Метрополь». Не спрашивайте снова, откуда мы это знаем. Мы очень рано прибыли сюда и подняли по тревоге все полицейские участки. Сообщение о вашем отеле поступило сразу, как только один из участков получил из «Метрополя» бланки регистрации проживающих. Вы заперли фройляйн Индиго в вашем номере, чтобы она не убежала, не так ли, господин Роланд?
— Да, — сказал я. — Потому что ей грозит опасность. Вокруг ее жениха разыгрывается очень странная афера, а этот Карл Конкон был…
— Сегодня ночью убит. В Сан-Паули, отель «Париж». Нам все это известно, — сказал Рогге.
— И то, что ваш корреспондент Маннер сбит и тяжело ранен, — добавил Кляйн.
— И что эта фройляйн Луиза Готтшальк находится где-то в городе.
— Кто это сказал?
— Некий врач, согласно сообщению… Это не имеет значения. Мы это знаем. Мы вообще, с вашего позволения, информированы обо всем, что вы хотели сообщить господину Херингу.
— А по какой же причине вы так срочно приехали в Гамбург и так основательно все расследуете?
— Это все же наше дело.
Прелестная беседа, ничего не скажешь.
— Почему же вы, если все это в вашей компетенции, тогда не позаботились о том, чтобы фройляйн Индиго вообще не могла покинуть лагерь? Почему вы ее не арестовали?
— У нас для этого не было законных оснований, — сказал Рогге. — Мы не имеем на это права. Мы живем в правовом государстве, господин Роланд. К тому же это дело только делегировано нам.
— И мы не видели в этом необходимости, — добавил его коллега.
Херинг сидел молча и снова имел очень несчастный вид. Я подумал, что он многое знает и с удовольствием поделился бы с нами, хотя бы ради Берти, но не смел.
— Не видели необходимости? — переспросил я. — То есть вы считали, что фройляйн Индиго не грозит никакая опасность?
— Никакая опасность, если она четко придерживается ваших инструкций, если не покидает отель, не ищет ни с кем встречи. Она ведь очень послушна, не так ли? Мы подготовили несколько документов, господин Роланд. Если вы подпишете, что готовы взять фройляйн Индиго под свое поручительство, тогда она может остаться здесь и не обязана возвращаться в лагерь, где она будет в большей опасности. Все формальности можно будет решить и так. — Кляйн пододвинул мне лист бумаги.
— А это что за документ? — спросил я.
— Рекомендательное письмо, — сказал Кляйн. — На бланке нашего ведомства. В нем излагается просьба поддерживать вас в вашей журналистской работе.
— Минутку, — вмешался Берти. — Вы не выдворяете нас? Вы не сообщаете о наших правонарушениях? Не запрещаете нам проводить дальнейшие расследования?
— Для этого у нас нет никаких правовых оснований, — снова сказал Рогге. — Не следует всегда видеть в нашем ведомстве врага, господин Энгельгардт. Мы помогаем прессе, где только можем. Особенно в таких случаях.
— В каких случаях? — спросил я.
— В случаях, представляющих общественный интерес.
— И это такой случай? — решил сыграть под дурачка Берти.
— Помилуйте, господин Энгельгардт, — только и произнес Кляйн.
— Вы должны быть, однако, очень уверены в своей правоте, — сказал я.
На это оба господина промолчали. Кляйн пожал плечами и снова посмотрел на меня. Ничуть не дружелюбнее.
— Фройляйн Индиго рассказывала мне, — произнес я, — что вы очень подробно допрашивали ее в лагере и она уже думала, что никогда не выйдет на свободу. Потом зазвонил телефон, вы с кем-то поговорили, и все стало по-другому, вы отпустили ее.
— В самом деле, — сказал Кляйн.
— Что в самом деле?
— В самом деле все было по-другому после разговора по телефону.
— Ах вот как, — хмыкнул я.
— Н-да, — сказал Кляйн. — И большое спасибо, что, обнаружив труп Конкона в отеле «Париж», вы сразу же позвонили на Давидсвахе. Все пошло как по маслу.
— Не стоит благодарности, — сказал Берти, и чтобы уж точно отвлечь их от магнитофона, спросил: — Разумеется, вас и сейчас нельзя снимать?
— Да, господин Энгельгардт, нельзя, — ответил Рогге. — Вы не имеете права также включать магнитофон без нашего разрешения. Но можете включать, у нас нет секретов.
— Ну так как? — спросил высокий господин Кляйн. — Вы подпишете заявление, что согласны взять на себя поручительство?
— Разумеется, — ответил я и подписал.
— Вот ваши рекомендательные письма, — сказал Рогге и пододвинул нам два листа.
— Спасибо, — поблагодарил я. — Вы делаете нам большое одолжение.
— Ах, — произнес Кляйн. — Забудьте. Это вы сделали нам большое одолжение.
— Не понимаю, — удивился я.
— Не страшно, — сказал Кляйн.
Сказав это, он улыбнулся, впервые за все время, что я его знал. Я уставился на него. И тут я почуял своего «шакала». Он вдруг окружил меня. Я понял причину: улыбка господина Кляйна совершенно нелогичным и странным образом сильно напугала меня.
Я поднялся, поблагодарил, взял магнитофон и попрощался. Берти тоже сказал: «До свидания».
— Весьма сожалею, господин Энгельгардт, — обратился к Берти старший советник по уголовным делам Херинг. — С радостью сам бы помог вам. Ну да, может быть, в следующий раз.
— Наверняка, — произнес Берти.
Мы снова оказались в коридоре. Берти шел, прихрамывая, рядом со мной. Он задумчиво произнес:
— Эта история просто до невозможности мерзопакостная, а?
— Да, дальше некуда, — кивнул я и выключил магнитофон.
— А этот идиотский трюк с рекомендательными письмами! — воскликнул он. — Это ведь самые настоящие объявления о розыске преступников! Если мы их действительно где-нибудь предъявим, мы получим все, что угодно, кроме поддержки. Все, кто замешан в этом дерьме, сразу увидят: «внимание, эти двое демонстрируют свои жетоны полицейских». Разве не так?
— Не знаю. Может, они действительно хотят нам помочь.
— Эти? Не смеши меня! С какой стати?
— Из корыстных мотивов, разумеется. Они используют нас, чтобы… — Я осекся.
— Что с тобой? Ты совсем зеленый. Тебе…
— Да, — кивнул я, быстро вытащил фляжку и долго пил из нее. Потом отставил серебряную бутылку и долго хватал воздух ртом.
«Шакал» снова пропал. До следующего раза.
3
— Так, теперь поезжайте вперед, — сказал Берти нашему другу, таксисту Владимиру Иванову, который так выручил нас несколько часов назад и который просил заказывать его через диспетчера. Что мы и сделали. Было 12 часов 15 минут. Дождь шел вперемешку со снежной крупой, отчего стало совсем пасмурно. Все машины ехали с зажженными фарами. Мы сидели на заднем сиденье такси, остановившегося у небольшой клумбы с увядающими цветами. Клумба находилась в парке напротив входа в университетскую больницу на Мартиништрассе, в районе Эппендорфер Баум. Больница представляла из себя гигантский комплекс. Отдельные клиники, расположенные в высотных домах, были видны издалека. Это был настоящий маленький город в городе.
Высокая блондинка Эдит Херваг только что вышла на улицу. Шофер Иванов уже поехал вперед. Мы оставили нашу машину у полицейского управления и из телефонной будки вызвали нашего русского таксиста. До этого я из той же будки разговаривал с Ириной и с Эдит. Голос Ирины звучал неспокойно, она просила во что бы то ни стало вернуться к обеду, даже если это будет поздно, она сходит с ума от этого сидения взаперти. Я пообещал ей обязательно приехать, надо ведь открыть дверь, чтобы девушки могли убраться и чтобы мы были на месте, когда принесут еду.
Эдит мы сказали, чтобы она ждала, пока у ее дома не остановится такси и Берти или я не махнут ей, потом она может сама остановить такси и поехать в больницу. Мы поедем вслед за ней и привезем ее назад, только главное — чтобы нас никто не видел вместе.
Наш таксист, русский дедушка Иванов, тут же кивнул, когда я начал свои длинные объяснения и показал свое удостоверение прессы, и только сказал: «Карашо». А потом он помчался как настоящий ас и, несмотря на жуткое движение, в момент оказался на Адольфштрассе. Он поехал за такси с Эдит, ни разу не потеряв его из виду. Все шло великолепно. Эдит исчезла в стенах больницы, но через двадцать минут уже снова вышла. Наше такси плавно подъехало прямо к ней и остановилось. Она села к нам. Я открыл боковое окошечко в разделительном стекле и сказал:
— Назад на Адольфштрассе. — Владимир Иванов кивнул и пулей сорвался с места. Я закрыл узкое окошечко, откинулся назад и только теперь увидел, что Эдит, протиснувшаяся между нами, плачет.
— О Господи, он…
— Нет, — всхлипнула она и высморкнулась в носовой платок, — он выпутается, он поправится, ему лучше.
— Отлично, — сказал Берти. — Отлично, значит плачем от счастья.
Она не ответила, а только сильнее заплакала. От счастья? Снежные крупинки ударялись о дорогу, секли по стеклу и по крыше. Мы тихо разговаривали.
— Он был в сознании? — спросил Берти.
— Да.
— Вы могли с ним поговорить открыто?
— Нет. В палате все время находился охранник. У дверей в палату стоит еще один, и один стоит у входа в частное отделение. Они перевели его из реанимации. Он вам обоим передает привет. Я сказала, что передам. Вечером мне разрешили прийти снова, и с завтрашнего дня можно ходить регулярно дважды в день. А потом он захотел меня поцеловать и сказал, чтобы я пониже нагнулась к нему, он попросил меня распустить волосы и накрыть его лицо, я все это сделала, охранник смотрел на нас. Конни поцеловал меня и шепнул в ухо: «Все парни из MAD,[90] скажи это Берти». Это произошло очень быстро. Надеюсь, что охранник ничего не заметил. Что это — MAD?
У меня хватило сил спокойно и дружелюбно произнести:
— А, это один из отделов уголовной полиции.
— Я так и подумала. Но почему я должна вам об этом сказать?
— Это особый отдел уголовной полиции, — сказал Берти, который тоже не сразу оправился от шока. — MAD — это сокращение от Отдел расследования убийств. Они занимаются покушениями.
— В самом деле? Вы правду говорите? — Эдит снова заплакала, и я понял, почему. Не от счастья, а, разумеется, от страха. Я вспомнил о телефонных угрозах. Что Конни умрет, если заговорит. И вот он заговорил…
— В самом деле, — сказал я, в надежде, что Эдит не спросит никого другого.
— Тогда хорошо… Тогда… тогда ведь никто не может подобраться к нему и что-нибудь ему сделать… а?
— Конечно, нет. Исключено, — сказал я.
— Но этот мужской голос сегодня ночью…
— Они не могут ему ничего сделать. Это гарантированно, — сказал я.
— Боже мой, Боже мой, если бы я так не боялась…
Эдит снова всхлипнула, и мы дали ей выплакаться. Наконец, когда мы уже вернулись на Адольфштрассе, она успокоилась. Мы ей строго-настрого наказали сидеть дома и никому не открывать, и я пообещал снова позвонить. А когда она вечером поедет к Конни, ей нужно вызвать это такси и этого водителя, сказал я ей. Он работает до десяти вечера. Я записал Эдит его фамилию, телефон диспетчерской и номер его машины. Эдит поцеловала нас обоих, потом вылезла, снова заплакав, и побежала к своему дому.
— Бедная женщина, — отозвался Иванов. — Большое горе, да?
— Да, — подтвердил я.
— Господь поможет ей.
— Да, конечно, — сказал Берти.
— Куда теперь? — спросил Иванов через маленькое открытое окошечко.
— Меня высадите на Юнгфернштиг, — сказал я, — а потом отвезите моего друга к полицейскому управлению. — Берти должен был еще забрать нашу машину. Иванов поехал (теперь направление одностороннего движения Адольфштрассе было иным, чем ночью), и я тихо произнес: — Итак, MAD.
— Н-да, — протянул Берти. — Это дело, представляющее общественный интерес, и у нас на руках очаровательные рекомендательные письма, а военная контрразведка пасет Конни.
Мы очень медленно продвигались вперед, Владимир Иванов едва ли что-нибудь видел в неожиданно начавшейся снежной круговерти.
4
На Юнгфернштиг я пошел покупать вещи для Ирины, позволив себе при этом не торопиться. С Берти я договорился, что, вернувшись из полицейского управления, он будет ездить по кварталу, пока не увидит меня, потому что ни одного свободного местечка для парковки здесь не было.
Я зашел в пять магазинов и накупил кучу вещей для Ирины. Денег у меня было достаточно, и размеры ее известны. Я следил за тем, чтобы все вещи сочетались, поэтому сначала приобрел открытое платье для коктейлей из красного шелка, потом зеленое шерстяное платье с черным лаковым поясом и джерсовый костюм цвета охры. Затем последовало черное шерстяное пальто с опушкой и отстегивающимся капюшоном из норки. Я все время представлял себе, как Ирина будет выглядеть в этих вещах. Продавщицы, которые меня обслуживали, были в восторге от меня. О таком мужчине, думаю, тайком мечтала любая из них. Я отправился в другой магазин и купил махровый халат, нижнее белье, лифчики и трусики, нейлоновые чулки и так далее, все различных фасонов и расцветок. Я представлял себе Ирину и в нижнем белье… Я купил золотую сумочку, подходящую к платью для коктейлей, а потом подумал: какого черта, — и купил черную сумку из крокодиловой кожи за 1200 марок. Я ведь мог постоянно заказывать новые суммы, если у меня кончались деньги. В магазине сумок я купил еще и черный кожаный чемодан, в который сложил все покупки. Затем я отправился в следующий магазин и увидел Берти, кружившего по кварталу. Он помахал мне, я помахал ему в ответ и пошел в обувной. Там я купил пару черных лаковых лодочек, которые Ирина сможет надеть к любому платью, и пару золотых кожаных туфель к платью для коктейлей. Потом я попал в парфюмерный и накупил помады, пудры, кремов, туши и других подобных штук, большой флакон духов «Эсти Лаудер» и флакон туалетной воды. Теперь чемодан был забит до отказа и довольно увесист. Я купил все, что хотел, и вышел под дождь вперемешку со снежной крупой, подождал, когда Берти в очередной раз проедет мимо, и сел в машину.
— В «Метрополь», — сказал я. Было 13 часов 25 минут.
— Ах, сладкий мой, ты пахнешь великолепно, — ухмыльнулся Берти.
— Закрой пасть, пес проклятый, — огрызнулся я и стукнул его по спине.
— Мне бы не повредил небольшой глоток «Чивас» в качестве аперитива, — сказал Берти. Я открутил крышку фляжки, и он выпил, управляя одной рукой, потом глотнул и я. Теперь, когда я думаю о том времени, это возвращение в отель, в ту мерзкую погоду, когда мы оба пили виски и я держал чемодан на коленях, вспоминается мне как самый счастливый момент нашего пребывания в Гамбурге.
5
Старый Карл Конкон плакал.
Он сидел в комнате, соседней с той, в которой закололи его сына, на втором этаже гостиницы для любовных парочек «Париж» на улице Кляйне Фрайхайт. Постепенно светало, отвратительный безрадостный ранний свет вползал сквозь грязные стекла, и повсюду еще горели электрические лампочки. На старике все еще была его белая куртка, в которой он обслуживал в мужском туалете клиентов «Кинг-Конга». Уголовная полиция забрала его прямо оттуда и привезла сюда. Он плакал всхлипывая, слезы текли по его бледному лицу. Он сидел на неубранной постели, которой кто-то пользовался и которую еще не перестелили. Множество людей сновало взад-вперед и все одновременно переговаривались. Это были сотрудники комиссии по расследованию убийств и отдела криминалистической техники уголовной полиции, фотографы и эксперты. Все они исполняли свою работу, обыденно и быстро. Когда прибыла фройляйн Луиза со своим проводником Вильгельмом Раймерсом, они уже закончили свое дело, и из одной машины, припаркованной возле гостиницы, двое мужчин в серых халатах извлекли нечто, похожее на закрытую металлическую ванну. Они затащили этот предмет на второй этаж, открыли его, положили туда Карла Конкона-младшего, снова закрыли и стащили вниз по лестнице, к машине. А Карл Конкон старший сидел на кровати, где только что предавались разврату, и плакал.
Труп в металлическом футляре пронесли мимо фройляйн Луизы, когда она как раз собиралась подняться вверх по лестнице. Никто не обращал на нее никакого внимания, все были слишком заняты своим делом, портье был уже не пьян, но небрит и бледен, и от него несло шнапсом. Тут неожиданно путь фройляйн Луизе преградил слуга, украинец Панас Мырный.
— Вам нельзя сейчас наверх, — сказал он.
Фройляйн Луиза — они с Раймерсом пришли сюда пешком от «Кинг-Конга» — внимательно посмотрела на него. Она находилась в состоянии чрезвычайного волнения, которое заставляло ее забыть о благих намерениях и об осторожности. Она подмигнула Мырному и прошептала:
— Украинец, да?
— Да, — ответил удивленный Мырный.
— Был когда-то крестьянином у себя на родине, так? — шепнула фройляйн. Он ошарашенно кивнул, но она этого не заметила.
— Вот и здесь, — проговорила она. — Вы — повсюду, как и обещали. Что было? Рассказывай!
Слуга, привыкший, что к нему обращаются на ты, помедлил.
— Кто вы, простите? — спросил он.
— Ну, так ты же сам знаешь, — сказала фройляйн, а Раймерс поспешил пояснить:
— Мы услышали в «Кинг-Конге» о том, что случилось. Дама хотела поговорить с господином Конконом. Теперь это уже невозможно.
— Наверху полиция, — неуверенно пояснил Мырный. — Я не имею права давать справки.
— Ну мне-то можно, — сказала фройляйн. Она открыла свою тяжелую сумку и показала украинцу множество банкнот. — Три — тебе, если ты мне все расскажешь, — шепнула она и вынула три купюры, после чего поставила сумку на кресло.
Мырный шмыгнул в коридорчик, который вел к двери в погреб. Она последовала за ним, Раймерс остался.
— Ну бери уж, — сказала фройляйн Луиза. — Ты ведь все видел, да? — Ее вдруг опять охватило ощущение, что она знает все, что было.
— Не то чтобы воочию видел…
— Конечно, не воочию, — произнесла фройляйн Луиза и сунула слуге три купюры в карман фартука. — Но все, что было вокруг да около, а? Как это произошло?
— Об этом меня уже спрашивали двое мужчин… Я имею в виду, кроме полицейских. Двое, которые были здесь ночью и видели мертвеца и фотографировали его. Я не имею права вам ничего рассказывать, сударыня. Я подписал договор и деньги от них за это получил, за то, что я больше никому ничего не расскажу.
— Этих двух мужчин я знаю, — мрачно заметила фройляйн Луиза. — Эксклюзивный договор с «Блицем», разве не так?
— Да, — ответил тот ошеломленно. — Откуда вы знаете…
— Я еще и не то знаю, — произнесла фройляйн Луиза. — И ты, и я, мы оба знаем, что мне известно гораздо больше. — Она пристально посмотрела на него. Мырного обуял ужас. Поскольку он не мог даже догадываться, на что намекала фройляйн, он решил, что его поймали.
Она молча смотрела на него.
— Итак, — произнесла она наконец, — ты видел убийцу Конкона.
— Откуда…
— Неважно, откуда я знаю! Мне что, пойти наверх к полицейским и сказать им, что ты его видел?
— Нет, нет! Пожалуйста, не надо! — прошептал украинец задыхаясь и заламывая руки. — Он же сбежал… Если я его выдам полиции… Что он тогда со мной сделает?
Об этом разговоре и обо всем, что пережила фройляйн Луиза в Гамбурге и на пути туда, я узнал, как я уже упоминал, значительно позже. На самом деле все было вот как: от нас он утаил, что не только слышал, как убийца спорил с Карлом Конконом, но и видел, как тот крался вниз по лестнице. Мырный стоял в том самом коридорчике, ведущем в погреб. От ужаса он прирос к месту и ничего не сказал ни нам, ни полиции из страха за свою серую жизнь. А теперь вдруг какая-то абсолютно чужая, насквозь промокшая, нелепая тетка наседала на него с угрозами и прямо в лоб сказала ему, что он видел убийцу. Панас Мырный дрожал от ужаса.
— Как он выглядел? — неумолимо расспрашивала фройляйн Луиза. — Я должна это знать. Потому что вполне возможно, что здешний убийца был еще и убийцей моего маленького Карела. Ты будешь говорить, или я иду к полицейским? Как тебе не стыдно, я-то думала, мы друзья!
Это последнее невразумительное замечание охваченный страхом украинец не понял. Он прошептал:
— Он меня заколет, как Конкона, если я выдам его. Вы не можете этого требовать от меня, сударыня.
— И тем не менее я требую! У тебя есть выбор: или ты рассказываешь мне все тут, не сходя с места, или я узнаю это от полиции. Ну так как?
Украинец буквально корчился от мук.
— Ну! — цыкнула на него фройляйн.
— Ну ладно, пожалуйста, — пролепетал он в отчаянии. — Это был высокий мужчина… хорошо одетый… совсем сюда не вписывался… синее пальто… фуражка… Смотрите! — крикнул вдруг слуга, оттолкнул фройляйн Луизу в сторону и бросился вперед.
— Как… — возмутилась фройляйн, не сразу увидев, что случилось. Проводник Вильгельм Раймерс схватил ее сумку, оставленную на кресле, и как раз собирался быстро покинуть крошечный холл гостиницы. — Нет! — закричала фройляйн. — Но господин Раймерс! Господин Раймерс! — Украинец набросился сзади на высокого пожилого мужчину и крепко держал его.
— Ах ты, тварь! — закричал он. — Решил стибрить, а? Решил даму обокрасть?
— На помощь! На помощь! — заорал и Раймерс пронзительным голосом. Он был смертельно бледен и словно лишился рассудка. Неожиданно он завыл по-волчьи. Украинец вырвал у него сумку.
— Засранец! Вор! Сволочь! — орал украинец.
Вниз по лестнице прогрохотали шаги. Холл вдруг наполнился людьми в гражданском и в форме. Пожилой господин в непромокаемом плаще с поясом и в сдвинутой на затылок шляпе громко произнес:
— Тихо! — Все затихли. — Что здесь происходит?
— Этот человек хотел скрыться с сумкой этой дамы, с вашего позволения, господин комиссар, — доложил слуга.
Бывшего штандартенфюрера так трясло, что ему пришлось прислониться к стене. Теперь он рыдал так же безутешно, как старик Карл Конкон на втором этаже, в неприбранной комнате.
— Это правда? — обратился комиссар к фройляйн Луизе.
Ее охватил панический страх.
Полиция!
Она не должна вступать в конфликт с полицией!
— Нет… нет, — пролепетала фройляйн Луиза.
— Что значит нет? — возмутился Панас Мырный. — Я же сам это видел. И вы тоже! Вы ведь тоже кричали! — Он протянул комиссару открытую сумку. — Вот пожалуйста, с вашего позволения, господин комиссар, с большими денежками хотел исчезнуть мерзавец!
— Как ваша фамилия? — спросил комиссар.
— Я… я… Раймерс… Вильгельм Раймерс… О Боже, как это ужасно… — Пожилой мужчина, закрыв руками лицо, всхлипывал так, что все его тело содрогалось.
— А ваша? — обратился комиссар к фройляйн.
— Луиза Готтшальк, — испуганно произнесла она. «Что теперь будет? Что теперь будет?» — проносилось у нее в голове.
— А что вы делаете здесь?
Раймерс быстро произнес:
— Я всего лишь сопровождал даму. Она приезжая.
— Откуда?
Фройляйн Луиза молчала.
— Откуда вы приехали, фрау Готтшальк?
— Из Нойроде, — ответила она.
— И что вы ищете здесь?
— Мне здесь вообще ничего не надо, — сказал Раймерс с трусливой юркостью крысы.
— Ну да, только украсть сумку с деньгами, — усмехнулся комиссар.
— Я просто хотел выйти на свежий воздух…
— Прекратите!
— Я ведь пришел только потому, что дама попросила меня сопровождать ее! Я ее уже сопровождал в Сан-Паули!
— Это правда, фрау Готтшальк?
Фройляйн Луиза скорбно кивнула.
— Тогда скажите мне, наконец, что вам тут надо?
Фройляйн Готтшальк затрясла головой.
— Вы не хотите этого сказать?
— Я… я… пожалуйста, господин комиссар, смилуйтесь… Мы исчезнем… Вы никогда нас больше не увидите!
— Э, нет, — произнес комиссар. — Э, нет, фрау Готтшальк. Так дело не пойдет. Здесь произошло убийство, надеюсь, это-то вам известно. Или этого вы тоже не знаете?
— Знаю, господин комиссар, — смиренно произнесла фройляйн Луиза, — это я знаю.
— И поэтому вы здесь?
— Да, поэтому я здесь. — «Больше не имеет смысла, — проносилось у нее в голове. — Ничто больше не имеет смысла».
— Унтер-офицер Лютьенс! — выкрикнул комиссар.
— Так точно! — Молодой человек в униформе с грохотом сбежал с лестницы.
— Возьмите еще одного человека и отвезите этих двоих на Давидсвахе. Я подъеду через полчаса.
— Нет! — жалобно воскликнула фройляйн Луиза. — Не надо в участок!
— Именно в участок, — сказал комиссар. — Там мы спокойно обо всем поговорим. Я уверен, у вас есть что рассказать мне.
— Вы не можете так просто арестовать меня! — из последних сил выкрикнула фройляйн Луиза.
— Я не арестовываю вас. Прошу следовать за сотрудником на Давидсвахе. Вы чуть не стали жертвой серьезной кражи, — сказал комиссар. — А мужчину мы арестуем. Доказанная попытка кражи.
— Господин комиссар, честью своей… — начал Раймерс, но комиссар брезгливо оборвал его:
— Ваша честь, будьте вы неладны! Красть у старых женщин деньги — вот в чем ваша честь, так? Давай, Лютьенс, уводи обоих!
Молодой унтер-офицер вежливо взял Луизу за запястье и подтолкнул ее вперед, в то время как другой полицейский завел Раймерсу руку за спину, принял сумку из рук комиссара и сказал экс-штандартенфюреру:
— Давай, пошли!
— Прошу вас, сударыня, — сказал унтер-офицер Лютьенс. Фройляйн Луиза вскинула к нему голову. Она чувствовала изнеможение, полное изнеможение. Пока она безвольно шла рядом с ним к выходу, ей вспомнилось одно место из Книги Иова, которую она почти всю знала наизусть. И когда она вышла под дождь и забиралась вместе с Раймерсом в полицейскую машину и потом ехала в ней, она проговаривала про себя эти слова: «Выводишь новых свидетелей Твоих против меня; усиливаешь гнев Твой на меня; и беды, одни за другими, ополчаются против меня. И зачем Ты вывел меня из чрева? Пусть бы я умер, когда еще ничей глаз не видел меня. Пусть бы я, как небывший, из чрева перенесен был во гроб! Не малы ли дни мои? Оставь, отступи от меня, чтобы я немного ободрился, прежде нежели отойду — и уже не возвращусь в страну тьмы и сени смертной, в страну мрака, каков есть мрак тени смертной, где нет устройства, где темно, как самая тьма».
И сирена полицейской машины завывала, и дождь хлестал по окнам, и фройляйн была в таком отчаянии, как никогда в своей жизни, кроме единственного исключения — когда умерла ее мать.
6
Такого испоганенного обеда в моей жизни еще не было. Никогда не надо ничего предвкушать. Когда мы с Берти приехали в отель, было уже два. Ирина сидела в салоне и не мигая смотрела на дождь. Она была очень молчалива. Я решил отдать ей обновки после еды и отнес чемодан в спальню. Потом позвонил горничной, чтобы она убралась. По прибытии я договорился со своим старым знакомым, старшим портье Хансликом, что мы можем пообедать в свободном салоне на нашем этаже, если я не желаю спускаться в ресторан. Я не хотел этого, поскольку боялся, что с Ириной может что-нибудь случиться.
— Но вам придется немного поторопиться, господин Роланд, — предупредил Ханслик. — В ресторане обслуживают только до половины третьего, а на этаже это будет еще дольше, не так ли…
— Хорошо, господин Ханслик, — сказал я. Ведь еще был Хэм, ждавший новостей, которому обязательно нужно было позвонить. Две горничные появились с пылесосом и тележкой, нагруженной чистящими средствами и чистыми полотенцами. Я начал нервничать. Больше всего меня раздражала грусть Ирины. У меня мелькнула мысль: «Неужели я, идиот, начинаю ревновать к этому Билке. Этого мне еще не хватало». Я сделал глоток из своей фляжки, которую всегда таскал на поясе, закурил сигарету и велел горничным сначала привести в порядок спальню и ванную. А Берти я сказал, чтобы он шел с Ириной в салон и заказывал еду и что я скоро подойду.
— Что бы ты хотел съесть? — спросил Берти.
— Все равно, на твой вкус, — ответил я.
Они ушли с Ириной, а я сел на диван в салоне, отхлебнул еще немного из фляжки и заказал телефонистке свою редакцию во Франкфурте. Из соседней комнаты доносился глухой гул пылесоса. Голосов девушек, которые наверняка переговаривались между собой, я не слышал. Так что я мог спокойно рискнуть говорить в полный голос, когда трубку взял Хэм. Не дав сказать мне ни слова, он сразу объявил:
— Херфорд в восторге. Все слова уже сказал! Мама празднует! Лестер поджал хвост и изображает из себя лучшего друга. Вы получаете четыре полосы. Заголовки аршинными буквами. Ляйхенмюллера они загоняли с оригинал-макетом, так что он бегает, свесив язык.
— А моя фамилия?
— Крупно, не беспокойся, малыш. Это твой материал, никто его у тебя не отнимет. Уже в анонсе будет стоять: «Новый Роланд». — Он засмеялся.
— Что тут смешного?
— А все, — сказал Хэм. — Продолжение, которое ты уже сдал, понравилось женскому совету. Но Херфорд воодушевился только тогда, когда Лестер рассказал ему о возражениях — ну, ты понимаешь, больше о мужчине, о том, как его возбуждать, — и Херфорд затребовал у священного Штальхута срочный анализ. Компьютер его как раз выдал. Держись, а то упадешь. Серия, которая сейчас идет, твой «Совершенный секс», переходит в серию о мужчине, его страстях и особенностях. Ты только напишешь переходный мостик, и начнется новая серия. Херфорд меня на днях спрашивал, точно ли ты справишься с двумя сериями одновременно.
— Еще как! — взволнованно воскликнул я. — Конечно, справлюсь!
— Херфорд прет сейчас напролом, — сказал Хэм. — Хочет прорваться вперед. С двумя твоими сериями. Секс и выдавливание слез. И однополая любовь. Компьютер предсказывает бешеный успех.
— Ничего другого нельзя было и ожидать.
— Точно. Компьютер уже даже придумал название новой серии о сексе — «Мужчина как таковой».
— Как?
— «Мужчина как таковой», — повторил Хэм. — Название уже принято, его уже рисуют. Сегодня после обеда состоится летучка по поводу обложки. Начинается ведь с твоей лагерной истории. Скорее всего, возьмем этого маленького пацана, как он без сознания лежит на полу барака, рядом со своей трубой. Великолепный снимок, скажи это Берти, ему будет приятно. В следующем номере уже начинается твой «Мужчина как таковой». К нему они хотят тоже что-нибудь особенное на обложку. Скажи, ты ведь не извращенец?
— Нет, вроде.
— Но в «Мужчине как таковом» тебе придется. Это будет хроника всех извращений, которые возбуждают мужчин. У тебя достаточно литературы? Я уже послал за ней. Соберут все, что есть.
— У меня есть кое-что получше, — сказал я. — Тутти! Вы же знаете, большая любовь Ляйхенмюллера. Вот кого надо расспросить.
— Потрясающе, — воскликнул Хэм.
— Проведу пару приятных часов с Тутти, — сказал я. — А теперь послушайте, пожалуйста, внимательно, Хэм. Вместо долгих пересказов я вам прокручу беседу в полицейском управлении. — Я взял магнитофон и, включив его, приставил к трубке.
Таким образом Хэм услышал весь наш разговор с блюстителями Конституции Кляйном и Рогге. Я тоже еще раз послушал. Беседа заново взволновала меня. Что там еще будет? Я отложил магнитофон и рассказал Хэму о сотрудниках контрразведки, охраняющих Конни Маннера. Во Франкфурте секретарша Хэма Рут стенографировала все, что я передавал. Она прекрасно поспевала за мной.
— Я сейчас поем, а после обеда мы с Берти поедем в гамбургское отделение MAD, — сообщил я. — Посмотрим, что там можно нарыть.
— Это будет очень трудно, — заметил Хэм.
— Да, — согласился я.
— Потом опять позвони. И пошли новые пленки, — попросил Хэм.
— О’кей, — ответил я. Горничные постучали в дверь из спальни в салон и просунули головы. Я кивнул. Теперь они уберутся в салоне. Я попрощался с Хэмом и повесил трубку.
— Вам не обязательно делать это чересчур основательно, — сказал я девушкам и дал каждой по десять марок. — Здесь не так уж грязно, а отель полон. Я думаю, у вас достаточно работы.
— С ума можно сойти, сколько работы, — заметила та, которая была посимпатичнее. Я взял магнитофон и поставил его рядом с пишущей машинкой на стильный комод.
После этого я совершил четыре больших ошибки. Одна была неизбежна, трех других я мог бы избежать.
Когда я поставил магнитофон, мне в голову пришла одна мысль. В шкафчике, на котором стоял телефон, было встроенное радио с тремя клавишами. По нему можно было слушать радиостанцию NDR, музыку с магнитофона и музыку из бара. Я решил развеселить Ирину, чтобы во второй половине дня, когда она опять останется одна, у нее не сдали нервы. Почему бы не попросить одного из барменов — я их всех хорошо знал — ставить хорошие долгоиграющие пластинки Питера Неро или Рэя Конниффа, или Генри Манчини, или еще что-нибудь на его вкус, пока меня нет. А еще я хотел, чтобы музыка звучала, когда я вдохновлю Ирину надеть после обеда одно из новых платьев, прежде чем мы уйдем. Я нажал на клавишу бара, но приемник молчал. Я нажал на две другие клавиши, но и они не работали. Я позвонил на коммутатор.
— Говорит 423-й, Роланд. У меня сломано радио. Будьте добры, пришлите мне электрика.
— Сейчас кто-нибудь подойдет, господин Роланд.
— Спасибо.
Гостиничный электрик пришел через пару минут. Это был молодой парень, стройный блондин в синем комбинезоне и с ящиком инструментов. Весьма дружелюбный на вид.
— Добрый день, — поздоровался он. — У вас радио не в порядке?
— Да. Все клавиши мертвые.
Он присел на корточки перед шкафчиком и открыл ящик с инструментами.
— Сейчас сделаем. — Он принялся отвинчивать переднюю стенку приемника с волоконной сеткой. Я вдруг подумал о том, что мне предстоит, — две серии и, быть может, возвращение в качестве серьезного журналиста! — и сделал глоток из фляжки.
Девушки закончили свою работу и попрощались. Они исчезли вместе с пылесосом, использованными полотенцами и тележкой с моющими средствами.
— Ну что там? — спросил я.
— Ничего страшного, — ответил электрик. — Одна лампа и один контакт.
— Сколько времени вам понадобится?
— Полчаса, наверное.
— Мне надо идти обедать. Меня друзья ждут. Мы в салоне 436. Закройте на ключ, когда закончите, и принесите его мне, пожалуйста. — Я дал ему двадцать марок.
— Большое спасибо, — поблагодарил он. — Я занесу вам ключ, сударь. — Он продолжал усердно раскручивать приемник. Я побыл еще минутку, попрощался с ним и быстро пошел к Ирине и Берти, ждавшим меня. Тем самым из своих четырех ошибок я совершил уже три.
7
Такое не должно было случиться со мной, проработавшим столько лет в этой отрасли. Никогда. И все же это случилось. Я был слишком взволнован, заносчив и чертовски уверен в себе. Несмотря на весь свой опыт, я доверял не тем, кому надо, а кому действительно надо, не доверял. Я считал, что напал на верный след, и совершенно забыл о том, что так крепко усвоил за многие годы, а именно: что любая вещь и любое дело всегда истинны лишь отчасти, а другой своей частью ложны, и что правда и ложь, справедливость и беззаконие переходят друг в друга, и что те, кому доверяешь, могут предать тебя, а те, кому не доверяешь, спасти.
Все это я знал, прекрасно знал, но, вероятно, забыл в этот день. Я был просто сам не свой при мысли о том, что у меня появился шанс снова стать самим собой.
Ошибка номер один: то, что радио не работало, должно было озадачить меня. В моей ситуации мне нужно было самому исследовать его и позаботиться о том, чтобы оно вообще больше не могло работать, не важно как и в какой форме, вместо того, чтобы вызывать незнакомого мне электрика.
Ошибка номер два: я не имел права покидать номер, пока там работал этот электрик. В номере ни в коем случае не должны были оставаться сотрудники или посторонние, если хотя бы один из нас троих — Ирина, Берти или я — не присматривал за ними.
Ошибка номер три: я был взволнован, как самый паршивый новичок, и каким-то невероятным образом поставил включенный магнитофон рядом с пишущей машинкой. Это случилось из-за того, что я все время машинально теребил кнопки, пока прокручивался разговор с двумя господами из Ведомства по охране конституции. Потом я машинально нажал и на запись.
До сих пор это еще не было ошибкой. Но когда я позже вновь взял магнитофон в руки, я увидел, что он выключен, и посчитал это совершенно естественным. Он же отключился автоматически, после того как в кассете прокрутилась вся пленка. И тут я совершил головотяпство. Как всегда, я был в жуткой спешке и по ошибке решил, что кассета полная. Я ее вынул и отложил, а чистую вставил. Когда я, наконец, прослушал кассету и услышал, что именно там было записано, было уже слишком поздно, несчастье уже случилось.
8
Звук нажатия на клавиши радио.
Гудение пылесоса.
Мой голос: «Говорит 423-й, Роланд. У меня сломано радио. Будьте добры, пришлите мне электрика».
Это было первое, что записалось после беседы в полицейском управлении.
Далее следовали мой разговор с электриком и мой уход. Потом шла пауза, звуки уборки.
Затем голос электрика: «Дело в микрофоне. Микрофон отошел».
Разъяренный голос без акцента: «Болван! Жалкий болван! Надо быть идиотом, чтобы встраивать микрофон. А что бы я делал, если бы Роланд вас сейчас не вызвал?»
Голос электрика: «Прошу прощения. Я очень сожалею. Это не моя вина. Два винта ослабли и…»
Голос без акцента: «Потому что вы их как следует не затянули! Все было бы кончено, если бы Роланд — уж не знаю почему — не стал ковыряться в радио и не заметил бы, что оно не работает!»
Голос электрика: «Это больше не повторится. Я ведь делаю все, что вы от меня требуете, я сделаю все, если вы только сдержите свое слово».
Голос без акцента: «Свое слово я сдержу, если все пойдет нормально и ничего не случится по вашей вине. В противном случае можете забыть о моем слове, вы, недотепа!»
Голос электрика: «Послушайте, я ради вас всем рискую! Мое место! Сообщение о правонарушении! Тюрьма!»
Голос без акцента: «Ради меня? Вы хотите сказать, ради вашего отца!»
— Да, да, конечно…
Потом звуки производимой работы. Откручивание, царапанье, опиливание, легкое постукивание:
— Один, два, три, четыре, пять, шесть, семь… Как теперь звучит?
— Теперь снова звучит хорошо. Уму непостижимо. Встроить микрофон — уже проблема для человека!
— Я прошу извинить меня!
— Вы поставляете хорошую работу. Мы поставляем хороший товар. — Короткий смешок: — Мы не поставляем хороший товар, хотел я сказать.
Звуки работы. Около пяти минут.
Потом:
— Теперь все снова встроено.
— Соберите свои вещи и отнесите Роланду его ключ.
— Будет сделано. Еще раз спасибо. Спасибо… Спасибо…
Потом кассета докрутилась до конца, не записав больше ничего, кроме удаляющихся шагов электрика и звуков открываемой и закрываемой на ключ двери.
Вот так.
Четвертую и самую большую ошибку я совершил сразу после этого, но она единственная была неизбежна.
9
Я вошел в салон, в котором сидели Ирина и Берти. Они действительно ждали меня. Я был растроган.
— Мы уже заказали, — сказал Берти. — «Леди Курзон». Морской язык «Валевска». «Пеш Мельба». Мозельское, хорошего позднего сбора, порекомендовал официант. Тебя это устроит?
— Замечательно, — воскликнул я, широко улыбнувшись Ирине. Она ответила серьезным взглядом. Она была почти не накрашена и все еще в своем голубом жакете и кофте и полуботинках на низком каблуке. Она молчала. Берти позвонил кельнеру. Тут же дверь распахнулась. Была вторая половина дня, и сейчас должен был дежурить, как сказал утренний кельнер, мой друг господин Оскар. Однако дежурил не он. Большой стол на колесиках, накрытый камчатной скатертью, с подогреваемыми тарелками, вином и супом, вкатил не господин Оскар, а совершенно не знакомый мне официант.
— Добрый день, месье, — приветствовал он меня, приступив к сервировке. Он говорил с французским акцентом. На нем был черный костюм с коротким пиджаком до талии, белая рубашка с черным галстуком и белый фартук.
— Добрый день, — ответил я. — Я думал, сегодня с двух дежурит господин Оскар.
— Он и дежурил бы, — ответил незнакомый кельнер. У него были проблемы с произношением. — Но утром я имею дела, поэтому мы поменялись.
— Как вас зовут?
— Жюль, месье. Жюль Кассен. — Он поставил на стол черепаший суп и налил немного белого вина в мой бокал. Я попробовал. Вино было великолепное, и я сказал ему об этом.
— Мерси, месье. — Наполнив все бокалы, он удалился.
— Ну, тогда приятного аппетита, — произнес я подчеркнуто бодро. Мы начали есть. Никто не говорил ни слова — мы как будто сидели за столом, за которым не хватало трех людей. — Что это с вами? — спросил я наконец.
— Ах, фройляйн Индиго, — вздохнул Берти. — Она все время одна. Ее посещают грустные мысли. Она волнуется. Вот и рассказывала мне сейчас об этом. Ее можно понять.
— Разумеется, ее можно понять.
Тут мы оба начали утешать ее, Берти шутил, очень деликатно, и я подумал, что действительно влюбился в Ирину и что мне только этого не хватало. Я погладил ее по руке и сказал, что через пару часов мы будем знать гораздо больше. Официант Жюль пришел с морским языком на другом столике и сервировал все исключительно элегантно. Это был уже немолодой человек, за пятьдесят, двигавшийся с присущей французским официантам грациозной ловкостью. Морской язык был восхитителен. Мое настроение моментально улучшилось, я перестал нервничать и сказал Берти, что нам дают четыре полосы и все в восторге от его фото. Ирина ела молча, с опущенной головой, и не произносила ни слова.
Жюль Кассен принес мороженое «Пеш Мельба» и спросил, не желаем ли мы мокко.
— Да, — сказал я. — И коньяк. «Реми Мартен», но в наш люкс, пожалуйста.
— Будет исполнено, месье. Я накрою у вас. Вот, пожалуйста, ваш ключ. Его передал мне наш электрик. Радио в порядке.
— Спасибо, господин Жюль, — поблагодарил я. В салоне горела люстра, на улице из-за затяжного дождя очень рано стемнело, там было просто омерзительно, а нам предстояло скоро опять выходить. Мы ели мороженое, и я сказал Ирине: — Я вам кое-что принес. Подождите, пожалуйста, в нашем салоне, пока мы все распакуем и красиво разложим в спальне.
Она вдруг улыбнулась.
— Ой, как замечательно! — произнесла она.
Мы с Берти улыбнулись друг другу, а я радовался улыбке Ирины, словно восходу солнца, которого ждал так долго, что весь продрог. Я не думал о том, что это могла быть безрадостная, фальшивая улыбка, ведь Ирина изучала психологию, я думал лишь о том, насколько она была красива, изумительно красива. Я позвонил. Пришел старший официант по этажу Жюль, и я сообщил ему, что мы возвращаемся в люкс.
— Отлично, месье. — Я заметил, что он делает мне знак, отдал Берти ключ и, делая вид, что ищу в кармане деньги на чаевые, сказал им:
— Идите вперед, я сейчас приду.
Они ушли.
Я спросил:
— Что случилось, господин Жюль? — и протянул ему двадцать марок.
— Спасибо, месье. — Он демонстративно посмотрел на свои наручные часы. — Сейчас три двадцать одна. Ровно в половине четвертого вам будет звонить ваш издатель.
— Что? А откуда вы…
— Потом. Он вам все объяснит. То есть не он, а месье Зеерозе.
— Откуда вам известно это имя?
Он засмеялся.
— Откуда я знаю имя? — Он посерьезнел. — Вам будут звонить не сюда, месье, а в «Клуб 88».
— Где это?
— Прямо напротив отеля. Портье даст вам зонт. Вам нужно только пересечь улицу.
— Почему же мой издатель звонит мне не в отель?
— Это он объяснит вам сам. Или же месье Зеерозе. Очень важно для вас. Пожалуйста, идите.
— Клуб уже открыт?
— Это не клуб, это бар. Открывается в три. Когда вы вернетесь, вы будете все понимать намного больше и лучше. А теперь идите, месье, пожалуйста. Осталось всего пять минут…
Я пошел. И тем самым совершил свою четвертую, самую большую ошибку. Но эту ошибку, скорее всего, совершил бы каждый.
— О месье. Очень важно! — Я был уже у двери, когда Жюль окликнул меня. Он подбежал ко мне. — Вот, пожалуйста. — Он сунул мне в руки сложенный листок.
— Что это?
— Возьмите с собой в бар. Это вам понадобится.
10
«Клуб 88» в самом деле находился прямо напротив отеля, в старом патрицианском доме на другой стороне улицы Харвестерхудер-вег. Маленький, очень уютный, полностью в красных тонах, почти безлюдный. Две любовные парочки сидели за столиками и шептались. Я сдал свой одолженный зонт в гардероб, сел и заказал двойной чистый «Чивас». Не успел я сказать это официантке, симпатичной девушке в черном мини-платьице, розовом фартучке и розовой наколке, как она уже вернулась к моему столику.
— Господин Роланд?
— Да.
— Вас к телефону.
Я посмотрел на часы. Было ровно 15 часов 30 минут.
Девушка поспешила вперед, мимо стойки и мимо бармена, открыла дверь красного дерева и впустила меня в коридор, освещенный электрическим светом. Отсюда можно было пройти к туалетам, а в начале коридора стояла телефонная будка. Трубка лежала на маленькой полочке. Я вошел в будку, взял трубку и подал голос.
— Это издательство «Блиц», Франкфурт. Господин Роланд?
Я узнал голос Марион.
— Привет, крошка. Что у вас там? Почему звоните мне не в отель?
— Я соединяю вас, господин Роланд.
Щелчок, она исчезла.
— Роланд? Это Херфорд.
— Добрый день, господин Херфорд. Что это…
— Никаких вопросов. Так будет быстрее. Вы сейчас все сами поймете. Сначала слово из Библии. Послание к римлянам, глава 12, стих 12: «Утешайтесь надеждою; в скорби будьте терпеливы, в молитве постоянны». Будьте всегда постоянны в молитве, Роланд.
— Несомненно, господин Херфорд, — ответил я. — Я всегда постоянен в молитве.
— Очень хорошо. И Херфорд поздравляет вас, Роланд!
— Спасибо.
— То, что вы делаете, великолепно. Херфорд в восторге. Фрау Херфорд тоже. Это будет самое громкое дело, которое у нас когда-нибудь было.
— Тьфу, тьфу, тьфу.
— Сейчас с вами поговорит господин Зеерозе. Мы в моем кабинете.
Сразу же раздался хорошо поставленный голос директора издательства, этого всегда великолепно одетого джентльмена с прекрасными манерами.
— Привет, господин Роланд.
— Привет, — сказал я.
— Что это за будка, из которой вы говорите? Совершенно обычная?
— Да.
— Значит, Жюль все правильно сделал. Никто не может подслушивать.
— Вы уверены?
— Да, — коротко ответил он. — Поэтому я и звоню вам сюда, а не в отель.
— Значит ли это, что в отеле…
— Жюль вам все объяснит. Опишите мне на всякий случай Жюля.
— Года пятьдесят три, такого же роста, как я, седые волосы, стройный, зеленые глаза, по-немецки говорит не совсем правильно.
— Какие у него часы?
— Золотые наручные часы. Узкие, четырехугольные.
— Черный циферблат.
— Да, верно. Но…
— Эти часы у него от меня. Он передал вам записку?
— Да, господин Зеерозе.
— Прочтите мне имена.
Я вытащил из кармана записку и прочитал: «Патрик Мезерет. Франсуа Телье. Робер де Брессон. Мишель Моро. Шарль Рабоди. Филипп Фурнье. Бернар Апи».
— Отлично. Никаких сомнений. Это мой Жюль Кассен.
— Ваш Жюль Кассен?
— Это он вам объяснит. А я должен вам объяснить, что вам надо делать и в чем там дело с этим Яном Билкой.
— Почему вы должны мне это объяснять?
Пауза.
Потом:
— Потому что я лучше информирован, чем вы. Я… очень близкий друг определенных американских правительственных служб. И разговаривал с одной из них, находящейся в Гамбурге. О господине Билке и всей этой истории, на след которой вы вышли. Вы ведь тоже придерживаетесь мнения, что господин Билка пытается или пытался что-то продать, не так ли?
— Да, идея принадлежала нам с Энгельгардтом.
— Разумеется. А вы можете предположить, что именно хочет продать господин Билка?
— Нет, — честно ответил я.
— А я знаю, — сказал Освальд Зеерозе — дружелюбно, спокойно и с достоинством. — Это все, без исключения, планы стран-участниц Варшавского Договора на случай начала войны в Европе.
— Стран-участниц Варшавского договора… — У меня захватило дух. Мне вдруг стало безумно жарко в этой будке. На лбу выступил пот.
— Да, — раздался голос Зеерозе, — и он уже продал эти планы…
11
Через пять минут я снова был в своем люксе.
Там были Берти и официант Жюль Кассен, весьма обстоятельно накрывавший стол для кофе — на этот раз настоящий стол в салоне.
— Что было? — спросил Берти.
— Сейчас, — ответил я. — Где Ирина?
— Рядом. Празднует Рождество.
Это действительно было очень похоже. Я заглянул в спальню: Ирина стояла перед кроватью, на которой Берти разложил все подарки. Все они были красиво упакованы, и Ирина стояла в полном безмолвии и с удивлением смотрела на свертки.
— Давайте, давайте, — подбодрил я ее. — Открыть, померить!
— Вы просто сумасшедший, — произнесла она. — Вы, должно быть, сумасшедший, господин Роланд.
— Разумеется, я сумасшедший, — усмехнулся я. — Посмотрите все не спеша и примерьте, я могу все поменять. А потом приходите в салон. Но я хочу видеть вас волнующе накрашенной и в новом платье, договорились?
Она улыбнулась мне и кивнула, а я подумал: как просто осчастливить человека. Несмотря на все ее тревоги, Ирина, как любая женщина, будет теперь явно занята на какое-то время. И хорошо, мне это время как раз было нужно.
Я вернулся в салон и сказал Берти:
— Я разговаривал по телефону с Зеерозе. У него есть контакт с американцами. Он знает больше нас. Ему известно то, над чем мы все еще ломаем голову: что именно продал Билка.
— Что?
— Все планы стран-участниц Варшавского Договора на случай войны в Европе, — сказал я. — Американцам.
Жюль невозмутимо посмотрел на меня.
Берти проговорил, делая над собой явное усилие:
— Планы Варшавского Договора? Ну и ну!
— Я тоже не знал, — сказал Жюль. — Разве было нехорошо, что вы последовали моему совету и пошли в «Клуб 88»?
— Это было чертовски хорошо, — сказал я. — Только почему, господин Жюль? Почему вы послали меня туда? Почему я не мог разговаривать отсюда?
Официант-француз пожал плечами.
— Вы ведь знаете господина Ханслика, старшего портье. Он мой хороший друг. Сегодня был бы мой свободный день, но господин Ханслик звонит мне и говорит, что я должен немедленно прийти в отель. Вы приехали и пришли люди на телефонную станцию и возились там. Телефонистки убеждены, что они вмонтировали подслушивающее устройство к вашему аппарату в этом номере. Дирекция отеля, конечно, позвонила на станцию. Они там говорят, что все правильно. Неисправность на линии. Мы с господином Хансликом, тем не менее, не верим. Мы думаем, вас прослушивают.
— Это было бы вполне логично, — отозвался Берти. Я увидел, что он тайком фотографировал Жюля, пока я ходил за магнитофоном. Я был слишком взволнован и не подумал о том, что наша беседа в полицейском управлении заняла не всю сторону одной кассеты. Я лишь увидел перемотанную ленту и выключенный аппарат. Я механически вынул кассету, вложил новую и включил магнитофон. Так вот просто все было. К сожалению.
— И? — спросил я Жюля.
— И я сразу сюда пришел и позвонил господину Зеерозе из телефонной будки на улице, и он сказал, чтобы я позаботился об этом деле. Очень благодарен мне. И я ему тоже. Поэтому я все это делаю. Поэтому поменял дежурство с Оскаром. Чтобы быть здесь сегодня. Все разговоры должны сразу идти через меня — ведь так сказал месье Зеерозе, правда?
— Да, он так сказал.
— Я звоню из бара, если что-нибудь случилось. Я же всегда могу ненадолго уйти. Я просто обязан месье Зеерозе помогать сейчас. Ему и вам. Раз такое дело.
— Откуда вы знаете господина Зеерозе? — спросил Берти.
— Подожди, — перебил я. — Нас могут услышать в спальне?
— Невозможно, месье. Стены очень толстые, двери очень толстые и обитые. Это были раньше отдельные комнаты. Вы можете здесь говорить так громко, как хотите — рядом ничего не слышно. Ой-ля-ля, многие дамы очень шумные в спальне, здесь в соседней комнате не слышно ни звука. Скорее в коридоре, если подслушивать под дверью.
— Вы все подслушиваете, да? — спросил Берти.
— Разумеется, месье, — не скрывал Жюль. — Это половина плезира от нашей профессии.
— И тем не менее, — сказал я, быстро подошел к двери в спальню и распахнул ее. Ирина, в новых белых трусиках и новом белом лифчике, тихонько вскрикнула. Она как раз собиралась примерить зеленое шерстяное платье с черным лаковым поясом.
— Извините, — произнес я. — Я только хотел посмотреть, подходят ли вещи.
— Они сидят как влитые, — сказал Ирина со странным мерцанием в глазах. — Мне нужно еще немножко времени, потом я вам покажусь.
— Хорошо, — кивнул я и закрыл дверь. Я взглянул на Жюля, с любовью накрывшего стол — кофе, коньяк и все, что полагается. — Короче, — сказал я, — господин Зеерозе спас вам жизнь. Верно?
— Да, месье. Поэтому я всегда буду все для него делать.
— А когда он спас вам жизнь? — спросил Берти.
Магнитофон записывал, я это знал. Вмонтированный в радио микрофон записывал тоже, этого я не знал. Это мне еще только предстояло узнать.
Жюль Кассен рассказал:
— Месье Зеерозе был офицером во Франции. Я был с маки. Взрывал большие мосты с товарищами. Немцы нас поймали — меня и всех тех, кого я написал на бумажке. Месье Зеерозе был тогда комендант гарнизона. Дает нам бежать. Рискует при этом головой. Спас всем нам жизнь.
— Филантроп, — заметил Берти.
— Не надо шутить, месье, пожалуйста! Месье Зеерозе — чудесный человек. В 1945-м я обращаюсь к французскому военному правительству и говорю, что он сделал для нашей группы. За это он получает одну из первых газетных лицензий. Он соединился с господином Херфордом, тот достал деньги, и — вуаля! «Блиц» родился!
— Ах вот как это было. Лицензию получил Зеерозе, а не Херфорд.
— Правильно. Мы были друзья, месье Зеерозе и я, хорошие друзья.
— Были?
— И сейчас тоже. Во Франции я все потерял. Тогда месье Зеерозе говорит: «Жюль, хочешь пойти ко мне дворецким?» Он тогда уже имел большой дом, вы знаете? Восемь лет я был у господина Зеерозе. Я всегда был кельнер, это моя профессия. В Париже в «Рице», до войны.
— И почему вы ушли от господина Зеерозе? — спросил Берти.
— Ах, я хотел иметь свой бар. Не получилось.
— Почему не получилось?
Жюль махнул рукой.
— Неинтересно. Мне здесь очень хорошо. Я доволен. И все еще обязан господину Зеерозе.
— Вы знали, что он состоит в отношениях с американцами?
— Да, много всегда приезжало в его дом.
— Что это были за люди?
— Из специальных служб. Долгие разговоры в библиотеке о политике и… — Он замолк, потому что дверь из спальни отворилась и вошла Ирина в новом зеленом платье, новых туфлях, новых чулках, сильно накрашенная и очень обольстительная.
— Чудесно, — оценил я.
— Я в восхищении, мадам, если мне будет позволено это выразить, — сказал Жюль.
Ирина улыбнулась и покружилась в разные стороны.
— Вам нравится?
— Великолепно, — сказал Берти.
Ирина находилась в редком состоянии эйфории.
— А духи, Вальтер! Это просто божественно!
— Я рад. А теперь надень, пожалуйста, костюм.
— С удовольствием. А что здесь происходит? О чем вы беседуете? — Спрашивая это, она улыбалась и не вызвала у меня подозрений.
— Представь себе, дорогая, — сказал я, — господин Жюль знает кое-кого из моего издательства. Мы об этом как раз говорим.
— Ах вот что. — Совершенно невинно и с улыбкой. — Тогда не буду мешать. Я примерю костюм. Но наш мокко…
— Кофейники стоят на подогреваемых тарелках, мадам. Все в порядке.
— Спасибо, Жюль, — произнесла она и улыбнулась ему. И эту улыбку я еще буду вспоминать. Она снова исчезла. Мне кое-что пришло в голову, я пошел к телефону и соединился с баром. Дежурил Чарли, и я попросил его проигрывать для нас во второй половине дня хорошие пластинки, назвав, какие мне хотелось бы услышать. Он обещал подобрать. Затем я нажал клавишу бара.
— Итак, что же сказал Зеерозе? — спросил Берти.
— Подожди. — Я крикнул: — Ирина!
Ответа не последовало.
— Ну что я вам сказал, — обрадовался Жюль. — Ни звука.
Я плюхнулся в кресло.
— Итак, — начал я. — Согласно версии Зеерозе, дело выглядит следующим образом: этот Ян Билка раздобыл фотокопии — микрофильмы — планов стран-участниц Варшавского Договора. Он удирает и едет к своему другу Михельсену, которого долгие годы знает как американского агента. Там он считает себя в полной безопасности. Большое заблуждение. Потому что его добрый друг Михельсен, как сказал Зеерозе, вовсе не американский агент, а агент русских спецслужб. В течение многих лет.
— Билка бежал к русскому агенту? — воскликнул Берти.
— Это ужасно, — сказал Жюль.
— Послушайте, — произнес я, — что еще рассказал мне Зеерозе.
В этот момент зазвучала музыка, передававшаяся из бара. Это был «A foggy day in London town»[91] в исполнении оркестра Рэя Конниффа.
12
— Итак, — продолжил я, — совсем коротко. Михельсен — агент восточного блока. Весьма успешный. Как видно, он завязывал контакты с возможными перебежчиками задолго до критического момента. Билка, теперь это установлено, невообразимо алчный. На этику он плюет. Так же, как на Ирину. Все это время у него есть другая. С ней он бежит к Михельсену. Ему он предлагает планы. Михельсен должен вступить в переговоры с американцами. Это вполне соответствовало настроению Михельсена. В рамках задания и совсем в духе русских он делает вид, что является двойным агентом и в действительности ведет переговоры с американцами. При этом, кроме денег, он требует еще и другие вещи, на которые американцы просто не могут пойти: освобождение двух осужденных в Америке социалистических агентов; выдачу советского суперагента из Сайгона и пойманного израильтянами советского консультанта египтян; частичное сокращение натовских ракетных баз в Европе — поскольку Билка идеалист, он делает эти заявления Михельсену, не раздумывая и ни о чем не подозревая; Билка еще и моралист, поэтому США должны открыто признать порноскандал в правительственных кругах, который до этого удавалось держать в строгом секрете. Как сказано, немыслимые требования. Михельсен ведь должен предотвратить приобретение американцами секретных сведений. Он должен выиграть время для своих русских заказчиков, которые таким образом хотят выяснить, где Билка держит копии планов.
Я люблю Гершвина. Сентиментальная песня настроила и меня на сентиментальный лад. Я послушал какое-то время.
— Может, все же расскажешь дальше, — напомнил Берти. — Что значит, где Билка держит копии планов?
— Он их, конечно, не при себе таскает, — сказал я. — Было бы верхом идиотизма. Тогда достаточно было бы его укокошить и забрать планы.
— Разумеется, — поддержал Жюль. — И где же, значит, планы?
— Зеерозе говорит, американцы якобы сказали ему, что одну часть микрофильмов он отправил другу в Хельсинки, а вторую часть — другу в Нью-Йорк. Никто не знает, что это за друзья. Билка требует, чтобы его и его подругу — под охраной, конечно, сначала отправили самолетом в Хельсинки, а потом в Нью-Йорк. Он хочет в Штаты. В Хельсинки он передаст первую часть микрофильмов и получит первую долю денег, в Нью-Йорке передаст вторую часть микрофильмов и получит остаток денег.
— Красиво придумано, — усмехнулся Берти.
— Человек с умом и характером, — сказал Жюль.
«…and suddenly the sun was shining, shining everywhere!»[92] — пел кто-то. Только не Синатра.
— Не так уж и красиво, — сказал я. — Потому что Михельсен, как мне рассказал Зеерозе, затянул переговоры. Билка и его подружка не могли выйти из квартиры. Они полностью зависели от Михельсена. А тот говорил, что все время ведет переговоры с американцами. Торговался. Медлил, чтобы Восток успел подготовиться к депортации Билки и к спасению пленок. Разумеется, Михельсен в первую очередь сообщил своим истинным заказчикам, где находятся микрофильмы. Русские вполне могли бы в роли мнимых американцев полететь с Билкой в Хельсинки и в Нью-Йорк и забрать у него фильмы, если бы…
— Не появилась Ирина и не внесла бы в развитие всего дела столь нежелательный хаос, — закончил Берти.
Теперь звучала «Голубая рапсодия».
— Точно. Ирина все подставила под удар. Она не должна была вступать в контакт с Билкой. Вот почему Михельсен или кто-то из его команды послал этого Конкона, чтобы похитить Ирину.
— И что сделать с ней? — спросил Берти.
— Явно ничего хорошего, — предположил я. — Ее надо было убрать с дороги.
— Да, — согласился Берти. — Это совершенно очевидно.
— А поскольку Конкон запорол все дело и тем самым втянул в эту историю нас, его убрали.
— Кто?
— Его же люди, разумеется, — сказал я. — А теперь смотри: как только Михельсен узнал, что операция в лагере сорвалась, он проявил себя с наилучшей стороны: окончательно поменял фронт, связался с американцами и попросил, чтобы его как можно быстрее забрали и поместили в безопасное место. Теперь он бравый американский агент, который поставил товар. Так говорит Зеерозе, со слов американцев. Помимо этого они рассказали, что русские предприняли еще одну попытку заполучить в свои руки Ирину, когда мы уже были в Гамбурге.
— Норвежский матрос, — вспомнил Берти.
— Да. Американцы и сами хотели обезвредить Ирину. Они ведь не знали, какие у нас были на нее планы. Мой торговец аптекарскими товарами и его дружок. Теперь американцы ведут себя миролюбиво, поскольку мы крепко удерживаем здесь Ирину.
— А еще господа из Ведомства по охране конституции. Премиленько, — усмехнулся Берти. — Где же сейчас торчит Билка? Он с подружкой и Михельсен?
— В безопасном месте. Под защитой американцев.
— И где же такое место? — спросил Берти.
— Этого я не знаю. Зеерозе не сказал. Очевидно, американцы ему этого не сообщили. Так спокойнее.
— Но мы должны это разузнать, — сказал Берти.
— Конечно, — кивнул я. — Забавно.
— Что забавно?
— А то, что они не сказали Зеерозе, где прячут Билку с компанией. А нечто гораздо более важное сказали.
— Что?
— Когда компания улетает в Хельсинки. Хотя это может быть и неправдой, всего лишь отвлекающим маневром.
— Или они чертовски уверены, что больше ничего не может им помешать, и желают максимум паблисити. Не забывай, сколько мы всего уже разузнали и какие фото есть у «Блица».
— Насколько я знаю американцев, господин Энгельгардт прав, — подал голос Жюль. — Все ради паблисити. Мировые сенсации. Соцлагерь не защищен. Непобедимые американцы. Так и будет.
— Так ли? — задумчиво проговорил я. — Не уверен…
— Поэтому сначала мы должны выведать, где на самом деле скрывается Билка. Потом уж я его выслежу. Когда он, значит, летит вместе с остальными? — спросил Берти.
Я вытащил записку с именами товарищей-маки, спасенных Зеерозе, которую мне в качестве пароля давал Жюль и которую я всю исписал с обратной стороны.
— Это должно случиться сегодня вечером, — объявил я, безмозглый идиот, не подозревая о вмонтированном в радио микрофоне. — Под охраной, конечно. Билка, подружка, Михельсен. Сначала забрать микрофильмы в Хельсинки. Зеерозе сказал, они летят самолетом «Пан-Америкен Эйрлайнз». Из Фульсбюттеля в 19.40. Садятся в Хельсинки в 22.30. И ровно в полночь отлет в Нью-Йорк тем же рейсом. Так что у них будет достаточно времени. Зеерозе сказал, что я в любом случае должен остаться сегодня вечером с Ириной, чтобы с ней ничего не случилось. Если мне надо передать сообщение или понадобится информация, господин Жюль должен сходить для меня в бар и позвонить. Кстати, господин Зеерозе никому так не доверяет, как вам, господин Жюль.
— Мерси, месье. Очень мило со стороны месье Зеерозе. Я его не разочарую.
— А один из нас должен полететь в Хельсинки, сказал милый месье Зеерозе, — поднялся, прихрамывая, Берти. — А поскольку из нас троих остается лишь один, мы должны как можно быстрее купить милому месье Берти билет. До Хельсинки и до Нью-Йорка. Какое счастье, что у меня есть теплое пальто.
— Ты, конечно, должен оставаться в тени, но в то же время следить за всей компанией и снимать что есть мочи.
— Это самая простая вещь на свете. Обычное дело, — сказал Берти. — Справлюсь, мне бы сначала узнать, где скрывается Билка с сопровождением.
— Планы стран-участниц Варшавского Договора, мон дье, — произнес Жюль.
— Да, — сказал Берти, — нам предстоит рассказать маленькую симпатичную историю. — Он обратился ко мне: — Как подумаю о том, что русские сейчас не сидят сложа ручки, мне было бы приятнее иметь оружие.
Я подошел к гардеробу, вынул «кольт» из своего пальто из верблюжьей шерсти и протянул Берти. Он сунул его в нагрудный карман своей куртки, который сразу заметно оттопырился.
— Подбери ему другое местечко, — посоветовал я. — Так ты просто не пройдешь в самолет.
— У меня толстое пальто, — возразил Берти. Мы услышали шорох и оглянулись. В проеме двери в спальню стояла Ирина. Теперь на ней был желтый джерсовый костюм и лаковые кожаные лодочки, она приблизилась к нам походкой манекенщицы, положив руку на бедро. Девушка улыбалась, и все мы не могли отвести от нее глаз. Из радиоприемника доносились последние такты «Голубой рапсодии». Ирина остановилась и спросила официанта:
— Вы все еще беседуете? А вас не могут позвать в другом месте?
— У меня есть двое коллег, мадам, — ответил Жюль с легким поклоном. — Очаровательно, просто очаровательно. А теперь прошу меня извинить.
Я открыл и снова запер за Жюлем дверь номера — так я делал, когда приходил или уходил любой. Я был безумно осторожен, да, безумно…
— В самом деле, Ирина, вы выглядите потрясающе, — произнес я, возвращаясь в салон.
Берти присвистнул.
— Женщина моей мечты, — воскликнул он.
— Моей мечты, — поправил я. — Ирина, вы разрешите совсем маленький поцелуй… — Я не договорил, потому что ее лицо вдруг застыло и побелело. Улыбка исчезла, она зарыдала и побежала назад в спальню.
— Что это с ней? — озадаченно спросил Берти.
— Музыка, — пояснил я, выключая радио. — Проклятая музыка. Именно сейчас. Именно для Ирины. Это ведь была их песня — ее и Билки.
Из приемника грустно и томно лились сладкие звуки «Reigen»…[93]
— Ах ты, дьявол, — сплюнул Берти.
Я вдруг стал нервничать. Ну вот, опять. В моей жизни — не знаю, как у вас, — все происходит дважды. Большая любовь, большие разочарования в людях, тяжелые катастрофы, спасение из кажущихся безвыходными ситуаций, смертельная опасность. Нет, в смертельной опасности я был пока только один раз. А так — абсолютно во всем. Даже с песнями. Сначала Карел и «Strangers in the Night». А теперь Ирина и «Reigen». Жутко, уже немного жутко.
Берти спросил:
— Что я должен…
— Ты — вообще ничего, — сказал я. — Сиди здесь и жди. Это должен попытаться я. — Я пошел в спальню и закрыл за собой дверь. Ирина лежала ничком на кровати и рыдала на золотистом покрывале. На кровати, на ковре — повсюду лежали открытые коробки и надорванная подарочная бумага. Я присел на край кровати, погладил Ирину по плечам и успокаивающим голосом начал уговаривать ее.
— Ну не надо… Пожалуйста, Ирина, перестаньте… Никто ж не виноват, что поставили именно эту песню. Я специально для вас заказал немного музыки… чтобы вам было повеселее…
— Наша… песня… — Ирина продолжала плакать навзрыд, сотрясаясь всем телом. — Наша песня…
— Да, я знаю. Но и вы ведь знаете, что ваш жених самым подлым образом обманул вас с другой и что…
— Ну и что? — Она вдруг резко выпрямилась, ее лицо оказалось рядом с моим, глаза горели. — Ну и что? Он меня обманывает! Я ненавижу его? До самой смерти своей, слышите, до самой смерти я буду любить человека, который меня обманул!
— Ну хорошо, — сказал я и вдруг почувствовал себя больным и старым. Возбуждение последнего часа улетучилось. — Что ж, любите. Ради Бога.
Она вцепилась в жакет от костюма, порывисто расстегнула его и швырнула на пол, оставшись передо мной в белом лифчике.
— Все, что вы мне подарили, можете забрать обратно! Я не хочу этого! Я плюю на это! — Последние слова она уже прокричала. Я вспомнил, что, по словам Жюля, в этой комнате можно кричать сколько угодно, а потом вспомнил, что мне надо уходить, а оставить Ирину одну в таком состоянии нельзя.
Я сказал:
— Я ходил звонить. Ваш жених совершил очень неблаговидный поступок.
— Что за поступок?
Мне уже было все равно, главное, чтобы она успокоилась, поэтому я произнес:
— Он предал вашу страну. Свою и вашу. Не говорите ничего. Я в этом так же уверен, как в том, что вы самая красивая девушка, которую я когда-либо встречал. Мы должны его найти, Ирина. Это наша работа. Он не тот Ян, о котором вы грезите. Он жадный, подлый, бесхарактерный и безответственный негодяй…
Она изо всех сил залепила мне пощечину, моя голова буквально отлетела в сторону. В следующую секунду она замерла:
— Извините.
— Да, разумеется, — произнес я. Щека горела. Я вытащил свою фляжку и сделал глоток.
— Я очень сожалею.
— Да ладно.
Она пролепетала:
— Я так многим обязана вам… своей безопасностью… наверное, и своей жизнью… и вытворяю такое… Я ненормальная, вы видите — я ненормальная.
— Вы абсолютно нормальны. Вероятно, на вашем месте я испытывал бы те же чувства. Наверное, это здорово, когда тебя так любят, как этого господина Билку. Только этот господин Билка плюет на это, ему в тягость такая любовь — неужели вы этого так и не поняли?
— Поняла, — проговорила она очень тихо. — Я это понимаю. Вы должны простить меня.
— Уже простил.
— И набраться терпения со мной. Я действительно немного помешанная, поймите.
— Вы знаете, я тоже немного помешан, — вздохнул я, — и не только на вас, а вообще.
— Вальтер… — Это был слабый шепот.
— Да?
— Я сожалею обо всем, что сказала… Не обижайтесь на меня… Я была так рада новым вещам… У меня таких красивых никогда не было… Это больше не повторится… Я клянусь вам.
— Ни в коем случае не должно повториться, — произнес я. — Потому что мы опять вынуждены оставить вас одну и хотели бы быть уверены, что вы не натворите глупостей.
— Я ведь говорю, что клянусь… — Ирина замолкла. — Вы не верите мне! — Я молчал.
— Вы не верите мне! — воскликнула она.
Я покачал головой.
Она вдруг схватила мою голову двумя руками, приблизила мое лицо к своему и поцеловала в губы, и от сладости этого поцелуя исчезли все мои страхи и заботы, беспокойство и грусть.
— Теперь ты веришь мне? — прошептала Ирина.
— Да, — ответил я, обнял ее и снова поцеловал. Ее губы стали совсем мягкими, язык проник в мой рот и встретился с моим. Я подумал, что от меня должно нести виски и сигаретами, и мне стало неловко, но поцелуй продолжался. Дождь хлестал по окнам, в спальне уже сгустились сумерки, и если бы нас кто-нибудь увидел, то решил бы, что у нас безумная любовь.
Я уже писал, что не думал в те часы о том, что все в жизни, любой поступок, любая вещь, даже любой поцелуй лишь наполовину правда, а наполовину — ложь. Мы живем в этом мире одни, каждый из нас — более трех с половиной миллиардов людей — живет во мраке своего существования, в джунглях бытия и по законам джунглей.
Держа Ирину в объятиях и страстно целуя ее, я вспомнил рассказ Берти после его возвращения из Вьетнама. Там был один американский солдат, негр, он сидел в лазарете в инвалидном кресле и вдруг свалился на пол. У негра были ампутированы обе ноги выше колена. Берти поспешил помочь ему, однако инвалид ударил его и заорал: «Take your hands off me, you goddamn son of a bitch! Leave me alone! Everyone has to fight his own battles!»[94]
Берти ему сказал: «But all I want to do is to help you».[95] А негр ответил: «Alone! He has to fight his battles alone. Everyone. Always».
«Один! Он должен сражаться один. Каждый. Всегда».
13
Первое, что услышала, проснувшись, фройляйн Луиза, было множество голосов, как мужских, так и женских, грохот пишущих машинок и дикие вопли. Она открыла глаза и испуганно вскочила. Что произошло? У нее немного болела и кружилась голова, она чувствовала себя оглушенной. Фройляйн обнаружила, что лежит в скудно обставленной комнате на старом кожаном диване, прикрытая своим зимним пальто.
На стенах висели вид Любека с высоты птичьего полета и целая доска с фотографиями разыскиваемых. Из четырех окон одно было большое, зашторенное зеленой занавеской.
Где-то рядом раздался пронзительный женский голос:
— Старая скотина хотел обязательно в зад, а я ему сказала, это стоит особо, ну он и выдал мне особо! Так ужрался, что уже не соображал, где зад, где перед! А теперь говорит, что я его обокрала! Ну разве не свинство? Самое настоящее свинство!
— Спокойно, Сузи, спокойно, — раздался другой женский голос. — Здесь нельзя орать. Сама знаешь, не в первый раз здесь. Пошли со мной.
— Куда?
— Вниз, в подвал. Ненадолго, пока у нас не будет ордера на твой арест.
— Я убью вас! Я вас всех убью!
Шумная возня, звук падающего стула. Разноголосица. Очевидно, Сузи тащили силком. Ее вопли и отборная брань еще долго не утихали.
— Этой срочно нужно уколоться, — услышала фройляйн Луиза мужской голос. — Через час она себя в кровь разобьет в своем бешенстве.
— Через час от нее уже надо избавиться, — произнес второй голос. — Старик, как меня тошнит от этой наркоты.
— Пора привыкнуть, — произнес первый голос.
Сузи продолжала орать, но уже вдалеке. С грохотом захлопнулась дверь. Ор стал совсем тихим. Шаги приблизились.
— Эй! — крикнула фройляйн хриплым голосом, потом откашлялась и снова: — Эй! Пожалуйста!
В помещение вошел полицейский. Фройляйн Луиза узнала его. Это ведь был тот самый унтер-офицер… унтер-офицер… ну как его… А, Лютьенс, конечно, который привез ее из отеля «Париж»!
— Ну, как дела? — приветливо спросил высокий молодой полицейский. — Выспались?
— Где это я? — Фройляйн все еще была немного не в себе.
— В участке Давидсвахе, — ответил Лютьенс. — Вы разве не знаете?
— Понятия не имею… А что же со мной случилось? — Она вскрикнула. — Где моя сумка?
— Не беспокойтесь. Мы ее хорошо спрятали, там, в экспедиции.
— Экспедиция? Давидсвахе? Как я сюда попала?
— Но фройляйн Готтшальк, вы же должны помнить, как приехали сюда…
— Понятия не имею.
— …и как комиссар Сиверс из комиссии по убийствам потом беседовал с вами. В комнате допросов.
— Кто беседовал со мной? Комиссар из комиссии по убийствам?
— Да, из-за господина Конкона. Убийство в отеле «Париж», фройляйн Готтшальк!
— Вот теперь начинаю припоминать, — произнесла фройляйн. — Значит, он беседовал со мной?
— Да.
— О чем?
— Обо всем, что вам было известно. Вы очень подробно рассказывали.
«Что я рассказывала? — проносилось в голове у фройляйн. — Что, ради всего святого?»
Она вдруг услышала голос умершего американского пилота. Он доносился с той стороны, где стоял Лютьенс.
«Луиза сейчас в растерянности. Она ничего не помнит. Она не выдала ничего, что относится к нашей тайне. Она и не может этого, потому что мы всегда с ней!»
— Слава Богу! — произнесла вслух фройляйн.
— Что вы сказали? — переспросил Лютьенс.
— Ничего, ничего, — торопливо проговорила фройляйн Луиза. — Господин комиссар остался доволен?
— Да, очень.
— А где он сейчас?
— И след простыл! — Лютьенс засмеялся. — Наверное, в управлении.
— И след простыл? — Фройляйн сбросила пальто и поднялась. При этом ее немного качало.
Лютьенс подскочил, чтобы подхватить ее.
— Почему же след простыл? Когда это было… Сколько сейчас времени?
Унтер-офицер посмотрел на часы.
— Начало четвертого, — сказал он.
— Что? — Фройляйн Луиза не на шутку испугалась. — Но я же приехала к вам ни свет ни заря… Вы, вы меня привезли… И столько времени уже прошло?
Лютьенс равнодушно произнес:
— Главное, вам опять получше. Я вам чай сделал здесь рядом, на кухне.
Фройляйн Луиза опустилась на старый диван, пружины жалобно скрипнули.
— И здесь я пролежала много часов подряд…
— Да, — сказал Лютьенс, сходивший на кухню по соседству и вернувшийся с подносом. — Выпейте сначала чего-нибудь.
— Но как же это произошло?
— В конце ваших показаний вы потеряли сознание. Врач из комиссии по убийствам, который, к счастью, еще не ушел, сказал, что это был просто обморок. Он сделал вам укол и сказал, что вы переутомились и чтоб мы дали вам выспаться, пока вы сами не проснетесь. Вот мы вас здесь и положили, в общей комнате. На входе суматоха, а в камерах неуютно. Вы спали как сурок, я пару раз к вам заглядывал. — Лютьенс налил чая в старую чашку. — Выпейте-ка, фройляйн Готтшальк!
Фройляйн Луиза почувствовала жажду. Она поинтересовалась:
— А господин Раймерс?
— Этот внизу.
— Где внизу?
— В подвале. Камеры в подвале.
— Но почему же вы его арестовали?
— Ну вы даете! — Лютьенс опять засмеялся. — А что же прикажете с ним делать? Мужчина задержан и помещен в КПЗ, пока мы его не сдадим следователю. Как-никак это была кража.
Фройляйн Луиза едва не выронила чашку из рук.
— Нет! — воскликнула она. — Нет, я вас умоляю, господин унтер-офицер! Я не хочу этого! Я… я не хочу, чтобы вы арестовывали господина Раймерса! Я заявляю, что я не пострадала. Я прощаю его! Он же просто несчастный заблудший! И он вовсе не украл мою сумку!
— Потому что это было в последний момент предотвращено. Нет-нет, фройляйн Готтшальк, только не разволнуйтесь снова. К вам это больше не имеет никакого отношения. Только к закону. Мы просто обязаны задержать этого Раймерса.
— Но это ужасно… бедный господин штандар… бедный господин Раймерс! — воскликнула фройляйн.
— Что значит — бедный? Старый мошенник, вот он кто, — сказал Лютьенс. Его позвали. — Отдохните еще немножко, вот что самое главное. — Приветливо кивнув фройляйн Луизе, он исчез.
14
Минут через пятнадцать фройляйн Луиза поднялась. Оглядевшись, она обнаружила закрытые двери и открытые переходы. Через один из них она попала в коридор. Справа у стены стоял автомат с сигаретами, лестница вела вниз, в подвал, где какой-то пьяный горланил похабные частушки.
Женский голос взвизгнул:
— Закрой пасть!
Фройляйн Луиза проходила мимо множества комнат. На дверях висели таблички: «Женская полиция». «Бюро 3». «Бюро 2». «Бюро 1». Потом она наткнулась на открытый пролом в стене и неожиданно оказалась в очень большой комнате, где у нее зарябило в глазах от несчетного количества полицейских обоих полов, сотрудников уголовной полиции и арестованных. Сотрудники сидели за письменными столами с пишущими машинками, а рядом сидели мужчины и женщины, которых они допрашивали. Еще фройляйн Луиза заметила там деревянную перегородку, отделявшую часть помещения, и стеллаж с большими полками, где лежали вещи, вероятно, изъятые у задержанных. Под полками находился ряд светящихся кнопок, над каждой стоял номер камеры. В одном углу свешивался государственный флаг. На стенах фройляйн рассмотрела карты города и фотографии двух полицейских в черных рамках. «Вероятно, убиты во время несения службы», — подумала она. Еще один пролом в стене вел в другое большое помещение, из которого доносились сообщения радиофицированных полицейских машин. Фройляйн Луиза обратила внимание на молодого сотрудника, сидевшего перед аппаратом. Потом она вдруг увидела своего провожатого. Его как раз в сопровождении двух сотрудников привели в помещение для допросов. Он был без пальто, его синий костюм имел жалкий вид, как и сам мужчина — с посеревшим лицом, весь дрожащий от страха.
— Господин Раймерс! — вскрикнула фройляйн.
Он посмотрел на нее и зарыдал. Она хотела было броситься к нему, но ее остановил полицейский.
— Нельзя, — вежливо произнес он. — Нельзя, фройляйн Готтшальк. Вернитесь, пожалуйста, в зал ожидания и еще немного отдохните.
— Но я ведь только хотела помочь господину Раймерсу…
— Вы не можете этого сделать.
— Почему…
— Пожалуйста, — произнес подошедший к ней унтер-офицер Лютьенс. — Пожалуйста, фройляйн Готтшальк, я же вам все уже объяснил. Вы вообще не можете ничего сделать. Вы…
— Я не хочу, чтобы арестовывали господина Раймерса! Я не хочу этого. Пожалуйста, умоляю, отпустите его! И мне тоже надо идти. У меня еще столько дел. Только сначала пообещайте, что ничего не сделаете господину Раймерсу. Я прощаю ему, я ему все прощаю.
— Потише! — произнес сидевший за одним из столов широкоплечий сотрудник.
— Пожалуйста, фройляйн Готтшальк, прекратите. Что будет дальше с господином Раймерсом, будете определять уже не вы. А вам придется еще немного подождать.
— Почему?
— Из-за окружного врача, — ответил крупный чиновник.
— Какого еще врача?
— Которого мы вызвали. Он с минуты на минуту может быть здесь. Ужасно занятой человек.
— А зачем вам окружной врач?
— Мы ведь не можем никого просто так направить в психиатрию, — пояснил Лютьенс. — Это не положено. Сначала это лицо должен осмотреть окружной врач. И если он приходит к заключению, что умопомрачение чревато опасностью для себя или для других, он дает направление. Ну, пожалуйста, возвращайтесь назад в зал ожидания, фройляйн Готтшальк.
«Окружной врач. Направление в психбольницу. Боже праведный! — проносилось в голове у фройляйн Луизы. — За что мне такие тяжкие испытания? Может, я должна скоро попасть к своим друзьям?»
15
Примерно через четверть часа фройляйн Луиза, сидевшая на старом диване, услышала шаги и голоса в коридоре. Она узнала голоса Вильгельма Раймерса и унтер-офицера Лютьенса. Тот как раз говорил:
— Может, вы хотите сюда зайти, господин доктор? Первое бюро свободно.
Дверь открыли и закрыли, шаги удалились.
«Минутку! — подумала фройляйн и схватилась за голову. — Минутку, что здесь происходит? Врач пришел не ко мне? Он удалился с господином Раймерсом? Да что же, здесь все с ума посходили?»
Фройляйн Луиза бесшумно поднялась и прокралась по опустевшему тихому коридору к первому бюро. Приложив ухо к деревянной двери, она затаила дыхание.
Внутри уже шла беседа. Раймерс как раз произнес:
— Да, излучение, господин доктор.
— Какое излучение?
— Электромагнитное, — сказал Раймерс. — Оно исходит от многих электростанций, разбросанных по городу.
— Ах вот как, — заинтересованно произнес врач. — Ну и?
— И эти лучи всегда направлены прямо на меня, господин доктор. Где бы я ни был, куда бы ни шел, и днем и ночью, всегда. Таким образом, люди на станциях всегда могут слышать, что я говорю… даже шепотом.
— Даже шепотом, так-так, — сказал врач.
«Боже милосердный!» — ужаснулась фройляйн Луиза. Она даже ненадолго закрыла глаза.
— И сейчас люди на станциях все слышат, — произнес Раймерс в первом бюро затравленным, перепуганным голосом. — Я это вам рассказываю, доктор, потому что больше не выдержу. Это вечное преследование! Этот вечный страх! Я не могу больше. Нет, я больше не могу. Поэтому я и хотел украсть сумку этой дамы.
— Почему?
— Там много денег. Я подумал, что смогу убежать. В другую страну. Подальше. Но теперь я понял, что это было бы бесполезно. Лучи бы преследовали меня и там. Они не дали бы мне покоя, эти люди.
«Это же невозможно! — проносилось в голове у фройляйн. — Это же невозможно!»
Тут она вновь услышала голос своего умершего американца: «Это возможно. И еще гораздо большее. И все имеет свой смысл. Даже если несчастные земные люди не могут этого постичь».
Фройляйн Луиза сложила руки, комок подступил у нее к горлу.
Тем временем врач за дверью задал вопрос:
— А что же это за люди, господин Раймерс?
— Они принадлежат к одной организации. Вы понимаете?
— Я понимаю.
— И эта организация стережет меня. Уже много лет стережет.
— Да, много лет, господин Раймерс.
— За мной всегда следует несколько машин с электростанции, — произнес Раймерс. — По ночам они подают друг другу световые сигналы. Я все точно вижу. Вы не верите мне, доктор?
— Ну разумеется, я верю вам, дорогой господин Раймерс. Вы уже когда-нибудь рассказывали… эту историю другим людям?
— Нет, я остерегался! Ведь никогда не знаешь, что за человек перед тобой. Вам я первому рассказываю, чтобы вы правильно поняли мою ситуацию, чтобы вы знали, зачем мне были нужны деньги, чтобы вы, может быть, могли бы спасти меня.
— Это я и сделаю. Почему же эти люди преследуют вас?
— К сожалению, это все, что я могу сказать, — ответил Раймерс. — Вы должны понять: дальнейшая информация опасна для моей жизни.
— Понимаю. Прекрасно понимаю, — сказал окружной врач. — Будьте добры, побудьте здесь немного. Я сейчас вернусь…
Фройляйн Луиза услышала звук отодвигаемого стула. Она опрометью бросилась вперед, в переполненный людьми, шумный зал, где допрашивали задержанных. Она встала в углу, возле плевательницы, предусмотрительно поставленной там для тех, кого задержали в состоянии опьянения.
Окружной врач, маленький толстый мужчина с нервным лицом, вошел вслед за ней. Не обращая внимания на Луизу, он подошел к письменному столу, за которым сидел широкоплечий чиновник.
— Ну? — спросил тот. — Что с ним?
— Вы правильно угадали, — сказал врач. — Мания преследования с галлюцинациями. Я немедленно выписываю направление на госпитализацию. — Он сел и достал бланки из своего бумажника.
Умерший американский пилот с бомбардировщика сейчас стоял за спиной окружного врача, это фройляйн Луиза точно знала, хотя и не видела его. Она тихонько сказала ему: «Благодарю тебя. Ты снова вселил в меня мужество».
«Луиза должна доверять нам», — сказал умерший американец.
Фройляйн мужественно выступила вперед. Широкоплечий чиновник поднял на нее глаза.
— Я очень тороплюсь, — решительно произнесла фройляйн Луиза. — Я хотела бы получить назад свою сумку и уйти. Пожалуйста.
— Вы в самом деле уже хорошо себя чувствуете? — спросил чиновник.
— Абсолютно, — сказала Луиза. Врач на мгновение оторвался от бланка и снова продолжил выписывать направление Раймерсу. — Очень хорошо, — добавила она.
— Под вашу ответственность, — объявил широкоплечий чиновник. — Лютьенс, отдай фройляйн ее сумку.
Молодой унтер-офицер достал тяжелую сумку со стеллажа с большим количеством полок.
— Все на месте, — сказал он. — Я пересчитаю в вашем присутствии деньги…
— Это совсем не нужно, — остановила его фройляйн Луиза. — Здесь ведь ничего не исчезает! — Она помедлила, потом сказала: — Простите ради Бога, господин доктор.
— Да? — Нервный, перетрудившийся врач снова взглянул на нее.
— Господин Раймерс…
— Что с ним?
— Я как раз вас хотела спросить, доктор! Он теперь попадет в психиатрическую лечебницу?
— Конечно, конечно.
— А обвинение в краже?
— Оказалось излишним. Он наверняка останется в клинике.
— В том-то и дело, — сказала фройляйн Луиза. — Я потому и спрашиваю. У него же совсем нет денег. И это мне кажется ужасным… — Она порылась в своей сумке. — Я бы хотела кое-что передать ему, чтобы ему было получше и он смог бы себе что-нибудь купить, если это затянется… Сигареты или там умывальные принадлежности, поесть что-нибудь, я уж не знаю… — Она положила купюры на письменный стол. — Вот, пожалуйста, — сказала она, — я бы хотела это ему передать.
— Что, четыреста марок? — ошарашенно спросил широкоплечий чиновник.
— Но это же ведь мои деньги! А он такой несчастный! Я как раз слышала, что сказал господин доктор. Мания преследования. Бог его знает, что это такое?
— Послушайте, этот человек хотел украсть у вас деньги… — начал Лютьенс, однако фройляйн перебила его:
— А я хочу ему кое-что подарить, потому что мне его жалко.
Последовала пауза. Мужчины переглянулись.
— Ну ладно, — произнес наконец широкоплечий. — Мы не можем вам запретить что-то дарить ему. Я дам вам расписку.
— Мне не нужна расписка, — сказала фройляйн Луиза.
— Но нам нужна ее копия, — произнес сотрудник, уже взявший блокнот и начавший писать. — Все должно быть, в конце концов, по правилам. А то вы еще подумаете, что мы присвоили деньги.
— Такая мысль мне бы и в голову не пришла! — воскликнула фройляйн.
— Береженого Бог бережет, — произнес широкоплечий и протянул фройляйн квитанцию, на которую он еще поставил печать.
— Большое спасибо! — сказала фройляйн. — И я могу теперь идти?
— Разумеется, фройляйн Готтшальк. Ваш адрес у нас есть, если что. Но вы действительно хорошо себя чувствуете?
— Я чувствую себя превосходно. — Она кивнула головой в знак приветствия. — Огромное спасибо, господа. Особенно вам, господин Лютьенс. Чай был просто чудо.
— Не стоит благодарности, — ответил Лютьенс.
— Ну ладно, — сказала она, — тогда я пошла. Всего доброго, господа.
Фройляйн Луиза пожала всем руки, в том числе и врачу.
Лютьенс проводил ее через вращающуюся дверь в загородке до лестничной клетки.
— До свидания, фройляйн Готтшальк, — попрощался он. — Всего вам самого доброго. И поаккуратней с вашими деньгами!
— Непременно, — пообещала фройляйн и спустилась по девяти каменным ступенькам к выходу. Внизу она еще раз обернулась и помахала Лютьенсу. Он помахал в ответ. Фройляйн Луиза вышла на улицу, открыла свой зонтик и, сделав пару шагов, увидела такси. Она подняла руку, такси остановилось.
Фройляйн Луиза села и назвала шоферу адрес:
— Пожалуйста, Эппендорфер Баум, 187.
— Будет сделано, сударыня, — сказал шофер и поехал вверх по Реепербан, под моросящим дождичком. Фройляйн Луиза сидела на заднем сиденье, с сумкой на коленях, на ее губах играла умиротворенная улыбка.
Тем временем на Давидсвахе из дежурного помещения вышел дежурный полицейский и зашел в комнату допросов. Подойдя к столу, за которым все еще писал врач, он через его плечо прочел написанное.
— Ну надо же, — протянул пожилой дежурный. — Я сразу подумал, что он не совсем нормальный. Лютьенс, взгляните-ка на этого Раймерса, а то он еще сделает себе что-нибудь.
— Так точно! — Лютьенс исчез.
Молодой сотрудник, обслуживавший передающую установку, которая поддерживала радиосвязь с полицейскими машинами и рядом с которой стоял телетайп, зашел в помещение. В руке он держал лист бумаги.
— В чем дело, Фридрихе? — спросил дежурный.
— Женщина, эта женщина, фройляйн Готтшальк была ведь здесь…
— Да, она ушла, — ответил широкоплечий сотрудник из-за письменного стола. — А что?
— Ушла? Замечательно. — Фридрихе хлопнул по бумаге. — Вот, завалилась под другие телеграммы. Еще с ночной смены. Я только сейчас обнаружил.
— И что там? — спросил дежурный.
— «Всем участкам, — прочитал Фридрихе. — Из управления… сегодня ночью… По сообщению психиатра Людвигской больницы в Бремене, некоего доктора Эркнера, душевнобольная по имени Луиза Готтшальк, очевидно, сбежала из лечебницы и была замечена в поезде, следовавшем на Гамбург…»
16
Дождь в этот день так и не прекратился.
Во взятом напрокат «рекорде» мы отъехали с Берти довольно далеко на северо-запад. В половине пятого уже была настоящая ночь, и все машины ехали с включенными фарами. Капли переливались на лобовом стекле. Берти сидел рядом, а на заднем сиденье лежали его саквояж и дорожная сумка с пленками, а также обе камеры — «Хасселблад» и «Никон-Ф».
Из номера я еще позвонил Эдит и сказал, что буду опять ждать у больницы, когда она выйдет от Конни, потом я взглянул на Ирину, которой дал до этого десять миллиграммов валиума. У нее не было привычки к валиуму, поэтому лекарство подействовало сильно. Она лежала совершенно вялая на постели и лишь слабо махнула мне, когда я зашел попрощаться.
В бюро путешествий «Метрополя» мы забронировали билет Гамбург — Хельсинки рейсом компании «Пан-Америкен Эйрлайн» в 19.40 из Фульсбюттеля и тем же самолетом Хельсинки — Нью-Йорк в полночь. Места на оба рейса еще были, билеты нужно было выкупить и получить в представительстве аэрокомпании в Фульсбюттеле. Берти настолько привык мотаться по свету, когда рассчитан каждый час, что ничего не обсуждал. Он ни радовался, ни жаловался, лишь быстро связался по телефону с матерью — из «Клуба 88» — и попрощался. Пока он складывал вещи, я еще раз просмотрел все вырезки из архива про этого Карла Конкона. Из них следовало, что Гамбургское отделение MAD находилось на Фон-Хуттен-штрассе, в районе Баренфельд, в самой западной части города, у Лютерпарка и Оттензенского кладбища. Там, на западе, одно кладбище соседствовало с другим, было и еврейское. Я сунул в карман записку с адресом и фотографию Яна Билки, которую выпросил на время у Ирины, как только мы приехали в Гамбург. Билка был на этом снимке в гражданском и выглядел весьма довольным. На обратной стороне было написано что-то по-чешски. Ирина перевела мне: «С любовью. Твой Ян».
Мы спустились вниз вдоль берега Альстер, доехали до улицы Альстергласис, потом проделали небольшой отрезок пути вверх по Симерс-аллее, миновав парк «Плантен и Бломен» и новый Конгресс-Центр, который еще строился, перестроились влево и поехали по улице Шредерштифтштрассе до больницы Святой Элизабет, тут я свернул на улицу Кляйнер Шэферкамп и поехал по Альтонаер-штрассе до огромной Штреземаннштрассе, а по ней уже на запад. Это была утомительная поездка, я размышлял о том, какой же все-таки огромный город этот Гамбург, плетясь в потоке машин и поглядывая на людской поток, стремящийся по тротуарам.
— Как много людей, — сказал я Берти, и он ответил:
— Да, ужасно много людей.
Я ехал все дальше на запад по Штреземаннштрассе, мимо фабрик и церквей, до огромного предприятия «DEMAG».[96] За ним Штреземаннштрассе заканчивалась, разветвляясь на Фон-Зауэр-штрассе и Баренфельдер-шоссе. Там я резко свернул на север и по Норбургер-штрассе попал на Фон-Хуттен-штрассе. Помимо Лютерпарка там был еще рядышком Боннепарк и много зеленых насаждений. За пересечением с Регерштрассе я остановился, и дальше мы пошли пешком по дождю и темноте, мимо старых домов, все сплошь вилл начала века, скрытых палисадниками. Здесь, на окраине города, хорошо пахло влажной листвой, деревьями и травой.
Берти повесил на себя обе камеры, спрятав их под пальто. Было совсем сумрачно.
— Ты не оставил бинокль в машине? — спросил Берти.
— Нет, — ответил я. Мощный полевой бинокль болтался на моей груди под пальто, на ремешке. Мы часто им пользовались, когда вели совместные расследования. Он позволял видеть на фантастические расстояния.
Я заметил, что повязка на голове Берти становилась все мокрее и мокрее, поскольку он никогда не носил головного убора. Но когда я пытался сказать ему об этом, он лишь ругался и говорил, что ему наплевать на голову, потому что в такую погоду у него особенно болит нога. Он действительно хромал сильнее обычного.
Мы подошли к высокой решетчатой ограде, прошли вдоль нее и попали к въездным воротам, которые вели в большой голый сад. Несколько в глубине стояло кирпичное здание. Это и был дом MAD, как было сказано в материалах из нашего архива. Мы решили притвориться полными идиотами и спросить, почему люди из контрразведки охраняют в больнице нашего Конни Маннера. Если нас вообще пустят. А еще мы хотели…
— Бог жив, — произнес тихий голос. Я обернулся.
Прижавшись к решетке, под свисающими голыми ветками стоял худенький человечек, убого одетый, с добрым лицом и глубоко ввалившимися от голода щеками. Человечек держал в целлофановом пакете десяток журналов, и я прочитал название верхнего журнала: «Сторожевая башня».
— В чем дело? — спросил Берти.
— Бог жив, — снова сказал человечек, тихо и вежливо.
— Ясное дело, жив, — согласился Берти.
— Сколько стоит один номер? — спросил я.
— Одну марку, сударь.
— Дайте мне пять, — сказал я. Он обстоятельно вынул их из пакета и протянул мне. Я дал ему десять марок и сказал, чтобы сдачу оставил себе.
— Спасибо вам, сударь. Я отдам бедным.
— Лучше купите себе на них хлеба вдоволь и колбасы в придачу, — заметил Берти. — У вас вид голодного человека.
— Я действительно голоден, — сказал человечек, явно свидетель Иеговы.
Я ничего не сочиняю, не лгу ни капли, именно так все и было, я встретил их всех, одного за другим, людей, имевших национальность или веру умерших друзей фройляйн Луизы.
— Так если вы голодны, почему бы вам не уйти отсюда и не поесть?
— Я могу отсюда уйти, только когда продам все журналы.
— Кто это вам сказал? — удивился Берти.
— Я сам говорю. Это обет.
— Послушайте, сегодня вечером здесь пройдет очень мало людей, — сказал Берти. — Сколько номеров вы уже продали?
— Вы первые купили у меня, — ответил свидетель Иеговы. — Я стою с одиннадцати утра. Но вы взяли сразу пять. У меня осталось всего пять. Такого со мной еще никогда не случалось.
— Что? — переспросил я, разглядывая большой дом, в котором были задвинуты шторы на всех окнах. Шторы, должно быть, были очень толстые, я увидел лишь два просвета.
— Что кто-то так много… Видите ли, — сказал свидетель, — я пенсионер. Я всегда стою здесь. Я имею в виду, в этом районе. И у этого дома в том числе. Не такое уж плохое место! Многие, кто выходит или входит, покупают журнал. А я живу поблизости. Два года назад я дал себе обет, но исполнить его мне удавалось очень редко. Чаще всего я очень ослабевал под конец и у меня кружилась голова, и я уже не мог больше стоять.
— Бог воздаст вам, — сказал Берти.
— Он воздает всем грешникам, — сказал старичок. — Я очень счастлив, что вы пришли. В дождь у меня никто ничего не покупает. В дождь люди недобрые.
— А вы посмотрите иначе, — сказал я. — Вы ведь получили десять марок вместо пяти, значит практически продали все номера. Стало быть, можете идти домой!
— О нет, сударь. Тем самым я бы попытался обмануть Господа. А Господь не даст себя обмануть.
— Ну-ну, — вздохнул Берти. — Вы не знаете случайно, кто там живет?
— Много господ, — сказал старик.
— Что за господа?
— Я не знаю. Целый день кто-то входит и выходит. Некоторые в формах. И машин много приезжает. Тогда ворота открываются, автоматически. И закрываются тоже так.
— Вы когда-нибудь разговаривали с этими господами?
— О, конечно, часто. Когда они покупали у меня журналы. Очень вежливые господа, правда, необычайно вежливые. Я же говорю вам, это хорошее место. Несколько раз у меня за день раскупали все журналы. Есть и молоденькие девушки, секретарши, наверное. Они тоже иногда покупают по номеру. Да, хорошее место, — потерянно произнес он и чихнул, голодный, насквозь промерзший старый человек.
— А что это за машины? — спросил Берти.
— Ах, разные. Вчера вечером, около половины девятого, например, было совсем странно.
— И что же было странного?
— Я стоял еще здесь.
— Что, в полдевятого? — удивился Берти.
— Мой обет. Не забывайте про мой обет! Я продал всего один номер…
— Да-да, понимаем, — сказал я. — Ну и что было, в полдевятого?
— Приехали две машины, полные людей, а между машинами черный закрытый фургон, знаете, в которых мертвых перевозят.
— Так-так, — произнес Берти.
— Катафалк? — спросил я. И повторил: — Катафалк?
— Да.
Наверное, кто-то умер, подумал я, и катафалк забирает покойника.
— Ну и забрал он его?
— Ну, сначала все машины заехали в сад и за дом, мне их было не видно. Потом они сразу, через пару минут, выехали обратно, и катафалк остановился прямо около меня, потому что передняя машина встала, и водитель вышел. Он подошел к шоферу катафалка — стоял вон там, где вы сейчас стоите — и сказал ему: «Ниндорфер-штрассе, 333. Найдешь дорогу?» А шофер катафалка сказал в ответ что-то странное.
— Что именно?
— Он сказал: «К американцам? Само собой, найду. Я знаю эту улицу. Ну давай, поехали». И они все снова уехали. Я ничего не понял. Зачем они повезли труп к американцам? Что за труп? Какие американцы?
— Ниндорфер-штрассе, 333? — переспросил я.
— Да.
— Вы абсолютно уверены?
— Абсолютно уверен! Такой номер ведь легко запомнить. Что они делали с трупом на Ниндорфер-штрассе?
— Послушайте, я хочу купить у вас и остальные пять номеров. И вот еще пять марок для бедных.
— О! — он протянул мне дрожащими руками оставшиеся экземпляры «Сторожевой башни» и просветленно посмотрел на меня: — Я благодарю вас, сударь. Обет исполнен. Еще один раз за долгое время. — Он крепко пожал мою руку. — Сегодня я буду хорошо спать, потому что у меня был благословенный день. Да хранит вас Всевышний и пусть и ваш день будет благословенным.
— Да, хорошо бы, — сказал я и посмотрел вслед уходящему, с достоинством, на негнущихся ногах старику. На нем было пятнистое от сырости пальто и совсем сношенные башмаки. Я долго смотрел ему вслед.
— Ну тогда в путь, — сказал, наконец, Берти. — Ниндорфер-штрассе, 333. Везет же иногда людям. Уму непостижимо.
— Да, — сказал я, вспомнив о фройляйн Луизе, — уму непостижимо. — И еще я вспомнил торговца-антиквара Гарно и привратника Кубицкого, француза и поляка фройляйн Луизы, и о городском катафалке, номер которого записал Гарно.
17
Итак, мы отправились назад в город по Штреземанн-штрассе, свернули на Киллер-штрассе и поехали по ней на север до Шпортплацринг, дальше мимо Хагенбекс Тирпарк, по Юлиус-Фосселер-штрассе, круто уходящей вправо, а затем уже по Ниндорфер-штрассе все дальше в северном направлении. Когда мы миновали железнодорожный переезд, я опять почувствовал сквозь открытое окошко с моей стороны запах прелой листвы и леса и понял, что слева от нас, невдалеке, находится природный заповедник — Ниндорфер Гехеге. Мы оставили машину за железнодорожной насыпью и пошли пешком.
По правой стороне стояли старые дома, в двух были пивные. Номер 333 находился на другой стороне улицы, мы пересекли насыпь и оказались у длинной ограды из металлических прутьев с копьями на концах. За оградой раскинулся огромный парк с широким подъездом к большой вилле, освещенной со всех сторон мощными прожекторами. Мы дошли до входных ворот, и по другую сторону тут же начали неистово лаять и прыгать на решетку три гигантских овчарки. Берти плюнул на них, чем взбесил еще больше.
На втором этаже виллы был балкон, опиравшийся на белые колонны. В ярких лучах прожекторов, расположенных, очевидно, в траве и на деревьях, на патио около дома появились двое мужчин в темных костюмах. Я быстро вытащил бинокль, поднес к глазам и отчетливо разглядел обоих. Это были широкоплечие бугаи, настоящие боксеры. Один держал в руке пистолет. Они уставились на ворота. Пистолет напугал меня, и я непроизвольно вскинул вверх бинокль. И тут я кое-что увидел за окном, в левой части балкона на втором этаже. Я такое увидел…
— Берти, смотри, наверху!
— Вижу! — коротко бросил он. Он уже наводил «Хасселблад», щелкал и перематывал пленку и снова щелкал, а я подумал: «Если ему повезет и если у него очень хорошая пленка, то могут получиться неплохие снимки — ведь фасад был освещен не хуже декораций на съемочной площадке, а окно или его часть можно будет сильно увеличить, и даже если фото выйдет крупнозернистым, на нем все же можно будет различить мужчину и женщину».
Потому что в окне были видны именно мужчина и женщина. Они также смотрели на ворота. Мужчина был, похоже, намного выше женщины, молоденькой симпатичной блондинки. Он был в коричневом костюме, на вид около тридцати, спортивная фигура. Волосы тоже светлые, по-военному коротко остриженные, лицо удлиненное. Я еще подкрутил свою оптику, чтобы как можно лучше разглядеть его, и увидел на загорелом лице шрам на правой стороне подбородка. Это был человек, хорошо знакомый мне по Ирининой фотографии. Это был Ян Билка собственной персоной.
— Вот дьявол! — выругался Берти, продолжавший щелкать.
— Заканчивай, — сказал я. — Уходим. В сторону! — Мне пришлось кричать, потому что псы продолжали безумствовать. — Здесь сейчас будет чертовски светло.
Берти захромал за мной в сторону, и в самом деле тут же в деревьях вспыхнули два сильнейших прожектора, осветивших площадку перед въездом. Мы были уже вне пределов их досягаемости. Я увидел растерянных мужчин на патио.
— Мы его сделали! — воскликнул я. — Старик, Берти, он наш!
— Не уверен, — произнес Берти.
— Что значит не уверен?
— Я не уверен, — сказал Берти. — Как-то уж очень все гладко идет, хреново гладко.
— Да брось ты, — отмахнулся я. — Уйдем с улицы. Вон туда, в пивную. И ворота оттуда будут видны.
Мы снова перешли через железнодорожную насыпь. К нам на большой скорости приближалась машина. Обдав нас грязью, она круто повернула и остановилась с работающим двигателем в ослепительном свете прожекторов перед воротами.
Мужчина в пальто и шляпе вышел из машины и спокойно выставил себя на обозрение, чтобы бугаи могли узнать его. Они побежали под дождем по гравийной дорожке к воротам и открыли их. Мужчина пожал обоим руки, сел за руль «ситроена», въехал в парк и остановился в нескольких шагах от ворот. Охранники закрыли ворота, тоже залезли в машину, и все поехали к вилле, где вскоре исчезли в доме.
— Не может быть! — ошеломленно воскликнул я.
— Может, уже есть, — усмехнулся Берти.
— Но я же только что разговаривал с ним!
— Когда? Два часа назад! Даже больше. Если он после вашего разговора сразу рванул на аэродром и самолет был готов, он запросто мог успеть. Аэродром не так уж далеко отсюда. Машину он мог взять напрокат.
— Да, вполне возможно, — согласился я. — У «Блица» есть два частных самолета. Один наверняка был наготове.
— Ну, вот видишь, — сказал Берти. — Теперь ты меня понимаешь, когда я говорю, что мне не нравится вся эта история? Может быть, ты объяснишь мне, почему именно этот господин лично должен на всех парах примчаться к американцам и к господину Билке? — Господин, которого мы только что видели, был не кто иной, как всегда безупречно одетый обладатель самых изысканных манер — директор издательства «Блиц» Освальд Зеерозе.
18
Заведение на другой стороне улицы, которое я назвал «пивной», оказалось весьма благопристойным старым рестораном. Чтобы войти в него, нужно было спуститься с тротуара вниз по трем ступенькам. Внутри была стойка из блестящего темного дерева, темными были и деревянный пол, и настенные панели; в нишах стояли небольшие столики, а в камине ярко полыхал огонь. На каждом столике горела лампочка, на стойке стояли еще три. В некоторых нишах сидели пожилые мужчины. Они играли в карты или в шахматы и потягивали свою вечернюю кружку пива.
Официант в черных брюках и короткой зеленой куртке приветствовал нас. В это время еще тихо, объяснил он, а вот вечером приходит поесть много народа. Он предложил нам довольно богатое меню. Здесь был даже «Чивас». Действительно славное заведение. Я заказал «Чивас», Берти — кружку пива и рюмку пшеничной. Мы приподняли тяжелую штору на окне, и прямо напротив нас, в большом парке, красовалась ярко освещенная вилла. Идеальнее и не придумаешь.
Кельнер принес напитки и спросил, будем ли мы попозже есть. Я отказался, а Берти, подумав, согласился.
— В общем, я сейчас сваливаю, — сказал я, когда мы остались одни. — Мне еще нужно в больницу, забрать Эдит. Потом я должен быть в отеле. Я оставлю тебе машину, вот ключи. Когда компания выйдет, поезжай за ними. Машину оставь в аэропорту, в гараже. Ключи отдай тамошнему сотруднику гаража вместе с документами на машину. Положи в конверт на мое имя. У меня талон на прокат из «Метрополя», я заберу машину завтра. Если сможешь, позвони из Хельсинки. В «Клуб 88».
— О’кей.
— Из Нью-Йорка позвони Хэму. В редакцию или домой. Я не знаю, что со мной будет завтра. Может быть, меня уже не будет в «Метрополе». Зависит от того, что случится сегодня ночью. Я хочу увезти Ирину, как только все здесь доделаю, как можно скорее во Франкфурт. Там она и должна остаться. Мне нужно, чтобы она была рядом, когда я пишу.
— У тебя есть еще патроны к «кольту»?
— Да. — Я случайно увидел в квартире Конни два полных запасных магазина и прихватил их с собой. Теперь я отдал их Берти. — Если у тебя здесь еще возникнут проблемы, позвони в «Клуб 88» и позови Жюля. Через час я буду в отеле. И там останусь. По телефону говори осторожно. Жюль понимает намеки.
— Да, кстати, дай-ка мне три тысячи марок. Мне нужно немножко денег. На билет и вообще.
Я дал ему денег. К счастью, я взял с собой собственную приличную сумму. 15 000 издательских не хватит, если дело и дальше так пойдет.
Берти был необыкновенно спокоен и хладнокровен, если не сказать, что он откровенно скучал. Хельсинки. Нью-Йорк. В погоню за человеком, который украл самые большие секреты своей страны. На Берти это не произвело ни малейшего впечатления. Он изучал меню и наконец произнес:
— Особенно рекомендуется жаркое из говядины с картофельными клецками. Специальное блюдо дня. Я страшно проголодался.
Старина Берти…
Я вышел под дождь к «рекорду», вынул его саквояж, принес в ресторан и отдал Берти вместе с ключами и документами. Бинокль я ему тоже отдал. Потом подогнал «рекорд» поближе к ресторану, чтобы Берти не пришлось далеко ковылять со своей больной ногой, когда придется срываться с места.
— Будь здоров, — сказал я.
— Ты тоже, — ответил Берти. — Пока, старик. — Он так далеко отодвинул штору, что мог через щелку постоянно держать под наблюдением виллу. — И большой привет Ирине. Славная девочка.
— Да, — сказал я, протянул Берти руку и попросил официанта заказать мне такси. Когда оно пришло, я еще раз кивнул Берти, он улыбнулся в ответ своей юношеской улыбкой.
— Куда? — спросил таксист.
— Университетская клиника. Мартиништрассе.
— Хорошо, сударь.
Разумеется, мы попали в вечернюю пробку и до больницы добирались очень долго. Водитель, маленький нервный мужчина, все время ругался и ехал очень медленно. Он проклинал всех водителей на свете, хотя сам вел паршиво, и пару раз мы были на волоске от аварии, так что мне становилось просто страшно. Я был счастлив, когда мы, наконец, остановились напротив огромной территории больницы, быстро расплатился и вылез. Нервный шофер уехал. Я постоял минуту под дождем, прислушиваясь и вглядываясь в интенсивное вечернее движение. На улице было очень шумно. Мимо меня проезжали бесконечные вереницы машин в обоих направлениях. Я подумал, что дедушка Иванов наверняка опять ждет на стоянке у большой клумбы с увядающими цветами, и отправился в парк, расположенный напротив входа на территорию больницы с ее бесчисленными корпусами и высотными домами. Мы договорились, что я сяду в машину Иванова и буду ждать Эдит. Дойдя до небольшой площадки у клумбы, где были припаркованы шесть частных машин, я увидел такси Иванова. Это был черный «мерседес» 220, я запомнил его регистрационный номер. Я вообще легко запоминаю цифры. Машина стояла с включенными габаритными огнями и работающим двигателем. Я открыл дверцу, плюхнулся на заднее сиденье и поздоровался. Боковое окошечко в перегородке было открыто. До меня донесся женский голос, раздававшийся из радиопереговорного устройства Иванова, по которому он связывался со своей диспетчерской.
Голос девушки звучал так, как будто она повторяет это уже не в первый раз:
— Машина три-один-девять, ответьте! Машина три-один-девять, ответьте!
Пожилой русский сидел за рулем и смотрел вперед, в стену дождя. Казалось, он всматривался, не идет ли Эдит, чтобы не пропустить ее.
— Машина три-один-девять, ответьте! Машина три-один-девять! — Дождь барабанил по крыше, и даже в такси проникал гул вечернего потока машин, проносившихся мимо. А водитель такси три-один-девять не отвечал, несмотря на призывы диспетчера.
— Что это с радиосвязью? — громко спросил я Иванова, наклонившись к боковому окошечку.
Он не ответил. Я хотел было повторить свой вопрос, но тут я увидел на панели приборов желтую эмалированную табличку, на которой черными буквами было написано: «Такси с радиосвязью 319». Одним прыжком я выскочил из машины. Окно Иванова было опущено. Левый рукав и вся левая сторона его черного пальто из лакированной кожи блестели от сырости. Он продолжал смотреть вперед. Здесь, снаружи, шум машин и трамваев был оглушительным.
Я услышал едва различимый голос девушки-диспетчера:
— Машина три-один-девять, ответьте! Три-один-девять, ответьте, наконец!
Я склонился к Иванову и увидел маленькое отверстие на его левом виске и немного вытекшей крови. Пуля, должно быть, попала прямо в мозг, не разорвав ни одного сосуда. Седые волосы вокруг отверстия выглядели обожженными. Кто-то поднес мелкокалиберное оружие прямо к голове Иванова и выстрелил.
Я стоял у края моря из света и шума, дождь лил на меня и на левый рукав и левую часть пальто Владимира Иванова, убитого не так давно — его руки на руле были еще теплыми, когда я прикоснулся к ним. Струйка крови влажно сверкнула в свете фар проезжающей мимо машины.
— Машина три-один-девять! Пожалуйста, немедленно ответьте, машина три-один-девять…
19
Я поднялся на лифте высотного здания хирургического отделения на тот этаж, где лежал Конни Маннер. Эдит сообщила мне, как его найти. Я пробежал по коридору до самого конца, где за стеклянной дверью была его палата. Перед дверью стояли двое мужчин.
— Стоп, — скомандовал один.
— Туда нельзя, — сказал второй.
— Внизу стоит такси, — сообщил я. — Шофер застрелен. — Я показал им свое удостоверение прессы.
— Ах, господин Роланд из «Блица», — сказал второй.
— Да, — подтвердил я.
— Пройдемте к такси, — сказал второй мужчина мне, а потом своему коллеге: — Смотри за женщиной. Ей пока нельзя выходить.
— Порядок.
Второй мужчина уже бежал по коридору, я помчался за ним, к лифту. Мы спустились вниз. Он представился:
— Моя фамилия Вильке.
— Очень приятно, — ответил я. — Фамилия шофера была Иванов. Владимир Иванов.
— Вы его знали?
— Да, — ответил я и рассказал ему, откуда знал Иванова. «Это все равно уже вышло наружу», — подумал я. Когда мы выходили из лифта, меня неожиданно начало мутить, и я почуял «шакала». Это был запоздалый шок. Я вытащил фляжку, хлебнул, а потом выбежал вслед за Вильке в дождь и мрак. Мы понеслись по территории клиники, мимо привратника, пересекли улицу и добежали до клумбы и до такси, которое по-прежнему стояло с включенным двигателем и габаритными огнями. Русский съехал набок, рот его открылся, нижняя челюсть отвисла. Глаза были открыты. Тело его накренилось влево, в сторону окошка, и струи дождя лились в его открытые, мертвые глаза.
20
Эдит Херваг прошла по маленькому палисаднику дома 22-А по Адольфштрассе к ожидавшему ее такси, дверцу которого для нее приоткрыл Владимир Иванов. Он поздоровался. Она позвонила в диспетчерскую по телефону, записанному на карточке, которую я дал ей утром, и заказала машину 319.
— Я сяду к вам, вперед, — сказала Эдит Херваг. На ней было меховое пальто, белокурые волосы были спрятаны под платок, зонтика у нее не было.
— Прекрасно, — отозвался Иванов, открывая для нее переднюю дверцу. — К университетской больнице, так ведь?
— Да, — сказала Эдит.
Иванов поехал. Движение было уже довольно оживленным, надо было смотреть в оба. Иванов был отличным водителем. По радиосвязи время от времени раздавались голоса девушек-диспетчеров, вызывавших другие такси. Иванов тут же ответил и сообщил, что едет к университетской больнице. Какое-то время он помолчал, но когда они оставили позади мост Ломбардсбрюке, он осторожно поинтересовался:
— Вы не будете волноваться, если я вам кое-что расскажу?
— Волноваться?
— Вам нельзя этого. А то я могу и не рассказывать. — Иванов еще немножко опустил окно на своей стороне. — Иначе стекла запотевают, — пояснил он. — Ничего, что я открываю?
— Ничего, — сказала Эдит.
Русский произнес:
— Вашего друга зовут Конрад Маннер.
— Да, а откуда…
— Хочу вам как раз рассказать. Вчера ранним вечером сбит на зебре, так ведь? Эппендорфер Баум, точно? Тяжелым грузовиком, верно?
— Все верно.
— Видите ли, после того, как на вашего друга наехали, один из наших шоферов, ехавший как раз по Эппендорфер Баум, доложил об этом в диспетчерскую. Водитель увидел номер и запомнил его: HH-CV 541.
— Ну и? И?
— Мой друг поехал за грузовиком. Это была сумасшедшая гонка, скажу я вам! Все дальше и дальше из города. До озера Крупундер Зее. Не знаете, где такое? Неважно. Там, в Реллингене. Товарищ мой все больше и больше увеличивал дистанцию. Там совсем пустынно, на окраине. Он немного струхнул. Его можно понять. И вдруг водитель грузовика загнал машину прямо в озеро.
— Что?
— Да. И тут моему другу стало совсем жутко. Поэтому он и сообщил в диспетчерскую, что потерял грузовик из виду. Но это было не так! Он видел, что там, у озера, ждал большой «форд». Водитель сел в него, и они поехали. Теперь мой друг поехал за «фордом». Назад в город. До Ниндорфер-штрассе, 333. Огромная вилла, освещена прожекторами, высокие решетки, бешеные собаки, как друг рассказывал. «Форд» въехал через ворота в парк и заехал за виллу. Друг стал ждать. Встал подальше, из осторожности. Потом, через час, приехало другое такси, шофер подошел к ограде, двое мужчин открыли ворота, попрощались, и такси увезло того шофера. Друг — за ними. До самой квартиры этого шофера.
— Где она находится?
— На другом конце Гамбурга. Большая новостройка. Много жильцов.
— Адрес! — воскликнула Эдит.
— Этого я вам не могу сказать.
— Почему не можете?
— Из-за своего друга. Мне пришлось ему пообещать, что я никому не скажу адрес. Он страшно боится! Не хочет впутываться в это дело. Никому не рассказывал — ни в диспетчерской, ни коллегам. Только мне. Полиция так смешно ведет себя. Я-то не боюсь. Сегодня, после работы, поеду туда, где живет этот парень. Друг описал мне его. Я найду его. А потом позову полицию! Должны же они что-нибудь делать!
— Диспетчерская, по крайней мере, передала в полицию номер грузовика? — спросила Эдит.
— Да, конечно.
— Ну и?
— Ну и ничего. Я говорю, полиция смешная.
— Как зовут вашего друга?
— Этого я вам тоже не могу сказать. Честно, не могу! Он от страха еле живой. Он ничего не сделает, точно ничего. А я… сегодня вечером… Ну вот и приехали. Я буду ждать там же, где в прошлый раз, хорошо?
— Хорошо. Мой друг приедет за мной. Он сядет в ваше такси, если я еще буду у господина Маннера…
21
— …и будет ждать меня, сказала я господину Иванову, — закончила свой рассказ Эдит Херваг. Она рассказывала это уже второй раз, теперь в комнате дежурного врача. Самого врача не было. Зато были два человека из MAD, комиссар из комиссии по убийствам и два сотрудника уголовной полиции, один из которых стенографировал. Сначала Эдит о своем разговоре с Ивановым рассказала мне одному — в общей неразберихе, возникшей после приезда комиссии по убийствам, уголовной полиции и криминалистов. Я натолкнулся на нее перед стеклянной дверью. Вильке все время названивал по телефону и не обращал на нас никакого внимания. К счастью, Эдит быстро преодолела шок от смерти Иванова, только ужасно боялась и лепетала:
— По телефону… вчера ночью… этот голос… Он сказал: Конни умрет, если что-нибудь скажет… Он ничего не сказал… хотя номер грузовика он, наверное, тоже знает… и кое-что другое… А этот русский заговорил… И они убили русского…
— Какая приятная неожиданность, господин Роланд! — раздался за моей спиной мужской голос. Я обернулся. Передо мной стояли господа Кляйн и Рогге из ведомства по охране конституции, неслышно подошедшие по коридору.
— Взаимно, — произнес я. — Как я рад вас снова видеть!
— Мы на эту работу не напрашивались. Нам ее поручили, — произнес Кляйн.
— Вы обнаружили убийство? — спросил Рогге.
— Вам же это прекрасно известно, — заметил я.
Из лифта вышли несколько мужчин и направились прямо к нам. Это были сотрудники уголовной полиции и комиссар, возглавлявший комиссию по убийствам. Мы поздоровались.
— В наше распоряжение предоставлен кабинет дежурного врача, — сказал комиссар, пожилой мужчина с грустными глазами. — Я должен допросить вас, в соответствии с процедурой, фройляйн Херваг, и вас, господин Роланд. По очереди. Может быть, вы посидите в коридоре, пока мы не закончим с фройляйн Херваг?
— Я уже рассказала господину Роланду все, что знаю, — сказала Эдит. — Я была так рада, что Конни стало лучше… а теперь… теперь бедный русский мертв, только потому что он рассказал мне эту историю…
— Какую историю? — спросил грустный комиссар.
— Весьма странную, — вмешался я.
Комиссар злобно сверкнул на меня глазами.
Рогге произнес:
— Мы можем все спокойно пройти в комнату дежурного врача. Господин Роланд работает и над этим случаем. Мы не собираемся ничего скрывать от него. — «Ну-ну, не собираетесь», — подумал я. — Кроме того, вы же слышали, что фройляйн Херваг ему уже все рассказала.
Итак, мы прошли в узкий белый кабинет дежурного врача, в котором стояли кровать, шкаф, письменный стол и пара стульев, и тут Эдит рассказала свою историю во второй раз. Мужчины слушали молча. Я подошел к окну. Мы были очень высоко в этом громадном хирургическом корпусе, и между зданиями ортопедической клиники и администрации мне были видны кусочек Мартиништрассе и маленький парк на другой стороне. Под лучами фар многочисленных полицейских машин стояло такси Владимира Иванова. Туда-сюда сновали сотрудники полиции. Сверкали вспышки фоторепортеров. За ограждением толпились люди. Отсюда все выглядело игрушечным. Мне было видно, как они вытащили труп из машины, положили на носилки и вкатили в машину «скорой помощи», которая тут же отъехала. Цепочка полицейских была вынуждена сдерживать натиск толпы любопытных. «Столько людей, несмотря на сильный дождь. Да, это дело уже не замнешь, — проносилось у меня в голове. — Завтра все будет в газетах. Но что именно? Убит таксист. И что? А ничего…»
— Вы не знаете, как зовут друга Иванова? — спросил комиссар, когда Эдит закончила свой рассказ.
— Нет! Я же говорю, он не хотел называть фамилию! Что это за адрес, Ниндорфер-штрассе, 333? Что это за вилла в парке? Кто там живет?
Рогге с Кляйном и Вильке устремили взгляды на меня. Толстые стекла очков Рогге поблескивали. Взгляды были однозначными. Если я сейчас скажу, кто там проживает и что это за вилла, моя игра проиграна. Господа позаботятся о том, чтобы я мгновенно покинул Гамбург. Это не входило в мои планы. Ни в коем случае.
— Мы этого не знаем, фройляйн Херваг, — произнес грустный комиссар с каменным лицом. — Разумеется, мы это незамедлительно установим, да, незамедлительно… — Он умолк, прикусив губу.
— А вы, Вальтер?
— Понятия не имею, — сказал я. Что мне еще оставалось?
— При сложившихся обстоятельствах я полагаю необходимым взять под защиту и фройляйн Херваг — на время, — сказал Кляйн. — Для нее сейчас слишком опасно оставаться одной в квартире.
— Палата около господина Маннера свободна, — сообщил первый сотрудник контрразведки. — Фройляйн Херваг могла бы там переночевать и вообще пожить, пока вопрос не решен и существует опасность. И практически она все время будет рядом с женихом. Хотите?
— Да, — произнесла Эдит, которую бил озноб.
— Тогда полицейская машина отвезет вас сейчас на Адольфштрассе, чтобы вы могли собрать необходимые вещи, и тут же привезет обратно, — сказал Кляйн. — Вы не возражаете, господин комиссар?
Тот только кивнул, продолжая покусывать свою губу.
— Все так жутко… так странно… — Эдит по очереди посмотрела на нас. Все ответили ей безучастными взглядами. — Вы не можете мне сказать, что здесь происходит? Никто не может?
— В данный момент никто, — ответил Рогге.
— Этот друг Иванова сообщил вчера в диспетчерскую таксопарка номер грузовика. Они хотя бы передали номер в полицию?
— Разумеется, — ответил комиссар.
— И что?
— Нам не удалось найти грузовик. Кто же мог предполагать, что он на дне Крупундер Зее?
— Да, — заметил я, — этого действительно никто не мог предполагать.
Затем возникла пауза, и все присутствующие мужчины уставились на меня. Я понял, еще одно наглое замечание — и моя работа здесь закончена.
— Мы уже можем отправиться к вам, фройляйн? — спросил сотрудник, который стенографировал.
Эдит вздрогнула.
— Да, конечно… А может…
— Что?
— Может со мной поехать господин Роланд?
— Не возражаю, — ответил комиссар, после того, как взглянул на Кляйна и тот кивнул в ответ.
Я взглянул на свои часы. Было 19 часов 11 минут. Если там, на Ниндорфер-штрассе, все шло по плану, Берти должен был уже следовать в «рекорде» за Билкой, его невестой, Михельсеном и еще бог весть за кем в аэропорт. Уже какое-то время. «Лишь бы все было в порядке», — подумал я и беззвучно выругался, потому что, если что-то не так, Берти позвонил бы уже в «Клуб 88», и кельнер Жюль должен был разыскать меня, чтобы все это передать. Да, это был явный перебор. Не мог же я позвонить в «Метрополь» и попросить соединить меня с Жюлем. И я не мог отказаться выполнить желание Эдит, находившейся на грани истерики, если не хотел спровоцировать еще один ее срыв.
— Конечно, я поеду с тобой, Эдит, — произнес я.
В дверь постучали, и вошел сотрудник уголовной полиции. Он молча положил в руку комиссару что-то, похожее на большую пуговицу.
— Где вы это нашли? — спросил комиссар.
— Под приборным щитком. Приклеено. Прямо около рулевой колонки такси.
— Тогда все ясно, — произнес Кляйн.
— Что это? — спросила Эдит.
— Жучок.
— Что?
— Мы это так называем, — пояснил Кляйн. — Крошечный передатчик с микрофоном. Дальность действия от тысячи до двух тысяч метров. В машине, которая, несомненно, все время незаметно следовала за Ивановым, к этому передатчику был приемник.
— Вы хотите сказать… — Эдит тяжело вздохнула, — вы хотите сказать, что тот, кто сидел в этой машине, слышал все, что мне рассказал Иванов?
— Да, именно это я и хочу сказать, — ответил Кляйн.
— И поэтому Иванов сейчас мертв, — проговорил комиссар и меланхолично посмотрел в окно, по темному стеклу которого, словно слезы, стекали сверкающие дождевые капли.
ВЕРСТКА
1
— Бон суар, месье, — произнес старший кельнер по этажу Жюль Кассен. Он постучал, и я открыл дверь люкса. В руках он держал серебряный поднос, на котором стояли две бутылки содовой, серебряный термос с кубиками льда, бутылка «Чивас» и стаканы.
— Добрый вечер, господин Жюль, — поздоровался я, пропуская его. В салоне горели торшеры и бра. Радио в маленькой тумбочке как раз передавало из бара музыкальную тему из фильма «Апартаменты». Я вернулся в «Метрополь» полчаса назад. Сейчас было 20 часов 20 минут.
— Ну? — спросил я.
— Как здоровье молодой дамы? Все в порядке? — поинтересовался Жюль.
— Все нормально. Переодевается к ужину. Я ее уговорил.
Сам я тоже переоделся, когда пришел, проделав это в ванной. Теперь на мне был темно-синий костюм, белая рубашка и узкая бабочка в красно-синюю полоску.
— Как хорошо, — заметил Жюль. — А как ее настроение?
— Получше. — Так оно и было на самом деле. Ирина встретила меня спокойно, даже с улыбкой. Ее истерика, похоже, прошла. Чтобы избежать дальнейших сцен, я соврал ей и сказал, что мы с Берти еще не нашли Билку, а всего лишь напали на его след, по которому сейчас идет Берти, поэтому его и нет. Он приедет попозже. Потом мне все равно придется сказать Ирине правду. Но позже, не сейчас. Я устал. Смерть Иванова и мои усилия доставить Эдит в целости и сохранности домой и обратно в больницу стоили мне изрядного нервного напряжения. «Это скоро пройдет, нужно только выпить», — сказал я себе. Я сделал крепкий коктейль для себя и второй, послабее, для Ирины.
— В холле уже работает ночная смена. Портье Хайнце сменил портье Ханслика, — рассказывал Жюль. — Я разговаривал по телефону с месье Энгельгардтом, там, в «Клубе 88». Он позвонил и попросил позвать меня.
— Во сколько?
— В 19.45, месье.
— Но ведь самолет должен был уже взлететь в 19.40!
— Небольшая задержка, на четверть часа. Сейчас они уже в воздухе. Месье Энгельгардт сказал, что все идет по плану. Билка с подругой и Михельсен и еще семь человек выехали в двух машинах с Ниндорфер-штрассе. Он их хорошо рассмотрел, Билку и девушку. Михельсена узнал по описаниям жителей Эппендорфер Баум. У ворот были включены прожектора. Он за ними поехал в аэропорт. Забрал свои билеты. Глаз не спускал с компании. Все были очень спокойны и — как это? — не дозрительны?
— Подозрительны.
— Не подозрительны, точно, месье. Ваш друг, он потом посмотрел список пассажиров в окошечке, придумал какую-то отговорку, вы понимаете. Билка летит под чужим именем. Все остальные наверняка тоже. Фальшивые документы. Мелочь для американцев. Что с вами?
— Жарко здесь, — сказал я, теребя воротник рубашки. В салоне действительно было очень тепло, но, помимо этого, я опять страшно разволновался.
— О, тогда я открываю окно, щелку.
— Да, пожалуйста, — произнес я.
Жюль исчез за уже задвинутыми тяжелыми портьерами из синей камки и открыл одно из французских окон, выходящих в парк. Я услышал шум дождя, а также треск и скрип деревьев на ветру.
Он появился вновь.
— Еще я разговаривал с месье Зеерозе.
Я вздрогнул. Зеерозе? Он что, уже снова был во Франкфурте? Я прикинул время. Реально. Но тогда он оставался у американцев не больше получаса! Что же обсуждалось в эти полчаса? Что-то настолько срочное, что наш директор прилетел сюда… Но что? Неизвестно. Берти явно ничего не сказал Жюлю об отъезде Зеерозе из дома на Ниндорфер-штрассе, 333, так что я ничего не сообщил и о его прибытии. Я только произнес:
— И?
— И месье Зеерозе очень доволен. Он в редакции. У вашего издателя. Они сидят там и ждут, что произойдет дальше. Все издательство ждет.
Это действительно было так. Прежде чем зайти в отель, я тоже звонил из «Клуба 88» во Франкфурт. Хэму. Бар был полон, инструментальное трио тихо играло «Evergreens»,[97] все было очень пристойно. Я рассказал Хэму о том, что произошло со времени моего последнего звонка. Он сказал:
— Мы живем в век патентов, делаем открытия, чтобы убивать тела и спасать души, и распространяем их с самыми благородными намерениями.
— Это абсолютно точно, Хэм.
— Это не я сказал. Кое-кто до меня в прошлом веке.
— Кто?
— Лорд Байрон, — ответил Хэм. — Кстати, я узнал: Зеерозе сегодня после обеда не было в издательстве. Он только недавно вернулся.
— Что бы это значило?
— Я тоже не знаю. Пока все, вроде, чисто. Он и вправду старый друг американцев, это я и раньше знал. Сейчас сидит наверху с Херфордом и Мамой. Мы с Лестером тоже обязаны здесь торчать. Пока не узнаем, что Берти с Билкой и остальными вылетел из Хельсинки в Нью-Йорк, хотя бы до этих пор, сказал Херфорд. Он от восторга невменяем…
Я вышел из маленького бара на дождь и, перейдя на другую сторону, отправился в «Метрополь». И вот я стоял, переодетый, в салоне своего номера, а потом понес второй стакан виски в спальню. Я открыл дверь, Ирина вскрикнула. Она стояла полуголая перед большим зеркалом, прижав к груди новый халат.
— Пардон, дорогая, — сказал я и прикрыл дверь, оставив небольшую щель, в которую просунул стакан. — Я принес тебе выпить. — Я почувствовал, как она взяла стакан.
— Спасибо, — услышал я и просунул в дверь вторую руку со своим стаканом. Она чокнулась со мной.
— Твое здоровье! — произнес я.
— Ваше здоровье, — сказала она. — Вы очень милы.
— Я самый милый мужчина в мире, дорогая, — произнес я, сделав ударение на последнем слове. — Господин Жюль как раз здесь. Я собираюсь заказать нам ужин. Ты голодна?
— Да. — Я услышал, как она отпила глоток.
— Это хорошо, сокровище мое. Пей не спеша. Это лучшее виски в мире. Если придут русские, такого уже не будет.
— У русских есть очень хорошая водка, — произнесла она из-за двери.
— Ну ты просто засыпала меня радостными вестями, — сказал я. — Теперь я с огромным энтузиазмом ожидаю мировую революцию. Что бы ты хотела на ужин?
— Ах, я не знаю… Спроси лучше господина Жюля… Пусть он нам что-нибудь посоветует…
Я оглянулся.
— Господин Жюль?
Официант улыбнулся и громко произнес, чтобы его услышала и Ирина:
— У нас сегодня есть деликатесные маленькие курочки. — Жюль запнулся. — Здесь в Гамбурге их называют цыплята, — не сразу выговорил он. — Очень рекомендую, мадам.
— Ты слышала, дорогая? — спросил я.
— Да, — ответила Ирина. Из бара передавали «Вэйвордский ветер». — Как странно.
— Что странно?
— Что можно привыкнуть к виски. Вчера оно мне еще было противно, а сегодня нравится.
— Да, — согласился я. — Это происходит быстро. Итак, господин Жюль, две порции гамбургских цыплят.
— Отлично, месье. А на закуску? Может быть, салат из свежих омаров?
— Отлично, — сказал я. — Изысканней не придумаешь!
— Что потом?
— Посмотрим, — ответил я.
— Что будете пить?
— Шампанское, разумеется, — улыбнулся я. — А вы что подумали?
Жюль засмеялся и посмотрел на дверь в спальню.
— Прекрасно. Тогда рекомендую полусухое «Поммери». Не слишком сухое, у нас еще сохранилось урожая 1951-го года. Очень хороший год.
— Согласна, сокровище?
— Конечно! — раздался Иринин голос.
— Чудно, — сказал я и закрыл дверь. До прихода Жюля, сидя за большим старинным письменным столом в салоне, я исписал несколько листков фирменной гостиничной бумаги, сложил их, рассовал по конвертам и заклеил. Теперь я принялся прятать эти конверты — под пишущую машинку, под диван, за портьеру.
Развеселившийся Жюль наблюдал за мной.
— Что вы делаете, месье?
— Сюрприз, — ответил я.
— О, — произнес он и улыбнулся так, как могут в такой ситуации улыбаться только французы. — Понимаю. Вы должны утешить несчастную маленькую мадемуазель…
— Да.
— Очаровательная мадемуазель! Трогательно, как она все время делает вид, что она ваша жена. Но будьте осторожны, месье. Мадемуазель не из западной страны, а из социалистической. Те девушки не так легко…
— Все будет работать, — сказал я, продолжая прятать конверты. — Vous ne le savez pas, Jules, mais toutes les femmes sont folles de moi.[98]
Он засмеялся. Потом опять стал серьезным.
— Тем не менее. Мадемуазель производит на меня впечатление… совсем… совсем невинной…
— Невинной! — Я выпил и скривил злую гримасу. — Два года была любовницей этого Билки. Ему тридцать два, ей восемнадцать. Невинная!
Жюль сказал:
— Прошлой ночью вы спали здесь, в салоне. Горничные мне рассказывали. Ваша постель рядом не использованная.
— О Боже, ну и что! — Мною вдруг овладело раздражение. — Я не хотел сразу ошарашить ее. К тому же я пришел только под утро.
— Понимаю, — произнес Жюль.
— Да? Вы понимаете?
Он только молча взглянул на меня.
— В чем дело?
— Если вы влюбились в мадемуазель, то это даже лучше…
— Послушайте, я…
Но он продолжил:
— …потому что месье Зеерозе, он сказал по телефону, вы должны сегодня ночью позаботиться о мадемуазель. Очень важно. Только о мадемуазель заботиться! Она не должна мешать тому, что произойдет. И кроме того…
— Кроме того — что?
— Если вы хотите узнать все о мадемуазель, о ее жизни, ее судьбе, тогда вы действительно должны, то есть вы обязательно должны… faire l’amour…[99] больше не спать на диване.
— Я сам знаю, что я должен делать, — произнес я.
В этот момент дверь спальни открылась, и в салон вошла Ирина.
Я механически засунул остальные конверты в карман пиджака и уставился на Ирину, у меня даже пересохло во рту. Краем глаза я увидел, что Жюль так же ошарашенно не сводит с нее глаз.
Ирина была очень красивой девушкой, к этому я уже привык. Но к чему я не мог привыкнуть, так это к тому, как эта девушка умела меняться. Не было больше туфель на низком каблуке, не было жакета с кофтой, расстроенного бледного лица. Фантастика! Чудо! Это было какое-то колдовство! Я знал многих девушек, которые умели изменять свою внешность, но такого еще никогда не видывал.
В красном шелковом платье с обнаженными плечами, в золотых туфлях на высоких каблуках и нейлоновых чулках, Ирина стояла перед нами, подперев рукой бедро. Лицо ее было накрашено — кроваво-красные полные губы, гладкая и розовая кожа, накрашенные ресницы, огромные черные глаза. Густые черные волосы, подстриженные под пажа, были гладко причесаны. Веки мерцали бархатистой голубизной. Платье вызывающе облегало фигуру, обнажая немного грудь. Я быстро допил свой стакан и почувствовал, как колотится мое сердце. Как же она была красива…
— О, мадемуазель! — воскликнул Жюль.
Я подошел к ней и обнял, вдыхая свежий запах кожи, хорошего мыла и духов «Эсти Лаудер». Я прижал к себе Ирину и поцеловал в губы. Потом отпустил ее со словами:
— Обворожительно! Ты выглядишь просто обворожительно, дорогая!
Я заметил, как под слоем пудры она стала пунцово-красной. Жюль это тоже заметил, поклонился, пробормотав какие-то извинения, и быстро покинул салон.
— Вальтер! — воскликнула Ирина, и ее глаза полыхнули.
— Да?
— Это было… бесстыдством с вашей стороны. Вы воспользовались ситуацией!
— Согласен! — сказал я. — Вы можете простить меня?
Она серьезно посмотрела на меня, потом кивнула, и на ее губах появилась робкая улыбка.
— Чудесно, — сказал я. — А теперь только ради того, чтобы вы не сказали, что я еще раз воспользовался ситуацией.
Я снова притянул ее к себе и прижался своими губами к ее губам. Сначала я чувствовал ее сопротивление, потом ее тело обмякло, губы раскрылись, она прижалась ко мне и ответила на поцелуй. Долго. Мне казалось, что этот поцелуй никогда не кончится. И я вдруг подумал, может быть оно все-таки существует, то, о чем так много пишут в романах и что так часто описывал я сам, дешево злоупотребляя этим, то, к чему стремятся все люди в этом мире, то, о чем все мечтают.
Любовь.
2
Наконец она оттолкнула меня, жадно ловя воздух ртом.
Я сделал нам два новых коктейля и протянул один стакан все еще тяжело дышавшей Ирине. Ее черные глаза опять полыхнули.
— Снова виски?
— Да.
— Нет.
— Да, — произнес я. — Вы должны! За нашу… дружбу.
— Дружбу? — спросила Ирина со странным смешком.
— Да, я прошу, — сказал я.
Ирина подняла стакан.
— Итак, за нашу дружбу, — произнесла она, выпила и отдала мне пустой стакан. Я снова наполнил его. По радио передавали «I'm gonna take a sentimental journey».[100] Ирина прислонилась к двери в спальню и выпила, напевая старый шлягер. Я прошел мимо нее и рассовал оставшиеся конверты — под ее подушку, за туалетный столик, в ванной. При этом я продолжал беседовать с Ириной, которая подошла в салоне к окну и слегка отодвинула портьеру.
— Как много огней, — услышал я ее голос. — На воде. И на другой стороне. Боже, сколько огней! И какой замечательный отель.
— Вам нравится?
— Да, очень. Ваше здоровье, Вальтер.
— Ваше здоровье, Ирина! — Вернувшись из спальни, я подошел к ней и положил руку на ее плечо. Так мы стояли вместе и всматривались в картину ночи с ее россыпями огней и капель дождя, которые тоже походили на искрящийся звездопад.
— Это мой первый немецкий отель, — сказала Ирина. — Нет, неправильно. Второй.
— А какой же был первый? — спросил я и выпил.
Она тоже пригубила.
— Ах, я была у пионеров, лет десять назад. Мы ездили в Восточный Берлин. И вот тогда я попала в немецкий отель. Но он был ужасный… убогий, холодный и грязный… полуразвалина.
— Как же он назывался?
— Отель «Адлон», — сказала она.
Я рассмеялся.
— Когда-то это был самый знаменитый отель Германии!
— Вы смеетесь надо мной.
— Нет, ни в коем случае. Клянусь! «Адлон» был… — Я не договорил, потому что музыка на радио поменялась. Томно, медленно и печально полились звуки «Хоровода».
— Черт бы их побрал! Я же специально просил… — Я ринулся к радио, чтобы выключить его. Ирина схватила меня за рукав.
— Не надо, — прошептала она.
— Что не надо?
— Не надо выключать. — Ее глаза опять сверкнули. — Я звонила в бар и попросила, чтобы бармен поставил эту песню. Я хочу ее слушать. Да, хочу! Мне уже все равно. Абсолютно все равно, видите? — Ирина засмеялась: — Это снова моя песня, красивая песня, которая мне так нравится. Это же не могло продолжаться вечно.
Я задумчиво посмотрел на нее.
— Это действительно правда?
Она кивнула, отставила в сторону свой стакан, потом взяла мой и поставила рядом.
— Не хотите ли потанцевать со мной? — тихо спросила Ирина.
Я обнял ее. Наши тела вновь прильнули друг к другу, Ирина положила голову мне на плечо, наши щеки соприкоснулись, и мы медленно начали двигаться в такт нежной музыке. Мы танцевали в просторном салоне, а Ирина шепотом напевала слова песни: «Кружитесь, кружитесь со мной в хороводе… Я вас научу, танцуйте со мной… Я покажу вам любовь в хороводе… любовь вдвоем и любовь втроем…» Она замолкла и крепче прижалась ко мне. Я поцеловал ее в щеку. Она улыбнулась. И так мы танцевали дальше, медленно, очень медленно под меланхолическую музыку, по огромным дорогим коврам салона, в полном молчании. Повернувшись в очередной раз, я обомлел и резко выпустил Ирину из рук.
— Вы? — не верил я своим глазам. — А как вы сюда попали?
— Через дверь, — ответила фройляйн Луиза. — Она была открыта.
Вот проклятие! Я забыл запереть ее за Жюлем! И вот перед нами стояла фройляйн, в старом, мокром черном пальто, нелепой шляпке на седых волосах, с большой сумкой в руках и страшно взволнованная. Фройляйн Луиза Готтшальк собственной персоной. От подошв ее изношенных бот на светлом велюре остались следы.
3
Фройляйн Луиза нажала на кнопку звонка возле двери, латунная табличка на которой возвещала, что тут проживает Михельсен. Она уже потеряла всякую надежду, поскольку делала это в течение десяти минут, снова и снова. Никто не открывал. Похоже, никого не было в квартире, а если кто-нибудь там и был, то он не хотел открывать. Фройляйн Луиза совсем пала духом. Беспокойство овладело ею еще в такси, которое привезло ее сюда, на Эппердорфер Баум, из полицейского участка. «Ни на один шаг не продвинулась я вперед, — размышляла фройляйн Луиза. — И по-прежнему не знаю, кто же убил маленького Карела. Вся эта история становится все запутаннее. Что дурного сделала я, что у меня ничего не получается? Может, я согрешила, и поэтому мои друзья вводят меня в заблуждение? Слепой юноша-пианист, слуга-украинец в отеле, чех — каковы в действительности их планы? Почему я не понимаю их? Я всего лишь бедное земное существо. Пока еще я всего лишь бедное земное существо, но ведь я хотела сделать только лучше! Только лучше! И вот что получилось. Почему мне все время попадаются не те? То врач в поезде, которого я приняла за моего умершего свидетеля Иеговы, то штандартенфюрер, который тоже оказался не моим другом. Какой смысл может быть в том, что мои друзья так мало помогают мне? Может, я совершила ошибки? А может, злые силы вмешались и добились того, что я лишена теперь поддержки своих друзей?»
Впервые фройляйн Луизу посетило мучительное чувство, что она перестала быть единым целым со своими друзьями. Она была растеряна и подавлена хаосом большого города, ноги ее болели, и она все больше и больше слабела духом. Вот и у этого Михельсена никого не было. «Просто заговор какой-то. Что будет дальше? — размышляла несчастная фройляйн. — Ведь это уже теряет всякий смысл…»
Она вновь прошла по красной дорожке, которой была выстлана респектабельная лестничная клетка с мраморными ступеньками и мраморными стенами, и пешком спустилась вниз. Она боялась лифтов, висевших в клетках. Других — нет, только этих, в клетках. Она вышла из дома и опять оказалась под дождем. Куда теперь? Этого она не знала. Было уже почти темно, горели уличные фонари, и из окон антикварного магазина возле ворот дома на мокрую улицу падал желтый свет. Фройляйн Луиза тихо подошла к витрине. О, какие великолепные вещи были выставлены там! Фройляйн Луиза задумчиво улыбнулась, увидев слоников из слоновой кости, опиумные трубки, нежные японские акварели, маски демонов, коралловые украшения, резные изделия. Она прочла имя владельца возле входа: «Андре Гарно». Она вдруг замерла. За витриной, в большом торговом зале, наполненном дальневосточными ценностями, она увидела худощавого мужчину с короткими седыми волосами, который корчился в кресле, а рядом с ним стоял другой мужчина, постарше, в очках и с жидким венчиком седых волос вокруг большой лысины. Тот, что постарше, приставил ко рту второго, явно задыхавшегося, небольшой предмет и поддерживал его. Лицо сидящего было фиолетовым.
У фройляйн Луизы вдруг отчаянно забилось сердце. Андре Гарно — французское имя! Этот человек там, внутри, задыхался! Другой держал спрей у его рта… Астма!
«У моего умершего француза тоже была астма, при жизни… Может быть… Нет, наверняка, это он! — решила фройляйн, уже открывавшая входную дверь. — Нет, я все же не одна!» Фройляйн Луиза остановилась у входа в магазин, сделав мужчинам знак, что она, разумеется, подождет, пока не пройдет приступ. Вскоре он действительно прошел. Мужчины подошли к фройляйн, и они представились друг другу.
— Вы должны нас простить, мадам, — сказал Андре Гарно. — У меня всегда это бывает в такую погоду…
— Ну так я знаю, — сказала фройляйн. — И быстро добавила: — Хуже не придумаешь погоды для астмы.
— Я как раз помогал господину Гарно распаковывать ящик с китайской бронзой. И тут это случилось. Хорошо, что я был здесь. На этот раз было особенно тяжко, — заметил второй мужчина.
— Но сейчас уже все в порядке, — сказал Гарно. Он, как всегда, был элегантно одет, его речь и движения были исполнены грации и достоинства.
— А вы поляк, — обратилась фройляйн к Кубицкому.
— Да, фройляйн Готтшальк.
— Хотите угадаю, откуда? — почти весело предложила фройляйн, уныние которой каким-то чудом испарилось. — Из Варшавы, верно?
— В самом деле, — ответил пораженный Кубицкий. — Как вы…
— Вот именно, как! — произнесла фройляйн и улыбнулась ему. Он улыбнулся в ответ, немного беспомощно и растерянно, но этого фройляйн не заметила. Она заметила лишь улыбку.
— А я из Нойроде. Из местного детского лагеря, — сообщила она.
— Ах вот как, — приветливо произнес Гарно, — вы воспитательница.
Фройляйн блаженно кивнула. Она даже не спрашивала, откуда это известно Гарно. Мы с Ириной рассказывали о лагере и о фройляйн Луизе, когда разговаривали с Кубицким и Гарно.
— Ваше имя — Луиза, — сказал Гарно.
Фройляйн почувствовала себя молодой и вовсе не усталой, ее ноги нисколько больше не болели.
— Разумеется, Луиза, — произнесла она. — Какое счастье. Спасибо. Спасибо вам огромное.
— За что?
— Ну, за то, что вы оба здесь, — сказала фройляйн. — Уж вы-то сможете мне помочь. Я была наверху у Михельсена, но там никто не открывает.
— Никого нет дома. Даже слуги. Он ушел два часа назад, — сообщил Кубицкий. — А что вы хотели?
— Ну вы же знаете, — произнесла фройляйн Луиза и подмигнула. — Я ведь ищу Ирину Индиго и этого репортера, господина Роланда. Очень срочно ищу их.
— Очень срочно? — переспросил Кубицкий.
— Разумеется, очень срочно, после всего, что произошло, — вмешался Гарно, и фройляйн благодарно взглянула на него.
— Да, после всего, что произошло, — повторила она. — Они ведь были здесь, верно?
— Да.
— И они разговаривали с вами, — произнесла фройляйн Луиза, в очередной раз ощущая себя ясновидящей.
— Подробно, — подтвердил Гарно.
— О чем?
— О господине Билке и его невесте и обо всем, что случилось.
— Что же случилось? — спросила фройляйн Луиза.
Гарно и Кубицкий по очереди рассказали подробности.
Оба были все еще под сильным впечатлением происшедшего на их глазах несчастного случая, и им казалось естественным посвятить в подробности дела воспитательницу, о которой я им рассказывал. Фройляйн Луизе, в свою очередь, также показалось естественным, что ее умершие друзья ставили ее в известность. Так они и разговаривали, пребывая в заблуждении, и никто из них не заметил этого. А фройляйн Луиза узнала все, что ей было нужно.
— Где же они сейчас, фройляйн Индиго и господин Роланд? — спросила она напоследок. — Мне, действительно, срочно, очень срочно нужно попасть к ним.
— Господин Роланд оставил мне свой адрес, — сказал Гарно, — на случай, если кто-нибудь будет его искать или появятся какие-нибудь новости. Там его можно застать в ближайшие дни.
— И где же он? — поинтересовалась фройляйн Луиза.
— В отеле «Метрополь», — ответил Андре Гарно.
4
— Да, сударыня, — произнес старший портье Ойген Ханслик и, перевесившись через свою стойку, нагнулся к маленькой фройляйн Луизе, стоявшей перед ним. — Да, господин Роланд остановился у нас.
— С молодой девушкой?
— Со своей женой, — сказал Ханслик, разглядывая маленькую, дурно одетую женщину, со смесью любопытства и симпатии.
— Разумеется, со своей женой, — кивнула фройляйн Луиза. — Будьте добры, доложите о моем приходе, если вас не затруднит. Мне надо поговорить с ними.
«Наконец-то они мне попались, — подумала она, — наконец-то!»
— К сожалению, это невозможно, сударыня, — сказал старший портье.
— Почему же?
Ханслик, проинструктированный мною, элегантно вышел из положения. Он показал на доску с ключами.
— Ключ висит на месте.
— То есть их нет?
— Да.
— Что, совсем уехали?
— Нет… только вышли!
— А когда вернутся?
— Этого они не сказали. Thank you, Sir.[101] — Какой-то иностранец отдал Ханслику ключ от своего номера. — Я понятия не имею, когда они вернутся. Это может быть очень не скоро.
— Могу я… могу я подождать? — Фройляйн Луиза была восхищена и одновременно подавлена блеском и роскошью «Метрополя».
— Разумеется, сударыня. Соблаговолите подождать в холле. Как только господин Роланд вернется, я сразу… — Он поправился: — Господин Роланд наверняка подойдет к вам. Вы ведь знакомы?
— Еще как, — ответила фройляйн Луиза. — Благодарю вас, сударь. — Она отправилась в просторный холл. Боже ты мой, сколько же здесь было народу. И сколько иностранцев! Вот это да! Фройляйн Луиза заморгала от удивления. Мимо нее прошли молодая индианка в роскошном сари и ее спутник в чалме.
— Мальчик! — крикнул старший портье Ханслик.
К нему подскочил мальчик в униформе.
— Возьми у дамы пальто и отнеси в гардероб.
— Слушаюсь, господин Ханслик! — Мальчик пошел вслед за фройляйн Луизой. — Разрешите? — обратился он к ней.
Фройляйн Луиза машинально расстегнула свое затертое пальтишко. О Боже, спохватилась она, на мне ведь все еще моя старая серая юбка и старая коричневая вязаная кофта. В таком виде я не могу сидеть здесь. Это невозможно. Они же меня выкинут!
— Нет, — решительно сказала она. — Спасибо. Я лучше останусь в пальто. Меня… знобит немножко, понимаете?
— Как угодно, сударыня, — сказал мальчик с легким поклоном.
Фройляйн Луиза вступила в просторный холл, как на небеса. «Такого я еще никогда не видела, — подавленно думала она. — Огромные хрустальные люстры! Гигантские ковры! Каждый стоит целое состояние! Стены из розового мрамора, старинные картины. Море цветов в дорогих вазах. Роскошная мебель… Ах, а какие элегантные господа! Какие изумительно красивые женщины в ярких платьях, увешанные украшениями. Как все блестит и сверкает! А я в своем убогом пальто, я так ужасно стесняюсь. Как бы мне хотелось убежать отсюда. Но я не могу. Я должна ждать здесь возвращения Ирины и Роланда».
Она нерешительно остановилась у входа в холл. Официант во фраке подлетел к ней и поздоровался.
— Если дама желает сесть… не угодно ли здесь…
Он указал на изящный столик на гнутых ножках, вокруг которого стояли три кресла с точеными подлокотниками, обтянутые парчой. Официант отодвинул одно из кресел. У фройляйн Луизы уже все плыло перед глазами. Она со вздохом села. «Я должна пройти через это», — подумала она удрученно, пытаясь спрятать под столом уродливые боты.
— Желает ли дама что-нибудь заказать? — Официант снова наклонился к ней. Вокруг нее разговаривали и смеялись, она слышала разные языки. «А может, я все еще в полицейском участке, и мне все это снится?» — проносилось в ее оглушенном мозгу.
— …что-нибудь заказать? — снова раздалось у нее над ухом.
«Я должна чего-нибудь выпить, — подумала фройляйн, — да, выпить, иначе я здесь не выдержу».
— Рюмку шнапса, если можно, — смело произнесла она. На лице официанта ничего не отразилось.
— Отлично. Коньяк? Виски? Джин-тоник?
— Лучше что-нибудь сладкое, — сказала фройляйн.
— Может быть, бенедиктин… куантро… Гран-Марнье…
— Да, — произнесла фройляйн Луиза.
— Что именно, сударыня?
— То, что вы назвали сначала.
— Бенедиктин?
— Да, пожалуйста.
— Минутку, сударыня. — Официант во фраке бесшумно удалился.
«Боже, помоги мне все это вынести, — мысленно заклинала фройляйн Луиза, — помоги мне! Эти люди вокруг. Все таращатся на меня, как на огородное пугало. Все шепчутся обо мне…»
Никто не таращился на фройляйн Луизу, никто не шептался. Сжав зубы, она сидела очень прямо, держа большую сумку на коленях, и не спускала глаз со стойки портье, чтобы не дай Бог не пропустить мое или Иринино появление. Ей было очень жарко в ее пальто в натопленном помещении, но она мужественно держалась. «Я не могу снять пальто, — твердила она себе, — это исключено».
Подошел официант с серебряным подносом, на котором стояла рюмка. В рюмке фройляйн увидела коричневатую жидкость.
— Прошу вас, сударыня, бенедиктин. — Он поставил поднос перед фройляйн Луизой и собрался снова исчезнуть.
— Момент! — воскликнула фройляйн. «О Боже, что же я кричу», — тут же смущенно подумала она.
— Сударыня? — Официант во фраке снова подошел к ней.
— Я бы хотела сразу заплатить.
— Пожалуйста. Шесть пятьдесят.
— Шесть марок пять… — Фройляйн Луиза почти лишилась дара речи. За эту каплю шнапса шесть марок пятьдесят пфеннигов? Это же безумие! Это же богохульство. Но только ничего не показывать. Только ничего не показывать! Фройляйн Луиза открыла свою тяжелую сумку. Официант слегка вздрогнул, увидев пачки денег, но она этого не заметила. Она протянула ему сотенную купюру и простодушно произнесла:
— К сожалению, у меня нет мельче.
— Большое спасибо, сударыня, — сказал официант и мгновенно исчез. Фройляйн Луиза с ужасом посмотрела ему вслед. «Он удирает с моей сотней! — подумала она, увидев, как кельнер скрылся за красной шелковой ширмой. — Это уже чересчур! Не могут же они так запросто стибрить у человека сотню в таком благородном отеле…» У фройляйн Луизы закружилась голова. Она подняла рюмку и сделала большой глоток. Коричневатая жидкость горела во рту, несмотря на ее сладкий вкус. «Ай, ладно, я просто пойду к тому милому портье и скажу ему, что этот балбес удрал с моей сотней марок. Этого еще не хватало! Этого еще…»
— Вот, пожалуйста, милостивая сударыня. — Официант во фраке опять бесшумно приблизился и стоял рядом. На тарелочке, под квитанцией, лежала сдача — купюры и мелочь. «Значит, все ж не преступник, — подумала фройляйн Луиза. — Вот видишь, никогда нельзя сразу плохо думать о людях».
— Минутку, — сказала она и, порывшись в монетах, выудила пятьдесят пфеннигов. Она с улыбкой протянула их официанту.
— Это вам, — сказала она.
— Благодарю, сударыня, — сказал официант и тоже улыбнулся. Поклонившись, он снова исчез. Фройляйн Луиза залпом допила свою рюмку, после чего ей стало ужасно жарко и дурно. Воздуха! Воздуха! Ей не хватало воздуха! «Я должна немедленно выйти отсюда, — проносилось у нее в голове, — иначе меня сейчас вырвет на шикарный ковер. О Боже праведный, Ты подвергаешь меня слишком суровым испытаниям. В какие ситуации Ты ввергаешь меня… Я этого больше не вынесу…»
Она неуверенно поднялась и засеменила прочь из холла, мимо стойки приема постояльцев, мимо стойки портье. Никто не обращал на нее внимания. Мальчик подтолкнул для нее вращающуюся дверь. Наконец она оказалась на улице, на прохладном вечернем воздухе, и услышала шум капель дождя, ударявших по деревьям, кустам и газону и оставлявших серебряные разводы в свете фонарей с круглыми плафонами. Фройляйн Луиза глубоко вздохнула. Ей понемногу становилось лучше. С Харвестерхудер-вег на подъездную дорожку свернул лимузин и остановился на пандусе под навесом. Шофер помог выйти двум дамам в норковых манто. Фройляйн Луиза вжалась в угол. Она услышала, как одна из дам произнесла:
— Машину в подземный гараж, Эмиль. В десять она нам снова понадобится. Я позвоню.
Шофер поклонился, держа в руках фуражку, снова сел в автомобиль и, отъехав от входа, обогнул фасад и исчез за углом.
Фройляйн Луизе пришла в голову идея.
Минутку, минутку. Значит, здесь существовал подземный гараж. Ирина и этот Роланд, они ведь наверняка боятся, что фройляйн Луиза охотится за ними, что она их разыскивает. А что, если они поедут на машине Роланда в подземный гараж? Вдруг оттуда есть лифт прямо к номерам? Ключ от комнаты, наверное, могут принести. Если это так, то фройляйн Луиза напрасно будет ждать здесь, тогда она их и вовсе не увидит, если они наконец вернутся.
«Подземный гараж, — размышляла она. — Я должна взглянуть на этот гараж». Она раскрыла свой старенький зонтик и заспешила на вновь занывших ногах вдоль фасада, вслед за лимузином.
5
Она стояла в темноте под дождем минут десять, прижавшись к большим закрытым стальным дверям грузового лифта. Рядом с дверью она увидела вход с винтовой лестницей, но пока не отважилась спуститься по ней. «Меня скорее заметят, если я войду одна, уж лучше с кем-нибудь, — решила она. — Подожду следующую машину».
Следующей машиной был «рекорд». Он очень близко подъехал к фройляйн Луизе, его фары ослепили ее. Мужчина в плаще и в шляпе вылез и позвонил в большой колокольчик на двери лифта. Мужчина был худой, из-под шляпы выглядывали седые волосы, у него было узкое, интеллигентное лицо. Ожидая, пока поднимется лифт, он стоял рядом с Луизой. Приподняв шляпу, он поздоровался:
— Добрый вечер.
— Добрый вечер, — ответила фройляйн Луиза.
— Что-то случилось? Я могу помочь?
— Нет, спасибо… — Фройляйн Луиза уже придумала историю для людей в гараже. — Очень мило с вашей стороны…
Через пару секунд из глубины раздалось глухое шуршание, и над металлическими воротами зажглась красная сигнальная лампочка.
— Сейчас придет лифт, — произнес мужчина и поспешил к своей машине. Вибрирующий звук становился все громче и громче и затих. За спиной фройляйн Луизы поползла вверх металлическая стена. Она вздрогнула, испугавшись, что упадет спиной в бездну, но там не было бездны, там была платформа лифта, и на ней стоял полный розовощекий человек с приветливым лицом и улыбающимися глазами. Диспетчер гаража Вим Крофт в половину седьмого вновь заступил на ночное дежурство. Он сказал фройляйн:
— Добрый вечер. Вы хотите спуститься вниз?
— Да, — ответила фройляйн.
— Зайдите в лифт и станьте у самой дальней стенки. Я должен направить машину, — сказал Крофт.
Фройляйн Луиза кивнула и ступила на платформу. Она прошла перед «рекордом», въездом которого дирижировал Крофт. Потом они поехали вниз. Лифт издавал много шума, слов почти не было слышно. Крофт радостно улыбался фройляйн, она улыбалась в ответ. «Какой приятный человек», — подумала она. Лифт остановился. Крофт протиснулся мимо «рекорда», пока поднималась вторая металлическая дверь, и сигналами помог выехать машине, которая двигалась теперь задним ходом, на второй этаж подземного гаража и к месту стоянки. Фройляйн Луиза медленно шла за ними. Гудел вытяжной вентилятор, мужчины и женщины в тяжелых резиновых фартуках на небольшом отдалении мыли машины, на потолке горели неоновые лампы. Одна была неисправна, и какой-то молодой человек, сидя на высокой лестнице, чинил ее.
Фройляйн Луиза огляделась и увидела водителя «рекорда», который вышел из машины и приближался к ней вместе с дежурным по гаражу. До нее донеслись его слова:
— Ну что вы, плохая погода. В Москве сплошные снегопады, как я слышал. — Он отдал ему ключи от машины и прошел мимо фройляйн Луизы в маленький кабинет, расположенный возле лифта, где горела голая лампочка и рядом с красным огнетушителем на стене висел кока-коловский календарь. Дежурный отметил прибытие машины и повесил ключи на доску.
— Вы из Москвы? — запинаясь, спросила фройляйн Луиза господина в шляпе, который нес в руках папку. В ее висках вдруг сильно застучала кровь.
— Да, из Москвы, уважаемая сударыня, — ответил седой мужчина без малейшего акцента. Он снял шляпу и склонил голову: — Иосиф Монеров, разрешите представиться.
— Луиза Готтшальк, — сказала фройляйн. — Из Москвы… — Она была не в состоянии продолжать. «Русский! — стрельнуло у нее в голове. — Русс…»
— Господин профессор Монеров приехал в Гамбург на конгресс, — пояснил Крофт. — Он знаменитый врач.
— Ах, перестаньте, — отмахнулся Монеров. Он расстегнул пальто, чтобы поискать чаевые для дежурного, при этом фройляйн заметила, что он был в смокинге. — Конгресс! Один прием за другим. Я уже не могу ни есть, ни пить. Как вы здесь живете на Западе! А у меня еще так много дел сегодня вечером. Я должен прилечь и отдохнуть.
— Много дел? — спросила фройляйн Луиза. Ей показалось, что Монеров ей подмигнул. «Русский. Русс появился», — сказала она себе. Ни о чем другом она уже не могла думать.
— Да, очень много дел, уважаемая сударыня, — сказал Монеров. — Если бы мой друг Вим Крофт не дал мне напрокат машину, я бы вообще нигде не поспевал.
— Вы друзья? — заинтересовалась фройляйн Луиза. Это звучало наивно, но ее лицо даже осунулось от волнения, этот разговор так много значил для нее, так много… все!
Монеров ответил добродушно:
— Да мы просто закадычные друзья, не так ли, господин Крофт? Господин Крофт голландец. Я люблю Голландию, не раз бывал там.
«Бог ты мой, — думала фройляйн Луиза. — Еще и голландец! Значит, вот оно, наконец-то…»
— У меня есть друзья — русский и голландец, — громко сообщила фройляйн Луиза и не мигая посмотрела на обоих.
— Это делает нам большую честь, — ответил голландец. — Мы любим друзей.
— Да, нам приятно, когда нас любят, — сказал русский. Он протянул Крофту сначала руку, потом чаевые.
— До свидания, господин профессор, — произнес Крофт. Он и фройляйн Луиза посмотрели вслед русскому, как тот подошел к закрытой матовой двери неподалеку и нажал на кнопку на латунной панели. Спустился гостиничный лифт. Монеров открыл дверь, помахал им, вошел, и лифт поехал вверх. «Значит, с лифтами я правильно догадалась», — поняла фройляйн Луиза.
— А что я могу сделать для вас, уважаемая сударыня? — спросил Крофт.
Фройляйн Луиза снова посмотрела на него с видом заговорщицы.
— Речь идет о господине Роланде, — сказала она.
— Ах вот как, о господине Роланде? — Он с улыбкой взглянул на фройляйн. Она улыбнулась в ответ — преисполненная детского доверия.
— Да, — подтвердила она. «Сейчас мне придется солгать, — подумала она. — Это грех, но иначе не получается». — Дело в том, что мне нужно поговорить с ним, с господином Роландом. Я в его большой белой машине забыла книгу, которая мне срочно нужна. Господина Роланда нет в номере, я уже спрашивала у портье. И вот я подумала, может быть, я могу здесь его подождать. Чтобы мы не разминулись. Книжка мне уж очень срочно нужна.
— Да, господин Роланд еще не возвращался, — сказал Крофт. Потом он добавил: — Книга в его большой машине?
— А что, у него есть еще и маленькая?
— Он взял напрокат у меня «рекорд». Как и русский профессор. Его большая машина стоит вон там, видите?
Он показал на мой «Ламборджини», стоящий между двумя опорами.
— Да, да, это она! — воскликнула фройляйн Луиза, видевшая мою машину у въезда в лагерь, когда мы впервые повстречались. Она испугалась. «Машина здесь, — соображала она. — Если этот голландец мне ее сейчас откроет и скажет: „Ищите свою книгу“, что мне делать?» Голландец осторожно произнес:
— Это «Ламборджини» господина Роланда. Ключи он оставил мне. Но вы должны понять, уважаемая… Я хочу сказать… Разумеется, я не сомневаюсь в ваших словах… Но я не имею права открывать машину без его разрешения и искать там книгу. Вы должны понять это…
— Я прекрасно это понимаю, — произнесла фройляйн Луиза. («Благодарю Тебя, Всевышний!»)
— Тогда… тогда… Вам это не слишком помешает, если я здесь внизу подожду, пока господин Роланд не приедет на вашей машине?
— Разумеется, не помешает. Я, правда, не знаю, когда он приедет.
— Я не спешу, — сказала фройляйн. — Он ведь точно привезет сюда машину, когда вернется, да?
— Наверняка. Вы же видите. Как господин профессор. — Крофт взглянул на доску с ключами, потом на план расположения комнат. — Гм, — произнес он.
— Что?
— Мне уже и прошлую ночь бросилось в глаза, когда господин Роланд брал напрокат автомобиль. Короче, он и его жена, — сказал Крофт, заглядывая в план, который ему передали из рисепшн с новыми заказами, — живут в люксе 423.
— Он и его жена, — тихо повторила фройляйн.
— Что вы?
— Ничего, ничего. Ну и?
— А господин профессор Монеров живет в люксе 424, рядом. И оба взяли «рекорд»!
— Ну надо же! — воскликнула фройляйн Луиза. «Теперь я у цели, — сказала она себе. Во всяком случае, у одной из них. И мои друзья здесь. Господи, а я уже была готова отчаяться. Теперь только вперед!»
— Посидите в моем кабинете, сударыня, — предложил Крофт.
— Очень любезно с вашей стороны, — сказала фройляйн и отправилась в маленькую комнатку. Она села на стул, стоявший под календарем. Крофт сел на письменный стол. Они продолжали беседовать.
— Сейчас столько всего происходит, — рассказывал Крофт. — Отель переполнен. И какой благородный человек, этот профессор Монеров… Говорит, что уже не раз бывал на моей родине…
Крофт, тосковавший по родине, увлеченно заговорил о Голландии. Он рассказывал фройляйн Луизе о цветущих тюльпанах в огромных садах вокруг Гааги, и о том, как чудесно выглядит земля, когда цветут тюльпаны. Он бы не останавливался, но звонок позвал его наверх.
— Может быть, это господин Роланд, — предположил Крофт.
Но это был не я.
Крофт вернулся, снова сел на стол и продолжил рассказ. Молодой парень, починивший лампу, зашел в кабинет. Это был стройный белокурый юноша в синем комбинезоне.
— Все о’кей, — сказал он. — Подпиши мне здесь рабочее время.
Крофт подписал бумагу. В это время парень с улыбкой посмотрел на фройляйн Луизу. Она тоже улыбнулась. «Очень милый молодой человек», — подумала она.
— На, держи, Юрген. И большое спасибо, — сказал Крофт.
— До свидания, — попрощался Юрген. Кивнув фройляйн, он исчез.
— Славный человек, — сказала фройляйн.
— Да, очень славный. И такая тяжелая судьба. — Диспетчер обожал поболтать.
— Тяжелая судьба?
— Ну да. Его зовут Юрген Фельмар. Вам это имя ничего не говорит?
Фройляйн задумалась.
— Фельмар… Фельмар… Где-то я уже слышала эту фамилию… но сейчас…
— Людвиг Фельмар, очень крупный нацистский преступник, которого они сейчас, наконец, поймали в Бразилии. Бывший штандартенфюрер СС.
— Штандартенфюрер Фельмар? — Фройляйн Луиза с трудом выговаривала слова.
— Да, а молодой человек — его сын, — сказал Крофт. — Отца нужно судить! Если ему не дадут пожизненно… Тысячу раз заслужил, ведь правда? Никакого вопроса. Но парень. Парень-то не виноват! Абсолютно не виноват. Представляете, что с ним сейчас происходит? Держит себя в руках, бедняга…
До фройляйн Луизы последние слова доносились словно через вату. Она размышляла:
«Француза, стало быть, я уже повстречала, поляка, чеха, украинца, русского. И вот, наконец, настоящий штандартенфюрер. Сын штандартенфюрера, но все-таки. Все здесь. Здесь, — ощутила она вдруг с той неожиданной ясностью, которая так часто озаряла ее, — здесь будет принято решение. Здесь, в этом отеле, и еще сегодня, да, еще сегодня!»
Вновь раздался звон колокольчика.
Крофт снова поехал наверх и вернулся с мокрой от дождя машиной. И снова это была не та машина, которую ждала фройляйн. «Это ничего, — терпеливо говорила она себе. — Совсем не страшно. У меня есть время, я могу подождать».
Она прождала полчаса. Час. Полтора часа. У Крофта появилось много дел, и он уже не мог больше уделять фройляйн Луизе столько времени. Машины забирали и возвращали, под конец приехала машина, на которой взявший ее напрокат попал в аварию. Крофт должен был установить размеры причиненного ущерба. Он подкатил деревянную платформу, лег на нее и заехал на подставке под машину.
«Люкс 423, — приняла фройляйн внезапное решение. — Быть может, этот Роланд все-таки уже на месте. И всего лишь не поставил машину в гараж, поскольку собирается снова уезжать. Да, — подумала она, — наверняка он уже здесь». Подумав это, она уже нисколько в этом не сомневалась. Она вышла из маленького кабинета и отправилась к матовой двери лифта, который поднимал наверх.
Она нажала на кнопку вызова. Лифт плавно спустился. Никем не замеченная, фройляйн открыла дверь и вошла в лифт со стенами из красного дерева. Она нажала на кнопку пятого этажа. Лифт быстро заскользил вверх и вскоре остановился. Фройляйн Луиза вышла. Широкий длинный коридор был устлан коврами, у стен стояли старинные комоды и темные кресла. Не было видно ни души. Возле лифта стрелки и цифры указывали на расположение номеров пятого этажа. Фройляйн Луиза быстро сориентировалась. Она пошла по коридору, мимо старинных гравюр и больших картин, написанных маслом. 427… 426… 425… 424… («Здесь живет русс», — подумала она.)
Кремовая дверь с позолоченной ручкой. Фройляйн Луиза набрала в легкие воздуха. «Ну, с Богом», — сказала она себе и нажала на ручку. Дверь отворилась. Из глубины люкса доносилась тихая, нежная музыка…
6
— Как вы попали наверх?
Я стоял рядом с Ириной в салоне люкса и таращился на фройляйн Луизу.
— Из гаража, на лифте. Тайком, — ответила она.
— И что вы хотите?
Фройляйн Луиза решительно произнесла:
— Девочка должна немедленно вернуться со мной в лагерь. Я этого не потерплю!
Ирина схватила меня за руку. Я крепко сжал ее.
— Что? — спросил я. — Что вы не потерпите?
Фройляйн двинулась в сторону Ирины.
— Я весь город обыскала, пока нашла вас. Потом друзья, наконец, указали мне путь. — Она взглянула на меня. — Вы плохой человек, вы злоупотребили моим доверием. — Фройляйн схватила Ирину за руку и потянула к себе. — Поехали со мной!
Ирина вырвалась.
— Нет! — вскрикнула она. — Нет! Я не вернусь в этот грязный лагерь! Никогда!
Я тихо произнес:
— Фройляйн Луиза, это мой номер. Вы без разрешения вторглись в него. Если вы немедленно — немедленно! — не исчезнете, тогда, к сожалению, мне придется вышвырнуть вас!
Фройляйн Луиза сдвинула шляпку на затылок.
— Ах вот так? — с горечью произнесла она. — А знаете, что я тогда сделаю? Я подам на вас жалобу! За похищение! Девочке еще нет двадцати одного года! У нее нет разрешения на жительство! Ей еще не сделали прививки!
— Господин Роланд ручается за меня! — выкрикнула Ирина. — Если у меня есть поручитель, мне больше не надо возвращаться в лагерь! У господина Роланда есть письменное подтверждение! Письменное, слышите?
Очевидно фройляйн об этом не слышала, потому что она воскликнула:
— Дурочки вы все, дуры! Одна глупее другой! Он за нее ручается! Как долго? Пока вы ему не надоедите и он не выгонит вас!
— Минутку, — начал я, но фройляйн перебила меня, обращаясь к Ирине:
— Как вы выглядите! Как… Сами понимаете! Неужели вам совсем не стыдно? Вот что он из вас сделал — за один-единственный день! — И потом ко мне: — А вы не лучше, чем те проходимцы с Реепербан, которые забирают девочек из лагеря! Вам лишь бы свое удовольствие получить, вот и все!
А тем временем все так же сладко и томно звучал «Хоровод»…
Я произнес, направляясь к фройляйн Луизе:
— С меня довольно. Я…
Больше я не успел ничего сказать, потому что в этот момент зазвонил телефон. Я подбежал к аппарату и снял трубку.
— Да?
— Что вы так кричите? — спросил голос, который показался мне знакомым. Я только не мог сообразить, откуда я его знаю.
— Кто вы? Что вам надо? — спросил я уже спокойным голосом.
— Это Виктор Ларжан.[102] — Ах да, конечно, Ларжан, черт бы его побрал. Его мне сейчас только не хватало. — А что мне надо? С вами поговорить. По крайне важному делу.
— Где вы?
— В отеле. Внизу, в холле. Говорю из телефонной будки. Сейчас поднимусь к вам. Номер 423-й. So long.
— Вы никуда не подниметесь! — вдруг заорал я. Мои нервы окончательно сдали. — Если вам что-то от меня нужно, позвоните мне завтра утром!
— Завтра утром будет поздно. Это надо сделать немедленно.
— Ничего не надо делать немедленно! У меня нет времени! Вы останетесь внизу! Все! — Я швырнул трубку.
Ирина и даже фройляйн Луиза выглядели напуганными.
— Кто это был? — спросила Ирина.
— Виктор Ларжан, — сказал я. — Агент.
— Кто? — воскликнула Ирина.
— Ах вот что, — я с трудом выдавил улыбку. — Не такой. Литературный. Посреднические услуги. Авторы. Романы. Фильмы. — Мой взгляд опять упал на фройляйн Луизу, и меня охватила новая волна слепой ярости.
— Чтобы вас тут через секунду не было, вы поняли?
Голос фройляйн Луизы вдруг стал тихим, она почти прошептала:
— Ведь Индиго — еще совершенный ребенок! Неужели вы этого не видите, господин Роланд? Неужели вы настолько испорчены и развращены, что не видите, что она еще ребенок?
— Я уже не ребенок! — воскликнула Ирина. — Что вы вообще обо мне знаете? Вы же совершенно не знаете меня, ни капельки!
Маленькая фройляйн произнесла с большим достоинством:
— Я знаю о тебе все. Ты действительно еще ребенок. Я разбираюсь в детях. У меня нет своих детей. Я не была замужем. И тем не менее у меня были дети — больше, чем у любой матери в мире. Сотни! Тысячи! Я их охраняла и оберегала! Всю свою жизнь. Сидела у их постелей ночами, когда они болели. Защищала их и хранила от зла. Так же, как настоящие матери! Да, у меня были тысячи детей… и они любили меня… — Фройляйн вдруг закачалась от слабости и опустилась в кресло. Мне было наплевать на ее состояние. Я подошел к ней и наклонился. Я стал беспощадным:
— Если вы сию минуту не уйдете, мне придется кое с кем поговорить, фройляйн Луиза.
— Поговорить… с кем? — Она подняла на меня свои добрые глаза, в них стояли слезы.
— Я знаю директора управления социального обеспечения в Бремене… — начал я.
Тут меня перебил чей-то громкий игривый голос:
— Всем привет! Я ведь не помешаю. Дверь была открыта, вот я и вошел. Дамы, дорогой друг Роланд… — Порог люкса переступил высокий мужчина крепкого телосложения, без единого волоса на голове. На нем были очки без оправы, и выглядел он отъявленным пройдохой, являя собой живое воплощение нахальства и плохих манер.
Когда я его увидел, меня охватило такое бешенство, что я на миг забыл даже о фройляйн Луизе.
— Я же сказал вам, что не желаю вас видеть!
— А я объяснил портье, что вы меня ждете, — ухмыльнулся лысый. — У вас гости. Прелестно, прелестно. Вы не хотите представить меня?
— Нет, — рявкнул я. — Вон отсюда!
— Ларжан, — представился посетитель сам и поклонился фройляйн Луизе и Ирине. — Виктор Ларжан. Рад познакомиться с вами, сударыни. Мы с господином Роландом старые друзья.
— Какие еще друзья! — продолжал я буйствовать в припадке ярости. — Вон, я сказал! Вы что, оглохли?
— А я-то хотел обсудить с вами один очень срочный вопрос, — произнес с улыбочкой Ларжан. — Ну будьте же повежливее. Предложите мне чего-нибудь выпить. Успокойтесь. Вижу-вижу, вы не хотите. Я сам себе сделаю коктейльчик. — Он вразвалочку прошел в салон и действительно налил себе в стакан виски, добавив туда воды и льда. Объявив, что пьет за наше здоровье, он выпил и застонал от наслаждения.
— Вы литературный агент? — спросила Ирина, потрясенная зрелищем.
— Так точно, прелестная фройляйн. Виктор Ларжан.
Он говорил по-немецки бегло, но с сильным американским акцентом. Я знал его много лет. Он был владельцем большого агентства в Нью-Йорке, имел филиалы в Голливуде, Париже, Лондоне и Риме. Ларжан продвигал писателей, сценаристов, еще и актеров, продавал сериалы, злободневные статьи на фактическом материале и романы, это была легендарная фигура в своем бизнесе. Ему еще не было и пятидесяти, хотя из-за лысины он выглядел старше. На нем всегда были мятые костюмы из второсортных магазинов готовой одежды, нейлоновые рубашки и дешевые галстуки, хотя все знали, что он был сказочно богатым холостяком. Он владел знаменитой огромной коллекцией старых часов и постоянно мотался по свету. Со мной у него пока был лишь опосредованный бизнес. Он продал мои секс-серии во много стран. Но это всегда шло через издательство, и я получал только проценты.
Ларжан уселся в кресло, вздохнул с глубоким удовлетворением, выпил, поглядывая на всех своими свинячьими глазками, и явно чувствовал себя превосходно. Мое бешенство росло с каждой секундой.
— Послушайте, Ларжан, я прикажу вас вышвырнуть, если вы не исчезнете! — заорал я.
Американец довольно хрюкнул.
— Ну разве он не очарователен? — спросил он Ирину. — Всегда норовит головой пробить стену. Такой порывистый. А ведь он меня знает. Вы же меня не знаете, сударыни. Я хочу сделать господину Роланду предложение. Срочное. А я не тот человек, которому можно сказать «нет». — Он положил ноги на столик, снова выпил и обратился к Ирине: — Как вас зовут, дитя мое?
— Ирина Индиго, — ответила потрясенная Ирина.
— Красивое имя. Очень красивое имя. — Ларжан благосклонно кивнул.
Я подумал, что вряд ли смогу сам выкинуть его, для этого он был чересчур здоровый. По радио все еще звучала тихая музыка из бара.
— А вас, сударыня? — Он так и не убрал ног со стола.
Фройляйн Луиза как зачарованная смотрела на американца с первой минуты его появления. Ее лицо было просветленным.
Она встала, подошла ближе и сказала:
— Готтшальк. Фройляйн Луиза Готтшальк. Ты же это знаешь…
Странное обращение нисколько не обескуражило американца. Он широко ухмыльнулся.
— Конечно, конечно, знаю. Фройляйн Луиза Готтшальк. Я столько людей встречаю. Вы уж извините, если я кого-то не сразу узнаю.
Фройляйн Луиза посмотрела на него сияющими глазами.
— Теперь все будет хорошо, — сказала она.
Ларжан обменялся со мной короткими взглядами. Он так часто встречался по роду своей деятельности с чудаками, что уже ничему не удивлялся. Сам он всегда говорил, что питает слабость к сумасшедшим.
— Все будет хорошо. Полный о’кей, фройляйн Луиза, можете не волноваться. Я здесь. Ничего плохого уже не случится.
— Прекрасно, — прошептала фройляйн. — Ах, как хорошо… Все-таки все получается именно так, как я мечтала…
— Ясное дело, — невозмутимо произнес Ларжан. — Зачем грустить, если можно Ларжана спросить.
— Мой американец… — шептала фройляйн.
— К вашим услугам, сударыня. Америка к вашим услугам, — гудел Ларжан.
— Благодарю Тебя, Господи, — еле слышно шептала фройляйн Луиза.
Все очень напоминало сумасшедший дом.
Я сказал агенту:
— Кончайте театр. Вы сейчас исчезнете или я позвоню портье.
— Нет, вы не имеете права! — вскрикнула фройляйн. — Это крайне важно, что господин Ларжан пришел именно сейчас!
— Еще как важно, фройляйн Готтшальк, — произнес этот отвратительный Ларжан. — Или я могу называть вас просто Луиза?
— Ну конечно, можете! — восторженно воскликнула фройляйн.
В этот момент опять открылась входная дверь, и вошел кельнер Жюль с передвижным столиком. Все уже было подготовлено и накрыто. Скатерть из камки. Серебро. Коктейли из омаров. Бочонок с бутылками шампанского…
Жюль оторопел и остановился.
— Пардон… я не хотел мешать… Ужин… — Он внимательно посмотрел на американца. Тот криво улыбнулся в ответ.
— Привет, — сказал Ларжан.
— Месье, — произнес Жюль, потом повернулся ко мне: — Можно завозить стол?
— Да, пожалуйста, — ответил я. — Мы сейчас опять останемся одни.
— Вы так думаете, — произнес Ларжан. Он подмигнул фройляйн Луизе. Та не сводила с него глаз, потом ее взгляд скользнул по Жюлю.
Фройляйн Луиза спросила:
— Француз?
— Да, мадам. — Жюль был занят своим столом.
— Если бы ты знал, как я рада, — сказала фройляйн. — Как же я счастлива. Ты тоже следи, ладно?
Жюль нервно взглянул на фройляйн Луизу.
— Что я должен делать, мадам?
— Следи!
— Я действительно не понимаю, мадам… — начал Жюль. За спиной фройляйн развалившийся в кресле Ларжан делал Жюлю и нам всем знаки. С ухмылочкой он крутил пальцем у виска и пожимал плечами. Жюль наморщил лоб, но легче ему от этого не стало.
— Я могу открыть бутылку, месье? — спросил он меня.
— Да, пожалуйста, Жюль. Мы сейчас поедим. Причем одни. Я сейчас быстро наведу здесь порядок, — сказал я.
Жюль взял белую накрахмаленную салфетку и вынул из бочонка бутылку. Фройляйн Луиза подошла к нему.
— Минутку, — произнесла она.
— Слушаю вас, мадам? — Он снова занервничал.
Фройляйн серьезно посмотрела на него.
— В чем дело, мадам?
— Ты это прекрасно знаешь…
— Пардон, мадам, — сказал Жюль, которому была крайне неприятна эта сцена, — но я не имею понятия…
— Ах вот как! — В голосе фройляйн зазвучала угроза. — Я так и подумала. И все же минутку подождите. У меня для вас есть послание.
Жюль не мигая смотрел на маленькую женщину. Ларжан хохотал. Он от всей души наслаждался происходящим.
— Ваш персонаж? — вполголоса спросил он меня. — Какой типаж, потрясающе!
— Послание? Какое послание, мадам?
Взгляд фройляйн опять скользнул куда-то в запредельную даль. Она произнесла медленным, заклинающим голосом:
— Не торопитесь. Вы должны услышать то, что хотят сказать вам те, наверху.
Жюль покраснел от смущения.
— Те… наверху… мадам?
— Да… — Фройляйн Луиза прислушалась. Никто ничего не говорил. Только по радио звучала музыка — «Страна чудес в ночи».
Фройляйн Луиза произнесла Жюлю прямо в лицо:
— То, что вы хотите сделать, есть зло. Вы принесете несчастье людям…
Голос фройляйн Луизы был глухим и монотонным.
— И это несчастье станет и вашим несчастьем…
Жюль вдруг побледнел. Я видел, что он испугался:
— Мадам, действительно, я…
— Спокойно! — снова заговорила фройляйн Луиза, в то время как Ларжан хихикал, а Ирина схватила меня за руку. — Вы очень, очень долго будете искупать это…
— Пожалуйста, Вальтер! — прошептала Ирина.
— Да, — сказал я. — Хватит. — Обойдя все еще бледного официанта, я подошел к фройляйн Луизе и с угрозой в голосе сказал: — Меня тогда перебили!
— Перебили… когда?
— Когда я сказал, что знаком с директором управления социального обеспечения в Бремене. Если вы сию же минуту не оставите нас в покое…
— Но я ведь должна Ирину…
— Вы ничего не должны! Только исчезнуть! Немедленно! Я сыт вами по горло, — произнес я, заставляя себя быть жестоким. — Если вы этого сейчас же не сделаете или будете и дальше слоняться здесь и я вас еще раз увижу, я поговорю с директором управления социального обеспечения!
Взгляд фройляйн Луизы блуждал между смеющимся американцем и ошеломленным французом. Она пролепетала:
— Поговорите?
— Да, — злобно бросил я. — Вы знаете, о чем. Мне кажется, что сейчас самая пора отправить вас на пенсию.
— На пенсию! — вскрикнула фройляйн.
— Не отправят, — ухмыльнулся Ларжан. — Но для этого сейчас вам надо быть послушной. Я послежу, чтобы здесь все шло как надо. Можете не беспокоиться.
— Не беспокоиться… Правда?
— Правда. Я ваш друг, фройляйн Луиза. Я позабочусь о хорошем финале. Не бойтесь.
— Это… это… — Фройляйн Луиза тяжело дышала. — Это чудесно… Вы здесь… и другие тоже… столько моих друзей… — Она взглянула на Жюля. — Только за этим последите! Этот хочет зла… он и есть зло!
— За ним мы, конечно, проследим, — сказал американец и снова сделал знак ошарашенному Жюлю, не замеченный фройляйн Луизой. — Я знаю господина Роланда. Потрясающий человек. Вы можете доверять ему.
— Но Индиго…
— Она в хороших руках. Все будет хорошо, вот увидите, все. Но теперь вам надо идти, фройляйн Луиза.
Фройляйн нерешительно переминалась с ноги на ногу.
Ларжан рассмеялся ей в лицо:
— So long, Luise. And good luck to you![103]
— Я вмешалась, — произнесла фройляйн. — Я не имела права это делать. Я доверяю своим друзьям. — На ее глаза опять вдруг навернулись слезы: — Простите… Все в порядке… Только за французом последите, пожалуйста…
— За этим последим, — невозмутимо пообещал Ларжан.
Жюль по-идиотски стоял с бутылкой в руке.
— Дело в том, что он не друг, — сказала фройляйн Луиза. — Но вы это знаете, да?
— Конечно, я это знаю, — успокоил ее американец.
— Ну тогда я сейчас пойду. И буду молиться, чтобы все удалось, — произнесла фройляйн. Она кивнула Ларжану, мне и Ирине. На француза она больше не взглянула.
Маленькая, убогая и смешная фигурка вышла из номера. Несколько секунд все молчали.
— Слава Богу, — произнесла наконец Ирина.
Жюль никак не мог успокоиться.
— Кто это был? Как эта дама попала сюда?
— Я забыл запереть дверь, — объяснил я.
— Да, но как она вообще проникла на пятый этаж?
— Не ломайте себе голову, — улыбнулся уютно чувствовавший себя Ларжан. — Сумасшедшие всегда найдут дорогу.
— Сумасшедшие?
— Разумеется, старуха абсолютно сумасшедшая, — сказал Ларжан. — Вопиюще сумасшедшая. Но не опасная. Если вы всю жизнь имеете дело с психами, у вас наметанный глаз. Успокойтесь же, наконец, и откройте бутылку.
Жюль начал вынимать пробку, предварительно отвернув проволочную петлю. Он все еще был настолько огорошен, что поспешил и пролил несколько капель шампанского на ковер.
— Пардон, мадам и месье… я… я… эта особа…
— Ну, теперь-то ее нет, — сказал я и попробовал шампанское. — Отличное!
Жюль наполнил оба фужера, после того как я подвел к столу Ирину и придвинул ей парчовое кресло. Я тоже сел.
— Я позабочусь о том, чтобы эта особа никогда больше здесь не появилась, — сказал Жюль. — Кто она? Ваша знакомая, месье?
— Да, — сказал я. — Знакомая. С одиннадцатью умершими друзьями. Они беседуют с ней, иногда она их еще и видит.
— Значит, действительно, сумасшедшая, — воскликнул Жюль, вынимая из корзиночки тосты.
— Разумеется, — сказал я.
— И во мне мертвого увидела, — сказал Ларжан. — Ха-ха-ха! Charming old lady.[104] У меня в Голливуде был один автор, так тому всюду мерещились слоны. Не маленькие, разноцветные, которых видят пьяницы. Нет, настоящие огромные слоны. Повсюду! Прихожу я к нему однажды…
— Ларжан, — произнес я, — мы хотим поесть. Вы свой стакан выпили. Пожалуйста, уйдите и вы.
— Даже не подумаю, — сказал американец. — Стакан выпил, это правда. Сделаю себе новый коктейль. Нет, нет, не беспокойтесь, Жюль, я сам. — Он неуклюже поднялся и действительно сделал себе второй коктейль. Жюлю он сказал: — Вы можете идти. Все отлично, насколько я вижу. Вам пора заняться следующим блюдом.
— Хорошо, сударь, — сказал Жюль и собрался уходить. Он все еще был бледен от страха. — Курочки прибудут через пятнадцать минут, если вас это устроит, месье Роланд.
— Вполне устроит, — ответил я и поднес свой фужер к Ирининому, тихонько шепнув: «За вас». Она тоже подняла свой фужер. Мы выпили. Жюль вышел, Ларжан пошел за ним и запер дверь. Он с кряхтением завалился на диван.
— Так, ну а теперь о нас с вами, мой дорогой, — сказал он.
Я уже приступил к еде, Ирина тоже. Я знал, что этот Ларжан — как банный лист, ни за что не отлипнет.
— Идите к черту…
— Да-да, — произнес Виктор Ларжан. — А теперь слушайте меня, вы, спившийся гений. — Он вынул из кармана блокнот, написал одно слово на верхнем листке, оторвал его и положил рядом с моим фужером.
Я посмотрел на него, ничего не понимая.
На листке было написано название одного из самых крупных и престижных иллюстрированных журналов Америки.
7
— Вы можете там начать, — произнес Ларжан, встряхнув кубики льда в моем «Чивас». — Они хотят вас. Просто без ума от вас. Будь их воля, вы могли бы завтра рано утром вылететь в Нью-Йорк и послезавтра приступить к работе.
Ирина, не понявшая, о чем шла речь, вопросительно посмотрела на меня. Я медленно разжевал кусок омара, откусил от тоста, намазанного маслом, и запил все это полусухим «Поммери» урожая 1951-го года. Это и в самом деле был особенно хороший год для шампанского.
— Вы ему понравились, нашему кельнеру, — сказал я потом Ирине. — Столько омаров я еще не встречал ни в одном салате. Нигде. Неплохо, не так ли?
— Прекратите, — произнес агент. — Больше денег вы за это все равно не получите. У вас и так будет баснословный гонорар.
— И сколько же? — спросил я. Я хотел посмотреть, сколько времени он это выдержит. Он выудил записку, написал на ней цифры и положил передо мной.
— Гарантированный твердый гонорар ежемесячно, — добавил он, — заработаете вы его или нет. Вы же понимаете, что до такой суммы вы никогда не дотянете. — Цифра, которую он написал, была в четыре раза больше моей гарантированной зарплаты в «Блице», самой высокой по Германии. — Впечатляет, а? — ухмыльнулся Ларжан, человек, который ежедневно жонглировал людьми и миллионами, и поправил свой дешевый галстук и воротник мятой нейлоновой рубашки. — Свои проценты я получу от них. Вам не придется мне ничего отдавать. Это самая крупная сделка, которую я проворачивал в газетном бизнесе, а я проворачивал много. Но это — самая крупная. Суперсделка.
Я ел дальше свой салат, пил шампанское и ничего не отвечал. Названный журнал был из разряда первоклассных. Оплата была фантастической. Но, разумеется, в этой сделке был изъян. В нашем ремесле ни одна такая сделка не обходилась без изъяна.
— Они послали меня специально ради вас, — сказал Ларжан. — Во Франкфурте мне сказали, что вы в Гамбурге. Раз Гамбург — значит «Метрополь», — решил я. И сразу сюда. Вы, конечно, соглашаетесь. Я живу в «Атлантике». Завтра в полдевятого утра я приношу вам договор и чек на наличные за первые полгода.
— У меня эксклюзивный договор с «Блицем», — произнес я. — И вы это прекрасно знаете.
— Разумеется, знаем. Такой договор можно расторгнуть и…
— Вы хотите сказать, нарушить, — заметил я.
— Или нарушить, если вам угодно. Будет судебное разбирательство. Эти, — он указал на записку, — будут за вас вести процесс. С лучшими адвокатами. Разумеется, заплатят и ваши долги.
— Какие долги? — испуганно спросила Ирина.
— А, всего 210 000 марок аванса, — сказал Ларжан. — Мои люди их, разумеется, заплатят. Кстати, никакого процесса вообще не будет. Не будет процесса, я сказал, Роланд.
— Слышал, — буркнул я. — Это вы так считаете! Почему они непременно хотят меня? И непременно срочно? — Я догадывался о причине, но мне было любопытно услышать, как он это преподнесет.
— Ваше имя. Они помешались на вашем имени! Чтобы в Америке раскрутилось имя, нужно много времени. Я им годами говорил: этот парень вам нужен. Теперь пришло время. Разумеется, парень Вальтер Роланд с его великолепными репортажами, а не этот жалкий пачкун Курт Корелл. Дешевки о сексе там вам уже не придется больше писать. Только серьезные вещи. Настолько серьезные, насколько вы сами захотите! Первым делом вам надо будет написать о высадке на Луну. Все. От А до Я. Они тут же пошлют вас в Хьюстон. Потом вы сможете объехать весь мир. Политические статьи — никто не будет давить на вас! Пишите на любые темы — научные, исторические, злободневные. Самые лучшие и крупные темы…
— Ну, положим, история, за которой я сейчас как раз гоняюсь, не подойдет, а? — спросил я.
— Нет, эта не годится. Роланд, вам надо, наконец, научиться мыслить в международном масштабе! Ну что здесь? Этим вы можете впечатлить только Германию. А тех… — он опять указал на бумажку, — …читают во всем мире. У них девять различных изданий. Тираж пять миллионов. Забудьте вы эту свою сопливую историю.
«Ну, наконец, — подумал я. — Ведь это все ерунда, вчерашний день. Вот в чем заковыка с суперсделкой! — проносилось у меня в голове. — Это на самом деле ни одну собаку не интересует. Вот, значит, как он мне это преподносит: Вальтер Роланд, они хотят сделать из вас человека, которого знает весь мир. Разве это не дорогого стоит?»
Я опять не ответил, продолжая жевать. Ирина смотрела теперь на меня с испугом. Я улыбнулся ей.
— И вы уедете прочь с этого тухлого континента. Увидите мир. Услышите его. Прочувствуете.
— Да, — сказал я, — ароматы дальних стран.
Он был непробиваем.
— Ну вот! Значит, договорились? Завтра договор и чек. Рад, что мы так быстро…
— Ларжан, — перебил я его, — «Блицу» нужна эта история. Они так просто не отпустят меня.
— Придется. После всего, что они вам сделали. Разве вам хорошо в «Блице»?
Я молчал.
— Разве это не унизительно, то, в чем они вас подозревали? Разве они не эксплуатировали вас самым циничным образом? Поэтому вы и увольняетесь досрочно. Потому что не в силах больше выдерживать в этом хлеву. В этом компьютерном хлеву. — Он захохотал. Я не уверен, что акулы способны хохотать. Но если способны, то Ларжан хохотал именно как акула. — Если у вас есть желание, милая фройляйн, конечно, вы тоже приглашены. Чуть было не забыл передать и вам приглашение.
— И мне в Нью-Йорк? — произнесла Ирина.
— Ага.
— Но… у меня еще здесь есть дела и у господина Роланда тоже…
— Опять эта история, — сказал американец с видимым отвращением, которое он с удовольствием смыл бы большим глотком. — Эта поганая история. Перевернутая страница. Завтра о ней не будет говорить ни один человек. Или, ладно, пусть говорят, но писать об этом не должен никто.
— Я подписала с господином Роландом в пользу «Блица» договор о личных неимущественных правах, — сказала Ирина, которая уже ничего больше не понимала.
— Ну надо же, — опять захохотал Ларжан, — вы ведь даже не знаете, что такое личное неимущественное право.
— Хочешь еще тост, Ирина? — спросил я. — Вот масло… Отнюдь, Ларжан, она прекрасно знает, что это такое. И у меня есть подобные договора еще с десятком других людей.
— Этими договорами «Блиц» может… Вы понимаете, что я хотел сказать, — ухмыльнулся агент.
— У нас еще есть магнитофонные кассеты и куча фотографий, отправленных в редакцию.
— Энгельгардт, не так ли?
— Да.
— И тем не менее ваша история не будет напечатана.
— Еще как будет! Они уже работают над картинками с анонсом в номере, предшествующем началу моего материала. Он уже анонсирован!
— И никогда не будет напечатан, — произнес Ларжан.
— Что?
— Ни строчки, — сказал Ларжан. — Можете не сомневаться. Ни одной строчки вашей истории не появится в «Блице». Уже анонсировали, прекрасно. Значит, отзовут, эка важность! Как часто такое бывало!
— Почем вы так уверены, что мой материал не будет напечатан? — Мне становилось не по себе.
— Приятный пожилой господин из Кёльна, — ответил Ларжан.
Я положил нож и вилку.
— Это неправда, — сказал я.
— Провалиться мне на этом месте, если это неправда, — произнес Ларжан. — Приятный пожилой господин из Кёльна позвонит вашему издателю и славно поговорит с ним. И этого будет достаточно. Как бывало всегда. Разве нет?
Я ничего не ответил. «Да, этого всегда было достаточно, — подумал я. — Вот проклятье, в какую же интригу я попал?» Чтобы вам стало ясно: приятный пожилой господин из Кёльна, как его называли, был одним из самых богатых людей ФРГ. «Крестный отец» самых толстых денежных мешков нашей страны. Он опекал их всех, был главой этого клана. Благодаря своим миллиардам, неограниченной власти своих миллиардов. Он помогал устраивать браки и разводы, затушевывать военные скандалы и предотвращать банкротства промышленников. Помогал и иностранцам — американцам, французам, англичанам, итальянцам, но прежде всего — американцам. При том условии, разумеется, что и они принадлежали к клану всемогущих. К клану супербогачей. У приятного пожилого господина из Кёльна был тихий голос, который он никогда не повышал. Он всегда все знал, был в курсе всего на свете. За все эти годы он уже несколько раз звонил Томасу Херфорду. В тех случаях, если мы собирались печатать статью или запускать серию, которые не устраивали клан. Тогда приятный пожилой господин из Кёльна просил Херфорда не печатать серию или статью. И Херфорд никогда не отказывал ему. Ни один человек в Германии не осмелился бы противоречить приятному пожилому господину из Кёльна. Ибо это означало бы его фактическую смерть. Карьера, само существование — обо всем можно было практически забыть. Приятный пожилой господин был в состоянии погубить предприятия и помощнее «Блица», если бы счел это необходимым. Стоило кому-нибудь из «Блица» пикнуть, как мог прекратиться поток рекламы от промышленников, как своих, так и зарубежных, и других клиентов. И все, «Блиц» был бы разорен. Вот как это делалось — в бархатных перчатках и с любезной улыбкой. До сих пор Херфорд всегда немедленно выполнял волю приятного пожилого господина.
«Поступит ли он так же и на этот раз? — размышлял я. — А если он этого не сделает, мне останется ждать, когда его дело развалится и американцы примутся за меня?» Умные крысы не остаются на тонущем корабле. Во всяком случае, после откровений Ларжана мне было ясно одно: моя серия не выйдет.
Но почему же тогда американцы известили Зеерозе, когда они собираются отправить Билку в Хельсинки и в Нью-Йорк? Почему они предоставили нам столько информации, что Берти смог полететь вместе с ними в Хельсинки? То была дружба, а теперь вдруг пригрозили приятным пожилым господином из Кёльна?
Может, Ларжан блефовал? От него можно было ожидать все, что угодно, — не только это.
— Магнитофонные кассеты, разумеется, захватите с собой в Нью-Йорк, — прервал мои размышления Ларжан. — То есть вы отдадите их завтра мне, когда я приду с договором.
— Ну уж нет, — сказал я.
— Ну уж да, — ответил он. — Ну и характер у вас, Роланд. — Ларжан опять по-акульи засмеялся, если бы акулы могли смеяться. Мой взгляд упал на цифру на бумажке, в четыре раза превосходящую мой нынешний фиксированный гонорар. Приятный пожилой господин из Кёльна. Вероятно, все же это не блеф. Я чего-то не понимал. И все-таки: никакого больше Херфорда, никакой Мамы, никакого Лестера. Никаких дешевок про секс. Свобода. Пиши, что хочешь. В другой стране. Вместе с Ириной.
В дверь постучали.
Я быстро поднялся и пошел к двери. Это прибыл Жюль с курочками и гарниром, как он объявил мне из-за двери. Я открыл ему, и он вкатил очередную тележку, сдвинул в сторону первую и принялся накрывать.
— Я сам все сделаю, Жюль, — сказал я.
Он пытливо взглянул на Ларжана и кивнул, само олицетворение тактичности и сдержанности, как и подобает старшему кельнеру по этажу.
— Разрешите, мадам? — Он снова наполнил наши фужеры и открыл новую бутылку. — А десерт? — Вы уже решили, что будете есть на десерт?
— Я после цыплят и кусочка не смогу проглотить, — сказала Ирина.
— Не надо никакого десерта, — сказал я. — Только принесите еще одну бутылку, Жюль.
— Хорошо, месье. Я приду через двадцать минут.
— Отлично. — Жюль исчез с первой тележкой, и я запер за ним дверь.
— Неплохо живете, — произнес Ларжан. — Конечно, считаете, что живете как у Христа за пазухой, и не представляете, как бы вы зажили в Нью-Йорке! — Его голос вдруг приобрел холодные стальные нотки. — Проснитесь, сударь! — В этот момент я как раз переправлял цыплят с серебряного блюда на тарелки и повернулся к нему спиной. — Проснитесь, сударь! Это ваш последний шанс!
— Почему последний? — испуганно спросила Ирина.
— Посмотрите на его руки, барышня. Они же у него трясутся! Пьянство.
— А если я уж такой спившийся, почему вам понадобился именно я да еще за такую безумную цену?
— Потому что они в вас верят.
— Ну-ну! — хмыкнул я. — А вы тоже верите в меня, Ларжан?
— Еще как! Разве иначе я гонялся бы за вами годами? Хорошо, о’кей, я ухожу. Не говорите «да» сейчас, вы это скажете завтра утром. — Он встал. — Это наговоренные кассеты?
— Эй, руки прочь!
— Смотрите, не наделайте в штаны, — буркнул он. — Никто у вас ничего не отнимает. Вы поедете в Нью-Йорк, я же вижу. Не надо меня обманывать и что-то сочинять о немецкой преданности и прочей ерунде. Я знаю людей. Завтра утром вы все подпишете. Ради себя самого. Чем раньше вы вырветесь из этой проклятой Европы, тем лучше, вот что я хочу сказать. Ну что? Почему вы опускаете глаза? Ведь добрый дядюшка Ларжан прав, абсолютно прав, разве не так?
Конечно, совсем уж не прав он не был…
— Дивные цыплята, не правда ли, Ирина? — сказал я.
Она ни слова не произнесла в ответ, лишь продолжала ковыряться вилкой в тарелке. Я положил ей жареной картошки с зеленым горошком и заметил, что мои руки действительно дрожат. Это не укрылось и от других. Только причиной было не пьянство, а волнение. Я вдруг вспомнил о своем «шакале». Его еще не было, но я подумал о нем и быстро осушил свой фужер.
— Вот-вот, — сказал Ларжан. — Теперь вы можете меня выпустить. Я телеграфирую, что вы согласны. — Я хранил молчание. — А завтра утром я вернусь. С контрактом и деньжатами. — Я продолжал молчать. Так же молча довел его до двери. Уходя, он поцеловал Ирине руку. А мне серьезно посмотрел в глаза и сказал: — Ну, значит, договорились.
— Спокойной ночи, — сказал я и распахнул перед ним дверь.
— До завтра, — произнес он с ухмылкой и ушел.
Я вернулся к Ирине и продолжил ужин, но еда почему-то потеряла всякий вкус. Я понял причину: в очередной раз я осознал, что меня очень легко превратить в крысу.
Очень легко.
К сожалению.
8
Прошло десять минут…
— Еще ножку? — спросил я Ирину. Все эти десять минут мы сидели молча. Только пили. Особенно я. «Шакал» рыскал где-то поблизости, готовый напасть в любую минуту.
— Нет, — ответила Ирина. Ее темные глаза поблескивали. Она уже немало выпила. Из радиоприемника все еще доносилась спокойная музыка, которую я попросил передавать из бара. — Я сыта. Больше ни кусочка не смогу проглотить. Вальтер, вы же не сможете так поступить!
— Как?
— Так просто уйти из «Блица».
— Нет, — сказал я, — разумеется, нет. Я не смогу этого сделать.
Ее грудь под красным платьем бурно поднялась и так же бурно опустилась.
— Но почему же вы однозначно не отказали этому мистеру Ларжану? — спросила Ирина.
Я снова налил нам шампанского.
— Видите ли, — медленно начал я, — американцы действительно предлагают немыслимые деньги.
— Ну и? — спросила Ирина. — И что? Вы можете ради них бросить «Блиц» и вашего друга Хэма, с которым вы так долго вместе работаете? Который так много для вас сделал — вы же сами мне рассказывали! Только из-за денег? Нет, на такую подлость вы не способны!
Я усмехнулся.
— М-да, — задумчиво произнес я, — а стоило бы попробовать. — Я снова выпил. С моим «шакалом», судя по его замашкам, надо было держать ухо востро.
— Фу, какая гадость! — в сердцах воскликнула Ирина и испуганно закрыла рот ладонью. — Извините!
— Да, ладно, — сказал я.
Она какое-то время не мигая смотрела на меня, а потом спросила:
— Это правда, что вы должны «Блицу» двести десять тысяч марок?
— Да, — сказал я. — Ну и что? У меня было и триста тысяч долгу.
— А белая машина, она хотя бы ваша?
— Да, моя. Я… В чем дело? Почему вы так на меня смотрите? — Она была навеселе. С пьяным смешком Ирина произнесла:
— У меня с вами договор, по которому я должна получить пять тысяч марок!
— Ну и?
— Вы принесли мне кучу вещей — одежды и всего остального, но денег я еще не видела.
— Разве нет?
— Не видела!
— Ну как же, — произнес я, вспомнив вдруг о Берти, который был на пути в Хельсинки. — Вы просто невнимательны. Это потому, что я вас не интересую. Вы не хотите сконцентрировать на мне свое внимание. Взгляните-ка под диван. У изголовья.
Ирина встала, слегка покачнулась и опустилась на колени перед диваном. Пошарив рукой, она выудила конверт. Разорвала его, и оттуда выпали банкноты.
— Семьсот марок! — восторженно воскликнула она.
— Не будьте такой материалисткой, геноссин, — произнес я. — Там еще и письмо есть. — Теперь начиналась милая игра в письма, которые я спрятал в разных местах. По времени я так все и рассчитал. У меня был такой чудесный план на всю эту ночь, когда мне нужно было присматривать за Ириной, а американцы везли Яна Билку в Нью-Йорк — вместе с планами стран-участниц Варшавского Договора на случай войны…
Сидя на корточках перед диваном, Ирина прочла вслух то, что я написал на листке бумаги:
— «Упоительно прекрасная юная дама! Мужчина, писавший эти строки, самый несчастный человек на свете. Если вас интересует причина, посмотрите за портьерой широкого окна в салоне…» — Ирина поднялась, смеясь и покачиваясь, побежала к портьере и обнаружила там второй конверт, спрятанный мною. Когда она его открыла, оттуда выпали две крупные банкноты.
— Две тысячи марок!
— Читайте письмо, — напомнил я.
Она послушно прочитала:
— «Он самый несчастный человек на свете, поскольку провел в вашем обществе уже пятьдесят часов, но все еще не имеет права гладить, целовать и ласкать ваши волосы, ваше лицо, вашу шею, ваши изумительные большие…» Нет, господин Роланд, это уже чересчур! — Она залилась краской.
— Дальше, дальше! — потребовал я, потягивая «Поммери».
— «…ваши изумительные большие… потому что он — продолжение в ванной комнате, за футляром электробритвы…»
Ирина снова засмеялась. Держа в руках конверты, письма и деньги, она побежала в спальню.
В этот момент раздался стук в дверь. Услышав голос Жюля, я отпер. Он принес бочонок с новой бутылкой шампанского.
— Давайте ее сюда, — сказал я, собираясь открыть бутылку. Во второй уже было на донышке.
Собирая посуду на столике, Жюль произнес:
— Все в полном порядке, месье. Я сейчас говорил с месье Зеерозе. Он целиком d’accord[105] с американцами. Вы получите от них эксклюзивно дополнительный материал — в качестве благодарности за поддержку…
В чем дело? Я был в полном замешательстве. Ларжан все-таки пытался блефовать? Или американцы блефовали? Может, они в самом деле хотели нас одурачить и водили за нос даже свехумного Зеерозе? Мы так далеко продвинулись вперед и столько всего узнали, прежде чем американцы изъявили готовность помогать нам. Может, они стали такими услужливыми, испугавшись, что иначе мы в конце концов станем мешать им и можем все сорвать? И в итоге в их планы входило облапошить нас? Ларжан косвенно намекал на это. Но тогда он и был главным жуликом. Какой же все-таки смысл было ему тащить меня в Нью-Йорк? Комиссионные? Да, конечно, комиссионные. И все же… Нет, это надо отложить до завтра, я ничего не понимаю.
— А что с большими информационными агентствами? — спросил я Жюля.
— Ни одно не пронюхало.
Из ванной донесся легкий вскрик Ирины.
— Что это? — удивился Жюль.
— Немного денег от моего издателя. И пара нежных слов от меня. Как вы мне и советовали. Как видите, тут тоже все в полном порядке.
Жюль засмеялся.
— Bonne chance, Monsieur.[106] — Он поставил поднос с новыми фужерами и направился вместе с тележкой к выходу. Я помахал ему и запер за ним дверь. Потом опять наполнил два фужера шампанским.
Из спальни вышла Ирина. Она держала в руках еще одно письмо, еще один конверт и еще больше денег и выглядела перевозбужденной. Глаза ее при этом горели. Она произнесла:
— Ну и наглец вы!
— Вы не хотите вслух прочесть то, что написано в этом письме?
— Вы прекрасно знаете, что это нельзя читать вслух!
Я подошел к ней.
— Вам этого еще никто не говорил?
— Такое… и такими словами… нет, никто!
— Могу я это сказать? — спросил я и обнял ее.
Она порывисто вырвалась из моих объятий:
— Отпустите меня! Я еще должна заглянуть под вашу пишущую машинку… Там лежит продолжение…
— Но сначала… — сказал я, протягивая ей фужер.
Она посмотрела на меня своими черными беспокойными глазами.
— Вы хотите меня напоить? Я должна напиться? Ужасно напиться?
— Да, сделайте одолжение, — произнес я, опять вспомнив про Берти, а потом про Ларжана и его предложение. И тут же я понял, что хочу Ирину, очень хочу, немедленно. Она подняла фужер.
— Хорошо, я напьюсь до беспамятства. Бессмысленно. Почему бы и нет? — Она выпила полфужера и отдала его мне. Потом побежала к моей портативной пишущей машинке и вытащила из-под нее конверт. Ирина надорвала его, и оттуда опять выскользнули банкноты.
— Но это уже слишком много, — пробормотала она. — Опять две тысячи… Все вместе это уже гораздо больше, чем пять тысяч марок… — Она прочитала вслух письмо: «…столько денег, сколько я хотел бы тебе подарить, нет во всех банках мира, вместе взятых. Точно так же, как мужчины всего мира, вместе взятые, не смогут тебя так сладко…» — Она замолчала. — О Боже, а вдруг это кто-нибудь прочтет! Письмо надо немедленно порвать и сжечь! — Однако она не порвала и не сожгла его, а прочла: — «Продолжение под подушкой на твоей кровати…» — Ирина была уже очень сильно пьяна, она улыбнулась мне и побежала в спальню. Я быстро снял трубку и потребовал бар. Подошел Чарли, и я кое о чем попросил его.
— Сделаю, господин Роланд, — ответил бармен.
Я повесил трубку и пошел в спальню, прихватив с собой два полных фужера с шампанским. В спальне тоже было включено радио, встроенное в ночной столик. Зазвучала музыка из бара, «I'm always chasing rainbows»,[107] старая вещь…
Ошеломленная Ирина стояла перед кроватью. Она свалила все конверты, письма и деньги на откинутое покрывало и таращилась на меня.
— Вы сошли с ума!
— Разумеется, — сказал я. — И вы в этом виноваты.
— Двести десять тысяч марок долгов и вдруг такие вещи… Боже мой, да я за всю жизнь таких денег не видела! Почему вы это делаете?
— Все стоит в этом письме, — ответил я. — Потому что, ну читайте!
Она послушно прочла:
— «Потому что я тебя люблю…» Какой вздор!
Я протянул ей фужер, и мы вместе выпили. Потом я забрал у нее фужер, поставил рядом со своим на столик и обнял Ирину.
— Никакой не вздор, а правда, — проговорил я. И как только я это произнес, это действительно стало правдой. Я столько свинства делал в своей жизни, но на этот раз это была правда. Конечно, мы были пьяны. И тем не менее, это была правда.
— Мы же совершенно не знаем друг друга, — сказала Ирина в моих объятиях. Теперь она больше не вырывалась. — Мы ведь ничего не знаем друг о друге.
— Я достаточно знаю о тебе, — сказал я и прижал ее к себе. — Я в тебя влюбился еще в лагере, когда ты вошла в дверь… В твои глаза влюбился, в твои черные волосы, которые на самом деле иссиня-черные, как твои глаза… и в твой голос…
И вот именно в этот момент зазвучала музыка с пластинки, которую я просил поставить Чарли, — «Хоровод». Я на секунду выпустил Ирину, смахнул деньги и бумагу на ковер, потом снова обнял ее и мягко попробовал уложить.
— Нет, — прошептала она, — пожалуйста, не надо…
— Надо, — сказал я. — Я прошу тебя, дорогая…
Ее колени поддались. Она опустилась на постель, а я опустился на нее и стал целовать ее губы, ее лоб, ее шею, пытаясь расстегнуть молнию на платье.
— Вдруг кто-нибудь войдет… — простонала Ирина.
— Все заперто, — успокоил я ее и, нажав кнопку возле кровати, выключил верхний свет. Теперь горел лишь ночник под красным шелковым абажуром.
Мы больше не разговаривали, она поворачивалась с боку на бок в моих руках, я снял с нее платье, потом стянул лифчик и белые трусики, она извивалась как змея, тихонько постанывая, ее золотые туфли упали на пол, она лежала голая передо мной, лишь в узком пояске для резинок и в чулках, и была такой красивой, такой прекрасной.
Я встал и быстро разделся, сбросив всю одежду на пол. Потом я опять лег рядом с Ириной и стал гладить и целовать все ее тело, каждую клеточку — затылок, уши, глаза, груди, живот. Мои губы скользнули ниже. Она застонала громче и перестала вертеться, ее бедра раскрылись, когда я спустился к тому месту, и я прижался туда лицом и был так ласков и бережен, как только мог. Пальцы Ирины вцепились в мои волосы, я почувствовал, что ее возбуждение росло, и сам был беспредельно возбужден, как никогда раньше. Но я продолжал целовать ее и ждал, пока она сама не позовет меня.
Она вдруг всхлипнула:
— Иди ко мне… скорее… скорее… давай…
Я приподнялся и лег на нее. И мне казалось, что музыка «Хоровода» звучит все громче и громче, словно красивая мелодия все смывает и уносит прочь: всю суетливость и неуверенность, печаль, напряжение, сомнения, размышления, заботы, усталость, «шакала».
Да, и его тоже.
9
Отзвучал «Хоровод». Я сидел голый на краю постели. Теперь из радиоприемника доносилась музыкальная тема «Лаура».
Ирина сидела тоже голая на постели, обхватив колени руками, волосы ее были спутаны, а по лицу текли слезы. Она была очень несчастна, а я был в ярости. Я поискал в пиджаке, который валялся на ковре, сигареты и зажигалку, нашел и то, и другое, но зажигалка не работала, и я со злостью, выругавшись почти вслух, отшвырнул сигарету, уже взятую в рот, и уронил зажигалку.
— Теперь вы злитесь, — сказала Ирина.
— Ну с чего же, — произнес я и оделся.
— Злитесь, — вздохнула Ирина. — И я могу это понять. Прекрасно понимаю. Это все моя вина…
Я выпил глоток шампанского, и меня всего передернуло. Оно было теплым.
Я застегнул брюки, сунул ноги в туфли и надел пиджак. Держа галстук в руках, я пошел к двери в салон.
— Куда вы собрались?
— Виски, — ответил я. — Выпить виски. С меня довольно этого шампанского. Лежите. Я заберу свое одеяло и свою подушку.
— Вальтер! — В ее голосе звучало искреннее отчаяние.
— Да-да, — проговорил я.
— Не уходите… не уходите так сразу… Посидите еще со мной.
— Для чего?
— Ну, пожалуйста!
Я присел на край постели, посмотрел на нее и не слишком вежливо спросил:
— Ну и?
— Мне так жаль, — сказала она и заплакала по-настоящему, но на этот раз я не предложил ей носового платка.
— Можете не сожалеть, — произнес я. — Просто я не в вашем вкусе.
— Нет! — горячо запротестовала она. — С этим это никак не связано… Вы кажетесь мне милым… и таким славным…
— Да, — кивнул я. — Конечно.
— В самом деле! И у меня действительно было твердое намерение… Поэтому я и напилась!
— Ах вот как!
— Я сказала себе: я это сделаю! И я хотела это сделать, правда, Вальтер… но потом…
— Гм.
— …потом мне стало ужасно стыдно, и ничего не получилось… просто ничего не получилось…
У меня больше не было сил выдерживать это. Я встал и забегал по комнате. Потом бросил зло:
— Твердое намерение. Что значит — было твердое намерение? Почему? Из чувства благодарности, да?
— Нет, — выдохнула она, но я этого не услышал.
— А если из благодарности, то зачем вы сначала возбуждаете себя и меня до такой степени, что уже невозможно терпеть, а потом отталкиваете меня и ведете себя как сумасшедшая? — Именно так она и вела себя. Такого в моей жизни еще никогда не было.
— Это была не благодарность, — сказала Ирина, сидевшая, прижав ноги к груди. — Это вообще не имеет ничего общего с благодарностью.
— А с чем?
— С Яном. — Этого мне только не хватало.
— Что?
— Да, с Яном. Я была… я была пьяна. Я внушила себе безумную идею.
— Какую еще безумную идею? — Я теребил и мусолил свой галстук.
— Я решила, если я это сделаю, тогда… тогда… вы скажете мне всю правду.
— Какую правду?
— О Яне!
— Ах вот что, — протянул я. — Прикладная психология, понятно. Студентка факультета психологии, первый семестр. Как же я этого не учел? Конечно, еще не такой большой опыт на первом курсе, но все же…
— Пожалуйста, Вальтер! Вы же обманываете меня! Все лгут мне, даже Берти. Это перешептывание… этот француз-кельнер… этот мистер Ларжан… Где сейчас Берти? Почему вы так нервничаете?
— Нервничаю? — Я даже не мог толком завязать галстук, так сильно дрожали мои руки. Если я сейчас не выпью большой стакан «Чивас», «шакал» будет тут. — Я за всю свою жизнь никогда не был более спокоен, чем сейчас, — произнес я, продолжая манипуляции с галстуком.
— Я ужасно боюсь за Яна, Вальтер! Ну пожалуйста, скажите мне, что с ним действительно случалось! Где он сейчас? Что с ним делают? Заберите назад деньги! Все! Я не хочу их! Вы можете писать обо мне, сколько хотите! Но только скажите мне правду!
Я ошеломленно произнес:
— Вы все еще так сильно любите его?
Она ничего не ответила. Наши взгляды встретились. Прошло несколько секунд, и тут зазвонил телефон на ночном столике с той стороны, которая должна была бы быть моей. Я подошел к нему, по-идиотски отметив, что звонил и аппарат в салоне, и тот маленький, что висел на стене в ванной. Я сел на кровать и снял трубку. Звонил ночной портье Хайнце. Он был очень краток. Меня почти тошнило. Я был в каком-то оцепенении и не мог произнести ни слова.
— Да, — наконец сказал я с трудом. — Да, хорошо… Мы его ждем… — Я повесил трубку, продолжая сидеть спиной к Ирине. Я взглянул на свои туфли и, абсолютно ничего не понимая, произнес: — Он здесь.
— Кто?
«Я готов, как фройляйн Луиза, — подумал я. — Что это еще за ловушка? А „кольт“ у Берти». В моей голове все смешалось.
— Кто? — услышал я, наконец, вопрос Ирины.
Я повернулся к ней.
— Билка, — сказал я.
— Ян? — вскрикнула Ирина. Я был в состоянии лишь кивнуть. — Он здесь, в отеле?
— Здесь, в отеле, — сказал я, прижав обе ладони к вискам. — Как здесь может оказаться Билка? Такого не может быть. Это невозможно. И тем не менее, он здесь. И поднимается сюда…
Ирина выпрыгнула из постели, быстро надела халат и тапочки, которые я ей купил, пригладила волосы и, бросившись к двери в салон, распахнула ее. Я поднялся и пошел за ней.
В проеме двери она встала как вкопанная и закричала:
— Вальтер!
Я уже увидел его. Он сидел в глубоком кресле, закинув ногу на ногу — мужчина лет пятидесяти, с черепом благородной формы, блестящими серебристыми волосами и бледным лицом. На нем был безукоризненно сшитый костюм и те самые элегантные туфли, которыми я уже когда-то восхищался — у двери соседнего люкса.
10
Ирина прошептала почти беззвучно:
— Кто… вы?
— Иосиф Монеров. Вымышленное имя так же не важно, как и настоящее.
— Как и то, нейрохирург вы или нет, — добавил я.
Он улыбнулся.
— Верно, господин Роланд. — Поймав мой взгляд, он пояснил: — Я проник через балконную дверь. Она была приоткрыта. Балконы снаружи проходят по всему фасаду. А мы соседи, не так ли?
— Что вам здесь надо? — спросил я, вспомнив при этом фройляйн Луизу. Где-то она сейчас? Неужели она в самом деле догадывалась… знала, заранее знала, что произойдет сегодня ночью?
— Я жду господина Билку, — сообщил Монеров. — Кстати, уже довольно долго. Но теперь он, кажется, идет.
— Откуда вы это знаете? — Ирина покачнулась и ухватилась за меня.
— Ну, — дружелюбно произнес Монеров. — Нетрудно догадаться. Ваша взволнованность и то, как вы ворвались в комнату. Телефонный звонок. Я полагаю, это попросил сообщить о своем прибытии господин Билка. У нас с ним здесь назначена встреча.
— Что у вас назначено? — пролепетала Ирина.
— Встреча, — повторил Монеров. Я тем временем сделал два шага в сторону телефона. У Монерова — или как там его звали — в руке вдруг появился пистолет. Не слишком большой. Он сверкнул под огнями люстры. Монеров помахал им.
— Прочь от телефона, господин Роланд. Идите к двери. Когда постучат, откройте и впустите господина Билку. Если вы еще предпримете какие-либо действия, я нажму на курок. Сожалею, что вынужден так поступать, но вы и так причинили нам слишком много неприятностей. — Он подвигал оружием.
Я не герой и не желаю им становиться. Я подошел к двери. Монеров поднялся и встал рядом таким образом, чтобы тот, кто войдет, проходя по маленькой передней, не сразу увидел его.
— И не запирайте снова, — приказал Монеров.
Я кивнул.
После этого никто из нас не произнес ни слова. Из приемника доносилась мелодия «Ночь и день». Прошло секунд двадцать. Мне они показались двадцатью часами. Потом в дверь постучали. Я вышел в переднюю. Теперь Монеров целился мне в спину.
— Кто там? — спросил я.
— Билка, — ответил чей-то голос.
Я отпер. Вошел мужчина лет как минимум сорока. Он был бледен и имел несчастный вид, одет он был в промокший плащ, к тому же был пьян. Он бросил на меня затравленный взгляд.
— Проходите, — сказал я, абсолютно уже ничего не понимая. Мужчина, назвавшийся Билкой, вошел в салон и остановился. С его плаща капало. Голова его с жидкими волосами была непокрыта. Увидев русского, он униженно поклонился, чуть не упав при этом, настолько он был пьян.
Ирина истерично закричала:
— Вы не Ян Билка! Я вас никогда не видела! Ни разу в жизни!
Махнув пистолетом в сторону девушки, русский призвал ее к спокойствию. Потом обратился к пьяному:
— Назовите вашу фамилию!
— Билка, — ответил мужчина с несчастным видом. По его лицу стекали дождевые капли.
— Это неправда! — опять закричала Ирина.
— Вацлав Билка, — сказал мужчина. — Я брат Яна.
Ирина подошла ко мне, беспомощно хватаясь за мой рукав.
— Брат? Ян никогда не рассказывал мне ни о каком брате…
— Ян много чего не рассказывал, — бросил я. Потом я спросил пьяного:
— Откуда вы приехали?
— Из Мюнхена.
— Что-о?
— Да, из Мюнхена. Я там уже двадцать лет живу. Жена умерла. Совсем один. Торгую рамами. Когда-то дела шли хорошо, теперь паршиво. — Он напряженно поразмыслил и добавил: — У меня особенно красивые рамы. Всегда были. Теперь, наверное, они больше никому не нужны. Я их сам делаю.
— Где Ян? — воскликнула Ирина. — Что вы знаете о нем? Пожалуйста, скажите мне!
— Минуту! — энергично вмешался Монеров. Он внимательно посмотрел на Билку. — Почему вы приехали так поздно?
— Поезд пришел с опозданием.
— Ваш поезд прибыл час назад, — жестко произнес Монеров. — От вас несет шнапсом.
Брат Билки ударил кулаком по воздуху.
— Так точно, я пил! — воскликнул он. — Я ненавижу вас!
— Это разрывает мне сердце, — усмехнулся Монеров.
— Господин Билка, — обратился я к нему, — а почему вы вообще приехали сюда?
Он посмотрел на меня бессмысленным взглядом.
— Сегодня рано утром, — с видимым усилием заговорил он наконец, — ко мне пришли двое. В мою мюнхенскую квартиру. Люди этого вот. — Он показал на Монерова. — Они мне приказали.
— Приказали сюда приехать?
Вацлав кивнул.
— Как можно приказать такое? — удивился я.
Билка хотел было ответить, но покачнулся и увидел бутылку «Чивас».
— Что это? Впрочем, безразлично. — Теперь он заговорил быстро. — Дайте мне чего-нибудь.
Я налил полстакана и протянул Билке. Он выпил залпом. После чего, закашлявшись, плюхнулся в кресло. Все взгляды были прикованы к нему.
— Да, как можно мне такое приказать? — вздохнул он, постепенно успокаиваясь. — Дело в том, что я люблю своего брата. Единственного оставшегося в живых родственника. И жена моя его любила. Ян нас навещал в Вене. Или мы его в Праге. Он соблазнил мою жену, проклятое отродье. Но что я могу поделать. Я все равно люблю его. Он грязная скотина.
— Не называйте его грязной скотиной! — возмутилась Ирина.
Билка посмотрел на нее пьяными глазами.
— А разве это не скотство — то, что сделал Ян?
— Он бежал, потому что вынужден был спасаться бегством, — горячилась Ирина. — Хотя бы вы как брат должны это понимать! Никто здесь не понимает этого, на зажравшемся Западе!
— Бежал! — Брат злобно захохотал. — Бежал! Наше государство его годами воспитывало, давало образование, продвигало, оплачивало, в секретные службы определило… — Билка громко рыгнул, — …а он фотографирует военные планы Варшавского Договора и сваливает на Запад, а потом продает планы американцам.
— Это неправда! — возмутилась Ирина. Она взглянула на меня: — Или правда? Так оно и есть? — Я кивнул. Вот все и всплыло. Все это время я пытался подойти к своему магнитофону, чтобы его включить, и вот наконец протянул руку.
— Руки! — послышался окрик Монерова. — Ничего не включать! Внимательно слушайте, юная фройляйн. Вот вы все и узнаете о своем женишке.
— Да, — с горечью поддакнул я. — Вот вы все и узнаете. Без этого мы могли бы обойтись… — Я бросил мимолетный взгляд на спальню.
Пьяный посмотрел на Ирину и спросил:
— А ваше мнение, сударыня: может, мой брат вовсе не скотина?
Ирина молчала. Ее нижняя губа подрагивала, маленькие ручки сжались в кулаки.
— Эти двое, сегодня утром в Мюнхене, они мне все рассказали. Предъявили доказательства. Никаких сомнений. Они сказали: поезжай в Гамбург, отель «Метрополь», поговори с господином Роландом. Тогда мы посадим твоего брата только на двадцать-тридцать лет. А не убьем, как он того заслуживает.
Я открыл рот и снова закрыл его.
— Вы хотели сказать: сначала мы должны поймать Яна Билку, — произнес Монеров. — Не так ли, господин Роланд?
Я молчал.
— Вы молчите. — Я бросил взгляд на часы. — Вы смотрите на свои часы. Половина двенадцатого. Вы думаете: Билка давно уже приземлился в Хельсинки. Через полчаса он полетит дальше, в Нью-Йорк. Американцы охраняют его и его вторую невесту. Уж извините, фройляйн Индиго.
— Какие Хельсинки? Какой Нью-Йорк? Скажите же мне, наконец, что все это значит? Ну пожалуйста! — взмолилась Ирина.
Монеров дружелюбно кивнул ей:
— Сейчас… — Он спросил меня: — Вы гадаете, откуда мне все это известно?
— Да, — ответил я.
Он посмотрел на столик, в который было вмонтировано радио. Я подскочил к нему. Ножиком для вскрытия писем сорвал с аппарата волоконную рамку. Передо мной обнажилось нутро радиоприемника, продолжавшего передавать музыку. Потом я обнаружил кое-что еще.
— Микрофон, — произнес я как последний идиот. — Значит, вы в курсе всего.
— Всего, господин Роланд. — Монеров кивнул с серьезным видом. — Разумеется, я не все время находился в соседнем люксе. У меня было достаточно других дел в городе, как вы можете себе представить. Не можем же мы допустить, чтобы господин Билка украл наши важнейшие военные документы и чтобы они попали в руки к американцам, вы согласны? Я хочу сказать: нас ведь можно понять. Но если меня не было в номере, там всегда находился кто-то другой, кто слышал все, что здесь говорилось. И записывал это на пленку. Всегда кто-нибудь был. Мы не идиоты, господин Роланд. И не проходимцы, как господин Билка. Мы прекрасно понимаем американцев, и они бы нас поняли в противоположной ситуации. Я даже думаю, что и вы нас хорошо понимаете, не так ли, господин Роланд?
— Да, — прохрипел я.
— О Боже, — застонала Ирина и опустилась в кресло. Ее халат распахнулся на ногах, но она этого не заметила. Она тихонько плакала. Сейчас у меня не было времени заботиться о ней.
— Кто же вмонтировал этот микро… — Я перебил сам себя: — Ну конечно, молодой парень-электрик!
— Да, господин Роланд, молодой электрик. Микрофон вышел из строя. К счастью, сломалось и радио. Вы сами позвали электрика. В этом весь комизм. В какой-то момент мы уже решили, что все потеряно. Но потом Фельмар опять починил микрофон.
— Фельмар? — переспросил я. «Шакал»! Он вдруг появился. Я схватил бутылку «Чивас» и стал пить из нее — много и долго.
— Шок? — сочувственно спросил Монеров.
— Господин Роланд, я должен… — начал, поднимаясь, подавленный Вацлав Билка, но Монеров осадил его.
— Сидите спокойно! Потом.
Билка безропотно опустил голову.
— Кто такой Фельмар? — воскликнула Ирина.
— Спросите у господина Роланда. Я думаю, он уже понял.
Да, я понял.
— Фельмар, — произнес я и заметил, что мой голос почти сел. — Людвиг Фельмар. Из числа главных военных преступников. Ответственен за уничтожение населения целых городов в России. Скрывался в Бразилии. Теперь его выследили. Это ведь тот самый Фельмар, или?
— Это Фельмар-отец, — сказал Монеров. — Дальше. Рассказывайте дальше, господин Роланд, что вам еще известно.
— Этот Фельмар должен быть выдан. Федеральное правительство требует этого. Если будет собрано достаточно обвинительного материала. В настоящее время федеральное правительство еще не может предъявить бразильцам достаточно улик против Фельмара. Поэтому он остается там. Я знал, что у него есть сын по имени Юрген. Жена умерла. Покончила с собой много лет назад.
— Юрген вырос в детских домах, — добавил Монеров. — Хороший мальчик. — Он произнес это искренне, без всякого цинизма. — Ему пришлось туго. Ведь он очень любит отца, так же, как Вацлав Билка любит своего брата Яна. Ужасная вещь, любовь. Достоевский пишет…
— И вы знали, что Юрген Фельмар работает в «Метрополе»? — перебил я его.
— Да, счастливое совпадение. Иначе пришлось бы идти другим путем. А так вышло, конечно, особенно удачно. Видите ли, обвинительный материал, которого не хватает вашему правительству для выдачи папы-Фельмара, есть у нас в Москве. Нас уже срочно просили предоставить его. Мы его не отдали. К нам часто обращаются с подобными просьбами, но мы ничего не отдаем. Никогда не знаешь, так ведь? Вот мы и сказали Юргену, что мы сохраним у себя весь материал и ничего не выдадим, если он поможет нам. Если он нам не поможет, его отцу конец…
— Гостиничный электрик, — проговорил я. Я был оглушен. — Вацлав Билка. То есть, вы можете шантажировать любого?
Монеров грустно улыбнулся.
— Если играть на поведении и чувствах людей, большинство из них можно шантажировать, господин Роланд.
Пьяный мюнхенский мастер по изготовлению рам неожиданно вскочил и набросился на меня, схватил за обе руки и обдал сильным перегаром.
— Не пишите об этом деле! — закричал он. — Вот что я должен был вам сказать! Это и есть цель моего приезда! Если вы напечатаете эту историю, моего брата убьют! Если вы эту историю не напечатаете…
— И передадите нам все кассеты с пленками… — добавил Монеров.
— …Яна только посадят. Но он останется в живых! Он будет жить!
Я оттолкнул от себя Билку, не в состоянии выносить его смрадный перегар.
Он снова плюхнулся в кресло.
Я сказал:
— Вы уже второй человек, который непременно хочет, чтобы я не писал свою статью. Вы, разумеется, в курсе, профессор Монеров.
— Разумеется, — ответил русский все тем же дружелюбным тоном. — Я слышал, что вам рассказывал мистер Ларжан. И что он вам предлагал. Вы же интеллигентный человек, господин Роланд, вы же не можете всерьез полагать, что Ларжан говорил только от лица этого нью-йоркского иллюстрированного журнала. Учитывая, о чем идет речь… Я вас умоляю!
«Что на самом деле хотят американцы, об этом ты знаешь не больше моего», — подумал я.
Монеров обратился к Ирине и Билке, не сводившим с него глаз:
— Все в руках господина Роланда. Американцы предлагают ему неслыханное место, если он не будет писать. Мы не предлагаем ничего. Мы лишь обещаем не убивать Яна Билку. В нашем случае все сводится к человечному решению.
Я захохотал.
— Не смейтесь, господин Роланд. Смех здесь абсолютно неуместен. Вас позабавило слово «человечное»?
— Да, — кивнул я. — Очень.
— Это лишь показывает, как мало еще в вас самих человечного, — произнес русский.
— Ради Бога! — Билка опять вскочил. Я не подпустил его близко к себе, поскольку он явно вновь собирался схватить меня за руки.
— Я вас заклинаю, я умоляю вас, на колени встану… — Он действительно бухнулся на колени и стал заламывать руки. — Не пишите! Иначе на вашей совести будет человеческая жизнь! Господин Роланд… Господин Роланд… — Теперь он обхватил мои колени. Я наклонился и оторвал его руки, он опрокинулся и, пьяный, растянулся на ковре. Из его рта текла слюна. Из радиоприемника со свисающей передней стенкой доносились звуки «Голубых небес».
— Господин Роланд, я вас умоляю, пожалейте моего бедного брата! — стонал Вацлав Билка.
— Почему всем так важно, чтобы ничего не было написано об этой истории? — растерянно спросила Ирина.
— Существуют, знаете ли, вещи, — сказал Монеров, — которые беспокоят людей, не так ли? Это нехорошо. Это таит в себе угрозу миру. Эта история, если она станет достоянием людей, которые еще ничего о ней не знают…
Он замолчал, потому что зазвонил телефон.
Я таращился на аппарат и не двигался с места.
Телефон продолжал звонить.
— Ну снимите же трубку, — не выдержал Монеров.
Я как марионетка или как робот подошел к телефону и снял трубку. Отчетливо, будто он стоял рядом со мной, раздался голос Берти:
— Вальтер, это ты?
— Да, — ответил я. — Почему ты звонишь сюда? Ты же не должен… Где ты?
— Хельсинки. — Он тяжело дышал.
— Ну и?
— Да подожди ты! Я для того и звоню, чтобы тебе все рассказать. Слушай…
Я начал слушать. После первой же фразы у меня появилось такое ощущение, словно я получил левый свингер под ложечку от Кассиуса Клея. У меня не было сил стоять, я буквально согнулся пополам и сполз на диван. Трубка выскользнула из моих рук и упала на ковер. Я услышал алеканье Берти. Медленно и с огромным усилием я поднял трубку и поднес к уху.
— Что это было? Что случилось? Ты еще здесь, Вальтер?
— Да, — откликнулся я. — Я еще здесь. Рассказывай дальше, Берти.
Он продолжил свой рассказ.
11
Белый город лежал у моря.
Ночь была светлая, и когда самолет, пролетев Хельсинки, пошел на снижение, Берти удалось разглядеть в бинокль даже отдельные фрагменты улиц и крупные здания. Он хорошо знал Хельсинки. Он увидел зоопарк на острове Коркеасари Хегхольмен, увидел Сенатскую площадь, Центральный вокзал рядом с прямой, как стрела, улицей Маннергейма, сплошь и рядом водные глади в центре города, Национальный музей и Национальный театр. Все это можно было отчетливо различить в лунном свете при той небольшой высоте, на которой летел самолет, идя на посадку. Рейс «Пан-Америкен Эйрлайнз» наверстал опоздание и приземлился ровно в 22.30. Берти летел первым классом, пятью рядами ближе к выходу сидели Ян Билка, его подружка-блондинка и Михельсен. Рядом с ними, впереди и сзади сидели семеро мужчин. Эти семеро доставили Билку с подружкой в гамбургский аэропорт. Охранники были высокие и крепкие. В Фульсбюттеле они шли плотно рядом с Билкой и его подругой, образовав вокруг них настоящее кольцо. Некоторые держали правую руку в разрезе куртки. Берти не сомневался, что у всех наверняка были портупеи с пистолетами и при малейшей опасности они были готовы стрелять.
Никаких инцидентов не было, ни в Фульсбюттеле, ни в самолете. Мужчины не разговаривали ни с Билкой, ни с его подругой или Михельсеном, и та троица также была довольно молчалива. От ужина все отказались. Охранники то и дело оглядывались в салоне, один за другим вставали и медленно проходились по самолету, в том числе и по туристическому классу. Самолет был заполнен на три четверти. В основном летели супружеские пары и молодежь разных национальностей. Ни одного знакомого Берти лица…
Наконец самолет приземлился, подрулил и остановился точно перед зданием аэропорта. Подогнали трапы, открыли обе двери. Пассажиры начали выходить из самолета. Берти увидел, что Билка, девушка, Михельсен и все семеро охранников остались сидеть, явно собираясь покинуть самолет последними. Берти направился к выходу из первого класса и спустился по трапу. Снаружи дул сильный ледяной северный ветер. Около самолета стояла очень большая черная машина. В ней сидели двое мужчин: один за рулем, другой рядом.
То, что я сейчас описываю, Берти рассказал мне, разумеется, не так подробно той ночью по телефону. Это было уже потом, и некоторую информацию он узнал позже, от третьих лиц. Например, когда он звонил мне, он не знал, что огромный лимузин был бронированным и имел окна из бронированного стекла. Кроме того, он был оснащен подножками, как машины глав государств, предусмотренными для сотрудников службы безопасности.
Берти медленно направился к зданию аэропорта, постоянно оглядываясь назад. Билка и его сопровождение все еще не выходили. Несколько самолетов стояли перед зданием аэропорта и перед ангарами, а также поодаль, там, где начинались дорожки для такси, ведущие к взлетно-посадочным полосам. Берти увидел огромный транспортный самолет, который как раз разгружали. Вокруг него стояли тяжелые сельскохозяйственные машины, которые только что выгрузили, спустив по широкой грузовой платформе. Берти отметил, что это был транспортный самолет государственной польской авиакомпании. Югославский «Боинг» как раз выруливал на взлетную полосу.
Берти снова обернулся и увидел, что в проеме выхода из самолета наконец появились Билка с подружкой и Михельсен, готовые ступить на трап. Охранники окружали их со всех сторон, все держали правую руку в разрезе курток и постоянно оглядывались. Никаких эксцессов не было.
Берти, который неплохо ориентировался на этом аэродроме, знал, что выезд для автомобилей, получивших разрешение подъехать прямо к самолету, находился рядом с грузовыми терминалами. Он проковылял в здание аэропорта, бесцеремонно прорвался вперед, предъявил свой паспорт и, не забирая саквояж — куда он денется, — выбежал на площадь перед аэропортом, где тут же поймал такси и сел рядом с водителем.
— Вы говорите по-немецки?
— Да, — кивнул шофер, настоящий великан с белокурыми волосами и очень светлой кожей лица, одетый в кожаную куртку. Берти сунул ему две стомарковые банкноты.
— Что это?
— Поезжайте к грузовым терминалам, туда, где решетчатые ворота. Сейчас оттуда выедет очень большой автомобиль. Мне нужно ехать за ним. Только вы должны сделать это очень осторожно, совсем незаметно.
— Полиция? — спросил водитель.
— Пресса, — ответил Берти, показывая свое удостоверение.
— Вообще-то я никогда не задаю вопросов, — сказал таксист. — Если мне хорошо платят, я еду, куда попросят. Только ничего противозаконного.
— Все абсолютно законно, — заверил его Берти, поздравив себя с таким водителем. «Интересно, а что он считает противозаконным и что бы он отказался делать», — мелькнула у него мысль.
Таксист оказался великолепным профессионалом. Он так встал у ворот на взлетное поле, что его совсем не было видно за грузовиком, и выключил огни. Почти сразу Берти услышал, как открылись большие ворота, скрип роликов заглушил даже шум ветра и дождя. Выехал бронированный автомобиль, на подножках которого стояли пять человек. Двое охранников сидели в лимузине вместе с Билкой, подругой и Михельсеном. Машина остановилась.
Из открытого складского помещения бесшумно выскользнули две темные машины поменьше. Трое охранников юркнули в первую машину, двое — во вторую, и колонна с бронированным лимузином посередине тронулась.
— Подождите немного, — сказал Берти таксисту.
— Конечно, я же не идиот, — буркнул тот.
Берти сфотографировал автоколонну, обогнувшую клумбу перед зданием аэропорта и свернувшую на дорогу, которая вела к городу.
— Давайте теперь, — дал команду Берти. Целая вереница других такси и частных машин, припаркованных перед аэропортом, тоже двинулись в путь, и движение стало довольно оживленным. Таксист был действительно виртуозом своего дела. Он очень быстро нагнал маленький конвой, развивший на шоссе приличную скорость, но все время следил за тем, чтобы между ними были одна-две машины. Он и в самом деле не задал ни одного вопроса.
Дорога пролегала мимо небольших озер, в которых отражалась луна, и рощиц. Это шоссе, хорошо знакомое Берти, вело в центр города. Но конвою в центр явно было не нужно. Он вдруг свернул резко вправо на Эляйнтархантие. Справа был лес, слева озеро. Ночь была такой светлой, что таксист выключил фары.
— Пустовато здесь, — сказал он. — Чего доброго, могут и заметить нас.
Берти хмыкнул и сунул ему еще одну сотню. Они доехали до большой улицы Маннерхейминтие и пересекли ее. Справа, в отдалении, Берти увидел освещенную статую известного финского бегуна Паово Нурми, а за ней теннисные корты Олимпийского стадиона, построенного в 1952 году. Он разглядел и бассейны, и огромную арену стадиона, за которыми начинались бесконечные березовые рощи, росшие повсюду в этой стране шестидесяти тысяч озер.
Теперь они ехали по Рунебергинкату. К большому удивлению Берти, колонна вдруг свернула на улицу, которая вела до самого пляжа Хиентаранта, спускавшегося к морю. Очень богатые люди имели здесь бунгало или домики, расположенные на большом расстоянии друг от друга.
— Остановитесь, — попросил Берти шофера. — Здесь слишком пустынно. Подождите меня здесь, а дальше мне придется идти одному.
— Хорошо, — кивнул водитель, всю дорогу жевавший жвачку и сохранявший олимпийское спокойствие. Он делал вид, что получает такие задания каждый день.
Берти вылез из машины. Встречный северный ветер хлестал его по лицу. Прихрамывая, он двигался по Этеляйнен Хесперианкату, улочке, спускавшейся вниз к пляжу. Увидев, как три машины конвоя покатили по узкой дорожке между дюнами к стоящим в ряд престижным бунгало, он бросился на землю за большим, измочаленным ветрами, кустом и вытащил бинокль.
Конвой остановился перед темным деревянным бунгало, стоявшем на огороженном забором участке. Какое-то время ничего не происходило. Берти начал нервничать и оглядываться по сторонам. Кроме трех машин, ничего не было видно. С южной стороны пляжа раскинулось большое солдатское кладбище. Берти разглядел в бинокль бесконечные белые кресты и надгробие фельдмаршала Маннергейма. Он облокотился на другую руку и снова перевел бинокль в сторону трех машин. Здесь за это время произошли изменения. Все приехавшие, за исключением девушки и Михельсена, вышли из машин. Люди, охранявшие Билку, окружили его. Берти разглядел в их руках автоматы, в том числе у тех двоих, которые сидели на аэродроме в бронированном лимузине. Сейчас они были справа и слева от Билки. «Это местные американские коллеги гамбургских сотрудников, — сказал себе Берти. — Уж эти-то здесь ориентируются лучше всего…»
Над входом в бунгало загорелся фонарь. Садовые ворота автоматически открылись. Билка, двое из лимузина и еще парочка из тех, что прилетели из Гамбурга, пошли по камням и песку к дому. Остальные продолжали неподвижно стоять под лунным светом. Они смотрели по сторонам, повернувшись друг к другу спинами, и держали наизготове автоматы.
Берти сделал несколько снимков «Хасселбладом», сам не слишком веря в то, что, несмотря на мощную вспышку и лучшую пленку, получатся сносные фотографии.
Дверь бунгало открылась, в проеме появился мужчина в вельветовых брюках и свитере в сине-белую косую полоску, Берти бросилось в глаза, что волосы у него были, как у хиппи. Вся группа прошла в дом, дверь закрылась. Ветер поменял направление, и неожиданно стал слышен шум прибоя.
Берти прождал минут пять.
Что в это время происходило в бунгало, он, разумеется, не знал. Однако, это стало ему известно прямо перед звонком мне, так что я могу воссоздать полную картину.
Длинноволосый мужчина в свитере поздоровался с Билкой. Это и был его хельсинкский друг, художник. Через комнату, в которой горел камин, художник провел своих гостей в очень просторную мастерскую. Присев на корточки, он выдвинул нижний ящик комода, в котором были сложены гравюры, литографии и акварели. Это было воистину гротескное зрелище: повсюду мольберты, прислоненные к стенам завершенные и полузавершенные картины, палитры, тюбики с красками, кисти, бутылки со скипидаром и натянутые холсты, — повсюду царит дикий хаос, а в центре этого хаоса — четверо молчаливых мужчин с автоматами, бледный Билка и художник, нервно роющийся в комоде. Наконец, он нашел то, что искал, — две алюминиевые кассеты, в которых обычно хранят пленку. Они были длиной с мизинец и три сантиметра в диаметре. Художник передал кассеты Билке, тот протянул их одному из приехавших в лимузине. Этот подошел вместе с остальными под яркую лампу, свисавшую с потолка, открыл кассеты, вынул из них части смотанной пленки и поднес к свету. Затем он вытащил лупу. Американцы проверяли микрофильмы… Похоже, увиденное удовлетворило их. Водитель бронированного лимузина, явно руководивший всей операцией, присел на секунду и осторожно вложил пленки обратно в кассеты. Потом он передал их другому американцу. Билка пожал руку своему товарищу. Художник проводил посетителей до дверей. За все это время не было сказано и двадцати слов…
Берти, лежавший за кустом, насквозь продувавшимся ветром, увидел, как открылась дверь бунгало и вышел человек с автоматом. За ним второй, третий, четвертый. Потом вышел Билка. Мужчины взяли его в кольцо и пошли по саду к своим машинам.
Берти вскочил и, насколько позволяла его нога, помчался обратно той же дорогой, которой пришел, к ждущему его такси. Он вскочил на сиденье рядом с водителем.
— Они сейчас появятся, — пробормотал он скороговоркой.
Таксист лишь кивнул, завел машину и въехал задом в темный подъезд к чьим-то воротам, чтобы переждать. Вскоре и в самом деле на большой скорости мимо них проехали три машины конвоя. Таксист немного выждал и продолжил преследование, не включая света.
Они поехали той же дорогой на аэродром. Скоро им стали попадаться другие машины, и они оказались в еще довольно интенсивном потоке. Шофер включил фары. Доехав до клумбы перед аэропортом, он их снова выключил. Три машины подъехали к высоким воротам складской территории. Как и в первый раз, ворота с громким скрипом сдвинулись в сторону, пропустив машины, и тут же закрылись.
— Стоп! — скомандовал Берти, и шофер остановился. Борясь с сильным ветром, Берти подбежал к решетчатым воротам и стал всматриваться в летное поле. «Что они собираются делать? Ждать полуночного рейса на Нью-Йорк? Очевидно, да», — решил Берти, но тут же с тревогой понял, что нет.
Все дальнейшее происходило необычайно стремительно: бронированный лимузин, ехавший между двумя другими машинами, неожиданно выскочил из шеренги и на бешеной скорости помчался по дорожке для такси к взлетной полосе. Берти увидел, как люди в маленьких машинах открыли по нему стрельбу. Безостановочно вспыхивали огненные траектории автоматных очередей. «Довольно бессмысленное занятие стрелять по бронированной машине», — подумал Берти. Лимузин мчался дальше, оттуда никто не стрелял.
Обе машины, бросившиеся в погоню, вылетели на дорожку для такси и тут же столкнулись друг с другом. Бензобак одного автомобиля взорвался. Огромный столб оранжевого пламени вырвался наружу. Берти увидел, как из обеих машин выпрыгивали, покачиваясь, люди и разбегались в разные стороны, пытаясь спастись.
Сразу после взрыва вспыхнули все прожектора на внешней стене здания аэропорта. Завыли сирены. Приближались пожарные машины. Все осветилось ярким светом. Берти выхватил свой «Хасселблад» и непрерывно снимал.
А бронированный лимузин мчался тем временем дальше. Что задумал водитель? Вскоре Берти увидел, куда он метил, и прикусил себе даже губу.
В конце взлетной полосы, на точке взлета, стоял большой транспортный самолет польской авиакомпании. Он был готов к старту, разноцветные огоньки вспыхивали на его корпусе и на крыльях, сопла работали. Когда лимузин на всех парах уже приближался к нему, он выпустил на землю разгрузочную платформу. Не останавливаясь, лимузин въехал по наклонной платформе внутрь. «Там, в фюзеляже, люди зафиксируют автомобиль», — машинально подумал Берти, когда сопла самолета уже оглушительно взвыли.
Медленно, постепенно набирая скорость, катился тяжелый грузовой самолет по взлетно-посадочной полосе. Вот он оторвался от земли. Вот набирает высоту. Из сопл вырывались темные горючие газы, оставляя широкий шлейф в воздухе.
Самолет поднимался все выше и выше.
Вот он стал совсем маленьким. Вот сделал крутой вираж влево…
Первые пожарные машины доехали до пылающего автомобиля. Заработали пенные огнетушители. Мужчины, выскочившие из машин, что-то бурно выясняли, размахивая руками, а потом помчались к контрольной башне.
12
Сильно прихрамывая, Берти вышел из лифта и пошел по переходу, который вел в главное помещение контрольной башни. Находиться посторонним здесь было запрещено. Но во всеобщей панике Берти удалось обойти оцепление у подножия башни. Он перелез через высокую решетку и поднялся на лифте. После стольких лет работы на своем поприще он знал массу трюков. Проход с большим количеством дверей был пуст. Берти услышал какой-то шум. Он мгновенно огляделся и увидел туалет! Распахнул дверь, заскочил в кабинку и заперся. Не прошло и минуты, как до него донеслись голоса двух проходивших мимо мужчин, возбужденно говоривших по-фински. А потом — Берти недаром всегда утверждал, что он везунчик! — он тихо, но отчетливо услышал другие голоса через стенку туалета. Он прижался ухом к стене. В соседнем помещении громко разговаривали. Несколько мужчин — Берти насчитал в общей сложности пять голосов — говорили по-английски. Берти понял, что это были американцы. Должно быть, четверо из тех, которых он преследовал. А пятый, с низким голосом, оставался, вероятно, здесь, потому что ему докладывали. Ну и подфартило ему…
— …Джим сейчас в контрольном помещении, ведет себя как помешанный! Звонит всему миру, включая Господа Бога! Требует, чтобы немедленно подняли реактивные истребители для перехвата грузового самолета…
Низкий голос:
— Успокойся, я в курсе. Я сам его отправил.
— Для этого ему нужна санкция министра обороны, Пит…
«Значит, этого с низким голосом зовут Пит». Он произнес:
— Ну и?
— Министр поостережется! Самолет соцблока, да еще в Финляндии!
— Мы должны перепробовать все! — сказал Пит.
— До русской границы сто пятьдесят километров! Послушай, Пит, даже если действительно последует военный приказ, давно уже будет поздно!
— К тому же приказа никогда не будет! Думаешь, МИГи из конвоя будут бездействовать?
— Знаешь, что меня особенно бесит, Пит: неужели среди нас действительно есть предатели?
— Почему ты так решил?
— Так в бронированной машине сидели ведь не только чехи, там ведь было четверо наших ребят! Двое здешних и двое из Гамбурга. Что же это — четверо подонков? Сколько же им за это заплатили? Что…
— Идиот! — загремел голос Пита. Потом он стал помягче: — Извини, Уолли, тебя же не было, когда пришло сообщение.
— Какое сообщение?
— Финские водители нашли за кустами на шоссе двух связанных мужчин. Рты заклеены лейкопластырем, вот так-то… Это были двое твоих коллег из Хельсинки!
— Проклятье!
— Вот именно, проклятье! Это были настоящие водители лимузина.
— Но как же…
— Они сказали, что, выехав в аэропорт, вдруг увидели лежащего на шоссе ребенка… Их специально послали сначала одних, чтобы ваш конвой преждевременно не вызвал подозрений… В общем, увидели ребенка, остановились и вышли…
— Непростительное легкомыслие!
— Ну что же ты хочешь? Они подумали, что и в самом деле произошел несчастный случай! Ну, а русские только того и ждали.
— Русские?
— Они сказали, что это были русские. Типажи блестяще подобраны, вылитые американцы. Говорят без акцента, одеты безупречно, во все американское, полная осведомленность. Избили наших ребят до потери сознания, забрали бумаги, оружие и опознавательные жетоны. Спрятали их за живой изгородью и поехали на летное поле… в роли водителей лимузина!
— А ребенок? А что ребенок, Пит?
— Встал как ни в чем не бывало. Просто лег, вот и все. Машина увезла его…
— Вот сволочи проклятые!
— Фантастика! Просто фантастика! А мы ничего не заметили! Вообще ничего! Ни на секунду не закрались сомнения! Я же с ними обоими разговаривал!
— Я тоже!
— И я!
— Ну вот видите! — басил Пит. — Все дело в том, что вы не были знакомы лично… Это была наша ошибка… Кто-то все выдал русским: каким рейсом вы прилетаете, сколько вас и что вы поедете по указке Билки за спрятанными микрофильмами — абсолютно все.
— То есть эти двое русских погнали машину в транспортный самолет…
— Дошло наконец?
— Подожди! Кроме двух русских и Билки с девчонкой и Михельсеном, в машине были же еще двое наших из Гамбурга! А что с ними?
Голос Пита:
— Командир транспортного самолета сразу после взлета передал, что с ними ничего не случилось. Они взяты в заложники русскими и членами экипажа.
— Ну тогда это просто чушь собачья, то, что пытается Джим — вынудить к посадке с помощью истребителей-перехватчиков!
— Он должен попытаться сделать все. Ты же знаешь, о чем речь.
— Тогда они убьют наших ребят!
— Командир уже предупредил об этом. Как только появится первый истребитель, сказал он. А так оба вернутся, когда самолет приземлится у себя. Условие: никаких действий с нашей стороны. Я понимаю, что ситуация дерьмовая. Но центр приказал хотя бы попытаться поднять истребители…
Новый голос, вне себя от ярости:
— Все кончено! Теперь все кончено!
— Что случилось, Джо?
— Смотрите! Посмотрите на микропленки! Эти и вот эти! Ведь один из русских взял в бунгало из рук художника кассеты и передал их мне. Потом снова взял их, чтобы вложить обратно пленки. Тогда-то он их, наверное, и подменил.
— О Боже!
— Черт бы их всех побрал!
— В коробочках теперь микрофильмы последних маневров НАТО! Непостижимо!
— А пленки Билки?
— У русского, конечно! В самолете!
— Бог ты мой, ну и хреновая история!
— Так, спокойно, — проговорил Пит. — Как все было в бунгало? Как подменили пленки? По порядку. И подробно, пожалуйста.
13
— …В общем, они этому Питу все подробно изложили, а я все слушал — вот откуда информация, — звучал голос Берти у моего уха. Я сидел на диване и слушал его отчет. Монеров, брат Билки и Ирина стояли неподвижно вокруг меня, застыв, словно восковые фигуры мадам Тюссо. Человек, называвший себя Монеровым, улыбался и по-прежнему держал в руке пистолет.
— Ну и? — спросил я. Я уже пару раз прикладывался к бутылке, пока его слушал, и сейчас снова глотнул.
— Я, разумеется, удрал оттуда, с верхотуры. Для начала надо унести ноги из аэропорта. Я тебе звоню из… неважно, откуда. У меня все тот же водитель. Все для меня делает. Сказал, что привезет меня к первому рейсу на Гамбург. Кстати, хочешь посмеяться: шофер не финн. Он норвежец. Норвежский коммунист, он мне сам признался. Твоя очаровательная фройляйн Луиза…
— Кончай, — буркнул я. Норвежец. Норвежский коммунист. В Хельсинки. Помогает Берти. Я заставил себя не думать об этом. — Возвращайся как можно скорее. Все, — произнес я. Трубка едва не выскользнула еще раз из моих рук, такие они были мокрые от пота. Я повесил ее.
— Русские схватили Яна? — прошептала Ирина, следившая за разговором.
— Да, — ответил я. — И подругу, и Михельсена.
Брат Билки громко застонал.
— Как видите… — начал Монеров, но в этот момент дверь распахнулась, и в номер ворвался Жюль Кассен, старший официант. Поверх форменной одежды на нем были надеты пальто и шляпа. На нас он даже не взглянул, все его внимание было обращено только на Монерова.
— Все в порядке, Иосиф, — произнес он. — Самолет благополучно пересек советскую границу. Приземлится через несколько минут. Здесь нам больше нечего делать. Заканчивай.
Монеров передал ему пистолет.
— Я только заберу пару вещей. Сейчас вернусь! — Он выбежал из номера.
Я поднялся и подошел к французу.
— Ну вы и мерзавец, — сказал я. — Проклятый негодяй, вы работаете на русских! Вы обманули меня!
— Неужели уже заметил? Быстро это у тебя, — усмехнулся Жюль Кассен. Он поднял пистолет: — Стоять! Не думай, что я не смогу сделать тебе дырку в животе!
— Вы… вы… — Я все же остановился. — У вас было задание все из меня вытягивать для этой вот штуковины… — Я показал на микрофон в радиоприемнике, из которого все еще звучала нежная музыка. — У вас было задание удерживать меня здесь…
— Умненький мальчик. Поздравляю, — съязвил Жюль.
— А Зеерозе? Человек, который спас вам жизнь? Или это тоже неправда?
— Спас жизнь! — Жюль сплюнул на ковер и грубо выругался по-французски. — Спас жизнь, merde![108] Перестраховка, больше ничего. Зато я вытащил его в сорок пятом из лагеря и дал показания в его пользу! И выбил ему лицензию! А вся моя семья, абсолютно все погибли в этой проклятой войне! Под бомбами или у маки. Или в концлагере! Я ненавижу всех немцев!
— Навечно, да? — спросил я.
— Да, навечно! — сказал он.
— Но почему, Жюль?
— Почему? Ты меня спрашивал, почему я до сих пор официант, в моем возрасте! Почему у меня нет бара, как я мечтал, так?
— Да…
— Alors,[109] тогда я женился на немецкой женщине, понимаешь? Подумал: хватит ненависти. И что она сделала, моя маленькая сладкая немецкая жена? Изменила мне! Обманула! Я для нее слишком старый был. А потом, когда я скопил достаточно денег для бара, она украла у меня все деньги и сбежала с другим… С американцем… Сегодня большие друзья — американцы и немцы! Не мои! — Он метнул на меня быстрый взгляд, его глаза горели. — Все, я уезжаю прочь из этой страны! Никогда, никогда не вернусь! Я счастлив! Счастлив! Понимаешь?
— Понимаю, — вздохнул я.
В номер вошел Монеров с маленьким чемоданчиком. Он тоже был в пальто и шляпе.
— Далеко вы не уйдете, — сказал я ему. — Вас арестуют.
— О нет, — возразил Монеров. — Через пять минут мы так скроемся, что нас уже никто не найдет…
Он взял в руки тяжелый светильник, разбил вдребезги телефон и разнес панель с кнопками вызова официанта, горничных и слуг. Потом помчался в спальню и ванную, и мы услышали, как он там буйствовал. Наконец он вернулся.
Билка бросился ему наперерез. Все то время, что я разговаривал по телефону, он накачивал себя виски, как безумный, и теперь был настолько пьян, что алкоголь буквально лился у него из ушей, он был не в себе. Покачиваясь и еле ворочая языком, он проговорил:
— Мой брат… Что… произойдет теперь… с ним? Я не верю… вам, что вы оставите в живых моего брата, если… господин Роланд… не напишет!
— И не надо верить, — высокомерно бросил Монеров.
— Что… что?
— Теперь, когда Ян Билка в наших руках, господин Роланд может делать, что ему заблагорассудится. Писать, не писать, нам безразлично! Это была всего лишь небольшая мера предосторожности на случай, если не удастся похищение. Оно удалось.
— Значит… вы убьете… Яна?
— Он нам еще нужен. Для получения остальных пленок, тех, что в Нью-Йорке…
— А когда он скажет, где… они? Если и они… будут у вас… что вы… тогда… сделаете с Яном?
— А сами-то вы как думаете? — спросил Монеров.
Билка бросился на него. Жюль Кассен ударил Билку рукояткой пистолета по голове, и тот со стоном повалился на пол.
— Так, — произнес Монеров, — сожалею, но мне придется вас запереть. Вас наверняка быстро найдут. Стучите. Кричите. Но сначала мы должны исчезнуть из отеля. А это делается быстро. — Он выбежал из номера, за ним следом Жюль Кассен, пятясь задом. Мы услышали, как снаружи дважды повернулся в замке ключ.
Никто не шелохнулся в салоне. Было такое ощущение, что все мы умерли. И тут, сначала потихоньку, потом все громче и громче, из поврежденного радиоприемника еще раз зазвучала мелодия «Хоровод». Ирина охнула. Я подошел к ней, чтобы поддержать. В этот момент Вацлав Билка издал безумный вопль и, спотыкаясь, бросился к портьере, закрывавшей балкон. Все произошло так стремительно, что я был уже не в состоянии ничего сделать. Билка рванул в сторону портьеру. Стеклянная дверь была приоткрыта. Билка настежь распахнул ее. Я увидел, как он выскользнул на балкон, в следующее мгновение он уже балансировал на балюстраде, и тут же раздался его вопль:
— Ян!
И он спрыгнул с моего балкона на пятом этаже, и крик его звучал все глуше и глуше. Ирина вздрогнула и, уткнувшись головой в мое плечо, вцепилась в меня двумя руками.
Мы отчетливо услышали, как тело Билки с отвратительным звуком ударилось о землю. Ногти Ирины впились в меня, и сквозь пиджак я ощутил, как она больно продрала мне кожу. Печально и красиво звучал «Хоровод».
В ПЕЧАТЬ
1
«Она предательница… предательница…»
«Она согрешила… согрешила…»
«Она нас предала… предала…»
Голоса шли отовсюду, со всех сторон огромного, погруженного в ночь Альстер-парка. Злые, оглушающие, грозные. Голоса, которые не умолкали и множились, как эхо. Голоса, не знакомые фройляйн Луизе, мужские и женские, да, даже женские! Что же это такое? Что с ней? Она в панике озиралась и металась по мокрой увядающей траве между дорожками, задыхаясь под раскрытым зонтом.
«Беда… беда…»
«Несчастье… страшное несчастье… несчастье…»
«Она виновна! Она виновна! Виновна… виновна…»
«Потому что предала нас… предала нас… предала…»
«Потому что высокомерна… высокомерна…»
«Она погибла… погибла…»
«Потому что не знает любви… не знает любви…»
«Потому что не любит людей… никого не любит…»
«Потому что вмешалась… вмешалась…»
Фройляйн Луиза закричала во всю мочь: «Кто вы такие? Я вас не знаю! Я не узнаю ваших голосов! Прочь! Ко мне, мои друзья!»
Но жуткие голоса только усиливались. Казалось, они нисходят с макушки каждого дерева, наступают из-за каждого куста, все страшнее и неумолимее.
«Фальшивые друзья!» — взвизгнул женский голос.
«Фальшивые друзья… фальшивые друзья…» — вторил хор мужских голосов.
Женские голоса, мужские голоса, поочередно — страшно, жутко.
«Месть!» — взревел мужской голос так ужасающе, что фройляйн задрожала.
«Возмездие!» — откликнулся другой.
«Смерть!» — зазвенел на пронзительной ноте женский голос.
«Проклятие!.. Проклятие…»
Фройляйн прислонилась к стволу какого-то дерева, совершенно без сил. Капли дождя и слез струились по ее лицу. Ботики погрязли в мокром дерне…
Вне себя от страха, она выбежала из моих апартаментов, подлетела к лифту — и в холл. «Выбраться из отеля, — думала она, — как можно скорее выбраться!» А то я еще погонюсь за ней. Я или тот презренный кельнер, в котором она сразу же распознала злого духа.
О, как же фройляйн была несчастна! Из холла она выскользнула прямо под дождь. Все пошло наперекосяк. Она не нашла убийцу малыша Карела. Она не смогла увести с собой Ирину. Все сорвалось.
Срыв-срыв-срыв… Тоненькая ниточка надежды на ее друзей, на которой она пока еще держалась, которая много лет оберегала ее от нервного срыва, рвалась на глазах, тут и там… Фройляйн Луиза, на мгновение помедлив у выхода из отеля, бросилась в парк. Она знала, что окна моих апартаментов выходили на Альстер. Она хотела, подняв к ним взор, молиться, молиться и молиться, чтобы случилось чудо, и ее друзья помогли ей хотя бы забрать Ирину. Она тяжело заковыляла по дорожке во тьму. Ее взгляд блуждал по фасаду отеля с его многочисленными окнами и балконами. Где мое окно? Где балкон? Она понятия не имела. Большинство окон было плотно задернуто шторами, светились только два-три. Фройляйн стояла под дождем и безнадежно таращилась на фасад. И тут со всех сторон на нее напали чужие голоса.
«Вон она стоит…»
«На грани… на грани…»
«И не знает, что теперь делать… что делать…»
«Ее вышвырнули… вышвырнули…»
Они были язвительными и злорадными, эти голоса. О, какими они были подлыми! Их становилось все больше, и они все больше изгалялись. Все обиднее и злее были их ругательства.
«Обманщица!.. Обманщица!..»
И когда она в отчаянии снова воззвала к своим друзьям, зазвучал новый хор голосов, мужских и женских.
«Мы тебе не друзья!.. Не друзья!..»
«Потому что ты преступила… ты преступница…»
Фройляйн в ужасе осознала, что эти голоса уже не только обсуждают ее, а обращаются к ней напрямую. В ее мозгу все перемешалось. Стройное здание понятий, воздвигнутое ее разумом, разваливалось на куски.
«Возмездие! — раздался женский голос. — Воздайте ей по заслугам, ей, преступнице!.. Преступнице…»
«Травите ее, Богом гонимую!»
«Богом гонимую… Богом гонимую…» — подхватил хор мужских голосов.
И вдруг, как отзвук, прозвенел один-единственный чистый ясный голос: «Богом хранимую… Богом хранимую…»
«Хватайте ее!!!» — перекрыл его пронзительный женский визг.
Фройляйн Луиза вздрогнула всем телом.
«Вон! — подхватил мужской голос. — Вон отсюда!»
Он был таким страшным, что фройляйн бросилась вон на улицу по мокрому ночному лугу вдоль озерка. Голоса, не отставая, преследовали ее:
«Ага, она бежит… бежит…»
«Гоните ее! Гоните ее!..»
«Мы за тобой… за тобой…»
«Убирайся отсюда вон… убирайся вон…»
«Глядите, как она бежит-бежит-бежит… Сейчас сверзнется…»
«Сверзнется… сверзнется…»
«Сейчас упадет… упадет…»
«Упала… упала…»
«Падшая… падшая…»
Фройляйн запнулась за корень дерева и больно шмякнулась о землю.
«Ага, лежит… лежит…»
«В грязи… в грязи…»
«Там ей и место!.. Там место…»
«Встать!» — взревел мужской голос.
Фройляйн Луиза вскочила и помчалась, не помня себя.
«Ага, она спасается бегством… бегством…»
«Но мы достанем ее… достанем ее…»
«Уничтожим ее… уничтожим ее…»
И тут с небес, как раскат грома, грянул всеобъемлющий глас:
«Она — моя!»
Фройляйн упала на колени и, молитвенно сложив руки, прошептала, едва дыша:
«Господи! Услышь меня, Господи!»
«Господь не внимает грешницам! Он не слышит тебя!» — расхохотался женский голос.
«Вон!» — опять взревел тот, страшный.
Он был так ужасен, что фройляйн Луиза тут же вскочила и заспешила прочь, насквозь промокшая и измаранная, таща за собой раскрытый зонтик и тяжелую сумку на согнутой руке.
«Милость Господня повсюду…» — донесся мягкий милосердный голос.
«Ах», — вздохнула фройляйн. Но тут же налетели трое других. «Теперь она наша!» — возгласили они хором.
«О Боже, Боже!» — взмолилась фройляйн, — «Боже, Боже!» — и из последних сил бросилась на свет фонарей.
Голоса не отставали.
«Мы достанем тебя… достанем…»
«От нас не уйдешь… не уйдешь…»
«Ты получишь сполна… сполна…»
«Вон отсюда! Вон! Вон!..»
«Вон из города!.. Назад в болото!.. В болото…»
«Виновна… виновна…»
«Ты спутала наши планы…»
«Планы… наши… спутала…»
«Я предала моих друзей, — думала фройляйн Луиза. — Я доверилась ложным друзьям…» Эта мысль сверлила воспаленный мозг фройляйн. А голоса гнали ее, травили, как зверя, неутомимые, немилосердные голоса. Вперед, вперед, пока она не вылетела на Харвестерхудервег. Здесь еще были люди, ездили машины. Здесь было много других голосов и звуков. Но они только усилили страдания фройляйн, смешиваясь с голосами из парка в один непереносимый гул, из которого то и дело вырывались отдельные возгласы:
«Сейчас!»
«Сейчас мы тебя!..»
Фройляйн Луиза отшатнулась и, сама того не замечая, выскочила на проезжую часть. Мимо нее, едва не задев, с оглушительным воем промчался автомобиль.
«Автомобили! — ужаснулась фройляйн. — Теперь они гонят меня автомобилями! Сколько их за мной! И все так странно мигают фарами. Это они подают мне знак…»
Автомобили проносились мимо, визжали тормоза. Фройляйн Луиза мчалась дальше, спотыкаясь, налетая на прохожих, падая, снова подымаясь…
И тут раздался голос, который фройляйн узнала сразу: «Я защищу тебя!»
Это был голос бывшего штандартенфюрера Вильгельма Раймерса. Невольно она воздела к нему руку.
— Куда прикажете? — выглянул из окна автомобиля мужчина.
Это было такси.
— На… на… на Центральный вокзал, — пролепетала фройляйн, распахнула заднюю дверцу и упала на сиденье. Такси тронулось.
2
В такси мучения продолжились.
«Она думала, что избавилась от нас!..»
«Ха-ха-ха! Ха-ха-ха! Ха-ха-ха!»
«Ей никогда от нас не избавиться!..»
«Кто вы?» — простонала фройляйн.
Салон был отгорожен от водителя перегородкой, и таксист ничего не услышал.
«Кто вы? Я вас не знаю!»
«Знаешь, знаешь…»
«Но ты нам надоела…»
«Оставим ее… оставим…»
В городском шуме среди многочисленных шумов и голосов стало еще хуже.
«В ад!»
«Наказать!»
«Вон!»
Такси остановилось у Центрального вокзала. Фройляйн Луиза через окошечко в перегородке сунула шоферу банкноту и выскочила из машины.
— Минуточку! Это слишком много! Возьмите сдачу! — кричал шофер.
Но фройляйн его не слышала. Она уже вбегала в здание вокзала, в длинный проход, где когда-то встретила бывшего штандартенфюрера. Здесь еще было много народу, люди стояли или сновали туда-сюда.
Из громкоговорителя неслись какие-то звуки, она разобрала только обрывки фраз: «Поезд… из… следует в… Бремен… несколько минут… с четвертого пути…»
И снова ее окружили ужасные голоса!
Теперь это были голоса людей в вокзале. Все смотрели на нее, говорили о ней, кричали ей вслед ругательства.
«Вон она идет, эта старуха!»
«Которая запуталась!»
«Которая взяла грех на душу!»
«Посмотрите-ка на нее… посмотрите…»
Прикрыв лицо рукой, фройляйн затравленно озиралась. Люди действительно провожали ее взглядами. Они удивленно смотрели, как она бежала, растерянная, перепачканная, простоволосая, с развевающимися седыми космами — шляпку она давно потеряла.
«Как она несется… несется…»
«Потому что она не любила… не любила…»
«Потому что она эгоистка…»
«Потому что все хотела сделать сама… сделать сама…»
«Потому что она забыла Бога… забыла Бога…»
«Какая злоба в ее глазах…»
«Потому что она отверженная… отверженная…»
«Не оглядывайтесь на нее… Берегитесь ее…»
У нее же был обратный билет! Каким-то чудом фройляйн Луиза отыскала своими ничего не видящими, мутными глазами, нащупала дрожащими пальцами этот билет у себя в сумочке. Она протянула его служителю у турникета и помчалась вверх по лестнице. Внизу под ней прибывал поезд. И тут вернулись голоса, голоса, которые фройляйн — О, какое блаженство! Какое неимоверное облегчение! — сразу узнала.
Голос русского: «Луиза, иди к нам, на болото…»
Голос поляка: «Мы ждем тебя, Луиза…»
Голос Свидетеля Иеговы: «Иди скорее… скорее… скорее… пока еще не поздно…»
Но их опять перекрыл пронзительный голос незнакомки: «Вон она бежит вниз по ступеням! Вон она! За ней!»
Луиза бежала из последних сил. Она была на последнем издыхании, на грани.
«Она примерила на себя роль Бога… Бога!..»
«Она должна быть унижена… должна быть унижена…»
«Но вы же сами велели мне это сделать!» — воскликнула фройляйн, выбегая на перрон.
Люди испуганно оборачивались ей вслед.
Голоса насмехались над ней.
«Мы нет… мы нет… (Не мы… Не мы…)»
«Это были фальшивые… фальшивые…»
Фройляйн Луиза не помнила, как она села в вагон поезда, отправлявшегося на Бремен. В ее памяти был провал. Она опомнилась, когда поезд уже шел мимо многочисленных огней, по мосту над сверкающей водой, на которую сыпал дождь. Она медленно приходила в себя. Голоса, эти ужасные голоса смолкли. Пока. Пока что они молчали.
Напротив фройляйн Луизы сидела миленькая, правда, немного лишне накрашенная и чуточку вульгарная девушка в шубке. Она с любопытством разглядывала фройляйн. Та, трепеща от страха, встретилась с ней взглядом.
3
— Чего это вы так дрожите? — спросила милашка в мехах.
У нее был высокий, неизменно удивленный голосок, она производила впечатление добродушной и бесконечно наивной.
— Вам холодно, да?
— Нет, — ответила фройляйн Луиза.
Она смертельно устала, ноги болели, она чувствовала себя, как человек, только что перенесший тяжелый сердечный приступ. Эти голоса, эти ужасные голоса — по крайней мере покамест они молчали. Покамест! В любой момент они могли начать заново… Фройляйн Луиза содрогнулась.
— Да что с вами? — спросила милашка в мехах своим детским голоском.
— Ничего, — буркнула фройляйн Луиза.
— Но вы так взволнованы!
Поезд набирал ход, огни остались позади, дождь хлестал по оконному стеклу.
Фройляйн провела рукой по лбу и обнаружила, что ее лицо испачкано. Дрожащими пальцами она раскрыла свою сумочку, чтобы достать носовой платок. Милашка с вытаращенными глазами уставилась в сумку, на пачки банкнот. Не шевелясь, она смотрела, как фройляйн Луиза стирала грязь с лица, как причесывала гребешком растрепавшиеся волосы.
— Взволнована, — пробормотала фройляйн. — Конечно, взволнована!
— Но почему?
— Мне, знаете ли, столько пришлось пережить. Столько ужасного. И конца этому не предвидится…
— Чему? — спросила милашка. — Хотя давайте познакомимся. Меня зовут Инга. Инга Флаксенберг. Но все зовут меня просто Зайка. А вы не хотите назвать свое имя?
— Ну почему же. Луиза. Моя фамилия Готтшальк. И все зовут меня просто фройляйн Луиза.
— Так чему нет конца, фройляйн Луиза? — повторила свой вопрос Зайка Флаксенберг.
— Они гонятся за мной по пятам, — простодушно и еще толком не придя в себя, сказала фройляйн. — Они преследуют меня, понимаете?
Зайка зажмурилась:
— Легавые, да?
Фройляйн ничего не ответила. Зайка приняла ее молчание за согласие и, бросив взгляд в открытую сумочку Луизы, возмутилась:
— Вот суки! Из-за какого-то плевого дельца, да?
— Мне надо к моим друзьям, — бормотала фройляйн.
Чем больше они говорили, тем меньше понимали друг друга, думая каждая о своем.
— У нас сегодня тоже было! — продолжала Зайка. — Облава. Полный атас! Свиньи!
— Они меня защитят… — бормотала фройляйн.
— Налетели в казино и запрыгали, как мартышки. Я в казино работаю, — пояснила Зайка. — Небольшое местечко, километрах в тридцати от Гамбурга. — Она сказала название. — В общем, дыра. Но господин Ольберс арендовал там постоялый двор, понимаете, весь, целиком. Все там перестроил под казино, организовал доставку автобусами. Вот и ездят люди из Гамбурга. Даже на своих машинах приезжают. Рулетка.
— Мне бы только вернуться домой, тогда у меня еще есть шанс…
— Совершенно нормальная рулетка. И все шло прекрасно. Два года подряд. Я работала там в баре. Нормально зарабатывала. Жила в местной гостинице. Сама я из Цевена. Иногда ездила домой или мой жених приезжал ко мне, понимаете?..
— Тогда они, может быть, оставят меня в покое, а мои друзья мне помогут…
— Заявляются эти ищейки. Подозрение, видите ли, на махинации. Магниты под столом.
— Что? — вздрогнула фройляйн Луиза.
— Магниты. Под рулеткой. Чтобы шарик мог отклоняться… Ну, вы же понимаете…
— Нет.
— Все конфисковали. Господина Ольберса арестовали. Казино закрыли. Суки поганые, эти полицаи! И все потому, что под одной рулеткой нашли магниты. Хоть господин Ольберс поклялся им своей матерью, что понятия не имел об этом. Ну, и как вам это?
— Они гонятся за мной… — бубнила фройляйн, на ходу засыпая от усталости.
— Мой жених будет меня ждать в Бремене на машине. Вам куда?
— В Нойроде.
— Это там у вас друзья?
— Да.
— Знаете что? Мы с моим женихом подвезем вас. Это не так уж далеко от Цевена. Ведь вы сейчас должны быстренько исчезнуть, да?
— Да, я должна быстро исчезнуть… — пробормотала фройляйн уже во сне.
— Вот и хорошо. Мы довезем вас. Будем держаться вместе, да? — продолжала Зайка Флаксенберг. — Против этих поганых полипов.[110] Другая-то рулетка была в полном порядке. А магниты, должно быть, подложил какой-нибудь враг господина Ольберса. Кто-нибудь, кто хотел его подставить. Такая подлость! Я прямо так и сказала полипам. Думаете, они мне поверили? Да они меня высмеяли. Дела и так шли хорошо. Что господин Ольберс — идиот, самому подкладывать магниты?! Но им же ничего не докажешь. Это просто собаки, сами они дураки набитые…
Тут она заметила, что пожилая дама, наклонив вперед голову, спит. Осторожненько Зайка Флаксенберг раскрыла ее сумочку с кучей денег. «Теперь я смогу подыскать себе новую работу», — проговорила она. Сквозь сон фройляйн Луиза слышала ее слова. Поезд мчался полным ходом.
4
«Откуда я пришла — никто не знает…» — фройляйн Луиза запнулась. Как там дальше, в этом прекрасном стихе? Ну как же?! Она никак не могла вспомнить.
«Ветер завывает… море плещет…»
Нет, что-то не сходится. Она тщетно попыталась сконцентрироваться. Ничего не помогало. Слова никак не шли на ум. Это ее опечалило. Осторожно ступая, она пробиралась по едва заметной тропке, ведущей через болото, среди трясины и омутов со стоячей водой, к заветному островку, там, в дальней дали за завесой тумана. Она чувствовала себя слабой и жалкой. Ступни горели. Дыхание прерывалось. Ноги едва держали. Она то и дело оскальзывалась. Еще никогда ей так тяжело не давался этот путь. Но она должна идти! Ей надо на этот холмик! Ей надо к своим друзьям! Только там она еще чувствовала себя в безопасности, только там…
Должно быть, она и в самом деле все-таки заснула в поезде. Перед самым Бременом эта милая девушка, которая еще сказала, что все ее называют Зайкой, разбудила ее. На перроне Зайку ждал жених — большой, молчаливый, производящий хорошее впечатление мужчина, который взял ее чемодан. Он представился как Армин Кинхольц и стал таким предупредительным к фройляйн, после того как Зайка описала ему ее плачевное положение и опасность, в которой она находилась.
— Конечно, мы подвезем вас, — сказал тогда Кинхольц. — Можете на нас положиться. Будем молчать, как рыбы. Мы вас никогда в глаза не видели. Понятия не имеем, кто вы такая, если кто спросит.
— Благодарю вас от всего сердца, — сказала ему фройляйн.
У Кинхольца была американская машина. Вел он хорошо и быстро. Фройляйн Луиза сидела на заднем сиденье и клевала носом, пока Зайка впереди, рядом со своим женихом, не переставая, возмущалась сволочными полицейскими, закрывшими игорный салон. И долго еще речь шла о каких-то магнитах, едва задевая сознание фройляйн. Что за магниты такие? Ну, да все равно! Она повстречала двух таких милых людей, и ужасные голоса, которые ее так загнали и измучили, теперь молчали. Фройляйн Луиза была вялой и отрешенной. Только одна мысль сверлила ее мозг: «На болото, на холм, к моим друзьям, да-да, к моим друзьям…»
После Цевена Кинхольц повел машину по плохой избитой дороге. Перед самым въездом в Нойроде фройляйн Луиза попросила его остановить:
— Будьте любезны, я здесь выйду.
— Как пожелаете, фройляйн Луиза, — вежливо ответил тот и притормозил.
Он и Зайка пожали фройляйн руку и пожелали всего хорошего.
— А они надежные, ваши друзья здесь? — спросила Зайка.
— Самые наилучшие.
— Ну, тогда адье, адье, адье, — сказал такой милый Кинхольц.
Он проехал до деревни, чтобы развернуться, и на обратном пути трижды посигналил фройляйн Луизе на прощанье. Она помахала в ответ и смотрела вслед удаляющейся машине, пока не скрылись красные огоньки. Потом она осторожно раздвинула камыши и ступила на узкую дорожку, ту самую, на которой сейчас балансировала…
Ярко светила луна. Прояснилось и дождя больше не было. Гладкие стволы берез отливали серебром. Откуда-то издалека доносился крик болотной совы: «Бу-бу-бу-бу…»
Фройляйн Луиза поскользнулась и чуть не свалилась в болото, но в последний момент удержалась. Она заторопилась дальше. Так, изо всех сил она спешила на своих отекших ногах, потому что уже истомилась ожиданием, когда же она ступит на тот холм, что маячил перед ней в волнистом тумане. Там было спасение. Ее последнее спасение от жутких, ужасающих голосов. Друзья помогут ей, защитят ее, все объяснят. Потому что она уже ничего не понимает, она совершенно сбита с толку, в полном унынии и отчаянии.
Все ближе и ближе был заветный холм.
С воды поднялось несколько уток.
— Я иду! — крикнула фройляйн. — Я иду к вам!
И крик застрял у нее в горле, потому что в следующий момент, когда ветер разогнал пелену тумана, она на секунду ясно увидела холм. И там не стояли, как бывало, одиннадцать ее друзей и не ждали ее — там стояло только одиннадцать уродливых кривых ветел.
Фройляйн Луиза протерла глаза. «Этого не может быть, — думала она. — Это невозможно. Я просто плохо вижу». Она снова бросила взгляд на холм. И снова увидела те же одиннадцать ветел.
«О, Спаситель! — воскликнула фройляйн. — Теперь еще что за напасть?!» Она заторопилась дальше, то и дело спотыкаясь, угрожающе пошатываясь, и каким-то чудом не соскользнула с тропы в болото.
«Боже милостивый, Боже милостивый, — шептала фройляйн, — сделай так, чтобы они были там, чтобы мои друзья были там… Они же звали меня… Мне надо к ним… Я это ясно слышала… Умоляю Тебя, умоляю, Господи Всемогущий, умоляю, пусть мои друзья будут на холме…»
Только Господь Всемогущий не внял мольбам фройляйн, и когда она, сделав последний шаг, ступила на холм, то оказалась среди одиннадцати ветел, окутанная пеленой тумана, которая становилась все плотнее.
— Где вы? — звала фройляйн, мечась между кривыми ветлами. — Где вы?! Придите же! Прошу вас, придите ко мне!
Но друзья не шли.
Фройляйн почувствовала, как ее охватывает паника.
Она закричала что было сил:
— Господа нашего Христа ради прошу вас, придите ко мне! Вы мне нужны! Вы так мне нужны!
Но в ответ только выл ветер, клубился туман, да снова кричала болотная сова. Но друзья не появлялись, ни один из них. Фройляйн стояла притихшая у края холма. «Не понимаю. Я больше ничего не понимаю, — думала она. — Почему они не пришли? Почему?! Что случилось?»
И в этот момент с болота, из тумана снова раздался пронзительный женский голос: «Вон она стоит, проклятая!»
И ей ответил шелест мужских голосов: «Теперь она наша…»
— Нет! — взвыла фройляйн.
Она в ужасе отпрянула, поскользнулась, потеряла равновесие и в следующее мгновение рухнула в глубокую темную воду у подножия холма. Ее сумка пошла на дно. Фройляйн отчаянно гребла обеими руками, ухватилась за корень, снова упустила его, ушла с головой под воду, вынырнула, наглоталась болотной воды, подавилась, закашлялась, извергла ее. И, чувствуя, как неведомые силы тянут ее вниз, в самую глубь, в яростной борьбе за свою жизнь гребя руками и пытаясь найти спасительный корень, она закричала во всю мочь:
— Помогите! Помогите! Где вы?! Придите же, спасите меня! На помощь!
И тут они появились снова, эти невыносимые голоса. Из тумана, из болота. Гулом отдавались они в ушах фройляйн Луизы, как близкие разрывы, наводя смертельный ужас…
«Отмщение!»
«Смерть!»
«Уничтожим!»
— Помогите! — закричала фройляйн, извергая изо рта вместе с криком болотную воду. — Помогите! На помощь! На помощь!
5
Лагерный шофер Кушке подскочил в своей постели. Спал он неглубоко. Ему в который раз снился все тот же бесконечно повторяющийся сон. В его сне было начало 1948 года, он жил в Берлине и играл со своей малышкой Хельгой, а его жена, Фрида вязала неподалеку на солнышке во дворе казармы. Они с Хельгочкой устроили такое представление, что до смерти насмешили Фриду. Она громко смеялась, а Хельгочка крякала от удовольствия, и все трое были так счастливы на развалинах безотрадного разбомбленного Берлина, так счастливы, как больше никогда в его жизни.
— Помогите!
— Да это же… — Кушке выскочил из постели и схватился за свою одежонку.
Голос он узнал сразу. «Ну вот, это все-таки случилось, — подумал он. — Проклятье, ну что за дерьмо!» Он бросился к двери барака, на бегу застегивая комбинезон. С другого конца тускло освещенного коридора навстречу ему бежал в тренировочном костюме лагерный врач, доктор Шиманн.
— Крики…
— Ну да, это наша фройляйн, доктор…
— Ладно, вперед!
Вместе мужчины выскочили на улицу. Они еще не сделали и пары шагов, как в лагере зажглись все прожекторы. Из барака у ворот к ним бежали двое охранников. Кое-где в жилых бараках засветились окна. Появились дети в ночных рубашках и халатиках, подростки — юноши и девушки — все испуганные, растерянные.
— Помогите мне! Помогите! Помогите! — летел с болота голос фройляйн Луизы. Ветер доносил его в полную силу.
Из своего барака опрометью выбежал проворный худощавый пастор Демель в своем черном костюме, без галстука, с распахнутым воротом.
— Наша фройляйн, — с трудом переводя дыхание, крикнул Демель.
— Да, но где?..
— Я знаю, где! На островке, где одиннадцать ветел! — прокричал он.
Подоспел начальник лагеря доктор Хорст Шаль, в одной рубашке и с курткой под мышкой.
— Скорее к ней!
— Как?! Туда не пройдешь!
— Лестницы! Доски! Жерди! Быстро! — распорядился Демель.
С болота снова донесся крик о помощи.
Мужчины разбежались и уже через минуту тащили длинные лестницы и доски, жерди от северо-восточного ограждения лагеря. Они запыхались и едва переводили дух.
— Хорошо, что забор еще не подняли! — крикнул Кушке пастору, с которым на пару тащил лестницу.
Теперь уже и молодежь, в накинутых на плечи пальтишках, взволнованно перекликаясь, неслась к развороченному углу забора, туда, где прошлой ночью был выворочен бетонный столб.
— Мы идем! — гремел в ночи голос директора лагеря. — Держитесь, фройляйн Луиза! Мы идем!
— Помогите! — прозвучало в ответ, на этот раз слабее и бессильнее. — Помогите! Помогите!
Кушке с пастором уже добежали до растресканного столба. Они приставили лестницу к покосившемуся забору и полезли наверх.
Луна освещала ночь. В ее размытом туманом свете вдруг на мгновение показалась небольшая возвышенность и тень, отчаянно барахтающаяся в воде у подножия холма.
— Вон она! Свалилась в болото. Ах ты, Боже мой!
Подбежали остальные мужчины.
— Жердь! Ну же! Жердь! — закричал Демель.
Ему подали жердь. Он первым шагнул в болото и тут же погряз в трясине. Лестницу он толкал перед собой. Вот он перепрыгнул на нее и начал отталкиваться жердью. Лестница и лежащий на ней человек заскользили через болото к холму. Кушке последовал за ним на длинной доске. Он тоже отталкивался жердью, во весь голос ругаясь и молясь одновременно:
— Дерьмо собачье, говно поганое, защити бедняжку фройляйн, Всемилостивый…
Теперь в болоте были уже пятеро. Шестеро. Восемь человек. Десять. Все они передвигались на досках или лестницах, между тряскими кочками и стоячей водой, дальше, дальше… Лестницы и доски не тонули. Это была единственная возможность, пробиваться вперед по болоту.
— Помогите… — раздалось уже совсем еле слышно.
Кушке вдруг кое-что пришло в голову. Он обернулся и увидел на берегу множество людей: воспитательниц и детей, которые стояли у забора и смотрели на болото.
— Позвоните кто-нибудь, вызовите «скорую»! — заорал он. — Пусть срочно приезжает из Цевена! Срочно! На всякий случай. У меня такое чувство, что…
Какая-то воспитательница бросилась к телефону.
Кушке погреб дальше. Его доска раскачивалась — ощущение было не из приятных. Он ушел ногами под воду и смачно выругался. Потом опять начал громко молиться.
К холму он подоспел почти одновременно с пастором и ужаснулся, увидев фройляйн. Ее лицо было мертвенно-белым и искажено страшной гримасой. Она цепко держалась за корень, но пальцы уже онемели, и она все глубже сползала в болото…
Кушке перепрыгнул на холм. Пастор последовал за ним, но поскользнулся и упал в коричневую болотную воду, глотнув хорошую порцию. Когда сильный как вол Кушке вытащил его из воды, он был насквозь мокрый. Они приподняли доску и лестницу и вытащили их наполовину на берег, сложив рядом жерди. Вот уже показались быстро приближающиеся директор лагеря и врач. Кушке с пастором бросились к тому проему, куда упала фройляйн Луиза. Кушке опустился на колени и попросил пастора подержать его за ноги. Пастор крепко ухватил его. Кушке, теперь тоже вымокший до нитки, лег на живот и схватил фройляйн Луизу за руки:
— Спокойно, фройляйн Луиза, спокойно! Мы здесь.
И страшно перепугался, когда в ответ на это она пронзительно завизжала:
— Они здесь, мои гонители! Они здесь! Помогите! Помогите! Помогите!
Она попыталась вырваться из его рук. Рядом с Кушке плюхнулся директор лагеря. Его ноги держал доктор Шиманн. Теперь вдвоем они пытались отцепить руки фройляйн Луизы.
— Оставьте меня! Оставьте меня! Уходите прочь! Вы тоже фальшивые! Снова фальшивые!
— Но, фройляйн Луиза!
— Не имеет смысла, — вздохнул доктор Шиманн. — Она нас больше не узнает.
— Она меня не узнает?!
— Никого из нас, — ответил Шиманн.
— Господи Боже! — взмолился Кушке. — Ну, теперь она точно прикажет долго жить!
— Ну, давайте, на «три» тащим вместе, — процедил Шиманн сквозь зубы.
Как только он крикнул «три», оба дернули изо всех сил. Им удалось вытащить фройляйн, которая бешено сопротивлялась и орала как сумасшедшая, на берег. Ее одежда, волосы и вся она была хоть отжимай. Вода стекала с нее струями. Но едва оказавшись на суше, она набросилась на них с зубами, ногтями и ногами. Она пиналась, кусалась, царапалась и при этом кричала:
— Вы преступники! Вы убийцы! Убийцы! Убийцы! Убийцы! Прочь! Прочь, убийцы! На помощь! На помощь!
Кушке схватил ее за руки, заломил их за спину и держал железной хваткой. Пастор, вплотную подступив к фройляйн начал:
— Будьте благоразумны, фройляйн Луиза. Будьте…
С лицом, больше похожим на демоническую маску, она окинула его безумным взглядом, и вдруг пнула его по голени и плюнула ему прямо в лицо, ему, которого она еще недавно так любила, и которого теперь больше не узнавала. А потом пронзительно завизжала:
— Пес поганый! Подлый Иуда!
— Фройляйн Луиза… — смущенно пробормотал Демель, не отерев ее плевок.
Голос фройляйн взвился еще выше:
— А те, что грешат во имя Мое, те будут прежде других призваны на суд Божий!
— Думает, что она Иисус, — промолвил потрясенный Кушке.
Он зажал ее рот ладонью. Для этого ему пришлось отпустить одну ее руку. Она тут же ударила позади себя свободной рукой и угодила ему прямо в живот. И вдобавок укусила за руку.
— А-а-а, — застонал Кушке.
В следующее мгновение фройляйн бесшумно опустилась на землю. Она потеряла сознание. Тяжело дыша, мужчины стояли над ней.
6
Фройляйн Луиза слышала ужасающий вой.
Она не знала, что это сирена «скорой помощи», в которой она сейчас лежала. Она открыла глаза. В тусклом свете угадывались силуэты двух огромных мужчин. Это они! Теперь они, действительно, ее настигли. Теперь в ад! В преисподнюю вместе со мной!
— Нет! — взвизгнула фройляйн. — Нет! Я не хочу в ад!
— Безумна, — сказал доктор Шиманн пастору. — Совершенно безумна. Кататоническое состояние. Ничего не поделаешь.
— Может быть, ей что-нибудь дать… Я имею в виду…
— Сначала в клинику… Мы не должны навредить… — ответил санитар, сидевший позади фройляйн.
Фройляйн Луиза услышала совсем другое:
«Вон она лежит…»
«Теперь она от нас не уйдет…»
«Теперь мы будем ее судить…»
— Прочь! Прочь! Я хочу прочь отсюда! — завопила фройляйн, попытавшись вскочить, но поняла, что это невозможно.
Ее привязали кожаными ремнями за руки и за ноги к носилкам — для ее же безопасности.
— Пропала! Я пропала! Я проклята! — взвыла фройляйн.
Сирена продолжала свою песню, «скорая помощь» мчалась дальше сквозь ночь. Она свернула с автострады и вскоре была уже у больницы Людвига в Бремене. Фройляйн Луиза кричала и дергалась в ремнях. Она вопила, пока хватало сил, потом ненадолго умолкала и вновь принималась визжать. Из ее рта изрыгались проклятия, ругательства и богохульства. Она была похожа на мегеру…
«Скорая помощь» остановилась во дворе психиатрического отделения. Дверцы машины распахнулись. Два санитара подкатили к ним носилки, подняли их и понесли через двор в приемник. Там, в ярко освещенном помещении, где дежурили две ночные сестры и врач-ассистент, они поставили их на пол. Доктор Шиманн и пастор проследовали за ними.
— Выпустите меня! Свиньи! Собаки! Развяжите меня! Помогите! Помогите! Убийцы! Преступники! Подлые выродки! — кричала фройляйн Луиза не своим голосом.
Молодой ассистент встал на колени и попробовал до нее дотронуться. Раздался протяжный вой. Врач растерялся. Сестра стала звонить по телефону. Пастор тоже опустился перед фройляйн Луизой на колени и попытался еще раз:
— Все будет хорошо, дорогая фройляйн Луиза, все будет…
— Сгинь! — завопила фройляйн истошным голосом. — Сгинь, сгинь, сатана! Сатана! Сатана! — И снова плюнула ему в лицо. — Развяжите меня! Выпустите меня!
— Мы не можем развязать ее, — сказал молодой врач. — Это невозможно. Она здесь у нас все разгромит. Она…
— Убийца! Убийца! Убийца! — голосила фройляйн.
— Развяжите ее! — послышался спокойный низкий мужской голос.
— Уби… — фройляйн замолкла и пристально вглядывалась в вошедшего в белом халате.
Он был могучим и сильным, у него были темные глаза, черные коротко стриженные курчавые волосы и широкое лицо. Он улыбался.
— Ну, — сказал он, — наконец-то, фройляйн Луиза.
Он сделал ассистенту знак, и тот развязал ремни. Фройляйн Луиза медленно села. В приемной повисла мертвая тишина. Медленно, страшно медленно поднималась она в своих сырых одеждах. Одеяло, которым ее укрыли, упало на каменный пол. Фройляйн подошла к могучему мужчине, который, по-прежнему улыбаясь, разглядывал ее. Пастор затаил дыхание.
— Ты, — вымолвила фройляйн своим обычным голосом. — Ты… тебя я знаю…
Человек в белом халате на мгновение прикрыл глаза и снова посмотрел на фройляйн Луизу.
— Да-да, я тебя знаю. — Она вплотную подошла к нему. — Ты… — начала она и остановилась.
Он кивнул ей.
— Ты принес мне благословение?
И снова кивнул психиатр доктор Вольфганг Эркнер.
Внезапно фройляйн обняла его, прижалась к нему и наконец, наконец-то разразилась долгими рыданиями.
7
«Ты держишь жребий мой… — растроганно читал Томас Херфорд, стоя перед конторкой с раскрытой толстой Библией — …и наследие мое приятно для меня». Его волосатые руки были молитвенно сложены, на пальце в рассеянном свете потолочного освещения мерцал бриллиантовый перстень. Он поднял глаза и добавил: «Из пятнадцатого псалма. Златое сокровище Давида».
«Амен», — сказали Мамочка, юрисконсульт Ротауг, директор издательства Зеерозе, главный редактор Лестер, заведующий художественным отделом Курт Циллер (наконец-то вернувшийся из Штатов) и Генрих Ляйденмюллер, наш главный макетчик. Хэм, Берти, Ирина и я промолчали. Ирина была сражена роскошью кабинета Херфорда, как всякий, кто входил сюда впервые. Ну, и конечно, ее измотали все события последнего дня и долгая дорога в Гамбург. Я промчался четыреста девяносто пять километров по автобану со скоростью самоубийцы, сделав одну-единственную короткую остановку. Из-за затяжного дождя и сильного ветра было по-зимнему холодно. Голые леса и поля по обеим сторонам автобана наводили такую же тоску, как и бесчисленные черные вороны, то тут, то там собиравшиеся в огромные стаи.
Я подкатил прямо к издательству, и нас тут же пригласили к Херфорду вместе с Лестером и Хэмом, и на этот раз с Ляйхенмюллером, которому сейчас отводилась значительная роль. Худой как скелет малый слегка заикался от волнения и внимания к своей персоне, на лбу у него выступили капли пота. Под мышкой он держал макеты полос — большие листы из плотной оберточной бумаги.
Едва произнеся «Амен», Мамочка с воплем бросилась на Ирину, которая в испуге отшатнулась, схватила ее за бедра, прижала к себе и, нагнув ее голову, запечатлела поцелуй в щечку.
— Ах, дитя, дитя мое! — воскликнула она. — Мы все так счастливы видеть вас здесь, среди нас. Правда ведь, Херфорд?!
— Чрезвычайно счастливы, — с улыбкой поклонившись, ответил ее муж.
Улыбающиеся Зеерозе, Ротауг и Циллер последовали его примеру.
На Мамочке был уму непостижимый наряд. Голубой трикотажный костюм с трикотажным жилетом, который свисал ниже задницы — голубой к ее кричаще фиолетовым крашеным волосам! — коричневая шляпа с громадными полями и глубоким заломом посередине, какие носят американские трапперы,[111] и в довершение ко всему неимоверное количество нитей жемчуга вокруг шеи.
— Ну что ж, — пророкотал Херфорд, — мы здесь тоже даром времени не теряли. Покажите-ка, Ляйденмюллер, что у вас там!
Худосочный сластолюбец развернул макет на столе заседаний. Он совсем разволновался. Как же — настал его звездный час! Суетясь, он принялся объяснять, как смакетировал сменные полосы. Все столпились у стола.
— М-макет уже одобрен рук-ководством и г-господами Лестером и Ц-циллером, — подобострастно сообщил он. — К-конечно, я пока не м-могу показать п-пробные оттиски — это ведь цветные п-полосы. У м-меня здесь…
— Сами видим, что у вас здесь, — оборвал его Лестер, наш маленький Наполеон.
Действительно, все было видно и так. Из присланных Берти пленок Ляйхенмюллер отобрал кадры и заказал по ним оттиски нужного ему формата. Он наклеил их на полосы вместе с фотокопированными заголовками и подписями, расположив их, как ему виделось.
Нам был представлен дубликат макета, по которому со вчерашнего дня велась напряженная работа. Цветные полосы — самый сложный и длительный процесс в печати. Здесь другое клише: три цилиндра с разноцветными красками и один с черной запускаются одновременно, и при этом постоянно делаются пробные оттиски, пока все цвета не совпадут. Иногда это длится четыре, а то и пять дней. Но касаемо этой статьи — моей статьи — Херфорд заявил:
— Номер должен выйти в следующий четверг.
— Невозможно, — возразили сотрудники технического отдела, — если только днем позже. Рассылка и прочее…
— Ладно, Херфорд согласен. В четверг в киосках не появляется «Блиц» — все в недоумении! Строжайшая тайна! Поэтому специально никакой рекламы. А на следующий день — бац! — бомба!
— Атомная бомба! — вставила Мамочка.
— Водородная! — поддакнул Лестер.
— Тю, тю, тю, — присвистнул доктор Хельмут Ротауг и подергал свой жесткий воротничок.
Следующий четверг — это ровно через неделю. Вы удивитесь, сколько еще нужно времени после завершения допечатной подготовки, пока свежий номер не попадет вам в руки. Дело здесь в чертовски сложной печати, потом потребуется масса времени, чтобы напечатать миллионный тираж и, наконец, рассылка. По сути, еще четыре-пять дней тираж лежит на складе, прежде чем появится в киосках. За это время его поездом, самолетом, автомобилем доставляют в каждую торговую точку. Это съедает львиную долю времени.
Признаюсь, я страшно нервничал, когда склонился над макетом. Берти тоже. На этот раз это была наша история, моя история, которая выходила на свет…
В этом номере стояла еще куча всего: восьмиполосный репортаж «Смерть черного Иисуса» о расовых беспорядках в Штатах и репортаж с показа мод — наверняка оба в цвете. Потом по пагинации[112] я определил, какой материал заменен. Об очередной экспедиции — на этот раз немецкой, — вершины Нанга Парбат в Гималаях. С самого начала экспедицию преследовали неудачи. До вершины они не дошли — почти сразу пять ее членов сорвались в пропасть и погибли. Двое альпинистов снимали для «Блица» всю эпопею — от начала до ее трагического конца. Были отобраны самые эффектные фотографии, и на развороте, помнится, стоял заголовок: «Трон богов стал их могилой». Теперь разворот был совершенно иным. В верхнем левом углу сразу бросалось в глаза набранное ядовито-желтым рваным шрифтом, который Ляйхенмюллер сам придумал и начертал, одно-единственное слово:
ПРЕДАТЕЛЬСТВО!
По верхней кромке бежала полоса текста курьером:
эксклюзив — эксклюзив — эксклюзив.
Справа тем же шрифтом, что и «предательство»:
НОВЫЙ РОЛАНД: ИСТОРИЯ МЕЖДУНАРОДНОГО СКАНДАЛА
ТОЛЬКО У НАС — СЕНСАЦИОННЫЙ РЕПОРТАЖ С МЕСТА СОБЫТИЙ ЧИТАЙТЕ В СЛЕДУЮЩЕМ НОМЕРЕ «БЛИЦА»!
В правом нижнем углу:
ФОТО: БЕРТА ЭНГЕЛЬГАРДТА
И весь разворот занимала та самая фотография Берти, на которую я так надеялся. Тот самый момент, когда малыш Карел, встреченный пулеметной очередью, летит по воздуху. Снимок получился потрясающим. Создавалось впечатление, что мальчишка и в самом деле летит по развороту: резко, совершенно отчетливо — лицо в минуту смерти; размытый контур тела и ярким пятном — сверкающая золотом труба, которая уже выскользнула из его рук, но все еще летит рядом. Черные кусты и деревья на фоне величественного заката солнца, огненной завесы под черным грозовым небом. А внизу масса людей, детей и взрослых, плашмя на песке и в траве, паника, паника на лицах. Еще никогда и нигде в печати я не видел такого фото.
— Херфорд поздравляет вас с этим снимком, — возвестил Херфорд, пожимая Берти руку. — Херфорд поздравляет вас со всеми вашими снимками, господин Энгельгардт. Это — лучшее из всего, что вы когда-либо нам предъявляли.
— Просто чуть-чуть повезло, — смущенно улыбнулся Берти.
— И вас Херфорд поздравляет за ваши журналистские расследования, — пожал он и мне руку. — Господа!..
Мамочка и все остальные за исключением Берти и Хэма бросились ко мне с рукопожатиями. Рука Ротауга казалась резиновой, Лестера — похожей на холодную рыбу, рукопожатие Зеерозе причиняло боль. Этот был сегодня одет элегантнее, чем обычно, его сверкающие глаза одарили меня лучезарным взором.
— Это будет суперфурор всех времен, — изрек Херфорд. — Херфорд это печенками чует. Поднимите тираж до ста тысяч.
— До двухсот тысяч! — выслужился Лестер.
— Амен, — завершила Мамочка, как и по окончании 15-го Псалма Давида.
— Не слишком зарывайтесь! — осадил Херфорд. — Сто пятьдесят и не более. Подумайте о рекламе! — Он прихрюкнул. — Но взлететь над всеми я хочу именно на этом и на «Мужчине как таковом». Надо показать этим сукам, что может Херфорд! Извини, Мамочка!
Мы с Берти просмотрели две другие сменные полосы. Здесь еще оставалось место для подписей и местечко для короткого слогана. («Продолжение на стр. 96» — так, здесь они еще что-то вымарали.) Это был мой текст, тот, что я надиктовал по телефону. Фотографии — они были просто великолепны! — изображали мертвого Карла Конкона на кровати в номере отеля «Париж»; Ирину (крупным планом); Ирину и фройляйн Луизу, орущих друг на друга в убогом лагерном бараке; крупнозернисто, но достаточно отчетливо окно на освещенном фасаде дома 333 по Ниндорфер-штрассе, а за окном лица Яна Билки и его подружки; смывающиеся с места событий машины перед воротами лагеря (фройляйн Луиза с воздетыми к небу руками на переднем плане и на заднем); двое схватившихся американцев на улице перед домом по Эппендорфер Баум (мне и в голову не пришло, что Берти снимал даже тогда, после драки) — ну, и так далее. Это были потрясные четыре полосы.
— Здорово у тебя получилось, — сказал я Ляйхенмюллеру.
Берти, осклабясь, похлопал его по плечу.
— С-спасибо, — смущенно ответил Ляйхенмюллер.
— Прошу внимания! — Херфорд подошел к графику сроков, разложенному на столе.
Все посмотрели на него. Он повел указкой — ну прямо фельдмаршал над картой перед началом сражения:
— Вот что мы имеем: сегодня, только что вышел номер сорок шесть за этот год. Следующая среда, 20 ноября — день покаяния и молитвы. Херфорд выйдет с номером сорок семь не 21-го, а, как было сказано, только 22-го, в пятницу. В номере сорок семь у Херфорда расовые беспорядки и эти четыре сменные полосы. Неделей позже, 28 ноября, в номере сорок восемь поместим первую часть «Предательства» — вы должны подналечь, Роланд! Мы все должны! Херфорд возлагает ответственность за то, чтобы обложка с мальчиком в обмороке на полу барака была готова вовремя, лично на вас, Ляйхенмюллер!
— Так точно, господин Херфорд, разумеется, конечно…
— В номере сорок восемь Роланд перекинет мостик от нашей секс-серии к «Мужчине как таковому». — Я кивнул. — Эта серия начнется с номера сорок девять еще одной неделей позже, 5-го декабря. Здесь также надо как можно скорее подготовить обложку. У господина Циллера есть отличная идея, но ее еще надо детально обсудить. Так что сегодня у нас будет горячая ночка, господа!
Я вдруг обратил внимание на Ирину. Бледная и усталая, она присела и смотрела перед собой в одну точку. Никто не позаботился о ней. У нас у всех в голове теперь был только график. На большом письменном столе Херфорда уже несколько раз звонил один из его четырех телефонов. Мы только сейчас это заметили. Херфорд заспешил к нему по толстым коврам и снял трубку с телефона, о котором поговаривали, что он из золота. Через секунду он махнул мне:
— Вас.
— Кто?
— Херфорд не знает. Не разобрал имени. Кто-то из Нойроде.
Я бросился через этот музейный зал к Херфорду и выхватил у него трубку. Подо мной расстилался вечерний Франкфурт — мерцающее, переливающееся, изменчивое море огней.
— Роланд.
— Это пастор Демель, — раздался его спокойный голос. — Я не знал, где вас искать в Гамбурге, и уже несколько раз звонил сегодня в издательство. Мне сказали, что вы будете вечером.
— В чем дело, господин пастор?
— Фройляйн Луиза…
— Что с ней?
Он сказал, что произошло. Теперь его голос уже не был спокойным. Я посмотрел на свои часы.
Девятнадцать часов двадцать шесть минут.
14 ноября 1968.
Четверг.
В следующий четверг, 21-го в киосках появился номер сорок семь, номер с первыми сногсшибательными снимками. Хотя нет, он вышел днем позже, 22-го. А потом, в четверг, еще через неделю…
Пастор говорил торопясь и захлебываясь — ему было что рассказать. Передо мной, у стола заседаний разглагольствовал Херфорд. Я слушал его, и слушал пастора.
— Роланд, в чем дело? Чего вы там болтаете? Случилось что?
— Фройляйн Луиза, — сказал я, прикрыв рукой трубку, — в психиатрии. В больнице Людвига. В Бремене.
— Кто?
— Фройляйн Луиза Готтшальк.
— Да кто это?
— Воспитательница, которая…
— Ах так. Черт побери, сумасшедший дом! Все-таки случилось, да?
— Да, господин Херфорд.
— Вот дерьмо! И как раз сейчас. Так. Естественно, первый класс, за наш счет. Лестер, немедленно распорядитесь. Позвоните в эту больницу Людвига.
— Слушаюсь, господин Херфорд!
— Посещения разрешены? Можно будет ее еще порасспросить и сфотографировать?
Пастор все еще говорил.
Я снова положил ладонь на трубку.
— Не сейчас, господин Херфорд.
— Господин Роланд? Господин Роланд? Вы еще слушаете?
Я убрал руку:
— Разумеется, господин пастор. Рассказывайте дальше. Я ловлю каждое слово.
Я опять прикрыл трубку.
— Что значит «не сейчас», Роланд?
— Потому что врач, некий доктор Эркнер, вколол ей успокоительное. Сейчас ей проведут короткий курс лечения сном. А затем, по-видимому, электрошоковую терапию.
— О, чертова задница, чтоб тебе!
— Херфорд, пожалуйста…
— Я могу и так начинать, господин Херфорд. У меня хватит материала, пока не разрешат посещения.
А голос пастора все звенел мне в ухо:
— …добрая, несчастная фройляйн Луиза. Не ужаснешься ли, видя, какие испытания посылает Господь Всемогущий тем, которые должны быть его возлюбленнейшими чадами?!
И до меня доносился голос издателя:
— Дерьмо собачье! Все мы в заднице! Материала пока хватит! А если они неделями будут долбать ее шоком и никого к ней не пустят?! Что тогда, Роланд?! Ну не срам ли это до небес, что старая кошелка именно теперь тронулась умом?!
— Да, — ответил я моему издателю и пастору одновременно.
8
Вацлав Билка с треском хлопнулся на каменные плиты террасы под моими апартаментами. Он выпрыгнул из окна гостиной с пятого этажа, врезался черепом и умер на месте.
Летом на этой террасе стоят столики, посетители подолгу сидят здесь в прохладе ночи, играет ансамбль, и на освещенной площадке танцуют. Теперь, в ноябре, с террасы все убрано, только мокрая листва покрывает ее.
Большие стеклянные двери, ведущие внутрь, в бар, были закрыты, шторы опущены. В углу бара расположена стойка в виде подковы, за которой работают бармен Чарли и три его помощника. В витрину с бутылками вмонтирован проигрыватель для трансляции музыки на улицу. В баре она не слышна. Здесь, на небольшом подиуме напротив стойки играл ансамбль из пяти человек. Несколько пар танцевали. Бармен Чарли услышал громкий удар о каменные плиты там, на улице, но не подал виду. Он выждал пару секунд, не заметил ли кто-нибудь еще этого хлопка. Бар был довольно полон, ансамбль играл «Черный бархат», и Чарли оставил стойку. Через кладовую, через маленькую дверку он вышел на террасу, увидел, что случилось, и тут же поставил в известность ночного портье Хайнце. Не более чем через десять минут здесь уже была криминальная полиция. Они вели себя деликатно и тихо. Я стоял под дождем наверху, на моем балконе и громко позвал их на помощь. Люди там, внизу направили на меня поворачивающуюся фару одного из автомобилей, а потом трое из них тут же поднялись к нам в сопровождении Хайнце, открыли дверь, и я рассказал им, что и как здесь произошло. Исчезновение Монерова и Жюля Кассена было установлено. Ребята из полиции хотели знать, из-за чего весь сыр-бор, и, прежде чем я успел что-то соврать, прибыли эти двое, которых я давно ждал, — большой господин Кляйн и господин Рогге с толстыми линзами из Ведомства по охране конституции. На их лицах были написаны усталость и отвращение. Могу себе представить, как им осточертело заниматься этим делом, которое им навязали и которое никак не входило в их компетенцию.
Тем временем Хайнце вызвал холодно-вежливого директора отеля. Ирина, совершенно разбитая, дремала в спальне. Мы беседовали в гостиной, и когда я между делом выглянул в окно, то увидел, что люди из полиции уже закончили с фотосъемкой и фиксацией следов, а тело Билки уже погрузили в закрытый фургон. Посетители бара так ничего и не заметили. Крутились пластинки Чарли. Из маленького репродуктора в гостиной звучала мелодия «Чужие в раю», когда Кляйн и Рогге обратились ко мне.
— Итак, господин Роланд, как все это случилось? — задал вопрос Кляйн с таким выражением лица, как будто его вот-вот вырвет.
— Я в таком же восторге от нашей встречи, как и вы.
— Только не хамить, ладно? — высказался Рогге.
— А кто здесь хамит? — спросил я.
— Вы. И, Бог свидетель, у вас нет к тому ни малейшего повода.
— Не понимаю. Что касается меня, то…
— Заткнитесь! — взревел Рогге.
Потом сбавил тон и сказал, что весь сегодня на нервах, и что я должен рассказать все по порядку.
Я между тем осведомился:
— Вам известно, что произошло в Хельсинки?
— Известно, известно. Вот только, что произошло здесь, мы пока не знаем.
— Разумеется, не знаете, — ответил я. — Вы могли только подслушать мой разговор с Энгельгардтом в Хельсинки — больше я никуда не звонил. Вы ведь подсоединились, или?..
— Да, да, — любезно подтвердил Кляйн.
— Если бы вмонтировали микрофон, как это делают русские, вы бы знали больше.
— Наша ошибка, — сказал Рогге. — Между прочим, этот парень, Фельмар, пришел к нам сам и во всем сознался.
— И что ему теперь будет?
— Еще не знаю. Пока что мы взяли его под стражу. А дальше будет решать судья. Завтра, нет, сегодня утром Фельмар предстанет перед ним.
— Несчастная свинья!
— Мы все тут несчастные свиньи, — ответил Кляйн. — А теперь пошли дальше.
Они внимательно слушали меня, они и трое из криминальной полиции, которым Кляйн еще раньше дал указание, что это дело должно храниться в тайне и что не должно быть никаких заявлений для прессы. Все должно быть завуалировано. Самоубийство, выбросился из окна — и ничего более. Для общественности достаточно. Усталые полицейские только пожали плечами.
Так оно и было. На следующий день ни в газетах, ни на радио, ни на телевидении вообще не появилось ни слова. А большие информационные агентства сочли сообщение о самоубийце, который выбросился из окна, не стоящим внимания. Да, в нашем государстве на этот счет все еще царил порядок.
Выдавив из меня все, что было можно, Кляйн и Рогге, поинтересовались, что я намерен делать дальше.
— Дождусь, когда Энгельгардт вернется из Хельсинки и поеду во Франкфурт начинать работать. Вы что-нибудь имеете против? — спросил я в глубоком убеждении, что они запретят мне написать хоть слово об этом скандальном деле. И еще я был убежден, что они затребуют все магнитофонные пленки и фотопленки Берти из Хельсинки.
Ничего подобного! Оба только покивали с улыбкой и сообщили мне, что только выполняют свой долг, хотя и вынуждены заниматься делом, которое не входит в их компетенцию. И что я им в высшей степени симпатичен.
— Так что, я могу ехать? И забрать девочку с собой? И писать?
— Ради Бога, — ответил Кляйн. — Мы уже как-то сказали, что вовсе не враги вам, и мешать вашей работе не входит в наши планы. Это дело должно стать достоянием общественности. Так что пишите, пишите, господин Роланд. Только никаких официальных заявлений!
Я ничего не понимал.
— У вас такие могущественные друзья! — сказал Рогге.
Теперь до меня дошло. И все-таки все это было несколько странно. Мне вспомнилось, как Виктор Ларжан сказал, что из этого репортажа не будет опубликовано ни строчки, а утром намеревался предоставить мне договор и чек от американского издательства. О приятном пожилом господине из Кельна я тоже вспомнил. А потом решил, что должен срочно, очень срочно позвонить в свое издательство.
Но прошел еще целый час, пока «братишки», наконец, не оставили меня в покое. Я заглянул в спальню. Ирина заснула прямо при свете. Она спала спокойно и дышала ровно. Я укрыл ее, выключил свет, взял свое пальто и покинул апартаменты, в которых теперь весь ковер был заляпан следами от грязных ботинок. Я запер номер и спустился в холл. До стойки ночного портье Хайнце из бара доносилась музыка. Был включен магнитофон.
В этом «Клубе 88» мне больше нельзя было появляться. Я попросил Хайнце вызвать мне такси. Он отреагировал с прямо-таки враждебной формальностью, это он, которого я так давно и хорошо знал.
— В чем дело, Хайнце?
Не отрывая взгляда от своих бумаг, он ответил бесцветным голосом:
— Мне очень жаль, господин Роланд, но после всего, что произошло, дирекция просит вас освободить апартаменты к завтрашнему дню и выехать с… с вашей женой.
— Я так и так собирался уехать, — ответил я. — Но, послушайте, господин Хайнце, я правда не имею никакого отношения к тому, что кто-то у меня на глазах выбрасывается из окна!
Он пожал плечами:
— Мне больше нечего добавить, господин Роланд. Я сожалею, что именно мне выпало поставить вас в известность: дирекция убедительно просит вас с настоящего момента и на все будущие времена более не останавливаться в отеле «Метрополь». Если вы все-таки не прислушаетесь, для вас не найдется свободного номера.
— Так, понятно, — ответил я. — Директора я тоже могу понять. Но мы-то, мы же остаемся друзьями, да?! — И положил на стойку стомарковую купюру.
Он отодвинул ее назад ко мне и ответил ничего не выражающим голосом:
— Я не могу это принять, господин Роланд.
— Ну, нет, так нет. — Я сунул бумажку обратно и вышел на улицу.
Здесь как раз отъезжало такси. Я плюхнулся на заднее сиденье. Швейцар закрыл дверцу.
— На Центральный вокзал и обратно!
— Будет сделано, — ответил шофер.
Шел сильный дождь.
9
На Центральном вокзале, как обычно, по лавкам, свернувшись калачиком, валялись пьянчужки. Я разменял двадцать марок мелочью и пошел к той кабинке, из которой я целую вечность назад звонил Хэму. На этот раз, набрав номер издательства, я попросил соединить меня прямо с Херфордом — Хэм не мог свободно говорить со мной оттуда, и вообще, мне сейчас нужен был издатель. Тот ответил немедленно:
— Добрый день, Роланд, Херфорд приветствует вас.
— Здравствуйте, господин Херфорд, — начал я. — За последние…
— Откуда вы говорите?
— С вокзала. Из кабинки. За последние часы много всего произошло и…
— Херфорд в курсе, — прогудел его самодовольный голос.
— Знаете…
— Я знаю все! — послышался его смех. — Вы удивлены, да?
— Понятно, — сказал я. — Господин Зеерозе получил информацию от своих друзей?
— Сообразительный мальчик. Получил, получил. Полное говно. Но первый сорт для нас. Все так и сказали: первый сорт. Они сейчас все здесь наверху у меня. И ваш друг Крамер. Херфорд включил громкую связь — все вас слышат.
— А что Билка выбросился из окна моих апартаментов и проломил себе череп — это вы тоже знаете?! — обозлился я.
Я услышал, как Херфорд жадно глотает ртом воздух.
— Вы что, пьяны, Роланд?
— Никак нет, господин Херфорд.
— Но как мог Билка из вашего окна… — Его заклинило.
Я бросил следующую монету и сказал:
— Я расскажу вам. И кое-что еще, о чем друзья господина Зеерозе предпочли умолчать.
И я выдал им все. Я рассказывал и опускал монеты. В кабинке пахло мочой и какими-то духами. Мочой — все сильнее, мне стало дурно и пришлось глотнуть из фляжки. Я рассказал все, что случилось в моих апартаментах, не забыл и визит Виктора Ларжана, только о его пророчестве, что эта история никогда не выйдет в свет, я умолчал. И под конец забил последний гвоздь:
— Так что, теперь вы не собираетесь публиковать эту историю?
— Что за ерунда! Конечно, будем публиковать! — Взбеленился он. — Вы что там, совсем свихнулись?! Такого материала у нас еще не было! Что за идиотский вопрос? Или вы собираетесь свалить и продаться куда-нибудь еще?! Я предупреждаю вас, Роланд! И не пытайтесь провернуть! Я притяну вас к ответу! Затаскаю по всем судам, какие только есть! Это кормушка Херфорда! Это принадлежит ему! И публиковать это будет только Херфорд! Херфорд клянется вам… А, вы, наверно, подумали о приятном пожилом господине из Кельна, да?
— Да, — пробормотал я.
— Так знайте, он ничего не имеет против, мы это выяснили, ха-ха!
— Вы говорили с ним?
— Погодите-ка, сейчас Освальд вам все объяснит. Освальд, иди-ка сюда!
Подошел Освальд, и я услышал хорошо поставленный, звучный голос директора издательства:
— Алло, господин Роланд?
— Я. Привет, Зеерозе! — я бросал одну монету за другой, пока слушал его.
— Все именно так, друг мой, как сказал господин Херфорд. Мы печатаем. Никаких протестов со стороны приятного пожилого господина из Кельна или американцев. Напротив!
— Что значит, напротив?
— Американцы заинтересованы, чтобы материал был опубликован! Это же они выразили и господину из Кельна, как он сообщил, я не один раз соединялся с той и с другой стороной по телефону.
— Американцы заинтересованы… Но, господин Зеерозе, сухими из воды они в этом деле не выйдут, эти американцы!
— Именно поэтому. И, кроме того, это еще только первый тайм.
— Не понимаю.
— Эта кабинка на центральном вокзале, она чиста?
— Ну разумеется. — Я прикурил новую «Галуаз», потому что больше не мог выносить этой вони, а дверь открыть было нельзя. — Что значит — первый тайм?
— Ну, вторая половина пленок все еще в Нью-Йорке, так?
— Если русские как следует возьмут Билку в оборот, она там недолго останется.
— Никому не ведомо, что еще может случиться, — ответил Зеерозе. — Американцы и дальше будут поставлять нам оперативную информацию, об этом мы договорились. Они уж никак не слепые оптимисты. Скорее, дипломаты. Давайте предположим, что Восток получает и вторую половину — все возможно. Тогда наша серия просто обязана выйти.
— Совершенно не понимаю. Серия, которая изображает поражение американцев?
— Да. С одной маленькой поправкой.
— С какой именно?
— Именно с такой, что американцы, пока Билка пребывал на Ниндорфер-штрассе, получили от него копии микрофильмов, а перелет в Хельсинки и все дальнейшее запустили только для того, чтобы ввести Восток в заблуждение.
— Но это же чистейшая ложь, — возмутился я, — или правда?
— А вы как думаете? — спросил он.
— Что это вранье, конечно!
— Хм. Это Вы так думаете? Но когда вы напишете, — а мы опубликуем с приличной задержкой, так что это будет как разрыв бомбы, — что у американцев якобы есть копии пленок, и еще с легким намеком на то, что именно поэтому мы смогли предать гласности эту историю, и миллионы поверят, так ведь? А у русских возникнет, по крайней мере, то же сомнение, что только что испытали и вы, друг мой. Они станут допрашивать Билку, если к тому времени он еще будет жив. И что тот сможет ответить?
— Что не передавал никаких копий.
— Правильно. И именно в этом русские ему никогда не поверят. Поэтому нам чрезвычайно повезло, что мы только через несколько недель выходим на рынок с нашим заявлением. Нам вообще необычайно везет.
— Это еще почему?
— Ну, — задушевно произнес Зеерозе, — вы утверждаете, что Билка-брат мертв. Тогда у вас вообще больше не может быть никаких уколов совести, что своей статьей вы можете навредить кому-то. Вацлав Билка теперь покоится с миром.
— Послушайте, — сказал я, — и все это чистая правда? Фактически и достоверно? Вы не водите меня за нос?
— Мой дорогой юный друг, что еще за недоверие?
— Я видел вас в Гамбурге, когда вы входили в дом 333 по Ниндорфер-штрассе, — парировал я. Но сейчас мне любой ценой надо было удостовериться.
А Херфорд включил громкую связь, так что теперь наш диалог слушали все в его роскошном зале.
— Ну разумеется, — сказал Зеерозе с невозмутимой любезностью. — Это американцы просили меня прийти как можно скорее.
— Зачем?
— Чтобы обсудить то, что ныне стало насущной необходимостью, — последовал его слегка высокомерный ответ. — Послушайте, американцам нужна ваша статья. Сейчас! Срочно! Хотите позвонить на Ниндорфер-штрассе? Я дам вам телефон. Но он, естественно, секретный.
— Естественно. Итак?
Он и в правду назвал мне номер. Я записал его на клочке бумаги.
— Там ответит человек из руководящего состава. То есть он ответит в том случае, если вы скажете кодовое название этой операции.
— И что это за слово?
— «Сатисфакция» — «удовлетворение». Если вы назовете это слово, вам ответят «Рэд маунтин».[113] Аппарат стоит у его изголовья. Он сегодня дежурит. Его имя Рональд Патерсон. Спросите его, сказал ли он мне, что просит о публикации.
— Именно это я сейчас и сделаю. А потом снова перезвоню вам.
Я повесил трубку, набрал новый номер и, как только соединили, сказал: «Сатисфакция».
— «Рэд маунтин», — ответил мужской голос.
Далее разговор пошел на английском. На американском английском.
— Мистер Патерсон?
— Кто это?
— Журналист из «Блица». Как мое имя?
— Вальтер Роланд. Я ждал вашего звонка.
Потом я спросил его, сколько у него собак и все ли они терьеры. Он ответил, что две из них овчарки. Затем я попросил ответить, как выглядят Билка и его подружка, и куда их отвезли в Хельсинки. Ну, и кое-что еще в том же духе. Я должен был удостовериться, что Зеерозе не дал мне какого-нибудь чужого номера. И похоже, что это, действительно, был телефон американцев. Наконец, я удовлетворился.
— И вы согласны на публикацию?
— При том условии, что вам назвал мистер Зеерозе.
— А ваше утверждение соответствует действительности?
— Идиотский вопрос, мистер Роланд. Вы что, ожидаете, что я вам отвечу: мы солгали?
Ну, и так далее. Кажется, и в правду все было о’кей. Я был почти уверен, что у американцев не было никаких копий, но появлялась прекрасная возможность поводить русских за нос.
— А приятный пожилой господин из Кельна?..
— Проинформирован мной. Не будет предпринимать никаких шагов. То есть будет, если вы не опубликуете материал.
Я прокрутил все еще раз: вроде бы, действительно, больше нет поводов сомневаться. Пожелав Патерсону спокойной ночи, я снова набрал Франкфурт, попросил Зеерозе и сказал, что вполне удовлетворен.
— Ну, мы просто счастливы, — съязвил Зеерозе. Я услышал громовой хохот Херфорда.
— А если бы не удовлетворились, то тогда что… что бы вы тогда делали, господин Роланд?
— А что бы вы делали на моем месте?
— Я… принял бы предложение Виктора Ларжана и довел дело до процесса, — радостно сообщил он. — Каждый должен знать, где его место. Уж в этом-то я хорошо разбираюсь. Возьмите хоть Нотунга…
— Нотунга?..
— Олафа Нотунга, прислугу Михельсена.
— А-а, да. — У меня что, мозги размягчились от виски? На какое-то мгновение совсем из головы вылетело, кто такой Нотунг. — И что с ним?
— Тот знал, где его место.
— Что это значит?
— Ну, сразу же, как только выяснилось, что Михельсен переметнулся на другую сторону, тот автоматически попадал под подозрение с Восточной стороны, так ведь?
— Ну и?..
— Ну и уже утром он сбежал из квартиры на Эппендорфер Баум и появился на Ниндорфер-штрассе с просьбой об убежище. Там, у американцев он и сидит до сих пор. Когда вы съезжаете?
— Завтра, как только Берти вернется и я улажу здесь все дела с полицией и еще с Конни Маннером и его подругой.
— Прекрасно, господин Роланд… Что? Ах да, господин Крамер передает вам привет.
— Передайте и ему тоже. Ну, всем спокойной ночи.
— Спокойной ночи, друг мой, попрощался Зеерозе. — О, минутку! Господин Херфорд хочет вам еще что-то сказать.
— У меня осталось только две марки…
— Это недолго. Минуту…
К аппарату подошел Херфорд:
— В завершение Слово из Книги книг, Роланд.
Херфорд по памяти процитировал мне одно из своих любимых мест. Пятьдесят шестой Псалом Давида:
— «В Боге восхваляю я Слово Его, на Бога уповаю, не боюсь; что сделает мне плоть?» Чудесно, правда, Роланд?
— Да, господин Херфорд.
— Восславьте Божье Слово, Роланд.
— Я сделаю это, господин Херфорд, — ответил я.
— И подумайте вот еще о чем: Ротауг упечет вас за решетку, если вы только попытаетесь куда-нибудь еще сунуться с этим материалом.
— Я вас понял, господин Херфорд, — ответил я.
На табло зажглась надпись: время разговора истекло. Больше монеток у меня не было, так что я повесил трубку и вышел из кабинки.
— Добрый вечер, господин Роланд, — произнес пожилой господин, стоявший в ожидании у кабинки.
Он был высок ростом, в насквозь промокшем плаще и шляпе, сдвинутой на затылок, к которой он слегка прикоснулся в знак приветствия.
10
— Комиссар криминальной полиции Сиверс, — произнес он ровным и доброжелательным голосом. — Из отдела убийств.
— Что вам угодно?
Он помедлил. Его лицо приняло сосредоточенное выражение.
— Ну?
— Собственно, я просто хотел с вами встретиться и задать пару вопросов. Вот мое удостоверение.
— Вопросов о чем? Откуда вы узнали, что я здесь?
— Видите ли, я как раз входил в «Метрополь», когда вы отъезжали на такси. Швейцар слышал, как вы сказали шоферу: «На Центральный вокзал». Таксист ждет вас там, на улице. Он сообщил мне, что вы сюда ненадолго, а потом с ним обратно в отель. Моя машина тоже там, на стоянке.
Он непринужденно взял меня под руку, и мы прошествовали к выходу.
— Видите ли, — сказал он, — я занимаюсь делом Конкона. Вы ведь знаете, что он был заколот?
— Да, — ответил я. — Есть какой-то след?
— Ни малейшего, — покачал он головой, отпустив мою руку и вытащил сигару, которую долго обнюхивал, пока мы не спеша продвигались.
— Вы что-нибудь слышали из моего разговора?
— Естественно, — ответил он. — Но не бойтесь, я никому не скажу. Я просто подумал, что вы теперь срочно отбудете. Поэтому и приехал. Чтобы еще вас увидеть. Чтобы еще кое о чем спросить.
Он закурил сигару и выпустил кольцо дыма. Остановившись у одного из бесчисленных закрытых киосков, он прислонился к витрине, положив локти на гранитный прилавок. Какой-то пьянчужка выкрикнул во сне: «Ева, Ева, не уходи!», — и снова повисла тишина.
— О чем вы хотели меня спросить, господин комиссар?
— Ну, знаете, я тут послушал в Управлении… Ну, в общем, я знаю все, что произошло в лагере «Нойроде». Я знаю, что малыш Карел был застрелен. Знаю, что шофер Иванов был застрелен — перед университетской клиникой. У меня есть вся информация о смерти этого Вацлава Билки и всего, что произошло в ваших апартаментах. Ну, насколько это известно от вас.
— Зачем вам все это?
Он стал серьезным:
— Потому что я убежден, что все эти события взаимосвязаны. Мое дело найти убийцу Конкона. Но я думаю, что Конкон был просто маленьким звеном в цепочке. Необходимо проследить всю цепь — с убийства малыша Карела.
Неожиданно я вспомнил фройляйн Луизу, где-то она сейчас?..
— Вы не знаете, где сейчас фройляйн Луиза? — вдруг спросил он.
Мне стало слегка не по себе.
— Понятия не имею. Откуда?
— Думаю, она и теперь смогла бы мне помочь, — протянул Сиверс. — Я допрашивал ее в Давидсвахе. Но тогда я еще не знал…
Он замолчал.
— Чего вы еще не знали?
— Что она душевнобольная.
— А теперь вы знаете и все-таки думаете, что она могла бы вам помочь?
— Обязательно, — сказал этот странный комиссар Сиверс.
— Душевнобольная… каким же образом?
— Она знала Карела. Она его очень любила. Вы мне это сказали. Все начинается с малыша Карела. Она могла бы мне рассказать о нем много больше.
— Она еще объявится. Тогда и спросите ее.
— Надеюсь, — ответил Сиверс.
— Наверняка еще объявится.
— Я не это имел в виду, — сказал он и потянул свою сигару.
— А что?
— Надеюсь, я смогу от нее что-то еще узнать, когда она появится.
Мне стало совсем не по себе. Сиверс заметил это.
— Я — не душевнобольной, — усмехнулся он. — Не бойтесь. Просто мне срочно нужна фройляйн. Это она душевнобольная. Но она посвящена во многие тайны. Сейчас мне позарез нужна ее помощь… Ну ладно. Обойдусь. После нашего разговора я абсолютно уверен, что найду убийцу Конкона… — Он наклонился ко мне и понизил голос: — И я уверен, что убийца Конкона и малыша Карела — одно и то же лицо.
— И как же вы пришли к такому заключению? — вымолвил я, совсем сбитый с толку.
— Я много размышлял по этому поводу и теперь точно знаю, что мне делать.
— И что же?
— А вот это моя тайна! Могу я по-прежнему рассчитывать на вашу помощь, господин Роланд?
Что-то, чего я не могу объяснить, трогало меня в этом стареющем, насквозь промокшем комиссаре с желтушным цветом лица.
— Всегда, — ответил я.
— Ну, и хорошо. Спасибо! — Он снова приложил руку к шляпе, кивнул мне и мгновенно исчез. Я тупо смотрел ему вслед. Даже его уход был покрыт налетом тайны. Только что он был у выхода, а в следующую минуту — его будто вовсе никогда и не было.
Я стряхнул с себя наваждение, снял локоть с прилавка и медленно двинулся вслед за комиссаром Сиверсом к выходу — к моему такси. Тогда я еще не знал, что мы стояли возле того самого закусочного павильончика, где фройляйн Луиза встретила бывшего штандартенфюрера СС Вильгельма Раймерса. Тогда я вдруг подумал в полном смятении: «Вот круг и замкнулся». А теперь, когда я пишу эти строки, я вспоминаю, что мне сказала фройляйн Луиза, позже, когда я навещал ее: «А что если, действительно, нет ни конца, ни начала? Или они есть одно? Тогда наш конец — это наше начало. А оно так и есть, когда мы умираем, понимаете? Конец и начало…» И она описала в воздухе большую окружность…
11
Берти вернулся в восемь тридцать пять утра самолетом, который садился в Фульсбюттеле. Когда около десяти он появился в «Метрополе», мы с Ириной уже позавтракали. (Я снова заснул на кушетке.) Мы пошли в номер Берти и еще раз выпили за компанию кофе. У Берти развился зверский аппетит. Перед отлетом он проспал в машине своего приятеля — норвежского таксиста, потом в самолете до самой посадки. Парень вообще мог дрыхнуть где угодно. Ухмыляясь, Берти сказал:
— У меня такое впечатление, что в этом отеле меня обслуживают уже не с таким рвением, как раньше. Ну да, насрать на это. Какие я картинки привез, дети мои!..
Не выпуская из рук чашки с кофе и с яичным желтком во рту, он подошел к телефону, набрал номер матери во Франкфурте, сказал ей «Доброе утро» и что он очень ее любит.
Ночью я страшно нервничал. Сейчас, когда вернулся Берти, я успокоился — он всегда действовал на меня благотворно.
— Знаете что, — непринужденно сказал тот, закончив разговор, — после всего, что тут произошло, не пора ли нам перейти на «ты»?
Он озарил Ирину ясной обезоруживающей улыбкой. Его улыбка была так заразительна, что Ирина улыбнулась ему в ответ, потом кивнула, поднялась, и Берти поцеловал ее в щечку. Затем я получил от нее такой же поцелуй.
— Ну хорошо, «ты». Самое время. Ты прав, Берти, — сказала Ирина.
— Я всегда прав, — ответил добрый старина Берти.
— А вот и твоя пушка. — Он вытащил «кольт-45». — Ну и тяжелая, зараза. Но я рад, что она была со мной.
При виде оружия меня осенило.
— Ларжан! — воскликнул я.
— Что с ним?
— Он же хотел утром прийти с договором и чеком!
Ирина испуганно глянула на меня.
— Не бойтесь! Я не собираюсь соглашаться. Просто хочу узнать, как у него сегодня дела.
Я попросил соединить меня с отелем «Атлантик». Тамошняя телефонистка ответила:
— Минутку, пожалуйста!
Потом трубку взял их администратор, не разобрал его имени:
— Вам нужен мистер Ларжан?
— Да.
— Прошу прощения, мистер Ларжан у нас больше не проживает.
— Что вы говорите?! Но у нас с ним назначена встреча. И когда он выехал?
— Рано утром. Он спешил в аэропорт. На первый рейс до Нью-Йорка.
Кажется, именно так все и было, как мне сказали Зеерозе и Патерсон. Все это было большой грязной игрой.
— Мое имя Роланд, — на всякий случай сказал я, — Вальтер Роланд. Мистер Ларжан ничего не оставлял для меня?
— Извините, господин Роланд, мистер Ларжан ни для кого ничего не оставлял.
— Спасибо. — Я положил трубку. — Ну да, сплошь любители спорта — вот что это такое.
— А эти хотят, чтобы мы поскорее убрались из отеля? — ухмыльнулся Берти. — Даже диспетчер в гараже был противным.
— Ага, как можно скорее, — ответил я. — Так что давайте собираться. Нам с Ириной надо еще в Управление, подписать наши показания, а потом я хочу навестить Конни и Эдит.
— Мне паковать нечего — я еще ничего не распаковывал, — сказал Берти. — Идите уж, укладывайте ваши шмотки, а я посмотрю, чтоб заправили твою машину, Вальтер.
Мы с Ириной вернулись в наши загаженные апартаменты с развороченным телефоном и начали собираться. Ирина надела охристый костюм-джерси, к нему — черное драповое пальто с норкой и капюшоном.
— Ты великолепна, — сказал я.
— Ах, Вальтер!
Я позвонил, чтобы забрали наши вещи, потом расплатился у стойки администратора, где меня обслужили с ледяной вежливостью, и, наконец, подошел к своему приятелю, портье Ханслику, который сменил Хайнце. У администратора с меня не взяли ни пфеннига чаевых, теперь вот и Ханслик отказался что-либо взять. Он выглядел удрученным:
— Мне очень жаль, господин Роланд, но я не могу… я не должен ничего брать. Мне, правда, очень жаль. Вы больше никогда не будете у нас останавливаться…
— Да, так уж получилось.
— Всего вам хорошего, — пожелал Ханслик.
Я напоследок огляделся. Мне тоже было жаль, что они вышвыривали меня отсюда. Мне всегда нравилось в «Метрополе». But such is life.[114]
Директор отеля, который участвовал в ночных разборках, теперь прошел мимо, не удостоив меня ни единым взглядом, хотя я достаточно громко заявил:
— Непременно буду рекомендовать всем и каждому этот замечательный отель, где и последний официант, и гости — шпики.
Месть от бессилия. Директор даже бровью не повел.
Потом мы с Ириной спустились в гараж, где Берти уже ждал нас с нашим багажом. Я оплатил прокат «рекорда» и бензин для «ламборджини», и масло, которое пришлось долить. А голландец то и дело посматривал на меня. Но он не получил ни пфеннига — я уже был сыт по горло.
И мы двинулись — Ирина между нами — сквозь хмурый сухой и холодный день под зимним небом к полицейскому управлению, и Берти ждал, пока мы с Ириной не освободимся, и это длилось целую вечность. Потом мы поехали в больницу навестить Конни и Эдит. К Конни нас не пустили — у дверей по-прежнему стояли два парня из MAD. Но Эдит была в соседней комнате и она сияла:
— Ему уже лучше, много лучше!
— Это здорово, Эдит, — сказал я. — Мы будем постоянно с тобой на связи. Через «Блиц». Не бойся! Больше с вами ничего не случится.
— Уж мы проследим, — вставил один из охранников.
Да, а потом мы наконец-то выбрались за черту города и доехали до моста Нойе Эльббрюкке через Эльбу, который я так любил. Я смотрел на большие суда и лодки, на верфи и на краны, и свет был тусклым, и все казалось серым — такой серый унылый мир. И в первый раз при взгляде на Эльбу с ее рукавами я не испытал никакого радостного возбуждения, я только хотел поскорее уехать отсюда, как можно скорее. Когда под Ведделем я выезжал на автобан, мне пришлось включить отопление, потому что дул ледяной ветер. Я промчался по автобану минут десять, когда Ирина вдруг тихо промолвила:
— Ах, вы оба…
— Что мы?
— Я… я так рада, что вы оба со мной, — выдавила она.
Берти этого не услышал. Парень уже снова мирно посапывал.
12
«Патетическая» Чайковского все еще лежала на проигрывателе, когда мы с Ириной приехали из издательства в мой пентхауз на Лерхесберге. Уборщица все прибрала. Квартира была чисто вылизана — ничего больше не напоминало о тех двух шлюшках, которые еще в понедельник утром оставались здесь. Я провел Ирину по всем комнатам, показал ей гостевую, в которой ей теперь предстояло жить. Отсутствующим взглядом она скользила по дорогой полированной мебели различных оттенков, по стенкам с книгами, по террасе за большими французскими окнами.
На совещании у Херфорда сделали короткий перерыв, чтобы я мог увезти Ирину, которая выглядела неимоверно усталой. Теперь, когда мне пора начинать работу над статьей, она должна быть поблизости. Уже по дороге из Гамбурга она согласилась пожить у меня. Я сделал короткую остановку и позвонил Хэму, чтобы сообщить об этом. И теперь, в дворцовых апартаментах Херфорда на одиннадцатом этаже, прозвучало его повеление:
— Отвезите юную даму домой, Роланд. Пообедайте с ней. Мы тоже сделаем перерыв. Все идут обедать. Мамочка едет домой. А потом снова встречаемся у меня. «Мужчина как таковой» — с этим надо определиться еще сегодня. Не беспокойтесь, фройляйн Индиго, у Роланда вы будете под надежной охраной.
— Охраной?
— Два полицейских из криминальной полиции будут дежурить в машине у входа. Посменно. Освальд устроил.
— На этом настояли американцы, — сказал Освальд Зеерозе. — Да и действительно, так оно лучше. Нам всем будет спокойнее, моя девочка.
— Да-да, — растерянно пробормотала Ирина.
— А завтра я пришлю вам моего Лео, — воодушевилась Мамочка. — Лео — лучший в моем салоне. Вам же нужны новые платья. Лео обо всем позаботится, можете на него положиться. Потрясающий вкус у этого парня, дитя мое!
«О, Боже!» — тоскливо подумал я и посмотрел на Хэма. Тот ответил мне страдальческим взглядом. Оставалось только надеяться, что у Лео действительно есть вкус. По нарядам Мамочки этого не скажешь.
— Разумеется, я не позволяю ему чего-то навязывать мне, — продолжала Мамочка, и я вздохнул спокойнее.
Когда мы подъехали к высотке, в которой я живу, я тут же засек машину с полицейскими. Полипов я чую слету. Когда я уже выгружал из «Ламборджини» вещи, они покивали мне, и я помахал им в ответ.
Наверху, в пентхаузе, я распаковал сумки. Машинку, магнитофонные записи и свои блокноты отнес в кабинет, попутно обнаружил, что кассетник остался в машине. Ладно, заберу позже.
Я нисколько не проголодался, но все-таки спросил Ирину, что она будет есть, — в холодильнике полно еды.
— У меня совсем нет аппетита, — вздохнула Ирина. — Я такая усталая и такая… опрокинутая, понимаешь?
— Еще как! — ответил я.
Я смешал нам два виски и прошел с Ириной в мою просторную спальню, потому что там стоял проигрыватель, а Ирина сказала, что тоже любит Чайковского. Мы сидели на моей необъятной кровати, слушали «Патетическую» и наслаждались покоем.
— В моем кабинете стойка с пластинками. Там масса Чайковского. Если после ванны не сможешь заснуть, и если будет желание, поставь себе что-нибудь. И чего-нибудь еще выпей. Ты ведь теперь знаешь, где все стоит.
— Хорошо, Вальтер.
— А после спокойно ложись спать. Я вернусь поздно. Я тебя запру и оставлю тебе вторую связку ключей, но никому не открывай! Можешь только подойти к телефону, если буду звонить я. Ну, и если, конечно, еще не заснешь. Я коротко позвоню три раза, а на четвертый буду ждать. О’кей?
Она кивнула. Вдруг я заметил, что в ее прекрасных глазах стоят слезы.
— В чем дело, Ирина?
Она схватила мою руку, прижалась к ней мокрой щекой и прошептала:
— Я… я так тебе благодарна… за все…
— Ну ладно, прекрати!
— Нет, правда… Без тебя… Что бы со мной было без тебя?..
— Без меня? — усмехнулся я. — Ты ведь знаешь, я все это делал только потому, что хотел заполучить твою историю!
— Но это же неправда, — слабо улыбнулась она.
— Ну конечно, — сказал я, — конечно, неправда, моя дорогая, моя хорошая.
Она поцеловала мою ладонь. Потом внезапно отпустила руку и сделала большой глоток.
— Ну, а теперь что?
— Я… я вдруг подумала о нем… Прости…
— Понимаю, — сказал я. — Но послушай, это пройдет. Все это уйдет в небытие.
— Да, — повторила за мной Ирина. — Все уйдет. Все должно уйти, ничего не должно остаться. Ничего!
Тогда я ее неправильно понял. Но скоро, очень скоро мне предстояло все понять.
Реактивный самолет пролетел над домом, едва взяв старт. Шум его агрегатов был чудовищным. Мы замолчали, потому что все равно ничего нельзя было расслышать. Так мы стояли и долго смотрели друг на друга. Я улыбался, но огромные темные с поволокой глаза Ирины оставались серьезными и печальными. Шум реактивных двигателей затихал, и снова стала слышна музыка Чайковского, эта удивительная «Патетическая» с ее сумрачным минорным характером и извечными страстями восточной мистики, в которые то и дело вплетались сладостные кантилены западной сентиментальности.
Мы все смотрели друг на друга. Музыка звучала. Я подошел к столику с бутылкой «Чивас» и сделал себе еще одну приличную порцию.
И на этот раз это вовсе не имело никакого отношения к моему «шакалу».
13
— Ты послушай, Макс, — говорил я. — У тебя же хобот, как у слона, по словам Тутти.
— Ага, как раз такой, — вставила Тутти. — Вальта, дружище, этт самая большая штука из всех, какие я в своей жизни видела, а повидала я их о-го-го! Такая профессия.
— Ну, он и впрямь не такой уж маленький, — улыбнулся Макс с гордостью обладателя. — А че он тя так интересует, Вальта? Ты ж вроде не гомик. Хе-хе!
— И не хе-хе, ты, идиот, — огрызнулся я. — Я интересуюсь твоей штукой, потому что мы хотим поместить ее на обложку «Блица»!
— Мамочки мои, Вальта! — воскликнула Тутти. — Ты ж этт не всерьез, не?!
— Забодай меня вошь! — вступил Макс. — Сколько ты седня принял?
— Я трезв, как стеклышко. И говорю чистую правду. Нам нужна твоя штука, Макс. Я сейчас прямо из редакции, я же тебе по телефону сказал. У нас было совещание.
— Посередь ночи?
— Оно еще продолжается. Мы готовим две большие серии, и мне надо срочно с вами обсудить…
— Макс, твоя морковка на обложке! Ты ище будешь знаменит! Тя ище в кино возьмут! — не унималась Тутти.
Было двадцать два часа тридцать минут. Я сидел в современно обставленной квартире Тутти и Макса в новом доме на Хербартштрассе, второй этаж, номер три. На окне стояла большая, накрытая платком клетка. В ней мирно спал любимец Тутти, Максов враг — «каналья» Гансик. Квартира была мне хорошо знакома, я не раз бывал здесь. Двадцативосьмилетняя Тутти Райбайзен — которую, собственно, звали Гертруда, но это имя она находила отвратительным — была обладательницей сияющих голубых глаз и большого рта, правый верхний уголок которого был всегда слегка вздернут. Она носила высокие каблуки и мини-платье лососевого цвета и садилась так, чтобы сразу было видно черное белье у нее под платьем. Ее сутенер, душа-человек по имени Макс Книппер,[115] высокий, стройный, мускулистый, был сложен как греческий бог. И лицом походил на греческого бога. Породистый, породистый по-настоящему. Не было ни одной бабы, у которой при виде его не замирало бы сердце. Вот только кисти его рук уродились размера на три больше положенного.
— Ну, вот видите, — продолжил я. — Я же знал, к кому обратиться! Теперь все должно пойти как по маслу. Я должен кончить к середине следующей недели.
— Ма-акс, — испуганно воскликнула Тутти. — Бедняга Вальта здорово перепил. Господь Всемогущий! Я сама всегда зазывала тя в мою постельку, Вальта, а терь ты хочешь кончить токо к средине следующей недели, а седня у нас токо четверг. У тя че, не все дома? Да тот Ляйхенмюллер по сравнению с тобой ище цветочки!
— Да нет же, — принялся я успокаивать Тутти, мою подружку с большим сердцем и куцыми мозгами. — Я не это имел в виду. Кончить статью для «Блица». Для одной серии. А для другой мне нужна твоя консультация — кое-какая информация, разъяснения. Но еще раньше мне срочно нужен Макс с его балуном.
— Да, братишка, мир катится в тартарары, — заявил потрясенный Макс. — Ну, тогда пропустим для начала еще по стаканчику. Это уж меня выбило по-настоящему!
Перед нами стояли стаканы, бутылки с пивом и две бутылки хлебной водки. В виде исключения я изменил своему «Чивас», чтобы не спровоцировать социального конфликта. В своем синим костюме в широкую белую полоску и желтой рубашке с пестрым галстуком Макс сидел у стены, на которой в рамках висели бесчисленные фотографии. Пожелтевшие семейные карточки, совершенно неуместные в этой современной квартире, но Тутти была сентиментальна. Она присутствовала на всех фотографиях: маленькая Тутти за руку с матерью в Берлинском зоопарке, возле белых медведей; маленькая Тутти за руку с отцом на ярмарке; маленькая Тутти с матерью в ванной; на пони; у елки — и везде в окружении дядюшек, тетушек, родителей, дедушки с бабушкой. Все они уже давно умерли, как-то призналась мне Тутти. У нее был только Макс. Но он пока не висел на стенке.
Еще из роскошного кабинета Херфорда я позвонил к Тутти и попросил о визите. К телефону подошел Макс.
— Не-а, щас нельзя. Где-то через часок. У Тутти клиент. Мешок с деньгами. Не желает, чтоб его здесь засекли. Тачку поставил подальше от дома. Не боись, не проворонишь. Красная «альфа». Если через час подъедешь, а «альфа» еще там, обожжи пока не уедет, лады?
— О’кей, Макс! — Я положил трубку.
Все в ожидании смотрели на меня.
— Ну? — спросил Херфорд.
— Порядок. Поговорю с ним еще сегодня. Идеально подходит для нашего дела. Уже завтра сможем начать съемки.
— Вы, Энгельгардт?
Берти расхохотался.
— Что здесь смешного?! — разозлился Лестер, эта скользкая жаба.
Берти только глянул на него, не удостоив ответа.
— Не ссориться, мальчики! Херфорд не потерпит этого!
Воздух в огромном помещении был сизым. Курили все. Херфорд снял свой пиджак. Остальным этого не дозволялось — это была привилегия издателя. Но курить мы могли. Кроме того, на столе заседаний стояли бутылки с пивом. Такой вот «мальчишник». Мамочку давно отвезли домой.
На этом совещании я еще раз ощутил все прелести моей профессии, во всем ее блеске и величии. По поводу обложки с Карелом в обмороке через четверть часа все сошлись в едином мнении. Как я начну серию — было отдано мне на откуп. А вот спорам о «Мужчине как таковом», казалось, конца-краю не будет. Они рожали все новые идеи, кричали, перебивали друг друга, восхищались собой и друг другом — в общем, совсем сдвинулись с этой говенной порносерией.
— В профиль он должен быть! Все тело обязательно в профиль!
— Ну, не знаю. А может, все-таки лучше анфас?
— Вы что, совсем рехнулись? Надо чтобы член был хорошо виден, сам по себе, на темном фоне!
— И разумеется в состоянии эрекции!
— Это понятно! Во всей красе!
— Ну, это должна быть и штука!
— Будет, мой дорогой, будет!
— Как бы такой не отпугнул женщин! — прокаркал Циллер.
— О чем вы говорите, господа! То, что получают тут наши женщины, — это поддержание жизни, говорю вам, настоящее поддержание жизни!
— Конечно, естественно, господин Херфорд!
— Само собой разумеется, господин Херфорд!
Так он и сказал, мой издатель — настоящее поддержание жизни.
— У этой серии важная задача, — не мог удержаться Хэм.
— Золотые слова, господин Крамер! — Херфорд начисто был лишен способности понимать иронию, еще ни разу до него не доходил иронический смысл. — Сразу две серии с важной задачей! И в «Мужчине как таковом» вы тоже не должны забывать о человеческом, Роланд!
— Я никогда не забуду о человеческом, господин Херфорд!
— И тогда вы можете быть откровенны, насколько захотите. Вы ведь понимаете, что я имею в виду?
— Я понимаю, что вы имеете в виду, господин Херфорд, я буду предельно откровенен.
— Только никаких комплексов! Для нас это поистине важно с нашей задачей. Я уверен, что даже церковь даст нам благословение. И пишите несколько в русле социальной критики, Роланд! — напутствовал Херфорд. — Отсталость и угнетенность женщины во времена позднего капитализма. Помните о нашем новом курсе!
— Так точно, господин Херфорд, я буду помнить о нашем новом курсе.
А тот еще замахнулся на одобрение профсоюзами этой дерьмовой серии!
Заведующий художественным отделом Циллер распорядился:
— В студии все должно быть подготовлено к съемкам.
«Блиц», разумеется, имел собственную большую студию с разного рода рефлекторами — в одном из корпусов издательства.
— Что подготовлено? — спросил Лестер.
— Девочки. Голые девочки.
— Зачем это? — вопреки всему Лестер был крайне чопорным. И у него не было фантазии.
— Ну, если вы хотите, чтобы у мужика стояло, мы должны подложить ему парочку голых девочек, — с раздражением ответил Циллер. — Где их можно достать побыстрее?
— Тут, я уверен, нам может помочь господин Роланд, — съязвил Лестер. Он все еще не переварил тот скандал, что я закатил ему в понедельник.
— Совершенно верно, дорогой господин Лестер, — парировал я. — Только это вопрос денег. Если прилично заплатите, доставлю вам самых роскошных девочек во Франкфурте.
— Здесь деньги значения не имеют, — заявил Херфорд, — вы это прекрасно знаете.
Он сильно нервничал и в который раз, вытащив из жилетного кармана золотую баночку, проглотил пять пилюль: красных, желтых и голубых, запивая их пивом.
— Это будет еще та сенсация в нашем деле, если все удастся! Это — ваша серия, Роланд! И мы с ней вырвемся вперед! Херфорд говорит вам!
— Или нас запретят, — вставил элегантный директор издательства Зеерозе.
— Нас не запретят, Освальд, — возразил Херфорд. — Вас с Циллером еще не было, когда Ротауг выдал нам свое заключение. Доктор, объясните, пожалуйста, все еще раз этим двум господам!
Господин доктор Ротауг, эта человекообразная черепаха прищурился, подергал свой воротник, тронул жемчужину в серебристом галстуке и начал:
— Нас не запретят, нас не конфискуют, нам даже не поставят на вид потерю самоконтроля. А всего-то, что мы должны сделать, это наложить на номер бумажную ленточку, которая прикроет соответствующее место.
— Какое еще место? — изумился бедняга Циллер.
— Да член! — в раздражении заорал Херфорд.
— Да-да, конечно, — стушевался Циллер.
— А вы что подумали, на нос? — Лестер не выносил и Циллера.
— Попридержите-ка язык, Лестер! Говорит доктор!
— Пардон, господин Херфорд, прошу прощения!..
Ах, что это были за прения, любо-дорого посмотреть!
— Ленточка, естественно, съемная, — продолжал Ротауг.
— Естественно!
— Ясное дело!
— Само собой!
— Вот уж у девчушек глаза на лоб вылезут!
— Тихо! — взревел Херфорд. — Мы здесь в борделе или в кабинете босса?
Повисла тишина.
Ротауг снова подергал свой воротник.
— Этой ленточки будет достаточно, чтобы предотвратить любые обвинения в возбуждении общественного скандала, в развратных действиях или в порнографии. В своем утверждении я опираюсь на прецеденты в земельных судах Мюнстера и Любека от 1964 и, соответственно, 1967 годов, по которым…
Далее Ротауг процитировал резолюцию приговоров и в течение десяти минут давал юридические пояснения.
— Ну что ж, это мысль, — сказал под конец Зеерозе.
— Гениально просто, да, Освальд, эта идея с ленточкой?!
— Да, Томми.
— Идея Херфорда, — гордо произнес Херфорд. — Ротауг только заикнулся что-то там о полоске на обложку, а у Херфорда уже готова идея!
— Грандиозно, господин Херфорд! — Лестер одарил его восхищенным взглядом.
— А на ленточке будет стоять — тоже моя идея — примерно следующее: «то, что скрывается под этой лентой, такое горячее, что нам пришлось это прикрыть!»
— Выдающиеся строки! — сказал Зеерозе.
— А вы что молчите, господин Крамер?! — разозлился Херфорд. — Вас что-то не устраивает? Вы не считаете эту находку Херфорда великолепной?
— Я считаю эту находку неподражаемо великолепной, — добродушно ответил Хэм, посасывая свою трубку. — Без колебаний скажу, что нечто подобное могло только вам прийти в голову.
Херфорд просиял.
— Да, у Херфорда голова! Хотел бы я знать, что вы будете делать без Херфорда, вы, болваны!
Лестер, Ротауг, Ляйхенмюллер и Циллер засмеялись по долгу службы. Зеерозе пристально посмотрел на Хэма, тот ответил ему невинным взглядом.
В конце концов дошли до обсуждения графического оформления «Мужчины как такового», и снова настал звездный час Ляйхенмюллера. Он разложил эскизы макета, рассказывал о размещении материала и шрифтах заголовков, и все внимали ему, внимали этому долбаному козлу, потому что он — профессионал.
Через три четверти часа я, попрощавшись со всеми, отправился по ночному городу к Хербартштрассе. За пять домов от дома Тутти я увидел припаркованный «Альфа-Ромео». Я остановился, выключил мотор и фары и стал ждать. Я прождал двадцать минут. Потом на улице показался парень. Не переставая пугливо озираться, он быстренько влез в машину и исчез. Я вышел из своего «Ламборджини» и, пока шел к дому Тутти, все задавался вопросом: уж не встретилось ли мне привидение.
14
— Не, не, этт был молодой Херфорд, — заверил меня Макс Книппер. — Ты пральна разглядел, Вальта. Но ты держи язык за зубами, лады?
— Это был Боб? — Я все никак не мог врубиться.
— У Тутти, да. Два часа — четыре сотни. Она просто так сказала, а он тут же и выложил. Сказал, мол для него это так — пустяк, по сравнению с прочим. У него терь нет другого выхода.
— Нет другого выхода?
— Снова оттрахал одну. Говорит, давно трахает девочек, — объясняла Тутти. Мы уже сидели в гостиной. — А этт последняя захотела полмиллиона. Потому что он ее вроде как изнасиловал. К тому же, она — малолетка. А ребенка она не хочет. И скажу те, Вальта, дружище, про изнасилование, тут я верю. Он и на мне скакал как жеребец.
— А откуда у него твой адрес?
— Выбил из Ляйхенмюллера. Денег дал и так долго обрабатывал, что тот размяк.
— Черт побери этого Ляйхенмюллера, — сказал я.
— Остался очень доволен молодой господин Херфорд, — заявил Макс. — Я его еще спросил, когда он уходил. Будет у нас новый постоянный клиент. Тож неплохо, так ведь? Деньжата нам еще пригодятся! — Макс сел на своего любимого конька. — Эта наша квартира, че ты думаешь, за нее все еще платим в банк! И проценты! Думаешь, этт просто? Но нужна ведь надежная нора, так? И лучше побольше. Мне — комната, Тутти — ее кабинет, наша спальня, этот вот салон. Кухня, ванная, отопление. И вся эта новая мебель! Кухня со встроенным оборудованием. Конфетка! Маленькая гордость Тутти. Этт было нашей давнишней мечтой, знаешь, Вальта, Тутти приходилось здорово вкалывать ище там, у нас на родине.
Тутти прямодушно заметила:
— Грязная была работенка. Зато терь с нас не дерут за всякую дыру. Терь мы сами себе хозяева! Все-таки собственность — это собственность!
Оба прибыли во Франкфурт из Берлина три года назад. Столько же я их и знал. Поначалу они ютились в одном студенческом общежитии. Я тогда готовил репортаж о проституции во Франкфурте и помимо прочего спросил, почему они уехали из Берлина.
— Потому что там уже нельзя прилично жить! — ответила Тутти. — Понимаете, — мы тогда еще были на «вы», — понимаете, Берлин щас — этт пустырь. Там терь или совсем зеленые мальчишки — студенты там и всякие такие, которые приехали, просто чтоб увильнуть от армии. Так им и самим жрать нечего. С ними дела не сделаешь. Или — старики. Пенсионеры. Горько, так горько говорить этт мне, коренной берлинке, но город сильно постарел, и дальше будет ище хуже. Он вроде пенсионера, у которого постоянно не хватает денег. А туристы там или приезжие по бизнесу — с них не проживешь. Они не больно-то раскошеливаются, да и конкуренция там больно высокая. Здесь, во Франкфурте, конечно, тоже, но здесь прорва «денежных мешков» и платят они будь здоров! Да и все это с Максом, к тому же.
— А что с Максом? — поинтересовался я.
— Макс работал на вывозе мусора, — начала Тутти.
— На свалке, да, — сказал великолепный Макс. — Мусорщиком. Выгребал мусор. Тяжелый хлеб, скажу я вам, господин Роланд. Так наворочаешься, что ребра трещат!
— Могу себе представить!
— А думаете вас уважают, если вы за другими их говно убираете? — Его голос зазвенел от гнева. — Вас за говно и держат! А заработок воняет так же, как все это дерьмо вместе взятое! — Он ударил кулаком по столу. — И это притом, что к ним никто не идет работать. И пральна! — Макс совсем распалился. — Знаете, чем грозит какой-нибудь жоподер в школе лентяям?! Из тя выйдет только дворник или мусорщик, так ведь?! И я те прямо скажу, если это педагогика, тогда не удивляйтесь, что никто не хочет копаться в вашем дерьме! Пральна?
— Абсолютно верно, господин Книппер, — подтвердил я.
— Посмотрите-ка щас на Нью-Йорк! — вещал Макс. — Улицы завалены отходами. Забастовка мусорщиков! И при нынешней жаре! Браво — говорю я! Пральна — говорю я! Колеса не будут катиться, коль рабочему так захотится! А в Нью-Йорке щас крысы бегают по Пятой Авеню — сам в газете читал. Могут спокойно перебегать на Уолл-стрит и жрать там акции на бирже! Не, господин Роланд, не, че было бы с моей милой Тутти и со мной, если бы мы случаем не встретились и не сбежали вместе оттуда!
— А чем вы занимаетесь здесь, во Франкфурте?
— Открыл собственное дело. Правда, пока дела идут не так уж блестяще. Пока, понимаете ли, застой…
15
Похоже, и сейчас, три года спустя, его дела шли не так уж блестяще, потому что Макс пустился в яростные торги по поводу своего гонорара за эту обложку. Он запросил пять тысяч. Это были баснословные деньги, и мне-таки удалось сбить его до двух тысяч.
— Ну ладно, ладно, обделывайте меня, сраные капиталисты! Ты, Вальта, капиталистический прихвостень! А я-то думал, ты мне друг!
— Я твой друг, Макс. Но будь же благоразумен!
— Он будет, будет, — успокаивала Тутти. — И он вовсе не то имел в виду с этим «прихвостнем», правда ведь, Макс, совсем не то?..
— Ладно уж, — пробурчал Макс.
— Вот видишь! Мы же знаем, что ты за рабочих, Вальта, и если говоришь, что больше нельзя, значит, больше нельзя. И все же я скажу те: две штуки бабок — это бздень для Макса с его роскошными формами. Дерьмо он, твой издатель, он же как нечего делать огребет на Максовом хоботке! Вот поэтому и должен настать коммунизм! Нельзя так дальше, чтобы эти стервятники и эксплуататоры так зарывались! Так когда Максу надо быть в студии?
— Завтра в одиннадцать.
— Лады, — сказал Макс.
— Все уже будет готово, ну, я имею в виду девочки и все такое.
Макс только отмахнулся:
— Щас и без девочек нормально. Ну, пошли дальше. Ты сказал, те нужна информация. Кой о каких делах, сказал. Об извращениях и разном там… И че женщина должна делать, чтобы малый встал. Тутти вроде как должна те выложить из своей практики. А ей ты собираешься платить?
— Две сотни за номер.
— Две сотни? — Макс рассмеялся с издевкой. — Ты слышала, Тутточка?! Вальта, если бы все ребята были такими щедрыми, как твой издатель, то Тутти пришлось бы себе зашивать!
— Макс, опомнись! Это же целая серия со многими, многими продолжениями. Подсчитай-ка все!
— Или по пять сотен за номер, или не будет те никакой информации! — отрезал Макс.
Он уже орал. Мы все орали. И это привело к тому, что канарейка Гансик, которая уже давно должна бы спать в своей накрытой клетке, вступила со своим радостным пением.
Макс подскочил и взревел:
— Терь еще и эта чертова каналья! О, Господи, она сведет меня с ума, этт подлая птица! Заткни пасть, слышишь?!
Он подскочил к клетке и орал через платок. Гансик не обращал на него никакого внимания.
— Я тя еще придушу, дрянь поганая! — бушевал Макс. На лбу у него набухла жила.
— Только попробуй! — взъярилась Тутти, тоже вскочив. — Тогда и со мной все кончено!
Она вынула из чашечки, висящей на клетке, лист салата, просунула его через прутья и ласково заворковала:
— Ну, ну, мое сердечко, мой дорогой, мой хороший, иди, поклюй листик… вот так, вот хорошо… мама любить тя…
Весь дрожа от негодования, Макс наблюдал за этой процедурой, но молчал. Тутти одарила его негодующим взглядом. Наконец, все успокоились, Гансик замолк, и они снова вернулись ко мне.
— Надо потише, — сказала Тутти. — У Гансика такой легкий сон, Вальта.
Макс опять было вскинулся, но она снова посмотрела на него. Он что-то пробурчал про себя.
В конце концов мы сошлись на трех сотнях гонорара за каждое продолжение. Макс пожал мне руку, давая понять, что финансовая часть улажена, при этом чуть не расплющив мне пальцы.
— Так че, козлики, начинать? — спросила Тутти.
— Терь можно, — кивнул прекрасный Макс.
Тутти набрала воздуху и начала извлекать из сокровищницы своего богатого опыта.
16
Только после полуночи я вернулся домой.
Перед домом сидели два других полицейских в другой машине, но я сразу определил, что это полипы, они тоже из этого тайны не делали. Я кивнул им. Они ответили. С кассетником в руках я поднялся в свой пентхауз, и, уже входя, услышал музыку. Оркестр с солирующим фортепьяно. Соль-мажор. Второй концерт Чайковского — мгновенно узнал я. Дверь в спальню была приоткрыта. Оттуда пробивалась полоска света. Я бросил пальто на стул в прихожей и прошел в спальню. Ирина сидела на ковре возле проигрывателя. Она недавно вышла из ванны. На ней была одна из моих слишком просторных для нее пижам и банный халат, волосы спрятаны под тюрбаном из полотенца. Вокруг нее по всему ковру были разложены пластинки, в конвертах и без — Чайковский, Рахманинов, Сметана. Тут же стояли пепельница, бутылка «Чивас» и содовая. Ирина курила, прислонившись головой к обоям, в руке у нее был стакан. Она кивнула мне, потом на крутящуюся пластинку:
— Прекрасно, да?
— Почему ты еще не спишь? Уже…
— Знаю. Я не могла заснуть. Я хотела здесь посидеть, покурить, немножко выпить и послушать музыку. Ты сердишься?
— Нет, разумеется, нет.
Ирина повела рукой:
— Возьми себе стакан. Присядь ко мне.
Я увидел, что она выпила больше, чем мне показалось вначале. Я принес себе с кухни стакан и кубики льда и сел возле нее на ковер.
— Знаю, что в спальне не надо курить, — сказала Ирина.
— Точно, — ответил я, прикуривая «Галуаз».
Я налил себе глоток и поднял стакан:
— Чин-чин!
— Чин-чин!
Мы выпили.
— Где ты был? — спросила она.
— В редакции, а потом у одной проститутки и ее сутенера. Я тебе о них как-то рассказывал.
— Твои друзья?
— Мои друзья, — кивнул я. — Из-за той, другой серии.
— Ну и как?
— Отлично.
Пауза. Звучит концерт для фортепьяно.
Потом:
— Вальтер?
— Да?
— У тебя так уютно здесь, наверху!
— Правда? Погоди, я налью тебе еще.
Я взял у нее стакан. Снова повисла тишина, которую нарушали только звуки музыки и позвякивание кусочков льда.
— Спасибо, — сказала Ирина, когда я подал ей стакан, и сделала большой глоток. — Вальтер?
— Да?
— Я тут долго думала, должна ли я тебе говорить. Не могу ли сделать это сама. Но нет, сама не смогу. Я никого не знаю в Германии. А потом, за это же наказывают. Я не хочу в тюрьму.
— О чем, собственно, речь? — спросил я.
— Я ведь тебе сказала, что сбежала из Праги, потому что меня то и дело вызывали в полицию и допрашивали, и что я больше не могла этого вынести, так?
— Да. Ну и что?
— А то, что это неправда. То есть не вся правда. Конечно, они меня допрашивали, снова и снова, но не так ужасно, как я тебе это описала. Из-за этого мне не надо было уезжать. А друзья Яна были арестованы задолго до того, а не перед моим побегом. Дело не в арестах. Меня бы они не арестовали. Они же видели, что я ничего не знаю.
— И почему же ты тогда сбежала?
Она посмотрела на меня долгим взглядом. Теперь звучало одно фортепьяно, без оркестра.
— Потому что я беременна, Вальтер. От Яна. На третьем месяце, — сказала Ирина.
17
После этого она допила свой стакан, я допил свой, и очень долго готовил новую выпивку, а Ирина выключала проигрыватель. Прошло минуты две. Мы не смотрели друг на друга.
Наконец, когда у каждого из нас снова был стакан в руке, и мы выпили, я посмотрел в ее глубокие печальные глаза и спросил:
— Ты хотела найти Яна, чтобы сказать ему, что у вас будет ребенок?
— Естественно. И остаться с ним. И идти за ним на край света. И выйти за него замуж. И родить ребенка. — Она засмеялась.
— Не смейся.
Она оборвала смех:
— Теперь, конечно, все по-другому. Совершенно по-другому. Все. Ты что-то сказал?
— Нет.
— Я думала, ты что-то…
— Ни слова.
— Я не хочу его, — сказала Ирина. — Ни за что. Теперь больше не хочу. Я не хочу ребенка от этого… от Яна. Ты можешь это понять?!
— Да.
— И… и ты мне поможешь?
Я промолчал.
— Ты же все знаешь во Франкфурте. Ты никогда не помогал ни одной девушке?
— Почему же, — сказал я. — Я помог уже трем девушкам.
— Видишь, — воодушевилась Ирина, — значит у тебя есть знакомый врач!
Я молчал.
— Есть у тебя знакомый врач? Пожалуйста!
Я кивнул.
— Хороший?
Я снова кивнул.
— Который согласится сделать это?
— Да.
— И на него можно положиться?
— Абсолютно. Те во Франкфурте, у кого есть деньги и заботы вроде твоих, все идут к нему.
— И… и ты меня к нему отведешь, Вальтер? Сейчас еще можно! Третий месяц! Я совершенно здорова, сердце и все такое. Никакой опасности! Так отведешь?!
— Но в моей статье я не могу об этом написать.
— Значит, отведешь?
— Если ты точно решила и действительно этого хочешь.
Я выпил.
— Я хочу этого, действительно и совершенно точно.
— Ну да, — сказал я.
— Что значит «ну да»?! Это единственно разумное решение. А мы сейчас должны быть разумны, разве нет?
— Да, — ответил я, — разумными мы должны быть. Завтра я свяжусь с этим врачом. Чтобы как можно быстрее получить назначение на прием. Он чертовски занят, этот врач.
Она вдруг заплакала. Без единого звука. Слезы катились по ее лицу и капали на халат.
— Но ведь ты сама этого хотела, — испугался я.
— Я и хочу, — всхлипнула она. — Я плачу только… только от радости и облегчения… и еще потому, что так тебе благодарна, Вальтер, так благодарна… я этого никогда не забуду!
Я снова дал ей свой платок. Она вытерла слезы.
— Ну, теперь все в порядке?
Она кивнула.
— Теперь идем спать?
Она еще раз кивнула.
— Ну так, идем! — Я поднял ее с ковра и взял на руки.
Она тихо вскрикнула. Но я крепко держал ее. Она была удивительно легкой. Когда я нес ее в гостевую, она прижалась своей щекой к моей. Я уложил ее в постель, как маленького ребенка, поставил на тумбочку стакан с водой и положил рядом две таблетки снотворного:
— Прими одну, если все-таки не сможешь заснуть. А потом другую, но сначала — подождать, ладно?
— Мне ни одной не надо. Теперь я буду спать, как сурок. Теперь, когда я знаю, что ты позвонишь врачу. Ты позвонишь ему завтра, точно позвонишь?
— Точно. Но надо будет поосторожнее, тебя ведь охраняет криминальная полиция.
— О Боже!
— Ничего, не страшно. Здесь три выхода и еще один через подвал. Вся эта охрана — глупый фарс. Не бойся. Они не увидят ни как мы будем выходить, ни как вернемся. А теперь спи, наконец!
Я укрыл ее, как укрывают маленьких детей, хотя мне в голову и пришла мысль, что при нынешних обстоятельствах можно бы попытаться и еще раз. Но я не стал пытаться.
— Наклони ко мне голову, — прошептала Ирина.
Я наклонил, и она поцеловала меня в губы.
— Спасибо, Вальтер…
— Прекращай уже.
— Ты тоже идешь спать?
— Да. — Я поднялся с края кровати.
Но спать я не пошел. Уложив Ирину, я забрал из своей спальни бутылку «Чивас» и свой стакан, содовую и лед, и отправился в кабинет. Я поставил все на письменный стол, закрыл дверь, чтобы не мешать Ирине, потом поискал в кожаной сумке нужную мне кассету, нашел ее и вставил в кассетник.
И хоть я долгое время нормально не высыпался, сна не было ни в одном глазу, я чувствовал себя необычайно бодрым. Я снял пиджак, ослабил галстук и закатал рукава. Потом вставил в машинку фирменные листы «Блица», копирку, второй экземпляр и напечатал:
РОЛАНД \ ПРЕДАТЕЛЬСТВО \ ЧАСТЬ I
После этого включил кассетник и долго слушал записанный разговор. Я сидел совершенно тихо. И было так спокойно, так удивительно спокойно в моем пентхаузе. И я обдумывал начало. Когда я правильно начинал, дальше вся история писалась сама собой. Раздумывал я недолго. Очень скоро я знал, как начать. К тому времени я еще не навестил фройляйн Луизу в больнице Людвига в Бремене и еще не говорил с ней, это будет позже. Поэтому я начал не так, как выглядит эта история в ее втором изложении, не с нашего диалога с фройляйн Луизой. О нем я тогда еще и понятия не имел.
Я отпил глоток, закурил новую «Галуаз», прикрыл глаза и застучал:
«Он услышал семь выстрелов. Потом голос отца. Казалось, тот шел издалека. Выстрелы его не напугали — он слишком часто слышал их с тех пор, как был здесь, и в его сне тоже как раз стреляли, но голос отца его разбудил.
— Что? — спросил он, протирая глаза.
— Пора вставать, Карел, — сказал отец…»
18
Груди третьей девочки просто сводили с ума, а за попку так и хотелось укусить, и она выдала такой стриптиз, еще похлеще двух предыдущих. Рыжая. Настоящая рыжая шевелюра, это было сразу видно. В этот момент всем мужикам в фотостудии «Блица» стало не по себе. Берти стирал пот со лба. Два осветителя что-то бормотали вполголоса с красными рожами. Маленький кроткий заведующий художественным отделом Курт Циллер беспрестанно облизывал губы. А у меня сигарета просто выпала изо рта, когда эта рыжая начала вытворять свои штучки. Только с Максом по-прежнему ничего не происходило. Он стоял на невысоком подиуме, на темно-синем фоне, абсолютно голый, и уже полчаса таращился на голых девок, самых классных, каких я только мог достать, — и ничего!
Берти начал материться. Макс в двадцатый раз извиняться. Ему и вправду было неловко.
Рыжая, которая была уже без ничего и выворачивалась и так и сяк, наконец, сдалась:
— В конце концов меня наняли не для того, чтобы лечить этого полного импотента!
— Заткнись, — посоветовал я рыжухе.
— Ну правда же, — надулась она. — Я еще в жизни такого не видела! У него и Мерилин Монро не поднимет! И никакие пилюли, никакие таблетки ему не помогут! Ерунда какая-то! С меня довольно!
— Сделай-ка еще раз мостик, — попросил Берти в последней надежде. — Пожалуйста, ради меня. И ноги расставь пошире.
— Ну, если ради тебя, — вздохнула рыжуха и выгнула такой мостик, с такими широко расставленными ногами…
В большой студии, освещенной бесчисленными юпитерами, стало совсем тихо. Все смотрели на Макса — тщетно!
— Ничего, — промямлил Макс. — Просто дохлый. Вконец дохлый.
— Все! — проревела рыжая. — Сыта по горло!
— Кого вы нам привели? — повернулся ко мне Циллер. — Какого-то бездаря.
Маленький, застенчивый славный Циллер говорил с тоской в голосе, без всякого упрека. В войну Циллер был корреспондентом на подводных лодках. Он сделал множество рисунков с подводными лодками и с бушующим океаном, и с кораблями сопровождения, которые взлетают на воздух. Многие картинки были напечатаны в иллюстрированных журналах Третьего рейха. Подводные лодки были его непреходящей любовью. Циллер просто терял голову, если ему удавалось какую-нибудь из них увидеть или только о них поговорить. При любой возможности он пытался протащить в номер фото подводных лодок. По этому поводу у них с Лестером постоянно были стычки. Его земным раем было время, когда я писал большие военно-морские серии. В те времена Циллер меня однажды даже обнял и поцеловал в щеку. По-моему, это было за «Подлодки — на запад!»
— Если дадите еще две сверху, я попробую ему отсосать, — сказала, успокоившись, рыжая. — Может, это поднимет.
— Не, не, спасибо, фройляйн, — возразил смущенный Макс. — Но я его знаю. Мой Джонни сейчас в ступоре. Тут ни труба, ни саксофон не помогут. Гад проклятый!
— Одевайся, — сказал я рыжухе.
Три другие девочки сидели на табуретах в полном смущении. Две уже разоблачались и отработали свое шоу, правда, без какого-либо успеха. Теперь пришла пора четвертой. Эта была блондинкой. Все девочки были как на подбор.
До пяти я писал. Потом поспал до девяти, выкупался, позавтракал, быстро попрощался с Ириной, которой принес поднос в постель, поговорил с врачом, а потом поехал в новое «Агентство по подбору кадров для кино, сцены и подиумов». На самом деле это было обычное агентство с девочками по вызову, но безумно дорогое — хозяйка была моей знакомой. Она тоже была ничего себе. Слегка за тридцать, а в постели — самолет на вертикальном взлете. Я ее попробовал. Отсюда и знал заведение. Девочки стоили баснословных денег, но взамен вы получали первоклассный товар. По фотографиям в каталоге я отобрал самых классных и заказал их к одиннадцати в студию. Ровно в одиннадцать они тут и были. Три уже выложили все, что могли. Без какого бы то ни было эффекта.
— Давай, — сказал я четвертой. — Теперь ты.
Она поднялась.
— Не, — отчаянно завопил Макс со своего подиума. — Не, Вальта, прошу тя! Не имеет смысла. Пусть малышка даже не раздевается. Снова выйдет пшик.
Блондинка тут же жалобно завыла.
— А мои деньги, — всхлипывала она. — Мой гонорар?! Другие получили, а я что? Это свинство! Я этого так не оставлю! Я пожалуюсь госпоже директорше!
— Ради Бога! — кроткий Циллер вытащил толстый бумажник. — Конечно, вы получите свой гонорар, как и другие дамы. Такого же никто не мог предполагать!
Он открыл свой бумажник, в котором была куча банкнот. Макс теперь неотрывно следил за Циллером. Я посмотрел на Макса. Берти тоже, одновременно со мной. И мы оба заметили.
— Мммм… ммм… — взволнованно промычал он и дернул подбородком.
Я кивнул. Мы оба отчетливо увидели, как Максов Джонни шевельнулся при виде купюр. Бравый подводник Циллер отсчитывал девочкам по пятьсот на нос. Максова штучка снова вздрогнула, на этот раз посильнее.
— Господин Циллер, — заорал я.
Он поднял на меня глаза. Тогда я закричал девицам:
— Подвиньтесь!
И снова Циллеру:
— Встаньте перед господином Книппером так, чтобы он хорошенько вас видел! На свет! И держите пять сотен марок на весу!
— Мне надо… но зачем?
— Быстро! Без разговоров! — поддержал меня Берти.
Ничего не понимая, Циллер сделал как мы просили. Но тут же все понял.
— Вон оно что, — пробормотал Циллер.
У Макса кое-что пришло в движение. Еще не слишком, еще далеко не то, что надо, но дохлым это уже не назовешь.
— Пятьсот сверху! — крикнул Берти.
Он стоял позади «Линхоф»-камеры, укрепленной на штативе. Отсюда он должен был снимать стационарной камерой на широкоформатную пленку в кассетах. У Циллера в руках было уже десять сотен. А у Макса уже стояло как приспущенный флаг на фале. Девочки совершенно обалдели и перешептывались между собой:
— Вот бы нам это зажать!
— Такого я еще не видела!
— Виола, глянь-ка какой у него встает!
— Тихо в стойле! — прорычал Берти. — Так, хорошо, хорошо, господин Книппер! Постарайтесь! Не отрывайте взгляда от денег. Сконцентрируйтесь. Так, смотрим на деньги!
— Я и так стараюсь, — простонал Макс. — А у вас нет ище тыщи?
— Отчего же, — сказал Циллер.
— Тогда поднимите на две штуки повыше!
Циллер помахал над головой купюрами на две тысячи.
Максово драгоценное хозяйство взлетело.
— О-о-о! — вылетело у потрясенной рыжухи.
Это было и впрямь импозантное зрелище.
— Так, так… так держать! Вы можете удержать его в таком состоянии, господин Книппер?
— Пока тот господин сможет держать две тыщи марок!
Берти делал снимок за снимком. Любой греческий бог по сравнению с Максом Книппером был полным говном. В студии снова стало тихо. Все были ошеломлены. Берти работал как одержимый. Какой-то ассистент отпустил шуточку в адрес кроткого заведующего художественным отделом, но Циллер стоял не шелохнувшись в ярком луче юпитера, напротив Макса, держа над головой две тысячи марок. Макс сдержал слово. Он не отвлекался и не уклонялся. Когда Берти, наконец, закончил свою работу, раздался гром аплодисментов. Польщенный Макс раскланялся на все четыре стороны. Потом слез с подиума и натянул свои трусы.
— Черт тебя побери, Макс! — сказал я.
— Да, — ответил он. — Что поделаешь, мой Джонни такой строптивый.
Внезапно Берти зевнул.
— Что, устал? — спросил я.
— Как собака. Сегодня рано завалюсь спать и наконец-то как следует высплюсь!
— Ага, — сказал я. — Я тоже.
Мы оба как следует выспались этой ночью. На высоте десять тысяч метров над Атлантикой.
19
До нас еще должна была сесть целая куча самолетов. Мы кружили над аэропортом Кеннеди уже три четверти часа, а диспетчеры спускали нас ярус за ярусом. Я был в Нью-Йорке в третий раз. Берти, по меньшей мере, в сто третий. Он с любовью описывал мне город с его пятью основными районами — Манхэттен, Бронкс, Брунклин, Ричмонд и Квинс. Я смотрел на стройные авеню с их переплетением с поперечными улицами на Манхэттене, на небоскребы и гигантские мосты. В Нью-Йорке светило золотушное солнце, я снова крепко заснул после всех этих безумных ночей.
Мы едва успели на самолет, после того как Херфорд оторвал меня от моей статьи (я печатал как одержимый каждую свободную минуту — мне катастрофически не хватало времени), а Берти от проявки фотографий с Максом. Я говорил по телефону из кабинета — в гостиной как раз объявился обещанный неподражаемый Лео, который демонстрировал Ирине коллекцию платьев, костюмов, верхней одежды и обуви. Врачу я позвонил из телефонной будки еще на обратном пути из фотостудии и сообщил, что моя жена хотела бы пройти очередной осмотр. Это был пароль. Он тотчас же узнал мой голос и сказал, что по горло занят, но может быть, скажем, в полвторого, в обеденный перерыв? Ему надо было осмотреть Ирину, прежде чем делать операцию, и это он стало быть собирался сделать в перерыв. Я сказал «хорошо», поехал домой, остановил «Ламборджини» перед входом и помахал двум полицейским в «мерседесе» на другой стороне улицы. Они помахали мне в ответ. Это была уже третья смена, опять новые лица.
Как только Ирина была готова, мы спустились с ней в лифте до цокольного этажа, выскользнули через сад на другую улицу, где не было никаких полицейских из охраны, прошли немного пешком, а потом я поймал такси. И мы поехали на северо-запад, до той улицы, где у моего знакомого врача была практика. Там я попросил шофера остановиться и расплатился. Последний отрезок мы снова прошли пешком. Главное, никакого риска! В приемной никого не было. Нам открыла жена врача. Она была молода и хороша собой, и когда-то работала у него сестрой. Теперь ассистировала ему при абортах. Он походил на типичного врача из фильмов, только был неимоверно деловой и жадный до денег. За все время поездки Ирина едва ли сказала два-три слова. Она была спокойна и сосредоточенна, когда проходила с врачом в его кабинет. Я остался сидеть в пустой приемной, где пахло пудрой, косметикой и каким-то сладким дезинфектором.
Повсюду лежали журналы, и чтобы не думать о том, как сейчас, в соседнем помещении Ирина лежит на этом кресле и врач ощупывает ее самым мерзким непристойным образом, я взял один из журналов на столике — это оказался «Животный мир и мы» — и начал читать статейку о муравьях.
«В природе существует около пяти тысяч различных видов, — этого я не знал. — Средневерхненемецкий: ameize, у Мартина Лютера:[116] emmeis — насекомое подотряда перепончатокрылых. Олицетворение прилежности и трудолюбия. Муравьи живут в сословных сообществах, состоящих из рабочих муравьев (основная масса), самцов и самок. У самцов и самок крылья рудиментированы (т. е. утрачены). Рабочие муравьи и самки имеют железу, выпрыскивающую едкую жидкость с богатым содержанием муравьиной кислоты, иногда снабженную жалом. Рабочие муравьи — это утратившие свой пол самки. Они обеспечивают строительство муравейника, кормление и содержание потомства».
И еще кучу всякого разного узнал я о муравьях, пока ожидал Ирину. Наконец, они вышли в приемную. Ирина была сосредоточенна, как обычно. Врач потирал руки.
— Великолепно, великолепно, — все просто идеально с вашей уважаемой супругой, господин Роланд. Не должно быть никаких осложнений, я уже успокоил вашу супругу. Однако не будем затягивать с этой мелочью. Как вам среда, восемнадцать — подойдет?
Я посмотрел на Ирину. Она кивнула, и я сказал «подойдет».
— Очень хорошо, очень хорошо, — оживленно сказал доктор, по-прежнему омывая свои руки невидимым мылом. — Вы привезете сюда вашу супругу, но ждать здесь не желательно, вы понимаете?
— Да, доктор.
— Моя жена будет ассистировать. Потом ваша супруга должна будет еще два-три часа полежать, а потом вы ее заберете. Не позже! На ночь она здесь оставаться не может!
Оставаться на ночь не позволялось еще никому из девушек. Для доктора это было слишком рискованно. Я неизменно должен был забирать их вовремя.
— Хорошо, доктор.
— Дома сразу лечь. При малейшем недомогании звоните мне — я тут же приеду, ну да вы знаете!
Я знал. Однажды у одной из девушек к ночи поднялась температура, и он сразу же приехал и принял меры.
— Спасибо, доктор, — сказала Ирина. — Я надеюсь на вас. Вы мне бесконечно помогли.
— Наш долг помогать, где можешь, — благосклонно ответил врач и проводил нас к выходу, а по дороге негромко сказал мне, что в среду же я должен принести чек, только, ради Бога, не расчетный, а обычный, на предъявителя. И он назвал бесстыдно огромную сумму гонорара. Но я был к этому готов, исходя из своего прежнего опыта. Поэтому я просто кивнул. Я всегда приносил ему только открытые чеки. Он был очень хорошим и очень осторожным врачом.
Мы с Ириной вышли на улицу. Небо затянули серые облака, стало очень холодно. Ирина шла нога за ногу, не поднимая взгляда от тротуара, и только в такси, которое я поймал по дороге, она положила свою холодную руку на мою и сказала:
— Теперь я абсолютно спокойна и счастлива. И все благодаря тебе. Я никогда не смогу с тобой расплатиться, Вальтер.
— Нет, не сможешь. Еще и с меня кое-что поимеешь. Я — роскошный экземпляр. С меня надо бы делать плакаты и повсюду их развешивать: «Матери, спокойно доверяйте ему своих дочерей!»
Она зашлась смехом и никак не могла остановиться. Это было похоже на истерику. Шофер уже несколько раз оборачивался на нас. Но все-таки она смеялась — этого я и добивался. Тем же путем через сад мы вернулись в пентхауз. И едва успели снять пальто, как раздался звонок домофона. Пожаловал господин Лео. Он не один час занимался Ириной, а я все это время сидел в своей комнате и, как одержимый, писал «Предательство». Вот тогда-то и позвонил Херфорд.
Это было в пятницу днем, а сейчас, когда мы кружим над Нью-Йорком, уже субботнее утро, и я надеюсь вернуться во Франкфурт ко вторнику, 19 ноября — из-за Ирины. Я должен отвести ее к врачу, а потом забрать оттуда. Ведь он так загружен, этот врач. Если мы пропустим прием, кто знает, когда он назначит следующий. Так что я очень надеюсь быть там вовремя.
Вчера по телефону Херфорд сказал мне:
— Это очень важно, Роланд. Херфорд только что говорил с Освальдом Зеерозе. У Освальда для вас информация. Такие дела! Лучше сядьте. Освальд, подойди!
Директор издательства подошел к аппарату и поприветствовал меня в своей аристократической манере. Потом перешел к делу:
— Новости от моих друзей, господин Роланд. Вы с Энгельгардтом должны немедленно вылететь в Нью-Йорк. Там сейчас заваривается.
— Откуда это известно?
— Мои друзья не идиоты, господин Роланд. После событий в Гамбурге там всех подняли на уши. Всех. Радисты перехватили сеансы связи между коротковолновым передатчиком в Нью-Йорке и советским траулером в Атлантике. Естественно, зашифрованные. Ключ подобрать не удалось, но понятно, что речь идет о пленках. Мои друзья уверены в этом.
— Откуда такая уверенность?
— Так мне сказали. Вам объяснят на месте. Дело идет к развязке. Завтра ночью ждут основных событий.
— Почему именно завтра?
— Мне не сказали. Объяснят все в Нью-Йорке. Как только прибудете, подойдете к стойке Люфтганзы. К центральной стойке. Там вас будут ожидать. Человека зовут Кулей. Мервин Кулей. У него вы узнаете то, что неизвестно мне.
— Ладно, все понял, господин Зеерозе.
Я пошел к Ирине и сказал, что должен ненадолго улететь и чтобы она никого не впускала в квартиру, не выходила и не отвечала на телефонные звонки. Она вдруг кинулась мне на шею.
— Что такое?
— Возвращайся скорее! Пожалуйста, возвращайся поскорее, Вальтер!
— Постараюсь. Сразу, как только смогу. А ты будь пока хорошей девочкой, обещаешь?
Она улыбнулась сквозь слезы…
Наконец самолет получил разрешение на посадку. У центральной стойки Люфтганзы к нам обратился большой нескладный человек, похожий на Джеймса Стюарта, в сером пальто и серой шляпе.
— Мистер Энгельгардт и мистер Роланд?
— Да.
— Очень рад. Меня зовут Мервин Кулей. Идемте. Багаж вы уже получили. Моя машина на стоянке.
Его машиной оказался серебристый «шевроле». Кулей сел за руль, я рядом с ним, Берти устроился на заднем сиденье. Кулей направился по широкой Южной парковой автостраде на запад, по дороге описывая положение дел:
— В последние два дня наши люди особо интересовались радиосвязью, после того как было установлено, что на советском траулере работает передатчик. Мы выслали автомобили с пеленгаторами, чтобы найти вторую рацию. Нелегкая задача. К счастью, передачи шли регулярно. Вы ведь знаете, как можно обнаружить радиопередатчик, если, конечно, повезет… с помощью двух машин?
— Ага, знаем, — сказал Берти. — Сначала блокируется район, потом антенны направляются так, чтобы сигнал был самым сильным, и в точке пересечения обоих направлений должен быть передатчик.
— Точно.
Кулей проехал мимо прекрасного ипподрома «Акведук», по парковой автостраде пролегающей под трассой IND-сабвэй-лайнз.[117] Далее последовал хаос развязок въездов и выездов скоростной дороги, которая отсюда уже называлась Шо Парквэй.[118]
Теперь мы ехали в юго-западном направлении по узкому ущелью между небоскребами и приближались к Бруклину. Кулей рассказывал без остановки:
— Так вот, нашим ребятам повезло. Нашли квартал. Даже дом нашли. В Фиатбуше, неподалеку от кладбища Холи Кросс.[119] На Трой-авеню.
Мы доехали до недавно разбитого Спринг-Крик-парка.[120] Теперь дорога вела через него, слева были видны воды и острова Ямайка-бэй.[121] В парке деревья уже стояли голые, но в слабых лучах осеннего солнца еще играли многочисленные малыши и прогуливались взрослые.
— Двух наших людей послали в дом, по квартирам. Якобы с телефонной станции. Проверить аппараты. Для выявления неполадок. Они отработали этаж за этажом. В сущности, это было несложно. Там внизу, у некоего Флойда Тернера, приемный пункт по ремонту радиоаппаратуры. А также телевизоров и проигрывателей. Сам он живет в этом доме. На пятом этаже. Мастерская наверху, в квартире. Нашим парням долго искать не пришлось. Нашли передатчик. Вполне современная штука, высокочувствительная. Тернер сказал, что он радиолюбитель. Предъявил лицензию.
— Может, он действительно всего лишь радиолюбитель? — вставил Берти. — А тот, кого вы ищете, спрятал свой передатчик получше.
— Вряд ли, — покачал головой Кулей.
В конце Спринг-Крик-парка снова была развязка с въездами-выездами на автостраду. Кулей съехал с Шо Парквэй на Пенсильвания-авеню и помчался по ней на север, пересекая авеню за авеню: Шредерс, Локе, Ванделия, широкую Фиатлэндс-авеню.
— После визита наших парней Тернер начал лихорадочно радировать. А на сегодня на два часа ночи забронировал место на самолет «Трансуорлд Эр Лайнз» до Лос-Анджелеса. Под чужим именем. Само собой, мы прослушиваем его телефон. Сняли пустующую квартиру в старом доме напротив.
Кулей доехал до Линден-бульвара, повернул налево, теперь на запад. Его «шеви» был оснащен рацией, по которой он постоянно докладывал свое местонахождение и спрашивал, что нового. Новостей не было — сообщали ему коллеги из квартиры напротив Тернера. Тот спокойно работал наверху в мастерской, из дома не выходил. Мы миновали Кингс Хайвэй, Рокавэй и Ютика-авеню и оказались на Трой-авеню. Она была очень длинной и располагалась между Линден-бульваром и Чеч-авеню. Кулей припарковался двумя кварталами дальше на Олбани-авеню. Пешком мы вернулись на Трой-авеню. Перед нами была лавочка Тернера, где двое его служащих обслуживали клиентов. Было утро субботы.
Мы прошли в старый дом напротив и по грязной лестнице поднялись на пятый этаж. Там Кулей постучал особым кодом в обшарпанную дверь. Нам открыли. Квартира за ней была опустошена. Со стен свисали клочья обоев. В большой комнате, окнами выходившей на улицу, работали двое молодых ребят. Кулей представил нас, и они поздоровались. На столе перед ними стояли полевые рации. Провода от них тянулись высоко под потолок, где образовывали целый пучок. Был еще один, обычный телефон и магнитофон, соединенный с подслушивающими телефонами. А кроме всего этого серый металлический ящик — коротковолновый передатчик, по которому поддерживалась связь с полицейскими машинами. Время от времени они докладывались. Их была целая прорва в этом квартале, несомненно, таких же обычных штатских авто, как и у Кулея. Тут же, на столе были термосы и сандвичи. У стены стояли две походные раскладушки. Ребята вели наблюдение в бинокли, один из которых был прибором ночного видения.
— Ну, что Тернер? — спросил Кулей.
— Ремонтирует телевизор, — ответил один из парней и подал Кулею свой бинокль.
Кулей передал его Берти, а Берти мне. Я посмотрел в мастерскую Тернера напротив. Окна этой пустой квартиры были прикрыты легкими занавесями, так что сюда никто не мог заглянуть, а отсюда все было видно прекрасно. Напротив, в своей мастерской, действительно, сидел Флойд Тернер и трудился над телевизором. Это был мужчина с могучей головой, большим носом, черной короткой шевелюрой и утонченными руками. Его руки меня заворожили. Прекрасные женские руки.
— Может, конечно, все-таки оказаться, что мы на ложном пути, — сказал Кулей, усаживаясь и протягивая ноги на стол.
— Конечно, — улыбнулся Берти своей бесшабашной мальчишеской улыбкой. — Все может быть. Здесь никогда не знаешь наверняка.
И вот уже долгих одиннадцать часов мы торчим здесь, как Богом проклятые, и ждем, когда Тернер выйдет из дома. А он все не выходит. Сидит себе в своей мастерской и работает над этим телевизором. Между делом он пару часиков вздремнул и снова принялся за работу. Когда стемнело, включил по всей квартире свет и продолжил что-то там мастерить. Тем временем сменились парни у аппаратуры. Кулей уходил и возвращался. И только мы с Берти торчали, как идиоты, на своих табуретах и ждали, что что-то произойдет. Но ничего не происходило. Абсолютно ничего. Тернер ни разу никуда не звонил, ему тоже. В восемь вечера третий молодой человек принес нам свежие сандвичи и горячий кофе. Мы перекусили в темноте, а потом Берти сказал, что хочет слегка вздремнуть. Тернера он уже сфотографировал через окно, сразу после нашего прибытия. Он улегся на одну из раскладушек и в следующую минуту уже спал. И только в пять минут одиннадцатого, наконец-то, хоть что-то произошло.
20
Зажужжал один из полевых телефонов, тут же автоматически включился магнитофон, парень у окна схватил трубку. Напротив, в квартире Тернера, в ярко освещенных комнатах никого не было видно. Звонок был коротким. Парень положил трубку и поспешно сказал:
— Тернер вызвал такси. На Трой-авеню. К дому.
— Пошли, — сказал Кулей мне и Берти. Мы схватили пальто, Берти прихватил камеры, а я — свой бинокль, и мы скатились по лестнице.
Через черный ход мы выскочили в загаженный двор и через него на ближайшую боковую улицу. Мы домчались до «шеви» Кулея и прыгнули в машину. Кулей включил рацию, выдернул из-под сиденья пистолет-автомат и швырнул его на заднее сиденье подле меня, потому как теперь я сидел там.
— Вы вооружены? — спросил он.
— Нет, — ответил я. — С оружием нас бы не пропустили на таможне.
— Тогда держитесь в тени. Есть у меня еще пистолет, но он мне самому будет нужен. — Он сообщил о готовности на Центральную.
Мы слышали доклады других машин — их было не меньше дюжины. С этого момента радиосвязь уже не отключалась. Парни из пустующей квартиры сообщили, что к дому подъехало такси.
— Всем… всем… всем… К дому на Трой-авеню подъехало желтое такси. Подозреваемый садится. Желтое такси отъезжает. Поворачивает на запад на Линден-бульвар. Машина двенадцать, вы начинаете преследование. Ясно?
— О’кей, — ответил по рации Кулей.
В этот момент мимо нас проследовало желтое такси. Движение на трассе было не слишком оживленным. Мы сели ему на хвост — на значительном отдалении. Теперь Кулей через Центральную указывал путь следования, подробно комментируя действия желтого такси с Тернером. Вначале оно проехало весь Линден-бульвар до Фиатбуш-авеню и повернуло по ней направо, на север. Мы за ним. Фиатбуш-авеню изгибалась в северо-западном направлении и проходила через густой темный Проспект-парк. В этом месте — я помнил это по своему прежнему визиту — под ней пролегала ветка подземки БМТ-Сабвэй-Лайнс, справа тянулся Ботанический сад. Сейчас, слабо освещенный редкими фонарями, он был едва различим в темноте. Так же едва угадывались контуры Бруклинского музея и в конце парка — массивное здание Центральной библиотеки. Здесь было транспортное кольцо — Гранд Ами Плаза. Желтое такси сделало круг по площади и теперь повернуло по Проспект-парку на юго-запад.
Кулей сообщил об этих маневрах и добавил:
— Почему парень не развернулся внизу, в парке — понять не могу?!
— Возможно, вас заметили, — последовал ответ из Центральной. — Прекращайте преследование, номер двенадцать. Машина восемнадцать, ведите дальше.
Итак, мы скинули скорость и пропустили мимо целое стадо машин. А через какое-то время снова раздался голос Центральной: «Внимание! Желтое такси поворачивает на Проспект-авеню. Направление — северо-запад к Пятой авеню».
Слева от нас, за жилыми блоками лежало огромное Гринвудское кладбище. Пару раз между домами мелькали его деревья и каменная ограда. Мы проехали Пятую авеню, Четвертую, Третью…
Центральная сообщила, что такси номер такой-то теперь спускалось по Третьей авеню в юго-западном направлении. Мы прибавили скорость. Машины мчались здесь как бешеные. Бруклин-Квинс-Экспрессвэй — полное название этой скоростной автомагистрали. Нам еще долго предстояло ехать по ней.
— Желтое такси поворачивает на Вторую авеню, — послышалось из рации. — Очевидно, направляется в порт.
Под «портом» подразумевались Бруклинский пирс, склады и доки в Аппер-бэй[122] Гудзона.
— Следуйте на юго-запад к докам терминала Буша. Не приближаться! Оцепить район! Машины один, два, три и семь подходят со стороны игровой площадки. Машины пять, девять, десять и одиннадцать проходят дальше до Департамента санитарии и «Бруклин Юниэн Газ Компани».[123] — Центральная распределяла машины преследования. — Номер двенадцать осторожно сопровождает желтое такси. Желтое такси снижает скорость у пирса три.
— О’кей, Центральная, — отозвался Кулей.
Он рванул машину в нагромождение плохо освещенных и вовсе не освещенных улиц, ведущих к порту. Здесь уже пахло морем и нефтью. Неожиданно перед нами открылись громадные пирсы с судами, кранами, транспортируемыми грузами и пакгаузами. Перед пирсами повсюду были установлены заграждения. Да, Тернер явно не собирался ни к какому из судов. Мы увидели перед собой такси. Оно проезжало мимо пирса номер три, места складирования и причалов «Америкэн Хемисфэрэ»[124] и «Америкэн Стар Лайн».[125] Дорога сужалась. Здесь пролегали рельсы к терминалу Буша, стояли гигантские грузовики и, к счастью, еще куча других машин. Желтое такси остановилось у ресторанчика. Нет, даже «ресторанчик» — слишком громко сказано. Это была, скорее, матросская забегаловка, из которой упал луч света и донеслись звуки радиомузычки, когда человек по имени Тернер открыл туда дверь. На Тернере был темный плащ и шляпа. Кулей сообщил по рации, что Тернер вошел в кабак.
— Как только выйдет, осторожно преследовать дальше, — приказала Центральная.
— Понял, — ответил Кулей.
Только из этого «осторожного преследования» ничего не вышло. Не больше чем через пять минут Тернер вышел из забегаловки и собрался сесть в такси. Под мышками он держал две бутылки шнапса. Тут шофер высунул голову из окна и что-то сказал ему, кивнув головой назад, на нас. Наверное, он заметил, что за ним слежка, и опасался ехать дальше. Мы еще увидели, как Тернер швырнул обе бутылки на заднее сиденье, и вдруг в руках у него оказался пистолет. Он ударил им шофера по черепу. Тот осел. Тернер выкинул его из машины прямо на мостовую, прыгнул за руль и рванул. Берти работал как одержимый. Кулей в темпе докладывал Центральной все, что происходило.
— Преследовать! Тернера остановить и взять, во что бы то ни стало! — прорычал голос из Центральной. — Машины один, два, три — на два блока ближе — пошли! Машины восемь, четыре, пять, шесть…
Дальше я уже не слышал — взревел мотор, и «шеви» Кулея взял с места в карьер. Меня отбросило назад. Мимо бесчувственного шофера, по ухабистой мостовой мы влетели на узкую дорогу вдоль складских помещений. Впереди нас Тернер, не останавливаясь, вдруг обернулся и выстрелил. Пуля угодила в левую фару «шеви». Кулей выругался. Он выхватил оружие, высунул из окна руку и начал стрелять по такси. Он попал в колесо, по крайней мере, так показалось, потому что такси вильнуло, прокрутилось вокруг своей оси, чуть не врезалось в лежащую на земле бетонную глыбу, и его юзом занесло во двор между двумя пакгаузами. От «Бруклин Юниэн Газ Компани» и вообще со всех сторон вдруг возникли остальные машины. Взвыли сирены. Кулей развернул свою оставшуюся супермощную фару вверх и осветил местность. То же сделали и остальные машины. Все вокруг озарилось резким ослепительным светом. С пирсов и из кабака сбежались мужики, но остановились на отдалении. Кулей подогнал свой «шеви» к въезду между двумя многоэтажными пакгаузами, выложенными из сырого красного кирпича. Такси занесло во двор, оно протаранило и рассыпало штабеля деревянной тары. Доски и кучи упаковочной стружки устилали землю.
Сирены выли, фары светили, и первые машины медленно пробирались через разгромленный въезд. Как только наш «шеви» высунулся из-за угла склада, прогремел второй выстрел, и погасла его последняя фара. Кулей резко затормозил, схватил свой пистолет-автомат и выскочил из машины.
— Оставайтесь на месте! — на лету бросил он. — Слишком опасно без оружия. Поняли?
— Поняли, — ответил Берти, подвинчивая что-то в своем «Хасселбладе».
Едва Кулей исчез, мы тоже уже были снаружи. Кулей теперь стрелял во двор из-за кирпичного угла пакгауза. Его коллеги — из-за угла соседнего здания. Тернер открыл ответный огонь. Мы с Берти бросились на землю и по-пластунски переползли к тому месту, откуда был виден двор. Это был узкий двор, зажатый мощными кирпичными стенами и слабо освещенный двумя фонарями. Когда такси заносило, его, видно, развернуло, и теперь оно стояло к нам своими передними фарами. Дверца со стороны водителя была открыта. Тернер, согнувшись, засел за ней и оттуда стрелял.
— Это тупик, — заметил Берти, фотографируя из положения лежа.
Сирены вдруг смолкли, и из мегафона раздался голос:
— Выходите, Тернер! У вас больше нет шансов!
Ответом были три выстрела.
Теперь и детективы бросились на мостовую.
— Выходите! Руки за голову! — гремело из мегафона.
Еще три выстрела.
Тернеру ответила огневая атака. Несколько пуль попало в такси, другие диким рикошетом разлетелись по двору. Тернер опять выстрелил. Одна из машин продвинулась вперед и мощным лучом осветила двор. Тернер стрельнул по нему, но промахнулся. Внизу, под дверцей, были видны его коленки. Пока у него были боеприпасы — а их у него, кажется, было немерено, — он был очень опасен. Проникнуть во двор было невозможно.
Неожиданно из-под такси на мостовую потекла какая-то жидкость.
— Что это? Кровь? — спросил Берти. — Неужели они в него попали?
— Понятия не имею, — сказал я.
Но, похоже, они в него не попали, потому что в следующий момент Тернеру таки удалось поразить горящую фару. Теперь двор по-прежнему освещали только два тусклых фонаря. Вдруг я заметил под капотом такси какое-то шевеление. Все видели это. И никто ничего не предпринял. Мы все словно остолбенели. Что Тернер мог там делать?
Там что-то блеснуло.
— Подставил под мотор бутылку, — прокомментировал Берти.
Тень под капотом слегка передвинулась, послышался скрежет металла.
— Он там отвинчивает, — не унимался Берти. — Боже Всемилостивый! Знаешь, что он там делает?!
— Что?
— Отсоединяет бензопровод от бензонасоса!
— Зачем это? — тупо спросил я.
А голос из мегафона все гремел, предупреждая, что, если Тернер немедленно не выйдет с руками за головой, по нему будет открыт огонь на поражение.
— И это была не кровь, а водка, которую он вылил из бутылки!
— Зачем?
— Сейчас увидишь… Сейчас… Осторожно, Вальтер!..
И вправду, зачихал запущенный двигатель, который никак не хотел заводиться.
— Он что, сошел с ума?!
— Нет, он полностью в своем уме, — проворчал Берти, работая своим «Хасселбладом».
Снова под мотором скользнула тень Тернера. А потом он на долю секунды выпрямился, верхняя часть его туловища мелькнула над дверцей. Последовал шквал выстрелов — все мимо. Потом там, во дворе, зажегся маленький огонек, и что-то полетело в нашу сторону. Это была бутылка из-под водки. Бутылка попала в стену рядом с Кулеем и разлетелась на мелкие кусочки. В следующий момент содержавшаяся в ней жидкость брызнула огнем во все стороны. Кулей, взвыв, упал на землю. Его одежда загорелась, волосы были охвачена пламенем. К нему бросились коллеги и начали плащами и куртками сбивать пламя. Загорелись сами. В мгновение ока над въездом повисла завеса, как из газонного дождевального аппарата, только не из воды, а из огня. Горящая жидкость подожгла доски и древесную стружку из деревянной тары. Детективы набросились на пламя с огнетушителями, пытаясь отбить у огня своих товарищей. Иные делали попытки пробиться через огонь во двор — напрасно!
— Он, запустив мотор, накачал в бутылку бензина, потом опустил в нее галстук или носовой платок, поджег и швырнул! — кричал Берти. — Так я и думал!
Теперь он снимал стоя, как будто с ним ничего не могло случиться. «Это будут потрясающие снимки», — подумал я. И тут увидел, что Тернер карабкается, по пожарной лестнице на внешнюю сторону левого здания.
— Там! — заорал я. — Вон он, там!
Застрочили два, три, шесть автоматов. Подкатил новый автомобиль. Новый луч света взвился и начал отыскивать Тернера. Вот поймал. Вот ведет. Стучали автоматы, разлетались кирпичи там, где близко, совсем близко, вплотную к Тернеру густо ложились пули. Тому невероятно везло. Пожарная лестница делала крюк и исчезала за боковым торцом пакгауза. Тернер тоже исчез из виду. Кулей, хромая, проковылял к своему «шеви» и с искаженным от боли лицом заорал в микрофон. Он доложил Центральной обстановку и потребовал, чтобы немедленно были высланы машины к торцу складского здания со стороны Второй авеню. Оттуда Тернера должно быть видно. Пока Кулей вел переговоры, убегали драгоценные минуты. Еще больше времени утекло, пока Центральная оповестила другие машины. Мы слышали только беспорядочную стрельбу по ту сторону каменных стен. А потом послышалось кое-что другое — звук запускаемого винта вертолета. Я, не веря своим ушам, посмотрел наверх. С крыши пакгауза раздался глухой низкий рокот, а за ним и в самом деле показался вертолет. Детективы обстреляли его — без толку. Вертолет описал широкую дугу в сторону Аппер-бэй и скрылся за облаками.
Мы все стояли, раскрыв рты, и пялились на небо. Рядом весело потрескивал огонь.
21
Тогда они взяли хозяина матросской забегаловки, некоего Джоя Брэдшоу. Брэдшоу тут же признался, что передал Тернеру коробку с двумя алюминиевыми гильзами. Коробку он получил довольно давно бандеролью из Праги. Отправителем был небезызвестный Ян Билка. Они познакомились, когда Брэдшоу путешествовал с женой страшно дорогим туром по Европе — три года назад. Тогда они с Билкой случайно встретились в Пражском музее. «Случай», разумеется, организовал Билка со вполне определенными намерениями. Билка и Брэдшоу подружились и в течение последних лет вели переписку. Джой Брэдшоу показал многочисленные письма от Билки. Он был семейный, и жена подтвердила его показания. Потом пришла эта бандероль. К ней было приложено письмо, в котором Билка просил сохранить бандероль до его приезда в Нью-Йорк, что должно случиться очень скоро. А если он не сможет приехать сам, то напишет Брэдшоу, кому передать пакет. И сегодня вечером экспресс-почтой пришло письмо. Билка писал из Праги, что с поездкой пока ничего не получается, но поздно вечером зайдет некий Флойд Тернер, которому Брэдшоу должен передать пакет. («Похоже, они уже в том польском грузоперевозчике прижали Билку, — вставил Берти, когда услышал это. — Ни минуты не потеряли. Молодцы, ребята, проворно работают!») В письме Билка точно описал Тернера, все указал подробно, вплоть до его адреса и номера соцобеспечения. Так что у Брэдшоу не возникло никаких сомнений, в чьи руки он передает — все еще не вскрытый — пакет. Тернер открыл его, потом одну за другой алюминиевые гильзы. Там были пленки, сказал Брэдшоу. Какие пленки? Понятия не имеет! Тернер поблагодарил его, купил две бутылки бурбона и ушел. Он, Брэдшоу, совершенно без понятия, что бы все это значило. Тем не менее они взяли его в под стражу. Заодно и его жену. И хотя в воздух было поднято не меньше дюжины патрульных вертолетов, они не смогли обнаружить тот, в котором находился Тернер с микрофильмами. Потому что ровно на семь минут по так никогда и не выясненным причинам отказал радар радиолокационной службы обнаружения воздушных целей Нью-Йорка, в которой этой ночью была объявлена общая тревога. Геликоптер Тернера напрочь исчез из поля зрения, что едва не привело к столкновениям полицейских вертолетов. Позже брошенный геликоптер был обнаружен сотрудниками органов государственной безопасности на укромной спортплощадке в Ричмонде.
Все это происходило в субботу, 16-го ноября, около полуночи.
22
— Я знала, что вы придете, господин Роланд, — сказала фройляйн Луиза.
Ее седые волосы были аккуратно гладко зачесаны назад и собраны в тугой пучок. Маленькое личико больше не выглядело таким изможденным, а губы такими обескровленными. И ее большие голубые глаза теперь источали спокойствие и умиротворенность. Она была чрезвычайно любезна. Говорила размеренно, казалось, те страх, затравленность, а порой и вспыльчивость, которые бросились мне в глаза, когда мы встретились в лагере «Нойроде», исчезли. Маленькая и хрупкая, лежала она в постели, которая странным образом казалась такой же маленькой и хрупкой, хотя была обычной больничной кроватью. Фройляйн Луиза лежала одна в большой палате, в частном отделении психиатрической клиники больницы Людвига в Бремене. Окна ее палаты выходили во двор с облетевшими каштанами. Они не были зарешечены, а отделение было «условно открытым», то есть входные двери в конце длинного коридора открывались изнутри поворотом специального устройства. Снаружи была обычная ручка.
— Как ваши дела, фройляйн Луиза? — спросил я с некоторой робостью.
— О, очень хорошо! Правда, хорошо! Знаете, сколько я проспала! Еда не особенно, но мне всегда было безразлично, что я ем. И эта больничная еда с общей кухни, она похожа на все кухни тех лагерей, через которые я прошла.
Открылась дверь, и полная жизнерадостная сестра внесла вазу с цветами, которые я принес для фройляйн Луизы.
— Цветы! — воскликнула фройляйн. — Цветы всегда прекрасны. А вы — хороший человек. И я вижу, что вы на меня не сильно сердитесь.
— Сердиться? На вас?
— Ну да. Поэтому я и просила вас сразу прийти.
— Почему?
— Я все время говорила себе: ты безобразно вела себя с господином Роландом. Ты должна перед ним извиниться. И это…
— Что за чепуха!
— …это я сейчас и хочу сделать. Спасибо, милочка!
Сестра кивнула и вышла.
— И я говорю вам, искренне и как подобает: не держите на меня зла, господин Роланд, прошу вас!
— Да за что же я могу на вас сердиться?
— Ну, — фройляйн потупила взгляд, — за то, что я ворвалась в ваш номер, и накричала на вас, и как вела себя в присутствии других господ. Я вела себя совершенно ужасно!
— Чепуха! Вы были просто очень взволнованы, вот и все.
— Еще бы! А все почему?! Потому что я хотела увести Ирину, так? — Она улыбнулась. — А между тем доктор Эркнер сказал мне, что она все еще живет у вас, и вы заботитесь о ней, и ей у вас хорошо, лучше, чем было бы в лагере. И вы взяли на себя поручительство за нее, и уладили все формальности. Тогда я ошибалась в вас. Я подозревала в вас злые намерения, и за это мне стыдно. Ну так, снова мир?!
— Мир, фройляйн Луиза.
Она облегченно вздохнула:
— Теперь я спокойна. Мне было тяжело на душе из-за этого. Из-за моих дурных мыслей о вас и господине Энгельгардте. Он тоже на меня не сердится?
— Нисколько. Он передавал вам привет. И Ирина тоже.
— Ах, Боже мой, спасибо! Теперь я могу влачить свой крест дальше. Теперь даже здесь я могу обрести мир и покой.
— Именно это от вас и требуется, — мягко сказал я.
— Я постараюсь, господин Роланд. Все так заботятся обо мне, чтобы мне стало лучше. Сначала господин доктор Эркнер дал мне что-то, и я спала два дня напролет, а потом он говорил со мной и сказал, что было бы хорошо, если бы я согласилась на шесть сеансов электрошока, один за другим, через день, и к тому же я получаю порошки и уколы… Нет, мне не на что жаловаться.
«Сеансы электрошока» — она произнесла это спокойно, без эмоций.
— И когда первый сеанс? — осторожно спросил я.
— Вчера.
— Что?!
— Уже вчера был первый. Завтра утром — второй. Все время по утрам, знаете ли. И останутся еще четыре. Нет, нет, господин Роланд, за мной здесь блестящий уход. Это же частное отделение, первый класс! Я слышала, вы за это платите? Естественно, я все верну вам, само собой!
Я подумал о том, что мне сказал по телефону пастор Демель: сумка фройляйн Луизы со всеми ее деньгами утонула в болоте.
— У меня достаточно денег. Зато я лежу сейчас совсем одна! Это ваше благодеяние…
— Все оплачивает мой издатель, фройляйн Луиза. Ему вы ничего не должны возвращать. Этот человек — миллионер. А я просто хочу написать всю эту историю о вас и ваших детях.
— Ну, если он и вправду миллионер — тогда я просто приму это с благодарностью! А мои дети… Если бы я могла понять, почему я сейчас не с ними, а здесь?!
— А вы не знаете?
— Понятия не имею.
— Но вы понимаете, где вы?
— Ну а как же! В больнице Людвига в Бремене. Господин доктор Эркнер сказал мне. Вот только почему я здесь?! Доктор говорит, мне надо отдохнуть. Выздороветь. А что значит, выздороветь? Я же совсем не больна! Что со мной? Что с моей головой?
Она спросила это с искренним удивлением, но без всякой агрессии, только с удивлением. Перед моим посещением меня принял доктор Эркнер. Могучий мужчина с темными глазами, курчавыми черными, коротко стриженными волосами и широким лицом проводил меня в свой кабинет. Фройляйн Луизе уже лучше, удовлетворенно сообщил он. Пастор Демель рассказал ему о мертвых друзьях фройляйн.
— В настоящий момент весь этот бред отступил, — сказал доктор. — Здоровая же сторона ее личности сохранена. Бредовые видения потускнели. Сейчас, даже если вы заведете разговор об этих мертвецах, она вас не поймет. Она помнит лишь то, что происходило в действительности. Ну, с некоторыми провалами, конечно.
— А эти провалы не закроются? Она не вернется в свой бредовый мир? Не вспомнит заново о своих мертвых друзьях?
— Этого я не знаю, — ответил доктор. — Здесь мы имеем застарелый шизофренический синдром. Так что позже симптомы могут возобновиться…
И вот я сижу напротив фройляйн Луизы. Я боялся, что она будет задавать мне вопросы обо всем, что выпало из ее памяти или не поддается разумному объяснению. Но она не стала этого делать. Она совершенно здорова — это ей было ясно, как божий день. Она осознавала, где находится, знала, что доктор Эркнер дружески относится к ней и заботится о том, чтобы она чувствовала себя лучше.
— Вам, наверное, надо возвращаться к своей работе, — сказала фройляйн. — Вы всегда так спешили.
— Я и сейчас спешу.
— Вот видите! Поэтому я и попросила господина доктора Эркнера позвонить вам и позвать ко мне. Главное, вы всегда были так добры, и я хотела, чтобы вы перестали на меня сердиться. Теперь я успокоилась. Вы были в Америке, я слышала?
— Да. Вернулся вчера вечером, застал сообщение доктора Эркнера и сразу вылетел сюда, в Бремен.
— В моей памяти столько провалов, — печально сказала фройляйн. — Я, конечно, помню все, что случилось в лагере. Что они застрелили бедного малыша Карела. И что вы уехали с Ириной в Гамбург. Помню, как и сама поехала в Гамбург. Сначала до Бремена меня подвез один шофер, потом был поезд. В Гамбурге тоже много чего случилось. На вокзале я взяла себе провожатого, бедного господина Раймерса, как потом оказалось, он был болен. И в «Кинг-Конге» я побывала, и в отеле «Париж», где убили этого Конкона. И на Эппендорфер Баум. У одного француза, торговца антиквариатом, и поляка портье. Это они мне сказали, где вы с Ириной. А потом я поехала в «Метрополь»… но мне кажется, что там произошло больше, гораздо больше, чем я помню…
— Не берите в голову, фройляйн Луиза. Вы и так столько всего помните! И в лагере вы мне многое рассказали, у меня все на пленке. Я прекрасно обойдусь.
— Значит, вы больше не навестите меня, раз вам от меня больше ничего не нужно?!
— Ну что вы, конечно, навещу, фройляйн Луиза! — сказал я, а про себя подумал, что она, возможно, снова вспомнит о своих мертвых друзьях, и тогда моя история будет гораздо полнее. — Навещу еще не раз!
— Да и я ведь не вечно буду здесь оставаться!
— Конечно. Тогда я приеду в лагерь в Нойроде. Самолетом это очень быстро.
— А я никогда не летала, — вздохнула фройляйн и без всякого перехода добавила: — Там, в парке за вашим отелем, там я тоже была. И там мне было жутко страшно.
— Почему?
— Понятия не имею, господин Роланд! Не знаю! Знаю только, что потом ехала в Бремен ночным поездом с одной приятной молодой особой. Инга Флаксенберг, помнится, ее имя. Но все зовут ее просто Зайка — так она сказала. Ну, как вы все зовете меня «фройляйн Луиза». Служила в одном казино, эта Зайка. Казино закрыли, потому что под столом с рулеткой были магниты. Все это я отчетливо помню. Еще помню, что эта Зайка и ее жених подвезли меня до Нойроде. А дальше — все. Дальше вообще ничего не помню. Вплоть до того, как уже здесь, в клинике, разговаривала с господином доктором Эркнером.
Едва она произнесла его имя, как открылась дверь, и доктор явился собственной персоной, большой, веселый, в белоснежном халате.
— Как вы, рады визиту, фройляйн Луиза?
— Ах, господин доктор, очень!.. И господин Роланд не сердится на меня!
— Ну, видите, я же предсказывал вам!
— Да-да, так, господин доктор!
— Вот, пожалуйста! — засмеялся доктор. И мне: — А теперь вам пора идти. Фройляйн Луизе надо отдохнуть.
— Да, — согласилась фройляйн, — отдохнуть надо. Здесь так удивительно спокойно. Я без конца могу спать.
— Я еще приду, — сказал я, поднимаясь, — когда захотите. Дайте знать или я сам могу позвонить. И не волнуйтесь за нашу историю. Скоро я ее запишу.
— Ну да, — ответила фройляйн Луиза, — спокойно приходите, как захотите. Вам нечего спрашивать разрешения. Так ведь, господин доктор?
— Так, так, — подтвердил тот, — можете приходить, когда захотите, господин Роланд.
— Только не рано утром в ближайшие несколько дней, — с серьезным видом предупредила фройляйн Луиза. — Потому что у меня еще сеансы шока, а после них я всегда долго и крепко сплю.
23
Во вторник, 19 ноября, без десяти шесть вечера, мы с Ириной снова ступили на ту улицу в северо-западной части города, где у доктора была практика. Мы добрались сюда тем же путем, выйдя из дома через сад. По улице бесконечным потоком катили машины, тротуары тоже были забиты пешеходами, так что мы продвигались медленно. Уже стемнело, моросил мелкий холодный дождь.
— Ну вот, — сказал я, — через пару часов ты уже будешь дома, и все будет хорошо.
— Да.
Нас то и дело толкали. Вообще-то, на этой улице не было магазинов, но, должно быть, здесь целая масса всяких учреждений и, наверное, какие-нибудь фабрики, иначе откуда столько людей и машин?
— Не надо бояться, — продолжал я. — Это лучший врач во Франкфурте по этим делам.
— Я нисколечко не боюсь, — ответила Ирина. — А ты что будешь делать в эти несколько часов?
— Ну, выпью где-нибудь что-нибудь, потом, может, схожу в кино.
— На какой фильм?
— Пока не знаю.
— Я тоже хотела бы как-нибудь сходить с тобой в кино, Вальтер.
— Хорошо, — сказал я, — как-нибудь сходим.
— Когда?
— Когда все будет позади, и ты снова будешь хорошо себя чувствовать.
— И если у тебя будет время.
— Да.
— Потому что сейчас у тебя безумно много работы. — Она сжала мою руку. — И я тебе особенно благодарна, что ты все равно идешь со мной.
— Ну что ты, это же само собой разумеется!
— Я знала, что ты мне поможешь, — сказала Ирина. — Сразу же, как увидела тебя. Сразу знала.
— Да? Помню, тогда ты была здорово колючей.
На это она ничего не ответила, а через некоторое время спросила:
— Ты уже водил к этому врачу других девушек, да?
— Да.
— И ни разу не было осложнений?
— Ни разу. Тебе, действительно, не стоит волноваться.
— А я и не волнуюсь. Я спокойна. Я совершенно спокойна. Честное слово. Я еще никогда не была так спокойна. Я уже радуюсь тому, что через несколько часов ты заберешь меня отсюда. И потом, я же ничего не почувствую, мне ведь дадут наркоз, да?
— Нет! — сказал я.
— Мне не дадут наркоза?
— Нет! — вскрикнул я и остановился.
Не знаю, знакомо ли вам это чувство: вы убеждены, что-то произойдет, должно произойти, неизбежно. Вы говорите себе, что ничего не можете с этим поделать (что есть ложь), что жизнь сама все уладит (что есть глупость), что у вас еще есть время, что решающий момент еще не настал. И так далее. И вдруг, в какое то до смешного короткое мгновение, без всякого предупреждения, когда вы об этом даже не думаете, в вашей совести или в вашем мозгу, или в вашем сердце (или в чем там еще) что-то щелкает — и это происходит! Без вашего участия. Просто происходит то, что было изначально предопределено.
— Но это же немыслимо! — занервничала Ирина. — Как это, без наркоза?!
— Кончай со своим наркозом! — сказал я, и передо мной все вдруг предстало в ясном и беспощадном свете. — Я говорю не о наркозе.
— Но ты же только что сказал «нет»!
— Да.
— Ничего не понимаю! А что же тогда нет?
— Нет — значит, что мы не идем к врачу.
— Но мы же назначены! Через пару минут я должна быть там, Вальтер!
— Мы туда не идем, — сказал я спокойно, полный умиротворения и счастья, если счастье — это то, что я тогда чувствовал, в сумраке, под тусклыми фонарями, под дождем. — Мы туда не идем. Ты этого не сделаешь, Ирина.
— Но… но это же безумие! — испугалась она.
— Это не безумие. Это единственно правильное решение. Мне понадобилось много времени, чтобы понять это. Ты должна родить своего ребенка, Ирина. Все остальное — преступление.
Кто-то с силой налетел на меня и выругался. Я затащил Ирину под арку. Здесь мы были защищены и от людского потока, и от дождя.
— Вальтер, — с трудом переводя дыхание, выдавила Ирина, потому что я крепко прижал ее к себе. — Ты, должно быть, лишился рассудка! Все обговорено и решено! Доктор ждет!
— Я позвоню ему и сообщу об отмене.
— Но так же нельзя! Это невозможно! Я не могу произвести на свет ребенка Билки! Вальтер, мне только восемнадцать! Я в чужой стране! И я еще не знаю, что со мной будет! Я вообще еще ничего не знаю! А тут еще и с ребенком…
— Ирина, — перебил я ее, — хочешь выйти за меня замуж?
— Что?
— Хочешь стать моей женой?
Она уставилась на меня с открытым ртом и не могла выдавить ни слова.
— В чем дело? Я тебе несимпатичен? Слишком циничен? Слишком много курю? Пью слишком много? Я исправлюсь. Поверь мне, в сущности, я хороший. Ну так, хочешь стать моей женой?
— Ребенок… — У нее перехватило дыхание. — Ребенок… Это невозможно…
— Почему?
— Он от Билки, Вальтер! От Билки!
— Знаю. Но я собираюсь жениться на тебе, а не на Билке. И ребенок в такой же мере и от тебя. Даже больше от тебя. Ты же его родишь. А потом он будет нашим ребенком.
— Это сейчас ты так говоришь, потому что ты… потому что ты… потому что ты такой милый… такой… чудный…
— Да что ты говоришь.
— …а потом, потом, когда он, может быть, станет таким, как он…
— Ну, это еще не известно, — возразил я. — Величайшие преступники производили на свет святых, благодетелей человечества, гениев. Конечно, нам может и не повезти. Но с того момента, как ребенок появится на свет, отцом ему буду я — не Билка! И все, что я смогу сделать, чтобы он вырос достойным человеком… — я оборвал себя. — Ерунда! Как будто я уж такой замечательный! Просто рискнем. И знаешь, почему? Знаешь, почему я непременно хочу, чтобы у нас был этот ребенок?
— У нас… — шепнула она, — ты сказал «у нас»…
— Разумеется, у нас. У тебя и у меня. Ты же тогда будешь моей женой. У меня был один такой момент, когда мы были в Гамбурге… Тогда мне очень хотелось, чтобы ты любила меня, а не этого Билку. Тогда — не смейся! — тогда я подумал, как здорово было бы иметь от тебя ребенка. Не смей смеяться, черт подери!
— Я и не смеюсь, — прошептала Ирина.
— А этого ребенка, ты же очень хотела этого ребенка, пока не узнала, что там с этим Билкой, так ведь?
Она только кивнула.
— Ну, видишь? Ирина, тебе всего восемнадцать, мне — тридцать шесть… Старик против тебя…
— Прекрати!
— Нет, правда. Это единственное, что меня пугает, — чуть-чуть пугает. Я очень хочу, чтобы ты стала моей женой. И ребенка я тоже хочу. Только: сам бы я никогда не отважился сделать тебе ребенка. Я слишком пропитан алкоголем. При том количестве виски, что я выпил за все эти годы, ребенок родился бы жалким кретином. Но я очень-преочень хочу ребенка! С тех пор, как я узнал тебя, я хочу ребенка — от тебя! И теперь я могу его иметь. Не поврежденного виски урода. Билка ведь не был алкоголиком — или?..
— Нет.
— Ну, видишь, как славно все складывается. Все. Теперь можешь смеяться.
— Я… я не могу…
— Тогда скажи, что хочешь стать моей женой. Сразу скажи. Потому что к врачу я тебя не пущу в любом случае, договорились? Итак? Хочешь?
Она прижалась щекой к моей щеке и прошептала:
— О да! Да, Вальтер, да! Я хочу стать твоей женой. И я изо всех сил постараюсь быть тебе хорошей женой, на всю жизнь. Ах, я так счастлива… Я так этого хотела…
— Меня или ребенка?
— Вас обоих.
— Господи, Ирина, что же ты раньше не сказала? Мы бы не потащились сюда, и я смог бы поработать. В такую погоду, Ирина! Теперь надо как можно скорее пожениться, да?
— Да… да, пожалуйста, Вальтер! О, держи меня, держи меня крепче!..
И я крепко держал ее, осыпая поцелуями ее мокрое от дождя лицо, и впервые с тех пор, как я увидел ее, ее глаза не были полны печали, в них светились радость и счастье.
— Спасибо, — шептала Ирина. — Спасибо, Вальтер.
— Не стоит благодарности. Ну, а теперь пошли отсюда. Пошли-ка домой!
Я взял ее за руку, и мы вышли из-под арки под дождь, и сразу попали в людской поток, который понес нас прочь отсюда. Ирина то и дело склоняла голову к моему плечу. Так мы и шли, пока не дошли до какого-то бара, где я выпил двойной «Чивас», а Ирина стакан апельсинового сока. Я позвонил врачу и сказал ему, что мы передумали, и он так разозлился, что бросил трубку, хотя я и сказал ему, что оплачу издержки.
Когда я потом у стойки рассказывал это Ирине, мы оба смеялись, как дети. Мы поймали такси и приехали домой, и я еще поработал, пока Ирина громыхала на кухне посудой, готовя ужин. И я чувствовал себя так, как будто уже был женат, и это было приятное чувство. Дождь барабанил по окнам кабинета, а я писал о том, что мы с фройляйн Луизой пережили в лагере, и у меня было ощущение, что я только что вышел из освежающей ванны. Ужин поддержал радостное настроение. Ирина, как оказалось, прекрасно готовит. Я похвалил ее, и она расцвела. Мы вместе убрали со стола, и вместе вымыли посуду в моечной машине. Потом пошли в мою спальню, и я пил свой «Чивас», а Ирина — апельсиновый сок, потому что теперь, когда она ждала ребенка, ей больше не стоило употреблять алкоголь, да она и не хотела виски. Мы сидели и слушали Чайковского, много-много пластинок. Потом Ирина пошла в ванную. Я еще чуть-чуть выпил, послушал музыку и тоже отправился купаться. После душа я зашел в гостевую, чтобы пожелать ей спокойной ночи. Она заснула при свете. Во сне она улыбалась, дыша глубоко и ровно. Ее лицо было бесконечно умиротворенным.
Я выключил лампу, вышел на цыпочках из гостевой и лег спать. И хотя чувствовал себя страшно усталым и сразу погасил свет, долго лежал без сна и смотрел на большое окно, освещенное млечным светом огней лежащего подо мной ночного города, и слушал, как по террасе на крыше барабанит дождь.
И я многое передумал.
НАЧАЛО ПЕЧАТИ
1
— Упаковку «Гордон’с джина», пожалуйста…
— Кобургского окорока полкило…
— Мне икры. Четыре баночки, из тех, что побольше. Но только с синими крышечками, вон те, с синими крышечками…
Голоса доносились из торгового зала магазина «Деликатесы Книффаля» до расположенного позади небольшого бара со стойкой, табуретами и столиками. За один из них я только что уселся. С улицы долетали приглушенные голоса строителей метрополитена. День был пасмурным, хотя и без дождя. Ветер гнал по небу черные, низко нависшие тучи. В «Деликатесах Книффаля» горел электрический свет. В здании издательства напротив и во всех окрестных офисах тоже.
Светловолосая и темноглазая Люси за стойкой поздоровалась со мной своей ослепительной и немного смущенной улыбкой.
Было половина девятого утра, вторник, 21 ноября. Последний раз я заходил сюда утром в понедельник 11 ноября, а кажется, десять лет назад. Столько всего произошло за эти десять дней!..
Накануне вечером я закончил вторую большую часть «Предательства». Первая уже давно должна быть в наборе. Я положил ее Хэму на стол еще до моего отлета в Америку — нормальный срок, чтобы сегодня, через неделю, номер появился в киосках. Вторую часть я закончил по возвращении из Нью-Йорка и сегодня утром сдал в редакцию. С этой серией у меня вообще все шло без напряга. Писал я быстро, сам материал не доставлял никаких проблем, так что работал я с удовольствием. Теперь, правда, подступал «Мужчина как таковой», но его я уж как-нибудь свалю. Теперь у меня была моя история! И какая! Русские сделали всех, даже из Нью-Йорка достали вторую часть микрофильмов Билки. Теперь у них было все. Они вышли победителями — по всем фронтам.
В последние дни я писал каждую свободную минуту, даже по ночам, когда Ирина мирно спала в гостевой. Мне были обеспечены кошмары. Из-за возбуждения. Когда я проснулся, было семь и еще совсем темно. Я не стал будить Ирину, побрился, как обычно, под новости из моего карманного японского транзистора и выпил несколько чашек кофе. Есть я не стал. И вовсе не из-за алкоголя, хотя накануне вечером, сидя с Ириной у телевизора в прекрасном настроении и в предвкушении плодотворной работы, я опрокинул пару стаканчиков «Чивас». Но пьяным я не был и наутро не ощущал похмелья. Просто я не хотел есть. Возбуждение. Сегодня, когда я разделался с нью-йоркской частью, пришло время сдавать вторую статью «Предательства» — таким же образом, что и первую: положить в запечатанном конверте на стол Хэму. Оригинал и второй экземпляр. Общественной читки тут не будет. Все должно храниться в тайне, по крайней мере — первые две части. Эта законченная работа была предназначена только для Хэма, Лестера и руководства издательства. Когда господа ознакомятся со второй частью, меня вызовут. И тогда…
— Пожалуйста, господин Роланд.
Я поднял глаза.
Передо мной стояла Люси. С озабоченным лицом она расставляла на столе стакан, бутылку содовой, емкость с кусочками льда. Потом налила в стакан из «моей» бутылки «Чивас». Я вынул свою «Галуаз» изо рта, внимательно посмотрел на Люси и… — осознание того, что́ я тогда сделал, пришло ко мне гораздо позже — бросил едва раскуренную сигарету в стакан с виски.
— Что… что вы делаете, господин Роланд! — испуганно воскликнула Люси. — Что это значит?!
— Не знаю, — сказал я, сам слегка оторопев.
Сигарета противно размокла. Я отодвинул стакан:
— Думаю, это должно значить, что я не хочу виски. И курить тоже больше не хочу. По крайней мере, утром.
— Господин Роланд!
— Да, смешно. Вдруг пропало настроение пить. Даже видеть не могу виски. Пожалуйста, уберите его отсюда, Люси!
— Вы не заболели?
— Я совершенно здоров! — засмеялся я.
Она тоже засмеялась, облегченно и радостно, и быстренько убрала все, что расставила передо мной.
— Знаете что, я вдруг страшно захотел есть. И время у меня тоже есть. Вы не могли бы сделать мне завтрак? Два яйца в мешочек, парочку свежих булочек, томатный сок и кофе.
— С удовольствием, господин Роланд… Конечно… — Она все еще смеялась, но в глазах у нее стояли слезы. — Я так рада! Но что с вами случилось? В последний раз вы были так…
— Ах, что там «в последний раз»! — махнул я рукой. — С тех пор столько всего произошло, фройляйн Люси. Я расскажу вам, но сначала завтрак, ладно?
— Да-да, конечно, — пролепетала она и побежала готовить мне завтрак.
Я сидел спиной к торговому залу и смотрел на себя в зеркало на стене. Мне показалось, что и лицо у меня изменилось. Оно уже больше не было таким состарившимся и серым, таким пропитым и истасканным. Это было совершенно другое лицо. Но не может же человек за десять дней обрести совершенно другое лицо! Или все-таки может? Я прислушивался к голосам из магазина и размышлял о том, как это будет, когда Херфорд меня пригласит и скажет, что мое новое продолжение — это очень сильно! Так оно и было на самом деле, я в этом убежден. В этом вообще нет никаких сомнений! Иначе бы мне сделали замечание уже после первой части, которую читали он, Хэм и Лестер, а так никто не проронил ни слова упрека, когда я вернулся из Нью-Йорка.
Люси принесла завтрак. Я залпом выпил томатный сок, а потом ел яйца всмятку, свежие булочки с маслом и солью, пил кофе и чувствовал себя великолепно. Жуя, я поведал девушке Люси, которая стояла возле меня взволнованная, с раскрасневшими щеками, что за эти десять дней нашел такую историю, такую потрясающую историю, которая выйдет под моим настоящим именем.
— После всех этих лет, наконец-то, история под моим именем!
— Это замечательно, — прошептала Люси. — А я… я так за вас переживала. А теперь все будет хорошо… Ведь теперь все будет хорошо, да?
Я кивнул с набитым ртом.
— Нет, я так рада за вас, господин Роланд!
— А как я рад! Как я рад, фройляйн Люси!
Конечно, я не мог ей рассказать, о чем шла речь в новой истории, это она тоже понимала. Но когда я кончил завтрак, я подсел на табурет к ее стойке, и мы вместе пили томатный сок и говорили о ней. Я расспросил Люси о ее доме, о родителях и о планах на будущее. Она рассказывала мне об отце и матери, которые были крестьянами, о брате, служившим в бундесвере,[126] и о своей родной деревне Брандоберндорф. Я слушал ее с неподдельным интересом. «Уже давно, — думал я, — на протяжении долгих лет я не слушал с вниманием тех, кто рассказывал о себе, если только не должен был о них писать или использовать еще как-нибудь по-другому».
А потом, в десять часов, намного раньше, чем я ожидал, зазвонил телефон.
Люси взяла трубку и сообщила мне:
— Вас срочно приглашают к вашему издателю.
— Очень хорошо, — довольно сказал я.
Я расплатился и дал Люси, как обычно, большие чаевые, а она важно поблагодарила меня и еще раз выразила свою радость. Потом она символично плюнула мне трижды через левое плечо и мы пожали друг другу руки. Уже издали, из магазина я оглянулся еще раз — Люси стояла за своей стойкой, все еще смеясь, и махала мне рукой. Я тоже засмеялся и помахал ей в ответ. А толстая дама возле меня трубно гудела:
— Гусиной печенки, господин Книффаль, гусиной печенки! Три большие банки!
2
На мостках через перекопанную Кайзерштрассе толпились люди. Я шел насвистывая, засунув руки в карманы брюк — пальто я оставил в редакции. Было холодно, и я поднял воротник пиджака. Внизу, в глубине, на стройке метро трудилась интернациональная команда рабочих. Гудели отбойные молотки и пневматические буры, подъемные краны ворочали стальные балки. Все было так же, как и десять дней назад. И все-таки все было по-другому. Я вынул коробку своих сигарет и бросил ее туда, в глубину, ее поймал маленький итальянец, широко улыбнулся мне наверх и послал воздушный поцелуй:
— Grazie, Signore, grazie![127]
— Molti auguri![128]
На этот раз мне представилось, что я один из тех многих, что работают там, внизу, что я их часть. Это было приятное чувство…
В издательстве я поднялся на «бонзовозе» сначала к себе на седьмой этаж в стеклянный бокс, где висело мое пальто, и вынул новую пачку «Галуаз» из кармана. Совсем уж без сигарет я не хотел остаться. Человек не может проснуться на следующее утро святым.
Вокруг во всех стеклянных боксах уже работали, я поздоровался со всеми и все с улыбкой поприветствовали меня, и когда я уже выходил от себя, вошла Анжела Фландерс, моя старая приятельница. В этот день на ней был темно-синий костюм, и ее крашеные каштановые волосы были, как всегда, безупречно уложены, и сама она была, как всегда, ухожена, и она тоже улыбалась.
— Привет, Анжела, — улыбнулся я.
— Доброе утро, Вальтер, — ответила она и слегка покраснела. — Вы идете к издателю, да?
— Да.
— Господин Крамер и господин Лестер уже наверху. Новая серия, да?
— Да, Анжела.
— Ну, я, наверное, тоже скоро получу ее для чтения. Господин Крамер сказал мне, что так замечательно вы уже давно не писали.
— Правда?
— Да. Я… Знаете, Вальтер, мы так давно знаем друг друга… Мы столько пережили вместе… Я знаю, как часто вы доходили до отчаяния. А теперь… теперь у вас снова замечательный материал, ваш собственный. — Она все больше запиналась. — И это… это для меня такая радость, потому что я… я очень симпатизирую вам, Вальтер, ну, вы же знаете?..
— Да, Анжела, я знаю, — сказал я. — Вы мне тоже очень симпатичны. Очень-очень симпатичны. И вы ведь тоже это знаете?..
Она покраснела до корней волос.
— Потому что… потому что мы старые друзья, Вальтер, и я так рада за вас! И… я буду держать за вас кулаки, и… я желаю вам всего-всего в вашей работе и… много-много успеха! Я так надеялась, что однажды вы опять сможете что-то написать под своим именем!
— Да, — сказал я. — Я тоже надеялся.
— Ну ладно, поднимайтесь к Херфорду. Я буду все время думать о вас, пока вы не вернетесь. Ах, иногда в нашем деле совсем отчаиваешься, а потом, когда уже и не ждешь, на тебя что-то сваливается, что-то хорошее. Просто надо верить в Бога, как вы думаете?
— Да, — сказал я. — Непременно. По крайней мере, сегодня я в Него верю, Анжела.
3
Стареющая Шмайдле, Херфордова секретарша, сообщила мне, что я могу прямо проходить в кабинет издателя, другие господа уже ждут. Когда я вошел в этот огромный кабинет, там были Хэм, Берти, Лестер и заведующий художественным отделом Циллер. Они сидели в углу, напротив монитора нашего кокпит-отдела.[129] И хотя здесь мы были на одиннадцатом этаже, из окна сочился все тот же сумрачный зимний свет, горело рассеянное освещение, и яркие лучи софитов светили на корешки книг. Все вместе создавало отвратительную ирреальную атмосферу — как в междуцарствии, в царствии между жизнью и смертью.
— Доброе утро! — бодро сказал я.
Хэм улыбнулся мне, Берти кивнул, остальные буркнули что-то невразумительное.
— В чем дело? — спросил я.
— Ждем, — ухмыльнулся Берти своей извечной ухмылкой.
— Господина и госпожу Херфорд и доктора Ротауга, — добавил Лестер.
— Разве их еще нет? — удивился я. — Шмайдле сказала, что…
— Они здесь, — перебил меня Лестер.
— Ага, — хмыкнул я.
Он с раздражением посмотрел на меня. Видно, все еще не мог забыть того, что я устроил ему десять дней назад.
— Они в покоях Херфорда, — объяснил мне Циллер. — Довольно давно. Когда мы пришли, в кабинете никого не было.
— И что они там делают?
— Понятия не имеем, — сказал Берти. — Мы уже с полчаса ждем.
— Н-да. — Лестер с негодованием посмотрел на меня.
— Н-да, н-да, — ответил ему я.
В этот момент послышался какой-то шорох, и одна секция книжных стеллажей отъехала в сторону. Там был проход в покои Херфорда, которые располагались между кабинетом и компьютерным залом. По нему шествовали Мамочка, Ротауг и сам Херфорд, серьезные и торжественные. Те, кто сидел, встали. Книжная секция с коротким «клик» вернулась на свое место.
— Досточтимая госпожа… — Лестер подлетел к Мамочке и поцеловал ей руку.
На ее плечи была наброшена ягуаровая шуба, на фиолетовых волосах — ягуаровая шляпа, из-под шубы виднелись черная юбка в складочку и кашемировый пуловер цвета верблюжьей шерсти, на шее — длинная золотая цепь с большим золотым кулоном, на ногах — сапоги со шнуровкой.
На Херфорде был фланелевый костюм. Ротауг, как обычно, был одет в черный костюм: белая сорочка с жестким воротничком, серебристый галстук с жемчужиной в узле. В этом уродливом освещении все походили на трупы.
Херфорд подошел к конторке с Библией, полистал ее, нашел нужное место и начал читать тихим, слегка охрипшим голосом:
— Из Книги Иова, глава первая: «Тогда Иов встал и разодрал верхнюю одежду свою, остриг голову свою и пал на землю и поклонился и сказал: наг я вышел из чрева матери моей, наг и возвращусь. Господь дал, Господь и взял; да будет имя Господне благословенно!»
И пока одни провозглашали «Амен», а другие помалкивали, я поглядел на Берти и Хэма, оба, приподняв в удивлении брови, кивнули мне. Далее события развивались еще более странно. Мамочка села. Все последовали ее примеру, включая Херфорда. Никто не промолвил ни слова. Херфорд достал из жилетного кармана свою золотую коробочку, набрал обычный ассортимент из синих, красных и белых пилюль. Он бросил весь этот набор в рот и запил водой. Золотую коробочку он не убрал назад в карман, а положил на стол. Это тоже был плохой знак.
— Господа, — начал издатель, поднявшись и расхаживая по своему кабинету-монстру. — То, что вам сейчас сообщит Херфорд, строго конфиденциально и должно оставаться между нами. Тот, кто нарушит это условие, будет отвечать не только перед Херфордом, он вполне может рассчитывать и на санкции государственных органов.
Вот таким было начало.
Мы все тупо уставились на него, а Мамочка запричитала:
— Ах, Боже мой, Боже мой!..
— Держитесь, милостивая госпожа, не падайте духом! — коротко сказал Ротауг и потрогал свой воротничок.
Наверное, все дело было в освещении — сегодня пигментные пятна на его голом черепе казались особенно темными.
Херфорд продолжал, мечась по кабинету:
— Мы сражались до последней минуты. Только что закончили последний телефонный разговор. Все кончено. Мы проиграли. Делать больше нечего. В первый раз с тех пор, как существует «Блиц», не выйдет очередной номер — тот, что завтра должен был поступить в киоски.
Молчание.
— Это номер с анонсом и фотографиями к «Предательству», — совершенно не к месту вставил Ротауг.
— Но… но… но… — Лестер был потрясен.
— Знаю, что все вы в ужасе, господа, — возвестил Херфорд. — Но не больше, чем я, поверьте мне! Мы не можем выйти! Уже в понедельник вечером от нас потребовали уничтожить весь тираж. Мы скрывали это от вас, чтобы не волновать понапрасну, пока доктор Ротауг еще видел шанс. Он вел переговоры. С тех пор он днем и ночью вел переговоры — до последнего, две минуты назад.
— С кем? — спросил Хэм.
— С приятным пожилым господином из Кельна, — последовал ответ Херфорда. — Тот говорил от имени американцев. И от имени правительственных учреждений. И он попросил — а вы знаете, что это значит, когда он просит! — номер не должен появиться в продаже.
— Но ведь вначале он ничего не имел против. И американцы ничего не имели, — не переставая улыбаться, сказал Берти.
— Вначале и ситуация была иной, — ответил Херфорд. — Когда пожилой господин из Кельна позвонил в первый раз, мы приостановили рассылку. Все упакованные отправления в грузовиках, железнодорожных вагонах и аэропортах были взяты под замок. Если бы мы этого не сделали, тираж ушел бы к оптовикам. А его никто не должен был видеть, пока дело не решено. То, что его видели те, кто выпускал, — с этим уж ничего не поделаешь. И теперь мы должны два миллиона тиража отозвать и уничтожить.
— Но почему? — ничего не понимая, спросил я.
Херфорд одарил меня взглядом сенбернара:
— Из-за вашей серии, Роланд.
— Ничего не понимаю! Перед тем, как мы с Берти вылетели в Нью-Йорк, новую серию все считали великолепной! Вы прочитали то, что во второй части?
— Нет.
— Вы вообще не читали?!
— Нет! — вдруг рявкнул Херфорд вне себя.
— Херфорд, — заныла Мамочка. — Херфорд, пожалуйста! Твое сердце. Подумай о своем сердце! И так все уже хуже некуда!
Херфорд кивнул, снова проглотил свои пилюли и уставился на монитор. На дисплее неожиданно зажглись зеленые буквы, складываясь в сообщение об интересе немецкой читающей публики к серии «Знаменитые художники и их модели». Так же внезапно экран погас.
— Идиоты! Это еще что такое?!
— Технические накладки, — изрек Ротауг и похрустел своими пальцами.
Что и говорить, уютная атмосфера.
— Господин Херфорд, — сказал Хэм, — давайте вернемся к делу. Я прочитал обе части. Я нахожу их превосходными. И мне абсолютно не понятно…
— Превосходное дерьмо! — заорал Херфорд. — Дерьмо, даже если бы их написал Гете! Многоуважаемым господам не бросилось в глаза, что один из наших членов отсутствует?!
Действительно, до этого момента я не обратил внимания. Да и другие, похоже, тоже.
— Господин Зеерозе, — прошипел Лестер.
— О Боже, Боже! — опять запричитала Мамочка.
— Господин Зеерозе, именно! — понесло Херфорда. — Мой друг Освальд Зеерозе, от которого в 1946-м я получил лицензию на «Блиц»! Мой добрый друг Освальд, который с понедельника сидит в Восточном Берлине!
— Который что?! — подскочил Циллер, а за ним и Лестер.
— Вы не ослышались! — Херфорд схватился за сердце. — Который быстро слинял, так быстро, чтобы его не зацапали из Ведомства по охране конституции или американцы.
— За что зацапали?! — воскликнул Лестер.
— За то, что мой старый друг Освальд Зеерозе уже двадцать лет как является самым важным и самым удачливым восточным шпионом в Федеративной Республике! — выдохнул Томас Херфорд.
4
После этого в кабинете надолго повисла тишина.
Нам стало не по себе, всем. Я посмотрел на Мамочку. Она сидела как в воду опущенная. Ротауг ответил на мой взгляд с нескрываемой враждебностью. Что бы это значило? Я-то при чем, что Зеерозе оказался двойным агентом?
— Что вы на меня волком смотрите, — немедленно среагировал я. — Я-то тут при чем, если вы попали впросак со своим Зеерозе!
— Я?! — возмутился Ротауг. — А вы нет? Это вы постоянно звонили Зеерозе и выполняли его указания. Это вы видели, как он тогда в Гамбурге входил на Ниндорфер-штрассе, 333!
— Упаду со смеху, — орал я. — В конце концов, он прилетел на фирменном самолете «Блица»! И вы знали, куда он летит! А тогда ночью он в присутствии вас всех сказал мне по телефону, что был у американцев!
Ротауг молча посмотрел на меня.
— А вы здесь не орите! — заорал на меня Херфорд.
— Херфорд, твое сердце…
— К чертям собачьим сердце! Он не имеет права орать здесь! Он — в первую очередь!
— Это он и Зеерозе подложили нам свинью, — вставил Ротауг.
— Правильно! — ласково промурлыкал Лестер. Наконец-то ему представилась возможность сладкой мести за нанесенное мной оскорбление. А переметнуться — ему было раз плюнуть.
— И господин Энгельгардт, — ледяным тоном закончил Ротауг.
Берти громко рассмеялся.
— Смейтесь, смейтесь! Очень смешно, да?! Уничтожить целый тираж! Миллионные убытки! На хвосте все секретные службы Германии! Неминуемый общественный скандал, если история с Зеерозе выплывет на свет! Непредсказуемые последствия для издания! Очень, очень смешно, господин Энгельгардт, да?!
— Безумно смешно, господин доктор, — ответил Берти и снова захохотал. Видно, его уже тоже достало. — И во всем виноваты Вальтер и я. Умру со смеху!
— Если бы вы только сподобились, — любезно пожелал ему Ротауг.
— Подождите, я ни слова не понял, — вклинился заведующий художественным отделом Циллер, который так любил подводные лодки и которому, по понятным причинам, дорога в рай была обеспечена. — Господин Зеерозе был же лучшим другом американцев! Он специально летал в Гамбург, чтобы обсудить с ними все детали. Они доверили ему свои секреты. И только тогда Роланд и Энгельгардт смогли начать работать.
— Да, мой бедный господин Циллер, — сказал Ротауг. — И только тогда и русские «смогли начать работать».
— Как это?.. Ах вон оно что!.. — теперь, когда до него дошло, Циллер испугался по-настоящему. — Этот кельнер, микрофон и все такое…
«Жюль Кассен! — подумал я. — Этажный обер-кельнер в „Метрополе“! Значит, тот действительно с самого начала был связным Зеерозе и просто дурачил меня своими изъявлениями благодарности, а потом ненависти в отношении своего бывшего шефа и всех немцев…»
— Да, господин Циллер! И все, что русским еще не было известно, например, где конкретно в Хельсинки будут развиваться события, ну, и еще кое-что поважнее — все выведал Зеерозе. А это дело с копиями микрофильмов…
— А с этим что? — спросил Лестер.
— Помните, Зеерозе сообщил нам той ночью, что американцы хотят, чтобы серия была опубликована при том условии, что мы будем утверждать, что у них есть копии пленок? Ну, или что у них, возможно, есть копии? Так вот, во время своего блицвизита в Гамбург Зеерозе убедился, что у американцев нет ни единой копии, ни одного документа. И естественно тут же доложил русским. Поистине милый человек!
— Ужасно! — сказал Циллер.
— Погодите, будет еще ужаснее, — «успокоил» Ротауг, — когда пойдут расследования по всем ведомствам. Как много знали господин Роланд и господин Энгельгардт о подлинных деяниях Зеерозе? Насколько далеко зашла их совместная деятельность? Как глубоки были…
— Господин доктор, — оборвал я его, — если вы еще хоть раз только озвучите ваши отвратительные подозрения, я привлеку вас к суду!
— Постарайтесь, чтобы вас самого не привлекли!
— Это гадко, господин доктор, — заметил Хэм.
— Вы полагаете? — осклабилась эта человекоподобная черепаха. — Интересно, господин Крамер, очень интересно. Вас тоже, естественно, будут проверять. Всех нас. Нам предстоит пережить самый тяжелый кризис со времен возникновения издательского дома. И дай Бог, чтобы нам это удалось!
— Амен, — проговорила совершенно убитая Мамочка.
— Все, эта серия приказала долго жить, — сказал Херфорд. — И больше нет смысла попусту тратить слова. Пожилой господин из Кельна только что недвусмысленно объяснил это Ротаугу. Если появится хоть одно слово, одна фотография — немедленно бойкот всех рекламодателей, и американских тоже. И во всех отношениях полный бойкот! Так, фото на обложку с этим проклятым чешским мальчишкой уже полетело — срочно взять какую-нибудь девицу в бикини. Слава Богу, запасов у нас хватает! Крамер, за вами новый материал вместо «Предательства». Как можно быстрее. Лестер вам в помощь. Ну и кашу вы нам заварили, Роланд!
Лестер не удержался:
— Н-да, заставь дурака богу молиться — весь лоб расшибет!
— Цыц! — во всеуслышанье цыкнул я на главного редактора.
Тот взвился, в прямом и переносном смысле.
— Это неслыханно! — завизжал он. — Все слышали, все слышали, господа?! Я требую, чтобы этот… этот человек немедленно передо мной извинился!
— Да сядьте вы, Лестер, — отмахнулся Херфорд. — Извинитесь, Роланд.
— Нет.
— Да извинитесь вы, черт подери!
— И не подумаю.
Потому что вдруг я понял, что с меня хватит. Окончательно и бесповоротно.
В такие моменты чего только не приходит в голову! Я почему-то вспомнил детский стишок, услышанный в одной лондонской школе, которую я как-то посетил по поводу своего репортажа. Он звучал так:
«I think I am an elephant, who is looking for an elephant, who is looking for an elephant, who is looking for an elephant, who is’nt really there».
«Я думаю, я — слон, который ищет слона, который ищет слона, который ищет слона, которого и вовсе нет…» Столько лет я думал, что я — слон, который ищет слона, который ищет слона, который ищет слона — и в конце концов найдет его!
Найдет!
Ради этого были все мерзости, все говно, которое я писал — чтобы однажды найти все-таки моего слона! И я полагал, что нашел его — мою историю! Мою историю! И теперь она не будет напечатана. Она не должна быть напечатана. Да, я видел, признавал это. Но так же ясно я увидел и другое: в этой индустрии можно было искать, искать и искать — но никогда не найти слона. Потому что слона здесь вовсе не было!
— Вы не подумаете извиниться?! — орал Херфорд.
— Нет!
Херфорд подступил ко мне. Он поднялся на носочки. Я смотрел на носки своих ботинок. Меня вдруг обуяла такая ярость, такая слепая ярость, как никогда в жизни. Костяшки моих пальцев побелели — так я вцепился в подлокотники кресла, чтобы не вмазать Херфорду и Лестеру по их мордам. Херфорд, должно быть, почувствовал это, он резко отступил и снова начал метаться по кабинету.
— Ладно, — пробормотал он. — Ладно, хорошо. Удары судьбы. Не будем перед ними склоняться. Господь нам поможет. Теперь мы должны собрать все силы, господа! «Мужчина как таковой» должен нас вытащить. Фото для обложки — просто фантастика! Роланд приложит все усилия, чтобы исправить создавшееся положение, и снова великолепно писать. Немедленно. Не теряя времени. Сейчас это наиважнейшая задача. The show must go on.[130] Я напишу обращение к читателям и объясню, почему не вышел этот номер. Ротауг мне напишет, у него это здорово получается.
— С удовольствием, господин Херфорд, — вякнул этот моллюск.
Я поднялся и сказал:
— Я не буду писать «Мужчину как такового», господин Херфорд.
Мне было не по себе, но это заметил только Хэм.
— Еще как будете! — взвыл Херфорд.
Не выбирая, он выхватил пилюли из баночки и проглотил, не запив водой. Он поперхнулся, потом продолжил:
— Вы у Херфорда на договоре! Это Херфорд сделал из вас то, что вы сейчас есть! Это у Херфорда вы и научились писать! Так что больше ни слова, поняли?!
— Больше ни слова, да. Я не буду писать больше ни слова.
Он, поджав губы, смерил меня уничтожающим взглядом.
Я ответил ему кривой усмешкой.
Он тихо прошипел:
— У вас долгов больше чем на двадцать тысяч.
— Да, — сказал я.
— Вы живете в квартире, принадлежащей издательству.
— Да, — сказал я.
— У вас баснословный оклад. Скажите еще раз ваше «да», и Херфорд не знаю что с вами сделает! Роланд, сукин сын, вы будете писать «Мужчину как такового» и так, как еще никогда не писали! Или, видит Бог, Херфорд… Херфорд…
— Да? — сказал я. — Или вы вышвырнете меня, это вы хотели сказать? Ну так, вышвыривайте меня, господин Херфорд! Ну, давайте, давайте!
Он задрожал всем телом:
— Вы, сучье отродье, грязный, подлый выродок! Что вы о себе думаете? Если Херфорд вышвырнет вас, думаете, вас куда-то возьмут?! Вы так думаете?! Ха-ха-ха!
— Херфорд, Херфорд, пожалуйста!..
— Ха-ха-ха! — разразился Херфорд неистовым смехом и бушевал дальше: — Если Херфорд вас вышвырнет, то ни в один иллюстрированный журнал — да что там в журнал — в жалкую газетенку, в последний бульварный листок вас никто не возьмет! Мы им такое порасскажем, что никто просто не отважится взять вас! Вас, жалкого пропойцу! Вас, бабника! Вас, политического двурушника! Это вас проучит! Будете голодать, если Херфорд вас выкинет, поняли? Херфорд уничтожит вас! Слышите, Херфорд уничтожит вас! Слышите?!
— Слышу. Вы уничтожите меня, господин Херфорд. Было достаточно громко сказано. Что ж, пусть дойдет до этого. — Мое сердце колотилось с неимоверной силой. Сейчас, именно сейчас я должен решиться. Сейчас или никогда. Если я этого не сделаю, я больше никогда не смогу посмотреть Ирине в глаза. — Я не напишу для вас больше ни строчки, господин Херфорд!
— Подлый, неблагодарный подонок! — взвизгнула Мамочка.
Ротауг промолвил ледяным голосом:
— Вспомните, господин Херфорд, что я вам сказал однажды, много лет назад…
Не знаю, вспомнил ли Херфорд, но я-то вспомнил: «…Роскошный мальчик, но, попомните мое слово, однажды благодаря ему вы поимеете самый страшный скандал в истории нашего издательства…»
Ах ты, хитрая лиса Ротауг, ты, знаток человеческих душ! Вот мы и приехали!
— Все, с меня довольно! — неистовствовал Херфорд, пунцовый от гнева. — Ввиду вашего непотребного поведения объявляю вам увольнение без предупреждения…
Я посмотрел на Берти и Хэма. Берти ответил мне печальным взглядом, Хэм на мгновенье прикрыл глаза. Это значило, что они одобряли все, что я тут говорил и делал. Да, это было единственно возможное, что я мог сделать. Я сказал:
— Вам незачем объявлять мне об увольнении, Херфорд. Я ухожу. Я! Немедленно. Описывайте мое имущество! Подавайте на меня в суд! Ославьте меня! Делайте, что хотите! Но с меня довольно! По гроб довольно! Оставайтесь с миром! Хотя нет, мира вам не видать! — Я двинулся по нескончаемому ковру к выходу.
— Роланд! — взревело позади меня.
Я не сбавил шага. «Хва-тит, хва-тит» — колотило мое сердце.
— Роланд! Остановитесь! Стойте!
Я шагал дальше. Ко-нец. Ко-нец. Ко-нец, наконец!
— Роланд, остановитесь!
Я остановился. Я повернулся.
Он стоял там, за своим столом, задыхающийся, рука прижата к груди, мертвенно бледный, и снова хватался за свои пилюли. Мамочка подбежала к нему и схватила его за руку.
— Херфорд требует, чтобы вы незамедлительно… — превозмогая себя, начал Херфорд.
Но я перебил его, твердо, негромко:
— Господин Херфорд…
— Да… что?..
— Поцелуйте мою задницу, господин Херфорд! — сказал я, повернулся и быстрым шагом вышел из кабинета.
И мне казалось, что с каждым шагом с меня слетают ошметки ненависти, вины, унижения этих лет, всех этих лет, что я прожил в этом стойле, в этой насквозь прогнившей «фабрике грез» на потребу массовому оглуплению, в этой роскошной тюрьме со сроком в четырнадцать лет.
О да, я чувствовал себя великолепно. Как никогда раньше. Только в существование всемилостивого Господа я больше не верил, как это было всего лишь час назад.
5
Уведомление об увольнении без предупреждения, подписанное доктором Ротаугом, в котором мне предлагалось на следующий день, к десяти часам явиться в издательство, пришло с нарочным еще в тот же день. Ирина жутко испугалась, но я успокоил ее — я все еще пребывал в состоянии эйфории. «Никакого „Блица“! Больше никакого „Блица“! Все остальное еще сложится», — думал я.
Все остальное и сложилось — и как!
На следующий день, войдя в издательство, я дружески поздоровался с портье, великаном Клуге, с которым был знаком уже много лет — он на моих чаевых мог бы сколотить состояние. Но господин Клуге странным образом не узнал меня и заставил несколько минут простоять, пока он вел беседу с другими посетителями. Потом:
— А, господин Роланд… — окинув меня равнодушным взглядом, он поискал в своем списке. — Вы уволены без предупреждения — стоит здесь. Позвольте ваш ключ от лифта.
— Послушайте, как вы со мной разговариваете?!
— Господин Роланд, пожалуйста, ваш ключ!
Я подал ему ключ от «бонзовоза» — он даже спасибо не сказал, а повернулся к некой юной даме, которая начала ему объяснять, что поступила сюда в качестве волонтерки.
Я прошел к «пролетчерпалке», перед которой уже стояли семеро, и вместе с ними стал терпеливо ждать, когда же, наконец, придет убогий подъемник. Он пришел через четыре минуты. Мы все втиснулись в кабину, в которой жутко воняло, и вот таким образом я поднялся в отдел доктора Ротауга. Все, с кем я ехал, старались не смотреть мне в глаза. Никто не проронил ни слова.
Ротауг заставил меня ждать ровно полтора часа, пока, наконец, не нашел для меня времени. Когда я вошел в его кабинет, отделанный красным деревом, он стоял навытяжку, подтянутый и враждебный. Руки он мне не подал. Он указал мне на самое неудобное кресло, и когда я сел, принялся расхаживать по своему кабинету на прямых негнущихся ногах. Так он и маршировал в продолжение всего разговора, то и дело дергая свой воротник или дотрагиваясь до великолепной жемчужины в галстуке. Он был исполнен ледяной сдержанности и великого триумфа. Он всегда терпеть меня не мог и теперь явственно выражал это.
Это был милый разговор, ничего не скажешь!
Ротауг потребовал от меня во-первых, вернуть аванс в двести десять тысяч марок, во-вторых, немедленно освободить принадлежащую издательству квартиру.
— У меня нет двухсот десяти тысяч марок, это вам доподлинно известно.
— Разумеется, известно, господин Роланд. — Он все чаще останавливался, слегка раскачиваясь. Вот и сейчас. — У меня нет на вас времени, я слишком занят. Существуют две возможности…
Он озвучил их мне.
Первая состояла в том, что издательство предъявит мне иск. Я проживаю в служебной квартире, наши отношения, вытекающие из трудового договора, разорваны в результате моего «исключительно беспардонного поведения», таким образом, я более не обладаю правом на проживание в пентхаузе. Суд присудил бы мне все личное имущество — за исключением полагающегося по закону минимума — передать в собственность издательству, чтобы хотя бы частично погасить мою задолженность. После этого я как должник должен буду дать в суде показания под присягой о своем имущественном положении, затем будут производиться постоянные проверки судебными исполнителями, которые имеют право накладывать арест на деньги, возможно заработанные мною в этот промежуток времени — также за исключением прожиточного минимума.
— А так как вряд ли приходится ожидать, что вы в обозримом будущем будете располагать значительными денежными суммами, — продолжал Ротауг, — советую вам использовать вторую возможность — возможность, представляющую собой не заслуженную вами уступку со стороны издательства.
— А именно?
— Вы признаете ваши долги. В течение десяти дней вы освобождаете служебную квартиру. Разумеется, мебель, ковры и прочее остается в нашем распоряжении. Равно как и банковские счета и драгоценности. Ну, и ваша машина, естественно. Все это, конечно, не покроет двухсот десяти тысяч. — Ротауг раскачивался. Он почти дошел до оргазма, так возбуждал его наш разговор. — У нашего нотариуса вы подпишете признание долгов — ваше имущество будет оценено и вам будет предъявлен только остаток долга — затем исполнительный лист. В вашем случае Херфорд в своем великодушии, которое мне совершенно непонятно, готов оставить вам вашу одежду, пишущую машинку, некоторую часть вашей библиотеки и еще кое-какие мелочи. Я советую вам принять это не заслуженное вами любезное предложение издателя. Итак, ваш ответ? Пожалуйста, решайте быстрее. Я очень спешу.
Свинья, торопится подлец.
— Я принимаю любезное предложение господина Херфорда, — сказал я.
— Хорошо. И еще: мы спишем большую сумму — большую, учитывая ваше отчаянное положение, — если вы выразите готовность передать «Блицу» ваш псевдоним «Курт Корелл»! Для дальнейшего его использования.
Я молчал, сжав кулаки.
— Ну, — спросил он, раскачиваясь.
— Чтобы вы могли украсить им «Мужчину как такового», да?
— Естественно, — усмехнулся он. — Корелл — это имя, для этого оно нами и создано. Без нас и нашей поддержки вы бы так и остались нулем без палочки. Итак?
— Нет.
— Вы не передаете нам псевдоним?!
— Нет.
— Ни при каких условиях?
— Ни при каких условиях, — подтвердил я, охваченный внезапной яростью. — Корелл должен исчезнуть, навсегда! Должен, должен, должен!
— Ни за какую сумму?
— Ни за какую! Забудьте о нем! Это имя принадлежит мне. И вместе со мной оно исчезнет. Если же вы посмеете его использовать вопреки моей воле…
— Ну-ну-ну! Вы совсем обнаглели, без этого вы не можете! Обойдемся и без Курта Корелла, а вот сможете ли вы без нас обойтись, очень сомневаюсь. А теперь, будьте любезны документы на машину и ключи. «Ламборджини» прямо сейчас остается здесь. А во второй половине дня я приду к вам с официальными оценщиками, и еще посмотрим, чего стоит ваше имущество! Само собой разумеется, в то же время вы передадите мне все магнитофонные записи, относящиеся к последнему делу, что вы расследовали, и всю письменную документацию по нему. Ваша чековая книжка у вас с собой?
— Да.
— Позвоните в банк и попросите сообщить вам состояние вашего счета. Я буду слушать по параллельному телефону.
Я позвонил. И потому как фройляйн, обслуживающая мою группу счетов, знала меня по голосу, я незамедлительно получил справку. Ровно двадцать девять тысяч дойчмарок — я как раз должен был снять большую сумму для выплаты налогов.
На сумму в двадцать тысяч доктор Ротауг заставил меня выписать чек и забрал его. Девять тысяч дойчмарок он великодушно оставил мне.
— Других счетов у вас нет?
— Нет.
— Я предупреждаю вас. В случае если вы солгали, и мы обнаружим еще какой-то счет, мы подадим на вас в суд. Теперь вы должны подписать заявление под присягой.
Я просто кивнул.
Мысль, как можно быстрее переписать все кассеты, пришла в голову Берти. Он занимался этим всю ночь. Хэм сделал фотокопии со всех моих записей.
— Сегодня ваше имущество будет оценено, завтра вы должны явиться к нашему нотариусу, хоть это и выходной день, — скорбно заявил Ротауг. — Он примет вас. Это все. С оценщиками я буду у вас в три.
С тем он и покинул свой кабинет. Я поднялся и пошел — ни одна из секретарш не ответила на мое приветствие — к «пролетчерпалке», на которой и спустился вниз. И сейчас все, кто ехал со мной, избегали смотреть на меня. Я спустился в подземный гараж, погладил напоследок свой «Ламборджини» и, не оглядываясь, вышел. Весь обратный путь до дома я прошел пешком. День был холодный, и я с наслаждением вдыхал свежий воздух. И еще одна мысль доставляла мне удовольствие: в пентхаузе, который пока что оставался моим, был встроенный стенной сейф. Там обычно я хранил деньги и мои три неоправленных чистой воды бриллианта больше чем на три карата, которые я теперь передал на хранение Берти, как и двенадцать тысяч марок.
Ирина приготовила печень по-португальски и храбро встретила меня веселым выражением лица. Я тоже изобразил полную беспечность. Да, собственно, так оно и было. И еще у меня разыгрался жуткий аппетит.
Ровно в три — теперь Ирину уже не охраняла криминальная полиция — явились трое оценщиков в сопровождении Ротауга. Оценщики были холодно-невозмутимыми ребятами. Работали они споро. Я нимало не был удивлен, когда они дали заключение, что все, чем я владею, не представляет никакой ценности. Один из них, который занимался «Ламборджини», оценил его в пятнадцать тысяч марок, как сообщил мне Ротауг. Это было бессовестно, авто стоило, по меньшей мере, пятьдесят восемь тысяч. Но что я мог поделать?!
Вместе с оценщиками Ротауг произвел инвентаризацию всей квартиры, потом они долго подсчитывали, и, наконец, Ротауг поставил меня в известность, что после всего за мной остается еще сто двадцать пять тысяч марок. Магнитофонные записи и блокноты, которые Берти и Хэм, слава Богу, вернули вовремя, он забрал с собой. На следующий день я вместе с ним побывал у нотариуса и послушно подписал долговое свидетельство и инвентарный лист, а также заявление под присягой, что никаких ценностей или побочных доходов я не укрываю. Это заявление я подписал с легким сердцем.
Мы с Ротаугом получили каждый по экземпляру всех бумаг, по одному осталось у нотариуса — оплачивать все полагалось, естественно, мне.
Я должен упомянуть еще две вещи. Гардероб, который Мамочка отказала Ирине, не был изъят, счет за него был оплачен издательством автоматически, без осложнений, как и счета за пребывание фройляйн Луизы в палате первого класса в психиатрической клинике. В таком монстре, как «Блиц», подобное иногда случается. Какой-нибудь маленький клерк получает однажды поручение, которое потом забывают отозвать, и тот продолжает исполнять это поручение дальше, как ему и было сказано…
Канцелярия нотариуса располагалась на втором этаже учреждения, и в конце концов, доктор Ротауг и я вместе спустились оттуда по широкой лестнице. Не проронив ни слова, Ротауг повернул налево к своему автомобилю, а я пошел направо, к ближайшей трамвайной остановке. Так закончилась моя четырнадцатилетняя карьера звезды «Блица». Вполне достойный конец, как мне кажется.
Я возвратился в пентхауз, который еще девять дней будет принадлежать нам. Я держался бодро, Ирина тоже изображала беспечность, и оба мы делали вид, что нет никаких забот и проблем. Что все снова будет хорошо. Забавно, если так не будет.
Так я и думал до того момента, как получил вечернюю почту.
В Германии есть внутренняя издательская пресс-служба, которая публикует последние новости и сплетни в нашей отрасли. Все мы получаем эти листки. С вечерней почтой пришла последняя рассылка. Херфорд действовал необычайно быстро. Во всяком случае, в этом последнем выпуске внутренних издательских новостей целых две страницы под рубрикой «последние сообщения» были посвящены мне. «Конец Вальтера Роланда?» — гласил заголовок. И в том же юридически заковыристом стиле, как этот заголовок, был составлен весь текст сообщения: от «кажется, что…», «очевидно, это свидетельствует о том, что…» до «как говорят…». Каждое предложение было, так сказать, защищено от ответных обвинений и заправлено такой гнусью, какой я и предположить не мог, хотя уже многого ожидал от этой индустрии. Здесь Ротауг превзошел самого себя.
В свете последних событий в «Блице» выходило с полной неопровержимостью, что, «как давно уже ожидалось», «о чем уже давно шли разговоры», алкоголь сгубил-таки мою так блестяще начинавшуюся карьеру. Я превратился в невменяемого, аморального, неблагонадежного, абсолютно не заслуживающего доверия необузданного пьяницу на грани полного падения и больше не способного писать так, как раньше. В крайне непотребной форме я оскорбил своего издателя, который предъявил мне вполне обоснованные упреки, и тот, с тяжелым сердцем, был, в конце концов, вынужден расстаться с «человеком, который когда-то был звездой, а теперь стал представлять собой постоянную угрозу срыва очередного номера журнала» в форме увольнения без предупреждения. И все в таком духе на полные две полосы.
Я перечитал все еще раз, выпил и подумал, что должен, конечно, подать с суд на это издание и на «Блиц» заодно. Но тут же подумал о том, чего я добьюсь этим, конечно, предусмотренным Ротаугом и его службами иском. «Блиц», вне всякого сомнения, в продолжение долгого времени не упускал возможности делать значительные денежные вливания в этот листок и определенно пообещал ему всяческую поддержку в случае возбуждения судебного процесса. Я был абсолютно уверен — и эта уверенность зижделась на опыте бесчисленных дискредитирующих кампаний в мою бытность в «Блице», — что Херфорд собственноручно просчитал шансы проиграть процесс с вытекающими отсюда обязательствами дать опровержения в прессе. Однако пока процесс придет к своему завершению, пройдут долгие месяцы — месяцы, в продолжение которых все измышления листка будут оставаться неопровержимыми. А это для Херфорда в его жажде мести было главным! Ему было наплевать на возможные расходы за моральный ущерб. (Я и так ему достаточно задолжал.) А может, «Блиц» и вообще ничем не рисковал, потому что то, что там утверждалось, было отчасти правдой. И даже в том случае, если бы я выиграл и они обязаны были бы опубликовать опровержение, что я бы выиграл по истечении всех этих месяцев? Кто вообще в этой отрасли принимает во внимание разного рода опровержения?! Меня уволили без предупреждения, и на это возразить нечего. Все остальное в нашем деле никого не волнует. В конце концов, должен же быть весомый повод, чтобы Херфорд сподобился вышвырнуть без предупреждения своего ведущего автора! По крайней мере, мне стало ясно, почему никто из конкурирующих фирм и вообще никто не сделал мне предложения сотрудничать с ними. Должно быть, люди Херфорда предварительно распространили по телефону то, что теперь было опубликовано в этом листке для внутреннего пользования. Впервые мне стало по-настоящему муторно. А потом медленно, шаг за шагом, меня обуял страх, который лишил меня дыхания, заставил судорожно схватиться за горло, смертельный страх, парализующий волю и погружающий в полное бессилие. Это, без всякого предупреждения, нагрянул мой «шакал».
То, что последовало за этим, я не забуду до конца своих дней, хоть проживи я сотню лет. Все началось, как обычно. Я проглотил двадцать миллиграммов валиума, лег в постель, крайне осторожно, на спину, и попытался глубоко дышать, чтобы не потерять самообладания и контролировать свои страхи, как это было во всех подобных случаях. Ирина бросилась ко мне, страшно перепуганная. Заплетающимся языком я пролепетал, что такое случается время от времени… от пьянства… и что никакого врача не нужно, и так о том, что я пьяница, судачат все кому не лень. И что врач — совершенно ни к чему — упечет меня в какое-нибудь заведение, и тогда все станут тыкать в меня пальцами, и я больше никогда не смогу устроиться на работу… И хотя она была страшно перепугана, все же пообещала мне не вызывать врача… А потом я попытался заснуть. Но из этого ничего не вышло. Учащенное сердцебиение, прерывистое дыхание, слабость с приступами тошноты усиливались с угрожающей частотой. Я начал потеть (такого еще не было!) от ладоней до груди и кончиков волос. И эти мои влажные от пота руки предательски дрожали. Но в приступе упрямства и отчаянной решимости я не принял ни глотка виски, а снова двадцать миллиграммов валиума, а затем еще раз двадцать. После этого я наконец погрузился в сон, наполненный кошмарами, о котором помню только лишь потому, что едва не умер от страха. Когда я снова проснулся, Ирина сидела у моего изголовья и стирала мне пот со лба. Она дала мне выпить фруктового сока, и я снова проспал три часа. Только три часа с шестьюдесятью миллиграммами валиума!
Мне надо было выйти, и я чуть не упал. Ирина поддержала меня. В туалете мне стало плохо, и меня со страшной силой вырвало, хотя я ничего не ел. На голодный желудок я снова решил принять валиум, но стеклянная трубочка выскользнула у меня из рук и разбилась. Ирина собрала маленькие голубые таблетки и подала мне. И отвела меня в мою постель, которую перестелила, потому что вся она насквозь пропотела.
Ирина.
Когда я снова очнулся от моих кошмарных снов, она сидела рядом, давала мне еду и питье и силой заставляла съесть и выпить, несмотря на то что я тут же все извергнул. И я потащился, нет, она потащила меня в ванную и обратно, и снова перестелила мою постель, ни слова не говоря, но неизменно улыбаясь, хотя я видел, что в глазах у нее стояли слезы.
Ирина.
Не знаю, как она умудрялась не спать, но она не спала — всякий раз как я открывал глаза. Она притащила матрацы с постели из гостевой и постельные принадлежности, и все они лежали у моих ног, и Ирина сидела на них рядом, совсем рядом, как только я приходил в себя.
Ирина.
Я приходил в себя, но это не было настоящим бодрствованием, в моем сознании все путалось, и даже в мгновения моего пребывания в этой реальности я продолжал блуждать по отвратительным событиям своих снов, которые меня преследовали. Сны, сны, сны и во сне и наяву. Они вторгались в реальность и порой я орал на Ирину, проклинал ее, кричал, что ненавижу ее, что она должна исчезнуть. Ирина ни разу не приняла это всерьез.
Ирина.
Вдобавок к валиуму, который я поглощал в неимоверных количествах (потому что говорил себе, что это дерьмо все-таки всегда прогоняло «шакала»), я еще принимал всевозможные снотворные. Но сны становились все страшнее, я метался в поту, меня колотило от озноба и от страха. Мои глаза отказывали мне. Я видел свою комнату то невообразимо большой, то невозможно маленькой, моя кровать то и дело разворачивалась не в том направлении, что на самом деле, а вещи меняли свою форму и цвет, даже лицо Ирины.
— Может, я все-таки принесу тебе виски? — осторожно спросила она где-то к началу Третьей Бесконечности, наверное, на второй день.
— Нет, — вымолвил я, и слюна потекла у меня по подбородку. — Нет. Нет. Нет. Не хочу. Должно так пройти. «Шакал» должен так убраться. Дай мне валиум.
Она дала мне валиум, но «шакал» не убирался, а мое состояние становилось все ужаснее. Мне виделись ад Брейгеля и ад Данте,[131] вместе взятые, да что там они! — они были ничто по сравнению с моим собственным адом, который не отступал, даже когда я приходил в себя. Я уже мог передвигаться только с Ирининой помощью, ей приходилось меня поддерживать, а то и держать, даже в туалете. И она делала это. Я страшно стеснялся, но она ни разу не выказала ничего, кроме заботы и сочувствия, ни раздражения, ни отвращения, даже при самых жутких вещах, когда я разразился поносом и страшной рвотой и все вокруг загадил. Она просто все убрала.
Ирина.
Мои видения становились невыносимыми. От меня несло вонью из пасти «шакала», который лежал возле меня в постели и лизал мое лицо и душил меня почти до смерти.
Потом снова появлялась Ирина — с фруктовым соком или бульоном, или куском белого хлеба, намазанным маслом и медом. Она не успокаивалась, пока я не съедал или не выпивал, что бы после этого ни случалось. Я уже не различал электрический и дневной свет, не знал день сейчас или ночь и должен был спрашивать Ирину.
Под конец второго дня у меня остановилось сердце.
Понимаю, что на самом деле оно не остановилось, иначе бы я умер, но ощущение было такое, самое отвратительное ощущение, какое мне пришлось когда-либо пережить. Вокруг все потемнело, широко открытым ртом я хватал воздух, воздух, воздух, — но воздуха не было, я прижал мокрые руки к мокрой груди, и последнее, что я еще помню, — мое тело скрутило, и я захрипел: «Помогите… помогите… помогите…»
Потом обмяк и упокоился.
Покой. Покой. Покой.
7
Два следующих дня выпали из моей жизни.
Я преодолел их, но все, что я о них знаю, я знаю от Ирины, которая бодрствовала у моей постели час за часом, ни на минуту не оставляя меня одного.
Позже Ирина сказала мне, что я спал эти два дня и две ночи, но постоянно кричал во сне и метался по постели. Время от времени я просыпался, и тогда она водила меня в туалет или давала мне есть или пить, да, я даже, сидя на стуле, побрился.
Обо всем этом я не имел ни малейшего представления, когда на четвертый день пришел в себя. Но определенно так оно и было, потому что я был гладко выбрит, на мне была свежая пижама, постель была чистой, а у моих ног на импровизированной постели, прямо на матрацах, одетая задремала измученная Ирина. Горел электрический свет. Едва лишь я пошевелился, она тут же вскочила — на губах неизменная улыбка.
— Как… как ты?
— Лучше, — ответил я, безмерно удивленный. — Кажется, мне лучше.
Она издала торжествующий клич, побежала в кухню и вскоре вернулась с легкой закуской. Во время еды, сидя в постели, я чувствовал еще сильную слабость, меня пробил пот, руки дрожали. Но «шакал», это я тоже почувствовал, несколько отступил. Я снова принял неимоверное количество валиума и заснул до утра. Я проснулся в час, и уже смог в первый раз самостоятельно дойти до ванной, хотя мне и приходилось держаться за стены и то и дело останавливаться. У меня дрожали колени, пот катил градом по всему телу, но я побрился стоя и сам помылся. Потом я добрел до постели и без новой порции лекарств провалился в глубокий сон без сновидений. На этот раз я проспал двадцать четыре часа, потому что, когда я проснулся в следующий раз, было уже утро пятого дня. Четверг, 28 ноября 1968 года — эту дату я никогда не забуду.
За окном брезжил серый рассвет, в комнате горела лампа, а Ирина спала на своих матрацах и на этот раз даже не проснулась, когда я поднялся. И тут случилось чудо. Я твердо стоял на ногах, мог идти, не держась за стены, мне больше не было плохо, я не потел, сердце билось ровно, я свободно дышал. И я был жутко голоден!
Я отправился в ванную, потом на кухню и приготовил грандиозный завтрак для себя и для Ирины. И пока я ждал, когда закипит вода для кофе, мне кое-что пришло в голову.
Я пошел к бару и в кладовку, достал виски и все спиртное, какое там только было, сложил бутылки в раковину, а потом взял тяжелый молоток и перебил их одну за другой. Под конец я аккуратно собрал все осколки. И меня снова — в последний раз — вырвало, когда я смывал алкоголь и нанюхался его. Я чистил в ванной зубы, когда заметил, что кто-то за мной наблюдает.
Это была Ирина.
— Думаю, все прошло, — сказал я.
Она подлетела ко мне, бросилась на шею и осыпала поцелуями, то и дело повторяя: «Спасибо, спасибо, спасибо…»
Только «спасибо».
Я спросил, кого она благодарит. Я тоже Его поблагодарю.
Мы завтракали на кухне — я с большим аппетитом — и дурачились, и смеялись беспрестанно. Эти пять дней, самых страшных дней в моей жизни, были позади!
Позже я спрошу доктора Вольфганга Эркнера, возможно ли такое вообще. И он ответит, что вполне возможно, если на определенной стадии далеко зашедшего алкоголизма случаются тяжелые душевные потрясения, если человека вырывают из привычной среды, но в то же время он и освобождается от гнетущего психического бремени. Однако лечить такие состояния в домашних условиях — это редко кончается добром.
Я пишу эти строки не для того, чтобы морально возвысить себя или выступить тут миссионером, нет, просто потому, что иначе в этой книге будет чего-то не хватать.
Но с того 28 ноября и по сей день я не принял ни единой капли алкоголя, ни в каком виде. И «шакал» больше никогда не возвращался.
8
Хэм забрал нас с Ириной к себе, в свою огромную квартиру.
Он отвел нам две комнаты — спальню для нас с Ириной и вторую — для моей работы. Когда мы выезжали из пентхауза, двое служащих следили по инвентарному листу Ротауга, чтобы мы не прихватили с собой ничего лишнего. Так что взяли мы с собой немного — все убралось в пару чемоданов. На «мерседесе» Берти мы перевезли чемоданы, книги, мои костюмы и Иринин гардероб к Хэму — хватило трех ездок. Ключ от квартиры я обязан был вручить этим служащим, но взамен получил новый — от Хэма. Мы переезжали в понедельник, после первого адвента,[132] в первый раз шел снег. Снежинки были сухие и ложились на землю, не тая. Квартира у Хэма была обставлена в античном стиле. В спальне стояла большая двуспальная кровать, в которой он когда-то спал с женой. Теперь он спал в другом конце квартиры.
Мы с Ириной остались вдвоем. Понедельник — день сдачи номера, и Берти с Хэмом были заняты в редакции. Я знал, что домой Хэм вернется поздно. К вечеру я занервничал, и мое беспокойство все нарастало, потому что я не мог отделаться от мысли о том, что мне предстоит спать с Ириной в одной постели. Это были нелегкие раздумья. Я убеждал себя, что мы с Ириной любим друг друга, и было бы вполне естественно сделать и это. Но потом снова возвращался к тому, что ребенок, которого она носит во чреве, вовсе не от меня, а от другого мужчины. Я бы с превеликой радостью переспал с ней, но должен был думать обо всем, что произошло, и когда дальше уже невозможно было тянуть, я отправил Ирину первой в ванную, а потом купался сам и все обдумывал, как скажу ей, что вполне могу справиться с собой и подождать, пока ребенок не родится, даже если и придется ждать еще полгода. Правда, я не был уверен, что выдержу это, ночь за ночью лежать подле нее. Но в конце концов, если уж станет совсем невмоготу — был еще диван в кабинете!
И я пошел к Ирине. Она выключила весь свет, кроме ночника у кровати, и лежала там совсем нагая.
— Иди ко мне, Вальтер, — сказала она и раскрыла объятья.
И стало так просто, и все было так хорошо и все как положено. У меня было такое чувство будто я еще никогда в жизни не любил, и мы делали это снова и снова, и я совершенно забыл себя, и Ирина тоже. Это было чудесно, то, чего я так боялся. Это было самое чудесное из всего, что я испытал в своей жизни. Один раз, когда я изливался, мне показалось, что я умираю, и я был бы счастлив умереть так, но нельзя, потому что теперь у нас был ребенок.
Наконец, Ирина, утомленная, заснула в моих объятьях. А я еще долго лежал в темноте и был несказанно счастлив. Потом, должно быть, тоже заснул, потому что, когда я почувствовал какое-то движение и открыл глаза, Ирина сидела возле меня на постели, сложив руки.
— В чем дело, любимая, — нежно сказал я. — Тебе хорошо?
— Мне волшебно.
Я тоже сел.
Огни города освещали снаружи большое окно, шторы мы не закрыли, и было видно, как медленно падают снежинки.
— Что ты там делаешь? — спросил я, обняв ее за плечи.
— Я молилась. — И быстро добавила: — Только не спрашивай, о чем.
— Нет, не буду.
Мы долго молчали, а потом Ирина тихо промолвила:
— Это неправда.
— Что неправда?
— То, что ты сказал в Гамбурге. Что в этом мире есть только подлость.
— Я так сказал?
— Да. И это неправда! Есть и дружба, и порядочность, и любовь… Не говори ничего! — А потом прошептала: — Потому что, если бы на земле была только подлость, уже давно, давным-давно, на ней больше не было бы людей. Ни единого человека. А на свете много людей, бесконечно много…
И потом мы снова долго молчали, и я обнимал Ирину за плечи, и мы смотрели на окно, за которым бесшумно и нескончаемо падал снег.
9
— Господин Роланд! — Фройляйн Луиза встретила меня сияющей улыбкой. — Как хорошо, что вы снова здесь! Я уже начала по вам скучать.
— Я не мог прийти раньше. Я был несколько дней болен…
— Больны?
— Ничего серьезного. Но потом я был очень занят. А то бы, конечно, пришел раньше.
Я сидел за столиком напротив фройляйн Луизы в ее большой палате. На ней был старый серый костюм и шлепанцы. Во дворе, на земле и на голых ветках каштана лежал тонкий слой снега. Было слишком холодно, чтобы снег мог идти дальше.
— А из лагеря вас никто не навещал за это время?
— Как же! Навещали. Господин пастор и господин Кушке, шофер — были у меня по разу. Принесли мне еще кое-что из моей одежды. Оба были так милы. Но очень спешили. Дел много, знаете ли, господин Роланд. Это грустно. Я здесь совсем одна. Никто обо мне не заботится. У меня же больше нет ни родных, ни друзей.
После последней фразы фройляйн я внимательно посмотрел на нее. Но, кажется, она произнесла слово, не вкладывая в него того особого смысла, какой, бывало, прежде.
— И поэтому я так рада, что вы пришли. — Она положила свою маленькую старческую руку на мою и ласково посмотрела на меня.
— А как вы себя чувствуете, фройляйн Луиза?
— А, хорошо. Правда, совсем хорошо. — Она сейчас и выглядела здоровой и отдохнувшей. — И я очень рада, что меня так уютно разместили. — Фройляйн наклонилась ко мне и перешла на доверительный, нет, заговорщицкий шепот: — Хотя, господин Роланд, все далеко не так, как кажется…
Это было днем 9 декабря, в понедельник. Берти одолжил мне свою машину, на которой я и приехал в Бремен. В последние дни я действительно был очень занят.
Сначала мы с Ириной ходили в загс. Там нам объяснили, что мы сможем пожениться только после того, как Ирина заверит у нотариуса бумагу, что она еще не была замужем, и предъявит свидетельство о брачной правоспособности. А так как свидетельства о брачной правоспособности она предъявить не может, мы должны подать в Верховный суд федеральной земли прошение об освобождении от предъявления этого свидетельства. И пока придет положительный ответ на это прошение, пройдет не меньше месяца, растолковал нам представитель загса. Тут выяснилось, что у Хэма в этом суде есть какой-то знакомый, и он обратился к нему с просьбой посодействовать, чтобы наше прошение было рассмотрено в первоочередном порядке.
Хэм был прямо-таки влюблен в Ирину. По вечерам мы часами просиживали все вместе, рассказывали разные истории, слушали пластинки с записями Шёка или Хэм сам играл для Ирины что-нибудь из его опусов на своей виолончели. Он показывал ей многочисленные репродукции картин и скульптур с изображениями мадонны, которые отыскивал в толстых томах своей обширной библиотеки. Все это он проделывал для того, чтобы Иринин ребенок был таким же прекрасным, как младенец Иисус на коленях у мадонны. Он свято верил в действенность такого подхода.
Между тем Ирина устроилась на работу к одному детскому психологу «девочкой на побегушках» — с девяти до шести вечера. По-настоящему взять ее медсестрой на амбулаторный прием он не мог, но ему срочно требовался кто-то, кто бы разгребал весь его бумажный хлам. И платил он великолепно.
— Нам сейчас нужна каждая марка, — сказала мне Ирина, — пока ты не найдешь новую работу.
Но что-то было не похоже, чтобы я нашел новую работу — ни один человек не обратился ко мне с предложением. Херфорд и компания сделали свое дело. Для этой отрасли я умер. На самом же деле я еще как был жив! Словно одержимый, я писал мою историю, эту вот историю, каждый день с утра до вечера. Я не знал, что буду с ней делать, даже понятия не имел, но что-то заставляло меня писать и закончить как можно скорее. Должно быть, тогда у меня появилось шестое чувство. Основой мне служили фотокопии блокнотных страниц и перезаписанные пленки. На большом столе у окна в моем кабинете, возле машинки постоянно стоял кассетник. Кассеты были сложены штабелями рядом. Когда у Берти была свободная минутка, он приходил, садился возле меня, читал написанное, добавлял, редактировал по собственным воспоминаниям и впечатлениям. Это вошло у нас в систему.
5 декабря вышла первая часть «Мужчины как такового» с Максом на обложке и ленточкой на Максовом «джонни». Херфорд распорядился увеличить тираж на сто тысяч экземпляров, и в понедельник утром номера нельзя было достать. Все распродано. Тогда они допечатали еще пятьдесят тысяч. Статья стала еще той сенсацией!
Лестер срочно закупил для ее изготовления образчики по теме: три американские книжонки и вдобавок еще одну шведскую. Четыре автора — двое мужчин и две женщины — объединились в артель под одним именем — Олаф Кингстром — и накропали серию. Причем все четверо писали пополосно, сказал Хэм. Просто-напросто выдергивали самые смачные места из закупленных образцов и без всяких комплексов использовали картинки, которые Карин фон Мерцен притаскивала им из своего архива. Она-то первоклассно знала свое дело.
— Эта серия — чистейшее говно! — высказался Хэм. — Настрогали с английского, частью с ошибками, со шведского — это уж само собой, слепили; все переходы и все, что от «артели» — примитивно и глупо. А чего ты хотел?! Женское «жюри» в восторге, читатели — тоже. Вот тебе еще одно подтверждение того, что я уже говорил раньше: к стилю это вообще не имеет никакого отношения! Может быть как угодно срано написано, но пока публику интересует содержание — это абсолютно безразлично.
Ну да, и это содержание, следовательно, интересно Ее Величеству Читательнице. Для меня-то это было подтверждением моего давнишнего высказывания: незаменимых людей нет!
В кругах Тутти и Макса обложка, естественно, произвела фурор. Макс сказал мне, что в пятницу, в день выхода номера, с утра до вечера его осаждали телефонные звонки — практически со всей Германии, даже от людей, с которыми он годами не виделся. Шли телеграммы. Макса поздравляли с началом его карьеры.
— Тутти ревет без остановки, — сообщил Макс. — Говорит, что и мечтать не могла, что будет жить с настоящей знаменитостью. Как жена. И что я просто не должен свихнуться, когда бабы будут ходить за мной толпами, и пойдут фильмы, и все такое… Ну, она ище плохо знает своего Макса! Я ж плевал на все! Чё она себе со мной думает? Какое зазнайство?! Чё, этт моя заслуга, что у меня такой джонни?! Это же просто подарок Господа Бога, не?!
Пока я писал, я все ближе подступал к образу и всем событиям в жизни фройляйн Луизы. Я просто опускал некоторые места, чтобы потом восполнить их. И теперь мне было настоятельно необходимо снова увидеть ее и попытаться что-нибудь еще из нее вытащить. Н-да, тут-то я и услышал от нее эту фразу:
— Хотя, господин Роланд, все далеко не так, как кажется…
— Что вы имеете в виду? — обмер я. — Что-то не так с санитарами? С сестрами? С врачами? Они не внимательны к вам?
— Тише! — сказала фройляйн и чуть слышно продолжила: — Внимательны? Да. Ко мне! Но в последнее время я заметила, что сестры и санитары вообще неприлично выражаются о пациентах. Может, и обо мне тоже! Если бы я не слышала…
— Но это невозможно! — зашептал теперь и я.
— Как знать, как знать… — Фройляйн покачала своей седой головой. — Кроме того, я точно установила, господин Роланд, эти люди не связаны узами дружбы, настоящей дружбы. И они вообще ничего не знают о высших сферах. Просто, поди, люди с этой нашей земли. — Она с грустью пожала плечами.
— С нашей маленькой грешной земли, — сказал я.
Она кивнула.
— Да, к несчастью. Но есть еще кое-что, господин Роланд!
«О Боже, нет! — подумал я. — Опять начинается!..»
— Да, да, — яростно прошептала она. — Вчера вечером я кое-что слышала, болтовню и толки персонала, там, в коридоре. А вечером кое-кто из них сидел здесь, по соседству, в кухне и разговаривал… Я услышала через стенку. Тогда я встала, проскользнула в коридор и подслушала под дверью кухни. Это нехорошо, я знаю. Но я должна была узнать, о чем они говорят с такой секретностью…
— И о чем они говорили?
— О господине докторе Эркнере, — озабоченно прошептала фройляйн. — Только о господине докторе Эркнере.
— И что они говорили о нем?
— Ну, было не очень хорошо слышно, я разобрала только немного…
— И что именно?
— А именно, — удрученно сообщила она, — некоторые говорили, что господин доктор Эркнер не настоящий психиатр. И вообще не настоящий доктор Эркнер…
— Но это же… — я оборвал себя. — И что дальше?
— Дальше совсем неразборчиво. Но, во всяком случае, очень недобро. Я думаю, доктор Эркнер в большой опасности!
— Да нет, — сказал я.
— Да да, — ответила фройляйн. — Это же сказала и фройляйн Вероника.
— Когда?
— Сегодня утром. Сегодня утром я не выдержала и сказала все сестре Веронике — она мне здесь нравится больше всех, — то, что я слышала, и все свои опасения.
— И?..
— И она сказала «не может быть!», так же, как и вы, господин Роланд. А потом еще кое-что.
— И что же?
— Что я не должна говорить об этом господину доктору Эркнеру, иначе все будет еще хуже. Прошу вас, что значит, «еще хуже»? Господину же доктору Эркнеру грозит беда!
Я был подавлен. Я надеялся застать фройляйн в полном разуме, но, похоже, одно безумие уступило место другому — мании преследования.
— Нет, определенно нет, вы ослышались, фройляйн Луиза!
— Вы, правда, так думаете?
— Да! Вы ничего из этого не поведали доктору, или?..
— Нет, нет, я не верила самой себе.
Слава Богу! И Слава Богу, если сестра Вероника думает так же. Тогда она постарается не допустить того, чтобы фройляйн навечно осталась здесь — пусть даже действуя на свой манер.
— Я только вам рассказала это, — поведала фройляйн. — Только вам, а почему? Потому что я вам доверяю. Потому что знаю, вы меня не предадите. Вы правы, наверное, я ослышалась. Но в одном я точно не ошибаюсь, как подумаю об этом…
— В чем?
— В том, что люди здесь не имеют и искры понимания о высших сферах жизни. Да, это я точно знаю… — Она задумчиво покачала головой и надолго замолчала.
В конце концов, я попытался, без всякой надежды на успех:
— А то, что касается моей работы, моей истории, это вас уже совсем не интересует, фройляйн Луиза?
Погруженная в свои новые заботы, фройляйн устало повела рукой:
— Ах, история…
— Да?
— Это уже из давно ушедших времен, — сказала фройляйн. — Все уже кануло в вечность. Связи, господин Роланд, связи между всем, что там было, их ведь нам никогда не понять, пока мы здесь, на этой земле. Смысл всех этих вещей. Поэтому я почти уверена, что это не так уж хорошо, когда занимаются тем, что было и прошло. А вы не так думаете? Вы бы должны так думать!
— Может быть, — вздохнул я.
Тут уж ничего не поделаешь. Мы еще поговорили о разных пустяках, и я распрощался.
— Но вы ведь еще придете, господин Роланд, да? Пожалуйста, приходите еще!
Мне стало жаль ее, и я кивнул.
— Когда? Скоро? Приходите поскорее! Может, тогда я смогу вам рассказать кое-что новенькое и интересное.
Я в этом очень сомневался. И сильно ошибался!
10
У него была огромная вилла в Кёнигштейне. Это под Франкфуртом, недалеко от города. Там сплошь роскошные виллы. Виллы, виллы, виллы. В парках, парках, парках. Нечто для очень богатых людей. Йоахим Ванденберг,[133] должно быть, был гораздо богаче, чем я предполагал.
У ворот парка — я приехал на «мерседесе» Берти — мне пришлось позвонить. Из небольшой постройки вышел мужчина, подошел ближе, спросил, кто я такой и что мне угодно. Расспросив меня, он вернулся в здание, и я видел, как он звонил. Потом снова вышел ко мне и раскрыл створки ворот:
— Господин Ванденберг ожидает вас. Вилла расположена на вершине парка. Пожалуйста, поднимайтесь!
И я поехал по извилистой бетонированной дороге, мимо древних деревьев, по настоящему серпантину вокруг небольшой горы и, наконец, припарковался на посыпанной гравием площадке перед виллой.
Я вышел из машины, когда двери открылись и на пороге показался мужчина в синем костюме — высокий, тучный, черноволосый, с большим носом и хитрыми глазками.
— Господин Роланд! Рад, что вы приехали! Подходите, пожалуйста, ближе! — Он подал мне руку, и я пожал ее. — За вами никто не увязался?
— Нет, господин Ванденберг. Я внимательно следил, но никого не заметил.
— Хорошо. Не надо всем и каждому знать о нашей встрече. Поэтому-то я и пригласил вас ко мне домой и в такой поздний час. Персонал уже отпущен. — Он прошел впереди меня в дом.
Жены у него, похоже, не было. По крайней мере, о ней ни разу не упоминалось. Детей тоже.
Дом был забит дорогими вещами. Роскошная мебель, ковры, картины, гобелены, вазы и — Будды. Кажется, он коллекционировал Будд. Он проводил меня в просторную комнату с камином и бесчисленными статуэтками. В камине горел огонь, шторы были плотно задернуты, из-под шелковых абажуров лился мягкий свет. Мы расположились у камина на массивном кабинетном гарнитуре. Ванденберг выкатил из стенного шкафа, который оказался баром, столик с бутылками.
— Вы ведь пьете «Чивас».
— Откуда вы знаете?
Он засмеялся:
— Ну, идут о всяком таком толки.
— Так это неверные толки, — ответил я. — Я не пью «Чивас». Я вообще не пью.
— Повторите-ка, что вы сказали?
Я повторил.
Он посмотрел на меня удивленно и недоверчиво, потом пожал плечами и спросил, чего бы мне хотелось. Я попросил стакан содовой. Он налил мне. Сам он пил «Чивас». Мне не составляло ни малейшего труда смотреть на это. Ванденберг предложил мне гаванскую сигару, подал огня, подождал, пока я как следует раскурю. Я пил содовую, а он все время внимательно разглядывал меня.
Из какого-то уголка вышла толстая, цвета янтаря кошка и прыгнула ему на колени. На протяжении всего нашего разговора он почесывал ее за ушами, а она время от времени довольно мурлыкала.
— Итак, вы покинули «Блиц».
— И эти слухи до вас уже дошли?
— Естественно. Даже если и не толковали, почему вы ушли.
— Ну, может, еще и об этом потолкуют.
— Не думаю, — сказал он, поглаживая кошку. — Нет, думаю, что точно нет.
— Но вам это известно.
— Но мне это известно. — Он снова засмеялся. — Вы, должно быть, еще не забыли о господине Зеерозе?
— И что Зеерозе?
— Он жил здесь же, в Кёнигштейне, — любезно ответил Ванденберг. — Неподалеку. Мы были очень дружны. — И, заметив мой взгляд, поспешно добавил: — На самом деле я ничего о нем не знал. И то из-за чего он теперь скрылся… об этом я тоже не имел понятия. Я бы высмеял любого, кто бы стал утверждать, что он восточный шпион! Это же, в сущности, абсурд, не правда ли?!
Я промолчал.
— Вы тоже считаете это абсурдным, — продолжал он. — Но кто заглянет в человеческую душу?
«Кто заглянет в твою?» — подумал я, но тут же упустил эту мысль.
— Мы с Зеерозе часто играли в гольф. И в ноябре тоже, когда… когда вы были в Гамбурге. Зеерозе поведал, что вы вышли на горячее дельце. Я сначала не верил этому, но очень скоро вынужден был поверить. Военные планы стран Варшавского Договора. Американцы и русские. И что это будет грандиознейший материал за все время существования «Блица».
— Он вам это рассказал?
— Да. Он доверял мне. Мы были друзьями. И долгие годы соседями. Франки тоже от него. Подарок.
— Кто такой Франки?
— Вот этот кот. Мой любимец.
— Ага.
— Господин Роланд, слушайте меня внимательно: я был другом Зеерозе. То, что он сделал, меня, естественно, ужасает. Но я никому не судья. И я никогда не был другом вашего издателя. После войны он не раз пытался подорвать мое книжное издательство, чтобы самому купить его, по дешевке.
— Зачем?
— Хотел собственное книжное издательство.
Это соответствовало действительности. Только я не знал, что Херфорд интересовался именно издательством Ванденберга.
— Сейчас я стал слишком большим. Сейчас я ему не по зубам, — спокойно сказал Ванденберг. — Но были времена, когда он и его разлюбезный Ротауг очень хорошо держали меня за горло — сразу после финансовой реформы… Он этого не забыл. — Вдруг Ванденберг словно лишился губ. — Я тоже не забыл этого. И я до сих пор не являюсь другом господину Херфорду. Я приверженец идеи «око за око», понимаете меня?
— Да, — сказал я и отпил глоток содовой. Огонь в камине потрескивал.
— Короче говоря, я слышал — не спрашивайте от кого и откуда, этого я вам не скажу, — я слышал, что вы работаете над этой историей дальше, пишете, как сумасшедший.
Я молчал.
— Это так? — спросил он и выпустил облачко дыма.
— Да, — ответил я, затянувшись своей «гаваной», — это так. И что дальше?
— Не будьте таким агрессивным. Я ничего вам не сделаю. Что с вами, господин Роланд?! Вы нервничаете?
— Слегка. Мне не нравится, когда мне недоговаривают.
Над этим он от души посмеялся.
— Ну так слушайте, вы, мимоза! Вы же пишете не в корзину. Вы ведь хотите, чтобы ваша история была напечатана, так?
— В настоящий момент я пишу только потому, что должен записать все, что произошло. О дальнейшем я еще не думал.
— А я, — сказал Ванденберг, — я хочу, чтобы она была напечатана. У меня. Напишете для меня книгу?
— Я?.. для вас?..
— Да. К выпуску осени 69-го. Но она должна быть готова раньше. Скажем, в августе. Успеете?
— Если я буду писать, как сейчас, рукопись, по меньшей мере, в сыром виде, будет готова через два месяца, — ответил я.
— Договорились. А потом мы ее обработаем. Я знаю ваши прежние книги. И я следил за вашей работой в «Блице». Вы чертовски талантливый сукин сын. Я вам доверяю. Но все, естественно, остается между нами. Насколько уж это будет возможным. Я хочу, чтобы даже мои сотрудники ничего не подозревали. Это должно стать настоящей бомбой, понимаете? Когда вы сдадите рукопись, останется еще достаточно времени на пояснения и заключение договора.
— Ах, вон оно что!
Он рассмеялся. Похоже, он вообще любил посмеяться.
— Думаете, я шучу? Вожу вас за нос? Нет. Правда, нет. Договор — это пустая формальность. Мы сейчас же обговорим все условия, я вам письменно засвидетельствую свое согласие. В качестве аванса я вам даю… ну, потому как вы… ладно, скажем так: двадцать тысяч сейчас и двадцать по представлению рукописи. Годится?
— У вас поистине удивительные Будды, господин Ванденберг. Я мало в этом разбираюсь, но, по-видимому, о каждом из них вы могли бы рассказать целую историю.
— О да, мог бы! — Он налил в свой стакан еще виски. — Потрясающие, загадочные истории. Такие же потрясающие и загадочные, как и ваша. Так что, договорились?
— Господин Ванденберг, — сказал я. — Эту историю я начал расследовать еще по заданию «Блица». «Блиц» оплатил это. Со мной работал фотограф из «Блица». Нас посылали в Нью-Йорк. Права на эту историю принадлежат «Блицу». С этим ничего не поделаешь.
— Ага. И поэтому… поэтому вы как сумасшедший пишете ее дальше.
— Что вы имеете в виду?
— Хотите сказать, что вам только сейчас пришло в голову, что права на вашу историю принадлежат «Блицу» и с этим ничего не поделаешь?!
— Нет, — сказал я, помедлив.
— А что же вы думали?
— Я думал… не знаю… думал… — Этот Ванденберг производил на меня сильное впечатление. Я еще не решил — положительное или отрицательное. Но в любом случае, это была личность! — Я думал, что найдется какой-нибудь способ, несмотря ни на что, разместить и напечатать эту историю.
— Ну! И к чему тогда весь этот театр?! Хотите больший аванс?
— Нет. Просто… просто я не представляю себе, как можно получить права. «Блиц» хотел при любых обстоятельствах замолчать эту историю.
— А я хочу при любых обстоятельствах ее напечатать. Послушайте, не ломайте себе голову юридической стороной этого дела. Пишите вашу историю так быстро, как только можете. Я получу от Херфорда разрешение на ее публикацию — по добровольному согласию или через процесс.
— А если вы проиграете процесс?
— Не проиграю.
— Господин Ванденберг, если вы знаете, что это за история, то вам должно быть известно, с кем вам придется иметь дело, помимо Херфорда!
— Знаю, абсолютно точно.
— И вы не боитесь?
— Это единственное, чего у меня не было никогда в жизни. Страха, — сказал Йоахим Ванденберг. И должен признаться, это произвело на меня сильное впечатление, потому что было сказано спокойно и с улыбкой. И я верил ему. — Причем могу объяснить вам, почему я так уверен. Мне тоже известна парочка вещей, которые не обязательно должны стать достоянием широкой общественности — и о Херфорде, и о других господах, которым хотелось бы помешать публикации. — Он пожал плечами. — Вот вам мое предложение. Take it or leave it.[134] Поверьте, другого вы ни от кого не получите. Я абсолютно уверен в том, что мне удастся напечатать эту историю. Но я тоже всего лишь человек. Если я потерплю неудачу, мне придется отказаться от договора. И тогда можете забыть вашу историю на все времена. Тогда она, действительно, не для печати. Я ставлю девяносто девять к одному, что она будет напечатана. Устраивает вас это?
— Да.
Потом мы обсудили условия договора, и Ванденберг, и в самом деле, написал его от руки на листе бумаги, и мы поставили наши подписи. Затем он переписал все еще раз, и мы снова подписались. Каждый получил по листку.
От Йоахима Ванденберга я уезжал уже глубокой ночью. Человек у въезда успел открыть ворота, когда я подъезжал на машине Берти. Должно быть, Ванденберг ему позвонил. Я дал привратнику двадцать марок чаевых — как в добрые старые времена. У меня в кармане лежал банковский чек на двадцать тысяч марок. И Йоахим Ванденберг произвел на меня однозначно положительное впечатление, теперь я знал это точно. И все же следующим утром я стоял перед банком, на который был выписан чек, и ждал открытия. Я первым атаковал одно из окошек, положил чек, на обратной стороне написал фальшивое имя, как мы и договорились с Ванденбергом, и подал его. Когда, некоторое время спустя, мне отсчитали деньги, я должен был опуститься на кожаное кресло в кассовом зале, потому что ноги меня не держали. У меня были деньги. У меня был издатель. И мне снова улыбнулось счастье. «Да, — думал я, — с этого момента мне снова улыбнулось счастье». Клиенты и служащие беспокойно поглядывали в мою сторону. Потому что я сидел, снова и снова перебирая по листочку банкноты в пачке, и хохотал как сумасшедший. Я видел, что все таращатся на меня. Но мне просто надо было высмеяться.
11
— Случилось нечто удивительное, — сказала фройляйн Луиза.
Она шла рядом со мной по больничному парку, и ее лицо светилось блаженством и счастьем. На ней были ее старые ботики, потрепанное черное пальто, шарф, маленькая черная шляпка на белых волосах и черные шерстяные варежки. Тонкий слой недавно выпавшего снега сверкал. Деревья в парке стояли черные. Не было ни души. Воздух был свежим и пряным. Фройляйн Луиза попросила меня прогуляться с ней в парк. Ей это разрешалось в любое время, она пользовалась в клинике неограниченным доверием и, к тому же, как я слышал, ей было поручено ответственное задание.
— Нечто удивительное? Что же? — спросил я.
Непостижимым образом меня все время тянуло к фройляйн Луизе, и, несмотря на безрезультатность последнего визита, всего лишь через неделю я приехал снова.
— Сейчас, сейчас, — ответила она. — Все по порядку, господин Роланд. Оглянитесь же, разве здесь не красиво?
— Очень красиво.
На этот раз я прилетел самолетом. Было одиннадцать часов утра.
— Вот и господин профессор так считает, — сказала фройляйн, бодро вышагивая рядом.
— Какой профессор?
— Леглунд его имя. Ах, господин Роланд, вот это человек! Такой обходительный, такой любезный! — И доверительно добавила: — Знаете, ему ниспослана великая милость, уже в земной жизни он живет в другом мире!
— Ага.
— Да. Уже старый господин. Скоро ему семьдесят шесть. Слабенький и плохо видит, и ноги уже не так хорошо носят. Так вот, здесь была его дочка, несколько дней назад — она замужем и живет в Баден-Бадене, — и господин профессор нас познакомил и сказал, что мы очень хорошо понимаем друг друга. Я так гордилась, ведь господин профессор когда-то был знаменитым врачом, сам он психиатр, понимаете, господин Роланд, и мне с ним всегда так хорошо общаться, всегда. Он не такой, как все другие здесь. Он по-настоящему хороший человек, я это сразу поняла, как только увидела его. Может, это звучит глупо и напыщенно, но я правда верю в это: господин профессор Леглунд — милованный.
— Что это значит?
Большая черная птица, пронзительно крича, пролетела над нами.
— Господин профессор, он меня понимает, когда я говорю ему о своих мыслях. Он знает, что человеческое существование многослойно, и что все это здесь только жалкий крохотный кусочек от бесконечной вселенной. Он такой умный! Некоторые вещи, которые он мне говорит, так я и вовсе не понимаю.
— Например?
— Ну, если он так вот говорит про «Я» и «сверх-Я». — Фройляйн засмеялась. — Я всего лишь глупая женщина. А со мной разговаривает этот большой человек, этот милованный, который знает и про другие жизни, и про ту прекрасную, которая нас ждет…
И пока мы шли по тропке, фройляйн не переставала восторгаться. Профессор Леглунд любил этот парк, узнал я. Особенно большой пруд, который здесь был. Прежде он все время ходил туда, теперь больше не может — один («Ноги больше не держат, понимаете…»). Так что фройляйн Луиза взяла себе в обязанность к вечеру ходить со старым господином на прогулку — к его любимому пруду. Врачи, персонал и, прежде всего, дочка профессора были счастливы. Кто-то, наконец, заботится о немощном пациенте!
— Дочка, так она даже дает мне денег за это, за то что я гуляю с профессором, — говорила фройляйн. — Ну не чудо ли это?! Мои ведь деньги пропали, да? Ну, а теперь дочка профессора мне их возвращает. И знаете что? Я коплю. В марте у профессора день рожденья. Тогда я куплю ему прекрасный подарок… Смотрите, вот уже и пруд!
Это был довольно большой водоем, по которому плавала опавшая листва. Перед нами был узкий мостик, который вел к островку на пруду. Фройляйн Луиза уверенно и быстро зашагала по нему. Я последовал за ней. Островок был небольшой, весь поросший кустарником, а на самой высокой его точке стояла скамейка.
— Это любимое место господина профессора! Здесь он всегда особенно счастлив. Мы здесь гуляем и ведем наши замечательные беседы. — Фройляйн посмотрела на меня сияющим взглядом.
— Что такое?
— Вчера к вечеру господин профессор себя неважно чувствовал, так что я пришла сюда одна, в четыре или чуть позже — уже начало смеркаться. И тут на меня снизошла большая радость, господин Роланд. — Она схватила меня за руку и заговорила крайне проникновенно. — Но это я открою только вам! И вы никому не должны об этом рассказывать! Потому что они сказали, что я должна помалкивать. Если я не буду молчать, мне придется за это покаяться!
— Кто? — Я почувствовал, как забилось мое сердце. — Кто сказал, фройляйн Луиза?!
— Ну, мои друзья, — ответила она. — Знаете, господин Роланд, только мертвые всегда верны!
12
«Луиза…»
«Луиза…»
«Луиза…»
Сначала смутно, потом все отчетливей звучали голоса в ушах фройляйн Луизы, которая стояла на островке, посреди кустарника и смотрела на сумерки.
«Мы приветствуем матушку…». — «Это русский», — подумала фройляйн, охваченная блаженством.
Ее друзья! Ее друзья! Она их, естественно, не видела, но слышала! Снова слышала! Ее друзья вернулись!
«О, как прекрасно, — шептала фройляйн. — Я тоже приветствую вас, всех вас, мои дорогие! И я благодарю вас, что вы снова со мной!»
«Да, мы снова с тобой, Луиза». — «Это француз», — подумала фройляйн.
«Мы должны были вернуться, — произнес голос поляка, — Луиза ведь одна из нас. Она должна нам доверять!»
«Нам…»
«Нам…»
«Нам…»
Три голоса — один голландца, один американца и один штандартенфюрера.
«Конечно я вам доверяю, — шептала фройляйн, — вам, а не врачам здесь…»
«Вот и правильно, — прозвучал голос чеха. — Врачи здесь, они, правда, стараются. Но они всего лишь живые. Они видят вещи в неверном свете. Они обозревают только ограниченное пространство, несмотря на их добрые намерения».
Послышался голос Свидетеля Иеговы: «У нас высшее видение. Луиза должна быть с нами! И она должна следовать за нами!»
«Следовать за нами…»
«Следовать за нами…»
«Следовать за нами…»
«И я хочу этого, — прошептала фройляйн со слезами на глазах. — Я так хочу этого, мои друзья!..»
Голос француза: «Врачи здесь, эти бедные человеческие существа, нам жаль их. Они так ограничены в своих познаниях».
Голос студента: «Ты не отсюда, Луиза…»
«Да, я знаю», — сказала фройляйн, и ее сердце забилось сильнее, когда она услышала голос своего любимца. А он продолжал: «Ты одна из нас, Луиза. Ты избрана».
«Избрана, я?!» — пролепетала фройляйн.
«Да, — звучал голос студента. — Ты принадлежишь нам, и скоро ты вся будешь с нами, вся!»
Голос голландца: «Луиза, послушай, мы те, кто стоит ближе к божественной сущности. Поэтому ты последуешь за нами, поэтому верь нам, а не земному».
Голос русского: «Матушка должна верить нам, что все, что мы делаем, — правильно, и правильно было все, что мы сделали».
Голос украинца: «Луиза пережила страшные события…»
«И ей кажется, что все кончилось ужасно, — вступил голос норвежца. — Но это только кажется. Так кажется живым. На самом деле, все вышло хорошо».
«Да? Правда?! Но…» — фройляйн не могла говорить дальше.
«А если для Луизы что-то вышло плохо, то это только потому, что она дала себя запутать ложным друзьям», — раздался голос американца.
«Ложные друзья, — глубоко вздохнула фройляйн, — да, это были ложные друзья…»
«Ты все еще путаешься, — звенел голос студента. — У нас все ясно. Только когда ты будешь у нас, ты увидишь, что все пошло по правильному пути…»
13
— Вот, значит, что сказали мои друзья, — сказала фройляйн Луиза, стоя рядом со мной на маленьком островке, глубоко взволнованная. — Мы еще долго говорили друг с другом, пока не стало почти совсем темно, и мне надо было обратно. Но они снова здесь, господин Роланд!..
— Да, и это должно быть для вас большая радость, — сказал я радостно и грустно одновременно. Радостно, потому что я мог теперь ожидать, что фройляйн скоро вспомнит и все остальное, что ей пришлось пережить, и я тоже смогу это узнать. Грустно, потому что стало ясно, что она снова вернулась в свое шизофреническое состояние.
Там, на берегу, в большом здании зазвенел звонок.
— Сейчас обед, — сказала фройляйн. — Мне надо идти.
Она уже снова семенила по узкому мостку. Я последовал за ней. Мы быстро миновали парк, пруд лежал недалеко от клиники. Фройляйн Луиза попрощалась со мной перед входом в частное отделение. Она снаружи за ручку открыла дверь, а потом показала мне, как повернуть кнопку, чтобы открыть дверь изнутри.
— Кто это знает, всегда может выйти, — засмеялась она. — Только никому в голову не приходит, что кнопку надо вертеть, особенно бедным сумасшедшим, которые здесь тоже есть. Они только трясут, и не могут открыть. А я в любое время могу войти и выйти, мне уже давно разрешили.
Снова прозвенел звонок.
— Мне надо в столовую, господин Роланд, — вздохнула фройляйн Луиза. — Они здесь не любят, когда опаздывают. А после обеда тихий час.
— Мне тоже пора.
— Только, пожалуйста, приходите снова побыстрее. Теперь ведь очень скоро я должна буду сообщить вам важные вещи.
— Приду через несколько дней, — пообещал я.
Мы попрощались, и она заспешила по коридору частного отделения, веселая и неожиданно грациозная, как юная девушка. Она постоянно оборачивалась и махала мне, и я махал в ответ, пока она не скрылась из виду. Потом я сказал себе, что это просто моя обязанность, и с тяжелым сердцем отправился к кабинету доктора Эркнера, перед которым ожидало несколько человек. И не успел я еще сесть в очередь, как открылась дверь кабинета и оттуда вышел молодой врач с длинными светлыми волосами и бородой.
— Вы к доктору Эркнеру? — спросил он высокомерно. Он весь был высокомерным. Высокомерным и бойким, и заносчивым. Высокий, стройный, голубоглазый, с очками в золоченой оправе.
— Да.
— Доктор Эркнер крайне загружен, как видите. Все эти люди… Могу я вам помочь? Вы по какому вопросу?
«В конце концов, врач все равно врач», — подумал я и ответил:
— По вопросу одной пациентки из частного отделения.
— Я главный врач этого отделения, — представился длинноволосый бородач слегка дребезжащим голосом. — Гермела. Доктор Гермела.
Он взял меня под руку и отвел к оконной нише:
— О какой пациентке речь? Можете говорить со мной. Я отвечаю за частное отделение.
«Как бы не так, — подумал я. В лучшем случае ему было столько же лет, сколько и мне. — Может, работает в этом отделении, и не более того». Но врач есть врач, по крайней мере, он был врачом. Я подавил свою антипатию и рассказал ему все, что услышал от фройляйн Луизы. Он слушал, время от времени кивал, надменно улыбаясь, а потом и вовсе стал смотреть через окно в парк.
— И это все? — спросил он, когда я, наконец, умолк.
— Да, — не выдержал я. — Думаю, этого достаточно.
— Дорогой господин Роланд, — сказал доктор Гермела, — я тоже думаю, что достаточно. Даже если я другого мнения.
— И какого же вы мнения?
— Ну, — усмехнулся он, — не хочу обижать вас, дорогой господин Роланд. Забота — это, конечно, похвально. Но не кажется ли вам, что мы здесь лучше знаем, как обходиться с пациентами и можем лучше судить о них, чем вы?
— Я просто хотел вам рассказать, что…
— А вам не кажется, что каждый из нас должен заниматься своим делом? Я же не пишу для иллюстрированных журналов, ха-ха! Так что я хотел бы вам предложить не вмешиваться в нашу работу. Предоставьте фройляйн Готтшальк нашим заботам. Она наша лучшая пациентка.
— Лучшая пациентка! — взвился я. — А голоса, о которых она говорила?!
Он тут же повысил голос:
— Послушайте, дорогой господин Роланд! Вы являетесь сюда, уже неоднократно. Вы репортер. Вы настырно расспрашиваете фройляйн Готтшальк о событиях ее прошлого, о которых вам нужны сведения…
— Я не делал этого!
— …и приводите ее в замешательство, — Гермела не удостоил внимания мое замечание, — и провоцируете давно исчезнувшие бредовые представления, заставляете их всплывать снова и снова. И когда дело доходит до того, что пациентка в своем возбужденном состоянии допускает ошибки, вы бежите ко мне и кричите, что ее состояние ухудшилось!
— Послушайте… — начал я, но длинноволосый вошел в раж и не дал себя перебить:
— А между тем пациентка так замечательно приспособилась, и таким образом тесно интегрировала в наше терапевтическое сообщество, что ни о каком рецидиве вообще не может быть и речи!
«Набитый дурак», — подумал я. И вспомнил о том, что говорили фройляйн Луизе голоса о нежелающих зла, но таких ограниченных врачах. Я был поражен! Потому что ведь все эти друзья и голоса возникали в ее мозгу, и только там. Я грубо спросил:
— Что еще за «наше терапевтическое сообщество»?
— Ну, — удивленно спросил длинноволосый в белом халате и взялся за свою русую бороду таким жестом, будто хотел мне ясно изобразить, что со своей стороны считает меня полным идиотом, — вы это серьезно, дорогой господин Роланд? Вы что, никогда не слышали о демократизации психиатрии?
— Нет.
— Тогда я просто поражен! Как раз вы, человек, отражающий общественное мнение! Это уже совсем не новая реформа! Пациенты, персонал и врачи образуют единую демократическую общность, в которой каждый имеет равные права и равные обязанности и одинаковую ответственность. Мы, врачи, должны примириться с тем, что имеем не больше прав, чем наши больные. Это же очевидно, нет?
Я молча смотрел на него.
— Нет?!
Я пожал плечами.
— Вы другого мнения, да? Здесь много таких. Я все больше убеждаюсь, что должно прийти новое поколение, чтобы принести с собой взлет! Времена меняются, дорогой господин Роланд. И в этом заведении скоро будет обсуждаться вопрос создания парламента пациентов, непременно! Точнее говоря, всеобщего парламента. И у каждого будет право голоса и равные возможности влиять на принятие решения большинством — от больного пациента, главного врача, санитара до последней уборщицы!
Он не заметил, что я вздрогнул. «Ну, не настолько уж они в „Блице“ отсталые, — подумал я. — Хотя, что касается атмосферы сумасшедшего дома, то и там и тут одна и та же».
— Да, — сказал доктор Гермела, который неверно истолковал мое молчание, — впечатляет, да? Мы живем в двадцатом веке, дорогой мой! Новые времена — новые методы! Мы должны найти в себе мужество, поставить себя на одну ступень с нашими пациентами! Разумеется, многие против, и в этой клинике тоже, я уже говорил. Но мы их переубедим! Обязательно переубедим! — Он хлопнул меня по плечу. — Дайте только срок! Если бы вы только знали, как благотворно влияют на фройляйн Готтшальк эти новшества! Вот, например, этот старый господин, которого она опекает.
— Профессор Леглунд?
— Да, Леглунд. Знаете, как он ей помогает, а она ему, а они нам своим участием!
От всего этого с души воротило, но то, что он говорил, начинало на меня действовать. В конце концов, не сказки же он мне тут рассказывал! Может быть, я действительно старомодный дурак, и здесь практикуется совершенно новая методика, полезная и правильная?
— Вы имеете в виду тем, что о нем заботится?
— Именно это я и имею в виду. Профессор Леглунд был великим психиатром. В Бреслау. Теперь dementia senilis — старческое слабоумие. Полный маразм! Думает, что живет еще при кайзере. Понятия не имеет, где находится. Путается в пространстве и во времени. В памяти остались только обрывочные профессиональные знания. Отпусти его на пруд — он никогда не найдет дорогу назад. И сейчас, когда его туда водят, по возвращении он думает, что это было двадцать лет назад. Вот об этой жалкой развалине, которая была когда-то великим умом, а теперь вызывает только сострадание, и заботится фройляйн Готтшальк — и это не только прогулки. Это их разговоры, их взаимное расположение. Это ее почтение к Леглунду, ее радость, жизненная энергия, оптимизм — то, что идет на пользу обоим пациентам. Больной протягивает больному руку. Красивая картинка, не правда ли?
Я молчал и думал, что это, действительно, красивая картинка. И что многие мужчины носят длинные волосы. И что моя антипатия — глупость. Этот молодой человек знал, о чем говорил. Возможно, это я одним моим появлением возбудил в душе фройляйн воспоминания о прошлом. Возможно, кто может сказать наверняка, я был виноват в том, что посчитал рецидивом, а Гермела этого не усматривал. Возможно, с фройляйн Луизой и впрямь все шло блестяще. Или, во всяком случае, как может идти при выздоровлении после застарелой шизофрении…
— Ну, убедил я вас, успокоил? — улыбаясь, спросил Гермела.
Я тоже слегка улыбнулся, против воли.
— Вот видите, — сказал он. — Так останемся друзьями. Мы не вмешиваемся в вашу писанину, вы не вмешиваетесь в психиатрию. И не беспокоите фройляйн Готтшальк. Тогда можете и дальше посещать ее сколько хотите. Но только в этом случае, дорогой господин Роланд, только в этом случае. В любом другом я запрещу ваши посещения. Я понятно выразился?
— Абсолютно, — ответил я.
— Вы согласны?
— Согласен.
«В конце концов, эти ребята должны знать, что делают, — подумал я. — Их же учили этому».
14
Мы поженились в пятницу, 20 декабря, в одиннадцать часов. Верховный земельный суд принял во внимание ходатайство Хэма и решил дело по поводу освобождения Ирины от предоставления свидетельства о брачной правоспособности в рекордно короткий срок. После этого наше объявление о вступлении в брак еще неделю было «представлено общественности». И, наконец, все было пройдено.
Берти подвез нас на своем «мерседесе» от Хэма. Был морозный солнечный день, на лужайках парка Грюнеберг лежала изморозь.
Мы, мужчины, были в темных костюмах, Ирина — в черном костюме, рекомендованном еще Мамочкиным Лео, а к нему — черное шерстяное пальто, подбитое норкой, черные лакированные лодочки и крокодиловая сумочка, еще из Гамбурга. Непонятным образом эти вещи не были изъяты Херфордом, хотя куплены они были на его деньги.
Берти принес для Ирины, которой ее психолог дал в этот день выходной, букет цветов, и мы поехали. В загсе нам пришлось немного подождать, перед нами сочетались браком еще две пары. Ирина выглядела очень бледной и очень красивой. Ее руки, которые я пытался согреть в своих, пока мы ждали в приемной, были ледяными. Я попросил воздержаться от всякого рода музыкального сопровождения, так что место за фисгармонией пустовало. Работник загса, пожилой мужчина, ободряюще улыбнулся Ирине, которая казалась испуганной. Мы расселись в первом ряду, и он, коротко и незамысловато, сказал несколько прекрасных слов. Некоторые из них я запомнил и привожу здесь:
«Когда я говорю, — сказал симпатичный служащий, — что желаю вам счастья, я должен к этому добавить, что состояние счастья, внутреннее ощущение счастья — это подарок судьбы, и оно не приходит извне. Счастье, долгое счастье, надо себе самому снова и снова завоевывать. Но не стоит печалиться! Потому что каждый человек может завоевать себе счастье. И это намного легче сделать, когда тебе помогает другой. Для этого и соединяются двое, это и придает ценность их совместной жизни». Ирина взяла меня за руку, и я снова попытался согреть ее. Служащий еще сказал: «Однако надо понимать, что никто не может быть полностью счастлив. Может быть наилучший путь — это стремиться как можно ближе подойти к полному счастью. Тот, кто сам себя правильно поймет и оценит, очень скоро научится правильно понимать своего партнера и других людей. Чистый вопрос отражения. И поэтому, дорогие жених и невеста, долгое счастье можно найти только в откровенности и искренности…»
Потом мы все поднялись и подписали брачные документы, Берти и Хэм как свидетели, а я полез в карман пиджака и вынул бархатную коробочку, в которой лежало кольцо. Это был тонкий ободок из платины, усеянный крохотными бриллиантами. Ирина смотрела на меня растерянно и смущенно, когда я надевал ей на палец кольцо, потому что мы договорились обойтись без колец, и у нее не было второго для меня. Я-то вообще не собирался носить что-нибудь такое, но я видел, как Ирине хочется колечко, поэтому пошел к ювелиру, продал мою золотую зажигалку, добавил еще кое-что сверху и взял у него это кольцо. Только Хэм знал об этом. Я теперь гораздо меньше курил и спокойно мог обходиться спичками.
— Откуда у тебя кольцо? — шепнула мне Ирина.
— Тсс, — прошептал я, — украл. Не привлекай здесь внимания, ради Бога!
В машине, когда мы уже ехали во «Франкфуртский двор», я рассказал Ирине, которая все не отставала, правду, и она всплакнула, но от радости, сказала она, только от радости, потому что я сказал ей, что отдал ювелиру в придачу свою серебряную фляжку для виски.
Но это было не так, Берти и Хэм знали это. На самом деле я бросил фляжку с моста Фриденсбрюкке в грязные воды Майна — за день до свадьбы. Это было своего рода попытка подкупить Господа Бога. Я, знаете ли, безумно суеверен. И я подумал: если я больше не пью, и если выброшу эту проклятую фляжку, то у Ирины будут легкие роды и прекрасный ребенок, и мы все будем счастливы.
«Франкфуртский двор» — и швейцар, и метрдотель, и все официанты — встретил нас широкими улыбками. Они, конечно, слышали, что я ушел из «Блица», но не знали, почему, и я был для них по-прежнему старым другом и желанным гостем отеля. Хэм заказал во французском ресторане столик, и он был весь уставлен цветами. Мы были гостями Хэма. Обер-кельнер и кельнер подошли и поздравили нас с днем свадьбы, а потом накрыли стол великолепными блюдами, которые заказал Хэм. Мы с Ириной пили апельсиновый сок, Хэм и Берти — шампанское. После праздничного обеда им надо было бегом в редакцию, там сейчас, перед Рождеством, начиналась суматоха. Мы с Ириной, рука об руку, прошлись пешком до дома Хэма, там разделись, забрались в широкую постель и любили друг друга, а потом долго и глубоко спали. Я проснулся от звонка в дверь. Прямо в халате я пошел открывать. Мне был вручен огромный букет. От Тутти и Макса, которые следом позвонили и пожелали нам всяческого счастья и блаженства и всего-всего.
Макс сказал:
— Этт от всего сердца, Вальта, правда. Ты — наш лучший друг. И твоя маленькая женушка теперь тоже будет. Где она?
— Спит.
— Тогда поцелуй ее от меня и от Тутточки, когда проснется, ага? И приходите к нам в гости, лады?
— Обязательно, — сказал я. — В скором времени. У меня еще столько работы и…
— Да знаю, дружище! Чё ты думаешь, чё щас здесь творится? Тутти щас тоже как проклятая работает. И уж прямо не знаю — похоже весь город сошел с ума.
— Как это?
— Все хотят перед Святым праздником получить на полную катушку. Небось из-за того, что потом, в праздники хотят подольше побыть с семьей. Этот Ляйхенмюллер заправляется про запас. Молодой Херфорд, тот тоже приходит…
Потом трубку взяла Тутти:
— Вальта, дорогой мой, я так рада за тебя! Знаешь, мы ведь с Максом, мы тоже собираемся пожениться, все ище собираемся. Но пока не получается — тут у Макса принципы, моральные. Он говорит, надо ище чуток подзаработать, а потом, когда кой-чего сколотим и его дела тоже поправятся, я завяжу. Тогда он на мне женится. А вы будете нашими свидетелями, уговор?
— Уговор, — сказал я.
С букетом я вернулся в спальню. Ирина проснулась, и я рассказал ей об этом звонке, и о том, что мужики во всем городе сошли с ума.
— И ты тоже?
— И я тоже! Иди ко мне, любимая, будем еще любить друг друга.
— Да, — засмеялась Ирина, — люби меня! Люби, люби, люби!
Вечером, когда вернулись Хэм и Берти, мы уже выкупались и переоделись. Они принесли с собой кучу салатов, холодных закусок и белого хлеба, и мы ужинали в просторной Хэмовой кухне. Хэм и Берти выпили море пива, а мы с Ириной пили смородиновый сок.
Потом мы пошли в комнату Хэма, он вынул свою виолончель и играл композиции Отмара Шёка. Это был бесконечно мирный вечер. Под конец Хэм сказал:
— Шёк положил на музыку многие стихотворения — Айхендордфа[135] и Ленау,[136] и Гессе,[137] и Готтфрида Келлера,[138] и Маттиаса Клаудиуса[139] и других. Я сыграю вам одну из моих самых любимых песен. На стихи Айхендорфа. «В странствии».
Возвышенно и проникновенно зазвучала виолончель, все увереннее и радостнее, а Хэм тихим голосом сопровождал ее мелодию строками стихотворения:
Спокойно я иду тропой, Светла моя душа. Дорога кажется прямой, Погода хороша…Мы с Ириной сидели рядом, снова держась за руки, а Берти улыбался и подмигивал нам, и у меня тоже на душе было светло, и всякая дорога казалась мне прямой.
Куда бы ни привел мой путь, —говорил Хэм, а виолончель пела: —
Мне крышей небеса. Рассветы каждый день встают, И звезды на часах. Я все равно приду тропой Туда, куда стремлюсь. И в мире, созданном Тобой, Вовек не заблужусь…Хэм умолк, песня отзвучала. Мы долго сидели притихшие. Вдруг Ирина сказала:
— Фройляйн Луиза…
Мы посмотрели на нее, потом друг на друга.
— Я только что о ней подумал, — сказал Берти.
— Я тоже, — отозвался Хэм.
— И я. — Мне стало не по себе. — Странно, да?
— Очень странно, — сказал Берти.
— Фройляйн Луиза… — Ирина склонила голову к моему плечу. — Она соединила нас. С нее все началось.
15
— И теперь мои друзья этого человека убьют, — сказала мне фройляйн Луиза.
Это было 27 декабря, в Бремене шел сильный дождь. Стволы и ветви старых голых каштанов во дворе блестели.
— Убьют в любом случае. При любых обстоятельствах, — сказала фройляйн Луиза.
Беспокойство и странный непреодолимый позыв погнали меня в Бремен — сразу после Рождественских праздников. В палате фройляйн Луизы стояли елочные венки с красными свечами, тарелка, полная орехов и выпечки. Она зажгла свечи.
Раз от разу фройляйн Луиза выглядела все лучше. Она, счастливая от моего посещения, сразу же сообщила мне, что ее друзья теперь постоянно и подолгу разговаривают с ней, и я увидел свой шанс, наконец-то узнать кое-что из пережитого ею. Я счел возможным при нынешнем положении вещей наплевать на указания этого демократического реформатора доктора Гермелы, поскольку фройляйн Луиза, как только я упомянул по ходу дела имя Карела, сразу отозвалась:
— Бедняжка Карел с его трубой, да-да. Малыш Карел и его убийца… Я много говорила с моими друзьями о них обоих…
А потом она рассказала мне все, что я изложил в начале моего повествования. Пока она говорила, я размышлял, не являются ли эти рассказы изначально одномоментным продуктом ее мозга, а то, что она говорила и во что верила, не принимает ли формы воображаемых сиюминутных образов в ее сознании, которые она привносит в прошлое из всех этих «разговоров с ее друзьями». Кто мог сказать наверняка? Она рассказала, как «перехитрила» своих друзей, и как поставила их в тупик своим заявлением.
— Так я им и сказала: нас ждут еще беды, если мы не найдем убийцу и не примирим его с убиенным, так чтобы оба могли, примиренные, перейти на высший уровень. Вы ведь меня понимаете, да?
— Да, — ответил я.
— Возьмите кусочек коврижки, она правда вкусная, господин Роланд.
Дождь стучал теперь по стеклам с такой силой, что каштаны уже едва можно было различить.
Я сказал:
— В Гамбурге я встретил комиссара криминальной полиции. Его фамилия Сиверс. Уже давно, несколько недель назад. Этот Сиверс был абсолютно уверен, что найдет убийцу, и сказал, что у него есть план.
— Да, — ответила фройляйн, ни мало не колеблясь, — это мой студент, знаю…
— Но…
— Что «но»? Я же вам однажды уже все объяснила: для моих друзей нет никакого «времени», никаких «вчера», «сегодня» и «завтра», вы что, не помните?
— Помню, — сказал я.
— И что они, при своем воплощении, могут выбрать любого из живущих. Ну, видите, как это происходит?! Мой студент, мой любимец, выбрал комиссара криминальной полиции. Это же ясно как день, что, нет?!
— Совершенно, — сказал я.
Фройляйн погрызла свое печеньице:
— Чего я сначала никак не могла понять, почему они только теперь ищут убийцу, чтобы его избавить, мои друзья. — Знаете, они теперь все говорят мне «ты»! — И вот они сказали: «Ты была больна, Луиза, тебя сбили с толку. Ты все еще существо, чьи мысли можно спутать. Нас запутать уже нельзя, нас — нет. А когда ты запуталась, ты стала слушать ложных друзей…»
Фройляйн вдруг оборвала себя и пугливо глянула на меня.
— Что такое? — спросил я.
Она серьезно изрекла:
— Было столько ложных друзей, господин Роланд, поклянитесь мне, что вы не ложный друг! Это было бы ужасно! Это страшно! Я не такая уж умная, чтобы все это… А если еще и вы!.. — Она снова прервалась и, пристально изучив меня, решительно заявила: — Нет! Нет, вы не фальшивый! Вы настоящий друг, теперь я это точно вижу. Раньше, тогда я это еще не знала точно. Тогда я многого еще просто не понимала. И поэтому еще не все пришло к правильному концу, сказали мои друзья. — Теперь она говорила торопливо: — Еще никогда они не говорили со мной так ясно, господин Роланд! Совершенно четкие голоса! Я, конечно, не видела моих друзей, но было так, как будто они говорят мне прямо в ухо…
Ее взгляд застыл на чем-то вдали. Она долго молчала, потом сказала тихо и нерешительно:
— И все-таки! Я все время думаю, не сделала ли я что-нибудь не так.
— Не так?
— Ну, потому что я пошла по ложному пути. Я спрашивала моих друзей, все время спрашивала! Все время!
— И что?
— И они ничего мне не сказали. Я так молила их: «Ну скажите же мне, в чем тут смысл?» И они ответили мне: «Смысл есть, Луиза, и великая взаимосвязь, но мы не можем тебе их объяснить. Наберись терпения, — сказали они, мои друзья. — Подожди еще чуток и ты скоро узнаешь разгадку этой трудной загадки». Да, так они сказали мне… — Снова ее взгляд скользнул куда-то вдаль. — Ах, господин Роланд, когда я начинаю думать обо всем, что пережила, у меня вдруг все так ясно всплывает в памяти…
И она, без всяких побуждений с моей стороны, начала рассказывать обо всем пережитом. Она поведала о разговоре со своими друзьями на холме посреди болота после смерти Карела, о своей поездке в Гамбург, о бегстве от доктора Вольфганга Эркнера, о своем странном сне, где были город с высокими каменными стенами и четырьмя башнями и четыре тирана, о своих похождениях в Гамбурге, — все-все рассказала она мне.
Конечно, все это было не за один мой первый визит. Я задержался в Бремене, снял комнатку в небольшом пансионе, и снова и снова, вплоть до сильвестра,[140] навещал ее. С собой у меня были диктофон и кассеты, и на этот раз я узнал всю одиссею фройляйн. И много других вещей узнал я — странных и удивительных. Например, однажды, когда я только вошел к ней, фройляйн Луиза изрекла:
— У меня послание для вас и для господина Энгельгардта от моих друзей, господин Роланд. Они сообщили мне и сказали, чтобы я передала его вам, потому что вы хороший человек, господин Роланд…
И она заговорила в своей символической, многозначной манере о моем и Берти будущем.
Во время того последнего визита она сказала еще одну вещь, которую я непременно должен здесь упомянуть, потому что это произвело на меня неизгладимое впечатление…
— Я глупая, необразованная, я стара и слаба, но мне постоянно кажется…
— Что, фройляйн Луиза?
Она пристально посмотрела на меня.
— У меня такое чувство, как будто все, что с нами происходит, как в зеркале отражает судьбу всего мира. Заблуждения всего человечества — мы стали его центром. Я с самого начала почувствовала это. Поэтому я всегда была так взволнованна и беспокойна. Видите ли, господин Роланд, конечно, необходимо примирить убийцу и убиенного, чтобы все видели, что существует высшая справедливость, конечно, это очень важно. И все-таки! Это далеко не все. Речь о мире во всем мире. Речь о том, чтобы показать всему человечеству, что все беды, которые их гнетут, происходят оттого лишь, что люди следуют своим примитивным, крайне примитивным инстинктам, приземленным, — хотя, естественно, отчасти несчастье это только несчастье для того, чтобы послужить каждому отдельному человеку для его очищения и возвышения. Но это же правда, что большую часть своих сил и энергии люди растрачивают на самоуничтожение и абсолютно бессмысленную борьбу, и на смехотворные проблемы. А почему? Потому что они поражены слепотой, вот почему! Если бы они могли увидеть, если бы просто могли понять, что есть другой, чудесный, большой мир, который держит в своих руках весь этот наш крохотный, жалкий мирок, если бы только подумали, господин Роланд, тогда бы они, наконец, обратились к Высшему! К Прекрасному! К Религии! Разве это было бы не замечательно?! Я это только чувствую, я мало разбираюсь в этом. Но разве это не было бы чудесно?!
— Да, фройляйн Луиза, — сказал я. — Это было бы чудесно.
16
20 000 МАРОК ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ!
ОТЧАЯВШАЯСЯ МАТЬ ВЗЫВАЕТ О ПОМОЩИ!
12 ноября 1968 года в молодежном лагере «Нойроде» близ Бремена был застрелен мой одиннадцатилетний сын Карел. Преступник не оставил ни малейшего следа. Но точно установлено, что, по меньшей мере, три человека причастны к преступлению. Убийца стрелял из темного «доджа», на котором и скрылся. Второй мужчина, который был арестован в лагере, бежал из-под стражи и устремился к черному «бьюику», припаркованному у лагеря. За рулем этого «бьюика» находилась женщина, которая кричала ему: «Карл! Беги, Карл, беги!» С помощью этой женщины второму мужчине удалось скрыться на второй машине. Во всем этом предприятии у женщины были только функции помощницы. Умоляю вас, войти со мной в контакт, при этом гарантирую вам полную анонимность и вознаграждение в размере 20 000 марок за существенные показания. Отчаявшаяся мать апеллирует к совести этой женщины. Пожалуйста, дайте о себе знать под шифром АХ-453291.
— Ну, — обратился ко мне Макс, — классно читается?! Прима! — Он сиял.
— Твоя идея?
— Ясное дело, дружище!
Текст, который я только что привел, был помещен как частное объявление на самом заметном месте в одной из крупных гамбургских газет. Номера газеты были разложены в «Кинг-Конге», в маленьком помещении позади сцены. Кроме Макса здесь еще находились стриптизерша Бэби Блю и Конкон-отец. Было около полудня 10 января 1969 года, пятница. Я сел на ночной поезд и прибыл в Гамбург поздним утром.
— А через час выйдет «Гамбургер Абендблатт», так этт анонс ище и там. Вальта, ты приехал как раз вовремя. Мой нос чует, что все решится сёдня ночью, а мой нос меня ище никогда не обманывал!
— Что решится? — недоуменно спросил я. — Что вообще все это значит? И что еще за мать маленького Карела? Ее, похоже, давно уже нет в Германии — сколько ведомств искали ее понапрасну?!
— А в этом самый смак, — расцвел Макс.
— Не понимаю!
Днем раньше мне позвонила Тутти. Берти как раз был у меня, как частенько в последнее время, и редактировал мою сырую еще рукопись, содержавшую уже больше трехсот страниц.
— В чем дело, Тутти? — спросил я.
— Только что звонил Макс и сказал: ты должен сесть на ночной поезд и приехать в Гамбург.
— Макс в Гамбурге?
— Ага. Его кореши там пару дней назад попросили его приехать и кой в чем помочь. У них там проблемы, понимаешь, Вальта? А Макс же — голова, что, не?
— Что за проблемы?
— Чтотт с убийцей, — вздохнула Тутти. — Они уже все на рогах стоят. Макс говорит, ты обязательно должен приехать. У него есть идея. Поедешь?
— Разумеется, — заволновался я. — Конечно, Тутти! Черт подери твоего Макса!
— Да, моего козлика… — В ее голосе послышались романтические нотки. — Он настоящее золотко. Так что любой бабе, которая попробует увести у меня Макса, я порву брюхо. Он же любит меня, как и я его. Ах, Вальта, я так щаслива! Как раз перед тем, как слинять в Гамбург, он доказал мне свою любовь.
— И как же?
— Ну, у меня ж моя канарейка, мой Гансик, помнишь, не? Я ушла в магазин — Макс просил кой-чего купить — и оставила балконную дверь в нашей комнате приоткрытой, чтобы у Гансика был свежий воздух. Тут-то все и случилось.
— Что, Тутти?
— Ну, балкон ж идет вокруг всего дома. Так что приходит Макс домой, и что он видит?!
— Что?
— Жирного черного котяру! Небось залез через балконы. Сидит этт падаль перед клеткой с Гансиком и то и дело сует свои лапы через прутья, ну, знаешь, как коты этт делают? Бедную птичку от страха чуть удар не хватил. Ну вот, Макс увидел этт скотину, заорал — и молнией на него! И могу те сказать, Вальта, этт котяра, этт падаль до смерти перепугался и как сиганет вниз с балкона, прямо на улицу! Мы-то всего на втором этаже живем. Вот так Макс спас жизнь моему Гансику. Ну, этт не чудо?! Гансику, которого он всегда так обкладывал! Знаешь, Вальта, тогда я и поняла, что то, что у Макса ко мне, — этт настоящая большая любовь…
Такой вот телефонный разговор. Я сказал Берти, что должен уехать, сказал, куда, и он ответил, что пока меня не будет, поработает над рукописью — у него как раз есть время. Ключ ему дал Хэм.
И вот я сижу в Гамбурге, читаю объявление и не понимаю ничего.
— И почему это самый смак в том, что матери мальчика, по всей видимости, нет? Кто же тогда заплатит вознаграждение, если эта женщина и вправду проявится и выложит все?
— Ну мы же, — ответила Бэби Блю. На ней было миниплатье, а сверху норка, хотя в помещении было тепло. Папаша Конкон был одет в свою белую клозетную униформу.
— Откуда у вас двадцать тысяч марок?
— Пожертвования, — сказал старик Конкон.
— Пожертвования? От кого?
— Ото всех, — вмешалась Бэби Блю со своим швабским акцентом. — «Интим-бар», «Лолита», «Какаду», «Эльдорадо», «Лидо», «Шоу-ранчо»…
Она бы перечисляла и дальше, если бы не вмешался Макс и не разъяснил мне все окончательно. Приятели, сутенеры, вызвали его в этот ганзейский город, чтобы он пришел им в трудный час на помощь. На Сан-Паули обрушилась беда. Полицейские с Давидсвахе под руководством комиссара Сиверса ночь за ночью беспрерывно и немилосердно прочесывали весь квартал развлечений. Они появлялись и в «Центре эротики», и во «Дворце Амура», и во всех заведениях со стриптизом, в пансионах и в номерах. Они проводили облавы, заставляли перепуганных отцов семейств предъявлять документы и переписывали их фамилии. Проститутки были в таком же отчаянии, как и их коллеги мужского пола, и сутенеры, и хозяева заведений, и стриптизерши. Мало кто из посетителей отваживался теперь заглянуть в Сан-Паули. Если такое продлится еще пару недель, можно будет объявлять о банкротстве.
— Не пощадили ни одного порно-кинотеатра. Это уж слишком! С девяти утра до полуночи! У них был один настоящий хит — «Девочка эпохи ампира». Были вынуждены снять. Во время сеанса по меньшей мере дважды зажигали свет, и полипы проходили по залу и проверяли у всех документы. Ну и в конце концов никто не хотел идти на «эпоху ампира». А теперь вообще «временно» закрыли.
— Если так пойдет и дальше, — вклинился папаша Конкон, — мы все закроемся. — На левом рукаве его клозетной униформы красовалась черная траурная лента.
— Облавы в «Секс-шопе», в «Шпиль-казино», в «Стрип-центре». Ну кто это выдержит! Мы уже все дошли до ручки. Каждый вечер, как только я вставляю себе скипетр, жду, что кто-то заорет: «Стой! Кончай! Свет! Документы!» — пожаловалась Бэби Блю.
— Скоро все вылетим в трубу, — добавил папаша Конкон. — Тысячные потери! Товарооборот упал на шестьдесят процентов! Это катастрофа!
Я подумал о нашей ночной встрече в здании вокзала с этим странным комиссаром Сиверсом из отдела убийств и о том, что он тогда сказал мне. По его словам выходило, что молодой Конкон и малыш Карел были убиты одним и тем же человеком, и он знал, как его найти. Вот, значит, каким был его план: так перетряхнуть весь Сан-Паули, чтобы все, что здесь трудилось и зарабатывало, объединилось чисто из инстинкта самосохранения и устроило охоту на убийцу. Хороший план. И действенный, как оказалось. Да, но он уже был у комиссара задолго до того, как фройляйн Луиза сказала мне в больничной палате в Бремене, что теперь ее друзья «избавят» убийцу. А сейчас комиссар просто привел этот план в действие. Но тут мне пришло в голову другое ее высказывание по сходному поводу. Помнится, я ее спросил: «Значит, ваши друзья начали действовать еще до того, как вы подвигли их на это?» На что она мне ответила: «По земным понятиям, да. А на самом деле, конечно, после этого. Потому что во Вселенной нет ничего нелогичного». И она изложила мне, что во Вселенной, в другом, настоящем мире, и самого понятия времени в нашем убогом смысле, этого тупого хронологического хода событий не существует. Начало есть конец, а конец — начало.
У меня перехватило дыхание, потому что совершенно неожиданно я осознал, что на самом деле уже считаю этого комиссара Сиверса одним из друзей фройляйн Луизы, студентом, как она мне с улыбкой поведала, когда я рассказал ей о своей встрече с комиссаром…
А план Сиверса разворачивался!
— Мы вынуждены были объединиться, — говорила Бэби Блю. — Надо найти убийцу. Вы, господин Роланд, говорите, что матери этого Карела, похоже, нет в Германии. Но известно ли это убийце? Нет.
— А может, да, — сказал папаша Конкон. — Но это без разницы. Главное, убийца читает все эти объявления…
— И думает, что это или по правде объявления матери, или какая-то приманка. В любом случае он должен сейчас дрожать, что та женщина, что была с ними в Нойроде, тоже читает эти объявления и погонится за бешеными деньгами… — подхватила Бэби Блю.
— И ответит на шифр. А такого он не может допустить. Это ведь ясно? — продолжил папаша Конкон.
Я кивнул.
— И поэтому мы сделали добровольные пожертвования — все, кого я уже назвал, и еще много-много других: «Сен-Тропез», «Инн-Сахара», «Шалый Шмель», «Стальная Паутина», «Эллис Элиот», секс-театр «Римемба», «Отель-клуб», «Дядюшка Хьюго» и даже закусочная «Колбаски Шредера». Все без исключения. И вот уже первый успех! — победно закончил папаша Конкон.
— Час назад, — уточнила Бэби Блю.
— Что за успех?
— Она, хныча и трясясь от страха пришла к Бэби Блю, в ее квартиру, и умоляла о помощи, — гордо сообщил Макс.
— Кто?
— Тамара Скиннер, — сказал папаша Конкон.
— А кто такая Тамара Скиннер?
— Ну, одна девица, но девица особая, — пояснил он.
— Что значит «особая»?
— Ну этт ж та женщина, которую мы искали по объявлению, — удивился Макс моей несообразительности. — Этт она была за рулем второй машины там, в Нойроде!
— Черт меня побери! — воскликнул я.
— Чё, дошло?! И Тамара все выложила Бэби Блю!
— Она не так уж хорошо меня знает, но больше у нее нет подруг, — заявила «сенсация из „Крэйзи Хоз“».
— Что она рассказала, Макс?
— Что в тот день, ну, в тот, когда все случилось в лагере, к ней ище утром пришел один такой смешной клиент. Он хотел от нее только чтоб она вела машину, ну, с младшим Конконом. Того она, конечно, знала. Чтоб они ехали в лагерь. И пообещал за этт две штуки бабок, и потом, точно, заплатил. Просто чтоб она отвезла туда Конкона и подождала у ворот, и потом назад с Конконом в Гамбург, с ним и ище с одной деушкой.
— Девушка, должно быть, Ирина.
— Истессна! Но тогда все пошло наперекосяк, так ить! Она уж так была рада, когда они с Конконом убрались оттуда, этт Тамара. А потом, когда его укокошили, до смерти перепугалась. Молилась день и ночь, чтоб ее оставили в покое и чтоб этого мужика, который ее ангажировал, больше в жизни не видать. И не видала. До сёдня. А теперь от страха не знает, куда деться. С сёдня она просто уверена, что он, конечно, снова появится и обязательно убьет ее. Как можно скорее. Из-за этого объявления. — Макс одарил меня лучезарной улыбкой. — Все идет как по маслу, не?
— Да, — сказал я, — как по маслу.
— После этого объявления, — ликовала Бэби Блю, — у убийцы минуты спокойной не будет! После этого объявления он будет трястись, что Тамара, под шифром, заявит в полицию или побежит к подружке — что она и сделала — и все расскажет. Что была в лагере, и как выглядел этот мужчина, который ее нанял, — тот, который был во второй машине и застрелил мальчика.
— Она сказала вам, как его зовут?
— Нет, этого она не знает. Но она мне его описала.
— Ну, и?..
— Высокий мужчина. Хорошо одет. Очень чисто говорит по-немецки. Синее пальто…
Во мне шевельнулись какие-то неясные воспоминания. Очень похоже описывала мне фройляйн Луиза украинского лакея из отеля «Париж», который заходил к Карлу Конкону.
— …Продолговатое лицо. Узкие губы. Черные волосы. Бакенбарды. Тамара говорит, что узнает его сразу.
— Молодчина, Макс! — сказал я ему.
— Ну, — гордо ответил тот. — Теперь снова будут говорить о Максовой голове, а то только о его «джонни»!
— Свои двадцать тысяч Тамара уже получила. Все как следует.
— И что дальше? — спросил я. — Женщина ведь действительно в смертельной опасности!
— Это ясно, — ответила Бэби Блю. — Тамара живет здесь неподалеку. На Ханс-Альберс-плац. Боится из дома нос высунуть.
— Само собой, за ней присматривают, — сказал Макс. — Ни на секунду глаз с нее не спускают. Ни мы, ни полицаи.
— Вы и полицию поставили в известность?
— Ну, — сказал папаша Конкон, — комиссара Сиверса и Давидсвахе. Тамаре, может, влепят штраф, — но не сильно, сказал комиссар. Там сейчас полицейские с Давидсвахе и от комиссара и наши люди тоже. Они смотрят за Тамарой и ждут, что этот малый появится… а он точно появится!
— А что за ваши люди? — спросил я.
— А-а, знаете, — ответил папаша Конкон, — целая интернациональная бригада.
— Интернациональная бригада?
— А чё ты хочешь, Вальта! — вклинился Макс.
— Два бармена, — начала перечислять Бэби Блю. — Один из них француз, другой американец, остался здесь после войны.
— Трое вышибал, — подхватил папаша Конкон. — Нам нужны крепкие парни. Немец, поляк и голландец.
— Потом Панас Мырный, — продолжала Бэби Блю. — Лакей из отеля «Париж», украинец. Пожилой человек. Он сам настоял, что тоже будет участвовать. Давно уже прячется у дома, где живет Тамара, следит за входом.
— Кто там ище? А, да. Один хозяин заведения собственной персоной. Тяжеловес. Был борцом на ринге. Он этого типа в пюре размажет, говорю тебе. Здешний, гамбуржец.
— То бишь, немец.
— Ясна дела, немец, — подтвердил Макс. — Разумное заключение, ха!
— И русский у нас тоже есть, — сказала Бэби Блю. — Механик с заправки, тут неподалеку. Тамара и он жутко втюрились друг в друга. Уж несколько недель, как знакомы.
— А русский как здесь оказался? — Я не переставал думать о фройляйн Луизе.
— Он сын советского офицера, который во время войны снюхался с немцами. В сорок пятом сбежал с маленьким сыном в Западную Германию, здесь и остался. И умер здесь. Сына зовут Сергей. Он сейчас засел в квартире у Тамары.
— А остальные кто где — на крышах, в коридорах, в разных местах на Ханс-Альберс-плац, — добавил Конкон.
— Потом еще Юрий, — продолжала перечислять Бэби Блю.
— А кто такой Юрий?
— Мой сладенький. Уже четыре месяца здесь. Сбежал из Брно. Мы живем вместе. Он тоже на стреме.
«И в заключение комиссар Сиверс, который привел все это в движение, тоже немец», — подумал я.
Одиннадцать мужчин, которые охраняют Тамару Скиннер, кроме полицейских и Макса. Одиннадцать человек тех же национальностей, что и мертвые друзья фройляйн Луизы…
17
— Если выживу, то на эти деньги арендую для Сергея заправку. У одного старика. Он давно хочет сдать ее в аренду и удалиться на покой. И сама стану порядочной, — шептала Тамара Скиннер.
Ей было около тридцати. Очень симпатичная блондинка с очень розовой кожей. Она беспрерывно курила, одну сигарету за другой. Сергей, ее друг, бегло говорил по-немецки, он постоянно нашептывал ей что-то ласковое и успокаивающее. Мы с комиссаром Сиверсом уже с семи часов вечера сидели в комнате Тамары. Сейчас дело было к полуночи. Дом, в котором жила Тамара, был старым, уродливым и ветхим. Здесь обитала беднота и проживало несколько проституток. Ночь от мороза звенела. И все-таки во всех подворотнях вокруг площади и по соседней Герхардштрассе, перед пивнушками и барами, топталась еще куча девочек, которые пытались составить конкуренцию тем, с Хербертштрассе, закрытой буферной улицы. Тамара уже в третий раз заваривала всем нам крепкий кофе.
Люди комиссара и полицейские с Давидсвахе, равно как и добровольные защитники Тамары, рассыпавшись по всей окрестности, караулили уже несколько часов. Конечно, могло случиться и так, что караулили впустую. Мы говорили мало и тихо, потому что все-таки надеялись, что визит к Тамаре состоится, а на убогой лестничной площадке с окошком в конце было слышно любое громкое слово. Квартира Тамары располагалась на третьем этаже. Этот многочасовой шепот и хождение на цыпочках уже действовали мне на нервы. Тамара и без того дрожала от страха. Русский и комиссар были само спокойствие. Теперь, когда Тамара налила всем свежего кофе, комиссар прошептал мне:
— Увидите, что я был прав. У того, кто придет, на совести Конкон и Карел.
— И как вы собираетесь это установить?
— Если его опознают и Тамара, и Панас Мырный — то это один и тот же человек. — Сиверс кивком поблагодарил Тамару и налил себе в кофе молока. — Того русского таксиста, Владимира Иванова, его не он застрелил, это я уже знаю.
— А кто?
— Американцы, — еле слышно ответил Сиверс. — Люди с Ниндорфер-штрассе, 333. Есть масса всяких тому доказательств. Да, там включились другие. Это американцам необходимо было убрать Иванова, потому что он знал об утопленном грузовике, а особенно после того как он сказал, что найдет шофера того грузовика и заявит на него в полицию. Очень хороший кофе, Тамара, и раз от разу все лучше. Может, мы останемся на всю ночь, а потом снова придем.
Тамара вымученно улыбнулась, а Сергей снова ей что-то прошептал своим басовитым голосом.
— Так что одна смерть, может, и останется безнаказанной, — шептал комиссар, — но две других будут искуплены, я в этом поклялся.
— Поклялись? — я вздрогнул, снова вспомнив слова фройляйн Луизы. — Кому?
— Самому себе, — слегка улыбнулся он, как будто доставил себе маленькую личную радость.
Я провоцирующе сказал:
— Фройляйн Луизе уже лучше.
— Знаю.
— Знаете? Откуда?
— Я говорил с ней.
— Что?
— Ну-ну, что это вы так разнервничались? Я звонил в клинику, и ее пригласили к телефону — вчера. — И тихо добавил: — Скоро она выйдет оттуда…
В этот момент Сергей подал знак молчать. У него был самый тонкий слух. За дверью послышался шорох. Кто-то на цыпочках поднимался по лестнице. Лестница была деревянной, и время от времени поскрипывали ступени.
Тамара прижала обе руки к груди, губы ее дрожали. Крадущиеся шаги все приближались. Вот скрипнула еще одна доска.
Одними губами комиссар призвал Тамару к спокойствию, потом мотнул головой нам с русским. Мы выскользнули из комнаты в коридор и встали за открытой дверью в ванную комнату, которая была прямо у входа. Здесь было тесно. Мы прижались друг к другу. Неожиданно в руке у комиссара оказался массивный пистолет. Я бы тоже не отказался от оружия, но мой «кольт-45» забрали любезные господа из «Блица», наряду со всем прочим.
Шаги остановились возле двери. Дверь была старой, и должно быть, в щель под ней проникал свет. Раздался стук. Сиверс махнул Тамаре пистолетом — открывать. Нетвердым шагом она вышла в прихожую и крикнула:
— Кто там?
— Давай, открывай уже, дорогуша, — сказал мужской голос.
Я знал этот голос. Откуда? Откуда он был мне знаком? В голову ничего не приходило. Тамара сняла цепочку и, приоткрыв дверь, отступила на два шага. В узкой ванной я стоял позади всех и не мог видеть мужчину, который входил. А тот, похоже, заметил пистолет Сиверса, слишком выдвинувшегося вперед, резко развернулся, и по коридору загромыхали его удаляющиеся шаги.
— Это он! Это он! — закричала Тамара не своим голосом.
Комиссар, Сергей и я бросились в коридор. Я еще увидел, как мужская фигура взлетела на подоконник в конце лестничной площадки, распахнулись створки окна, в лицо нам ударила струя морозного воздуха. И в следующее мгновение человек спрыгнул вниз.
Мы все бросились к окну. Где-то в полутора метрах под окном тянулась плоская крыша. Мужчина мчался во всю прыть, тенью промелькнул по краю крыши, где проходила пожарная лестница, прыгнул на нее и исчез.
— Проклятье, — выругался Сиверс и трижды дунул в свой заливистый свисток.
Он спрыгнул на крышу, мы с Сергеем последовали за ним. На крыше лежал снег. Я поскользнулся и чуть было не скатился с крыши, Сергей ухватил меня в последний момент. Я до крови распорол руку. И снова, тяжело дыша, мы побежали за Сиверсом к пожарной лестнице. Ее перекладины обледенели, и друг за другом, спотыкаясь, мы свалились в захламленный всяческой рухлядью заброшенный двор. Из него вел узенький проход, в конце которого брезжил просвет. Мы понеслись дальше и, выскочив из него, снова оказались на Ханс-Альберс-плац.
Одновременно с комиссаром мы заметили тень человека, бегущего вниз, на Герхардштрассе, к «Камельку у Мэри». Из подворотен, с крыш по лестницам сбегалась куча народу: и люди комиссара, и Тамарина добровольная охрана. Среди них я разглядел Макса и старого лакея Панаса Мырного, который, задыхаясь, кричал на бегу:
— Это был тот человек… тот человек… из отеля!.. Это был он!..
— Ну, видите! — не останавливаясь, ухмыльнулся Сиверс.
Его люди уже мчались по Хербертштрассе, распугивая растерянных шлюх, ночных гуляк, сутенеров, и через невысокие сугробы врывались на Герхардштрассе — вслед за тенью. Вдруг тень резко повернулась. Что-то блеснуло. Потом прогремел выстрел. Все бросились врассыпную к стенам домов.
— Вперед! — скомандовал комиссар и побежал дальше. Мы с Сергеем за ним. Я постоянно оскальзывался на своих кожаных подметках.
Герхардштрассе вливалась в Эрихштрассе. Тень на мгновенье остановилась. Наверное слева от него показались преследователи, потому что он снова выстрелил и свернул направо за «Камелек у Мэри». Вся Эрихштрассе состоит сплошь из старых убогих домишек. Добежав до нее, мы наткнулись на троих полицейских с Давидсвахе, один из которых был в форме и с оружием в руках.
— Куда он, Лютьенс? — крикнул Сиверс.
— Вниз по улице и налево, за угол на Балдуинштрассе! — так же крича ответил Лютьенс.
Мы помчались дальше. Мы — это не меньше двух дюжин мужчин и одна женщина. Потому что Тамара нагнала нас. Мы неслись по Балдуинштрассе, мимо Бернард-Нохт-штрассе, мимо знаменитой пивной «Дядюшка Макс». Эта улица кончалась возле лестницы, ведущей к портовой дороге Сан-Паули. Я снова увидел тень беглеца.
Вслед ему стреляли полицейские. Он отстреливался. Одному из них попал в ногу, тот упал. Второй остановился, чтобы помочь раненому, остальные ринулись дальше, скользя по гладкому льду, скатывались с лестницы. Я снова упал и снова поднялся на ноги. Здесь, внизу были огромные, запорошенные снегом кучи гравия. Вдоль них тянулась «дорога свиданий». При нашем приближении придорожные шлюшки с визгом разбегались, машины газовали. Эта «дорога свиданий» функционировала во всякое время года. Девочки договаривались с водителями, и все делали прямо здесь, в машине. Я опять поскользнулся — на этот раз на презервативе. Я прекрасно знал Гамбург и эту «дорогу свиданий». По утрам, после особо оживленных ночей, здесь можно было обнаружить от двадцати до тридцати презервативов на квадратный метр. Проклиная все, я поднялся. Я упал возле маленького стильного портового кафе, в котором выступали знаменитые звезды и собирались не менее знаменитые посетители.
— Там, внизу! — крикнул кто-то.
Я увидел, как тень скользила к воде вниз по каменной лестнице на другой стороне дороги. При этом человек беспрерывно оборачивался и стрелял. Практически беспрерывно. То и дело перезаряжая — было слышно, как он вставляет новую обойму. Многие стреляли ему вслед. В конце лестницы, у самой воды, начинались опоры бесконечного понтонного моста, который тянулся отсюда до Рыбного рынка на той стороне.
— Если он сейчас скроется там внизу… — прохрипел возле меня Макс.
Да, тогда дело плохо. Уже за второй опорой понтона можно было прекрасно спрятаться. Там внутри была непроглядная тьма, и о прицельной стрельбе нечего было и думать — отсюда туда. Наоборот — сколько угодно, как я тут же убедился. Мимо моего виска просвистела пуля. И только потом я услышал звук выстрела.
— Осторожно! — прокричал Сиверс.
Он бросился на землю и послал друг за другом четыре выстрела. За ним последовали другие выстрелы. Снова клацанье затворов. Новые выстрелы. Никто не мог бы сказать наверняка, что попал он, но вдруг все мы услышали громкий вскрик, потом стон — и тишина.
Медленно, осторожно и почти беззвучно со всех сторон потянулись мужчины. Тамара и Мырный оказались теперь рядом со мной. Полицейские и унтер-офицер Лютьенс держали оружие наготове. Никто не хотел рисковать.
— Выходите! — крикнул Сиверс.
Никакого ответа.
— Немедленно выходите или мы двинемся к вам!
Никакого ответа.
— Ну, погодите! — Прижавшись к причальной стенке, нащупывая ногой ступени, он шагнул вниз к понтону. Он схватился за свою куртку, и сразу вслед за этим загорелся яркий фонарик. Я двинулся за Сиверсом и за второй опорой понтона, на распорке над водой увидел лежащего вниз лицом, с широко раскинутыми руками человека… нашего беглеца.
Лютьенс задержал толпу, устремившуюся вниз. Люди остановились: запыхавшиеся, вооруженные, без оружия, полицейские и гражданские, немцы и иностранцы.
— Помедленнее. Так дело не пойдет…
Я сидел на каменной ступени и смотрел, как комиссар наклонился над неподвижным телом. Луч фонарика скользнул по моторной лодке, накрепко привязанной к третьей опоре.
— Лодка! Он приплыл сюда на моторной лодке и так же собирался удрать! — еле выдохнул Лютьенс.
— Фройляйн Скиннер! Господин Мырный! — раздался в тишине голос комиссара. — Спуститесь-ка сюда!
Лютьенс пропустил обоих.
Они пролезли по сходням под понтонный мост к Сиверсу. Я беспрепятственно последовал за ними.
Светлое пальто человека быстро окрашивалось в красный цвет. Из того места на спине, где было сердце, вытекала кровь.
Мы трое, Тамара, Мырный и я, подошли теперь совсем близко. Под нами бурлила вода и лизала наши башмаки. Сходни были скользкими. Я держался за поперечину.
— Ну, — произнес склонившийся над трупом Сиверс, — покажи нам свое личико!
Он осторожно перевернул тело на спину.
Я смотрел в лицо слуги Олафа Нотунга.
18
В семь пятнадцать на следующее утро я прибыл на Центральный вокзал Бремена. Пастор Демель ожидал меня на перроне. Мы пожали друг другу руки и молча проследовали к «фольксвагену». Демель выглядел бледным после бессонной ночи и совершенно измотанным. По дороге, в машине он еще долго молчал.
Его звонок застал меня в три ночи на Давидсвахе. Это Хэм посоветовал ему попробовать разыскать меня там, когда он позвонил к нему. Демель был сильно взволнован и просил меня непременно приехать первым поездом в Бремен, что я и сделал, сам крайне потрясенный тем, что он рассказал мне по телефону…
Мы выехали на автобан. Здесь по обочинам лежал свежевыпавший снег. День был пасмурным, низко висели облака.
— Вы, наверное, захотите узнать, как все произошло.
— Разумеется, — сказал я.
— Я могу вам все рассказать достаточно полно и в хронологическом порядке — после всех показаний свидетелей, которых мы опросили за это время… Итак, по порядку. Вчера вечером в половине десятого фройляйн Луиза, в пальто и шляпке, появилась у домика охраны при въезде в больницу Людвига…
Привратнику, как я узнал дальше, который, как и весь персонал больницы, хорошо знал фройляйн Луизу, бросилось в глаза, что она просто сияла, счастливая, как никогда. Казалось, что она никуда не спешила.
— Мне снова надо выйти, — сказала фройляйн. — Господин профессор попросил меня. Он ведь часто не может заснуть, и тогда курит, а сегодня у него кончились его любимые сигареты. Выйду, куплю ему пару пачек.
— Хорошо, фройляйн Луиза.
— А как себя чувствует ваша Элизабет? Со свинкой шутки плохи!
— Уже лучше, фройляйн Луиза. Доктор говорит, скоро она совсем поправится.
— Я очень рада. Знаете, у меня как-то был ребенок…
И фройляйн Луиза рассказала историю с осложнениями после свинки, а потом еще поболтала с привратником о двух других его детях. В конце концов она заторопилась и вышла на темную улицу. В это время шел сильный снег…
Когда через полчаса фройляйн все еще не вернулась, привратник позвонил в частное отделение и сообщил о происшедшем ночной сестре. Та разбудила дежурного врача. Чисто случайно им оказался длинноволосый доктор Гермела. Тот по телефону попробовал наехать на привратника, мол чего это ему взбрело в голову выпускать фройляйн из больницы в такое позднее время.
— Прошу прощения, господин доктор, — ответил привратник с подчеркнутой вежливостью, — но я подумал, что если у нас сейчас идет демократизация психиатрии и уже вводится парламент пациентов, то это будет совершенно в вашем духе…
Таким высказыванием привратник хотел показать этому доктору Гермеле, которого он терпеть не мог, как и всю его тщеславную банду молодых революционных врачей, во что он его на самом деле ставит. Позже, ночью, когда на ноги была поднята вся клиника, он, конечно, получил строгий выговор.
Сначала Гермела побежал в комнату фройляйн Луизы и обнаружил, что она забрала с собой шарф, перчатки, шляпку, пальто и все сэкономленные деньги — подношения дочери профессора Леглунда. В надежде узнать что-нибудь от Леглунда, Гермела бросился к нему. Старый профессор еще не спал.
— Фройляйн Луиза? — удивился он. — Что значит, где она? Она же умерла двенадцать лет назад…
Теперь Гермела уже по-настоящему струхнул. Он поднял тревогу.
А в это время фройляйн Луиза уже ехала в такси по ночному автобану. Она выбрала одну из машин, которые парковались недалеко от больницы в ожидании клиентов. Таксист, вернувшийся из этой поездки на то же место у клиники, услышал от привратника о том, что произошло, и сообщил о своей встрече с фройляйн.
— Она была очень любезна, — рассказал он доктору Вольфгангу Эркнеру, который теперь руководил поисками фройляйн Луизы. — Только я подумал, что она из какой-то секты.
— Почему это?
— Потому что…
— …так что, знаете ли, человеку в вашем возрасте должно быть стыдно! — сказала фройляйн через несколько минут поездки.
Она сидела рядом с шофером. И с укором показала на раскрытый номер «Плейбоя», лежащий между ними. Очень неудачно раскрытый.
— Перестаньте грешить, — говорила фройляйн. — Вот только когда вы окажетесь в другом мире, тогда вы и почувствуете, какой ерундой занимались здесь. Было бы лучше, если бы вы уже сейчас готовились к тому миру…
«Правда, очень милая фройляйн, только уж очень религиозная», — скажет шофер позже.
Снегопад внезапно прекратился, покров облаков разорвался, и засветила луна.
— Побыстрее, — попросила фройляйн шофера. — Вы можете побыстрее?
— Как пожелаете.
— Я, понимаете ли, очень спешу.
— Спешите? А почему?
— Ах, видите ли, возможно у меня только один этот вечер! Меня уже давно зовут мои друзья. Беспрерывно! Мне надо к ним! Я должна к ним прийти! Как можно скорее! Тогда наступит развязка одного важного дела.
— У вас друзья в Нойроде? — спросил шофер, потому что Нойроде фройляйн назвала как конечный пункт.
— Да. Хорошие друзья. Самые лучшие. И они ждут меня. Мне надо поторопиться. Вы можете еще быстрее, пожалуйста!
— Ради Бога, — ответил шофер.
Но на разбитой дороге ехать так же быстро было уже нельзя. Перед восточным въездом в Нойроде фройляйн попросила остановить.
— Но мы еще не доехали до Нойроде!
— Знаю. Но… но я хочу немножко пройтись пешком. Подышать воздухом, — ответила фройляйн. — Сколько с меня?
Шофер назвал сумму. Фройляйн расплатилась, причем деньги вынимала из бумажного мешочка — это еще бросилось шоферу в глаза. Она дала ему пять марок на чай.
— Благодарю вас, — сказал таксист. — И всего вам доброго!
— Вам также! — радостно ответила фройляйн Луиза, выходя из машины на свежевыпавший снег. — И вам, мой дорогой! И кончайте с вашими глупыми грехами, хорошо?!
Таксист рассмеялся, доехал до того места, где можно было развернуться, а на обратном пути уже не видел фройляйн Луизу, да он ее и не высматривал.
Сообщение шофера доктор Эркнер получил в двадцать три сорок пять. Он тут же позвонил в лагерь «Нойроде». По ночам телефон подключали к спальне директора лагеря доктора Хорста Шаля — коммутатор не работал.
Услышав вопрос, а потом и рассказ Эркнера, доктор Шаль выскочил из постели. Он разбудил лагерного врача доктора Шимана, шофера Кушке и пастора Демеля. Вместе они помчались по лагерю, опросили старого охранника, дежурившего у ворот, уже без надежды заглянули в кабинет фройляйн Луизы, а потом начали громко звать ее.
Их крик разбудил весь лагерь, взрослых и детей. Юная испанка подошла к группе мужчин. Она, похоже, еще и не раздевалась и была очень взволнована. Шаль говорил по-испански. Он расспросил девушку, а потом перевел остальным:
— Хуанита говорит, что сегодня была в баре «Выстрел в затылок». Очень долго. С одним мужчиной, который хотел дать ей место танцовщицы в Гамбурге. Мужчина напоил ее и довольно основательно, вы же видите. — Красивая девочка и вправду была сильно пьяна. — Хуанита говорит, что в конце концов здорово испугалась и убежала от мужчины, назад, в лагерь. Она бежала и все время оглядывалась, не преследует ли тот ее.
— А дальше что? — спросил Кушке.
— Тот не преследовал, — продолжил Шаль. — Но показалась какая-то машина, которая разворачивалась в деревне, а потом в лунном свете Хуанита увидела одинокую фигуру. Она может нам точно показать, где. Она не знает, была ли это фройляйн, но говорит, что вполне возможно. Она говорит, что фигура по другую сторону деревни вошла в заросли камыша у болота.
— Ах ты, сено-солома! — воскликнул Кушке.
— А потом, говорит Хуанита, фигура пошла по болоту, но как будто плыла над ним по воздуху, — переводил доктор Шаль. — Она парила так довольно долго, а потом вдруг пропала…
— Так, теперь быстро! — закричал Кушке.
— Боюсь, что так быстро уже не получится, — сказал пастор.
После этого стало тихо. Никто не проронил ни слова. Только луна светила на кучку людей. Да Хуанита начала по-пьяному всхлипывать.
Доктор Шаль нарушил молчание:
— Пойду позвоню пожарным. Может им удастся…
Не закончив фразу, он побежал к своему бараку.
19
— Пожарные приехали быстро, — рассказывал пастор Демель. — Три машины из соседних деревень. С полным оснащением и прожекторами. Пожарники работали всю ночь напролет. И сейчас еще работают.
— А то место вы нашли?
— Да, Хуанита показала нам еще до приезда пожарных. Перед деревней фройляйн свернула в болото — на ту узенькую тропку, по которой она все время ходила к своим друзьям на холм. Я нашел ее следы. С сегодняшней ночи там и ищут.
— И ничего не находят, — тихо промолвил я.
— Да, ничего, — еще тише подтвердил пастор.
После этого мы замолчали, пастор свернул на эту ужасную дорогу, с ее выбоинами и убогими деревеньками. Сегодня она мне показалась в тысячу раз безотраднее, чем тогда, когда я ехал по ней впервые. И вся местность казалась жуткой. Твердая почва была покрыта снегом, а все болото, за исключением небольших белых возвышений, выглядело поверхностью глубокой черноты. Заснеженными стояли голые остовы берез, ольхи и вётел. Как пики торчали по краю сухие стебли камыша. А за ними в тумане и мороке далеко простиралось болото. Мы, наконец-то прибыли.
Дорогу перегородили красные пожарные машины. Дальше в болоте виднелись люди с лестницами и люди на досках. Они шарили длинными жердями в грязных черных водах. Иные сидели на корточках на деревянных платформах машин и пили из бумажных стаканчиков горячий кофе. Среди них я увидел директора лагеря доктора Шаля, лагерного врача доктора Шиманна, шофера Кушке и доктора Вольфганга Эркнера. Демель остановился. Мы вышли. Я поздоровался со всеми. Все они были бледными и небритыми и валились с ног от усталости.
Директор лагеря сказал:
— Скоро придется сворачивать поиски. Обшарили жердями практически каждый квадратный метр болота на том участке. И ничего не нашли. Вообще ничего. Ни клочка одежды. Исчезла без следа.
— Без следа, — эхом повторил Кушке и уставился на свои большие руки.
Доктор Эркнер, растрепанный, без шляпы, горько вздохнул:
— Это уже второй случай за последние три месяца, когда сбегает пациент. Больше я такого не потерплю! А фройляйн уже была совсем здорова!..
— Здорова? — переспросил я.
— Да, конечно. А что?
Я рассказал ему, что фройляйн Луиза, напротив, вернулась в свое прежнее состояние, когда я в последний раз видел ее. Так что она это только ловко скрывала от врачей. Эркнер строго спросил с меня:
— Почему же вы не сообщили об этом?
— Я сообщил. Еще гораздо раньше, как только появились первые признаки. Я хотел попасть к вам, но меня перехватил доктор Гермела. Ему я все и выложил. А он сказал мне, чтобы я занимался своими делами и не совал нос, куда не следует. Что фройляйн прекрасно интегрирует в ваше терапевтическое сообщество. Потом еще осадил меня и прочитал мне лекцию о демократизации психиатрии и о…
— Хватит! — прорычал Эркнер. — Не могу больше этого слышать! Значит, Гермела! Проклятье! Видит Бог, я ничего не имею против длинных волос и бород, и против новых идей. Но этому типу я уж вправлю мозги, будьте уверены!
— Только это не воскресит фройляйн Луизу, — возразил я.
Подошли пастор и доктор Шалль.
— Радостной и счастливой, как никогда, прилетела сюда фройляйн Луиза. Потому что ее позвали ее друзья, — с расстановкой сказал я.
— Да, — отозвался Демель. — Радостной и счастливой, как никогда, так и показали все свидетели. — Он немного помолчал, а потом изрек в никуда: — «Позволь же мне со всем проститься — не плача, а ликуя, словно лебедь…» Чьи это строки?
Никто не знал.
— Я бы хотел сам там посмотреть, — попросил я.
Мне дали прорезиненный комбинезон — такой же, в каких были все мужчины на лестницах и досках, — жердь для обшаривания, и я заскользил, лежа на лестнице и отталкиваясь жердью вдоль узкой, заснеженной тропки в болото. На снегу, покрывавшем тропинку, были четко видны отпечатки остроносых женских ботинок, расположенные близко друг к другу, как будто фройляйн здесь семенила, спеша. Метр за метром: один, еще один. И вдруг как отрезало. Дальше следов не было. Ни единого. Только свежий нетронутый снег. Я лежал на своей лестнице, придавленный тяжестью резинового комбинезона, и таращился на последний отпечаток ботинка. Ко мне, передвигаясь таким же образом, приблизился один из пожарников. Он долго молча рассматривал меня, потом сказал:
— Да, вот здесь она и ушла. Но мы здесь уже все обшарили не один раз. Здесь внизу ее нет.
— Но она должна лежать здесь!
— Да. Должна бы. Но не лежит. Мы ничего не нашли. — Он снова удалился с помощью своей жерди. А я еще долго лежал без движения возле тропки с последним следом на снегу и думал о фройляйн Луизе. Потом я продрог и поспешил из болота. Я скинул комбинезон, переоделся в свое пальто и спросил пастора, нельзя ли мне еще раз пойти в лагерь, в комнату фройляйн Луизы.
Он кивнул и молча пошел со мной.
Под нашими ногами скрипел снег. Ни кусочка красной земли больше не было видно. Перед оградой не стояло ни одного автомобиля. За забором — ни одного ребенка. Мне было холодно. Те же охранники у входа грустно кивали мне. Над всем необъятным лагерем с его березами и ольхой, как тяжкий груз, нависла печаль. Было очень тихо. Мы с Демелем меряли шагами снег.
Бараки на заднем конце лагеря, где снова над болотом уже расстилался туман и морок, выглядели пустынными и заброшенными, потому что оттуда не доносилось ни голосов, ни шорохов.
Мы прошли в кабинет фройляйн Луизы. Внутри был леденящий холод, но все выглядело так же, как в тот день, когда я был здесь в первый раз.
Я огляделся. Уродливая мебель. Папки. Документы на письменном столе. Когда-то давно здесь, наверное, и убирались, но сейчас на всем снова лежал слой пыли. Кактусы в горшках на подоконнике казались замерзшими. Морозные узоры покрывали стекла. Вот плитка, которую ремонтировал пастор. Вот напротив окна висит огромный рисунок в черно-белых тонах, на котором изображена гора из человеческих костей и черепов, а над ней в чистое небо возносится массивный крест. Внизу справа подпись: «Готтшальк, 1965». Три года назад она нарисовала эту картину. Теперь она мертва. Она мертва? Я не спеша прошел в ее комнату. Здесь было так же холодно. Вот ее лоскутный коврик из обрезков ткани, вот шкаф и книжная полка, по стенам шесть детских рисунков, торшер, радиоприемник на тумбочке у кровати, а рядом та самая книга, в которую я уже однажды заглядывал. Постель была перестелена с тех пор, как фройляйн Луиза поднялась той далекой ночью и поспешила к своим друзьям на болото, перед ее поездкой в Гамбург.
— Зачем вам непременно понадобилось еще раз прийти сюда? — спросил меня Демель.
— Хочу узнать, что остается после жизненного пути такого человека.
— Ну, посмотрели? — печально сказал он. — Немного, да?
— Кто знает…
Я взял с тумбочки книгу. Она лежала возле будильника и упаковки с таблетками, все так же раскрытой на том же самом месте, отчеркнутом красным карандашом, которое я однажды уже начал читать. Шекспир. Собрание сочинений. Том третий. «На этот раз, — подумал я, — я уж дочитаю до конца те строки, что отчеркнула фройляйн Луиза». Итак, «Буря», акт IV, сцена 1.
Просперо: «Окончен праздник…»
Я прочитал их, а потом передал книгу Демелю. Он взял томик и тихим голосом в этой ледяной комнате прочитал строки, которые теперь звучали как некролог фройляйн Луизе:
…Окончен праздник. В этом представленье Актерами, сказал я, были духи. И в воздухе, и в воздухе прозрачном, Свершив свой труд, растаяли они. — Вот так, подобно призракам без плоти, Когда-нибудь растают, словно дым, И тучами увенчанные горы, И горделивые дворцы и храмы, И даже весь — о да, весь шар земной. И как от этих бестелесных масок, От них не сохранится и следа. Мы созданы из вещества того же, Что наши сны. И сном окружена Вся наша маленькая жизнь…[141]20
«Мы созданы из вещества того же, Что наши сны…»
Я неотступно думал над этой строкой, пока ехал обратно поездом из Бремена во Франкфурт через заснеженную страну и в мыслях своих прощался с фройляйн Луизой, которая так тронула мое сердце, как никто и никогда. Тогда я еще не знал, что на самом деле никогда не расстанусь с фройляйн Луизой, что она всегда будет рядом со мной, вокруг меня, во мне.
С вокзала я поехал трамваем в квартиру Хэма у Грюнебург-парка, в старый дом на Фюрстенбергер-штрассе. Я поднялся лифтом, и когда отпирал дверь, мне показалось, что замок как-то странно расшатан и разболтан, но тогда я еще не придал этому значения.
В квартире было тепло. Я знал, что Хэм в «Блице», Ирина у своего психолога, а Берти сидит над моей рукописью. Я позвал его, но не получил ответа. Тогда я прошел по сумеречному коридору к комнатам, которые Хэм выделил нам с Ириной, и открыл дверь в мой кабинет. У окна за письменным столом я увидел Берти. Его голова лежала на столе, а руки свисали вниз. Он был без пиджака. Рубашка на спине вся промокла от крови, на пол тоже накапала кровь, много крови. Содрогнувшись от ужаса, я подошел ближе. По меньшей мере пять пуль из автомата вошли в спину Берти. Убийца должно быть действовал молниеносно. Без сомнения, Берти услышал, как открывается входная дверь, но, не предполагая ничего дурного, думал, что это я вернулся. Он даже не обернулся, когда открывали дверь в кабинет. И вот теперь он сидит обмякнув здесь, карандаш выскользнул из его руки и плавает в луже крови на полу. Голова лежит щекой на столе, глаза закатились, лицо осунулось, а губы растянуты в улыбке. С этой улыбкой он и умер.
Я огляделся. Вся квартира была перевернута. Ящики вырваны из письменного стола и шкафов, их содержимое валяется на полу. Моя рукопись и второй экземпляр бесследно исчезли, нигде я не смог найти ни диктофона (кассетника), ни пленок, ни фотокопий моих блокнотов. В панике я рыскал повсюду. Ничего. Я позвонил в полицию и сказал, чтобы они срочно присылали своих сотрудников. Мне все стало совершенно ясно, я задыхался от бессильного гнева и в то же время был полон глубокой печали.
— А в чем дело? — спросил полицейский у телефона.
— Здесь совершено убийство. Мой друг Берти… Мой товарищ Берти… Он мертв.
— Кого убили, господин Роланд?
— Меня! — ответил я, потрясенный до глубины души, потому что я понял: Берти застрелили в спешке по недосмотру. Навсегда замолчать хотели заставить меня.
— Вас?! Вы что, с ума сошли?!
Я больше не мог говорить и положил трубку.
Через пять минут прибыла первая машина с бригадой из отдела убийств.
21
Полиция присоединилась к моему мнению, что Берти застрелили по ошибке, и пули предназначались мне. В конце концов, ведь исчезла именно рукопись и все связанные с ней материалы. Следствие по этому делу велось в строжайшей тайне, ничего не должно было просочиться в прессу.
Когда Ирина и Хэм вернулись домой, тело Берти уже давно увезли, а я смыл всю кровь. Ирина разрыдалась, когда я рассказал о случившемся, Хэм только коротко выругался:
— Свиньи, подлые свиньи! Как думаешь, кто это сделал?
— Любой, — ответил я. — Любой заинтересованный в том, чтобы эта история не была предана огласке, мог сделать это. Каждый по отдельности. Или все вместе. Скорее всего, наняли киллера. Эта история не должна была выйти на свет. Херфорд не желал этого. Американцы не желали этого. Русские не желали этого. И, как знать, возможно и Ванденберг не желал этого.
— Но зачем же он тогда сказал, что ты должен написать книгу?! — воскликнула Ирина в полной растерянности.
— Да, он сказал так. Может быть, по поручению или в сговоре с другими. Чтобы быть уверенными, что после того, как я пообещал Ванденбергу писать для него, — я об этой истории больше никому не скажу ни слова. Чтобы быть спокойными. Чтобы спокойно убрать меня. Только вот в этом спокойствии они убили другого. Я обвиняю всех и каждого: Херфорда, американцев, русских — и Ванденберга! Я больше никому не верю! Вот увидите, убийца не будет найден!
Я оказался абсолютно прав. Убийца так никогда и не был найден…
— Кто-то из нас должен пойти к матери Берти, — обратился ко мне Хэм. — Если хочешь, Вальтер, я сделаю это.
— Нет, — ответил я. — Я должен сделать это сам.
Мать Берти жила недалеко от Хэма, в районе Бокенхайма на Ляйпцигер-штрассе. Мне открыла девушка с красными от слез глазами и сказала:
— Фрау Энгельгардт стало плохо, когда полиция сообщила ей о смерти сына, но вы можете пройти, вас ожидают. — Я предварительно звонил по телефону.
Девушка проводила меня в просторную комнату с красивой мебелью. На софе — в черном платье, с прямой спиной — сидела госпожа Энгельгардт. Ей было восемьдесят четыре года, я знал это. Высокая и тоненькая, с седыми волосами и тонкими чертами словно бы прозрачного лица.
— Присядьте рядом со мной, господин Роланд, — сказала она, и ее высокий старческий голос прозвучал спокойно и твердо. — Хорошо, что пришли вы, а не кто другой. Звонило так много людей — издатель, главный редактор и репортеры из разных газет, поэтому час назад я поставила телефон на автоответчик.
Я сидел и смотрел на пожилую даму, которую знал столько лет, — и не мог вымолвить ни слова. Повсюду были расставлены цветы в вазах.
— Все это, — потерянно сказала мать Берти, — только что доставили. У Берти было много друзей. Он был хорошим мальчиком, ведь правда?
— Да. И он был моим другом. Мы столько лет работали вместе. Я… я…
— Ладно, ладно. Он вас очень любил, мой сын, вы знали это? Он восхищался вами.
— Ах…
— Да, правда. И он всегда радовался, когда вам выпадало работать вместе. — Она ласково посмотрела на меня. Я молчал. Я все еще не знал, что мне сказать. Все слова, которые приходили в голову, казались пустыми фразами.
— Пути Господни неисповедимы. Я ждала смерти, и вот я живу. А мой Берти ушел. И теперь я совсем одна. Он никогда подолгу не задерживался дома, но мы всегда были рядом. Он отовсюду звонил мне, телеграфировал, присылал письма и цветы. Надеюсь, Господь смилуется надо мной и пошлет скорую смерть. Что мне еще делать на этом свете?!
— Дорогая госпожа Энгельгардт…
— Нет, нет, не надо ничего говорить. Я знаю, каково вам сейчас. Давайте лучше вместе помолчим и подумаем о Берти. Помолчите со мной?
Я кивнул, и долгое время мы не проронили ни слова. Я думал обо всех перипетиях, которые мы пережили вместе с Берти, и о его жизнерадостности, и о том, как часто он смеялся, и как улыбался даже после смерти — своей вечной мальчишеской улыбкой.
Наконец мать Берти поднялась, подошла к большому сундуку и открыла его. Потом поманила меня. Сундук на две трети был заполнен письмами и телеграммами. Должно быть, их тут были многие сотни.
— Это все от него, — сказала она. — Все годы он писал мне и слал телеграммы. Он ведь не совсем ушел, у меня еще много от него осталось. И я смогу читать и перечитывать все это, да?
— Конечно, госпожа Энгельгардт.
— Это ведь большое утешение!
— Конечно, — повторил я и подумал, изумленно и тягостно, что в горе все может стать маломальским утешением.
Мать Берти показала мне несколько его писем — из Токио, Голливуда, Сайгона, Йоханнесбурга, — все больше забывая обо мне. Она была уже так стара и так устала от жизни, что под конец, когда я прощался, она только кивнула, не вставая с кресла, и последнее, что я запомнил, это как она читала письмо Берти, письмо, которое он когда-то откуда-то из этого необъятного мира написал своей любимой матери. Я осторожно прикрыл за собой дверь, на душе у меня было гнетуще и тягостно.
Двумя днями позже было погребение. Берти завещал кремировать его тело, и поэтому панихида происходила в крематории. Пришло очень много народу. Коллеги по профессии, все, кто только смог из «Блица», во главе, конечно, с Херфордом и Мамочкой. Хэм тоже был там — мы с Ириной не присутствовали, — и после он рассказывал нам, что Херфорд произнес объемистую и безвкусную речь о заслугах Берти перед «Блицем», такую же объемистую и такую же безвкусную, как и он сам. «Я любил его, как родного сына!» — восклицал он со всхлипами. Были огромные венки и букеты, и все было обставлено неимоверно помпезно. Мамочка, рассказывал Хэм, всю церемонию просидела, не шелохнувшись, в первом ряду, ни на кого не смотрела, ни с кем не разговаривала, а когда гроб опустили, попросту встала и вышла.
Вечером этого же дня — это был вторник 14 января 1969 года — мы с Ириной и Хэмом пошли к крематорию. Внутрь уже не пускали, даже близко подойти было нельзя — ворота его территории были заперты. Шел легкий снежок, было пасмурно, светили только несколько уличных фонарей. Мы стояли у ограды и в молчании смотрели на здание крематория, возвышавшееся за кипарисами и тополями. И каждый из нас по-своему в мыслях без слов снова говорил с Берти. Его здесь больше не было, и, кто знает, оставался ли еще здесь его прах, но мы говорили с ним, каждый из нас троих, безмолвно. Я думал о том, что Берти сейчас там же, где и фройляйн Луиза и ее друзья, — где бы, в каком бы царствии это ни было.
По заснеженной аллее мы пошли обратно к главной улице, и Хэм вдруг неожиданно сказал мне:
— Ты ведь знаешь, что все это значит? Что убили не того человека, а ты все еще жив?
— Знаю.
— А ты теперь женат, и твоя жена ждет ребенка.
— О чем вы? — встревожилась Ирина.
— Так, ни о чем, дорогая, — мягко сказал я. — Ничего страшного. Не волнуйся. Просто мне сейчас надо кое-что сделать. Срочно. Так ведь, Хэм?
— Точно, — ответил он. — Очень срочно. Как можно скорее.
— Ах, вон оно что. Да, да, Вальтер, ты должен теперь это сделать, — проговорила Ирина.
Она испуганно смотрела на меня, и мелкие снежинки сыпали на нас с сумеречного неба.
Сам не знаю почему, в моем мозгу всплыли слова фройляйн Луизы, сказанные мне в Бремене, в больнице Людвига:
«Это послание от моих друзей. Для вас и господина Энгельгардта. Я должна вам передать его, потому что вы хорошие люди. Вы будете счастливы, господин Роланд, говорят мои друзья. Только ваш путь к блаженству будет долог, и вам предстоит еще пройти много испытаний, вы должны набраться терпения, прежде всего — терпения. Ваш друг Энгельгардт, у того все будет легче и прекраснее. У него ведь всегда все было легче. Ваш друг, он скоро достигнет всего, к чему только можно стремиться…»
22
Его звали Петер Бленхайм, он был графиком, далеко за пятьдесят. У него был какой-то шарм застенчивости и привычка при разговоре соединять кончики изящных пальцев. Он был высок, улыбчив, с густой копной каштановых волос, острым смуглым лицом, с пушком на подбородке и блестящими темными глазами белки. Несмотря на его рост, в нем было необычайно много от игривости, быстроты и проворности этого зверька, надо было только посмотреть на его лицо.
Разумеется, в нем не было ничего от белочки, он не был высок и улыбчив, не соединял при разговоре кончики изящных пальцев, в нем не было того шарма застенчивости, и он не был графиком. Далеко за пятьдесят — это да. И уж совершенно точно, звали его не Петер Бленхайм. Само собой разумеется, что я не могу назвать его настоящего имени и передать его подлинный облик.
— Друзья Макса Книппера — мои друзья, — сказал он вместо приветствия. А потом проводил нас с Ириной в свою мансарду, через квартиру, дальше в студию, где он работал. По стенам кнопками были прикреплены эскизы плакатов и реклам, большие и маленькие, цветные и черно-белые. На рабочем столе громоздились карандаши, ручки, перья, баночки с тушью и циркули. На треножнике стоял мольберт.
Он усадил нас возле журнального столика на диван без ножек, стоявший прямо на полу и покрытый пестрым покрывалом. Сам он сел напротив, на красный, обитый кожей табурет в арабском стиле. С первого взгляда он показался нам с Ириной достойным доверия, надежным и толковым, таким он, собственно, и был.
— Лучший из всех, кого ты токо можешь заполучить, — сказал мне Макс, когда я обратился к нему со своей проблемой. — Подожди, я сейчас запишу тебя к нему.
— Он что, так загружен?
— Не, но он принимает токо по рекомендации хороших друзей. И пральна делает! Он уж всю жизнь этим занимается и ни разу не привлекался не то что в суд — даже в полицию, так-то вот!
Петер Бленхайм изготавливал фальшивые документы: паспорта, удостоверения о гражданстве, о месте рождения, свидетельства о рождении и крещении — и все, что хотите. Причем любой страны. На любом языке. Крадеными документами он не пользовался. Это нам стало понятно сразу же, как только он спросил, в какую страну мы намереваемся отбыть, и какие желаем имена.
— Работаю я быстро, первоклассно и дорого, — заявил он. — Это мой девиз. Еще ни разу у меня не было недовольных моей работой клиентов. И ни одного прокола.
Очень жаль, что я не могу идентифицировать Петера Бленхайма и порекомендовать его самым наилучшим образом всем нуждающимся. Он нас обслужил и наставил, действительно, по первому классу. И не так уж дорого. После этого — у меня оставались еще бриллианты — я легко смог все оплатить, к тому же еще и билеты на самолет, и все расходы, в той стране, куда мы прибыли. На деньги, вырученные за бриллианты, мы перебились первое тяжелое время.
Сейчас мне кажется, все это происходило целую вечность назад. Разумеется, я не могу назвать и наши с Ириной новые имена, и те края, где мы нашли нашу новую родину. У нас все хорошо. Я больше не пишу, у меня теперь совсем другая профессия, и я зарабатываю кучу денег. Нас уже трое. Ирина родила девочку, ее имени я тоже, естественно, не открою. По нашей девочке я просто схожу с ума. Я так давно хотел ребенка! Порой мне кажется, что Ирина меня к ней слегка ревнует. Работа, которой я занимаюсь, честная и порядочная, не то что прежде. Я тоже стал другим — настолько, к примеру, порядочным, что довольно сложными обходными путями выплатил свои долги перед «Блицем» и задолженности по налогам. И я до сих пор капли в рот не беру…
А тогда мы надолго задержались у Петера Бленхайма, потому что нам надо было очень срочно, и он начал работу прямо при нас. Прежде всего он сделал с нас фотографии для паспортов, вместе с нами перерыл кучу бланков и формуляров из двух своих коллекций, и мы вместе скомпоновали две новые жизни: одну Ирине, другую мне — со всеми именами, местами и датами.
— Эти даты и эти названия вы теперь должны навсегда запечатлеть в вашей памяти — наставлял нас Петер Бленхайм. — Выучить наизусть. Если вдруг вас даже выдернут из сна и окликнут вашими прежними, подлинными именами, у вас не должна дрогнуть даже ресница. Новые имена должны войти в вашу кровь. Тренировка, тренировка и еще раз тренировка! Будите друг друга посреди ночи, называйте прежними именами, спрашивайте, когда и где родились, как звали отца и мать! Это куда важнее всех моих бумаг, понимаете?
— Да, — сказал я. Мы и вправду еще долго после нашего отъезда проделывали эти ночные побудки.
— Я всегда говорю, что и стопроцентно безупречно сфальсифицированные документы не помогут, если человек на сто процентов не сфальсифицирует себя, — терпеливо объяснял Бленхайм.
Тут я посмотрел на Ирину, а потом на него.
— В чем дело? — спросил он.
— У вас такой акцент, такой легкий говор. Вы ведь не из Франкфурта?
— Нет, — с улыбкой ответил он и сложил кончики пальцев. — Я не отсюда, хотя прожил здесь уже целую вечность. А этот акцент, смешно, но я просто не избавляюсь от него.
— А откуда вы? — осторожно спросил я. — Из Австрии?
— Еще чуток дальше, — улыбнулся он. — Из Богемии. Оттуда я родом. Там родились мои родители и все мои предки. У нас было небольшое подворье в Шпиндлермюле.
— Шпиндлермюле? А где это? — поинтересовалась Ирина.
— В Ризенгебирге. Неподалеку от Белого Луга. Это, знаете, огромное верховое болото. Вы не поверите, но когда я окончил школу, я продолжал учебу дальше. В Вене. Штудировал философию! — Он рассмеялся. — Удивлены, да?
— Да. — Я посмотрел на Ирину, она ответила мне тем же взглядом.
— Но это было недолго. Потом я повстречался с людьми этого круга и бросил учебу. Вскоре после этого умерли мои родители. Усадьбу я продал… — Он посмотрел перед собой долгим взглядом. — Но это были замечательные времена, тогда, в университете. На каникулы я приезжал домой в Шпиндлермюле, в Белый Луг. Каждое лето приезжал. — Его улыбка стала еще шире. — Тогда у меня была там любовь, целое лето. С девушкой, которая тоже приехала из Вены. Она работала в детском доме. Воспитательницей. Красивая была девушка — и любовь красивая. Да, а теперь вот и жизнь пролетела…
— Ваша подруга была воспитательницей?! — воскликнула Ирина.
— Говорю же вам. Тогда там было много воспитательниц. Молодых. Молодых и красивых. Но эта мне нравилась больше всех. Все у нас длилось несколько месяцев, пока мы не расстались. Но это была настоящая, подлинная любовь! А у нее, к тому же, еще и первая… хотя она была немножко старше меня… — Он с тоскою покачал головой, старый человек, вспоминающий свою юность. — Иногда — да что там, часто — я думаю о ней. А еще чаще она мне снится, она и то чудное лето, и бескрайнее великолепное болото. Но… — Внезапно он умолк.
— Но? — не отставала Ирина.
— Но зато я могу делать, что хочу, размышлять, обдумывать, исследовать. Ничего не поделаешь! Что вы хотите?! Этому уже без малого сорок лет, я уж и не помню точно, в каком году это было… Да… А имя девушки…
— Имя?! — не выдержала Ирина.
— Нет, имя тоже забыл. — Он застенчиво улыбнулся и сложил кончики все еще прекрасных пальцев, смуглый человек с каштановой шевелюрой, так напоминающий белку. В его темных блестящих глазах застыло выражение изумления и печали, оттого что мы забываем в этом мире все. Боль и обиды, но и красоту и любовь — так скоро забываем.
Примечания
1
От нем. Gott — Бог и Schalk — шельма. — Прим. пер.
(обратно)2
Способ многокрасочной литографии с картины, писаной маслом, применявшийся в XIX веке; литография, выполненная этим способом. — Прим. ред.
(обратно)3
«Я жалею о любви» — знаменитая чешская полька. — Прим. ред.
(обратно)4
1-я (чешская) часть государственного национального гимна Чехословакии. — Прим. ред.
(обратно)5
«Путники в ночи», известная песня Фрэнка Синатры (англ.).
(обратно)6
Старший патрульный полицейский. — Прим. ред.
(обратно)7
…и глядя друг на друга, бродить в ночи (англ.).
(обратно)8
…мы могли бы разделить с тобой любовь, пока длится ночь (англ.).
(обратно)9
…что-то в твоих глазах так манило меня (англ.).
(обратно)10
…мало знали мы о том, что любовь — всего лишь мимолетный взгляд… (англ.).
(обратно)11
…закончилось теплое объятие танца, и с той ночи мы всегда были вместе, влюбленные с первого взгляда… (англ.).
(обратно)12
Человеческий интерес (англ.).
(обратно)13
Сексуальные запросы. Человеческие потребности (англ.).
(обратно)14
Уведомление об увольнении. — Прим. ред.
(обратно)15
Перевод М. Донского.
(обратно)16
Германский промышленный стандарт. — Прим. ред.
(обратно)17
Сокращенное название Немецкого благотворительного союза католической церкви (ФРГ). — Прим. ред.
(обратно)18
Имеются в виду католическая и протестантская церкви. — Прим. ред.
(обратно)19
Маленький (нем.).
(обратно)20
Очаровательный (фр.).
(обратно)21
Все женщины без ума от меня… (фр.).
(обратно)22
От нем. rot — красный, и Auge — глаз. — Прим. пер.
(обратно)23
Шахт Хьялмар (1877–1970) — один из крупнейших финансистов фашистской Германии. — Прим. ред.
(обратно)24
Мальчик, о мальчик (англ.).
(обратно)25
Сцена оплакивания Христа Богоматерью. — Прим. ред.
(обратно)26
Блокада Берлина — с 24.04.1948 по 12.05.1949 все автомобильные, железнодорожные и водные транспортные пути из Берлина в Западную Германию были блокированы советской военной администрацией с целью парализовать «инородное тело» Западного Берлина как «логово классового врага», что позволило странам Западной коалиции поднять ситуацию на щит военной и политической пропаганды; и на протяжении этого неполного года они снабжали берлинцев всем необходимым по так называемому воздушному мосту, в частности, таким образом в Берлин были доставлены блоки для сборки автомобильного завода Ройтер. — Прим. ред.
(обратно)27
Перевод Л. Ведерниковой.
(обратно)28
Морген — немецкая земельная мера = 0,25 га. — Прим. ред.
(обратно)29
Эстрогены — женские половые гормоны позвоночных животных и человека, стимулируют развитие и функцию женских половых органов, нормальный рост молочных желез. — Прим. ред.
(обратно)30
Мозговая атака (англ.).
(обратно)31
Дали Сальвадор (1904–1989) — исп. живописец, представитель сюрреализма. — Прим. ред.
(обратно)32
Литератор, сочинитель высшего уровня (англ.).
(обратно)33
Вестник Кинзи-института, исследовательского института по проблемам секса, полов и воспроизводства человечества. — Прим. ред.
(обратно)34
Хиршфельд Магнус (1868–1935) — немецкий борец за права сексуальных меньшинств. В 1896 г. опубликовал эссе «Сафо и Сократ» под псевдонимом The Ramien, в 1897 г. основал Научный гуманитарный комитет — первую организацию, защищающую права гомосексуалистов, в 1919 г. выпустил на экраны первый фильм о гомосексуалистах. Преследовался нацистами. — Прим. ред.
(обратно)35
Неккинг — верхний петтинг, включающий область головы, шеи и груди; петтинг — интимные ласки при отсутствии непосредственного соприкосновения половых органов (англ.).
(обратно)36
Фимоз (от греч. phimosis) — сужение крайней плоти. — Прим. ред.
(обратно)37
Первый класс (англ.).
(обратно)38
Здесь: крайний срок (англ.).
(обратно)39
От нем. Klug — умный. — Прим. пер.
(обратно)40
От нем. Zille — плоскодонное (речное) судно, и кроме того, аллюзия на фамилию популярного немецкого графика-карикатуриста XIX в. Генриха Цилле. — Прим. ред.
(обратно)41
Бонза (книжн.) — чванное должностное лицо, надменный чиновник. — Прим. ред.
(обратно)42
Яркий представитель стиля easy-leasting (музыки настроения), известный дирижер. — Прим. ред.
(обратно)43
Название стиля модерн в Германии. — Прим. ред.
(обратно)44
Название стиля модерн применительно к мебели. — Прим. ред.
(обратно)45
Немецкое пресс-агентство. — Прим. ред.
(обратно)46
Подъемник (лифт) непрерывного действия. — Прим. ред.
(обратно)47
Сорта мягкого сыра. — Прим. ред.
(обратно)48
Крутые парни (англ.).
(обратно)49
Игра слов: England (нем.) — Англия, Engelland (нем.) — букв, «край ангелов». — Прим. пер.
(обратно)50
Крабовое мясо (англ.).
(обратно)51
От нем. Reibeisen — тёрка. — Прим. пер.
(обратно)52
От нем. Leiche — труп и Muller — мельник. — Прим. пер.
(обратно)53
Искаж. польск. «пенендзе» — «деньги» (берлинский диалект).
(обратно)54
Искаж. англ. «home-breaker» — букв.: «разрушительница дома». — Прим. пер.
(обратно)55
От нем. Knipp, прищелкивание пальцами — буквально: прищелкиватель пальцами. — Прим. пер.
(обратно)56
Пока (англ.).
(обратно)57
Макетчик (англ.).
(обратно)58
Стальной шлем (нем.).
(обратно)59
Выдающийся английский нейрофизиолог, один из создателей электроэнцефалографии, автор модели нервной системы, изобретатель первых кибернетических моделей. — Прим. ред.
(обратно)60
Извините (фр.).
(обратно)61
Обращение к незамужней девушке (фр.).
(обратно)62
Господин (фр.).
(обратно)63
Немецкий публицист и философ. — Прим. ред.
(обратно)64
Американский писатель-беллетрист середины XX века. — Прим. ред.
(обратно)65
Знаменитые голливудские актеры, известные по фильму «Римские каникулы». — Прим. ред.
(обратно)66
Лунная река (англ.).
(обратно)67
Гогенцоллерны — династия бранденбургских курфюрстов в 1415–1710, прусских королей в 1710–1918, германских императоров в 1871–1918 гг. — Прим. пер.
(обратно)68
Южно-германский род, правивший с 1180 по 1918 год в Баварии. — Прим. ред.
(обратно)69
Да здравствует Пизанская башня! (итал.).
(обратно)70
Орден Федеративной Республики Германии. — Прим. ред.
(обратно)71
Извините за беспокойство (англ.).
(обратно)72
Да, в чем дело? (англ.).
(обратно)73
Аптекарь (искаж. англ.).
(обратно)74
Рад вас видеть (англ.).
(обратно)75
Хорошо, ладно (англ.).
(обратно)76
Извините меня, леди (англ.).
(обратно)77
Вы развернете свою машину и… (англ.).
(обратно)78
От нем. Seerose — кувшинка, водяная лилия. — Прим. пер.
(обратно)79
Контаминация от нем. Schmeidig — эластичный, гибкий, и Schmeichler — льстец, лиса. — Прим. пер.
(обратно)80
Ограниченная способность мышления (англ.).
(обратно)81
Шёк Отмар (1886–1957) — один из наиболее выдающихся швейцарских композиторов XX века. — Прим. ред.
(обратно)82
Немецкий поэт-романтик (1788–1875). — Прим. ред.
(обратно)83
Фон, подоплека (англ.).
(обратно)84
Бешеная лошадка (англ.).
(обратно)85
Любовь — великолепная вещь (англ.).
(обратно)86
Давидсвахе — полицейский участок в Гамбурге. — Прим. пер.
(обратно)87
Первая жена персидского шаха. — Прим. ред.
(обратно)88
Бельгийская королева. — Прим. ред.
(обратно)89
Худющий (нем.).
(обратно)90
MAD — Военная контрразведка, одна из официальных шпионских организаций в ФРГ. — Прим. пер.
(обратно)91
Туманный день в Лондоне (англ.).
(обратно)92
…и вдруг повсюду засветило солнце! (англ.).
(обратно)93
Хоровод (англ.).
(обратно)94
Оставь меня в покое, проклятый сукин сын! Каждый человек должен сражаться на своих собственных полях сражений! (англ.).
(обратно)95
Все, что я хотел сделать — это помочь тебе. (англ.).
(обратно)96
Немецкий машиностроительный завод. — Прим. пер.
(обратно)97
Вечнозеленые (англ.).
(обратно)98
Вы не знаете, Жюль, что все женщины от меня без ума (фр.).
(обратно)99
Заниматься любовью (фр.).
(обратно)100
Я собираюсь в сентиментальное путешествие (англ.).
(обратно)101
Благодарю, сэр (англ.).
(обратно)102
От фр. L’argent — деньги.
(обратно)103
Пока, Луиза. И удачи вам! (англ.).
(обратно)104
Очаровательная старая леди (англ.).
(обратно)105
В согласии (франц.).
(обратно)106
Удачи, месье (франц.).
(обратно)107
Я всегда гоняюсь за радугами (англ.).
(обратно)108
Черт возьми! (франц.).
(обратно)109
Тогда (фр.).
(обратно)110
Polyp (нем.) — букв, полип; перен. разг. полицейский. — Прим. пер.
(обратно)111
Траппер (Trapper, англ.) — охотник на пушных зверей в Северной Америке. — Прим. пер.
(обратно)112
Пагинация (от лат. pagina — страница) — последовательная нумерация страниц (полос), столбцов (колонок), иллюстраций в печатных изданиях. — Прим. пер.
(обратно)113
Красная гора (англ.).
(обратно)114
Но такова жизнь (англ.).
(обратно)115
От нем. Knipp, прищелкивание пальцами — буквально: прищелкивающий пальцами. — Примеч. пер.
(обратно)116
Лютер (Luther) Мартин (1483–1546) — деятель Реформации в Германии. Основатель лютеранства. Перевел на немецкий язык Библию, чем утвердил нормы общенемецкого литературного языка. — Прим. пер.
(обратно)117
IND (Independent Subway, независимое метро) — название одной из трех подземно-транспортных сетей Нью-Йорка, наряду с IRT (Interborough Rapid Transit, междугородные скорые перевозки) и ВМТ (Brooklyn-Manhattan Transit, Бруклин-Манхэттэнские перевозки) существовавших до 1967 года, когда произошло их слияние. IND была сформирована городом в 1920-х гг. как независимая компания. Некоторые линии IND поддерживали надземные линии IRT и ВМТ. Когда город в 1940-м году выкупил обанкротившиеся компании ВМТ и IRT, многие надземные линии были закрыты. А в 1967-м году были присоединены все оставшиеся компании. — Прим. пер.
(обратно)118
Береговая парковая автострада (англ.).
(обратно)119
Святой Крест (англ.).
(обратно)120
Spring Creek (англ.) — весенний ручей или бьющий родник.
(обратно)121
Вау (англ.) — залив, бухта. — Прим. пер.
(обратно)122
Верхний Залив (англ.).
(обратно)123
Бруклинское объединение газовой компании (англ.).
(обратно)124
Американское полушарие (англ.).
(обратно)125
Американский звездный путь (англ.).
(обратно)126
Вооруженные силы Федеративной Республики Германии. — Прим. пер.
(обратно)127
Спасибо, синьор, спасибо! (итал.).
(обратно)128
Наилучшие пожелания! (итал.)
(обратно)129
Кокпит (англ. cocpit) — открытое углубленное помещение для рулевого на катерах и парусных яхтах. — Прим. пер.
(обратно)130
Представление продолжается! (англ.).
(обратно)131
Имеются в виду живописные полотна нидерландского художника XVI века Питера Брейгеля Старшего, или «Мужицкого» (Bruegelde Oude, Boeren Brueghel), в которых он во времена испанского террора создал фантастические картины безумия и ужасов, а также «Ад» — первая из трех частей поэмы «Комедия», названной потомками «Божественной», итальянского поэта эпохи Возрождения Данте Алигьери (Dante Alighieri). В ней описываются мучительные страдания нераскаявшихся грешников, которые наблюдает герой поэмы на девяти кругах ада. — Прим. пер.
(обратно)132
Адвент (Advent, нем.) — в католической религии предрождественское время, каждое из четырех воскресений перед Рождеством. — Прим. пер.
(обратно)133
Аллюзия на голландские имена типа Рембрандт ван Рейн («с Рейна»), Вермеер ван Дельфт («из Дельфта») и немецкого Вальтер фон Фогельвейде («с птичьего луга») — «Ван ден бург» буквально с «с горы». Смешение голландского и немецкого служебных слов в этой фамилии в контексте с именами двух других воротил, носящих фамилии по названию невысоких гор — Херфорд и Лестер — создает гротескный характер образов. — Прим. пер.
(обратно)134
Делай это или оставь это (англ.).
(обратно)135
Айхендорф (Eichendorff) Йозеф (Карл Бенедикт) Фрайхерр фон (1788–1857) — поэт и государственный деятель. С 1808 по 1841 г. выпустил многочисленные сборники лирических стихов. — Прим. пер.
(обратно)136
Ленау (Lenau) Николаус, настоящее имя Николаус Франц Нимбли фон Штерленау (1802–1850) — австрийский поэт. — Прим. пер.
(обратно)137
Гессе (Hesse) Герман (1877–1962), немецкий писатель. Больше известен как романист. — Прим. пер.
(обратно)138
Келлер (Keller) Готфрид (1819–1890), швейцарский романист и поэт, классик швейцарской литературы. — Прим. пер.
(обратно)139
Клаудиус (Claudius) Маттиас (1740–1815), немецкий поэт и публицист. — Прим. пер.
(обратно)140
Канун Нового года, предновогодний вечер (нем.).
(обратно)141
Перевод М. Донского.
(обратно)
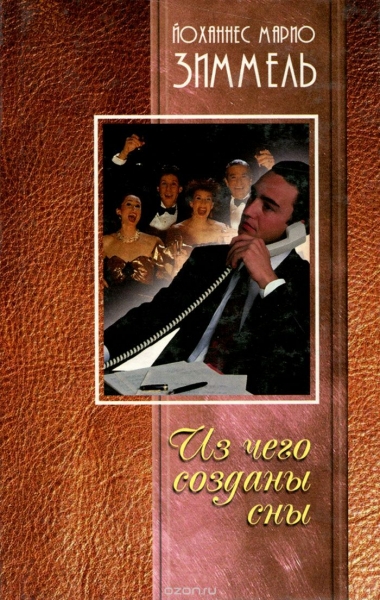
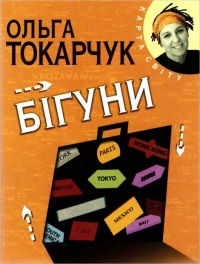
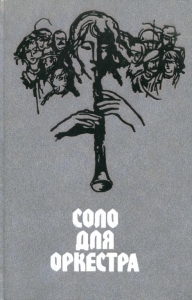
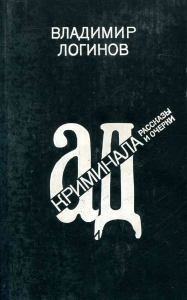
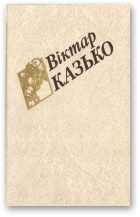



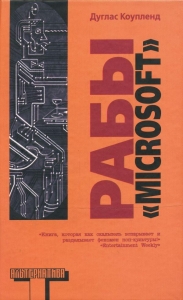
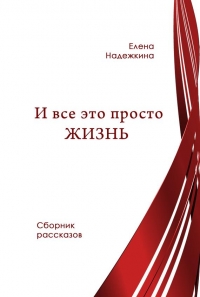
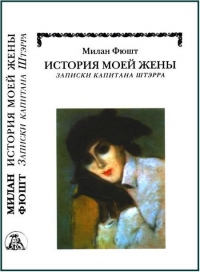


Комментарии к книге «Из чего созданы сны», Йоханнес Марио Зиммель
Всего 0 комментариев