Виллем Фредерик ХЕРМАНС Больше никогда не спать
1
Вахтёр — инвалид.
Он сидит за небольшим дубовым столом, на котором — только телефон, и невозмутимо глядит прямо перед собой сквозь дешёвые солнечные очки. Его левое ухо, видимо, оторвало взрывом, изуродовавшим и всё лицо; а может быть, оно сгорело при крушении самолёта. То, что осталось от уха, похоже на неудачно обрезанный пупок, и дужка очков на нём не держится.
— К профессору Нуммедалу, please. У меня с ним назначена встреча.
— Goodday, sir. Я не знаю, у себя ли профессор Нуммедал.
По-английски он говорит медленно; будто по-немецки. Закончив фразу, он снова застывает неподвижно.
— Я вчера договорился об этой встрече через секретаршу профессора. На сегодня, на половину одиннадцатого.
Невольно я смотрю на свои часы, которые вчера по приезде в Осло сразу же переставил на норвежское летнее время. Половина одиннадцатого.
И только потом замечаю, что над головой у вахтёра висят настенные часы, и они тоже показывают половину одиннадцатого.
Как будто я боюсь, что изувеченный заподозрит меня в обмане, я достаю письмо, которое профессор Сиббеле вручил мне в Амстердаме, и говорю:
— День, впрочем, был назначен заранее.
Это — письмо Нуммедала к Сиббеле, где сегодняшнее число, пятница, пятнадцатое июня, упоминается как возможная дата встречи. «Желаю Вашему ученику удачно добраться до Осло». Подписано: «Орнульф Нуммедал».
Развернув письмо нижним краем от себя, я протягиваю его вахтёру. Но голову он так и не поворачивает, движутся только его руки.
На левой руке пальцев нет совсем, а на правой — только большой палец и ещё один обрубок без ногтя. Большой палец совершенно не повреждён, и ноготь на нём чистый и ухоженный. Кажется, что этот палец — не его собственный.
Даже обручальное кольцо не на что надеть.
Наручные часы вахтёра закрыты металлической крышкой, которую он откидывает ногтем. Под крышкой нет стекла. Обрубком пальца вахтёр ощупывает стрелки и говорит:
— Вполне возможно, что профессор Нуммедал у себя в кабинете. Поднимитесь на два этажа, а потом — вторая дверь направо.
С раскрытым ртом я снова засовываю письмо в карман.
— Thank you.
Сам не знаю, за что я его поблагодарил. Он вёл себя так, как будто я — неизвестно кто и зашёл сюда наудачу, без всякой предварительной договорённости.
Но я подавляю раздражение. И даже готов проявить к нему такое же сочувствие, какое, видимо, проявляет его шеф. Который держит его здесь, несмотря на то, что он не годится даже для такой простой работы, как приём посетителей. Что каждому из них он всем своим видом показывает, как ему на них наплевать. Я считаю ступеньки. С этажа на этаж — по двадцать восемь ступенек, между лестницами восемь шагов. Потом ещё пятнадцать шагов до второй двери направо.
Я стучу в дверь. За дверью кто-то выкрикивает в ответ непонятное мне слово. Я открываю дверь, репетируя про себя то, что должен буду сейчас сказать. Are you professor Nummedal… Have I the pleasure… I am…
…Where are you, professor Nummedal?
Кабинет — целый зал, отделанный дубом. Глазами я ищу профессора и нахожу его за письменным столом в самом дальнем углу. Прохожу туда между двумя низкими столиками, заваленными полуразвёрнутыми картами. Над маленькой серой фигуркой профессора возвышается белая плоскость чертёжной доски.
— Are you professor Nummedal?
— Yes?
Он пытается встать, кажется, без особого радушия. Солнечный свет падает по диагонали на стёкла его очков, непроницаемые из-за толщины. Он подносит к очкам руку и отворачивает вверх на лоб ещё одни очки, прикреплённые к первым на шарнирах. Теперь на меня смотрят четыре круглых зеркальца.
Я подхожу к столу вплотную и объясняю по-английски, что вчера я позвонил его секретарше, и она сказала, чтобы я пришёл сегодня в это время.
— Моя секретарша?
Его английский лишь с большим трудом можно отличить от норвежского, которого я не понимаю, и говорит он дряхлым голосом, как будто уставшим от повторения одного и того же.
— Я не помню, чтобы моя секретарша что-то мне о вас говорила. Но, может быть, она как раз собиралась это сделать. Where does you come from?
— Из Голландии. Я тот самый аспирант профессора Сиббеле. Я еду в экспедицию в Финскую Марку с вашими учениками, Арне Йордалом и Квигстадом.
Моя рука отправляется во внутренний карман и снова достаёт письмо Нуммедала к Сиббеле.
Внезапно я ловлю себя на том, что разворачиваю письмо, так же, как и перед вахтёром.
— Well, well. You is a гхолландец, you is…
Я смеюсь — в подтверждение, и ещё затем, чтобы показать, как меня тронуло то, что слово «голландец» он произнёс почти совсем правильно.
— Голландцы! — продолжает он по-английски. — Это очень сообразительные люди. Очень сообразительные. Вы меня понимаете? Или, может, предпочитаете немецкий?
— Это… это мне всё равно, — говорю я по-английски.
— Голландцы, — отвечает он по-немецки, — это исключительно способные люди, они знают все языки. Профессор Сиббеле пишет мне письма на смеси норвежского, датского и шведского. У нас это называется «по-скандинавски». Садитесь.
По-английски я благодарю его. Но он продолжает говорить по-немецки.
— Я знаю профессора Сиббеле много лет. Когда же мы с ним впервые встретились?.. Должно быть, ещё до войны, на конгрессе в Токио. Да. В тот раз я докладывал о своих ставших теперь, можно сказать, классическими идеях относительно милонитовой зоны в Вермланде и её норвежского продолжения. Vielleicht kennen Sie die kleine Arbeit!
Он делает небольшую паузу. Недостаточно большую для того, чтобы мне захотелось признаться, что этой работы я не читал. После чего удовлетворённо продолжает свой рассказ.
— Видите ли, Сиббеле вступил тогда со мной в дебаты. И довольно горячие. Он совершенно ни в чём не мог со мной согласиться! Вы только представьте себе ситуацию. Сиббеле на тридцать лет меня моложе, и тогда он был ещё очень, очень молод. Юношеский энтузиазм!
Нуммедал разрывается от смеха. Даже когда он смеётся, морщины на обвисшей коже его лица остаются преимущественно вертикальными. Я тоже смеюсь. Но мне не по себе оттого, что мой учитель и рекомендатель вызывает у Нуммедала именно такие ассоциации.
Видит ли Нуммедал, о чём я думаю?
— Das sind jetzt natürlich alles alte Sachen! В конце концов Сиббеле пришёл к совсем другим выводам. Он даже поработал некоторое время здесь, у меня в институте. Что за исследованиями он здесь занимался — точно не помню, хоть убейте. В любом случае, никаких потрясающих результатов нам это, кажется, не принесло.
Сиббеле вылетает в трубу. Я чувствую, что банкротство моего учителя распространяется и на меня. Может быть, лучше попрощаться и уйти? Но как же аэрофотоснимки?
— Мне восемьдесят четыре года, — говорит Нуммедал. — У меня на глазах проделали кучу совершенно бесполезной работы. Собрали целые склады коллекций, на которые никто и не посмотрит, пока их не выкинут за недостатком места. Всякие теории появлялись и исчезали стаями, как дикие гуси и ласточки. Ели вы когда-нибудь запечённых жаворонков? Кстати, здесь в Осло есть ресторан, где подают гравлакс. Знаете, что это такое? Это такая лососина, чем-то похожа на копчёную, но тоньше, нежнее. Сырая лососина, которую закапывают в землю и через некоторое время выкапывают снова.
Его голос тоже становится «нежнее» — почти неразличимым. Шея висит, как драпировка, в слишком широком воротничке. Губы время от времени задумчиво вытягиваются, и тогда подбородок перестаёт разделять морщины — кажется, что они распространяются по всему лицу.
Тишина.
На столе лежат бумаги и два больших камня. И ещё несколько фарфоровых блюдец с мелкими камешками, покрытыми сигарным пеплом. На бумагах — лупа размером со сковородку.
— Ах да, в первую очередь, профессор Сиббеле просил меня передать вам свои наилучшие пожелания.
— Спасибо, спасибо.
Снова тишина.
Я мучительно роюсь в каком-то глубоком, тёмном кармане в поисках тех слов, что могли бы направить разговор в нужную мне сторону — о том, зачем, собственно, я сюда приехал. Но так и не могу придумать никакого тактичного подхода. Ну что же, тогда попробуем напролом.
— Скажите, получилось… смогли ли вы достать для меня аэрофотоснимки?
— Аэрофотоснимки? Какие аэрофотоснимки? Конечно, у нас есть снимки. Но я не знаю, может быть, как раз сейчас кто-то с ними работает. Их здесь так много, этих снимков.
Он совсем не понимает, о чём я говорю! Может быть, он забыл, что́ он пообещал Сиббеле? Что он даст мне аэрофотоснимки той местности, где я собираюсь работать? Я подозреваю, что настаивать бесполезно, но и другого выхода не вижу. Всё-таки нельзя уходить, не сделав всего возможного.
— Да, профессор, те аэрофотоснимки…
— Вы что, хотите осмотреть всю нашу коллекцию?
— Я… Я имею в виду…
Под столом моя левая рука хватает правую, сжатую в кулак, и локти упираются в бока.
— Я имею в виду набор аэрофотоснимков, которые я мог бы взять с собой для работы в Финской Марке.
Я не знаю, можно ли назвать мою речь правильным немецким, но и не могу себе представить, чтобы в ней оказалось нечто непонятное Нуммедалу. Все слова я произнёс чётко, без запинки.
Он глубоко вздыхает и говорит:
— Квигстад и Йордал — из моих лучших учеников, а у меня их, как вы и сами понимаете, было очень много. В Финской Марке они как дома.
— Да, конечно. С Квигстадом я едва знаком, но Арне показался мне человеком, у которого многому можно научиться. Поэтому пойти с ним в экспедицию — большая честь и удача для меня.
— Удача, молодой человек! Именно! Геология — такая наука, где всё зависит от особенностей местности. Чтобы получить захватывающие, поразительные результаты, нужно по крайней мере работать там, где хоть что-нибудь ещё можно найти. А как раз это сейчас и трудно. Я знал множество геологов, отправлявшихся в места, где ещё никто не был — а не был там никто только потому, что всем и так было ясно, что искать там на самом деле нечего. И, разумеется, эти геологи тоже ничего не находили.
— Могу я разболтать вам один секрет? — продолжает он. — Настоящий геолог до сих пор не особенно отличается от своих предков-золотоискателей. Может быть, вы за эти слова надо мной посмеётесь, но я старик, и поэтому имею определённое право на романтику.
— Нет, что вы, я очень хорошо Вас понимаю!
— Ах, значит, вы меня понимаете. Тогда вам, как голландцу, должно бы сделаться немного не по себе от этого понимания. Маленькая страна, давно перенаселённая и к тому же с научными стандартами из самых высоких в мире! Да у вас, наверное, геологи друг друга поедом едят. И, должно быть, многие впадают в соблазн принять сплюнутую коллегой косточку за клык пещерного медведя!
— Конечно, у нас маленькая страна. Но недра очень разнообразны.
— Это вам так кажется. Потому что у вас на каждый квадратный метр — по геологу с микроскопом! Но куда вы денетесь от того, что у вас нет гор? Тем более нет ни плоскогорий, ни ледников, ни водопадов. А всё, что у вас есть — это болота, грязь и глина! В конце концов ваши геологи займутся подсчётом песчинок — по одной. Это никакая не геология, для меня, по крайней мере. Это мелочёвка, бухгалтерский учёт! Verfallene Wissenschaft, так я это называю, verfallene Wissenschaft!
Я посмеиваюсь, непроизвольно, но вежливо.
— Ах, профессор, так ведь нашли же и каменный уголь, и соль, и нефть, и газ!
— А главные задачи, господин хороший? А фундаментальные проблемы? Как произошла наша планета? Что нас ждёт в будущем? Предстоит ли нам новый ледниковый период, или же на Южном полюсе в один прекрасный день вырастут финики? Вопросы и задачи, сообщающие величие науке, представляющие её истинное назначение?
Опираясь обеими руками на скрипящий стол, он резко встаёт.
— Истинное назначение науки! Вы меня понимаете? Уголь, чтобы растопить ваш камин, газ, чтобы сварить яичко на завтрак, и соль, чтобы это яичко посыпать — да это просто бакалейная лавка какая-то! А что есть наука? Наука — это титанический порыв человеческого интеллекта, грандиозная попытка вырваться из космической изоляции путём познания!
2
Нуммедал выходит из-за стола, с краем которого ни на секунду не теряют контакта кончики его пальцев.
— Я думаю показать вам сегодня кое-что из окрестностей Осло. Где здесь эти карты…
Он подходит к одному из заваленных картами журнальных столиков.
— С удовольствием, — говорю я.
Я сказал это без особого воодушевления, машинально.
Но что, если бы я объяснил, что мне нужно сегодня же продолжить своё путешествие на Север?
Он поворачивает обратно вниз свои вторые очки и подносит карту к глазам.
А что, если прямо признаться, что я приехал только ради обещанных аэрофотоснимков?
Он приоткрывает рот.
Или, может быть, сказать ему, что я уже взял билет на самолёт в Тронхейм? Что я должен уйти через четверть часа?
Но вдруг он сочтёт это за грубость и отправит меня в Финскую Марку с пустыми руками, без всяких снимков?
Я подхожу к нему на шаг, встаю рядом у журнального столика. Карта, которую он держит в руках, долго лежала свёрнутой, и теперь углы её заворачиваются вовнутрь. Нуммедал сгибается, чтобы разложить карту на столе, я придерживаю для него неподатливую бумагу. Это фототипия. Может быть, какая-нибудь неопубликованная карта, которую Нуммедал извлёк специально для того, чтобы меня порадовать?
Но нет, самая обычная геологическая карта района Осло.
— У меня должен где-то быть ещё цветной экземпляр, — говорит Нуммедал.
Проходя вдоль стола, он сбрасывает с него целую стопку бумаг, которые веером ложатся по полу. Пытаясь их подхватить, я падаю на колени.
— Ладно! Оставьте вы это!
Я поднимаю на него глаза. Теперь он держит в руках другую карту, наклеенную на льняное полотно. С полными бумаги руками я поднимаюсь на ноги. Нуммедал, кажется, не обращает внимания.
— Я уже нашёл карту. Пойдёмте скорее со мной.
Я кладу бумаги на стол и следую за ним. Интересно, что у него за карта? Пока я придерживаю для него дверь, я вижу, что это та же самая геологическая карта района Осло, только цветная. Что же он, совсем не понимает, зачем я приехал?
— Эта карта подклеена, — говорит он, — но неправильно. Она из-за этого не складывается.
Мы идём к лестнице. Я — слева от него, несу под мышкой карту, свёрнутую в рулон.
— До войны я побывал в Амстердаме, — рассказывает Нуммедал. — Видел Институт Геологии. Великолепное здание. Богатые коллекции из Индонезии.
Его правая рука скользит вдоль стены.
— Должно быть, утрата колоний была страшным ударом для вашей геологической науки.
— Это только на первый взгляд так кажется. К счастью, на самом деле у нас и теперь достаточно возможностей для работы за границей.
— За границей? Ах, молодой человек, не мечтайте понапрасну! За границей есть свои собственные геологи. И если ваши будут постоянно связывать все свои надежды с другими странами, то ничего, кроме трудностей, вам это не принесёт.
Тринадцатая ступенька второй лестницы.
— Возможно, — говорю я. — Но, видите ли, в наше время, когда есть так много разных международных организаций… Когда границы становятся всё прозрачнее…
— На бумаге всё это выглядит прекрасно! Но откуда взяться у вас глубокому, естественному пониманию действительно важных вещей, если вы живёте и учитесь на клочке грязи и глины, где нет ни одной-единственной горы?
Хорошо ещё, что он вовсе не ожидает ответа на свой вопрос.
— Вы, конечно, согласны, — поясняет он, — что тектоника — именно та область геологии, где есть простор для гениальных теорий. Что может быть выше, чем восстановить внутреннее строение Альп или процесс формирования Скандинавского Щита по немногим отрывочным наблюдениям и измерениям?
Мы ещё не спустились до конца, но он останавливается.
— В такой стране, как Голландия, нигде не найдёшь твёрдой почвы под ногами! Первое, что мы видим по приезде в Голландию, это — знаете, что? Вышка на лётном поле с надписью: «Aerodrome level 13 feet below sea level». Добро пожаловать, дорогие гости!
Со смехом он спускается по последним ступенькам, но внизу снова останавливается.
— Я бы сказал, что наводнение пятьдесят третьего года всё же послужило вам хорошим уроком. Любой другой народ давно ушёл бы с этих земель, вверх, туда, куда не добраться морю. Но только не голландцы! Хотя, впрочем, куда же им идти.
Молодой человек! Уверяю вас — если целый народ веками пытается жить на земле, которая, собственно, принадлежит рыбам и не создана для людей, — у такого народа с течением времени неизбежно вырабатывается особенная философия, в которой нет больше ничего человеческого. Философия, построенная исключительно вокруг задачи самосохранения, и с единственной целью — избежать сырости! В чём же может заключаться объективная ценность подобной философии? И где в ней место действительно важным проблемам?
Целая куча возражений роится у меня в голове: бывает ли вообще у философии объективная ценность, что за «действительно важные проблемы», и не является ли самосохранение такой проблемой в полном опасностей мире, но всё меньше и меньше мне хочется излагать всё это по-немецки.
Часы в вестибюле показывают пять минут первого, вахтёр ушёл. Нуммедал направляется к его столу, опускает на стол руку, и так на ощупь добирается до стенного шкафа и открывает его. Оттуда он достаёт шляпу и трость. Трость покрашена в белый цвет, под рукоятью — красное кольцо.
Слепой покровитель слепого вахтёра.
3
На улице я чувствую себя, как любящий внук, собравшийся в прекрасный солнечный день на прогулку с полуслепым дедушкой.
Но это он берёт курс на ресторан.
Это большой, солидный ресторан. Был когда-то. Теперь здесь стоят столики без скатерти, а вокруг них — стулья из розового пластика. Стены обиты фанерой пастельных тонов и дырявым пластиком, местами отделаны под дерево. Официантов нет, только девушки, убирающие грязную посуду. Звуковой фон: Skating in Central Park. В исполнении The Modern Jazz Quartet.
Протискиваясь между столиками и стульями, я заботливо подвожу Нуммедала к длинному прилавку. Ставлю два фанерных подноса на дорожку из никелированных прутьев. Нуммедал стоит рядом со мной, белая трость висит у него на согнутой руке. Трость раскачивается и время от времени попадает мне в лицо, потому что рукой, на которой она висит, Нуммедал пытается привлечь внимание персонала. Целого ряда свежевымытых блондинок с наколками из зелёного льна в волосах.
Мы с Нуммедалом стоим среди оголодавших людей, каждый из которых продвигает свой поднос вперёд, как только берёт очередную тарелку с витрины. Нуммедал же так занят своими действиями, что иногда забывает сдвинуть поднос. За ним образуется затор. Время от времени Нуммедал издаёт звук: «Фрекен!»
Фрекен!
Ни одна фрекен не слышит. Фрекен полностью поглощены тем, что ставят новые тарелки на прилавок. Ни закусочная, ни хлебная фрекен не слышит, фрекен Суп и фрекен Мясо тем более. А чего, собственно, хочет Нуммедал?
Зачем ему вообще о чём-то спрашивать? Он ведь и сам может взять всё, что ему угодно? И даже если он для этого слишком плохо видит, он ведь может объяснить мне, что ему нужно?
Бедный дедушка впал в детство и поднимает шум по пустякам.
Время от времени я проталкиваю его поднос вперёд вместе со своим. Мы стоим уже у десертов, и до сих пор ничего не выбрали. Значит, придётся идти обратно и опять стоять всю очередь. Сам я тоже ничего не осмелился взять. Даже не дерзнул обзавестись стаканом, ножом, вилкой и салфеткой.
В конце концов Нуммедал застывает на месте так упорно, что в очереди образуется дыра. Взять, может, ананас со сливками, ради хоть какого-то действия? Люди, стоявшие перед Нуммедалом, уже прошли кассу. Я испуганно оглядываюсь на тех, что стоят за нами, — не рассердились ли? Нет, ни жалоб, ни вздохов не доносится от них. О суровые викинги, благородная раса, которая никогда никуда не торопится. Нуммедал продолжает издавать звуки.
Теперь я различаю и второй звук: гравлакс!
Ананасно-сливочная девушка это тоже расслышала. Она склоняется к Нуммедалу, отрицательно качает головой, снова выпрямляется, призывая на помощь других девушек, мимо которых мы уже прошли.
Слово зарегистрировано и на стороне посетителей тоже. Все клиенты ищут гравлакс. Они всё ещё снимают тарелки с витрины, рассматривают и обнюхивают их, когда слово «гравлакс» возвращается к сливочной фрекен, от наколки к наколке, снабжённое окончательным отказом.
Нуммедал испускает что-то вроде карканья: благодарное карканье за то, что его вопрос поняли, и извиняющееся — за то, что он просил невозможного.
— No gravlaks in this place!
— I understand. It's not important.
— Entschuldigen Sie daß ich englisch gesprochen habe. Kein Gravlachs hier!
— Ich verstehe. Ich verstehe.
Я быстро хватаю тарелку с пудингом и ставлю к себе на поднос. Уже у кассы я вижу кружки с дымящимся кофе. Нуммедал оставил свой поднос на дорожке, взял только кофе, и теперь платит за нас обоих, не обращая внимания на сдачу.
Ко мне подходит человек из очереди. У него квадратная голова и безупречно круглые стёкла очков. Он указывает на геологическую карту, которую, свёрнутую, я держу под мышкой. С лёгким поклоном он улыбается.
— I understand you are a stranger here… Знаете, это очень плохой ресторан, здесь нет гравлакса. В Осло так трудно найти то, ради чего приезжают иностранцы! В Лондоне вы, конечно, к туристам гораздо привычнее. Но я вижу, у вас карта? Это план города? Могу я взглянуть?
Балансируя подносом на левой руке, правой я беру карту и отдаю её человеку. Теперь из-за того, что он захотел мне помочь, ему придётся ещё раз отстоять в очереди. Он разворачивает карту.
— В Осло есть только один ресторан, где подают гравлакс. Я вам его покажу.
— Не слишком ли трудно будет указать его на этой карте?
Я собираюсь объяснить, что это геологическая карта. Что он подумает, когда увидит все эти красные, зелёные и жёлтые пятна, среди которых сам город изображён размером с картофелину?
Он начинает водить по карте пальцем, но она тут же сворачивается обратно. Я зачем-то пытаюсь ему помочь, поднос у меня на руке шатается.
И опрокидывается прямо на него. Кофе захлёстывает его волной, пудинг зловредными сгустками липнет к пиджаку, посуда разбивается о пол, сам поднос я ещё успеваю поймать. Мой доброжелатель вытянул руки вверх и держит карту высоко над головой. Я оглядываюсь в поисках Нуммедала. Он одиноко сидит за столиком, перемешивая свой кофе.
— Ничего страшного! Ничего страшного! — уверяет человек. Он размахивает картой, совершенно сухой, неповреждённой. Я забираю у него карту. Две фрекен накидываются на него с губкой и полотенцем, разделяя нас.
Теперь ко мне устремляются и другие сердобольные норвежцы. Один захватил для меня пудинг, другой — кофе, а третий несёт салат с кусочками розовой рыбы.
— Лакс, лакс! — ритмично восклицает он. — Лакс, лакс! But no gravlaks! Too bad!
Я спрашиваю, сколько это стоит, перевожу взгляд с одного норвежца на другого, но не получаю ответа. Делаю ещё одну попытку, но так заикаюсь, что вызываю у них ещё больше сострадания. «Не говорит ни на каком языке, — думают они. — Приехал чёрт знает откуда поесть гравлакс».
Взмолившись про себя, чтобы только они за мной не последовали, я поворачиваюсь к ним спиной и убегаю с полным подносом к столу, за которым сидит Нуммедал.
На том месте, куда упал пудинг, фрекен на коленях вытирает пол.
Нуммедал говорит: «Haben Sie die Karte?»
Я разворачиваю карту на столе, глубоко вздыхая в предчувствии нового истязания, которому сейчас должен буду подвергнуться.
Нуммедал сдвигает очки на лоб и достаёт из-под одежды увеличительное стекло на чёрном шнурке. Он держит линзу так близко к карте, как будто ищет на карте блох. Его сморщенная шея вытянута до предела. Сейчас голова упадёт и покатится по столу. Он что-то бормочет про себя, одной рукой передвигая стекло, другой собираясь на что-то указать. Карта издевательски сворачивается снова. Я услужливо ставлю пепельницу, кружку с кофе и два своих блюдца на углы карты. Но слушать Нуммедала я не в состоянии.
Если бы всю жизнь я получал лишь частные уроки, то, наверное, остался бы неграмотным. В беседе с глазу на глаз я никогда ничего не мог понять.
Видели ли вы когда-нибудь сердце животного, заживо разрезанного? Злобную пульсацию этого цепного монстра?
Так пульсирует для меня время в пустоте, когда я должен выслушивать чьи-нибудь объяснения.
Обессиленный, я вздыхаю: «Да, да…» Спокойно оставаться на месте стоит мне огромного напряжения, и я устаю от этого так, как будто бегал три дня, не останавливаясь.
Нуммедал излагает мне свои непрошеные премудрости. Хоть бы он дал мне снимки, вместо того, чтобы демонстрировать свои познания! Капли пота стекают у меня с груди, грудь чешется, глаза вращаются и готовы вылезти из орбит. Я всё вижу и слышу, но ничего не понимаю.
За прилавком стоят майские королевы с горящими свечами в волосах.
Откровенно декольтированная фрекен протирает тряпкой пол в том месте, где я насорил. О, её медовые холмы.
Не открывая рта, я медленно сжимаю и разжимаю челюсти.
Нуммедал нашёл на карте место, которое, как он считает, должно быть особенно интересно для меня. Он кладёт на него свою лупу, снимает очки, вытаскивает из кармана белый носовой платок и начинает протирать им все четыре стекла. Между тем он вводит меня в курс дела:
— Район Осло простирается фактически от Лангсундсфьорда на юге, его нет на этой карте, до озера Мьоса на севере…
Тектоника…
Нижне-пермские отложения… Драммен… Каледониды… Архейский субстрат… Две синклинали… слоистая структура… сланцы…
Я издаю невнятные звуки, наклоняюсь над картой так низко, что не могу различить ни букв, ни обозначений, говорю:
— Да, да!
Восклицаю:
— Конечно!
Но я почти разрываюсь от отчаяния, потому что из Нуммедалова урока я так и не смог запомнить ничего, что могло бы пригодиться мне на предстоящей экскурсии. Ничего, что я мог бы использовать в разговоре… Чтобы Нуммедал остался обо мне лучшего мнения, чем о моём учителе, Сиббеле… Чтобы он наконец дал мне эти аэрофотоснимки — единственное, что мне от него нужно.
— Вы действительно собираетесь всё это мне показать? Не слишком ли это хлопотно?
— Оказаться в Осло и совсем не осмотреть окрестности!!
— Я вам очень благодарен за…
— Да, да, прекрасно! Так все эти молодые люди и говорят! Идёте? Я уже допил свой кофе.
Я — нет. Притворяясь почтительным, я не осмелился даже прикоснуться к еде. Я набиваю рот лососиной и подаю Нуммедалу его трость. Он выходит, оставив на столе карту — нести её, конечно же, должен я.
На выходе ко мне устремляется тот человек, что хотел мне помочь.
— Гравлакс! — кричит он. — В Осло только один ресторан, где подают гравлакс, и он закрыт в июне. No gravlaks in the whole city! Мне ужасно перед вами неудобно. У вас в Лондоне всё организовано гораздо лучше. Или вы из Нью-Йорка? В Норвегии так всегда. В этой стране везде ужасный беспорядок. В Париже такое невообразимо. I am sorry! I am sorry! No alcohol in restaurants. No striptease either! Good luck to you, sir!
4
Вверх, вниз бежит асфальт. Машин попадается немного. Вдоль тротуаров Осло лежат холмообразные кучи скошенной травы. Вдали — дворец с белыми колоннами, жилище короля. Лестница вниз. Подземная станция. Электричка.
Должно быть, это одна из самых старых электричек в мире. Вагоны собраны из вертикально поставленных дубовых дощечек, аккуратно свинчены медными винтами и отлакированы.
Мы с Нуммедалом сидим у окна друг напротив друга. Подземная часть пути коротка, и поезд вскоре выходит на поверхность. Дорога прорублена в скалах. Поезд ввинчивается по ней вверх, позвякивая на поворотах.
Город остался внизу.
Нуммедал молчит, и я ломаю голову над тем, что можно было бы сказать. Но всё, о чем я думаю — полная дикость: …как же так — в восемьдесят четыре года вы ещё заведуете лабораторией… должно быть, вы из тех, кому такие вещи не надоедают… по крайней мере десять лет, как пора на пенсию, а может, и двадцать… да, в Норвегии, конечно, как и у нас, шестьдесят пять лет уже пенсионный возраст, а скорее и вообще шестьдесят, ведь социалисты так давно у власти… но он остался, незаменим на своём посту… наверняка понадобился какой-то специальный статус… о несравненный Нуммедал! Сколько уже лет он почти слепой? Почётный доктор в Ирландии, Кентукки, Новой Зеландии, Либерии, Лихтенштейне, Тилбурге. Неутомимая старость, можно только позавидовать… а может, дома такая стервозная жена, что убежишь хоть на край света, лишь бы не наслаждаться заслуженным отдыхом? Или противная экономка?
Разглядываю его одежду… старая, но приличная. Старики ветшают быстрее, чем их вещи. Как это выходит?.. Высокие ботинки, такие, как на нём, теперь ни в одном магазине больше не продаются. Прочные, толстые подошвы. Человек обращает внимание на такие детали.
Конструкцию своих очков он, наверное, сам придумал. Заказал очки в университетских мастерских. Внезапно я проникаюсь к нему огромным состраданием… я хотел бы сказать ему, со слезами на глазах: «Послушай, пожалуйста, Нуммедал Орнульф. Я, кажется, догадываюсь, что тобой движет, но ты ошибаешься. Зря ты веришь в бессмертие души. И нет никакого Вечного Старичка, ещё старше тебя, почётного доктора всего, чего можно, и с такими же идеалами, как у тебя, но только ещё возвышеннее. И когда ты шагнёшь в абсолютную ночь, а она может наступить в любой момент; когда удар прогрохочет по твоим изношенным сосудам, с кровавыми молниями, — никакой Старичок не придёт и не скажет: „Приветствую тебя, Орнульф! Всё это время я с большой радостью следил за тем, как ты продолжал ходить в университет, хотя давно мог бы сидеть дома, как, зная о прибытии некоего посетителя из-за границы, ты встречал его смесью высокомерия, иронии и добродушия. А потом повёл его в горы, чтобы он рассказывал всем у себя дома: старик Нуммедал по-прежнему бодр! Молодёжи ещё есть чему у него поучиться!“»
Нуммедал закидывает ногу на ногу. Его руки, все в бурых пятнах, опираются на трость и покачиваются в такт поезду.
— Судя по времени, — говорит этот Аденауэр от геологии, — мы подъезжаем к участку, где прекрасно видны силурийские отложения. Посмотрите. Если будете смотреть внимательно, то и сами заметите. Вот там!
Он указывает на деревянную стенку, между окнами, но я и в самом деле вижу Силур.
Мои мысли опять блуждают. Чего я хочу? Хочу, чтобы он дал мне аэрофотоснимки. Как мне произвести впечатление на этого старика, которому уже давно на всё наплевать, и который охотно вводит собеседника в смущение, если, конечно, он сам отдаёт себе в этом отчёт?..
Больше всех виноват, наверное, Сиббеле. Сиббеле должен был по-другому взяться за дело. Должен был сказать… что сказать?.. Должен был попросить послать снимки в Голландию! Но Сиббеле не знает точно, какие снимки той области, о которой я должен писать диссертацию, вообще существуют. И, тем более, в том, что я сам приехал за ними, нет ничего неучтивого.
Внезапно я понимаю, в чём моя ошибка! Едва зайдя в кабинет Нуммедала, я должен был броситься ему в ноги. Унизительно, но красноречиво! О, помоги, — должен был я вскричать, — утоли мою жажду знаний! Я напишу десять научных статей и особенно позабочусь о том, чтобы в каждой из них по сто раз встречалось твоё имя. Я упомяну о тебе и во всех последующих своих трудах, даже в тех, что не будут иметь никакого отношения к твоим великим открытиям! Мои влиятельные друзья… Титул… Ордена… Некрологи…
Некрологи???
В любом случае, уже поздно. Подходящий момент для атаки упущен, я попал в окружение и вынужден защищаться. Меня заклинило, как погнутую ось в повреждённом колесе.
Такой скользкий поворот мне не пройти.
5
Нуммедал отлично ходит. Кажется, здесь, на ярком, режущем глаза солнце, он и видит лучше.
Мы поднимаемся всё выше в гору, и при любой возможности Нуммедал срезает петли серпантина, переходя на крутые тропы с уклоном порядка тридцати градусов. Он идёт ровным шагом, не ускоряя дыхания и читая вполне внятную лекцию по геологии.
Время от времени я выдавливаю из себя по нескольку слов в знак одобрения. По его интонациям я понимаю, когда можно произнести «Разумеется», «Да-да», «Конечно, нет» и даже «Ха-ха».
Я по-прежнему несу свёрнутую карту. Руки устают по очереди, и довольно быстро. Потому что для того, чтобы не помять бумагу, я должен постоянно держать руку на некотором расстоянии от тела. Иногда я пробую нести карту за край, сжав его большим и указательным пальцами, но тогда руку нельзя до конца опустить, ведь иначе карта будет тащиться по земле. За спиной Нуммедала я смотрю в рулон, как в подзорную трубу. Стараюсь не поддаться искушению использовать его, как мегафон. «О, боже! Какое мучение!» — прокричал бы я туда.
Склон переходит в небольшое плато. На нём стоит трамплинная вышка. Деревянный трамплин свисает с неё, как огромный язык.
Мы заходим внутрь, поднимаемся по бесчисленным лестницам и наконец попадаем на галерею, где родители с детьми, облокотившись на перила, наслаждаются видами.
Вышка стоит практически над фьордом. Отсюда он виден почти полностью. На левом берегу — городские дома, на правом — тёмное пятно леса.
— Und geben Sie mir jetzt die Karte!
Я разворачиваю карту. Он отводит внешние очки вверх. Указывает на что-то. Опускает очки обратно. Говорит. Водит остриём карандаша по карте. Опять указывает в пространство. Читает лекцию. Кто знает, может, он уже шестьдесят лет как приходит сюда со своими студентами.
У французов есть выражение: «не знать, с какой ноги плясать».
Я не знаю, на какой ноге мне стоять.
Я потерял всякий контроль над своими мыслями, и, словно птицы из открытой по небрежности клетки, они разлетаются в разные стороны.
Интенсивная синева фьорда и робкая синева неба, которое здесь, так далеко на севере, как будто не осмеливается считать себя синим. Неуклюжие горы, игрушечные домики внизу. Панорама, известная на весь мир. Увидеть и умереть. Например, скользнув вниз по трамплину, который резко обрывается над круглым озером. Зимой трамплин, конечно, весь в снегу, а озеро замерзает. Сколько раз я мысленно с шумом промчался вниз, пока Нуммедал произносит свою речь! Если бы только он сначала дал мне аэрофотоснимки. Как счастлив был бы я его слушать, с каким удовольствием смотрел бы на этот чудесный пейзаж.
Только когда Нуммедал заканчивает лекцию, я замечаю, что карта всё это время лежала перед ним вверх ногами.
6
Тем же поездом мы едем обратно. Хотя я и провёл целый день в обществе Нуммедала, никаких признаков сближения не наблюдается. Обычно после подобных прогулок профессора начинают рассказывать анекдоты, говорить гадости о коллегах или посвящать вас в дела своих кошек, собак и детей.
Только не Нуммедал. Он смотрит на часы в свою лупу, и его рот недовольно морщится. Весь материал для лекций исчерпан, а избавиться от меня он тоже пока не может.
Когда же, наконец, наступит вечер?..
Поднимаясь по лестнице с конечной станции, мы снова оказываемся в центре Осло.
Нуммедал отворачивает внешние очки на лоб. Он останавливается, очевидно, хочет попрощаться.
Я рассыпаюсь в благодарностях за гостеприимство.
Но Нуммедал утверждает, что именно он получил от этой прогулки наибольшее удовольствие, — как будто я этого и так не знал.
— Герр профессор!
Мне приходится выжимать из себя слова, как будто я подавился куском угля.
— Герр профессор, простите, что я так настаиваю, но что всё-таки с аэрофотоснимками?
— С аэрофотоснимками?
— Да, снимками Финской Марки. Я, конечно, понимаю, что вы не можете извлечь их прямо сейчас из воздуха, но, может быть, завтра, если я зайду утром, ваша секретарша…
— У меня нет для вас аэрофотоснимков. Аэрофотоснимки! Конечно, у нас в институте есть снимки. Но специально для вас, чтобы вы взяли их с собой в поле… да о чём вы говорите! Мы же их не сами делаем.
— Но профессор Сиббеле…
— Да при чем здесь профессор Сиббеле! Почему это профессор Сиббеле обещает вам мои снимки?? Если вам так нужны аэрофотоснимки, приходите за ними туда, где они хранятся. А это — в Геологической Службе в Тронхейме. Всё равно вы будете в Тронхейме по пути на Север. Обратитесь в Геологическую Службу! Остмаркнесет, Тронхейм. Директор Валбифф. Он будет рад вас принять. Они только что переехали в великолепное новое здание, это его гордость. Он будет просто счастлив всё вам показать. Да, Валбифф — именно тот, кто вам нужен. Я прямо сейчас позвоню ему, дабы подготовить к вашему визиту.
Нуммедал протягивает мне руку.
— До свидания, молодой человек, всего хорошего. Передайте привет Арне и Квигстаду. И, конечно, заходите на обратном пути, когда закончите свои дела в Финской Марке. Не забудете?
Он снова отворачивает свои очки вверх.
— Ах да, только карту у вас заберу. Салют!
Он стоит на краю тротуара. Два толстых стекла очков на лбу и два перед глазами — словно четыре фонарика у него на голове.
Выставив трость вперёд, он входит прямо в поток машин. Движение останавливается, он переходит улицу. Кажется, что улица за ним захлопывается.
Что теперь?
Было бы нехорошо не послать Сиббеле какую-нибудь открытку. Покрутив железную вертушку, я заботливо выбираю подходящую цветную фотографию трамплинной вышки. Держа открытку за угол и мысленно ею помахивая, я иду к себе в гостиницу и пытаюсь придумать, что бы на ней написать. Ничего путного не получается, потому что в голову приходит только то, что я думаю на самом деле:
«…Ваша рекомендация к профессору Нуммедалу помогла мне весьма посредственно. Это почти слепой старик, видимо, уже не всегда адекватный. Целый день мне пришлось выслушивать его речи, при этом он не преминул случаем выразить своё весьма презрительное отношение к Нидерландам. К Вам, о высокочтимый учитель, он тоже большого уважения не питает. В молодости Вам как-то раз довелось с ним поспорить, и сдаётся мне, что он до сих пор Вам за это мстит. Уничижительно отозвавшись о Ваших научных достижениях при помощи нескольких тщательно подобранных фраз, он долго превозносил свои собственные работы. Всё это не имело никакого отношения к тому делу, по которому я пришёл, но я терпеливо выслушал его до конца. При этом он вёл себя так, как будто я приехал исключительно затем, чтобы на него полюбоваться. Тогда как он с самого начала догадывался, что мне нужны только аэрофотоснимки. Я…»
Где же моя гостиница? Она точно должна уже быть где-то рядом. Но место мне совсем незнакомо. Кругом не видно ничего похожего на отель. Даже магазинов нет. Глухой спальный район, где никому и в голову не придёт содержать гостиницу. Из внутреннего кармана я достаю маленький план города, найденный вчера в номере.
Так и есть — свернул не в ту сторону! Я теряюсь всегда и везде. Уже много раз это происходило со мной в незнакомых городах.
Только через час я добираюсь до гостиницы, а вечер так и не наступает. Я пытаюсь заказать в номер виски. Sorry sir, здесь это не позволяется. Обескураженно я выпиваю большой стакан воды, сажусь за маленький стол, и, открывая и закрывая рот, как рыба, выброшенная на берег, царапаю на обратной стороне открытки:
«Глубокоуважаемый профессор Сиббеле, пишу Вам с Севера, пока ещё не с крайнего. Сегодня утром я встретился с профессором Нуммедалом, который посылает Вам свои сердечные приветствия. Я очень благодарен Вам за это ценное для меня знакомство. Профессор Нуммедал принял меня необыкновенно радушно, и даже взял на себя труд провести со мной небольшую экскурсию по окрестностям Осло!
Что касается аэрофотоснимков, он переадресовал меня в Геологическую Службу в Тронхейме. Альфред И.»
Только в левом нижнем углу ещё остаётся немного места для подписи, и я рад, что моё полное имя там не умещается.
7
Северные страны обладают рядом достойных восхищения особенностей. Одна из них — мощь местной сантехники.
Душ — жёсткая щётка из воды. Я долго стою под ним, как будто могу таким образом смыть с себя весь этот бесполезный день. Как будто могу потом начать всё сначала. Но, закрывая в конце концов краны, я думаю: а действительно ли день был такой уж неудачный? Может, на самом деле Нуммедал был вполне доброжелателен? Может, он пытался достать мне аэрофотоснимки, у него этого не вышло, прогулку он придумал как бы в качестве компенсации, и ехать за снимками в Тронхейм — самое мудрое решение. А его резкости происходят от стыда за то, что он не смог выполнить данное Сиббеле обещание.
Насквозь промокшим возвращаясь в комнату, я включаю радио. Здесь, оказывается, и вправду можно поймать Хилверсум. Послушаем.
У микрофона профессор-физик читает лекцию. Программа называется «Замечательные факты из мира науки и техники» — в изложении, доступном широкой публике.
Чтобы флейта заиграла, рассказывает он, скорость струи воздуха в ней должна составить около ста двадцати пяти километров в час.
Что? Сто двадцать пять километров в час? Это скорость урагана. Такие вещи я, подающий надежды молодой естествоиспытатель, помню наизусть.
Со скоростью ста двадцати пяти километров в час нужно вдувать воздух во флейту, чтобы извлечь из неё более или менее приличный звук. Я никогда не отдавал себе в этом отчёта, хотя с семи до четырнадцати лет играл на самых разных флейтах.
Сначала мне подарили целлулоидную дудочку. Я мог сыграть на ней простую мелодию. Потом я решил посмотреть, загорится ли она, если держать над ней увеличительное стекло. Она загорелась, я уронил её на землю, огонь погас от недостатка горючего, но моя мать страшно испугалась. Она купила мне блокфлейту из чёрного дерева. Немного позже я узнал, что в настоящем оркестре играют на поперечных флейтах. Мать сказала, что поперечные флейты очень дорогие, слишком дорогие. Мой отец тогда давно уже умер, но дед, который был ещё жив, отдал мне флейту, на которой он сам играл в юности. Это была большая поперечная флейта с шестью дырочками и восемью клапанами, она разбиралась на четыре части. В тех местах, где части друг в друга вставлялись, они были отделаны слоновой костью.
«Попробуй сначала сам, потом посмотрим, имеет ли тебе смысл брать уроки».
Я хотел стать флейтистом, профессиональным флейтистом в большом оркестре. Мать не собиралась ничего мне запрещать, но и не была особенно рада моему выбору профессии.
Прежде, чем я смог выжать хоть какой-нибудь звук из большой флейты, прошло полгода. Я купил на книжном рынке старый сборник упражнений. В четырнадцать лет я уже играл вполне прилично, но вскоре сделал роковое открытие. В настоящем оркестре флейты были совсем не такие, как моя. Это были так называемые флейты Бёма, изобретение некоего Теобальда Бёма, а вовсе не флейты с шестью дырочками и восемью клапанами, как у меня. И играть на них тоже нужно было совершенно по-другому. Моя флейта не годилась даже для школьного оркестра.
Я попросил мать, которая редко мне в чём-нибудь отказывала, купить мне настоящую флейту, флейту Бёма. Но мать сказала: «Подумай хорошенько. Во-первых, тебе придётся всё начать сначала. Во-вторых, пойми, флейтист не может по-настоящему прославиться. Пианист, скрипач — это другое дело. Но флейтист почти всегда только один из музыкантов в большом оркестре. А в-третьих, как бы всё ни сложилось, с такой профессией ты будешь всего лишь повторять то, что сочинил кто-то другой!»
Этот довод оказался решающим. Я начал собирать камни, потому что биологом, как мой отец, быть не хотел. Вместо флейтиста я решил стать учёным.
Но за все те годы, что я играл на флейте, мне ни разу не пришло в голову, что воздух во флейте имеет скорость, и тем более я никогда не задавался вопросом, как эту скорость можно было бы измерить.
С водой в ушах, с полотенцем через плечо, я сгораю от стыда. Научная работа — это, прежде всего, измерения. Я даже завёл привычку считать шаги, совсем как Бойс-Баллот, тот самый, который открыл закон Бойса-Баллота («если встать спиной к ветру в северном полушарии, то область низкого давления будет слева»). Ветер… Но это кто-то другой придумал измерить скорость ветра во флейте. Не я.
Как раз когда я собираюсь переключить транзистор на другую радиостанцию, профессор объясняет, что скорость воздушного потока во флейте была впервые измерена Кристиааном Гюйгенсом триста лет назад.
Я выключаю радио и ложусь в кровать. Мне не спится. Здесь, так далеко на севере, в это время года солнце почти не заходит за горизонт. Хотя перед окном и висят чёрные занавески, всё равно понятно, что на улице светло.
В половине пятого я всё ещё бодрствую. В восемь от здания SAS на аэродром уходит автобус. Если я засну сейчас, то, наверное, просплю. Но я не засыпаю.
В пять я встаю, раздвигаю занавески и ещё раз принимаю душ. Вытираясь, я чувствую себя несколько более сонным, чем раньше, но для того, чтобы снова лечь спать, уже слишком поздно. В раздумьях я сижу голый на кровати. Решаю всё же упаковать чемодан и как следует проверить содержимое рюкзака.
Горные ботинки, молоток, спальник, фляжка, кружка, чистый блокнот для заметок, фотоаппарат, плёнки, геологический компас, который Ева подарила мне ещё на первом курсе. Это довольно большой инструмент, с подробной шкалой, прямоугольным основанием, визирами, угломером, ватерпасом и зеркалом.
Я раскрываю его и рассматриваю своё лицо в зеркало. Когда Ева подарила мне этот компас, она сказала, что именно из-за зеркала он показался ей таким забавным подарком. Ещё она сказала: «Я не знала, что геология — это такая наука, где нужно всё время смотреть в зеркало».
Тогда ей было двенадцать лет, моей младшей сестре. Дело не только в том, что от неё я впервые услышал это замечание; на мой взгляд, она была совершенно права.
За эти годы я, наверное, в десять раз чаще вынимал компас из футляра для того, чтобы посмотреться в зеркало, чем для того, чтобы делать какие-либо замеры.
Зеркальце такое маленькое, что когда в нём отражаются мои глаза и нос, то уши невидимы. Если я смотрю на подбородок, то не видно глаз. Даже когда я держу его на расстоянии вытянутой руки, оно не отражает всего лица.
Но обходиться без зеркала я не могу.
По-моему, в истории человечества есть три важных этапа.
Сначала человек не знал, что такое отражение, точно так же, как этого не знают животные. Посадите кота перед зеркалом, и он подумает, что это — стекло, за которым сидит другой кот. Будет на него шипеть, пытаться зайти с другой стороны. В конце концов потеряет к нему всякий интерес. Некоторые кошки вообще никогда не обращают внимания на своё отражение.
Такими были и первые люди. На сто процентов субъективными. «Я», размышляющее о «себе», было тогда невообразимо.
Второй этап: Нарцисс видит своё отражение. Самый великий учёный древности — не Прометей, открывший огонь, а Нарцисс. В первый раз «я» видит «себя». Психология была тогда ненужной наукой, поскольку каждый был для себя тем, чем он был, а именно — своим отражением. Оно могло нравиться ему или нет, но оно не могло его предать. Человек и его отражение тождественны, симметричны. Мы лжём, и отражения лгут вместе с нами. Только на следующем этапе на нас обрушился смертельный удар правды.
Этот третий этап начинается с изобретения фотографии. Часто ли бывает, что паспортная фотокарточка нравится нам так же, как и отражение в зеркале? Крайне редко! Раньше, когда кто-нибудь заказывал портрет, а потом находил этот портрет непохожим, можно было свалить всю вину на художника. Но камера, как мы знаем, лгать не может. И так с течением времени, посредством бесчисленных фотографий, мы обнаруживаем, что редко бываем собой, не симметричны с собой, что большую часть жизни мы существуем в каких-то странных воплощениях, от всякой ответственности за которые охотно отказались бы, если бы могли.
Страх, что другие люди видят его таким же, как на этих странных фотографиях, что в их глазах он, может быть, совсем не похож на любимое отражение, расщепил человека на целую армию, состоящую из генерала и взбунтовавшихся солдат. Привычное «Я», ставящее себе определённые цели — и множество призраков, которые постоянно его предают. Это и есть третий этап: сомнения в себе, раньше довольно редкие, разгораются, доводя до беспомощности.
Психология расцветает.
По крайней мере, у себя в компасе я ношу с собой того солдата, который верен мне в жару и в холод. Он напишет мне диссертацию, да так хорошо, что я защищусь с отличием, а потом стану профессором. Если газеты захотят напечатать его портрет, я заставлю их сфотографировать его столько раз, сколько понадобится для полного сходства. Но сегодня утром у него красные глаза, потому что он не спал всю ночь — а я всегда плохо сплю. И подбородок его зарос, ведь я ещё не брился.
Побрившись, я одеваюсь. Долго раздумывая, упаковываю рюкзак и чемодан. Вещи, которые я оставлю в Алте, — белые рубашки, электробритву и так далее, — кладу сразу в чемодан. В рюкзак — блокнот, шерстяные носки, ручку, карандаши, молоток, пластиковые пакеты, которые никогда не помешают, горные ботинки, спальник, радиоприёмник. Железная рулетка? Не могу найти. Наверное, забыл дома. В записной книжке отмечаю, что должен купить рулетку в Тронхейме: пишу «железная рулетка» под «Остмаркнесет», адресом Геологической Службы.
Перед завтраком ещё раз проверяю ванную, шкаф, письменный стол и ночной столик. Нет, ничего не забыл. Я осматриваю даже те ящики и шкафы, которыми не пользовался. Ненавижу беспорядок. Разбросать вещи, попасть в непредвиденную ситуацию, не знать, что делать — нет ничего отвратительнее. Я не свалюсь в расщелину, как мой отец, и даже если так случится, я буду к этому готов. Поскользнувшись, я не растеряюсь. Смогу за что-нибудь ухватиться, как-нибудь задержать падение.
Но что я вижу, выставив чемодан и рюкзак в коридор и собираясь захлопнуть за собой дверь?
На вешалке лежит открытка. Та самая, что я вчера вечером написал Сиббеле. Вовремя заметил!
8
Когда в первый раз объявляют рейс на Тронхейм, я не торопясь иду к самолёту. Вежливо здороваюсь со стюардессой.
Положив плащ и фотоаппарат в сетку под потолком, я сажусь и зеваю. Теперь можно поспать, и я закрываю глаза. Веки, недостаточно тяжёлые, поднимаются снова.
Сиденье рядом со мной свободно. Окошко, у которого я сижу, — прямо над крылом, так что ничего не видно.
Стюардесса проходит со стопкой газет. Я, не глядя, беру одну из них, листаю. Читать мне, собственно, не хочется, но это получается само собой.
«ЗНАМЕНИТЫЕ ШЕРПЫ — ОПОРА ГОЛЛАНДСКОЙ ЭКСПЕДИЦИИ»
Это письмо из той гималайской экспедиции, в которой участвует Брандель.
«Наш первый лагерь расположен недалеко от аэродрома Покхара, с видом на такие гималайские гиганты, как Аннапурна (8078 м.), Мачхапучхаре (6997 м.) и Ламджунг Гимал (6985 м.), которые, с их покрытыми льдом вершинами, властвуют над ландшафтом…
Мы должны ещё дождаться прибытия Вонгдхи, вождя шерпов. Восемь дней назад он с сотней носильщиков вышел из Катманду.
Многие считают, что термин „шерп“ обозначает носильщика или горного проводника, вне всякого сомнения, оттого, что широкая публика узнала о шерпах благодаря гималайским экспедициям. В действительности же это отдельная народность.
ОПЫТ
Вонгдхи всего двадцать девять лет, но он уже успел прославиться в многочисленных экспедициях. Лишь недавно он, вместе с нашим французским коллегой Лионелем Террэ, покорил гору Джанну в Восточном Непале, высота которой — почти 8000 метров. При этом нужно отметить, что Вонгдхи, в отличие от Террэ, не пользовался кислородной маской. Он участвовал и в Женской Гималайской Экспедиции на Чо Ою, закончившейся особенно трагически: руководитель экспедиции Клод Коган, Клодина ван дер Стратен и три шерпа оказались погребены под огромной снежной лавиной. Вонгдхи был одним из этих шерпов и единственным из пятерых, кому удалось остаться в живых. На своём ломаном английском он рассказывал нам о том, как при помощи складного ножа, случайно оказавшегося у него в нагрудном кармане, он смог выкопаться из снега. В этой экспедиции он отморозил несколько фаланг, которые позднее были ампутированы во Франции.
ОМЛЕТ
Среди нас есть ещё один знаменитый шерп: повар Дану. Экспедиции буквально сражаются между собой за то, чтобы заполучить этого невысокого парня, наделённого необычайным кулинарным мастерством и удивительной бодростью духа. Для Дану остановка на ночлег — всегда самое важное событие дня. Когда мы, до одури радуясь тому, что идти сегодня больше никуда не надо, наконец садимся отдохнуть, Дану начинает носиться вокруг и хлопотать по хозяйству. Чай, как правило, готов через пять минут, и часто вместе с превосходным омлетом… гораздо лучше, чем мы привыкли дома! Иногда мне казалось, что Дану вбежал в ближайший дом и схватил там чайник с огня… лишь бы только не заставлять своих сахибов ждать!
В общем, Дану — чудесный парень.
ВЕРНОСТЬ
Небольшой инцидент, случившийся во время нашего путешествия, прекрасно иллюстрирует ментальность шерпов. Когда мы с Бранделем спали в палатке по соседству с одной горной деревушкой, какой-то местный хулиган стал кидаться в палатку камнями со склона. Немедленно прибежали шерпы и прогнали наглеца.
Через четверть часа, задремав было, я проснулся от шороха перед палаткой… и обнаружил Дану, лежащего поперёк входа в спальном мешке, с топором, полного решимости, если понадобится, защищать своих сахибов с оружием в руках! Эту решимость не сломил даже пошедший ночью дождь: Дану остался с нами до рассвета! Так что недаром шерпы известны своей верностью и надёжностью.
ВЕС
Носильщиков, или кули, набирают главным образом в окрестностях Катманду, где многие жители — профессионалы. Подённая плата там, между прочим, сильно ниже, чем в Покхара, где свои услуги предлагают случайные люди. Во время экспедиции нормальным считается груз в тридцать — тридцать два килограмма, но носильщики способны взвалить на себя и гораздо большую тяжесть, и, если понадобится, нести её с раннего утра до позднего вечера.
Бывает, что нести приходится шестьдесят килограммов и больше, десятки километров по горам. Но тогда носильщик продвигается очень медленно.
Самого сильного мы видели на лётном поле в Покхара. В нашем грузе, который только что прибыл самолётом из Катманду, был ящик весом 125 килограммов. Ни один человек не хотел за него браться, пока какой-то мальчик лет семнадцати не взвалил его на спину и не прошёл с ним в гору метров двести. Паренька потом взвесил один из наших врачей. Вес: тридцать семь килограммов!
В ПОХОД
Что касается самого восхождения, то нет никаких сомнений в том, что сильнейшие — такие, как Вонгдхи, Дорджи, Дану и Мингма Циринг, — достойно проявят себя при установке высотных базовых лагерей на нашей горе — Нилгири, и, скорее всего, по меньшей мере один из них взойдёт с нами на вершину».
Верные шерпы проявляют себя достойно… Газеты с меня довольно, и я кладу её на свободное сиденье рядом.
Когда я в самолёте, у меня всегда такое ощущение, что это не я куда-то еду, а меня куда-то везут. Ничего интересного нет ни на крыле за окном, ни тем более на спинке кресла у меня перед носом. Только западная цивилизация могла выдумать такой вид транспорта, где пассажиру совершенно нечего делать, кроме как часами пялиться на спинку соседнего сиденья, к которой ещё и приделана сетка с пакетами из плотной бумаги для тех, кого тошнит. Лучше уж ехать на спине верного шерпа. Который готов нести вчетверо больше собственного веса для своих сахибов. Кто бы для меня что-нибудь в этом роде проделал?
Арне попытается найти в Скуганварре кого-нибудь, кто дал бы нам лошадь, которая провезёт наш багаж первые двадцать пять километров. Потом лошадь нужно будет вернуть. Там, куда мы собираемся, лошадям нечего есть. Так что на второй день лошадь повернёт обратно.
Дальше мы пойдём, таща на себе еду на несколько недель и оборудование. Без шерпов, которые, если нужно, под дождём ложатся на землю перед палаткой, защищая своих сахибов. Без повара Дану, за которого сражаются экспедиции. Дану, наделённого необычайным кулинарным мастерством и удивительной бодростью. Который готов вломиться в ближайший дом за кипящим чайником, чтобы приготовить сахибам вкусного чаю в конце трудного дня.
«ОМЛЕТ»
Собственно, я не имею ни малейшего представления о том, сколько я сам могу унести на спине. Уже двадцать килограммов — это, кажется, довольно много. Двадцать пять? Может быть. Глупо, что мне не пришло в голову поэкспериментировать дома. Засунуть в рюкзак столько, сколько, как мне кажется, я смог бы тащить, а потом взвесить. Вычесть какой-то процент, делая поправку на то, что идти придётся часами, среди ям и камней, без дороги, без тропы, вверх, вниз.
С другой стороны, какая мне разница? Даже если бы я всё это точно знал? В любом случае, надо думать, что мы поделим весь наш груз на три равные части. Я и сам ни за что не хотел бы нести меньше трети.
На самом деле я никогда ещё не отправлялся в подобные путешествия. Повсюду, где мне пришлось побывать до сих пор, к вечеру можно было добраться до деревни и купить еды.
«Всё когда-нибудь бывает в первый раз, мама».
«Конечно, Альфред. Ты говоришь так, как будто это я виновата, что ты так мало занимался спортом».
Это правда, я никогда не был спортивным. Если бы я не выбрал такую специальность, что гонит меня далеко прочь от дома, я мог бы стать настоящим кабинетным учёным. А что можно изучать в кабинете, кроме книг, написанных другими?
Я не хочу работать с камнями, которые собрал кто-то другой. Даже больше: не хочу искать камней, про которые и так понятно, что на Земле они есть! Лучше всего было бы найти метеорит, камень из космоса, и ещё чтобы он состоял из вещества, неизвестного на Земле. Философский камень, или, по крайней мере, минерал, который назовут в мою честь: «Иссендорфит».
За какое число газета? Позавчерашняя. Но письмо из Непала отправили, наверное, уже недели три назад.
Брандель никогда не был моим близким другом. Совсем другой человек. Бранни. Больше всего ему нравились всякие опасности. Учился в основном для того, чтобы придать своим занятиям спортом некоторый привкус науки. Выигрывал медали в беге на коньках на длинные дистанции, в семнадцать лет был уже классным альпинистом. На мотоцикле гонял под двести («деревья вдоль дороги сливаются в сплошную стену»). Никогда не читал книг, если не заставляли.
Может быть, в эту самую минуту он и занят покорением Нилгири. Смотрю на часы: без пяти девять. В Непале сейчас, наверное, часа три дня. В общем, вполне возможно.
Брандель уже с семилетнего возраста каждое лето отправлялся в поход в Швейцарию. Вверх — вниз, как горный козёл. Даже тирольские йодли петь научился. Не курил, не пил. Швейцария! Я там ещё ни разу не был, только проезжал на ночном поезде.
«ВЕС»
«Нормальная нагрузка — тридцать, тридцать два килограмма». Тогда я с этим тоже справлюсь. А сколько, собственно, весит еда на один день? Бутерброд — это граммов пятьдесят, или меньше? Понятия не имею. Шестьдесят килограммов, наверное, нести не смогу. Сам я вешу больше семидесяти. Сколько весил тот юный шерп? Тридцать семь килограммов. И пронёс сто двадцать пять на двести метров в гору. Втрое больше собственного веса. Значит, я должен поднимать двести двадцать. Но подобные выкладки — это бессмыслица. Скажем, трёхтонный грузовик в десять тысяч раз тяжелее игрушечной машинки. Но он вовсе не в десять тысяч раз её мощнее. Если бы человек был, относительно, таким же сильным, как блоха, то он смог бы тянуть железнодорожный вагон. Но этого никто не может.
Перед моим мысленным взором гуськом проходят шерпы. Шестьдесят килограммов груза подвешены к широкому ремню, опоясывающему голову, спина согнута так, что руки почти касаются земли. Кривые ноги, до странности тонкие, как ослиные.
Можно, конечно, не брать с собой приёмник. Разница — триста граммов…
Брандель — дружелюбный парень, постоянно и по любому поводу смеётся, никогда ни с кем не ссорится и полон оптимизма. Я таких людей не очень понимаю, но думаю, что они вполне счастливы. Вроде собак. Собачья жизнь. «Собачья жизнь» означает — сплошные неприятности. Несмотря на это, большинство собак — оптимисты.
Да и почему бы Бранделю не быть оптимистом? Вонгдхи, вождь шерпов, уже спешит к нему с сотней носильщиков, чтобы доставить его пижаму и зубную щётку на вершину Нилгири.
А я, наоборот, уже потерял целый день, выклянчивая позарез нужные мне аэрофотоснимки у старого полуслепого самодовольного индюка.
9
Тронхейм, наверное, мог бы мне понравиться.
Вдоль берега стоят деревянные пакгаузы цвета ржавчины. Здесь вообще все дома из дерева. Трамваи на улицах выглядят странно. Надо бы ввести закон, по которому трамваи не имеют права ездить по деревянному городу. Ненастоящий город. Как будто он сделан для всемирной выставки, и даже не плотниками, а мебельных дел мастерами.
Но я спешу. У меня всего три часа до самолёта в Тромсё. И за это время нужно достать снимки.
Из такси я пытаюсь, насколько возможно, осмотреть город. Вижу большой собор с зелёной медной крышей. Красно-белые трансляционные башни. Светит солнце, спать совсем не хочется, и когда я сказал шофёру: «Остмаркнесет», он сразу же понял, куда мне нужно, хотя я совсем не знаю норвежского и слово произнёс наудачу.
Мы проезжаем по длинному мосту, после которого плотность застройки резко падает. Там, где мы едем сейчас, даже улиц больше нет. Холмистая местность. Высокие ели. Здесь и там по ряду новых деревянных домов, сделанных уже не мебельщиками, а машинами.
Такси останавливается. Шофёр поворачивается ко мне. Перекинув руку через спинку переднего сиденья, он открывает правую дверь и указывает на строящееся здание этажей в десять-двенадцать.
— Geologisk undersökelse, — говорит он.
Проехать к зданию он, видимо, не может. Вокруг стройки — сплошные ямы, покрытые суриком отопительные батареи, поваленные деревья, доски. Я расплачиваюсь и выхожу из машины.
Хотя кругом до сих пор лежат целые горы кирпичей, никаких каменщиков не видно. Но, подходя ближе к зданию, я замечаю двух человек, пытающихся поставить на ребро кусок зеркального стекла размером с небольшое футбольное поле.
Я подбегаю к ним с криком: «Geologisk undersökelse!», и сам, отражённый, встаю между ними.
Один из них никак не реагирует, у него заняты обе руки. Второй описывает левой рукой полукруг в воздухе и возвращается к своему занятию.
Я обхожу здание так, как он показал, упираюсь в кустарник, но повернуть обратно не решаюсь, и, продираясь сквозь заросли, выхожу на маленькую площадку, где без присмотра стоят джип и вездеход на гусеницах.
Тернист путь к директору Валбиффу. Я останавливаюсь, долго отряхиваю одежду. Никто не видит? Нет.
Эта часть здания уже вполне закончена. Есть окна, и даже маленькая дверь. Я вхожу и попадаю в узкий коридор. Теперь надо решить трудную задачу — найти секретариат.
Впрочем, нет, не нужно. Из лаборатории, где какие-то установки издают булькающие звуки, выходит господин с белыми вьющимися волосами и в галстуке-бабочке, и улыбается мне. Наверное, это и есть Валбифф — кто же ещё?
Я обращаюсь к нему:
— Скажите, пожалуйста, как мне найти директора Валбиффа?
Будто бы ни о чём не догадываясь. А я и правда ни о чём не догадываюсь.
— Директора Валбиффа? Его сегодня нет. Я директор Офтедал, из Statens Rahstofflaboratorium.
— А разве здесь не Геологическая Служба?
— Пока ещё не совсем. Но, может быть, я смогу вам помочь. Пойдёмте со мной.
Вместе с ним я прохожу в его кабинет в другом конце коридора. Он садится за стол и указывает мне кресло.
— Как вы и сами видите, даже здание ещё не вполне построено. Какое у Вас дело к директору Валбиффу?
— Меня направил сюда профессор Нуммедал. Я аспирант из Голландии, недавно защитил диплом и хочу написать диссертацию о ландшафте Финской Марки. Я предполагал взять аэрофотоснимки у профессора Нуммедала, но у профессора Нуммедала их не оказалось. Он посоветовал мне обратиться в Геологическую Службу в Тронхейме, и пообещал, что позвонит директору Валбиффу и предупредит о моём приезде.
— Позвонит? Из Осло?
Как будто озабоченный тем, чтобы в любом случае телефон оказался как-то задействован в этой истории, Офтедал поднимает трубку одного из двух сверкающих на столе аппаратов. Что-то спрашивает, что-то отвечает, я понимаю только последние слова: «takk takk». Он вешает трубку.
— Насколько нам известно, никто не звонил. Директор Валбифф вчера ненадолго появился и сразу же уехал обратно в Осло. Наша служба уже наполовину переехала, но большая часть Геологической до сих пор в Осло. Обе службы разместятся в этом здании.
Он начинает рассказывать про новое здание. Директор Офтедал говорит на безупречном на мой взгляд английском, и, очевидно, считает мой собственный английский тоже достаточно хорошим для того, чтобы не переходить на какой-нибудь другой язык. Он всё рассказывает и рассказывает, и то, что Нуммедал забыл позвонить или же Валбифф звонок проигнорировал, а значит, я сижу здесь совершенно понапрасну, оставляет его безучастным.
У Офтедала влажное красное лицо, густые белые брови, козырьками нависающие над глазами, но больше всего мне бросаются в глаза глубокие шрамы на его шее. Галстук-бабочка слишком узок и их не закрывает. Кажется, что его горло, точнее, всё, что находится под нижней челюстью, вычерпали большой ложкой. Я не имею никакого представления, что это могла быть за операция, — но что я вообще знаю об операциях? Непонятно, как ещё что-то осталось от гортани и языка; а они и правда в порядке, потому что у него красивый низкий голос и говорит он очень чётко.
— А может ли быть так, что аэрофотоснимки уже здесь? — спрашиваю я его, дав выговориться по поводу переезда. — Ведь иначе профессор Нуммедал вряд ли послал бы меня в Тронхейм.
После чего ещё присочиняю:
— Профессор Нуммедал был абсолютно уверен, что они здесь.
Офтедал кладёт руки на стол, некоторое время смотрит на меня, потом говорит:
— Возможно, возможно. В любом случае, можно пойти посмотреть.
И поднимается. Я тоже встаю и подхожу к двери, пока Офтедал выходит из-за стола. На стене я вижу фотографию в рамке, портрет с автографом:
«Руаль Амундсен»
— Амундсен, — говорю я, когда Офтедал открывает дверь, — это правда его подпись?
— Да, конечно. Знаете, чему Амундсен обязан своими успехами? Он заказал себе одежду из шкур, вывернутых мехом внутрь. И носил её прямо на голое тело. Это была свободная, тёплая и в то же время хорошо вентилируемая одежда, понимаете? А другие, например, Шекльтон и Скотт, носили плотные рубашки и шерстяные кальсоны. Естественно, всё это промокало от пота, местами обледеневало, высушить вещи было невозможно. А у Амундсена таких проблем не было, и поэтому он первым достиг Южного полюса.
Мы проходим коридор, поворачиваем за угол и оказываемся в другом коридоре, низком, шириной больше высоты.
— Лучше не думать о том, — философствует Офтедал, — как путешественники вроде Амундсена справляли нужду, при пятидесяти градусах ниже нуля, ха, ха. It must have been a very quick story!
В потолке скрыты светильники, стены — из сверкающего палисандра, на полу паркет.
— Значит, вы учились геологии, — говорит Офтедал, возвращаясь от Амундсена и Южного полюса ко мне. — Прекрасный предмет. Сам я по образованию геофизик. Наша служба архивирует всё, что может понадобиться геологам. Иногда я чувствую себя кем-то вроде заведующего складом, и мне жаль, что я не стал геологом. Слишком много приходится копаться в бумагах. Полевые работы гораздо романтичнее. Геологи — это последние настоящие путешественники, сохранившиеся до наших дней.
Он смеётся.
— Осторожно! Лучше всего не наступать на доски, а только на балки. Строители, как это сейчас принято, на несколько месяцев отстали от графика работ. Всё это давно должно было быть закончено.
Паркет уже кончился, а теперь кончаются и стены. Ничего похожего на коридор больше нет. Сооружение, по которому мы теперь идём, иначе, как стройкой, назвать нельзя. Это две бетонные плиты, удерживаемые одна над другой при помощи бетонных столбов. В конце — лестница, тоже из голого бетона, по которой мы начинаем подниматься.
— И как же вас занесло в Норвегию? — спрашивает Офтедал этажом выше, где картина совершенно такая же.
— Я познакомился в Амстердаме с одним норвежским студентом, Арне Йордалом, и он рассказывал мне о Финской Марке. Мы решили вместе туда пойти, этим летом. Арне там уже был, он поможет мне сориентироваться, мы составим друг другу компанию, а вообще будем заниматься каждый своей темой.
— Конечно, конечно. Один петролог из Геологической Службы, Квигстад, сейчас тоже в Финской Марке.
— Да, я знаю. Арне Йордал писал мне, что Квигстад к нам присоединится. Они оба ученики профессора Нуммедала.
Он кивает, я радостно улыбаюсь, потому что вижу, что он всё же отчасти осведомлён о нашей экспедиции. Значит, должен понимать, что я не шарлатан.
Мы снова входим в почти готовую часть здания — трубки светильников на потолке, палисандр, паркет. Офтедал открывает дверь.
Это пустая комната, ещё пахнущая краской и свежим деревом. Посередине комнаты стоит на полу телефон. Офтедал подходит к нему, приседает на корточки, снимает трубку и набирает номер. Я отхожу к внешней стене. Она вся из зеркального стекла, на стекле извёсткой намалёваны два больших круга и подписано: «Джейн Мансфельд»[1].
По фьорду плывёт белый пароход. Белый пароход, синее море, синее небо, чёрные сосны на склонах фьорда похожи на воткнутые вертикально в землю мокрые вороньи перья. На трубе парохода — жёлтое кольцо.
Я слышу, как у меня за спиной что-то говорит в трубку, выжидательно замолкает, снова говорит Офтедал.
— Mange takk.
Он кладёт трубку. Я поворачиваюсь к нему. Мы снова выходим из комнаты. Я — с надеждой, что телефонный разговор как-то касался аэрофотоснимков, ожидая, что Офтедал сейчас заговорит о них со мной. Но Офтедал молчит, и я следую за ним по коридору, сам не зная, зачем.
— Ваш институт прекрасно расположен. Вид потрясающий.
— Такой вид — не редкость для Норвегии. Хорошо вы знаете профессора Нуммедала?
— Я его вчера в первый раз видел. Меня порекомендовал мой научный руководитель.
— Вот как. Нуммедал — националист, шовинист. Вы не знаете норвежского, так что не могли этого заметить, но он говорит на нюнорск. Он из-под Бергена.
Офтедал усмехается, примерно так же, как это делаем мы, когда речь заходит о поборниках фризского.
Ещё одна бетонная лестница.
— Нюнорск, — говорит Офтедал. — Два языка в стране, в которой и четырёх миллионов жителей не наберётся. И ещё, как будто двух языков мало, любители самнорск хотят осчастливить нас третьим.
Я потерял счёт этажам, и мои ботинки покрыты белой пылью. Там, где мы сейчас, нет даже окон, и я внезапно начинаю дрожать от холодного воздуха. Мы без конца перешагиваем через незакреплённые доски и балки и обходим лужи.
— Директор Валбифф Нуммедала на дух не переносит. Собственно, вас можно только поздравить с тем, что Валбифф в отъезде. Иначе вам бы уж точно не видать снимков, даже если они здесь.
Мы опять в почти построенной части здания. Двери кабинетов открыты. Кое-где уже стоят письменные столы, а за ними сидят секретарши. Навстречу нам выходит седая дама и подбегает к Офтедалу, как будто спешит на зов. Они о чём-то говорят. Конечно, это ей он только что звонил. Офтедал поворачивается ко мне и представляет меня даме.
— We are very sorry, — произносит она очень медленно, — но мы ещё не вполне разобрали наш архив. Я плохо в нём ориентируюсь, и к тому же мы пока далеко не всё получили.
Я чувствую, что заливаюсь краской от радости. Ага! Совсем другое дело! Ещё не всё получили, но нужные мне снимки, конечно, уже здесь. Не может быть, чтобы Нуммедал просто так послал меня в Тронхейм. Конечно, он звонил! Ну, хорошо, Валбиффа не было, и тем лучше, раз он так ненавидит Нуммедала; но в этом здании столько других людей! Как может Офтедал, руководитель соседней службы, знать с уверенностью, что вчера никто не разговаривал по телефону с Осло?
Втроём мы проходим дальше по коридору. Местами уже стоят стулья, стальные шкафы. Иногда проход загромождают кучи картонных коробок, и мы еле протискиваемся между ними. Секретарша приводит нас в помещение, где стоят целых два стола, и повсюду коробки.
Она открывает одну из них. Коробка полна снимков.
— Посмотрите.
Я пытаюсь вытащить какую-нибудь из фотографий, но коробка настолько набита, что ухватить фотографию за край почто невозможно. Когда я наконец тяну одну из них, у неё надрывается уголок. Я что-то лепечу, бормочу, совершенно теряюсь, тупо смотрю на фотографию с таким видом, как будто занимаюсь чем-то неприличным.
В самом деле, это аэрофотоснимок. Океан. В правом нижнем углу виден берег, полоска со сверкающей каймой. В правом верхнем — крошечные часы, показывающие семь минут четвёртого. В левом верхнем такой же альтиметр показывает высоту, с которой сделан снимок. Без лупы не разобрать. Ещё есть номер. Я смотрю на другую сторону фотографии. Штамп министерства обороны. Нет никаких знаков, по которым можно было бы понять, где же эта фотография сделана.
— Нет ли у вас списка снимков, по номерам? — спрашиваю я, изучая надписи на ящике. Как я и думал, на нём указаны только номера содержащихся в нём снимков, — ни одного слова.
Офтедал говорит:
— Список? Да это должна быть целая картотека.
— Это вообще-то совсем не мой отдел, — говорит секретарша. — Когда мы распаковывали ящики, картотека мне не попадалась. Мисс (непонятное слово), которая занимается снимками, сейчас в Осло.
— Но тогда всё очень просто, — говорит Офтедал, — позвоните фрекен (непонятное слово) в Осло, попросите её посмотреть по каталогу, какие номера соответствуют Финской Марке, и найдите эти снимки.
Выходя обратно в коридор, он произносит ещё что-то по-норвежски, а потом делает мне знак, чтобы я следовал за ним.
Он приводит меня в другую комнату, на том же этаже, где стоит дубовый стол, а на нём, в старомодной витрине — какой-то большой латунный измерительный прибор.
— Знаете, что это такое? — говорит Офтедал, и похоже, что он совершенно позабыл о том, зачем я здесь. Он явно собирается прочесть лекцию, дабы рассеять мрак моего невежества.
— Великий Хейсканен! Хотя геофизика и не ваша специальность, вы, конечно, слышали эту фамилию.
Только теперь я замечаю, что в петлице у Офтедала — зубчатое колесо Ротари-клуба, а на безымянном пальце правой руки, кроме обручального кольца, есть ещё перстень с камнем точно под цвет галстука.
— С помощью этого гравиметра, — продолжает он, — великий Хейсканен проделал свои основополагающие исследования об изостатическом подъёме Скандинавского Щита. Великий Хейсканен! Вы, конечно, знаете, кто это такой. Да, именно геофизика — актуальная сейчас наука. Гравиметрия, сейсмология, измерения магнитного поля Земли! Одним словом, будущее за геофизикой. Собственно геология очень быстро устаревает. Бывают мёртвые науки, точно так же, как и мёртвые языки. С тех пор, как геологи поняли некоторые фундаментальные принципы, открывать стало, в общем-то, больше нечего. Геология превратилась в прикладную науку, в определённый набор трюков, позволяющий понять, или, точнее, догадаться, как выглядят невидимые недра. Но с развитием геофизических методов у нас появился настоящий радар, с помощью которого мы можем заглянуть прямо в толщу Земли! И кому теперь нужны эти экспедиции с палаткой и молотком, картой и записной книжкой? Всё это, может быть, и прекрасно, но только не для тех, кто знает, что попусту теряет время, что есть гораздо более совершенные методы. Классический геолог — это, собственно, что-то вроде вольного бухгалтера. Рядом с геофизиком он выглядит так же современно, как бухгалтер рядом с компьютером! Если бы не геофизика, наши запасы нефти и газа давно бы истощились. Или вот вам другой простой пример: какой переворот произвели аэрофотоснимки в наших представлениях о Земле! На снимке всё видно в сотню раз лучше, и тот, кто смотрит на снимок, видит в сотню раз больше, чем тот, кто стоит на земле, по шею в кустах и по колено в болоте! Ах, фрекен (непонятное слово), уже всё?
Он продолжает по-норвежски.
Фрекен вошла в дверь, которую Офтедал оставил открытой. Я увидел её, только когда она подошла вплотную, и немного испуган.
Её руки набожно сложены на груди. И в этих руках ничего нет. Ни каталога, ни снимков. Закончив разговор с Офтедалом, она подходит ко мне и протягивает руку:
— Goodbye, sir.
Офтедал собственной персоной провожает меня ко главному входу, который я не смог найти, когда приехал, и который для меня теперь скорее главный выход. На мраморной лестнице Офтедал объясняет мне, почему, к большому своему сожалению, он не в состоянии мне помочь. Секретарша позвонила в Осло. Там ей сказали, что каталог уже едет в Тронхейм, что, в любом случае, в Осло его нет.
— Как вы считаете, — спрашиваю я, понимая, что делаю это только в знак того, что ещё не окончательно пал духом, — может быть, где-нибудь ещё, недалеко отсюда, тоже хранятся аэрофотоснимки?
— Где-нибудь ещё? Да вы что! Аэрофотоснимки — военная тайна, как это должно быть хорошо вам известно. Причём во всех странах мира! Только в виде исключения и с соблюдением строжайших правил они предоставляются для определённых научных целей. Тем более — снимки Финской Марки, которая почти на границе с Россией! Может быть, это всё и глупости, и в самом деле, зачем русским воровать наши снимки — ведь они их и сами делают. Но пока порядок таков. Недавно я познакомился с одним профессором экономики, который думал, что аэрофотоснимки продаются в газетных киосках, совсем как открытки, ха-ха. Некоторые люди не понимают самых простых вещей.
Он посмеивается, вздыхает и заключает:
— Очень жаль, конечно, что вы напрасно потратили время. Мне даже неудобно предлагать вам прийти через две недели. Тогда каталог, вне всякого сомнения, будет на месте и будет распакован. Но, разумеется, я понимаю, что вы спешите. Well, well. Goodbye to you, sir, it's been a pleasure. Have a good time in Finnmark!
Вестибюль состоит исключительно из зеркал. Пытаясь понять, какие из зеркал подвижны, и, следовательно, должны называться дверьми, я оставляю на них многочисленные отпечатки своих влажных пальцев. Когда мне наконец удаётся повернуть одну из стеклянных плит, я оглядываюсь назад.
Офтедал уже идёт обратно. Он поворачивает направо, и я вижу его в профиль на фоне освещённой лестницы. Его нижнюю челюсть без горла.
Пройдёт время, и от его головы останется только череп. Но пока даже по его голосу невозможно догадаться, что он уже лишился довольно большого её куска.
10
Интересно, что это читает мой сосед.
Скосив глаза, насколько можно, судорожно подёргиваясь в его сторону (видит ли он, что я подсматриваю?.. нет…), я пытаюсь выяснить, что у него за книжка.
Он то и дело прерывает чтение, кладёт книжку на колени обложкой вверх, но не отпускает её. На правой руке вытатуирован якорь, рубашка белая, чистая, но мятая. Дешёвый галстук плохо завязан, костюм старомодный, но не изношенный. Чистый. Но плохо отглаженный. Моряк, конечно же. На корабле ходит в свитере или в комбинезоне, так что приличный костюм может прослужить много лет.
Когда он не читает, он задумчиво смотрит в одну точку и жуёт что-то за щекой. На левой руке у него тоже какая-то татуировка, я не могу разглядеть, что именно. Рука соскальзывает с книжки. Это простенький голландский учебник английского.
— Вы тоже едете в Тромсё? — спрашиваю я.
— Ты голландец?
— А что, разве непохоже?
— По делам, конечно.
— Да нет. Мне нужно потом ещё дальше на север, у меня там родственники.
Я говорю это прежде, чем успеваю что-нибудь подумать; врать мне ничуть не приятнее, чем объяснять ему, что же я на самом деле собираюсь делать на Севере.
— Вы в плавание? — поспешно задаю я вопрос.
— Да, должен заменить в Тромсё одного кока, который сбежал с корабля. Терпеть не могу сидеть в самолёте. Но пароходство, оно этим не интересуется.
Он снова переворачивает книжку, текстом вверх.
— Трудный язык этот английский. Ты понимаешь, что здесь написано?
Он указывает мне на предложение, которое звучит так: «Does Alfred go to the races? No, he doesn't».
— Почему они это так написали, — спрашивает он, — что он там делает?
— Это просто такая манера говорить, — пробую я объяснить. — Если англичане хотят о чем-нибудь спросить, они говорят не: «Ходит ли Альфред на скачки?», а: «Делает ли Альфред ходить на скачки?».
— Но это же просто ерунда какая-то!
— Ничего не поделаешь, такой язык. Понимаете, когда англичане задают вопрос, они сначала спрашивают о том, делаете ли вы что-нибудь, а потом уточняют, что именно, в инфинитиве.
«В инфинитиве»! Я сразу же закусываю губу. Неужели я даже самых простых вещей не могу объяснить без того, чтобы показаться педантом?
— Ну да, всё ясно, — говорит он. — Ты в этом разбираешься. Эксперт.
— Do you smoke, — продолжаю я (в конце концов, он сам напросился), — do you smoke, делаешь ли ты курить, но они подразумевают, куришь ли ты.
— А вот и неправильно, — отвечает он. — Они говорят: «Have a smoke».
Одновременно он достаёт пачку North State и держит её у меня перед носом. Я беру сигарету и закуриваю.
— North State, — поясняет он. — Здесь в Норвегии это называется South State.
— Правда?
— You do smoke, I not smoke. I жую табак.
Я улыбаюсь.
— Жевать табак, — спрашивает он, — как это будет по-английски?
Всё-то я знаю, только аэрофотоснимков у меня нет.
— To chew tobacco, — отвечаю я.
— Ту чу то-бэ-ко, — повторяет он, — сделай доброе дело, запиши мне это где-нибудь.
Сначала по-английски, потом в фонетической транскрипции, я записываю.
— Сразу видно, что ты много чему учился, — говорит моряк. — Если бы я знал хотя бы половину того, что ты, то я бы сейчас не сидел тут по приказу пароходства. Тогда бы я уж как-нибудь устроился так, чтобы меня не гоняли чёрт знает куда. Жил бы, где хочу. Мне эти мысли иногда спать не дают, честное слово. Если бы только в своё время у меня была возможность учиться…
Он опять смотрит в свою книжку. Листает. Постоянно задаёт вопросы. Жажда знаний.
Всё, что я ему отвечаю, я знаю так давно, что уже много лет это не приносило мне никакой радости. Но снимков у меня нет, и теперь за ними уже больше некуда обращаться.
Моряк всё больше и больше восхищается моими познаниями. Моя подавленность потихоньку улетучивается. В первый раз в жизни владение английским языком переполняет меня гордостью.
Он успокаивается только вручив мне в подарок все свои сигареты. Но когда стюардесса объявляет в микрофон, что мы идём на посадку, я вдруг вспоминаю, что забыл купить в Тронхейме рулетку.
11
По дороге на север, точно так же, как оскудевает растительность, деревья растут реже и сами они меньше, так и городские дома становятся всё ниже, и посёлки всё более разбросаны. Закон такой? Может быть, а может, и нет. Мне-то не всё ли равно?
Я поеду дальше только завтра, и, кроме как открывать для себя подобные истины, делать мне пока больше нечего.
Наступление вечера в Тромсё почти незаметно. Здесь в это время года вообще никогда не темнеет. Царство незаходящего солнца: подходящая фраза для надписи на открытке, которую надо бы послать матери.
Я иду по улице между деревянных домов, покрашенных в голубой цвет. Светит солнце, не выходной и не праздник, и всё-таки никто не работает, потому что время — половина одиннадцатого. Народ слоняется по улицам, спать ещё явно никто не хочет. Парни выглядят точь-в-точь как в голландских провинциальных городках и вертятся вокруг такого же типа девиц, причёсывающихся прямо на ходу. Только мороженое они едят из огромных рожков, гораздо больших, чем у нас. Машин почти нет. Почти нереальный звуковой фон, в котором преобладают шаги.
Сувенирный магазин, где продают оленьи кожи, традиционную одежду лопарей, оленьи рога, покрывала, похожие на лодки сани, открытки с изображениями лопарских семей, медвежьи шкуры. У входа на улице — чучело белого медведя. Все прохожие подходят его погладить, я тоже. Отец сажает на него маленького сына и фотографирует.
Скобяная лавка закрыта. Надо бы не забыть, где она находится. Завтра утром зайти и купить рулетку. Запомнить расположение лавки нетрудно — это на площади, выходящей прямо к морю.
Посреди площади стоит большой бронзовый памятник: полярник на прямоугольном пьедестале. Сначала я вижу его со спины. Кто это? Я обхожу памятник и читаю надпись на пьедестале:
«Руаль Амундсен»
Лицом к фьорду, покоритель Южного полюса стоит над водой и вглядывается в чёрные горы на противоположной стороне, на которых до сих пор заметны белые полоски снега. Он стоит, широко расставив ноги, как будто сопротивляясь шторму, но при этом с непокрытой головой. Капюшон образует широкие складки вокруг его шеи. Анорак длинный, как ночная рубашка, штаны — как большие трубы вокруг сапог.
У него высокий лоб, волосы на угловатом черепе коротко острижены. Большие важные усы. Трудно себе представить, что в своё время на них висели толстые сосульки, отчего первопроходец, должно быть, выглядел менее представительно. Впрочем, почему бы и нет.
В памяти всплывают всевозможные отрывки из книжек о великих путешественниках, которые я читал в детстве. Амундсен выжил благодаря тому, что ел своих собак. Собаки, в свою очередь, ели друг друга. Шекльтон ел пони, у него вместо собак были пони. Это создавало непреодолимые трудности с провиантом, тем непреодолимее, чем больше пони он брал с собой.
А ещё был Скотт.
Скотт. С огромным трудом приближается он к Южному полюсу, в промёрзшей одежде, с отмороженными пальцами, но сердце безумно стучит в груди, потому что вот-вот он взойдёт на землю, куда ещё не ступала нога человека… На землю? Скорее, на снег. Но взойти на снег, на который ещё не ступала нога человека — это может сделать каждый, зимой, у себя на крыльце.
Что тогда?
Устремиться взглядом ввысь, в зенит, посмотреть на небо так, как ещё не смотрел человеческий глаз. Но что там можно увидеть? Никаких звёзд, в январе там полярный день.
Что же, в конце концов, увидел на Южном полюсе Скотт? Норвежский флаг на торчащей из снега лыжной палке. И записку: «Привет от Амундсена и good luck to you, sir».
Теперь Скотт мог возвращаться домой. Его товарищи один за другим погибли. Сам он замёрз до смерти в палатке, в своём охотничьем белье, мокром насквозь уже несколько месяцев. У него не было рубахи из вывернутых наизнанку шкур, как у Амундсена. До последнего вздоха он продолжал вести дневник. Потом дневник нашли и опубликовали в специальном выпуске журнала «Земля и её народы», который я читал в четырнадцать лет.
«Боже, будь милостив к нашим несчастным жёнам и детям».
Скотт писал это, уже полумёртвый. Интересно, догадывался ли он, что всё это когда-нибудь попадёт в «Землю и её народы»? Скорее всего. Хотя, может быть, и нет, может, он всегда так писал. Мало кто записывает в точности то, что думает. Например: «Мои промёрзлые кальсоны омерзительно воняют». Или: «При минус пятидесяти струя мочи застывает в снегу, как палка из жёлтого стекла».
Такого полярники не пишут. Потому что высоко несут знамёна. Даже если не первыми установили их на Южном полюсе.
Бедный Скотт. Как пригодились бы ему аэрофотоснимки. Но в 1911 году их ещё не делали. Теперь делают, но далеко не каждому удаётся их раздобыть.
Я иду вдоль берега, мимо кораблей. Корабли раскрашены во все цвета радуги, на палубах лежат стальные оранжевые шары. Чайки кружатся над пристанью, заваленной тухлой рыбой. Без четверти одиннадцать, тень от моих ног похожа на длинные чёрные лыжи.
Над фьордом — мост, километра два в длину, и такой высокий, что под ним легко пройдёт океанский лайнер. Я прогуливаюсь по мосту. Подъём плавный, но долгий и довольно утомительный.
Подплывает большой корабль. Я перевешиваюсь через перила, чтобы получше его рассмотреть, солнце светит мне в лицо. На палубе стоит человек в шляпе, очень похожий на Арне. На всякий случай я машу ему рукой. Он тоже машет рукой в ответ, это, впрочем, ничего не значит, люди, плывущие на корабле, всегда так делают. К тому же это американский корабль, и вообще, Арне никак не может находиться сейчас на корабле.
Попав на другую сторону фьорда, я хочу подняться на крутой склон на фуникулёре, fem kroner, takk, tur og retur. Я проплываю над границей леса, после которой склон становится совсем голым. Подвесная кабина полна спокойных подвыпивших норвежцев. Мне хочется сказать им, какие они симпатичные.
Кабина проскальзывает под навес, и, резко качнувшись, останавливается. Всё. Мы наверху. Все выходят, но никто не пытается отойти особенно далеко по неровной поверхности этой суровой скалы.
Туристы стоят мелкими группами по нескольку человек и смотрят на солнце. На круглых утёсах не растёт ничего, кроме мха. Вдали видны облака, такие тёмные снизу и белые сверху, что они похожи на ещё один горный хребет, неизмеримо выше, чем тот, на котором я стою.
Американка лет сорока с тёмно-красной высокой причёской беспокойно бродит вдоль площадки. Заметив меня, она обращается ко мне так, как будто мы знакомы:
— Придётся мне тут до полуночи торчать. До двенадцати вниз точно не попадём, он же столько лет мечтал увидеть полночное солнце в Норвегии! Вот уже несколько дней, как он вообще ничего больше не делает, даже если идёт дождь. И до сих пор каждый раз в последний момент появлялось облачко и закрывало солнце. Никогда не понимала этих его увлечений. На Шпицбергене мы уже побывали, hunting-cruise you know, десять дней, туда и обратно. Арктическое сафари это называется, две с половиной тысячи долларов, всё включено.
Это было ужасно, сейчас расскажу.
Знаешь, как оно устроено? Тебе даже на берег не нужно выходить. Просто сидишь на корабле. Корабль подходит к кромке льда. Команда убивает тюленя и разводит на льду костёр. Тюленя туда кидают. Со всех сторон сбегаются белые медведи, на запах горящего тюленьего жира.
Медведи смирные и глупые, встают на задние лапы, опираясь на корпус корабля. И тогда все начинают стрелять. Охота называется! Джек хотел застрелить медведя из лука. Я говорю, Джек, ты с ума сошёл. Ты совсем как Фред Флинтстоун, ну знаешь, из того мультфильма. Я говорю Фреду, в смысле, Джеку: тебе надо было в каменном веке жить, с этим твоим луком и стрелами. А он отвечает: «Так гораздо спортивнее».
Гораздо спортивнее… козёл!
Он выпустил три стрелы, попал, но медведя, конечно, не убил. А медведь был почти как человек, такой большой симпатичный плюшевый мишка. Он опустился на задницу и попытался зубами вытащить стрелы. В жизни такого ужаса не видела! Ты представляешь себе? Красная кровь на белой шкуре. В конце концов его прикончил капитан, из ружья. Старый кретин Джек хотел сделать это сам, но капитан вежливо так сказал: «Just leave it to me, sir». And right he was.
Ты, конечно, понимаешь, что мне совсем не хочется стелить такой коврик у себя дома перед кроватью!
Кстати, о кровати. Мне сорок один год, а тебе, мой милый мальчик, наверное, двадцать три, и ты, after all, не итальянец, но иначе я предложила бы тебе оставить его здесь вместе с его полночным солнцем и побежать вместе в первую попавшуюся гостиницу!
Она смеётся. Нет, даже в молодости она не была особенно привлекательна, хотя у неё красивое, тонкое тело. Если бы она хотя бы не упоминала про этих итальянцев, тогда…
— Двенадцать есть уже? — спрашивает она. — У меня нет часов.
Я задираю левый рукав и показываю ей часы, на которых без пяти двенадцать.
— Слава богу, — говорит она. Ох, может, ему и вправду полезно глазеть на полночное солнце. Должна тебе признаться, что солнце не очень часто светило ему в полночь, понимаешь, о чём я говорю? Но он сам виноват, всегда был слишком уж нетерпелив. Boy, oh boy!
Она разворачивается и делает шаг по направлению к группе туристов.
— Jack! Jack! It's midnight now!
Я стою, размышляя, нужно ли объяснить ей, что двенадцать по солнечному времени и двенадцать по моим часам — это ни в коем случае не одно и то же. Но прежде, чем я успеваю это сказать, я понимаю, что не помню долготы Тромсё, и, значит, не знаю, когда же солнце действительно находится ниже всего над горизонтом. Указать на ошибку и самому не знать, как её исправить… нет, нет.
Поэтому я говорю, быстро и невнятно:
— Фуникулёр как раз идёт вниз, а следующий только через полчаса. У меня не так много времени. Солнце и есть солнце, даже до полуночи.
И я убегаю от неё без трёх минут двенадцать.
Вниз по канатной дороге, и снова через мост. Проходя по мосту, я всё время смотрю на тот американский корабль, что проплывал мимо, когда я шёл в другую сторону. Он уже стоит у берега и швартуется. «City of Chicago», написано на корме.
Все те двадцать минут, которые занимает у меня переход через мост, я не отрываю глаз от корабля. Я вижу, как пассажиры тащат свои чемоданы по палубе. Возникшее у меня подозрение разрастается до такой степени, что я не в состоянии спокойно пройти мимо. С трясущимися коленями я бегу вниз по мосту. Попав точно на линию перспективы корабля, я осматриваю его со всех сторон. На пристань уже спущен трап, и по нему идут люди.
Вполне, и даже очень возможно, что человек, которому я какое-то время назад махал рукой, был и в самом деле Арне! Разве редко со мной происходят всякие неожиданные неприятности? Точно так же, как из-за разных недоразумений мне не удалось достать снимки, — точно так же я могу и прозевать встречу с Арне! Мы договорились встретиться в Алте, но мало ли что могло случиться с тех пор? Может быть, он послал мне письмо, а оно не дошло, может быть, он изменил место встречи и будет искать меня в Тромсё! Я хочу как можно скорее попасть на корабль.
Мне приходится сделать жуткий крюк. Потому что мост такой высокий, что ещё долго тянется над землёй, прежде чем спускается до её уровня. Никакой возможности сойти с моста раньше нет. Я зря теряю время, а пассажиры продолжают покидать корабль.
Может быть, Арне уже сошёл. Как он меня найдёт? В Тромсё не так много гостиниц, но всё-таки… В любом случае, надо справиться на корабле, был ли он в списках.
Когда я наконец спускаюсь с моста и бегу по пристани, я застаю лишь нескольких запоздалых пассажиров. Арне среди них нет. Впрочем, наверняка эти люди и вовсе не пассажиры, а просто случайные прохожие.
Пытаясь высмотреть кого-нибудь из команды, кто мог бы помочь мне найти стюарда, я поднимаюсь по трапу. Мне никто не препятствует. Я вхожу в первую же открытую дверь, попадаю в узкий коридор, и, пройдя его насквозь, оказываюсь на передней палубе.
Человек, которого я принял за Арне, разговаривает с матросом, засунув руки в карманы и поставив ногу на лебёдку. На матросе тельняшка, он почёсывает тело, и по ней, в такт движениям руки, пробегают волны.
Человек совершенно не похож на Арне. И не был бы на него похож, даже если бы ему не приходилось морщиться от светящего в глаза солнца. Полночного солнца, наверное.
Я схожу с корабля, не сказав никому ни слова. Идти ложиться спать всё ещё слишком рано, так что я продолжаю прогулку, и вскоре опять попадаю на площадь, где стоит Амундсен.
Может быть, и правда, что это костюм из вывернутых наизнанку шкур обеспечил Амундсену победу. И всё же он добился её сам, без верных шерпов, которые заваривают чай своим сахибам, для которых тридцать килограммов — это нормально, но и шестьдесят не исключение. Сколько там весил этот ящик? Тот, что маленький мальчик пронёс двести метров в гору? Сто килограммов? Сто пятьдесят?
Чего только не пишут в газетах!
На пьедестале памятника Амундсену трое парней обнимаются с тремя девушками. Вокруг в траве цветут крокусы, у нас это бывает на несколько месяцев раньше. В воздухе носятся чайки и зябко кричат.
Чуть позже я, к своему удивлению, вижу, что на этой площади есть ещё один памятник. Вначале я его совсем не заметил. Он небольшой, не бросается в глаза, и у него нет головы. Это просто необработанный кусок красного гранита, к которому приделана бронзовая табличка.
Я внимательно разбираю надпись. Она так поражает меня, что я переписываю её в записную книжку:
«Eidis Hansen labukt Balsfjord 1777–1870 bar denne steinen fra fjaera her omlag hit. Steinen weg 371 kg.»
Хотя я и не знаю ни слова по-норвежски, я прекрасно понимаю, что здесь написано. Мне даже кажется, что я мог бы всё это запомнить наизусть. Эйдис Хансен. Поднял этот 371-килограммовый камень. И он (или она??) прожил 93 года.
12
Мой багаж весит чуть меньше тридцати килограммов. Это выясняется, когда чемодан и рюкзак взвешивают в аэропорту. Аэропорт — маленький деревянный домик, от которого отходит в море узкая и очень длинная пристань. И всё.
Ещё шестеро пассажиров прогуливаются туда и обратно, из любопытства берут брошюры со стола, тут же кладут их назад. Двое мужчин в рыбацких сапогах, у каждого по нескольку удочек. Женщина с тремя дочками, все три в лыжных штанах, мать, впрочем, тоже. Мы то заходим в домик, то снова выходим на улицу. Воздух чист и прозрачен, но небо затянуто.
Как только приземляется зелёный гидроплан, появляется солнце, словно самолёт разогнал облака. Я иду по пристани, и внезапно мной овладевает уверенность в ожидающем меня успехе.
В самолёте всего десять мест, по пять с каждой стороны, каждое со своим окошком. В сетке перед сиденьем лежат не только бумажные пакеты, но и наклеенная на картонку карта, где очень подробно изображены горы и берег. В гидроплан забрасывают мешки с почтой, и дверь закрывается.
Так, наверное, мечтали летать наши прадеды. Крылья самолёта находятся над кабиной, так что ничто не заслоняет вид. Высота, на которой мы летим — всего метров триста. Берег и горы передо мной как на макете. Я легко узнаю всё, что обозначено на карте: береговую линию, бухты, островки, ледники, реки, голые вершины. Жаль только, что не об этих местах мне нужно писать диссертацию.
Диссертация! Я тут же прекращаю расшифровывать слова на картонной карте, и моё воображение покидает этот ландшафт. Мысль о том, что у меня нет аэрофотоснимков, приходит, как приступ зубной боли. Я безудержно фантазирую. Может, мне не так уж и нужны эти снимки, нужно только достать вертолёт! Или познакомиться с пилотом, который… Или нет, лучше вертолёт… Военный? Или вертолёт топографической службы?
Я смогу осмотреть всё с такой высоты, с какой мне заблагорассудится! Всё, что мне понадобится, я и сам смогу сфотографировать! Там, где мне захочется взять пробы пород, я просто спущусь. Мы, чёрт возьми, живем во второй половине двадцатого века! И вообще, зачем иначе нужны эти вертолёты? Ведь если бы я изучал, например, медицину, никто не смог бы лишить меня доступа к рентгену или кардиограммам! Я, в конце концов, не ребёнок, которого в кружке «Умелые руки» учат пилить маленькой пилочкой, в то время как есть такая вещь, как бензопила! И никому не придёт в голову заставлять профессионального повара готовить на свечке или на костре!
Пусть Нуммедал, Офтедал, Валбифф и все сотрудники геологической службы подавятся своими аэрофотоснимками.
Впрочем, вертолёта у меня всё равно нет.
Я очень хорошо помню тот момент, когда Сиббеле понял, что мне понадобятся аэрофотоснимки. Когда Сиббеле утверждает что-нибудь такое, в чём он и сам не очень уверен, в общем, когда он вешает лапшу на уши, об этом можно догадаться по определённым симптомам. Сиббеле пытается выдвинуть вперёд свою недоразвитую нижнюю челюсть. Но выдвинуть вперёд недоразвитую нижнюю челюсть невозможно. В результате у него всего лишь натягивается кожа между адамовым яблоком и подбородком, а голова при этом запрокидывается.
— Аэрофотоснимки, — сказал он, демонстрируя вышеописанный синдром, — аэрофотоснимки, конечно, абсолютно необходимы в современной экспедиции. От этого никуда не денешься.
Как будто я собрался во что бы то ни стало без них обойтись.
— Но где я мог бы их достать, профессор?
— Я напишу Нуммедалу. Это мой старый друг, так что никаких трудностей возникнуть не должно.
Наверное, я посмотрел на него с радостным восхищением. Потому что Сиббеле издал такой коротенький самодовольный смешок, которого он никогда не может подавить, если ему удаётся выдать что-нибудь сомнительное за чистую монету и не встретить при этом никакого сопротивления.
Сначала тебе кажется, что этим смешком он как бы говорит: «Не правда ли, я замечательный, такой знаменитый, и найду выход из любого положения». Но потом ты понимаешь, что на самом деле он подумал: «Слава богу, прошло как по маслу».
И всё-таки мне казалось само собой разумеющимся, что снимки надо попросить у этого норвежского профессора, старого приятеля Сиббеле.
Да ведь это же на самом деле так и есть?.. Ведь это просто по неблагоприятному стечению обстоятельств я так и не добыл снимков?.. Нуммедал, наверное, просто забыл о моём приезде. В конце концов, он старый человек.
Валбифф знал, что снимки недоступны из-за переезда, но что он мог с этим поделать? У него же не было моего адреса, и он не мог меня предупредить, что ехать в Тронхейм бесполезно.
Наконец, Офтедал. Офтедал, как директор другой службы, здесь вообще ни при чём. И всё же он сделал для меня всё, что мог! Мне не в чем его упрекнуть, он отнёсся ко мне очень хорошо… Насколько я знаю…
13
Самолёт кренится набок, и так сильно, что окошко, у которого я сижу, идёт почти параллельно земле. Я, прижав лицо к стеклу, конечно, тоже. Алта проплывает у меня перед глазами: маленькие домики по берегам огромной бухты. В низинах лес, вершины голые. Как будто огромная рука сметает всякую растительность с гор вниз.
Гидроплан снова приходит в равновесие, мы уже совсем низко над водой. Кажется, что поплавки гидроплана сейчас схватят воду, как когти хищной птицы.
Посадка на воду. Звучит странновато. Мотор останавливается, шум и вибрация тут же прекращаются. Как будто пробуждаешься ото сна: снилось, что летишь, а проснувшись, видишь, что покачиваешься на почти невидимой поверхности воды.
Пилот выходит из кабины и открывает дверь. Теперь тишину нарушает тихий рокот приближающейся моторки. Здесь в Алте нет даже пристани, как в Тромсё. Человек в лодке кидает верёвку стоящему на поплавке пилоту.
Я тоже выхожу из кабины, встаю на поплавок, с поплавка перехожу в лодку. Рюкзак и чемодан мне туда передают.
Берег так далеко, что я не вижу, есть ли там люди. Арне?
Позади меня с резкими хлопками снова заводится мотор гидроплана. Оглядываясь, я вижу, как гидроплан набирает скорость, поплавки поднимают высокие волны, которые, достигая лодки, подталкивают её. Несомая этими искусственными волнами, лодка плывёт к берегу.
Арне? Да, Арне. Он машет мне шляпой. Он и в самом деле похож на того человека, которого я принял за него в Тромсё, только машет он гораздо медленнее. Наверное, оттого, что людей здесь разделяют такие большие расстояния, они приветствуют друг друга медленно, серьёзно. У меня шляпы нет, и я могу помахать в ответ только рукой.
Самолёт поворачивается и проносится над нами на лавине шума. Я провожаю его взглядом, и, когда он исчезает, опять смотрю на берег.
Параллельно кромке воды, но гораздо выше, вдоль бухты проходит дорога.
Человек всё ещё приветствует меня. Это не Арне. Вот он опустил руку. Рядом с ним стоит женщина и трое детей. На женщине длинные брюки и высокие сапоги, на детях тоже.
Эти люди уходят, не дожидаясь, пока мы причалим. Они тоже приняли меня за кого-то другого, или, может быть, скорее надеялись на то, что я — этот другой. А может быть, стояли и смотрели просто из любопытства.
Меня терзают мучительные сомнения. Может, вчера в Тромсё зрение меня не подвело? Может, человек, которого я видел на проплывавшем под мостом корабле, был и правда Арне? А когда я поднялся на корабль, Арне уже давно сошёл, а человек, которого я там застал, был совсем не тот (а тот был Арне!), что махал мне рукой с корабля.
Лодка подходит всё ближе к берегу, мотор выключается, дно царапают камни. Я выхожу на сушу.
Острый укол заставляет содрогнуться моё левое веко. Я провожу по нему рукой, к пальцам липнут останки раздавленного комара. Комары роятся вокруг моей головы. Садятся мне на лоб, на нос, на тыльную сторону ладоней. Мне нужно нести чемодан и рюкзак, так что я не могу их отогнать.
Пустая лодка остаётся у берега.
Вот, добрался. Куда же мне теперь идти? Деревянная лестница поднимается от берега к дороге, вдоль которой сооружён низкий каменный бруствер. Уже взвалив рюкзак на спину, взяв чемодан и начиная подниматься вверх по лестнице, я замечаю, что кто-то бежит вдоль бруствера в мою сторону.
Я вижу только его голову и плечи. Он без шляпы. Он перепрыгивает через бруствер и бежит ко мне по склону. Движения его тонких ног быстрые, но точные и осторожные. Я останавливаюсь, жду. Он всё время смотрит на меня, он улыбается, но рукой мне вовсе не машет. На Арне высокие сапоги и анорак. Шнурки от капюшона болтаются у него на груди.
— Привет!
— Привет, Арне!
Он сразу берёт у меня чемодан и проходит с ним вверх по лестнице.
— Самолёт обычно опаздывает на час, — объясняет он, когда мы выходим на дорогу и идём по ней рядом. — Мне нужно было ещё кое-что купить, я не думал, что сегодня он прилетит так рано.
По-английски он говорит осторожно — правильно, но без особых тонкостей.
— Сперва мы отнесём твой чемодан в дом. Там ты сможешь переодеться. Автобус в три часа. Времени достаточно. O.K.?
Арне примерно на голову выше меня. У него очень светлые волосы, скорее длинные, чем короткие. На макушке уже намечается лысина, а на висках седина. Хотя ему всего двадцать шесть, всего на год больше, чем мне. Одежда на нём такая старая, что это бросается в глаза. На штанах и на локтях анорака заплаты. Когда он сказал, что автобус уходит в три, я видел, как он посмотрел на свои часы. Это не настоящие наручные часы, а старые карманные, они вмонтированы в кожаный ремешок. Такие продавались много лет назад, когда наручные часы только вошли в моду.
— Долгий путь, сюда из Амстердама, правда?
В тех банальных вопросах, что я в свою очередь задаю Арне (как дела? давно ли он уже в Алте?), нет даже никакого намёка на облегчение, которое я испытал оттого, что наша встреча состоялась. Внезапно я осознаю, что всю жизнь меня преследует навязчивый страх оказаться одураченным. Но даже если отвлечься от этого страха, всё равно, за полчаса до моего приезда с Арне мог произойти какой-нибудь несчастный случай. Он мог попасть под машину. Или у него мог случиться инфаркт. Странно, сказали бы родственники, у Арне никогда не было никаких проблем с сердцем. Такой молодой! Или он мог упасть. Скатиться вниз с неопасного на вид склона и разбить голову о камень.
Я весь в поту и без конца отмахиваюсь от комаров. Глядя на Арне, я вижу, что вокруг него их тоже целая туча.
— Я мог бы приехать на два дня раньше, если бы отправился сюда прямо из Осло. Но я заходил к Нуммедалу, и Нуммедал посоветовал мне посетить Геологическую Службу в Тронхейме.
— У кого ты там был? У (непонятное слово)?
— Валбиффа я не застал.
— (Непонятное слово) — заклятый враг Нуммедала.
— В Тронхейме они тоже так говорили.
— Нуммедаловским шовинизмом все уже по горло сыты.
— Шовинизмом? Ко мне он тоже приставал с…
— Он пристаёт к каждому иностранцу, а своих соотечественников вечно пилит за то, что они недостаточно любят родную страну.
— Мне попадались норвежцы, которые извинялись передо мной за то, что в Лондоне всё гораздо лучше, чем в Осло. Но голландцы разговаривают с иностранцами примерно так же. Однажды в поезде я видел голландца, который показывал соседу-испанцу голландский герб в своём паспорте. «You see this?» — говорил он. «Dutch lion. Now just dog.» В Испании! В стране, с которой мы восемьдесят лет воевали!
— Знаешь, — говорит Арне, — мы, норвежцы, живём в стране, которая до самого последнего времени почти никогда не была вполне независима. Сначала под датчанами, потом под шведами. Наш язык в мире почти ничего не значит. Любой студент должен знать английский, французский и немецкий. Без этих языков не получить ни один диплом. Поэтому норвежский воспринимается как своего рода низший язык, язык учеников. Высшая мудрость записана на иностранных языках. Учителя обращаются к нам по-английски со страниц английских учебников. По-английски все мы свободно читаем, но, как правило, не можем говорить или писать без ошибок. Я и сейчас, пытаясь объяснить тебе ситуацию, это чувствую. Если бы я говорил по-норвежски, я подобрал бы гораздо более точные слова.
— Да, конечно, я прекрасно тебя понимаю.
— Всё-таки люди, говорящие не на своём родном языке, всегда оказываются в подчинённом положении, это неизбежно. Почему все покорённые народы, негры, индейцы и так далее, считались такими простодушными? Да просто потому, что они были вынуждены обращаться к своим покорителям на чужом языке, который они не очень хорошо знали.
— А что, разве книги не переводят на норвежский?
— Да нет, конечно, переводят, очень много. Но всё равно, сам факт, что это иностранные книги, что это не наша собственная работа, оказывает на многих подавляющее действие.
— Почему подавляющее? Подавлять это может только тех, кто думает в терминах наций, наций, каждая из которых хочет выбиться в вожаки стаи. Но ведь нужно понимать, что на самом деле весь мир — это единое целое!
— Понимать! — отвечает Арне. Понимать вот здесь (он хлопает себя по лбу) — да, конечно. А понимать вот здесь (он легонько толкает меня в грудь), понимать вот здесь не получается. И знаешь, почему?
Не имею ни малейшего представления, говорю я.
— Потому что у каждого из нас, каким бы мудрецом он ни был, внутри сидит сумасшедший. Буйный сумасшедший. И он, как и все сумасшедшие, вырос из того ребёнка, которым ты был в год, в два, в три. А этот ребёнок понимает только один язык. Свой родной.
Всё это Арне говорит спокойно, не слишком быстро, не слишком медленно, плавно, ясно. Несмотря на то, что при этом мы поднимаемся по крутому песчаному откосу. Он не задыхается, не пыхтит, идёт не скорее и не тише, чем по ровной местности.
— В маленькую страну, — продолжает он, — политика, мода, фильмы, машины, техника, в общем, почти всё приходит из-за границы. Если к тому же почти все важные книги, то есть, книги, в которых написана правда, которые лучше и умнее, чем большинство местных книг, — если все такие книги написаны на чужих языках, то тогда твоя страна превращается во что-то вроде колонии или провинции. В самом деле, кто такие колонисты и провинциалы? Это в точности те люди, которые вечно не в курсе дела, ничего толком не знают, всегда ошибаются, отсталы, и так далее.
Одолев откос, мы выходим на другую дорогу, немощёную, но широкую. По обеим сторонам дороги стоит редкий лес, а в нём — маленькие деревянные бунгало. Заборов нет ни вдоль дороги, ни между домами.
Вровень с нами едет девочка на трёхколёсном велосипеде. Педалей она не крутит, а отталкивается ногами от земли. Она что-то кричит мальчику, запускающему неподалёку самолётик из катапульты. Самолётик взлетает и застревает высоко в кроне ели.
— Что сказала девочка? — спрашиваю я.
— Она сказала: «Осторожно!». Но дети не доверяют друг другу. Ребёнок скорее послушает отца, чем другого ребёнка. Точно так же и мы верим иностранцу легче, чем соотечественнику, даже если на самом деле этот соотечественник прав. Когда появляется норвежец с какими-нибудь новыми идеями, люди говорят: «Это, наверное, ерунда какая-то, потому что в американских книжках такого не пишут». А когда американец несёт чушь и норвежец ему возражает, они говорят: «Да он просто не в курсе! Он же провинциал! Надо бы ему на годик съездить в Америку». В маленькой стране выгоднее всего обезьянничать. И так повсюду, в любом деле. Теперь, когда Ибсен и Стриндберг давно умерли, все знают, что это были величайшие скандинавские писатели всех времён. Но при их жизни!.. Практически любой дровосек мог получить Нобелевскую премию. Ни Ибсен, ни Стриндберг её не получили.
Арне останавливается.
— Вот этот дом, — говорит он. — На траву не наступай. В этих широтах трава — редкое растение, и люди её очень берегут.
Дверь из проволочной сетки захлопывается за нами под пение пружин.
— Хозяева уехали в Осло и оставили мне дом.
Арне ставит мой чемодан на пол посреди гостиной. Я снимаю рюкзак и пытаюсь перебить на себе комаров, попавших в дом вместе с нами. Арне берёт с камина аэрозоль, и пахнущее камфарой облако вырывается из-под его указательного пальца.
Здесь Арне временно разбил свой бивуак. Звучит пошловато, но Арне позаботился о том, чтобы никак по-другому это назвать было нельзя. Мебель он сдвинул к стенам. На полу лежат: палатка, стойки, полусобранный рюкзак, лопатка, дюжина пачек с галетами, консервные банки, теодолит и тяжеленный трёхногий деревянный штатив.
Я наклоняюсь и поднимаю нечто с пола.
— Что это?
— Сеть. Рыбу ловить по дороге. Иначе еды не хватит.
— А лошадь? Нашёл ты лошадь, чтобы довезти вещи до первой стоянки?
— Пока нет. Но кто его знает. Посмотрим ещё в Скуганварре.
Сеть — метр в ширину, пятнадцать метров в длину, с крупными ячейками, сплетена из голубого нейлона. К одному длинному краю привязаны пробки, к другому — грузила.
— Как с ней обращаться? Волочить по воде?
— Да нет, просто забросить. Попавшиеся рыбы не смогут выбраться, застрянут плавники.
Я открываю чемодан, достаю походные штаны, носки из козьей шерсти, тёмно-синюю хлопковую рубашку, горные ботинки, свитер и штормовку на молнии.
Развязываю галстук, снимаю туфли, серые фланелевые брюки, нейлоновые носки и рубашку. Надеваю то, что достал из рюкзака. Продеваю ремень в петли штанов и прикрепляю к нему футляр с компасом так, чтобы он оказался немного справа. В карманы сую пачку сигарет, спички, носовой платок, складной нож и рулетку, которую не позабыл-таки купить в Тромсё. Перед тем, как убрать её, я вытягиваю ленту до половины. Отличная рулетка, двухметровая, из гибкой стали, покрыта белым лаком с той стороны, где нанесены цифры. Ага! Всё-таки нельзя сказать, что меня преследуют сплошные неудачи. Встреча с Арне состоялась точно по плану, и рулетка у меня тоже есть!
Через четверть часа мы просовываем руки в лямки рюкзаков и выходим из дома.
От шеи Арне к его правому нагрудному карману тянется обмахрившийся шнурок. Интересно, что же на нём висит. Да, все вещи Арне — старые и изношенные. Чехол фотоаппарата потёрт настолько, что он кажется вывернутым наизнанку. Ремень, на котором фотоаппарат висит, весь потрескался и вот-вот лопнет. Он уже один раз отлетал; какой-то умелец прикрутил его обратно проволокой. Не только анорак, но и рюкзак залатан в нескольких местах. Тканью неподходящего цвета.
14
Перед выходом я украдкой попробовал на вес рюкзак Арне. Он гораздо тяжелее моего. Когда мы выходим на улицу, я говорю, не столько из ханжества, сколько из страха обмануть ожидания Арне:
— Послушай, это нечестно, ты несёшь больше, чем я.
— Не переживай. И до тебя дойдёт очередь, когда мы купим все нужные нам продукты.
Я с благодарностью принимаю этот добрый совет — не переживать. Насколько это возможно, зная, что нам действительно нужно ещё купить почти всю еду.
Мы проходим между бунгало и елями, и снова выходим на главную дорогу. На земле не растёт почти ничего. Ели тоже далеко не такие высокие, как должны бы быть. Я несу тяжелый штатив от теодолита то на правом, то на левом плече. Комары постоянно усаживаются мне на лицо и на тыльную сторону ладоней. Их не беспокоит даже дым сигарет.
Арне указывает на футляр, висящий у меня на поясе.
— Что у тебя там?
— Компас. Хочешь посмотреть?
Я открываю футляр и протягиваю ему компас.
— Здорово. Красота какая. Ты его специально в эту поездку купил?
— Да нет, он у меня уже давно. Все студенческие годы.
— Выглядит, как новый, — говорит он, кажется, с недоверием.
— Мне его подарила сестра, семь лет назад. Она всегда очень боится, что я заблужусь.
С таким чувством, как будто я вру, с непонятно откуда взявшимся стыдом, я снова убираю компас в футляр.
— У тебя есть сестра?
— Да, на шесть лет младше меня. Немного странная девочка, красивая, но очень глупая. Например, она верующая, чтобы не сказать — суеверная. Ты из религиозной семьи?
— К счастью, нет.
— Я тоже нет. Я некрещёный, Ева, впрочем, тоже. Но она, кажется, собирается креститься.
— Знаешь, — говорит Арне, — есть такая книга: «Божий Лик после Освенцима». Интересно было бы на этот Лик посмотреть.
Мы оба разражаемся противным смехом при мысли о том, что же увидел Бог перед тем, как у него сделался такой Лик.
…Это что, главная улица Алты? Вот автостанция, прямо напротив — почта. Мы поставили багаж на землю, точно так же, как и все остальные ожидающие автобуса люди. Арне отправляется на почту, я жду его на остановке.
Поблизости стоит несколько лопарей. Я долго разглядываю их, сравнивая их одежду с той, что я видел на открытках. Все они одеты по-разному. Европейское платье, кажется, ползёт по ним снизу вверх, и не на всех одинаково далеко продвинулось.
Один старик ещё обут в самодельные мягкие сапоги из оленьей кожи. На нескольких женщинах — уже самые обычные туфли, и чулки ядовитого цвета отвратительно контрастируют с остальной одеждой (светло-голубая, подпоясанная ремешком рубаха, красная шапка с наушниками).
Они сидят рядом на ступеньках, тихо разговаривают, постоянно улыбаются. Лица у них сморщенные и болезненные. Их ладони черны от грязи, которая давно въелась в кожу, и ногти блестят. Через плечо — сумки вроде охотничьих, увешанные всевозможными металлическими побрякушками — фигурками, монетками, — я не могу как следует разглядеть, что это такое. У каждого мужчины на поясе огромный нож в кожаных ножнах.
Вот жители той земли, куда я направляюсь. Что я спросил бы у них, если бы владел их языком? Счастливы ли они? Но такие вещи нечасто спрашиваешь даже у тех людей, от которых тебя не отделяет языковой барьер. Может быть, спросил бы о том, считают ли они свой образ жизни лучше нашего, или им хотелось бы жить так же, как живут и все остальные норвежцы? Наверное, они ответят, что никогда об этом не задумывались.
Арне выходит из здания почты. Переходя улицу, он машет мне конвертом. Письмо? От кого?
Это письмо от моей матери. Да что она, в самом деле, ни минуты без меня прожить не может? Она написала мне сразу же после моего отъезда — иначе письмо не дошло бы сюда так быстро. Пока что у меня нет никакого желания это читать, и, догоняя Арне, я сую конверт в карман штормовки.
Арне заходит в велосипедный магазин рядом с автобусной остановкой. Хозяин и Арне приветствуют друг друга торжественно и сосредоточенно. Потом хозяин улыбается мне и спрашивает:
— How do you do, sir?
Арне, оказывается, решил, что нам нужно купить по льняному накомарнику (American Army Surplus). Я тут же надеваю свой и застёгиваю сетку под подбородком. Ещё мы покупаем очень важную вещь Finn-Oljen, самую эффективную мазь от комаров, которой натираем все обнажённые участки кожи. FORSIKTIG! Опасно для слизистых оболочек, написано на этикетке.
Мы всё ещё втираем в себя мазь, когда подходит автобус.
Водитель закидывает наши рюкзаки на крышу, мы заходим в салон. Когда водитель собирается закрывать дверь, подходит лопарка с двухлетним ребёнком на руках. У ребёнка одна нога в гипсе. Автобус подъезжает ей навстречу и на минуту останавливается.
— Скажи, Арне, как у вас с расовой дискриминацией в отношении лопарей?
— Раньше к ним и правда относились с некоторым пренебрежением, но сейчас это изменилось. Делаем для них всё, что можно. Правда, убедить их отправлять своих детей в школу довольно трудно.
— А лопари говорят по-норвежски?
— Как правило, да. Но не между собой.
— Может ли лопарь достичь любого положения, какого захочет?
— Я ещё никогда не слышал, чтобы лопарь чего-нибудь хотел. А вообще, пусть только переоденется, и будет точно таким же норвежцем, как и все остальные.
— Почему же они тогда этого не делают?
— Считают, что они другие. Думаю, во многом из-за языка. Говоря на другом языке, и думаешь по-другому. Наверное, лопари боятся, что в любом случае будут как бы поддельными норвежцами. И поссорятся со всеми своими родственниками. А чего ради? Лопарем быть не стыдно.
— Но и не очень удобно.
— Самоуважение большинства людей основано на отказе от тех или иных удобств.
Автобус едет по длинному, узкому мосту. Других машин нет, деревья попадаются всё реже. Дорога грунтовая, потому что любое покрытие зимой всё равно растрескается. То и дело встречаются бульдозеры, разравнивающие очередной участок промёрзшей насквозь земли. Автобус едет медленно, и почти всё время в облаках пыли.
Разложив на коленях карты, мы с Арне пишем заметки о тех особенностях рельефа, что привлекают наше внимание. Холмы, озёра, стремнины, ущелья. Тучи всё больше сгущаются. В широких, неглубоких речках блестит солнце, как будто гордясь тем, что дождь всё ещё не пошёл.
Посреди дикого поля, покрытого похожими на вереск тёмно-зелёными, светло-зелёными, красными растениями, автобус останавливается по просьбе женщины с ребёнком. Как только она выходит, начинается дождь, такой сильный, что вид искажается сквозь стекающие по окнам потоки воды. Я смутно вижу, как женщина с ребёнком уходит в пустоту. Ни дороги, ни тропы, ни малейшего намёка на тропу нигде нет.
— Что делают лопари, когда заболевают?
— Они могут приехать в Алту, или в Карасйок, или в Кёутукейно; куда им в данный момент ближе. Но б'ольшая часть лопарей уже давно не кочует. Они работают на рыбокомбинатах или где-нибудь в этом роде. Те лопари, которые до сих пор держат оленей — это богачи. У них стада по нескольку тысяч голов. Куча детей и много оленей — мечта каждого лопаря. Иногда мне кажется, что одного упорства, с которым люди держатся за свои традиции, уже достаточно для того, чтобы оставить всякую надежду сделать человечество счастливее посредством каких-нибудь рациональных нововведений.
Проехав часа два, автобус останавливается в Скайди. Скайди. Деревянный ларёк, в нём продаётся лимонад, какао и горячие сосиски. Автобус стоит здесь какое-то время, чтобы пассажиры могли немного размять ноги. Это самая высокая точка окрестностей.
С руками в карманах я прогуливаюсь туда-обратно. Точно так же прогуливаются и все остальные пассажиры, каждый в своём направлении. Небо теперь всё затянуто облаками, и холод такой, как бывает у нас ранней зимой, перед первыми заморозками. Я смотрю на большие круглые холмы, покрытые большими круглыми камнями. В низинах лужи и маленькие озёра. Вдали, у самого крупного озера, стоит шалаш из составленных наискосок жердей, покрытых оленьими шкурами.
Появляется старый лопарь в полном облачении. В каждой руке у него по две пары оленьих рогов. Изо рта свисает кривая трубка, и по его ввалившимся щёкам, хотя они и плохо выбриты, ясно видно, что у него совсем нет зубов. Он идёт медленно, близко к нам не подходит, ни с кем не заговаривает.
Лопари, которые едут с нами в автобусе, не обращают на него никакого внимания, зато какой-то мальчик в белой студенческой фуражке покупает оленьи рога.
Автобус едет дальше, останавливается ещё раз в Руссенесе и снова продолжает свой путь. В половине одиннадцатого мы с Арне выходим в Скуганварре.
15
Широкая полоса спокойной воды: река разливается здесь в озеро. Несколько ёлок, не очень больших. Тёмные склоны.
Шофёр карабкается на крышу автобуса, передаёт нам рюкзаки, которые мы пока ставим на обочину. Потом он спускает вниз деревянный штатив.
Автобус отъезжает. Тишина. Дождь кончился, облака разошлись, солнце стоит низко, но светит в полную силу. У нас оно так светит ранним вечером жаркого летнего дня. А здесь уже почти ночь, и сильно темнее, чем сейчас, уже не будет. Я кладу штатив на плечо.
В некотором отдалении от дороги стоит деревянный дом, вилла с большой застеклённой террасой. Во дворе, наискосок от дома, видна зелёная палатка.
Арне говорит:
— Может быть, Квигстад уже спит, или он куда-нибудь ушёл.
Палатка застёгнута на молнии со всех сторон. Арне подходит к ней, и я слышу, как он зовёт Квигстада, а потом произносит ещё какие-то слова. Приседает на корточки, снова поднимается.
— Думаю, он пошёл ловить рыбу.
Желая принести какую-нибудь пользу, я беру оба рюкзака и волочу их во двор.
— Аккуратно с травой. Здесь её ещё меньше, чем в Алте.
— Что мы будем сейчас делать?
Намазав лица и руки мазью от комаров, мы оба закуриваем.
— Поскольку завтра мы всё равно отсюда уйдём, не стоит труда ставить палатку, — говорит Арне.
— А где же ты тогда собираешься спать?
— Я спрошу у хозяев, можно ли нам заночевать на веранде.
Арне уходит разговаривать с хозяевами, а я, обходя покрытые травой участки, осторожно пробираюсь обратно на дорогу, перехожу её и сажусь на берегу озера.
В воде ничего не растёт, и она такая чистая, что видны все камни на дне. Самые большие торчат из воды. Самые-самые большие, наверное, правильнее называть островками.
Я пробую представить себе, что значит прожить всю жизнь в Скуганварре. Здесь всегда жили люди, которые только и делали, что ели, пили, спали, охотились, ловили рыбу. А зимой? Первый снег здесь выпадает, кажется, уже в конце сентября. Зимой нужно заниматься предотвращением всяких напастей и борьбой с теми из них, которые не удалось предотвратить. Нужно позаботиться о том, чтобы хватило запасов еды и топлива. Всегда быть настороже. Знать, что нужно делать, если кто-нибудь серьёзно заболеет. Или если родится ребёнок.
Шлёп. Из воды выпрыгивает рыба и снова ныряет обратно.
Зимой снег, а летом плотные тучи комаров. Из той точки, где появилась рыба, до сих пор расходятся круги по воде. Прочесть письмо от матери? Успеется.
Я вижу, как по другому берегу озера идут двое мужчин с удочками. Между ними, держась за руки, бегут три, нет, четыре маленьких девочки. Их голоса доносятся до меня вместе с лёгким эхом. Кукует кукушка. Время от времени слышен ещё такой звук, как будто щёлкают садовые ножницы. А им, конечно, здесь взяться неоткуда. Рядом со мной стоит Арне. Он принёс нечто похожее на алюминиевую кастрюльку без крышки.
— Всё в порядке, — говорит он. — Можно ночевать на веранде.
Он держит кастрюльку на палке, к которой она привинчена изнутри. Снаружи на кастрюльку намотана длинная нейлоновая леска, а на ней висит сверкающая блесна и крючок.
— Ты уже хочешь спать? — спрашивает он.
Я встаю, смеюсь, отрицательно качаю головой.
— Здесь на Севере, — объясняет Арне, — никому летом спать не хочется. Детей невозможно уложить. Любой норвежец, проживший в таких широтах лет десять, доходит до нервного истощения. Зимой слишком много сна, летом слишком мало.
Клацание садовых ножниц раздаётся теперь совсем близко.
— Ты знаешь, что это такое?
— Наверное, фьелльо, но я ничего не понимаю в птицах.
Я опять вслушиваюсь в звук, который уже снова доносится издали. Самое удивительное в птицах — это то, что они умеют воспроизводить звуки, свойственные предметам, которые птицам неизвестны.
Арне стоит у края воды, одна нога чуть впереди другой. Я достаю флакон с мазью от комаров и вытряхиваю из него по нескольку капель на тыльную сторону ладоней. Но комары кусают меня и в голову, через волосы, за ушами. Накомарник я оставил дома. Тоже довольно неприятная вещь для человека, не привыкшего носить шляпу.
Арне держит кастрюльку в левой руке, а правой отматывает метра два лески. Он с шумом раскручивает крючок над головой и внезапно отпускает его. Крючок описывает высокую дугу в воздухе, увлекая за собой леску, которая легко соскальзывает с цилиндра. Тонкая леска, сносимая незаметным для меня ветром, медленно режет воду под прямым углом к новым, всё большим кругам. Арне сразу же начинает наматывать леску обратно. Блесна, сверкая, пляшет среди камней и исчезает. Леска натягивается, как струна.
— Крючок застрял.
Бегая вдоль берега, отпуская и снова забирая леску, заставляя её волнообразно извиваться, Арне пытается вытащить крючок.
16
Он занят этим уже три четверти часа. Я не отстаю от него ни на шаг. Мне как-то неудобно отойти в сторону, я боюсь, что это будет выглядеть так, как будто я бросаю Арне на произвол судьбы. Если бы он поймал рыбу, он ведь тоже поделился бы ею со мной. Но я не знаю, как ему помочь. Время от времени я невнятно советую Арне что-нибудь такое, во что и сам не верю.
За весь день я даже в туалет ни разу не сходил. За домом есть небольшой лесок, который мог бы сослужить мне добрую службу. Горка с несколькими деревьями. Но я чувствую себя обязанным дождаться, пока Арне всё-таки вытащит крючок.
В конце концов Арне прыгает на большой камень, торчащий из воды. С этого камня ему гораздо легче тянуть леску вверх. Получилось! Он немедленно закидывает крючок снова, попадается рыба, слишком маленькая.
Рыбаки с детьми проходят мимо, слышно, как их мокрые ноги хлюпают в резиновых сапогах. Облака сгущаются, но их края по-прежнему розовые. Наши тени исчезают. Меня захватывает безумное и невыполнимое желание: чтобы совсем стемнело. Сон при дневном свете восстанавливает силы только наполовину.
Когда Арне наконец направляется к дому, я взбираюсь на горку. Между двумя деревьями я расстёгиваю штаны, спускаю их вместе с трусами и приседаю. Комары садятся мне на икры, на бёдра, на ягодицы, на яйца. Непрерывно хлопая себя руками по обнажённым частям тела, я вижу, как Арне входит на веранду. It has to be a very quick story. Мои глаза готовы вылезти из орбит. В человеке просыпаются первобытные инстинкты, и он, как пёс или кот, оставляет метки в отдалённых местах. Вытирая задницу мхом, я не могу удержаться от смеха.
На веранде.
Арне открыл пачку галет, пачку маргарина и банку фарша. Я достаю спальники и раскатываю их на полу.
Дверь сделана из железной москитной сетки, ржавчина проела в ней довольно большие дыры. Теперь, кроме комаров, в них влетают и мухи — ищут масло.
Мы сидим на спальниках и жуём, вокруг разложены карты.
— Какие добрые люди, — говорю я (а хозяева ещё так ни разу и не показались), — пустили нас к себе на веранду. Может, они и лошадь найти помогут?
— Не думаю. Но вполне возможно, что Квигстад что-нибудь выяснил.
— А если нет?
— Если нет, придётся тащить всё на себе.
— Я нигде здесь не видел лошадей.
— Да, ни одной лошади на много вёрст вокруг.
Арне покачивает головой и смеётся.
— А может, нам будут сбрасывать еду на вертолёте?
Я говорю это с шуточными интонациями, но почему же, в самом деле, это непременно должна быть просто шутка?
— Да, — говорит Арне, — фонд Рокфеллера такие вещи оплачивает. Но не нам. Кстати, у тебя есть аэрофотоснимки?
— Нет. А у тебя?
— Мне их не нужно. Но для твоих занятий… Если бы мне пришлось делать что-то похожее, я очень постарался бы достать снимки.
— За ними я и ходил к Нуммедалу. Когда я уезжал из Амстердама, Сиббеле сказал, что Нуммедал даст мне снимки. Но Нуммедал послал меня в Тронхейм, к директору Валбиффу. Валбиффа в Тронхейме не оказалось, про это я тебе уже говорил. Снимки там действительно были, но каталог находился в ящике, который ещё не отправили из Осло. Я сначала даже не хотел тебе об этом рассказывать. Такая дурацкая история. Мне страшно неприятно, что у меня нет этих снимков.
— Потом, по пути домой, ты можешь выйти в Тронхейме и забрать снимки. И спокойно изучать их дома. Всё наоборот, — говорит Арне со смешком.
Через штаны я чешу бёдра и задницу. От укусов комаров чувствуешь себя так, как будто яйца поросли конской щетиной. Арне выскребает из банки остатки фарша и ест их с ножа. Похоже, что тема снимков для него ещё не вполне исчерпана, или мне только так кажется? Почему у меня такое ощущение, что он по-прежнему думает об этом? Может быть, я просто воображаю, что читаю его мысли, из-за того, что мои собственные всё ещё поглощены снимками. Конечно, снимки очень пригодились бы мне сейчас, по-хорошему я должен был бы сравнивать их с тем, что я вижу на местности. Арне, наверное, думает, что бы такого сказать утешительного. Он облизывает нож, осторожно, как это делают непривычные к таким действиям люди. Откладывает нож в сторону и вытирает рот бумажной салфеткой. Точнее, даже не вытирает, а осторожно промокает рот, задумчиво глядя в землю.
Внезапно он поднимает на меня глаза.
— Скажи, Альфред, что ты, собственно, собираешься здесь изучать? Можешь объяснить в подробностях?
На одной из карт я описываю указательным пальцем небольшой круг.
— Про все эти впадины, вот здесь, считают, что они ледникового происхождения, так?
Арне наклоняется вперёд, чтобы лучше видеть, и отвечает:
— С той поправкой, что в последнее время стали предполагать, что некоторые из них — это остатки гидролакколитов.
— Ну да, последний крик моды. А знаешь, что думает Сиббеле? Что это метеоритные кратеры.
— Метеоритные кратеры?
Лицо Арне от ужаса становится ещё длиннее, чем обычно. Он застывает с открытым ртом. Но его взгляд беспощаден.
— Метеоритные кратеры, — говорю я. — Новая точка зрения, и для меня очень привлекательная. Как раз в этих местах…
Очевидно, Арне так напуган тем немногим, что я сказал, что не в состоянии меня не прервать:
— Но ведь местный грунт полностью состоит из песка и камней, нанесённых ледником. Когда потеплело настолько, что большая часть льда растаяла, это была каша из камней, песка и глины, в которой время от времени попадались ледяные глыбы. Потом растаяли и эти глыбы. На их месте теперь находятся впадины, обычно заполненные водой. Такие впадины встречаются повсюду, где был ледник, на севере Германии, в Канаде. Нет никаких причин приписывать их метеоритам!
— А почему обязательно нужно приписывать всё льду?
Я вздыхаю, но продолжаю:
— Замечательно, например, что все эти впадины практически круглые.
— Практически круглым становится всё, что тает. Ледяные глыбы точно так же, как и метеориты.
— Думаешь?
— А почему, собственно, большой метеорит должен быть круглее, чем кусок льда?
Я тоже этого не знаю. Я ненадолго замолкаю, потом говорю:
— Всё-таки это удивительная гипотеза. Я сделаю всё от меня зависящее, чтобы доказать, что некоторые из впадин — действительно метеоритные кратеры. При одной мысли об этом у меня учащается сердцебиение.
— В таком случае, на твоём месте я бы не слишком много об этом думал…
— Ну да, амбиций мне не занимать, я ничего не могу с этим поделать, хотя и отлично знаю, откуда эти амбиции взялись. Мой отец был талантливый учёный, ботаник, но он погиб, когда мне едва исполнилось семь лет. Он упал в расщелину, в горах, в Швейцарии. Через несколько дней после известия о смерти мы получили ещё одно письмо, в нём сообщалось, что отец получил должность профессора. Люди, которые произносили речи на похоронах, не знали, как его называть — «господин Иссендорф» или «профессор Иссендорф». Моя мать воспитала меня так, что я всегда считал себя обязанным каким-то образом продолжить карьеру отца.
Если бы я мог доказать, что среди этих впадин есть метеоритные кратеры, это было бы потрясающим открытием. Особенно сейчас, когда столько пишут о кратерах на Луне.
— Да.
Арне посмеивается с закрытым ртом. Пока его глаза продолжают смеяться — скорее сочувственно, чем презрительно, — он приоткрывает рот так, как это обычно делают, когда хотят выдать какую-нибудь тайну (а это очень особенная манера).
— Этот профессор Сиббеле, твой учитель, уже давно так считает. Ты об этом знаешь?
— Конечно. Но откуда об этом знаешь ты?
— Я не хочу тебя расстраивать. Но он ещё много лет назад обсуждал свою метеоритную гипотезу с Нуммедалом. Нуммедал обычно заговаривает об этом у себя на аспирантском семинаре, если хочет кого-нибудь высмеять.
— Ну да, конечно, потому что сам Нуммедал написал книгу, в которой впадины интерпретируются как ледниковые. И за целых пятьдесят лет никто ему даже не возразил. Зачем же Нуммедалу на старости лет менять точку зрения и ставить крест на своей собственной работе?
— Если ты всё это так хорошо понимаешь, то почему же ты именно к нему пришёл за снимками?
— А почему бы и нет? Ты ведь не думаешь, что Нуммедал настолько малодушен, что будет ставить мне палки в колёса из-за…
— Perhaps… И всё-таки мне кажется, что он сразу же узнал в тебе приверженца метеоритной гипотезы.
— Но ведь я собираюсь её проверить! Если Нуммедал окажется прав, я же не буду этого отрицать?
— Будь осторожен. Защищаться тебе у Сиббеле, а не у Нуммедала. И Сиббеле совсем не обрадуется, если ты не найдёшь никаких подтверждений его теории.
Арне снимает верхнюю одежду и забирается в спальник.
— Впрочем, к большинству этих впадин ещё ни один смертный не подходил, так что кто знает.
Я тоже забираюсь в спальник, и по примеру Арне использую рюкзак как подушку. Вполне хорошо работает, надо только позаботиться о том, чтобы застёжки не кололи щёк.
Я закрываю глаза, но могу держать их закрытыми только с некоторым напряжением. Полночное солнце красным просвечивает через веки. Смотрю на часы. Час ночи. Фьелльо стрижёт свои кусты, и кого-то дразнит кукушка.
17
Я зеваю. Я устал, но не могу заснуть. Мой пуховый спальник слишком тёплый, хотя я и оставил молнию расстегнутой.
Арне спит, и даже храпит. А я спать не могу. Хотя лежать на деревянном полу без матраса вовсе не так неудобно, как показалось мне сначала. Надо только поменьше шевелиться — каждое изменение положения причиняет боль; но если лежать совсем неподвижно…
Пот течёт у меня по ногам. Я вылезаю из спальника и сажусь. На мои голые ноги тут же опускается сотня комаров. Натирая ноги мазью, я оглядываю веранду.
В углу стоят друг на друге два сломанных плетёных стула, рядом с ними — швейная машинка на железной подставке с завитушками. Самое время задуматься о том, как всё-таки делают эти деревянные колпаки, оберегающие швейные машинки от пыли. Дубовая пластина, согнутая в полуцилиндр. Не ломается и не трескается. Несокрушима. Тайна ремесла.
Дверь в остальную часть дома наполовину состоит из стекла, изнутри она завешена занавеской. Хозяева так и не показались. Странно, всё-таки я у них ночую. Хотя, впрочем, это не совсем подходящие слова. Когда я сижу, мой нос находится примерно на уровне подоконника. Тысячи комаров беспокойно летают перед грязным стеклом. Ноги из паутины, тело из соплей.
Теперь осторожно почесать шишку от укуса, а потом выдавить на ней крест острым ногтем большого пальца. Похоронить зуд под болью.
Почему бы не выкурить ещё одну сигарету. Я подтягиваю к себе штормовку, роюсь в карманах и нахожу письмо от матери. Если прочесть его прямо сейчас, можно будет написать в ответ: «Я читал твоё письмо при свете полночного солнца». Озарённый этим небесным телом, я разворачиваю листок.
«Так как мы несколько недель подряд не сможем тебе писать, и я немного боюсь, что от тебя мы тоже всё это время не дождёмся никаких вестей, пишу тебе прямо сейчас. Я так горжусь, что ты получил эту стипендию, Альфред, и я уверена, что твоя диссертация окажется выше всяких похвал. Если бы только твой отец мог это видеть!
В его время было очень и очень непросто получить финансирование для работы за границей. Когда я думаю о тебе, мои мысли часто возвращаются к той карьере, которую мог бы сделать твой отец, если бы он не умер так рано. Я чувствую, что ты сможешь добиться того, что не удалось ему, взять реванш у судьбы. О Боже, я помню, что незадолго до того, как случилось несчастье, ты как раз просил всех и каждого помочь тебе достать „метеор“. Мы напрасно ломали голову — откуда ты взял это слово, но ты точно знал, что оно означает! Папа воспринял это как первые проявления твоего призвания к науке. Каким утешением было для меня то, что он умер с верой в твою одарённость, дорогой Альфред. И как я благодарна, что ты всегда был так требователен к себе. Потому что только таким образом можно чего-нибудь добиться. Оглядываясь назад, видишь всё больше и больше людей, которым только чуть-чуть не хватило сил, чтобы преодолеть очередное препятствие.
(Не обращай внимания на эти пятна, — стрелка, — сюда капнула пара слезинок.)
Рассказывала ли я тебе когда-нибудь, что твой отец даже дал объявление в газету, разыскивая людей, которые могли бы продать ему метеорит? Он промучался несколько недель, думая, как бы его достать. Он очень хотел подарить тебе метеорит на день рождения, — семь лет, — но ты знаешь, что он до него не дожил.
Удивительно, но теперь, когда ты уже прошёл такой значительный путь, я должна признать, что иногда и в самом деле сбываются все наши давние надежды. Жаль только, что когда жизнь налаживается, это неизбежно означает, что вначале произошло что-то ужасное.
Ну всё, заканчиваю жаловаться».
Ева приписала внизу:
«Это у мамы так называется. Знаешь, Альфред, ей нужно больше делиться своими переживаниями, тогда она будет меньше нервничать.
Твоя любящая сестра».Делиться своими переживаниями! Просто чудо, что Ева не уточнила, с кем. Впрочем, моя мать не так уж много жалуется. Скорее, можно сказать, что она проявляет сдержанность. Вдова, часто вспоминающая прошлое, немногое способна утаить от взрослого сына. Но историю про то, как отец дал объявление в газету, чтобы подарить мне метеорит на день рождения, я действительно слышу в первый раз. И то, что мне так хотелось иметь метеорит, собственно, тоже. Я совершенно забыл об этом, и никогда не вспоминал. Метеорит! В шесть лет! И теперь вот снова… Если бы отец остался жив, я бы, наверное, не ныл насчёт уроков игры на флейте. Впрочем, это было безнадёжное дело. Мать всё равно отказала бы мне из страха. Страха, что я стану флейтистом, вместо того, чтобы продолжить научную карьеру отца.
Три часа. Я снова сложил письмо, спугнув нескольких комаров и раздавив остальных. Я забрался в спальник по шею, плаваю в поту, но твёрдо решил и пальцем больше не шевелить. Моё тело такое горячее, как если бы я лежал больным с высокой температурой. Может быть, жара усыпляет? Время останавливается, потом я чувствую головную боль.
Голова болит так сильно, что я вскакиваю и сажусь, но теперь мои часы показывают без четверти двенадцать. Арне ушёл. Веранда превратилась в ловушку для солнечных лучей. Здесь жара и страшная вонь — запах пота и подсыхающей плесени. Подавленно, как побитый, я подтягиваю к себе носки и ботинки. Пустой спальник Арне придаёт форму его отсутствию.
Левое веко, опухшее от укуса комара, поднимается только до половины. Я завязываю шнурки, встаю и выхожу на улицу.
Зелёная палатка Квигстада открыта. Вокруг неё валяются вещи и вывернутые наизнанку спальники, но никого не видно.
Спальники. Не один спальник, а два.
Я закуриваю сигарету, скребу правой рукой левое плечо, а левой — правое. Небольшие чёрные мухи садятся на меня бесшумно и безболезненно, но, даже когда я их не убиваю, оставляют после себя большие капли крови. Моей крови.
— Альфред!
Арне выходит из-за дома, и с ним ещё два человека. Один из них — Квигстад, которого я едва узнаю. Квигстад приветственно машет мне рукой, в другой руке у него удочка. Второй тип тоже несёт удочку.
В двух шагах от меня Квигстад останавливается и сгибается в лёгком поклоне.
— Doctor Livingstone, I presume?
Смеясь, мы пожимаем друг другу руки. Квигстад отпустил рыжую бороду, и теперь, с его неподатливыми рыжими волосами, высоким лбом и голубыми глазами, всегда широко раскрытыми, будто затем, чтобы ничто не скрылось от этого беспощадного взгляда, он кого-то мне напоминает. Кого? Винсента ван Гога.
Второй — блондин с нездоровым цветом лица, жуёт соломинку, мне приходится попросить его представиться ещё раз («Миккельсен»), потом он бормочет:
— I talk very bad English. Sorry.
Он стоит, немного расставив ноги. Несколько раз выворачивает ступни наружу, потом выплёвывает соломинку и забирается в палатку.
Квигстад ездил на год в Америку, на стажировку, и он отлично говорит по-английски. Гораздо быстрее, чем Арне; впрочем, это может зависеть и от характера.
— Добрался без проблем? — спрашивает он. — На самолёте? Бензина хватило?
Он говорит именно «бензина», а не «керосина».
Я улыбаюсь, киваю головой.
— В Норвегии всякое может случиться. Никогда не знаешь. Люди здесь не в курсе самых простых вещей. Вот ты, например, знаешь, откуда взялось слово «бензин»?
— Бензин?..
— Это от слова «бенц». Мерседес-Бенц, понимаешь? Пойдём в палатку. Завтракать.
Шутка про Ливингстона очень старая, но про бензин я слышу в первый раз.
Вход в палатку Квигстада и Миккельсена закрывается треугольной сеткой. После того, как Квигстад застёгивает за нами все молнии, Миккельсен убивает всех насекомых, прыская из флакона.
Арне и Квигстад беседуют друг с другом по-норвежски. Миккельсен разжигает стоящий посреди палатки примус и ставит на него кастрюлю с водой. Мне делать нечего, разве что слушать, как комары и мухи бьются о палатку, словно капли дождя. Наконец вода закипает. Миккельсен размешивает в ней сухое молоко, геркулес, сахар и изюм. Я вслушиваюсь в шипение примуса и постукивание комаров по палатке. Это хорошая палатка, относительно новая, с алюминиевыми стойками. Вообще, всё оборудование у Квигстада с Миккельсеном, кажется, превосходного качества.
Пока Миккельсен мешает кашу, Арне и Квигстад разворачивают карту. Я бы тоже с удовольствием что-нибудь сделал, но что?.. Квигстад вынимает из плоского футляра курвиметр, что-то измеряет на карте, что-то обсуждает с Арне, стучит курвиметром по карте, дабы придать дополнительную силу своим аргументам.
Пойти побриться или вымыться? Остальные вроде ничего такого не делали и не собираются; да и мне на самом деле не хочется.
По дороге идут три норвежца, и я вместе с ними. Жарко, как в бане; хотя в небе ни облачка, дышать всё равно тяжело.
Я смутно понимаю, что мы будем сегодня делать: нам предстоят последние приготовления, закупка еды. Поиски лошади? Никто об этом, кажется, ничего не говорил.
Лавка.
Седая женщина подаёт нам восемь больших буханок чёрного хлеба, дюжину яиц в картонной упаковке, мёд в тюбиках, маргарин, консервы, оранжевый сыр, яркие разноцветные коробки с изюмом и три пачки кофе в зёрнах. Молотого кофе у неё нет. Что делать?
Женщина находит выход из положения: отправляется вглубь помещения и приносит оттуда красную жестяную кофемолку неизвестной мне породы, похожую на шарманку.
Я почти вырываю предмет у неё из рук.
— Давайте я буду молоть кофе!
— Отлично, давай!
Я пристраиваюсь на большом камне у входа.
Кофемолка — одно мучение. Кажется, она утрамбовывает зёрна вместо того, чтобы их молоть. Чтобы размолоть хоть чуть-чуть, требуется зверское количество оборотов. Отгоняя комаров одной рукой, другой я кручу рукоятку. Грубо размолотые зёрна я пытаюсь пропустить через кофемолку ещё раз, но куски вовсе не становятся от этого мельче, они немедленно падают обратно, как будто через решето. Подходят Арне, Квигстад и Миккельсен. Мы передаём друг другу кофемолку, каждый по очереди мелет на максимально возможной скорости, пока не устаёт рука. Обработка трёх пачек кофе занимает у нас добрых полтора часа.
Мы отправляемся обратно, унося продукты в ящике из гофрированного картона (сколько они могут весить?..). Миккельсен кипятит воду в алюминиевом чайнике, засыпает туда ложку кофе. Мы едим бутерброды с сардинами и пьём кофе, отвратительно безвкусный. Шерп Дану никогда не предложил бы такого своим сахибам.
— Шерп Дану, — говорю я вслух, и рассказываю о том, что прочёл в газете.
Квигстад говорит:
— В газетах пишут только про покорение Эвереста и тому подобное. Читатели даже представить себе не могут, сколько учёных в то же время отправляется в другие, не такие сенсационные экспедиции, не попадая в газеты. И часто эти экспедиции гораздо опаснее.
— Без шерпов, — добавляет Арне. — Всё тащат сами.
После обеда мы идём вдоль озера до устья реки, потом вдоль реки, пока она не сужается так, что её можно перейти, прыгая с камня на камень. На Арне, Квигстаде и Миккельсене резиновые сапоги до колен. Только я в обычных кожаных турботинках. Достаточно один раз оступиться, и дальше придётся идти с мокрыми ногами.
Без разбега я прыгаю на первый камень. Получилось! Концентрируясь до предела, я перепрыгиваю на следующий, потом опять на следующий, тяжело пыхтя. Приземляясь, дикими криками помогаю себе удерживать равновесие.
Арне, Квигстад и Миккельсен вовсе не прыгают. Когда на них смотришь, кажется, что никакой реки нет вообще, так спокойно они переступают с камня на камень. В конце концов и я оказываюсь на другом берегу, не промочив ног. Я только что записал в свой актив небывалое для себя достижение, но моё сердце готово выпрыгнуть из груди от страха.
Рысцой я догоняю остальных. Дорога сужается до тропинки, тропинка ведёт к берегу озера. Она обрывается у крытой дёрном лачуги, расположенной совсем близко к воде. Рядом лежат двое деревянных саней, они почти неотличимы от лодок. Длинная, похожая на пирогу лодка с небольшим мотором привязана к торчащему из земли столбику.
Квигстад, Арне и Миккельсен останавливаются, я тоже. Квигстад зовёт хозяина. Из лачуги выходит темнокожий кривоногий человек маленького роста. На нём рубашка в красную и зелёную клетку, походные штаны и резиновые сапоги. У него плоский нос, раскосые глаза, волосы жёсткие, как платяная щётка. Он посмеивается, стеснительно, как и все лопари, и кивает головой в знак приветствия. На поясе у него висит огромный нож в кривых ножнах. Квигстад что-то говорит ему. Человек снова заходит в дом и выносит оттуда пустой рюкзак. Разговор продолжается. Арне, Квигстад и Миккельсен садятся на землю, и я вместе с ними. Человек сидит напротив нас на корточках. Он вытаскивает свой громадный нож, срезает с куста ветку и начинает её заострять. Комары беспечно ползают по его плохо выбритым щекам, по его векам, по его губам. Время от времени он что-то говорит, а слушая Квигстада, не закрывает рта. Ветка в его левой руке становится всё короче.
Так мы сидим, наверное, с полчаса. Когда мы наконец прощаемся и уходим, Квигстад несёт пустой рюкзак.
18
В семь часов вечера зелёная палатка снята и сложена, а вещи, более или менее рассортированные, лежат вокруг нас на земле.
Арне держит в руках рюкзак жилистого смуглого человека.
— Это маленький рюкзак, — говорит он, — он что, нарочно нам такой дал?
— Маленький рюкзак тоже можно очень хорошо нагрузить, — возражает Квигстад.
— Он утверждает, что он ужасно сильный, — говорит Миккельсен.
Мы распределяем вещи по пяти рюкзакам. В рюкзак силача отправляются обе палатки, примус, теодолит, канистра с бензином и все консервные банки. Восемь буханок хлеба мы привязываем сверху верёвкой. «Мы»? Собственно, всем распоряжаются Квигстад и Арне, я почти ничего не делаю. Как только я придумываю себе какое-нибудь дело, я замечаю, что либо оно уже сделано, либо за него как раз кто-то берётся.
По крайней мере, я могу помочь отнести рюкзаки к берегу. Их всё-таки пять. Я берусь за рюкзак, предназначенный носильщику, и едва поднимаю его обеими руками.
— Арне, а он правда сможет столько нести?
— Да он силён, как шерп!
— Подожди, — говорит Квигстад. — Давай ещё яйца туда положим. Если он их побьёт, я искренне желаю ему оказаться таким сильным, как он думает!
— А сколько он с нами пройдёт?
— Первые двадцать пять километров. Потом пойдёт обратно. Иначе у нас еды не хватит.
Я заключаю, что после первых двадцати пяти километров содержимое пяти рюкзаков придётся уместить в четыре, и дальше мы потащим всё это сами. Ах, если бы только я больше занимался спортом! Или хотя бы чаще ездил в Норвегию. Тогда мне не пришлось бы ломать голову над тем, как перейти бурную реку, прыгая с камня на камень с тридцатикилограммовой ношей на спине. Даже в Пиренеях, прошлым летом, с Дидериком Гелхудом, мы каждый вечер возвращались обратно в деревню. Нам почти ничего не приходилось нести. Разве что бутерброды, а вечером, по дороге домой — образцы горных пород. Я вспоминаю солёное мясо с фасолью, которое мы так часто ели в Испании.
Солнце отражается в воде красными бликами и осыпает нас светом и жарой, как бульдозер. У меня всё ещё болит голова, и глаза воспалены.
Каждый из нас по очереди встаёт, кладёт фотоаппарат на камень, ставит его на автоспуск и возвращается к остальным. Щёлк. Только Арне снимает кадр, в котором нет его самого, потому что его фотоаппарат — без автоспуска.
— Где же этот силач?
— Я видел в Тромсё памятник силачу. Этот человек смог нести камень весом в 371 килограмм.
— Памятник?
— Собственно, этот камень. Он лежит на площади, и к нему приделана бронзовая табличка.
— Ну да, конечно, пришлось там его и оставить, потому что у того типа всё-таки не хватило сил, чтобы унести его обратно.
Мы с Миккельсеном хохочем. Арне встаёт, смотрит в кулак, как в подзорную трубу, и говорит:
— Едет.
V-образные волны от моторной пироги расходятся по всему озеру.
Из всех нас в лодке поплывёт только Квигстад. Мы передаём ему пять рюкзаков и штатив от теодолита. Лодка, узкая, как ствол дерева, рассчитана только на двух человек. Арне, Миккельсен и я пойдём вдоль озера пешком, а потом пройдём ещё какое-то расстояние вдоль реки, до назначенного места, где нас будут ждать Квигстад и силач. Потом мы все вместе двинемся дальше, через водораздел. Через горы Ваддасгайсса к озеру Ливнас-явре.
Вслед за Миккельсеном и Арне я опять перехожу реку, прыгая с камня на камень. Если бы только я мог подавить мрачную игру воображения, которое рисует мне в красках, что произойдёт, если я промахнусь. А если бы резина моих подошв вдруг утратила свою цепкость?.. Всё же я считаю: речка — шесть шагов в ширину, пять камней, постоянно захлёстываемых водой.
Снова получилось.
Теперь вверх. Склон покрыт большими кочками. Они состоят из торфа и сухой травы, внутри — ледяное ядро. Чуть ли не на каждом шаге я подворачиваю ногу.
Последние деревья остались позади. Здесь растёт только шикша, ивовый стланик высотой до колена и карликовые берёзы. Они не больше кустов вереска, но в остальном это настоящие берёзы: такой же ствол, только тонкий, как ветка, такие же листья, но размером с ноготь. Уменьшенная модель.
Сейчас половина восьмого, и уже не так жарко, как было днём. Ветра совсем нет.
Время от времени я что-нибудь фотографирую, просто так, красоты ради. Чтобы потом показывать фотографии матери и Еве. Как же всё-таки звали ту подругу Евы, которую Ева привела домой накануне моего отъезда? Я так смутился, что не расслышал её имени. Через десять минут она уже ушла. Совсем молоденькая, лет восемнадцать, наверное. Я найду её, когда вернусь, покажу ей фотографии, расскажу о своей поездке. Может быть, я мог бы на ней жениться, через два года, когда закончу диссертацию. Можно было бы устроить помолвку прямо в день защиты. Дидерик Гелхуд, конечно, сочтёт это пошлостью. Но какая мне разница, не всё ли мне равно, что сотни, тысячи людей уже проделали ровно то же самое, — ведь, как бы то ни было, речь идёт о таком деле, где вряд ли можно изобрести что-то новое!
Некоторые люди страшно раздражают меня подобными претензиями. Дидерик Гелхуд не в последнюю очередь. Он из тех, кто, надевая сандалии вместо туфель, считает, что тем самым делается оригинальнее всех остальных. Очень грустно, когда человек не в состоянии заняться вместо этого таким делом, где оригинальность действительно что-то значит. Я бы не дружил с Дидериком, если бы с ним не было так легко разговаривать. Я никому не рассказываю о себе столько, сколько Дидерику. Вообще-то это странно. Странно? Может быть, это из-за чувства, что об определённых вещах можно разговаривать только с теми, кто (как тебе кажется) и сам об этих вещах задумывался. Но есть и многое такое, о чём я ни за что не расскажу Дидерику. Есть некоторая грань, за которой даже самым лучшим друзьям нельзя показывать, как сильно ты от них отличаешься. Обо всём, что находится за этой гранью, лучше вообще молчать. И поэтому я скажу: «Конечно, Дидерик, брак — это ловушка для пташек, которые слишком рано запели, университет — это анонимное общество комедиантов, а профессорские мантии черны от страха, что их обладателей, высокоучёных мошенников, когда-нибудь выведут на чистую воду. Повсюду сплошные враги рабочего класса!»
И я никогда не признаюсь Дидерику, что есть всего две или три вещи, которых я так сильно хочу добиться, что, наверное, сочту жизнь прошедшей зря, если это не сбудется: найти метеоритные кратеры, написать диссертацию, защититься с отличием, жениться на подруге Евы, стать профессором.
Там, где нас ждут Квигстад и силач, берег реки крутой и скользкий. Они привязали лодку к камню. Пять рюкзаков составлены в ряд, перед ними лежит деревянный треножник. Я покусываю заусенец на большом пальце, глядя, как силач опускается на колени, продевает руку в одну из лямок рюкзака, поднимается, одновременно резким движением закидывает рюкзак на спину, продевает вторую руку во вторую лямку. Он улыбается. Заложив оба больших пальца за лямки, он начинает медленно подниматься вверх. Потом на секунду задумывается, нагибается и берёт штатив.
Я дожидаюсь, пока Арне, Миккельсен и Квигстад выберут себе рюкзаки. Последний будет для меня. Дикие обрывки фраз («Почему вы оставили мне самый маленький? Не доводите гостеприимство до абсурда!») роятся у меня в голове, но, кажется, все английские слова вылетели из памяти, так что я ничего не могу сказать.
Стараясь копировать движения остальных, я тоже нагружаю спину. Проклятье, ещё тяжелее, чем я думал! Низко согнувшись, я иду вслед за ними, сначала увязая по щиколотку в грязи, потом осторожно ставя ноги на рыхлый склон. Фотоаппарат и планшет с картой, висящие у меня на шее, с каждым шагом хлопают меня по животу. Когда я хочу оглядеться, мне приходится робко задирать голову, как будто я крот или какое-нибудь другое животное, которому полагается всегда смотреть в землю. Мои виски словно разрываются — так сильно в них стучит кровь. Опустив сетку накомарника, я смотрю на мир сквозь её зелёный туман.
Двадцать шагов уже сделано. Я не отстаю. Они идут так же медленно, как я. Им тоже тяжело. Никто не говорит ни слова. Две птицы, хлопая крыльями, низко носятся прямо передо мной, как будто хотят сбить меня с толку.
Какой же я дурак, что не прислушался как следует, когда та девушка сказала, как её зовут. Во всём её облике была какая-то смесь легкомыслия и печали, как в некоторых сонатинах. Я редко сравниваю девушек с музыкой. Только когда они очень красивы. Даже если бы я виделся с такой девушкой каждый день, мне потребовалось бы несколько месяцев, чтобы набраться смелости до неё дотронуться.
Наверное, её зовут Филиппина, Рената или Франсина. Мне бы хотелось, чтобы её звали Дидона. Мою мать зовут Аглая. Странно: такое необычное имя, и всё же такое некрасивое. Нет, та девушка просто должна зваться Дидоной.
Я смотрю на часы. При желании я мог бы смотреть на них непрерывно. Лямки рюкзака задрали мне рукава, и мои руки наполовину обнажены. Они все в комарах. Мазь давно уже испарилась вместе с потом.
Сейчас без пяти девять. С Квигстадом и силачом мы встретились без четверти. Уже десять минут в пути. Каждый шаг кажется мне последним из тех, что я в силах сделать. У меня на часах есть секундная стрелка, так что можно посмотреть, сколько времени уходит на один шаг. Две секунды.
Какой длины мои шаги? Сантиметров шестьдесят, не больше, наверное. То есть тридцать раз по шестьдесят сантиметров в минуту. Это восемнадцать метров. Шестьдесят на восемнадцать — это… это шестью восемь — сорок восемь, шесть плюс четыре — десять, то есть один, ноль, восемь, ноль. То есть… чуть больше километра в час?? Так мы никогда не дойдём до озера. Понадобится больше суток, чтобы одолеть эти двадцать пять километров.
Я вижу, что медленно отстаю от Квигстада, Арне, Миккельсена и силача. Стараюсь идти быстрее, ставить ноги дальше, дышу теперь только ртом, но даже и так мне не хватает воздуха, и я поднимаю сетку накомарника. В рот тут же попадает комар, я чувствую его в горле. Кашляю, выдыхаю, стараюсь набрать как можно больше слюны, глотаю.
Я его проглотил.
19
Как истощённый узник ни на минуту не забывает о том, что каждая картофелина и даже картофельные очистки употребимы в пищу, так и я воспринимаю расстояние как ценный материал, достающийся мне по капле с каждым шагом.
Каждый шаг сокращает те двадцать пять километров, что я должен пройти. Каждый шаг приближает нас к цели. Я тяжело дышу, рот и горло у меня совсем пересохли.
Хотя моя голова раскалывается от боли, хотя мне приходится задействовать все свои мускулы для того, чтобы сохранять равновесие под этим грузом на спине, я продвигаюсь вперёд. Мы продвигаемся вперёд. До такого состояния, когда мы не сможем больше идти, ещё очень далеко.
Подумать только — люди, которые строили дольмены, волочили по степи камни весом в пять тонн! Как у них это получалось — без лошадей, без подъёмных блоков, без колёс? Загадка. Но, может быть, они трудились целыми поколениями ради того, чтобы собрать в определённом месте двадцать или тридцать таких камней. Перемещение этих камней, должно быть, означало в доисторические времена примерно то же, что и строительство соборов в Средние Века. Камни ворочали при помощи огромных дубин — целых стволов, сдвигали на полметра в день. Сто пятьдесят метров в год. Полтора километра за десять лет. Сколько подходящих, достаточно больших валунов приходится где-нибудь в Дренте на квадратный километр? Каким должен был быть радиус области, где эти люди собирали камни для одного дольмена? Десять километров? Двадцать километров? Вряд ли больше; всё-таки это должно было быть осуществимым, хотя и долгим делом. Всё осуществимо для тех, кто не обращает внимания на время, кто верит в своих внуков и во внуков своих внуков, кто верит в то, что у человечества есть цель — строительство дольменов…
Соборы строились ещё дольше, и тоже в конце концов оказались никому не нужны. Дольмены были соборами первобытных людей. А что за собор строю я? Такой собор, про который я и сам ничего не понимаю, а когда он будет закончен, меня уже не будет в живых, и никто не узнает, что я когда-то был одним из его строителей.
По мере подъёма склон становится всё суше. Ещё он становится всё положе и вскоре кончается совсем. Мы сбрасываем рюкзаки на большие камни. Мы прошли двадцать минут. Квигстад размахивает громадным молотком — рукоятка длиной в полметра. Он подходит к белоснежной скале, откалывает от неё большой кусок и кричит:
— Я выбил зуб матери-Земле!
Арне открывает потёртый чехол и достаёт свой старый фотоаппарат. Он держит его так бережно, как будто это антикварный фарфор. Он подносит фотоаппарат к глазам. У фотоаппарата стёрты все рёбра, и жёлтая медь просвечивает сквозь чёрный лак. Арне нажимает на спуск, удручённо качает головой и говорит:
— Perhaps…
Отсюда кажется, что Ваддасгайсса начинается уже за следующим холмом, но по карте это ещё как минимум пятнадцать километров. Целлулоид моего планшета потускнел, и при таком слабом освещении сквозь него ничего не видно. Планшеты уже после первой экспедиции теряют прозрачность из-за царапин. Я вынимаю карту и внимательно разглядываю на ней маршрут в увеличительное стекло. Пытаюсь сосчитать, сколько рек нам придётся перейти, получается десять. Больших. Мелкие на карте не обозначены. Холмы тоже показаны весьма схематически: перепады высот меньше тридцати метров не видны. Иначе и быть не может. Километр на местности соответствует сантиметру на карте.
Снова складывая карту, я вижу, как Миккельсен передаёт фляжку Квигстаду. Квигстад отпивает из фляжки и передаёт её Арне, Арне тоже отпивает и передаёт её мне. Как будто рот и горло у меня состоят из пемзы, я лью туда воду. Мы зарываем в землю окурки и снова надеваем рюкзаки. Теперь вниз.
Пока мы спускаемся, мои коленные суставы демонстрируют невероятную прочность, в которой я, правда, всё же не перестаю сомневаться. Что за удивительная конструкция! С каждым шагом весь вес туловища, бёдер и рюкзака с шумом падает на этот тугой комок скользких сочленений, называемый коленом. Но ничего не ломается, не рвётся, ни одна кость не покидает положенного ей места. Подумать только, что бы было, если бы туда каким-то образом попала одна-единственная песчинка. Кто-то рассказывал мне, что при некоторых болезнях — таких, как ишиас, или, может быть, ревматизм? — в суставах образуются острые, твёрдые кристаллы из мочевины. О боже, какая страшная боль! Она достигает даже стистнутых от этой боли зубов!
С каждым шагом тело, сотрясаясь, резко проседает. О упругость хрящевых прослоек между позвонками. Стойкость жил, в которую так трудно поверить, зная, как легко можно сломать даже железную нить. О человек, волшебное животное. Но какое жестокое испытание — самому убедиться в чудесных возможностях своего тела!
Если часто качаться на стуле, то его ножки быстро сломаются. Как-то раз я даже сломал таким образом железную табуретку.
Не для того ли, чтобы у нас пропала всякая надежда на будущий конец страданиям, сделаны мы так непостижимо прочно?
Спуск. Мох становится толще, появляются карликовые берёзы с тёмно-зелёными кожаными листками, потом ивовый стланик со светло-зелёными фетровыми ослиными ушами. Ветки развязывают шнурки на моих ботинках.
Мои ноги утопают в толстых губках мха. Лучше становиться на камни, но все камни здесь круглые. Лужи чёрной воды, в которых ничего не растёт. Эти лужи всё больше, и земля между ними тоже чёрная.
Речка. Неглубокая. Течения почти нет. Миккельсен, Квигстад и Арне останавливаются, зачёрпывают воды в пластиковые стаканчики. Мой стаканчик где-то далеко. Снять рюкзак и поискать? Рот уже не закрывается от жажды, уже сейчас, в самом начале пути. Арне поворачивается ко мне и протягивает мне свой стаканчик.
Кое-где можно пройти на носках прямо по дну. Но противоположной стороны я всё равно достигаю с холодными и мокрыми ногами.
Другой берег… лужи, болото. Шарообразные вздутия из засохших растений, со льдом внутри, их называют исландским словом «туфур». Снова ивовый стланик, потом карликовые берёзы, потом просто мох и камни. Склон становится круче. Мухи и комары, как град, обрушиваются на шляпу накомарника. Низкое солнце подсвечивает нимбы из насекомых вокруг голов Арне, Квигстада, Миккельсена и силача.
Прошло пятнадцать минут. Долго ли ещё подниматься? Крутой ли подъём? Да, такой крутой, что я не могу отвести голову достаточно далеко назад, иначе я опрокинусь на спину, увлекаемый тяжестью рюкзака.
Плестись дальше, выносить вперёд одну, потом другую ногу. Каждый шаг приближает к цели. Разве это не чудо? Шаг, всего один шаг, и расстояние до вершины сокращается. Разве это не удивительно? Нужно просто поднять ногу и переставить её чуть-чуть вперёд. Простое действие, это едва ли сложнее, чем стоять на месте; а от стояния на месте рюкзак легче не станет.
Шаг. Между камней мох, среди мха небольшие пятна голой земли. Песок и камешки. Белые камешки. Иногда попадается кость или позвонок. Никаких следов того, что здесь были люди. Впрочем, мы ведь тоже не оставляем никаких следов.
Мои часы показывают без двадцати пяти десять. Уже почти полчаса, уже почти час в пути. И я легко продержусь ещё час, два, три, столько часов, сколько захочу. Тяжело, но хуже не будет. Куда подевалась моя головная боль? Исчезла оттого, что я о ней позабыл.
Наверху.
Пока мы отдыхаем, силач даже не снимает рюкзака. Он стоит, опираясь на камень высотой точно в расстояние от дна рюкзака до земли. В скрещенных руках он держит сложенный штатив от теодолита, как копьё.
Я раскладываю карту на земле и достаю компас. Пытаюсь развернуть карту вдоль линии север-юг. Но нигде вокруг я не нахожу горизонтальной поверхности, а если компас лежит не горизонтально, то стрелка не может свободно вращаться. У меня дрожат руки, и поэтому я не в состоянии и держать компас на ладони; в любом случае, я не могу держать его и карту одновременно. Я стою на земле на четвереньках, и камни впиваются мне в колени.
— Что ты ищешь? Север?
Арне садится на корточки рядом со мной. Он разворачивает карту и говорит:
— Вот так.
Теперь я вижу, что висит у него на шнурке. Это маленький пластмассовый туристический компас. Он держит его в левой руке. Компас жидкостный, и поэтому всегда указывает более или менее на север — ему не требуется горизонтальной поверхности.
— Сейчас мы здесь, правда? — говорю я, упираясь пальцем в карту.
— О! Нет, нет, — отвечает Арне. — Пока мы только вот здесь.
Обглоданным жёлтым карандашом, размером с мизинец, он указывает в точку на три сантиметра южнее моей. Три километра.
Я смотрю на карту, а потом вдаль, пытаясь сопоставить рельеф с рисунком. Поднимаю одно колено, от этого усиливается давление на другое, и боль становится острее. Пытаюсь сесть, но понимаю, что тогда придётся слишком сильно наклоняться вперёд для того, чтобы рассмотреть карту. Чёрт, не в форме я сегодня. Что они обо мне подумают? Не хочу быть всеобщим посмешищем, только не это.
Я должен заставить их отзываться обо мне с уважением! Всё должно получаться у меня так же хорошо, как и у них. И даже лучше.
20
Чёрная тень течёт с Ваддасгайссы по равнине перед южным склоном. Вне тени земля то светло-зелёная, то цвета травы, то тёмно-зелёная, то коричневая. Розово-голубое небо отражается в мелких озёрах и извилистых протоках цветом анодированного алюминия.
Все озёра соединены протоками. У меня нет никаких причин заподозрить, что какая-нибудь из попадающихся нам по пути впадин — метеоритный кратер. Впрочем, до сих пор я видел метеоритные кратеры только на картинке. Даже если они здесь есть, совсем неочевидно, что я сразу это пойму.
А кто был тот человек, которому впервые пришло в голову приписать некое углубление в земной коре падению крупного метеорита? Как его звали? Где и когда это случилось?
На меня находит приступ страшной ненависти к учебникам. В них всё написано так, как будто это всегда было хорошо известно! В них не остаётся ничего от тех усилий, сомнений и отчаяния, ценой которых люди в своё время пришли к определённым выводам. Девяносто девять из сотни открытий кажутся неким извечным знанием, кажется, что если их вообще кто-то сделал, то это были какие-то сверхлюди, для которых всё и всегда разумелось само собой, у которых никогда не было неудачливых предшественников. Подумать только, что моя мать каждую неделю пишет статьи о романах, чьи авторы увековечены в газетах — имя, фамилия, фотография; и что в то же время я не могу назвать ни одного учёного, который занимался бы метеоритными кратерами! А ведь таких людей, наверное, были сотни. И не только я ничего о них не слышал — даже Сиббеле, скорее всего, мало что известно. Их не знает вообще никто, кроме специалистов по истории науки. Особая узкая специальность. А труды по истории науки не читает тоже никто, кроме, конечно, тех, кто случайно занялся именно историей науки, а не одной из тысячи других столь же достойных изучения вещей. И даже эти люди знают почти только имена и даты. Не так уж часто жизнь учёного проходит в присутствии свидетелей, способных написать его биографию.
Как счастлив я буду, если найду хотя бы один маленький камешек из космоса. Метеорит. Я могу поклясться, что везде, где я прохожу, ничто не ускользает от моего внимания. Но пока я не видел ничего, кроме щебня с гор.
Опять отстал. Не сильно. Поднимать голову постепенно становится всё труднее. Согнувшись ещё больше, я пробую ускорить шаги.
Если бы её звали Дидона. Как мне вообще пришло в голову это имя? Дидона, царица Карфагена, полюбила Энея, героя, бежавшего из Трои со своим отцом на спине. Ещё тяжелее, чем мой рюкзак.
Конечно, её зовут вовсе не Дидона. Но так я могу называть её про себя. Я не знаю ни её адреса, ни её фамилии. Расспрашивать Еву слишком поздно. Ещё несколько недель я никому не смогу писать.
Я здесь для того, чтобы сделать открытие. Такое открытие, которое поразит весь мир. Всё остальное неважно. Открытки посылать способен и самый тупой турист. У меня есть дела поважнее. И всё-таки… сколько всяких вещей получается у кого угодно, только не у меня! А мне обязательно нужно им научиться.
Опять река. Широкая. По мере того, как я к ней приближаюсь, она кажется всё шире и шире. Силач уже на другом берегу. Он машет руками, на что-то показывает, что-то кричит. Арне, Квигстад и Миккельсен стоят и хохочут, каждый на своём камне. Как будто они играют в такую разновидность игры в салки, где осалить можно только того, кто летит с одного камня на другой.
Река пенится, как водопад. Её берега так заболочены, что я утопаю почти по колени. Я останавливаюсь.
Камень, на котором стоит Арне, ближе всего. Как же Арне туда попал? Это остроконечная скала, она торчит из воды в полутора метрах от берега. Арне не мог просто шагнуть на неё. Он должен был разбежаться. Но как, в таком болоте?
Я вижу, как вдали Миккельсен сгибает колени, издаёт вопль, летит, размахивая руками, приземляется на камень, где стоит Квигстад. Они хватают друг друга за руки, пошатываются, приходят в равновесие. Потом, один за другим, как будто в семимильных сапогах, перешагивают на следующие камни и оказываются на другом берегу. Силач уже идёт дальше, и они идут с ним.
Я всё ещё стою, оглядываю реку вверх и вниз по течению, но не вижу ни одного камня в пределах досягаемости.
Арне протягивает мне руку.
— Прыгай, — говорит он. — Поднимай колени как можно выше.
«Прыгай»! Меня и так постепенно засасывает, а если я попытаюсь оттолкнуться, то уйду в землю, как снаряд. Я не могу даже дотянуться до руки Арне. Но продолжать стоять на месте нельзя, заставлять Арне ждать — тоже. Промахнуться, упасть, чтобы они вылавливали меня, мокрого насквозь, из реки, с испорченными часами, полным воды фотоаппаратом, промокшей в рюкзаке едой — и не только моей едой!.. Я не могу больше стоять и не могу никуда идти. Какие неприятности я создам всем остальным, если доберусь до другого берега полуутопленником. Для того, чтобы меня высмеивать, они слишком вежливы, так что этого я не боюсь.
Я вообще ничего не боюсь. Нечего бояться тому, у кого нет выбора, кому остаётся сделать одну-единственную вещь, и как раз ту, на которую он неспособен! Я бросаюсь вперёд, хватаю руку Арне, промахиваюсь, всем телом падаю на камень, лицо ободрано, вода до пояса, лодыжки разбиты. Я прыгаю. Как будто мимолётно здороваюсь с Арне за руку. Правая нога на камне, резиновая подошва не проскальзывает ни на миллиметр, левая нога подтягивается, я выпрямляю спину и встаю рядом с Арне, как будто на пьедестале, среди ревущей воды. Он наклоняется, зачёрпывает воду в свой стаканчик, даёт мне попить.
— Я возьму у тебя фотоаппарат и планшет.
— Зачем? Они не тяжёлые.
— Так будет лучше. Если вдруг ты поскользнёшься, они останутся сухими.
Он снимает ремни с моей шеи и просовывает в них свою собственную голову. После чего делает большой шаг, ставит ногу на другой камень, а его другая нога этого камня даже не касается и уже тянется к следующему. Я следую его примеру, не успев осознать, что я делаю. Семь огромных шагов, внизу бешено бурлит река, вся в белой пене.
И вот я уже стою рядом с Арне на другом берегу. Он берёт фотоаппарат и планшет за ремни и вешает их мне на шею, как ордена.
21
Когда, часов в пять, я прихожу домой, и, ожидая, пока Ева приготовит чай, не могу найти себе никакого другого занятия, я часто достаю из шкафа, где до сих пор стоят книги моего отца, большой «Юбилейный сборник в честь профессора Маллинкродта, составленный его учениками». Он всегда открывается на одном и том же месте — там, где помещена большая вклейка вдвое шире книги.
Это фотография участников Ботанического Конгресса в Лозанне, в июле 1947 года.
Они стоят в пять рядов. Первый ряд, в нём в основном женщины, сидит, второй стоит, головы людей из третьего, четвёртого, пятого рядов возвышаются друг над другом, но как этого удалось добиться, не видно. Наверное, они стоят на стульях.
Мой отец — в последнем ряду, почти в центре, он один из немногих участников, которые не смотрят в объектив. Его лицо видно в три четверти, как будто он что-то говорит почтенному старому бородачу наискосок от него, или, может быть, скорее даже слушает этого человека. Какое заблуждение! Бородатый учёный (фон Карбински, Краков) вовсе с ним не разговаривает.
Откуда я знаю, что его фамилия — фон Карбински?
Это очень просто.
На соседней странице нарисована, очень схематически, эта же фотография. Собственно, это всего лишь шаблон, на котором видно, как располагаются головы участников. Каждая голова помечена номером в кружочке. Под шаблоном — список фамилий, тоже пронумерованных. Так что можно легко выяснить, как зовут этих людей и из какого университета каждый из них приехал. Вот так я и узнал, что человек наискосок от моего отца — это фон Карбински из Кракова.
Но есть и два непронумерованных участника, и фамилий их поэтому тоже нет в списке. Один из них — это девушка, крайняя слева в дамском ряду. Наверное, секретарша, случайно оказавшаяся рядом, когда снимали фотографию. Но второй — это мой отец. Видимо, он был ещё недостаточно известен, когда знаменитый профессор Маллинкродт взял его с собой на конгресс в Лозанне.
Через сто, через триста лет, когда ни моей матери, ни меня самого, ни моей сестры уже не будет в живых, каждый, кому это зачем-то понадобится, сможет посмотреть в «Юбилейном сборнике», кто же побывал на этом конгрессе в Лозанне в июле 1947 года. Фон Карбински из Кракова, Шталь из Гёттингена, Пеллетье (Лион), Джеймс (Оксфорд). Но скользнув взглядом по лицу моего отца, читатели останутся в недоумении.
Моя мать, Ева и я — единственные обладатели этой книги, которые знают, кто он такой. Один из самых молодых людей на фотографии, с высоким вихром чёрных волос, без очков, без стариковского воротничка с загнутыми кончиками, нет, одет так, что и сейчас почти не выглядит старомодным.
Альфред Первый. Моего деда звали Пауль, моего прадеда Юриаан, но самый знаменитый из моих предков — это Хендрик, лютеранский проповедник из Пюрмеренда, автор книги «Парнасское Хранилище, или Собрание Неподражаемых Стихов», изданной в 1735 году. Теперь она совершенно позабыта. Даже у нас нет ни одного экземпляра.
— Альфред Первый, — бормочу я и ставлю книгу обратно на полку. Обычно после этого я смотрю на себя в зеркало. — Трагически погиб в молодости. Так и не успев проявить свой талант в полной мере.
Странно, что я повторяю эти действия по нескольку раз в неделю, теперь уже много лет: в ожидании чая открываю книгу, смотрю на фотографию отца, убеждаюсь, что его нет в списке, говорю: «Альфред Первый…», и так далее.
Но в том, что я именно сейчас об этом вспомнил, ничего странного как раз нет. Может быть, Арне и Квигстад когда-нибудь прославятся (Миккельсен для этого, по-моему, слишком туп). Какая-нибудь из тех фотографий, что мы сделали в Скуганварре, попадёт в книгу, и под ней подпишут дату и фамилии. И моя фамилия тоже должна там быть. Непременно должна.
22
Уже довольно долго мы идём вдоль реки, то есть, по ровной местности. Я имею в виду — не по горам. Но наш путь постоянно преграждают другие реки, и после каждой снова начинается мучительный подъём. Так равнину сменяют склоны, камни сменяют мох, торфяные болота — каменистую местность, и обратно. Трудный путь становится легче, потом опять труднее. Мой предок, лютеранский пастор, сказал бы наоборот. Больше всего я боюсь рек — сколько их ещё осталось? Восемь? Девять? Но и они не все одинаково глубоки.
Трудный путь становится ещё труднее, но всё же только до известного предела. Поднимаясь вверх, оказываешься всё выше; крутой склон может стать ещё круче, но потом обязательно выполаживается.
На голой земле лежат камни, ни один из них не заслуживает пристального изучения. Местами попадаются островки растений с маленькими розовыми цветами. Я ничего не знаю о растениях и с трудом отличаю чернику от вереска. Изо всех диких цветов я узнаю только бело-желтые Dryas Octopetala, потому что в их честь называется геологический период.
Если бы я лучше разбирался в ботанике, мне было бы чем заняться до тех пор, пока не попадутся хоть сколь-нибудь интересные камни. Но растения меня никогда особенно не интересовали. Может быть, я боялся их, потому что мой отец лишился из-за них жизни. «Жертва науки» — в торжественные моменты моя мать редко называет его по-другому.
Сейчас со всех сторон нас окружают горы. Как будто мы идём по дну огромной тарелки, накрытой, но не до конца, крышкой из чёрных облаков. Крышка уже наполовину соскользнула, и в образовавшуюся щель видно латунно-жёлтое солнце.
Арне всё ещё идёт рядом со мной. Он спрашивает:
— Ты не голоден?
— А ты?
— Я — ужасно, и совсем замёрз. Когда мы остановимся отдохнуть, надо будет что-нибудь поесть.
На следующей остановке мы съедаем по галете и по пригоршне изюма.
Спуститься вниз, зачерпнуть воды, выпить четыре кружки подряд, пот почти замерзает на коже. Болото, потом ивовый стланик, потом карликовые берёзы. Земля больше не хлюпает под ногами. Мне так не хватает воздуха, что стоит больших усилий хотя бы на секунду закрыть рот и попытаться набрать слюны, чтобы чуть-чуть увлажнить слизистые оболочки.
Я устало просовываю правую руку под сетку накомарника, чтобы вытереть пот со лба. Испарения мази от комаров разъедают мне глаза. А может быть, я, вопреки всем категорическим предписаниям, всё же натёр мазью слизистые оболочки.
Земля становится ещё твёрже, карликовые берёзы пропадают, остаются только камни. Даже между камнями земля неровная. Измученные мускулы — словно железные оковы вокруг моих щиколоток, а рюкзак так тяжёл, что мне кажется, будто я тяну телегу, полную мешков с мукой.
Этот подъём очень длинный. Длиннее, чем предыдущий? Арне уходит вперёд, первым выходит наверх, останавливается, опираясь на скалу. Силач и Миккельсен прислоняются к той же скале. Квигстад идёт прямо передо мной и находит другую скалу подходящего размера. Я подхожу к нему. Он предлагает мне сигарету. Я поднимаю с лица сетку, чтобы закурить. Меня тут же атакуют комары. Когда сигарета разгорается, я опускаю сетку обратно и держу её как можно дальше от лица, чтобы не прожечь дыру. Дым зависает под сеткой, и я закашливаюсь. У меня звенит в ушах, и сердце, кажется, впервые в жизни стучит в груди с такой ужасной силой. Как будто моя грудная клетка сделана из листового железа, и в ней стоит заведённый на полную мощность мотор, который безжалостно заставляет жить моё тело.
Квигстад говорит что-то такое, чего я не могу разобрать.
— Что, что?
Теперь он почти ревёт:
— Анна Белла Грей! Женщина изумительной красоты, с двумя головами и тремя сиськами!
«К чему это ты?» — но это какой-то глупый вопрос. Можно и промолчать.
— Я видел её голой, на фотографии! — кричит Квигстад. — Невероятно! Ниже пояса совершенно нормальная. Ты понимаешь, какие открываются возможности? Одна сиська у тебя во рту, и ещё по одной в каждой руке! И это ещё далеко не всё. Как она, с двумя головами, то есть, с двумя ртами… ох, лучше об этом не думать!
Тишина. Приглушив голос, он продолжает:
— Впрочем, я могу только с негритянками.
— Как так?
— С тех пор, как съездил в Америку. Достаточно один раз попробовать, и дальше это на всю жизнь. Ну, примерно как тигр, отведавший человеческого мяса.
— А что, это правда то же самое?
— Думаю, да. Это мой врождённый пуританизм. Психиатры объясняют, что всё оттого, что негритянка никак не могла бы быть моей матерью. Понимаешь, ты воображаешь, что предпочитаешь негритянок потому, что чёрная кожа качественнее белой, мягче, эластичнее, ни прыщей, ни гнойников, ни красных пятен от раздражения, ни волос там, где их не должно быть. И правда, кожа специально для голых людей, да? Но подсознательно ты отождествляешь каждую белую женщину со своей матерью, а с матерью ты не можешь, ровно потому, что вначале только с ней и хотел.
Он выпускает дым.
— Мне кажется, психиатры всё слишком усложняют. На мой взгляд, дело в том, что я родился и вырос в Норвегии, где нет негритянок. Так что в детстве я никогда не думал о негритянках, когда другие маленькие мальчики рассказывали мне всякие зловещие истории про то, что означает слово «трахаться».
Он бросает окурок на землю, растирает его каблуком до тех пор, пока от окурка ничего не остаётся, и идёт дальше, не говоря больше ни слова. Я падаю вперёд, и моё падение поднимает рюкзак с камня. Шатаюсь, делая первые шаги. Рот пересох, и уже больше ничего не помогает его увлажнить. Насыщенный солью пот стекает по крыльям носа и обжигает растрескавшиеся губы. Эней бежал из Трои в Рим со своим отцом на спине.
Внизу проходит граница тени, отбрасываемой Ваддасгайссой. Сейчас половина четвёртого, и, покидая тень, я чувствую, что солнце греет сильнее, чем несколько часов назад, когда мы подошли к горам. Я останавливаюсь у ручейка, жадно поглощаю три кружки воды. Где мы теперь?
Миккельсена больше не видно. Он уже на следующем, меньшем холме. Арне тоже исчезает. Даже Квигстад уходит всё дальше вперёд. Но я догоню их. Не так уж медленно я иду. Квигстад уже спускается с холма, но ещё не окончательно за ним скрылся. Вот он опять ближе. Ещё шаг, ещё два, и я увижу его с головы до ног. Арне я тоже вижу снова, он далеко впереди, поднимается на следующий холм. А Миккельсен? И Миккельсен тоже. Просто его на какое-то время закрыл от моих глаз большой камень. Нет только силача, где же он?
23
Силач опустился на четвереньки и раздувает огонь. Он соорудил очаг из камней и поставил на него сковородку. Костёр потрескивает; больше не слышно ни звука. Арне, Квигстад и Миккельсен сидят рядом у огня. Широкий столб дыма медленно течёт в мою сторону. Им, должно быть, кажется, что я возникаю из тумана. Когда я подхожу так близко, что слышу их голоса, я понимаю, что они говорят по-норвежски.
Я снимаю рюкзак и ложусь на живот рядом с Арне.
— Что, мы уже пришли?
— Пока нет, но мы довольно близко.
Я вытаскиваю из-под себя планшет. Арне показывает на карте, где мы находимся, прежде, чем я успеваю об этом задуматься. От озера Ливнас-явре эту точку отделяют четыре сантиметра. Четыре километра.
Мы едим яичницу с хлебом и вдоволь напиваемся кофе. Разговор идёт в основном по-норвежски, из-за силача. Мне больше ничего не нужно делать, я могу отдохнуть. Силач гасит огонь, моет сковородку, убирает обратно в рюкзак всё, что нам потребовалось достать, приносит воды. Если бы только он мог остаться с нами! Еды не хватит? Но ведь шерпы тоже едят. Или они питаются мхом и камнями? Надо как-нибудь спросить у Бранделя. Впрочем, глупости, всё очень просто. Там же сотня шерпов на четверых сахибов. Двадцать пять шерпов легко унесут всё, что может понадобиться им самим, плюс багаж сахиба. А на нас четверых одного силача, пусть даже очень сильного, мало.
Я сбегаю вниз, к очередной речке. Сознание того, что я уже прошёл не один час с этим тяжёлым рюкзаком, — а никогда раньше мне не приходилось таскать таких тяжестей, — переполняет меня уверенностью в себе. Мне просто чуть-чуть не хватает опыта, а сил у меня достаточно. Конечно, я устал, но эта усталость — как головная боль, эта напасть пройдёт, она не имеет никакого отношения к нехватке энергии.
Речка, к которой я теперь подхожу, течёт довольно быстро, но она совсем не широкая. И в ней полно больших камней. Весь секрет в том, чтобы не останавливаться на берегу. Не оглядываться боязливо по сторонам, выискивая, какой же камень ближе всего, а просто идти дальше, шагать, прыгать, не задумываться, представить себе, что просто бежишь по лестнице.
Раз… Два… Не смотреть на воду, смотреть только на тот камень, куда хочешь шагнуть, и всё получится само собой…
О! Проклятье! Проклятье!
Правая нога на камне, а левая на дне! Мои штаны едва не рвутся. Холодная вода подступает к животу. Арне оглядывается назад, возвращается ко мне. Квигстад, Миккельсен и силач идут дальше, слава богу, они слишком далеко и не видят, что случилось.
— It's nothing! It's nothing! — кричу я Арне. Я переношу вес на правую ногу, пытаюсь подтянуться, нога соскальзывает с камня, и я падаю на него на коленях.
Вроде всё обошлось… Торопливо шлёпая, я выхожу на другой берег.
— Рюкзак не промок. Ничего страшного, правда ничего!
— Нет, дальше тебе так идти нельзя. Нужно надеть сухие носки, иначе сотрёшь ноги.
Арне снимает рюкзак и достаёт оттуда серый шар — пару носков, свёрнутых вместе. Я послушно сажусь, развязываю ботинки. Ногти ломаются о мокрые шнурки. По ногам течёт кровь. Я закатываю штаны, вытираю колени носовым платком. Обычные ссадины; но боль отдаётся во всём теле, до костей.
Арне даёт мне ещё один платок. Нельзя отказываться от помощи, иначе я задержу их ещё больше. Глупо с ним спорить, ведь я здесь чужой и мне всё здесь непривычно.
— Извини, — бормочу я по-английски, — я ужасно неповоротливый, и всегда такой был. Я очень стараюсь держаться как следует, но иногда не получается. Извини.
24
Горы с плоскими вершинами, ломаные линии крутых склонов похожи на колоссально увеличенные осколки посуды. Наверное, так представляется муравью битая плитка, пока он вдоль неё ползёт. Вот так и я вижу горы; но теперь я поднимаю голову только на пару секунд, только чтобы посмотреть, куда идут другие. Только сопротивление лопаток мешает моим плечам с хлопком сойтись сзади под тяжестью рюкзака. Если бы ремни вдруг соскользнули с моих рук… свобода… бессмысленные фантазии. Вдоль ремней тянутся большие тёмные пятна пота, вся одежда промокла насквозь. Вот это — реальность. Как будто давление рюкзака выжимает влагу из моего тела.
Устал ли я? Мне всё равно. Хотелось бы мне остановиться и никуда больше не идти? Об этом я даже не думаю. Я думаю о жутком несоответствии между требующимися от меня физическими усилиями и собственно научной работой. Наверное, меня можно сравнить с изобретателем электрического двигателя. Сто пятьдесят лет назад. В те времена не было изолированной проволоки, её нельзя было, как сейчас, купить в любом магазине. Так что изобретателю пришлось порвать на куски шёлковое свадебное платье своей жены, чтобы потом оборачивать ими проволоку. Он не мог купить шёлк, он был для этого слишком беден. Месяцами он занимался одной из самых дурацких вещей, которые только можно себе представить: обматывал тонкие проводки полосками шёлка. Само же открытие, по сравнению с этой подготовкой, длилось меньше, чем вспышка молнии.
Ах! Никогда раньше, ни разу за все мои студенческие годы, не приходилось мне проделать столько работы, от которой потом не останется и следа. В моей диссертации не будет ни слова про стёртые плечи, разбитые колени, про головную боль, комаров и плотоядных мух. Я вообще не должен ни задумываться об этом, ни тем более обсуждать это с кем бы то ни было. Это, и всё, что может ещё случиться… perhaps.
Я думаю о тысячах ученых, которые, так же, как и я, не задумывались и ни с кем не говорили об «этом»: о кредиторах, о голоде, об ожогах, о долгих безрезультатных путешествиях, о препятствиях, о предательствах. Поддавшись неуправляемой игре воображения, я представляю себе самый страшный из всех возможных исходов: что всё это окажется совершенно бесполезным. Сколько огромных валунов лежит на дрентской пустоши. Может быть, наши предки годами ворочали и сдвигали их, каждый день на полметра. Годами, каждый день, и ночью они спали у своих валунов.
Лошадей они не знали. Понадеемся, что они умели использовать брёвна как рычаги. Первобытный человек старел быстро, гораздо быстрее, чем мы. В тридцать лет он был уже седым стариком. Потом он заболевал и не мог больше трудиться так тяжело. А камень всё ещё лежал недостаточно близко к двум-трём другим большим камням. Недостаточно близко для того, чтобы мы, потомки, сказали, проходя мимо: «Смотри-ка! Дольмен!»
Какой-то человек истратил свою жизнь на то, чтобы двигать этот валун — ничем не отличающийся для нас от других — по степи. И об этом невозможно догадаться. Это просто большой камень, какие время от времени встречаются на пустоши. Им не заинтересуется ни один палеоантрополог. А впрочем… и не только над этим можно разрыдаться от жалости: ведь даже про тех, кому повезло больше, про тех, кто успел сложить дольмен, мы не знаем ничего, даже имён. Никто никогда не узнает, как звали этих людей. И даже если через тысячу лет сделают какое-нибудь открытие, которое позволит восстановить имена, я умру, так и не узнав об этом. Так же, как умер Кристиаан Гюйгенс, не подозревая, что когда-нибудь из Гааги можно будет наблюдать, как повстанцы и солдаты расстреливают друг друга на Сан-Доминго. Так же, как Юлий Цезарь не знал о существовании Америки. Ацтеки каждый вечер приносили человеческие жертвы, потому что боялись, что иначе на следующее утро не взойдёт солнце. Они делали так всегда, с незапамятных времён, так же привычно, как мы по вечерам заводим будильник. И никто не осмелился проверить, что случится, если однажды пренебречь этим ритуалом и посмотреть, в самом ли деле солнце больше не взойдёт.
Жил ли когда-нибудь такой ацтек, который сказал бы:
— Но ведь то, что здесь происходит — это безумие!
И кто осмелится поверить, что в мире, где столько жертв приносят совершенно попусту, возможно ещё хоть чем-нибудь пожертвовать не зря?
Я заметил камешек, который чем-то непохож на остальные. Я наклоняюсь. Рюкзак с хлюпаньем опрокидывается вперёд. Чтобы удержать равновесие, мне приходится выбросить вперёд левую руку. Я подбираю камешек.
Он нисколько не тяжелее, чем любой другой. Просто кусок гнейсса, какие тут валяются миллионами. Только потому, что я не поленился его поднять, я засовываю его к себе в карман.
По склону, по которому я сейчас спускаюсь, стелется лёгкий туман, как будто его подножие кипит. Внизу, в глубине, под слоем тумана поблёскивает вода. Это — озеро, крупнее, чем другие озёра: Ливнас-явре!
Арне идёт далеко впереди. Где он остановится, где сбросит свой рюкзак?
Я смотрю на часы: четыре.
В половине шестого Арне останавливается на небольшом плоском возвышении, почти у самой воды, и снимает рюкзак. Силач подходит к Арне и тоже кладёт на землю рюкзак и треножник. Но Квигстад с Миккельсеном стоят друг напротив друга и спокойно болтают, заложив большие пальцы за лямки рюкзаков. Они никуда не торопятся; разумеется, они вовсе не выдохлись.
Они всё ещё стоят так, когда подхожу и я, минут через пятнадцать. Я медленно стаскиваю ремень с плеча, осторожно сваливаю рюкзак на землю. Квигстад достаёт пачку сигарет. Он прерывает свой разговор с Миккельсеном, предлагает мне сигарету и сообщает:
— Черви с одинаковым удовольствием пожирают труп гиены и труп райской птицы. Ты когда-нибудь об этом задумывался? Миккельсен — нет.
Он отходит в сторону, угостить сигаретой силача. Арне говорит, по-английски:
— Пятидесяти крон достаточно.
Мы достаём кошельки и скидываемся. Миккельсен уже распаковал рюкзак силача. Мы оставляем ему банку сардин и пачку галет на дорогу, он пожимает всем нам руки, и, не присев и на минуту, уходит обратно тем же путём.
— He was very stong man indeed, — говорит Миккельсен.
Все мы приходим в состояние странного оживления, словно солнце, которое теперь снова появилось из-за облаков и стоит уже высоко, беспощадно навязывает нам свой ритм, не заботясь о том, спали мы или нет. Я чувствую себя таким бодрым, как будто только что встал. Арне просит меня вытащить сеть из рюкзака.
Все вчетвером мы идём с сетью к берегу озера. Она должна повиснуть в воде, как занавеска, чтобы рыбы застревали плавниками в ячейках.
Поднимается небольшой ветер. Мы разворачиваем сеть, но из-за ветра она запутывается в растущих вдоль берега кустах. Хорошо, что нас четверо: один человек ни за что не смог бы снять все эти тонкие, как паутина, нейлоновые нити с гнущихся на ветру веток.
Почти так же трудно раздобыть сухих дров для костра. Ивовый стланик слишком сырой, а карликовые берёзы слишком жёсткие. Здесь растёт ещё какой-то смолистый кустарник, который горит вполне хорошо, но его мало, и ходить искать его приходится далеко. Огонь то и дело гаснет, несмотря на то, что мы по очереди ложимся на землю и раздуваем его.
— Лопари, — говорит Арне, — носят за пазухой бересту, разжигать костёр.
Плеснув керосина, Квигстад кладёт конец нашим страданиям и единению с природой. Мы варим кофе в чайнике и едим большие куски хлеба с мясными консервами. Консервы называются «Lördagsrull». Марки «Викинг». Надо же.
Я медленно жую, и мой взгляд скользит по окрестностям. На другом берегу стоит одинокая гора, остроконечная, как сахарная голова. Такими представляют себе горы те люди, что никогда не видели гор. Такие горы рисуют голландские дети. Она называется «Vuorje» (произносится — «Вурье»). Низкое солнце окрасило её верх кармином, и у её тёмного подножия видно большое снежное пятно.
25
Квигстад и Миккельсен теперь лежат в своей светло-зелёной палатке с тентом. Огромный брезентовый сундук, передняя стенка — треугольник из москитной сетки. Внутрь не пробраться ни одному насекомому. Перед тем, как лечь спать, они перебили внутри всех комаров. Так что, пока они находятся в палатке, эта напасть им не страшна. Передышка в борьбе, не прекращающейся ни днём, ни ночью.
Не смыкая глаз, я лежу рядом с храпящим Арне. Интересно, удастся ли мне вообще когда-нибудь заснуть? Палатка Арне — в форме пирамиды, её подпирает длинная жердь. Однажды эта жердь уже ломалась: посередине она обмотана медной проволокой.
Дна у этой палатки нет совсем. Мы лежим на отдельном куске полиэтилена, который должен защищать наши спальники от влаги. Палатка грязно-белая, вся в заплатах, совсем как одежда Арне. Крепится к земле колышками, но только за углы. Для защиты от ветра мы положили на её края камни, но от комаров это не помогает. Они собираются в верхушке пирамиды, в которую я как раз смотрю, лёжа на спине. Небольшими группами они спускаются оттуда — пировать на наших лицах и руках.
Но так же нельзя! Ведь я свалюсь уже сегодня или завтра, если не буду спать по ночам!
Я отбрасываю спальник и сажусь. Тщательно намазываюсь ещё раз. Надеваю накомарник и застёгиваю сетку под подбородком. Потом забираюсь глубоко в спальник, застёгиваю молнию, руки тоже засовываю в спальник и стараюсь не шевелиться. Мои веки — как красные занавески перед глазами. Солнце стоит уже так высоко и светит так ярко, что на него невозможно смотреть даже через палатку.
Арне храпит. Фьелльо орудует своими ножницами. Другие птицы пищат, вопят, пролетают мимо, хлопая крыльями. Пот у меня на ногах собирается в крупные капли, я чувствую, как они стекают вниз, тело зудит. Высота жужжания комаров и мух то возрастает, то снова понижается в соответствии с эффектом Допплера. О, когда они приближаются, это очень хорошо заметно. За прошедший день я разработал весьма успешный метод их истребления: прихлопывал их на висках не глядя, просто на звук. Звуконаправленный смертельный удар. Но теперь я не могу их убивать, да ведь это должно быть и не нужно?.. ведь я полностью изолирован?.. Вот только этот укол в нос… Я открываю глаза. Сетку подпирает кончик носа, и на ней, прямо над моим правым глазом, сидит комар. Нет, мне вовсе не показалось, этот комар вполне мог ужалить меня через сетку. Подув, я добиваюсь того, что сетка поднимается и застывает сантиметра на два выше моего носа. Поскольку она всё-таки довольно жёсткая, она должна так и держаться. Если, конечно, я буду сохранять неподвижность.
Комар, ужаливший меня, отправляется наверх, похвастаться своим подвигом. Двадцать, тридцать братьев и сестёр спускаются посмотреть, в самом ли деле он говорит правду. Садятся. Во мгновение ока видят, что я вне досягаемости.
Мгновение ока! У меня в глазах начинаются спазмы оттого, что я пытаюсь рассмотреть всех этих комаров с такого малого расстояния. Я закрываю глаза и слушаю, что они обсуждают.
— Он всё наврал, — говорит один из них. — Он не ужалил, он просто понюхал.
— Ну да, так оно и есть, — подтверждает его старший брат. — Здесь обалденно вкусно пахнет.
— И это ты называешь — вкусно??
— Конечно, вкусно! Просто ты ещё маленький, поэтому тебе и не нравится запах людей, намазанных мазью от комаров. Ну, знаешь, как маленькие дети, которые не едят мяса с горчицей.
А мама авторитетно поясняет:
— Производители средств от комаров давно изменили свою политику. Теперь они выпускают такие мази, что люди от них становятся только аппетитнее.
Сколько ещё дурацких шуток могу я насочинять, лишь бы только не потерять чувство юмора, такое ценное в этом незавидном положении?
В конце концов, самые находчивые комары обнаруживают, что моя изоляция не герметична. Черпая опыт из мемуаров знаменитых спелеологов, они осторожно подползают, набираются смелости, невидимые в темноте, и проникают в спальник. Это уже невыносимо. Одним рывком расстегнув молнии, я снова сажусь. Из спальника вырывается облако горячего пара. Мои ноги — все в пятнах крови. Значит, это были не комары, а мухи. Но и комары, увидев, что я сделал, слетаются праздновать мою капитуляцию. Чтобы их отогнать, мне приходится непрерывно водить руками от ступней к пояснице.
Некоторые, кажется, принимают волосы у меня на ногах за чудесное, специально для них созданное укрытие. Ошибка, за которую их постигает страшная кара — громовой удар моей руки. Но что может сделать моя рука с сотней тысяч комаров? Столь же немногое, сколь и карающая десница Божия, вооружённая настоящим громом и настоящими молниями, — с грешниками: фашистами, коммунистами, капиталистами, христианами, исламистами, буддистами, анимистами, ку-клукс-кланом, неграми, евреями, арабскими беженцами, китайцами, японцами, русскими, немцами, голландцами-на-яве, американцами-во-вьетнаме, англичанами-в-ирландии, ирландцами-в-англии, фламандцами, валлонами, турками-и-греками, и вообще (никого не пропустил?..) со всеми, кто грешит.
Я зажигаю сигарету, выбираюсь из палатки. Ох, ох, мои ободранные колени.
Снаружи на кусте сушатся мои насквозь промокшие штаны. С трудом просовывая ноги в липнущие к ногам штанины, я надеваю штаны, и носки тоже. Одевшись, я ложусь на спальник. Руки защитить нечем. Ну и ладно.
Теперь нужно изо всех сил постараться заснуть. Сначала закрыть глаза, спокойно сложить руки на животе, расслабиться. Уже немного хочется спать. Да, кажется, я совсем сонный, я приоткрываю рот… это я зеваю? И в самом деле зеваю, потому что слезятся глаза. Как хорошо будет сейчас поспать, ага, вот теперь я зеваю по-настоящему, потому что рот открывается непроизвольно и надолго, и закрывается так же непроизвольно. Мне давно уже пора спать. Иначе как же я проведу свои гениальные исследования, те, что должны отомстить за смерть отца?.. Нужно заснуть, но как?.. Засыпать, в то время как солнце светит всё ярче, с чем это можно сравнить?.. Это как одеваться всё легче с наступлением зимы. Или как… проклятье! Храп Арне похож на звук, который издаёт медленно разламывающийся на рифе деревянный корабль, и, как будто этого недостаточно, моя рука начинает всё сильнее и сильнее зудеть. Я всё больше злюсь и раздражаюсь, и наконец открываю глаза и смотрю на руку. На ней пять шишек от укусов и три комара, их кольчатые тела изогнуты, как будто это скорпионы. Я прихлопываю их, отряхиваю с кожи влажные останки, снова сажусь, медленно и обстоятельно чешу руку.
Арне перестаёт храпеть. Я оглядываюсь на него. Он лежит с открытыми глазами.
— Может быть, на том свете нас за это строго накажут, — говорит он.
— Как будто нас уже здесь не наказывают достаточно. Что за мир, в котором миллиарды существ должны высасывать чужую кровь, чтобы выжить! Я хочу пить.
— Я тоже.
Он наполовину вылезает из спальника, достаёт фляжку и коробку с изюмом. Мы берём по горсти изюма, медленно жуём, запивая водой. Арне говорит:
— Мне нередко приходит в голову, что у людей совершенно неправильные представления об их месте в иерархии мироздания. Разве не сказано: «И первые будут последними»? Очень вероятно, что в загробном царстве нас встретит армия комаров — тамошнее начальство. А на высоком троне будет восседать могущественный владыка — вирус ящура со скипетром в руке.
Он на секунду задумывается, потом разражается смехом.
— Чёрт возьми, да я совсем как Квигстад. Если хочешь разобраться во всех подробностях, поговори с Квигстадом. Это настоящий метафизик. Он знает всё про потусторонний мир, про то, что будет через тысячу лет, про жизнь после ядерной войны и про зародышей в пробирках.
26
В вытянутой руке Квигстад держит ветку большим и указательным пальцами. Ветка, как отвес, строго вертикальна. На заострённый сучок в её нижней части насажена большая мёртвая рыба.
— Видел? Краснопузик!
— Подожди, постой!
Я достаю фотоаппарат и подношу его к глазам.
— Подними его чуть повыше!
В середине кадра, чётко: рыба, ветка и рука, которая держит ветку. Потом — голова Квигстада, она выйдет уже не так резко, но будет вполне узнаваема. Диафрагма откроется широко. На заднем плане будет расплывчато видна гора Вурье и чёрные облака в голубом небе.
— С бородой и в этой шляпе, ты похож на разбойника с большой дороги. В стране, где нет дорог.
Я сжимаю фотоаппарат в руках, как пастор — свой молитвеник, и подхожу к Квигстаду ещё на шаг.
— Это озёрная форель, — объясняет Квигстад, указывая на рыбу. — Краснопузик. Гораздо больше, чем другая, речная форель.
Я тоже хотел бы что-нибудь ему сказать, но мне ничего не приходит в голову. Квигстад из таких людей, у которых хочется спросить: «Что ты, собственно, обо мне думаешь?» (хотя кто же на самом деле задаст такой вопрос?), но тебе кажется, что он на это скажет: «Абсолютно ничего» (хотя кто же на самом деле так ответит?).
Подходит Миккельсен, и мы втроём идём обратно к палаткам. Миккельсен забирает у Квигстада ветку с рыбой и говорит:
— Неудивительно, что основатели великих религий, как правило, были рыбаками.
— А что так, почему? — спрашиваю я, просто любезности ради.
— Изо всего того, что происходит на Земле, жизнь под водой лучше всего скрыта от наших глаз. В подводном мире мы не хозяева. Поэтому подводный мир — это самый яркий символ потустороннего. Небо отражается в воде. Изо всех людей рыбак знаком с миром воды лучше всего. Он вылавливает оттуда неведомых существ, он погружается туда, когда терпит кораблекрушение. Поэтому все великие пророки — рыбаки.
— И пропойцы, — говорит Квигстад. — Когда будешь писать исторический трактат, не забудь об этом упомянуть.
Вернувшись к палаткам, он садится на землю и начинает чистить рыбу огромным ножом, таким же большим, какие носят лопари. Арне сворачивает сеть, Миккельсен варит кашу на примусе, а мне опять нечего делать. Наверное, лучше и вовсе не пытаться им помогать — слишком велик риск оказать в конце концов медвежью услугу. Они уже десятки раз ходили в такие походы и точно знают, как нужно всё делать, в любом случае, знают, как они хотят всё это делать. Если я буду навязываться с помощью, они из вежливости не смогут отказаться, но про себя подумают: «Сколько времени теряешь с ним на всякие объяснения, и всё равно я справился бы гораздо быстрее, потому что он-то в этом деле совсем новичок».
Хорошо ещё, что они ни словом не упоминают о моих вчерашних ножных ваннах. Впрочем, у них нет никакого права жаловаться. Я никого не задержал. Рюкзак я не промочил, а о боли в коленях даже не заикаюсь. Чтобы всё же хоть чем-то заняться, я иду к палатке Арне и достаю из рюкзака блокнот. Я перечитываю свои вчерашние записи, кое-что добавляю. Собственно, никаких наблюдений, из которых могла бы вырасти новая теория, я пока не сделал, и ничего, что могло бы свидетельствовать в пользу смелой гипотезы Сиббеле, тоже не видел. Я чувствую слабость в желудке — это просто от голода?.. От запаха керосина, пригоревшей каши и жареной рыбы?.. Между делом я думаю о том, где, собственно, проходит грань между научной работой и всем остальным. Если ты ищешь нечто, чего ещё никто не обнаружил, но в конце концов и сам ничего не находишь — можно ли назвать это научными занятиями, или это всего лишь невезение? А может быть, отсутствие таланта? Мною снова овладевает зловещий страх: что, если я вернусь домой ни с чем? Всего лишь с парой плёнок красивых фотографий, которые приятно посмотреть в кругу семьи? И без каких-либо результатов? Без того, что могло бы произвести впечатление на Сиббеле или Нуммедала.
— Breakfast ready! — кричит Миккельсен.
Я возвращаюсь к остальным.
Всё отчётливее я понимаю, что Квигстад постоянно подшучивает над Миккельсеном.
Я ни разу ещё не видел, как Миккельсен смеётся, к тому же у него совершенно неподходящее для этого лицо. Его желеобразное тело с трудом удерживается в своей серовато-белой, поросшей жёлтым пушком оболочке. Руки толстые и дряблые, как у арфиста. Удивительно, что он так хорошо со всем справляется; и если бы не его сапоги, не старая шляпа без полей, которую он никогда не снимает, не его грязная клетчатая рубашка, в это было бы вообще невозможно поверить. А он может поднять любую тяжесть, и без труда делает самые опасные прыжки.
На террасе кафе, прилично одетый (голубой пиджак, фланелевые брюки), он выглядел бы в точности как любимый маменькин сынок, сладкоежка, тратящий б'ольшую часть своих карманных денег на цветочки для мамы. Парень, которого уже на третий день службы в армии вся рота называет «Жирный»… пока он, конечно, не изобьёт кого-нибудь до полусмерти. Нет ни малейшего сомнения в том, что он может это сделать тихо и спокойно, так, что ни один мускул не дрогнет на его вялом лице.
Квигстад, разумеется, не говорит ничего такого, что могло бы побудить Миккельсена показать, на что тот способен. Но когда что-нибудь рассказывает Миккельсен (а это бывает очень редко), Квигстад непременно начинает с ним спорить.
— И всё-таки, — говорит сейчас Миккельсен, — никто не сможет опровергнуть существование бога, создавшего мир.
— Количество утверждений, которые никто не может опровергнуть, бесконечно, — констатирует Квигстад. — Как количество способов, которыми нельзя расщепить атом. Это ни о чём не говорит.
Я ем рыбу грязной вилкой с грязной тарелки. Рыба так восхитительно вкусна, что я готов произнести в честь неё целую речь. В первый раз в жизни я понимаю тех философов, что стремятся назад к природе! Я счастлив. Вкус рыбы так благороден, и она такая свежая, какой не раздобыть ни в одном городе мира ни за какие деньги. Кроме сети, в которую она попалась, спичек, которыми разожгли костёр, сковородки и маргарина, эта рыба не имеет ничего общего с цивилизацией. Теперь я понимаю, почему негры и индейцы никогда не ломали голову над тем, как бы изобрести холодильник или миксер, и не могу больше смеяться над кающимися проповедниками, которые считают цивилизацию коллективным безумием. Нет ли поблизости какого-нибудь лопаря? Я с радостью бросился бы ему на шею. Я понял, насколько он богаче нас.
— И всё же, — запинаясь, говорит Миккельсен на ломаном английском, — всё же вселенную, должно быть, создал бог, потому что все народы верили во что-то подобное.
— И что это доказывает?
— Что люди не могут оставить это без объяснения.
— Да ладно тебе. Это доказывает только то, что люди довольствуются такими объяснениями, которые ничего не объясняют.
Арне дёргает меня за рукав и говорит:
— Слушай, слушай. Великий Квигстад оседлал своего любимого конька!
— Смотри, приятель, — продолжает Квигстад. — Вот, например, один важный вопрос, которого для всех этих богов как бы и не существует: это сырьё. Возьми Эдду, или всё, что угодно. Снорре Стурлусон рассказывает, что вначале были созданы Нифльхейм и Муспелхейм. Из чего? В Эдде не написано, и не надейся узнать это у Снорре. Между Нифльхеймом и Муспелхеймом зияла гигантская пропасть Гиннунгагап, где холодные потоки из Нифльхейма обращались в лёд. Из Муспелхейма на лёд сыпались искры, и так, от совокупления огня и льда, произошёл двуполый великан Имир.
Я отлично всё это себе представляю, нет проблем. Но откуда всё это взялось — об этом Эдда умалчивает. Имир заснул и вспотел во сне. Так из его левой подмышки возникли мужчина и женщина.
— Дальше всё понятно, — говорю я. — Как только появляются мужчина и женщина, о дальнейшем развитии событий каждый может догадаться сам.
— Это тебе только так кажется. Одна нога Имира совокупилась с другой, и появился Бор. Бор, ну, знаешь, тот, что зачал с великаншей Бестлой трёх сыновей: Одина, Вили и Ве.
— И всё-таки, — говорит Миккельсен, — все эти абсурдные легенды нисколько не мешают нам предположить, что существует бог, который создал вселенную. Бог — великий математик, так сказал сам Эйнштейн.
— Эйнштейн сказал — математик, а Снорре Стурлусон сказал — потные ноги. Это только показывает, что каждый говорит о том, в чём разбирается сам. А на то, чтобы объяснить происхождение сырья, ещё не отважился даже самый безумный дервиш. Они умеют только рассказывать, что тот или иной бог из этого сырья сделал.
— Иногда эти предания не такие уж и фантастические, — замечает Арне. — Назови Нифльхеймом Скандинавию, восемь тысяч лет назад, а Муспелхеймом — Средиземноморье, с Везувием, с Этной. Может быть, легенды распространялись оттуда на север. С такой точки зрения, мифология не так уж сильно отличается от геологии.
— Слышишь, Миккельсен, важное наблюдение! — говорит Квигстад. — Всем сказкам этих твоих народов можно найти разумное объяснение, если постараться.
— Я же говорю не про семьсот лет назад, когда Снорре Стурлусон всё это записал, и даже не про восемь тысяч лет назад. Я говорю про самое начало. Ничего не мешает мне предположить, что вначале был бог.
— Да зачем тебе бог? Зачем усложнять картину существом, которого никто никогда не видел? «Бог» — это ничего не значащее слово.
— Оно значит: тот, кто всё создал.
— Да брось! Гораздо проще предположить, что всё создал человек, хотя бы потому, что мы точно знаем, что это такое. Конечно, тогда по-прежнему непонятно, кто же создал человека, но какая, в сущности, разница — ведь кто создал бога, не знают даже самые знаменитые теологи. Так что будет проще и честнее вообще не упоминать о боге и считать, что всё сделано людьми. А за доказательствами дело не станет. И даже сейчас уже есть веские подтверждения этой гипотезы. В самом деле: в любой мифологии говорится о начале и о конце. С одной стороны — творение. А с другой — тотальная гибель: Рагнарёк, Сумерки Богов, Апокалипсис. Конец света мы уже вполне способны устроить своими силами. Ну, а почему бы тогда и не творение?
Эйнштейн, с его богом — учителем математики! Ты только представь себе. Бог как всеведущий математик, физик, химик, биолог! Почему-то почти никто не замечает, какие жуткие напрашиваются выводы. Подумай только, чт'о это должен быть за бог.
Смотри: в один прекрасный день он, совсем как школьный учитель, придумал определённое количество довольно трудных задач. Все эти тайны Вселенной. Во Вселенную он поместил существо, называемое человеком, которое абсолютно ничего не знало. Потом бог сел за свой учительский стол и стал наблюдать за тем, что делают ученики.
И что же? Вместо того, чтобы корпеть над домашними заданиями, они спят друг с другом, не зная, что от этого рождаются дети, убивают друг друга, поедают друг друга. Проходят тысячи лет прежде, чем они придумывают язык, потом ещё тысячи лет до того, как появляется письменность. В расстроенных чувствах бог быстренько публикует книгу, состоящую из неправильных решений. Он спокойно наблюдает, как целое поколение в страшных муках умирает от болезней, против которых следующее поколение находит лекарство. Эфир был известен уже лет за триста до того, как кто-то изобрёл наркоз. Бог позабыл открыть это в Библии. А между тем был ещё такой обычай: когда кто-нибудь терял ногу в сражении, оставшийся обрубок крестили в котле с кипящим маслом. Бог безразлично вдыхал ароматы.
Улыбаясь, он позволяет заживо спалить, как ведьм, пару миллионов старушек. Холера, тиф и чума опустошают целые города, пока люди не изобретают микроскоп, позволяющий обнаружить возбудителей этих болезней. В общем, человек — это, как сказал один немец, «der Ewig Betrogene des Universums». Я просто в восторге от этого выражения. Не проходит ни дня, чтобы я о нём не вспомнил.
На выпускных экзаменах в школе творца проваливаются даже самые способные ученики. Бог ставит исключительно единицы. Ну, и что же нам делать с подобным представлением о боге? Разумнее всего сказать, что такой бог нам не нужен. Может быть, для дикарей, считавших, что в мире ничего не меняется, бог что-то и означал. Но мы, постоянно преображающие мир, каждым новым открытием доказываем, что и сами могли бы создать Вселенную. Солнце — это большая термоядерная реакция, а мозг — миниатюрный компьютер. Что из этого рано или поздно последует? Вывод, что это мы создали мир.
— Странно только, что от этих творцов не осталось автобиографий, — говорит Миккельсен.
— Даже если исторически это и не так, всё равно мы когда-нибудь сможем это доказать. Динозавры тоже не писали автобиографий, но затем и нужны геологи, чтобы узнать, как они жили. Очень возможно, что были какие-нибудь древние расы людей, которые зашли по пути технического прогресса гораздо дальше, чем мы, — но наши потомки через пару миллионов лет наверняка их догонят. Подумай только: камни, живые организмы, солнце — всё это сделано людьми, в гигантских лабораториях!
— Ну и откуда же взялись эти лаборатории?
— Я знаю, что всё это непросто доказать; но ещё труднее доказать, что это не так. Смотри сам: времени полно. Я даже не пытаюсь сказать, что это произошло миллиарды лет назад; пусть миллиард в миллиардной степени лет назад! Сколь угодно давно. Невозможно представить себе, чтобы время когда-то началось. Всё, что об этом говорят — ерунда. Если есть бесконечно большие числа, то время тоже должно быть бесконечно. Так что могло случиться всё, что угодно; и когда я говорю «всё, что угодно», я в точности это и подразумеваю! То, что я тебе только что рассказывал — про древних людей, про их лаборатории — это сущие пустяки по сравнению с тем, что ещё могло случиться, и о чём мы пока даже не догадываемся.
Миккельсен говорит:
— Тебя послушать, так на других планетах и даже в других галактиках тоже есть люди.
— А почему бы и нет?
— Если там есть люди, или были люди, то у них, может быть, гораздо более развита космонавтика, чем у нас.
— Ну да, и что?
— Просто странно, что ни в каких геологических отложениях старше третичных никогда не находили никаких следов деятельности человека — ни топоров, ни наконечников от стрел, не говоря уж о ракетных моторах или, скажем, бортовом передатчике с летающей тарелки.
— Ты что же, не слушаешь? Я же тебе объясняю, что всё сделано людьми: радиолярии, брахиоподы, археоптерикс, древовидные папоротники, всё, понимаешь?
— Но они слишком уж похожи на современные живые организмы, про которые мы точно знаем, что мы их не сами сделали.
Квигстад подбирает под себя ноги, вытягивает руки вперёд и встаёт.
— У ребёнка сиамских близнецов, — говорит он, — два пупка. Ты в курсе?
Мы с Арне хохочем. У Миккельсена же такой вид, словно он мысленно заносит это в свой архив вместе со всеми остальными полученными им сегодня ценными сведениями.
27
Мне любопытно, почему всё, что есть у Арне, выглядит так бедно, и я спрашиваю, хорошие ли у него отношения с отцом. Мой вопрос его очень удивляет:
— А у тебя что, плохие?
— Мне было семь лет, когда мой отец погиб.
— Значит, ты его едва помнишь.
— Да, но, наверное, я очень его любил. Иногда мне кажется, что я даже в эту экспедицию пошёл только затем, чтобы его порадовать.
— Кто знает.
— Я, конечно, не верю в тот свет, но иногда мне кажется, что я до сих пор многое делаю ради отца. Может быть, оттого, что я не хочу признаваться, что на самом деле делаю это ради матери, которая ещё жива.
— Ты очень серьёзно размышляешь об этих вещах, — замечает Арне.
— И всё-таки это очень просто. Если бы я вообще не знал, кем был мой отец, если бы я, например, был подкидышем, я поступал бы ровно так же, но совсем из других побуждений. Значит, у тебя хорошие отношения с отцом?
— Может быть, даже слишком хорошие. Знаешь, мой отец довольно богатый человек, ему всегда сопутствовала удача. А я — его единственный сын. От этого тоже возникают разные проблемы. Спокойной ночи.
Солнечное утро. Все мы отправляемся исследовать окрестности, каждый своей дорогой. Моя кожа гладкая, сухая и коричневая. Не могу понять, от загара или от грязи, смешанной с мазью от комаров. Желания вымыться ни у кого из нас нет, а о бритье даже и речи не идёт. Греть для этого воду слишком хлопотно, а бриться в холодной воде было бы слишком болезненно, даже если не думать о комариных укусах. От щетины зудят щёки, но она имеет практическую ценность в качестве защиты от насекомых.
Время от времени я пытаюсь ходить без накомарника, чтобы избавиться от ощущения стеснённости. Ни у Квигстада, ни у Миккельсена накомарников нет вообще. Наверное, у Квигстада слишком жёсткая борода, а Миккельсен слишком невкусный.
Я брожу целый день, но так и не нашёл ничего такого, что могло бы хоть как-то подтвердить мою сенсационную гипотезу. Я еле-еле исписал полстраницы блокнота.
В шесть часов, возвращаясь к палаткам, я снова вижу Арне. Он прилагает невероятные усилия, чтобы сфотографировать большой горбатый валун. Сам он стоит на другом камне — на глыбе высотой в два человеческих роста.
Арне выполняет своего рода гимнастику. Резко приседает, водит головой вперёд и назад, держа перед собой фотоаппарат. Я с разбега забираюсь к нему на камень. Он нажимает на спуск своей «Лейки» и бормочет:
— Perhaps…
— Почему ты всегда говоришь «perhaps», когда фотографируешь?
— Обычно у меня получаются плохие фотографии.
— Да ладно тебе! Сейчас фотографировать способен кто угодно. Прочти какую-нибудь книжку.
— Да нет, дело в другом. Посмотри, линза болтается. Отсюда и все беды.
— Купи новый фотоаппарат. Или попроси у отца.
— Ох. Каждый раз, когда мы с ним встречаемся, он с большим сарказмом спрашивает у меня, не фотографировал ли я в последнее время. Когда я показываю ему весь этот бардак, он тут же предлагает подарить мне новую «Лейку».
— Ну и?..
— Я не решаюсь.
— Неужели надо специально решиться на то, чтобы получить новый фотоаппарат в подарок от отца?
— Понимаешь, я не хочу себя баловать.
— Но ведь хороший фотоаппарат ты мог бы использовать для работы, а не для развлечений.
— На самом деле нет никакой разницы. Мне не по себе от всего нового, от всего дорогого. Я ничего себе не позволяю. И всегда так себя вёл. Меня часто подозревают в скупости. Я и правда был бы скуп, если бы копил деньги, но я никогда этого не делал. Помнишь, сегодня ночью мы разговаривали о твоём отце?
— Да. А что?
— То, что я ничего себе не позволяю, не имеет никакого отношения к моему отцу. Но это тоже происходит оттого, что я считаюсь с некоторыми вещами, в которые и сам не верю.
— И во что же ты не веришь?
Арне потирает свободной рукой свою шею, свои волосы. В другой руке он по-прежнему держит фотоаппарат.
— Не хочешь, не отвечай, — смущаюсь я. — Мне, вообще-то, всё равно.
— Да нет, ничего, как-то раз я рассказал об этом соседу в поезде, просто незнакомому человеку. Я верю, то есть, получается так, как будто я верю, потому что на самом деле я в это совсем не верю, в общем, что если я буду ограничивать себя во всём, терпеть больше лишений, чем другие люди, то когда-нибудь на мою долю выпадет нечто потрясающее.
— И что же это будет такое?
— Какое-нибудь крупное открытие.
— Но неужели для этого обязательно нужно фотографировать сломанной камерой?
Арне, посмеиваясь, убирает фотоаппарат в потёртый чехол. Всё, что я могу ему сказать, он слышал уже сотню раз, в том числе и от себя самого. И всё-таки он продолжает разговор. Чтобы посмотреть, сможет ли он сбить меня с толку?
— Колумб, — говорит он, — открыл Америку на гребном судне.
— Ну, тогда же не было никаких других кораблей.
— И всё-таки он это сделал.
— Открытие Америки — это одноразовое действие, дважды её не откроешь. Твой соотечественник Тур Хейердал приплыл на Гавайи на плоту, но Гавайи давно уже были открыты.
— Он хотел доказать, что до них можно добраться и на плоту.
— А ты что, хочешь доказать, что старой «Лейкой»…
— Да нет же. Но для меня было бы кошмаром отправиться в экспедицию с самой новой палаткой, самыми дорогими инструментами, самым лучшим фотоаппаратом, и вернуться оттуда без всяких сколь-нибудь значительных результатов.
Хотел ли я сойти с камня в знак того, что разговор окончен? Что со мной случилось?
Мир проносится мимо, я кричу. Ноги с шоком ударяются о землю. В голове такая ужасная боль, что я не осмеливаюсь даже открыть глаза. Я лежу, вытянувшись на скале. Чувствую камень под ладонями, но ничего не вижу. Подходит Арне и берёт меня за плечи. Я пытаюсь идти, но не могу пошевелить правой ногой. Кровь течёт мне в правый глаз. Левой рукой я пытаюсь оттолкнуть Арне и повторяю:
— I'm allright! I'm allright!
Но он не отпускает меня. Мир снова появляется у меня перед глазами, я вижу его словно сквозь дно пивной кружки. Промокнув глаз тыльной стороной ладони, я замечаю, что вся в крови не только моя рука, но и правая штанина. Как это получилось?
Я лежу довольно близко к большому костру, в одних трусах. Миккельсен жарит на сковородке шесть форелей. Время от времени надо мной пролетают клубы дыма. Ветер меняется.
Левой рукой я вожу вверх и вниз по левой ноге, чтобы отогнать комаров. Мою правую ногу норвежцы вымыли и перевязали. Рассечена от щиколотки до колена. На лоб приклеен лейкопластырем большой ком ваты, он немного заслоняет мне глаза.
Я курю сигарету, но не чувствую вкуса; так бывает всегда, когда рядом что-нибудь жарят на маргарине. В падении я повредил футляр компаса — оторвалась тонкая полоска кожи. Мой ценный компас! Я достаю его и рассматриваю свой лоб в зеркало. Лоб выглядит так, как будто в него попал большой снежок, который почему-то не тает. Моя щетина тоже достойна внимания. Оказывается, она светлее, чем мои волосы, никогда раньше я этого не замечал. Сколько ещё можно узнать о самом себе. И какие бывают отличные возможности для маскировки.
— Доволен своей бородой?
Квигстад садится рядом со мной. Я закрываю компас и снова засовываю его в футляр.
— Бритьё, — размышляет вслух Квигстад, — какое странное изобретение. Почему, вот уже тысячи лет, людей зимой и летом заставляют подражать облетевшим деревьям? Никто не знает. С другой стороны, не вызывает никаких сомнений то, что такие достойные бородачи, как Моисей, Сократ или Маркс, имели все причины поменьше выставлять своё лицо напоказ.
Он суёт в рот сигарету и протягивает руку в мою сторону. Я отдаю ему спички.
— Merci. А вот такой анекдот знаешь? Два колониста приходят к врачу. На сморщенном орудии одного из них врач видит синюю татуировку, слово, в котором можно разобрать только первую и последнюю буквы: «s» и «е». Спрашивает, что это такое. «Понимаете, доктор, одинокими ночами в девственном лесу случается так, что эта надпись видна полностью, там написано „Simone“. — Симона? — Да, знаете, доктор, так зовут мою жену, и одна мысль о ней предохраняет меня от любых соблазнов».
Ну, хорошо. Врач осматривает второго пациента и видит такую же татуировку: «S…e». «Что, опять Симона?» — «Нет, доктор». — «А что же тогда?» — «Здесь написано: «Souvenir d'une nuit chaude passée en Afrique Occidentale Française»[2].
Квигстад раскидывает руки в стороны, как будто висит на кресте, и кричит:
— Во-о-от такой длинный! Dirty bugger, ха!
Потом мы едим галеты, жареную рыбу и сыр. Арне варит кофе, а Миккельсен появляется с бутылкой и наливает в кофе немного коньяка.
Арне смыл кровь с моих штанов. Отдавая их мне, он говорит:
— Ты мог бы умереть.
Я мог бы умереть. Но я не мёртв. Я выжил. Я даже не особенно тяжело ранен.
Я натягиваю штаны на саднящие ноги, давя комаров, и думаю об отце.
От чего именно он умер? Он упал головой вниз? Или одновременно вниз скатился камень и попал в него? Почему он не просто рассёк колено? Тогда, наверное, я бы здесь не сидел. Может быть, я сделался бы флейтистом.
Я не суеверен; но почему же тогда я сейчас обо всём этом думаю? Откуда взялось у меня ощущение, что теперь я вне опасности? Моё падение — это повторение рокового падения моего отца. Тот же злой дух, что сбросил его в пропасть, подвигнул меня на похожие приключения, чтобы и я погиб такой же смертью. Но ничего не вышло. Я заплатил всё с меня причитающееся. Я выжил, и мои раны незначительны. Я доказал духу, что я сильнее. Теперь он должен оставить меня в покое.
Если я не суеверен, то почему же я всё это выдумываю?
Я снова продеваю ремень в петли штанов и закрепляю на нём футляр с компасом. Футляр всё ещё выглядит, как новый, — а он у меня уже столько лет. Даже свежая царапина на нём тоже новая, она вовсе не добавила ветхости футляру, скорее, даже наоборот.
Где проходит грань между повреждением и изношенностью?
— Альфред! Смотри! Смотри!
Арне, Квигстад и Миккельсен смотрят, все втроём, на противоположный берег озера. У Миккельсена в руках призматический бинокль. Я встаю, вначале ничего не замечаю, потом вдруг понимаю, что привлекло их внимание. Кажется, что склоны горы Вурье пришли в движение. Что у растений, камней и снежников выросли ноги.
Набравшись сил, я ковыляю к Арне.
— Слушай! Слушай внимательно!
Я слушаю, разинув рот. Воздух наполнен своего рода гудением, я не знаю, как описать этот звук точнее. Низкое мычание, тихий рёв громадного горизонтального существа, расстелившегося вдоль всего склона.
Когда смотришь в бинокль, кажется, что слышишь, как животные пасутся. Все они бурые или бежевые, некоторые — пятнистые. Каждый из нас по очереди скользит биноклем вдоль реки, пытаясь отыскать пастуха. Но он вполне мог уйти вперёд на километр или даже больше. Животные медленно спускаются к реке.
— Ветер дует в нашу сторону, — говорит Миккельсен. — Если хотите, мы можем подойти к ним совсем близко.
— Они почти так же пугливы, как и дикие звери, — поясняет Арне. — Они убегут, как только нас учуют.
Северные олени. Сказочные существа с рождественских открыток. Косули с фетровыми рогами. Экзотика, ставшая банальной из-за чрезмерной известности. Но всё-таки я никогда не знал, что олени постоянно ревут, я нигде этого не читал и никогда об этом не догадывался.
Я хромаю вперёд, остальные следуют за мной, чтобы подойти к оленям как можно ближе. При таком низком солнце я отбрасываю тень в десять раз длиннее, чем я сам. С каждым шагом меняется почва под ногами — то мох, то кустарник, то камни; каждый шаг — это новый звук. Сквозь эти звуки слышно только журчание реки. Только останавливаясь, я слышу оленей; точно так же, как и биение сердца слышишь, только лёжа в кровати. Животные уже стоят в воде, но нашего присутствия так и не замечают. До нас доносится позвякивание колокольчиков, которые висят на шее у некоторых самцов. Но даже этот звук не вернёт нас в обитаемый мир.
Вдоль реки, по течению, на нас сносит облака, они такие низкие, что местами касаются земли. Лоскуты белого тумана чертят на нас полосы. Мы медленно возвращаемся к палаткам.
Половина второго ночи. Облака движутся быстрее, чем мы, подхватывают солнце. Сразу становится холодно. У остатков нашего костра мы допиваем остатки кофе, поднимаемся и идём спать. Подойдя к своей палатке, Квигстад оборачивается и кричит:
— Ах! Обнажённая юная негритянка, которая ничего не говорит, а только смеётся!
Мы с Арне забираемся в спальники до подбородка. Теперь это не так мучительно, поскольку с приходом облаков похолодало. Но комары, видимо, хотят укрыться от приближающегося дождя, и в верхушке пирамиды их столько, что достаточно протянуть руку и сжать пальцы в кулак, чтобы убить сразу сотню.
Мы едим изюм, пьём воду и выкуриваем ещё по сигарете. Арне философствует:
— Помнишь, о чём мы разговаривали, когда ты вдруг решил измерить силу тяжести?
— Да, а что?
— Странно получается: никто ничего не делает просто для себя. Я отказываюсь от разных вещей, чтобы разжалобить судьбу, а ты думаешь, что тебя видит твой отец.
— Моего отца не существует, равно как и твоей судьбы, которая бы одобрительно кивала головой и в конце концов вознаградила бы тебя за аскетизм.
— Но твоя мать, она ведь жива?
— Да.
— Наверное, ей пришлось нелегко. В одиночку вырастить детей…
— Ну да, нелегко, но всё же гораздо легче, чем можно было бы подумать.
Арне коснулся темы, которую я могу обсуждать долго.
— Моя мать, — объясняю я, — крупнейший литературный критик в Голландии. Сделалась таковым вскоре после смерти отца, и держится уже много лет. Каждый вечер она садится за стол в гостиной и печатает на огромной конторской пишущей машинке. Это начинается ровно в восемь. В десять она ставит кофе и позволяет себе перерыв до четверти одиннадцатого. Моей сестре и мне тоже достаётся по чашке. Даже когда мы были совсем маленькие, нам полагалось кофе. Потом нам полагалось идти спать, но мы, конечно, долго не могли заснуть. До двенадцати было слышно, как мать печатает.
Каждую неделю она пишет по статье для двух еженедельников, плюс полстраницы для субботнего приложения к одной крупной газете, и ещё раз в месяц — статью для толстого журнала. Всё это — об иностранной литературе. Итого каждый месяц по тринадцать статей, в которых обсуждается около тридцати книг. Кроме того, она ездит по всей стране с лекциями. Её авторитет непререкаем. Всякий, кто хочет поведать миру что-нибудь о Хемингуэе, Фолкнере, Грэме Грине, Сомерсете Моэме, Сартре, Роб-Грийе, Беккете, Ионеско, Франсуазе Саган, Мики Спиллэйне или Яне Флеминге, читает сперва, что о них написала моя мать, а потом пересказывает это без указания источника. Она — кавалер ордена Почётного Легиона и почётный доктор самого маленького университета в Северной Ирландии, название которого у меня сейчас вылетело из головы. Конечно, ей случалось получить на рецензию и больше тридцати книг за месяц. Иногда даже пятьдесят.
— И что же, она все их читала?
— Она не читала ни одной. Она их даже не открывала, чтобы не помять корешки. Она просто очень аккуратно переписывала название и фамилию автора на специальную карточку. Б'ольшая часть критиков, впрочем, даже этого не делает. Время от времени к нам заходил перекупщик и платил нам четверть розничной цены за эти девственно-чистые книги.
— Но как же твоя мать тогда писала о них статьи?
— Мы подписаны на «Observer», на «The Times Literary Supplement» и на «Figaro Litteraire». Моя мать рецензирует только те книги, которые обсуждаются в этих изданиях. Да она этого и не скрывает, не подумай ничего плохого! Она часто и подробно цитирует «Observer» или «Figaro», с указанием источника, особенно в те вечера, когда не очень хорошо себя чувствует и не расположена присочинять ещё что-то от себя. «Сегодня — по-быстрому», — говорит она в таких случаях.
В конце концов, некоторые рецензенты заходят ещё дальше. Моя мать очень добросовестна. Занимается этим весь день. По воскресеньям тоже работает. Собирает досье на каждого попадающегося ей автора. У нас в гостиной стоит огромный дубовый шкаф, набитый папками с вырезками из газет. Моя мать вырезает ножницами и бережно хранит все используемые ею статьи. Естественно, иногда выходит так, что на обороте такой статьи напечатана другая, тоже нужная матери статья. Так что, вырезая первую, она тем самым портит вторую. Никаких проблем! В таких случаях мать сперва аккуратно перепечатывает эту вторую статью.
Арне вяло посмеивается.
— Ах, — говорю я, — может быть, ты когда-нибудь познакомишься с моей матерью. Худая женщина маленького роста, черные глаза, тонкие губы, тонкие пальцы, указательный и средний палец правой руки пожелтели от никотина. Она выкуривает по три пачки сигарет в день. Ложится спать в два часа ночи, а встаёт в семь утра, вот уже много лет. Оттого, что она столько работала, у нас с сестрой было очень обеспеченное детство. Даже если бы отец остался жив, мы не тратили бы столько денег, потому что моя мать совершенно не умеет обращаться с деньгами. Всегда — новая одежда, понимаешь, никогда никакой починки, потому что на это у матери не было времени. «За то время, что уйдёт у меня на штопку пары носков, я лучше напишу статью, и мне заплатят денег на пять пар новых», — так она говорила. По нескольку раз в неделю мы ходили в ресторан, потому что приготовление еды тоже выглядело для неё занятием бессмысленным.
Иногда мне её жаль. Я почти не читаю книг, потому что боюсь обнаружить, что она написала про них какую-нибудь чушь. Впрочем, про все книги она пишет более или менее одно и то же. Про английские книги — что у автора хорошая техника, превосходное чувство юмора, что его персонажи очень жизненны и всё произведение изящно построено. Если речь идёт о французской книге, значит, автор умён, проницателен, блестяще эрудирован, и в романе в той или иной мере отражён его личный опыт. Ах, моя мать — такая лапочка! Я даже не осмеливаюсь спросить у неё, не кажется ли ей, что её статьи абсолютно бессодержательны.
— Даже если ей так и кажется, она всегда может сказать: «Я занимаюсь этим ради детей».
— Грабитель тоже.
— А кто вообще может похвастаться, что зарабатывал на жизнь исключительно талантом? Вспомни Зауэрбруха, знаменитого хирурга. В свои последние годы он совсем лишился разума, так что безопаснее было оперироваться у сельского знахаря, чем у Зауэрбруха. Но все хотели и добивались приёма у знаменитого Зауэрбруха. Его ассистенты были люди понимающие и держали язык за зубами. От мала до велика, все мы в конце концов превращаемся в мошенников. В погоне за прибылью пекарь печёт не такой вкусный хлеб, как мог бы, фабрикант выпускает машины с расчётом на то, что через пять лет они превратятся в хлам, автомеханик предъявляет счёт за ремонт, которого он не делал, часовщик дует в часы и берёт с тебя пятьдесят крон за чистку. Все они занимаются грабежом.
— Я часто думаю об авторах тех книг, что попадают на рецензию к моей матери. Человек промучался два или три года; не имея друзей, достаточно близких для того, чтобы быть с ними вполне откровенным, думал: «Вот, я напишу книгу, книги продаются тысячами экземпляров, наверное, найдётся несколько читателей, которые меня поймут и полюбят». И что же? Ему приходится глотать штампованную болтовню моей матери и компании. Как будто это не оскорбление. А оскорбления в этой среде тоже не редкость. Скорее, норма.
— А многие ли из писателей — не воры, получающие деньги за истории, которые кто угодно мог бы сочинить и сам? Или растягивающие на тысячу страниц то, что легко уместилось бы и на ста?
— И всё-таки — как радостно должно быть думать: я добился успеха и я его не украл, мне никогда не приходилось никого дурачить.
— В мире, где все друг друга дурачат? Где почти ничего не известно наверняка?
— Тем более. Быть не просто честным, а ещё и единственным честным.
— Как ты это проверишь? Столько мошенников были всю жизнь уверены в своей кристальной честности!
— В каком-то смысле я ненавижу свою мать и всё, что она делает. Как будто она постоянно подаёт мне дурной пример, постоянно повторяет: «Посмотри на меня! Если у тебя есть деньги, ордена, почётные звания, тебе не в чем себя упрекать». Рядом с ней я чувствую себя так, как будто занимаюсь исключительно созданием трудностей самому себе. Как будто настаиваю на том, чтобы платить золотом, в стране, где в ходу только бумажные деньги.
— Все мы находимся под мощным давлением со стороны нашего окружения — семьи, друзей, знакомых, коллег. Если мы вообще для кого-то что-то значим, то только для них. Или же надо прославиться на весь мир, но кому это удаётся?
— Если бы моя мать была по-настоящему талантлива, она оказывала бы на меня давление другого сорта.
— Думаешь, детям гениев повезло больше, чем тебе? История учит, что они обычно спиваются, попадают в тюрьму или вешаются. Почему? Потому, что сын гения, как правило, не гений, для этого гениев рождается слишком мало. Что же ему делать? Быть таким же гениальным, как отец, — а это единственное, что для него что-то значит, — невозможно. Всё, что остаётся — это стать ничтожеством.
— Я понимаю, что в любой ситуации находятся свои трудности. Для того, чтобы, несмотря на одиночество, оставаться верным своим принципам, нужно открыть что-то такое, ради чего стоит страдать.
— Но тогда получается, что человек, не сделавший никаких открытий, не сможет отстаивать свои принципы; ну, разве что наподобие Дон Кихота.
— Как счастлив был Галилей, который, будучи прав, спокойно признавал, что заблуждается. По сравнению с доказуемой истиной, принципы — это пустяки.
— Ну да. Поэтому учёные в большинстве своём так бесхарактерны. А ведь мало кому из них удалось сделать открытие, сопоставимое с истиной Галилея!
28
Комары и мухи щелкают по палатке, изнутри, снаружи. Хорошо хоть, солнце не светит. Все грани пирамиды — равномерно серовато-белые, и, закрывая глаза, я почти не чувствую света.
Теперь поспать. В спальнике уже не слишком душно, ноги почти не болят, если ими не шевелить, неровности земли тоже больше не чувствуются, и даже голова не болит. Этот ватный компресс слишком сильно греет лоб. Завтра надо будет снять. Пусть мухи поедают запекшуюся кровь. В теории, раны на животных заживают так быстро и сами собой именно оттого, что их чистят мухи. Это, конечно, должны быть чистые мухи; не те, что распространяют грязь. Но здесь нигде не найдёшь никакой грязи. Здесь мухи чистые.
Стук становится громче, чаще, регулярнее. Наверное, дождь. Холодная капля падает мне на лицо. Я всё-таки спал? Я приподнимаюсь на локте, чтобы осмотреться. Палатка протекает везде. Арне по-прежнему храпит. Вода оставляет чёрные пятна на моём светло-жёлтом спальнике.
В складках полиэтилена, на котором мы лежим, образуются лужи. Что делать? Казалось бы, пустяки: немного воды. Но в инструкции по пользованию спальником написано, что он ни в коем случае не должен приходить в контакт с водой. Иначе спальник может навсегда утратить свои теплоизолирующие свойства. Только этого мне ещё и не хватало, вдобавок ко всем моим предыдущим потерям (снимков нет, и я ранен).
Я трясу Арне за плечо. Он открывает глаза, что-то бормочет. Я вылезаю из спальника. Арне жестами показывает, что я должен слезть с полиэтилена. Я скатываю спальник и забираюсь в угол палатки. Холодная вода течёт у меня по спине. Арне поднимает полиэтилен, сливает с него воду, переворачивает и опять расстилает на земле. Даже в сапогах и в ботинках полно воды. Я их переворачиваю. В конце концов мы засовываем в рюкзаки всё, что не должно промокнуть, одеваемся и ложимся на землю в плащах, по которым барабанит дождь.
Арне протягивает мне коробку с изюмом.
— Мы — бедные люди, — говорит он, — очень бедные люди. Некоторые мыслители высоко ставят творческую деятельность, которая-де настолько прекраснее и интереснее, чем рутинный труд кондуктора, уборщицы, неквалифицированного рабочего. Ни один культуролог не написал ни слова обо всём том, что творческие люди делают впустую.
— Да и вообще, о творчестве пишут мало. Много пишут только о генералах, политиках и других мошенниках, а вовсе не о творческих людях.
— А ведь есть ещё и неудачники, — говорит Арне. — В чём, собственно, разница между заводским рабочим и интеллектуалом? Кошмар всей моей жизни — это мысль, что вдруг придётся стать учителем. Пятьдесят лет подряд повторять одно и то же. Так хотелось бы хоть раз рассказать что-нибудь новое, но ничего нового тебе открыть не дано.
— Бывает и ещё хуже, — говорю я. — Сколько есть разных дисциплин, где и открывать-то больше уже нечего? А самое ужасное — это иметь способности только к тому, что на самом деле никому не нужно. Взять, например, греческий. Из пятиста учеников гимназии есть, может быть, один, которому это действительно интересно, и ещё два, которые когда-нибудь будут благодарны за эти уроки. Остальные, окончив школу, даже Гомера толком читать не могут, и, если они чему и научились, то только затем, чтобы поскорее опять всё забыть. Учитель греческого снабжает поколение за поколением никуда не годным знанием греческого языка, и ничего не может с этим поделать. Чтобы учить греческому как следует, не хватает времени, а времени не хватает ровно потому, что на самом деле это никому не нужно. Как же такому человеку сохранить своё самоуважение?
— Выполняя свой долг, свой непостижимый долг, возложенный на него непонятным рождением в непонятном мире. Точно так же, как и всем нам.
— Это наказание для тех, кто неспособен к настоящему творчеству.
— Оптимист! Думаешь, разница так велика? Любая интеллектуальная работа — это постоянное совершение очень простых, по отдельности, действий, после титанической подготовки. Вроде как пожарить яичницу на вершине Эвереста.
— Думаешь? Изобретатель телескопа взял два увеличительных стекла и поместил одно прямо перед глазами, а другое на расстоянии вытянутой руки. А какое это было колоссальное открытие!
— Ты забываешь, что в те времена нельзя было просто так пойти в магазин и купить там увеличительное стекло. И если бы оно тебе понадобилось, тебе пришлось бы шлифовать его самому. В этом-то и трудность.
Он совершенно прав, и я беру ещё горсть изюма.
— Любой студент, — продолжает Арне, — жертва ужаснейшего обмана чувств. Тебе кажется, что ты продвигаешься всё дальше и дальше. Ты читаешь одну книгу за другой. Ты сдаёшь экзамены. Получаешь дипломы. Интеллектуальный рост, думаешь ты. Вещественные доказательства можно принести домой и предъявлять всем желающим. Ты празднуешь успешную сдачу сессии. Всё вокруг говорит о том, что ты совершенствуешься с каждым экзаменом. Я знал одного студента, который вставлял свои дипломы в рамочки и вешал их на стену. Ну, а дальше? После того, как сдан последний экзамен? Дальше — собственноручная шлифовка стёкол. Или многодневные переходы с сорокакилограммовым рюкзаком. Или ночи в мокрой одежде на мокрой земле. Прости меня, я виноват. Мне давно уже надо было купить новую палатку. Квигстад с Миккельсеном спокойно спят на сухом, и у них нет никаких проблем. Но поверь мне, уйти в экспедицию с новой палаткой и вернуться с пустыми руками… я правда не думаю, что мог бы это пережить.
Не обижайся. Я понимаю, что ты — жертва этих моих безумных предрассудков. Но всё-таки, если ты много страдал и это оказалось впустую, ты по крайней мере сможешь сказать, что сделал всё, что мог, ты будешь уверен, что это не твоя собственная лень всему виной. Прости меня. I'm terribly sorry.
Terribly sorry, бормочет он, засыпает, положив руку под голову, снова начинает храпеть.
Как будто он вообще не просыпался. Лунатик, нет, не сноходящий, а сноговорящий. Он спит. Я тоже хочу спать.
Но весь сон, наоборот, улетучивается от страха. Подумать только, что, может быть, к концу лета я вернусь в Голландию без всяких результатов! А только с оправданием: я старался, я страдал, я сделал всё, что мог.
Что означает эта речь Арне под хлещущим дождём, в полусне? Не предсказывает ли он мне моё будущее, не хочет ли он уже сейчас меня утешить, уже сейчас придумать для меня оправдание?
Мрачное предзнаменование?.. Ведь именно Арне мне здесь ближе всех. В конце концов, это мог бы быть и Квигстад.
Квигстад впивается в мир большими белыми зубами. Размахивает молотком, как бог. Перепрыгивает через реки с неподъёмными тяжестями на спине. Когда он где-нибудь останавливается и осматривается, кажется, что всё вокруг — это его собственность. Он забрасывает удочку, и немедленно попадается рыба. Арне пока ещё не поймал ни одной съедобной рыбы своей алюминиевой кастрюлькой с намотанной на неё нейлоновой леской.
Впрочем, он вовсе не слабее Квигстада. Может быть, даже сильнее. Может быть, Квигстад не смог бы ходить в прохудившихся сапогах, спать в дырявой палатке, терпеть комаров днём и ночью. Кто знает, может быть, Квигстад всю ночь и глаз бы не сомкнул, но Арне храпит. И когда на его веки падают капли воды, веки не поднимаются, а только подрагивают.
Дробь дождя немного утихает, а ветер завывает громче. Теперь по свету больше невозможно определить, наступил ли уже день.
29
Дождь всё идёт, и в ближайшее время не кончится. Все вчетвером мы сидим в палатке Квигстада с Миккельсеном, посередине её горит примус. Мы с Арне, с трудом удерживая спальники над примусом, пытаемся просушить их, не подпалив. Естественно, ничего не получается. Подумать только, что той первой ночью, когда я промочил ноги, Арне настоял на том, чтобы я надел сухие носки. Теперь вся наша одежда промокла насквозь, и не высохнет, пока небо не прояснится. Носки, ботинки. Пуховые спальники на ощупь как комки замазки. Миккельсен держит в руках термометр. Снаружи три градуса выше нуля, сообщает он.
Вокруг нас с Арне образовались лужи. Квигстад и Миккельсен смотрят на нас так, как будто мы — две кошки, только что извлечённые ими из колодца. У них в палатке всё аккуратно разложено по местам. Сапоги лежат снаружи в пластиковых пакетах, под козырьком, довольно большим. Квигстад с Миккельсеном обуты в мягкие кожаные тапочки лопарской работы, — чтобы не повредить дно палатки. Даже комаров, которые всё же время от времени проникают в палатку и немедленно уничтожаются, они аккуратно сметают в кучку.
По очереди мы отрываем по шесть листков от рулона туалетной бумаги и выходим наружу с лопаткой в руке. Ничего не поделаешь.
Набросив дождевик на голову, удерживая, чтобы не запачкать, его край в широко разведённых руках, я стою под проливным дождём. Моя больная нога не гнётся, так что присесть я не могу. Поверхность озера выглядит как избитое молотком олово. Вчерашних оленей уже нигде не видно. Я прислушиваюсь, но не могу различить ничего, кроме ветра и дождя. Куда ушли олени? Им негде укрыться от дождя. Они так же промокли, как и я. Мне нужно сделаться таким же терпеливым, как они.
Комарам слишком привольно у меня на бёдрах. Я срываю со лба ватный компресс и хороню его вместе со всей остальной грязью под мокрым мхом. Застёгивая штаны, я замечаю, что легко могу выжать из рубашки струйку воды. Струйку тёплой воды, нагретой моим телом.
Примус, разумеется, нельзя жечь бесконечно. Особенно теперь. Потому что, пока не кончится дождь, нам придётся всё время готовить на примусе. А где мы возьмём ещё бензина, если кончится то немногое, что у нас есть?
И если погода не изменится в ближайшие дни, сколько ещё может пройти времени прежде, чем карликовые берёзы просохнут настолько, что будут гореть?
Может быть, думаю я, дождь будет идти неделю, две недели. Я не решаюсь спросить у Квигстада, сколько у нас осталось бензина, но вряд ли его очень много. Если мы не сможем жечь костёр, то нам придётся есть лишь хлеб, галеты и консервы. А на сколько дней ещё хватит хлеба?
Я думаю об этом без истерики, скорее, это меня развлекает. Единственное, чего я боюсь — это то, что придётся вернуться в Скуганварре и ждать там улучшения погоды. Но на это никто пока даже не намекал. Квигстад встаёт, Миккельсен выключает примус. Они надевают дождевики, обвешиваются планшетами, становятся на колени, расстёгивают молнии на палатке, берут сапоги, вытаскивают их из мокрых пакетов, кладут пакеты обратно, и так далее. Всё — одинаково размеренно. Пока они выходят из палатки, внутрь влетают тучи комаров. Арне застёгивает вход, я ожидаю, что он сейчас возьмёт распылитель, но, кажется, такая мысль даже не приходит ему в голову.
— Я не хочу сидеть тут целый день, — говорю я. — От этого только хуже.
— Да.
Комары забрались мне в волосы и кусают в голову.
— Пойдём тогда, — говорю я.
— Можно мне осмотреть твою ногу?
— Нет, пожалуйста, не надо! Всё отлично.
Я переворачиваюсь на живот и выползаю наружу на одном колене. Это тоже не так просто.
К шести вечера я прошёл по меньшей мере десять километров под дождём. На дождь в конце концов перестаёшь обращать внимание; и в самом деле, не повторяет же, например, пловец то и дело про себя: «ох, как мокро». К тому же дождь то усиливается, то ослабевает. Иногда почти прекращается минут на двадцать.
Я исследовал восемь маленьких круглых озёр. Обошёл вокруг каждого, внимательно присматриваясь, не приподняты ли слегка берега. Метеоритные кратеры, как правило, окружает низкий вал, состоящий из земли, выдавленной вверх падением метеорита. Я не замечаю ничего такого, что стоило бы записать. Продвигаюсь всё медленнее, всё отчётливее вижу, как капли дождя прокалывают водную поверхность, и как брызги потревоженной воды устремляются вверх, точно сок из переспелого помидора.
Больше я ничего не видел. Хотя на всякий случай и подобрал несколько камней. Возвращаясь к палаткам, я вижу Арне, он делает какие-то зарисовки. Прежде, чем подойти поближе, надеюсь, даже до того, как Арне меня замечает, я выбрасываю камни. Потому что боюсь, что Арне спросит: «Зачем ты их собрал?», а я ничего не смогу ответить.
Даже если Арне меня и заметил, догадаться об этом невозможно. Он рисует. Его правая нога лежит на земле, на камнях, а левую он держит согнутой в колене под прямым углом и использует как мольберт. Блокнот он накрыл куском прозрачного полиэтилена — от дождя, и рисует, просунув руку под полиэтилен.
Я далёк от того, чтобы осмелиться его отвлечь. Ах! Одинокий естествоиспытатель в необитаемых полярных краях. Как восхитителен он за работой. И отнюдь не из издевательских побуждений я мысленно произношу все эти громкие слова. Наоборот, пока я приближаюсь к нему, мне хочется стыдливо опустить глаза.
Арне смотрит то на ландшафт, то на свою тетрадь. Его карандаш — это маленький жёлтый огрызок, но остриё безукоризненно заточено, а на другой конец карандаша надет металлический колпачок. Дёшево, но эффективно.
Вот я уже стою у него за плечом. Он рисует быстрыми, очень выразительными штрихами. Я так просто не умею. Собственно, я и не люблю рисовать, и всегда об этом жалел.
На правой странице разворота блокнота Арне рисует, а на левой делает заметки. Я не могу их прочесть, потому что он пишет по-норвежски, но и так очевидно, что это ясные, аккуратные записи. Без исправлений, без помарок, чёткая нумерация и деление на абзацы. Такие записи сохраняют свою ценность независимо от того, доступны ли они в данный момент автору. Даже если Арне потеряет блокнот и его найдут только через пятьдесят лет, даже если Арне погибнет, их всё равно можно будет прочесть.
Это в точности такие записи, какие должен делать учёный в экспедиции, — с мыслью: вот, я сюда пришёл. Я должен сделать здесь все необходимые наблюдения. Всё, что я увижу, я обязан изложить в ясной и понятной для каждого форме. Я должен понимать, что всё, что ускользает от моего внимания и всё, что я забываю записать, потеряно навеки. Потому что возвращаться сюда снова было бы непозволительной роскошью.
— Привет, — говорю я, — я тебе завидую, так здорово ты рисуешь.
— Вот как?
Он продолжает работу. Рисунок выглядит, как картинка из учебника.
— Когда я пытаюсь что-нибудь записать, меня вечно преследуют всякие неудачи, — поясняю я. — Авторучки я теряю, шариковые ручки кончаются в первые же дни поездки, а карандаши с роковой неизбежностью ломаются.
— Купи колпачок, — говорит он и простодушно демонстрирует мне тот, что надет на его собственный карандаш. — Они очень дешёвые и хорошо фиксируются с помощью вот этого колечка.
Он показывает колпачок в действии: снимает его с карандаша, надевает обратно.
— Что, разве такие не продаются в Голландии?
— Нет, — лгу я. — Ни разу не видел.
— Ох уж эти шариковые ручки, — говорит Арне. — Одно из тех новшеств, что придуманы только для того, чтобы заставить людей платить побольше за всякие сложные штуки, в то время как простые и надёжные существуют уже несколько веков.
Я с ним полностью согласен. Но даже с полными карманами остро отточенных карандашей я не смогу рисовать так же, как он.
Чтобы не мешать Арне, я отхожу на некоторое расстояние и сажусь на большой камень.
Когда Квигстад сортирует свои горные породы, он записывает на листке в специальном блокноте, когда и где он нашёл тот или иной камень, потом ещё раз осматривает камень в лупу, добавляет предполагаемое название, вырывает листок и упаковывает его вместе с камнем в пакет из водонепроницаемой бумаги. Иногда он собирает по десятку таких камней за день. Каждый из них весит по меньшей мере двести граммов. Путём несложных вычислений получаем, что рюкзак Квигстада тяжелеет на два килограмма в день. Кажется, Квигстаду наплевать. Его рюкзак, наверное, эластичный, и каждый день увеличивается из-за собранных камней. И пока я не замечал никаких признаков того, что Квигстад этим как-то озабочен.
Или вот Миккельсен. Миккельсен собирает в пакетики песок и щебень, но не гнушается и большими камнями. Он складывает их в рюкзак поверх одежды, в качестве сувениров.
Я вижу, как они появляются из-за холма с удочками в руках. Квигстад опять несёт рыбу, на этот раз очень большую. Он не знает, как она называется по-английски, но, разумеется, знает норвежское название: харр.
Harr. Я записываю слово к себе в блокнот. Они проверяют, не сделал ли я какой-нибудь ошибки.
Мы входим в зелёную палатку, Миккельсен разжигает примус. Чуть позже подходит и Арне.
— Есть хочется, — говорит он.
— Голод, — говорит Квигстад. — Недавно я повстречал (непонятное слово), он только что вернулся из Индии. Ездил туда, кажется, по ООН-овской программе помощи. Голод, говорил он, приезжие из Европы каждый день сталкиваются с голодающими, но сами ходят обедать в Хилтон-отель.
Я ему ответил: «Если бы ты и в самом деле был сделан из другого теста, чем Гитлер или Гиммлер, ты бы так не смог. Вот, скажем, было у тебя с собой восемь тысяч крон командировочных. Ты мог бы раздать их четырём тысячам голодных. На эти деньги каждый из них мог бы в течение суток есть досыта. Конечно, это вроде капли воды на раскалённой плите; но всё-таки сытый день — незабываемый праздник для человека, который всю жизнь прожил на пустой желудок. Самому тебе, конечно, пришлось бы пешком отправиться на ближайшее лётное поле, или занять денег у консула. Неприятно — конечно; поездка испорчена — разумеется. Но по сравнению с голодом четырёх тысяч бедняков это сущие пустяки».
— И что же сказал (непонятное слово)?
— Он сказал: «Конечно, я бы с удовольствием. Но деньги мне выдали не для того, чтобы я раздавал их направо и налево. Мне нужно было написать отчёт для Social Science Relief Program Committee!»
— Ну да, вот так и всем что-нибудь нужно. Надзирателям в Освенциме нужно было кормить свои семьи, да и крокодилы тоже не святым духом живы. Господи, ну и воняет же здесь.
В палатке висит синее облако дыма, но рыба вкусная. Мы едим её с хлебом, хлеб промок. Чья это вина? Точно не моя.
— Полное разоружение под международным контролем, знаешь, что это такое? — говорит Квигстад. — Примерно как поранить левую руку, а потом пытаться той же самой левой рукой наклеить на рану пластырь.
Он смотрит на Миккельсена, который, как мне кажется, часто думает о подобных вещах, но Миккельсен не отвечает.
— Я был бы счастлив сделать одно изобретение, — говорит Квигстад, — это канкан, но его, к сожалению, уже давно изобрели. А больше я не знаю никаких открытий, которые мне хотелось бы сделать.
Арне делает ему какое-то замечание по-норвежски. Все трое на некоторое время переходят на норвежский. В конце концов они надевают дождевики, и я, по их примеру, тоже. Конечно, Квигстад и Миккельсен собрались ещё порыбачить, а нам с Арне придётся вернуться в свою палатку — ведь квигстадовская слишком мала для того, чтобы спать в ней вчетвером.
Постепенно до меня доходит, что все начинают собираться.
Я никого ни о чём не спрашиваю. Я засовываю свои вещи в рюкзак и помогаю Арне разобрать и сложить насквозь промокшую палатку.
— Складывать мокрую палатку — это для палатки очень плохо, — озабоченно размышляет он вслух.
Да, да, очень плохо для его шикарной палатки.
Более серьёзная проблема: мокрую палатку трудно нести. Насколько она тяжелее, чем сухая? На три килограмма? На четыре?
Пуховый спальник тоже полон воды. Можно, конечно, попытаться его выжать (ни в коем случае, говорит инструкция), но даже так в нём останется ещё несколько литров (это непоправимо испортит самый лучший спальник, говорит инструкция).
Мне, на самом деле, всё равно — ведь в любом случае с этим ничего не поделаешь. Я стараюсь представить себе, что я пловец или вымокший под дождём северный олень.
Мы с Арне готовы даже раньше, чем Квигстад и Миккельсен. Дождь опять ослабевает, моросит, превращается в туман.
Я взваливаю рюкзак на мокрую спину. Насколько он тяжелее, чем позавчера? Не знаю, даже приблизительно. Я рад, что мне снова доверили деревянный штатив от теодолита. С ним я чувствую себя гораздо увереннее.
Один за другим мы спускаемся к реке Ливнасйокка, что вытекает из озера Ливнас-явре. Река нигде не сужается больше, чем до ста метров, и, кажется, она довольно глубока. Местами из воды торчат большие камни, но они нигде не образуют доходящей до другого берега цепи. Мы проходим довольно большое расстояние вдоль реки, но по-прежнему нигде не видно такого ряда камней, чтобы можно было перейти на другой берег, шагая с одного камня на другой.
Арне, Квигстад и Миккельсен уже давно это поняли. Квигстад указывает на место, где никаких камней нет вообще, а Миккельсен с Арне подходят посмотреть и одобрительно кивают.
Они садятся и снимают сапоги. Значит, будем переходить реку вброд.
— Носки лучше не снимать, — советует мне Арне, — тогда камни не такие скользкие.
Дно реки покрыто круглыми валунами.
Я связываю ботинки за шнурки и вешаю их на шею. Сперва я ставлю в воду штатив, потом, держась за него обеими руками, и сам вхожу в реку, пытаясь становиться на камни, а не между ними. Холодная вода как будто загоняет зубоврачебные свёрла мне в ступни.
Штатив мне не особенно помогает. Его приходится переставлять с каждым шагом, а это значит, что я слишком долго задерживаюсь на каждом камне. Невыносимая боль в подошвах ног, судороги в щиколотках из-за боязни соскользнуть. В конце концов я беру штатив под мышку и мчусь вперёд так быстро, как только могу. Вытаращив глаза, я пытаюсь рассмотреть, под волнами и пеной, куда лучше поставить ногу.
Промазал! Правая нога соскальзывает, я теряю равновесие, приземляюсь на правую руку, на несколько секунд образуя в воде треножник. Рука под водой по локоть, волны захлёстывают живот. Я тяну левую руку вверх, чтобы спасти хотя бы часы. Планшет набирает воду. Штатив уплывает, но, к счастью, тут же застревает совсем рядом. Я понемногу успокаиваюсь. Медленно подтягиваю к себе правую ногу, и вот уже могу встать.
Квигстад и Миккельсен смотрят на меня издали, с другого берега. Арне развернулся и идёт ко мне на помощь. Побыстрее, пока он не подошёл, я добираюсь до штатива и хватаю его. Потом беспечно достаю из кармана пластиковый стаканчик, зачёрпываю воды, пью. Квигстад с Миккельсеном поворачиваются ко мне спиной и продолжают путь, так, как расходятся люди с пристани, где шкиперу только что удалось выловить багром из воды своего случайно свалившегося за борт маленького ребёнка.
30
Местность, по которой мы сейчас идём, довольно плоская и такая каменистая, что здесь почти ничего не растёт, и, несмотря на непрекращающийся дождь, совсем не мокро. Верхний слой грунта состоит из жёлтого сланцеватого камня. Тому, кто не знает, что это такое, придётся посмотреть в справочнике, ничего не поделаешь. Одна из причин, по которым почти во всех книгах речь идёт примерно об одном и том же — это стремление авторов к общедоступности, запрет на профессиональные термины. Множество занятий и профессий никогда не описывается в романах, потому что без специальных терминов не получится даже приблизительного описания. На остальные профессии — полицейский, врач, ковбой, моряк, шпион — есть только карикатуры, соответствующие представлениям обывателя, которому предназначена книга.
Здесь, на этом более или менее плоском участке, нам постоянно попадаются круглые впадины, заполненные водой, такой прозрачной, что она кажется почти чёрной. Мелкие впадины, впадины побольше. Круглые, иногда овальные. Ледниковые? По краям — никаких следов вала, который должен был бы образоваться от падения метеорита. Я подбираю несколько камней, разочарованно кидаю их обратно. Никто никогда не узнает, чего мне это стоит — постоянно наклоняться за камнями, мокрому насквозь, с сорока килограммами на спине, с болтающимися на шее планшетом и фотоаппаратом, с тяжёлым деревянным штативом в руке. Если даже я и найду метеорит — открытие, великое открытие! — то всё равно я почти ничего не смогу написать об этом в своей диссертации. Я смогу только сообщить, где я его нашёл, нарисовать карту с крестиком, указывающим место. Никто не узнает, как всё это было. Если какой-нибудь читатель задумается о конкретных обстоятельствах моего путешествия, то он скажет себе примерно следующее: «Он гулял летом по северной Норвегии. Какая романтика. Внезапно его внимание привлёк камень необычной формы. Подобрав его, он сделал замечательное открытие».
Подбирая камни, он тут же их выбрасывал.
Гора Вурье, что у того озера, где мы стояли, и отсюда хорошо видна — теперь, когда облака внезапно разошлись. Единственная высокая гора в окрестностях. Наш новый лагерь расположен посередине между двумя мелкими озёрами, каждое из которых окаймлено зелёным болотом. Полосы воды бегут по зелени, иногда пересекаясь под прямым углом, как рвы на торфоразработках. Небо — чёрное, синее и тёмно-красное, как будто краски трёх цветов разлились в одну лужу, но не смешались. Время от времени выходит солнце, и тогда становится чуть теплее.
Я скольжу взглядом по этому простому, нигде не скрытому за деревьями, и всё же такому таинственному ландшафту. Голая земля не кажется голой из-за бесконечного разнообразия окраски мелких растений, мхов, камней и обнажённых участков. Нигде нет ни одного человека, и сюда никто никогда не придёт, но всё-таки нет и ощущения одиночества. Почему? Не знаю. Меня захватывает странная фантазия: остаться здесь навсегда, никуда не уходить, пока через несколько месяцев я не замёрзну насмерть, безболезненно, в снегу.
О боли. Моя рассечённая нога распухла от щиколотки до колена, и кожа так натянута, что при малейшем прикосновении мне кажется, будто в неё втыкают булавки. Но мои глаза раскрыты шире, чем когда-либо, уши горят, в голове шум, я так устал, как, наверное, не устану больше никогда в жизни, и всё-таки я не чувствую никакого желания спать. Ни один человек не знает, на что он способен, пока сам всего не попробует.
Мы ставим палатки, снимаем, насколько возможно, мокрую одежду, чтобы разложить её сушиться. Миккельсен подобрал по дороге оленьи рога и носится с ними, как турист. Он привязал было их сверху к своему рюкзаку, так, чтобы казалось, что рога растут у него на голове. А теперь он втыкает их в землю перед палаткой и вешает на них свои мокрые носки. Я уверен, что зимой он повесит эти рога у себя в комнате над кроватью.
Квигстад и Арне направляются с сетью к воде. Я пытаюсь как-то разделить комья мокрого пуха у себя в спальнике. Может быть, ущерб всё же не так ужасен. Вдруг я замечаю Миккельсена. Он лежит на животе у палатки и смотрит… Смотрит в стереоскоп. На земле разложен полиэтилен, а на нём — фотографии, Миккельсен изучает их в стереоскоп, по две одновременно. Что это за фотографии? На тёмных краях как будто отпечатаны белые кнопки… часы и высотомер! Аэрофотоснимки!
Я бросаю спальник и подбегаю к Миккельсену. Моё сердце готово выпрыгнуть из груди от волнения.
— Что это у тебя, аэрофотоснимки?
Глупый вопрос, да.
— О.К., — говорит Миккельсен и продолжает пялиться в стереоскоп. Я стою перед ним и гляжу на его макушку, которая как будто поросла грязными комьями пыли вместо волос.
— У тебя есть снимки всего района? — снова спрашиваю я.
Теперь он поднимает голову и переворачивается набок. Опираясь на локоть, он смотрит на меня снизу вверх.
— Да. У меня есть снимки всех тех мест, куда мне нужно попасть.
Он указывает на лежащую рядом карту. Это та же карта, что и у меня, собственно, слишком крупномасштабная, недостаточно подробная, но лучших карт вообще не существует.
Я приседаю на корточки рядом с ним.
— Без аэрофотоснимков сюда идти бесполезно, — говорит Миккельсен. — I'm very glad I have those airpictures.
— Airphotographs, — повторяю я, если можно так выразиться. Педантизм, конечно; но надо же мне хоть что-то ответить.
— Где ты взял аэрофотоснимки?
— У Нуммедала.
— А ещё у него есть? Я имею в виду, такие же.
— Не знаю. Эти — из института Валбиффа. Нуммедал одолжил их у Валбиффа.
— Когда?
— Не знаю.
— Постарайся вспомнить.
Он ничего не отвечает, снова переворачивается на живот, кладёт под стереоскоп две фотографии, но прежде, чем начать их разглядывать, складывает все остальные в стопку и переворачивает её.
В эту минуту я так ненавижу Миккельсена, что едва дышу. Я начинаю подозревать, что стал жертвой чудовищного заговора. Вот как это могло произойти:
Сиббеле написал Нуммедалу письмо о том, что я собираюсь делать. «Ага, наконец-то представился случай проучить Сиббеле», — подумал Нуммедал. В самом деле, ведь несколько лет назад Сиббеле поспорил с Нуммедалом на важной конференции. А теперь Сиббеле понадобилась помощь Нуммедала. Конечно, среди профессоров не принято отвергать подобные просьбы без всяких веских причин. К тому же, Нуммедал для этого слишком утончённая натура. Он находит другой выход: вызывает своего ученика, Миккельсена, и предлагает ему взяться за некий интересный проект. Мой проект.
Миккельсен говорит — конечно, с удовольствием. Да и с чего бы ему, собственно, отказываться? Нуммедал запрашивает у Валбиффа все те снимки, которые могли бы мне понадобиться. После чего пишет Сиббеле письмо. То самое, что до сих пор лежит у меня в бумажнике. «Желаю Вашему ученику удачно добраться до Осло. Орнульф Нуммедал».
Ученик удачно добирается до Осло и появляется в назначенный час. Нуммедал же уже всех проинструктировал. Да нет, какие, собственно, инструкции? В том-то и дело, что он как раз никого не проинструктировал. Например, он «забыл» сообщить вахтёру, что ожидает посетителя. Проще не бывает. Несмотря на ни о чём не осведомлённого вахтёра, мне всё же удаётся проникнуть в здание. Нуммедал слышит мои шаги на лестнице. Принимает подходящую позу за столом. Прикидывается простачком. «Аэрофотоснимки? Конечно, у нас есть снимки!» А на самом деле он отлично знал, какие снимки мне нужны, и столь же отлично знал, где они находятся. В тот день, изображая Великого Учителя, демонстрируя мне свои потрясающие познания, он знал, что я попусту теряю время.
Мои снимки он отдал этому заплесневелому куску мяса, что лежит сейчас у моих ног. Это животное не понимает по-английски, я не могу объяснить ему, что со мной творится. Глупая свинья. И, надо же, всякий раз, когда я с ним разговариваю, я замечаю, что мой собственный английский тоже становится из рук вон плохим. Я бы его… я оглядываюсь, смотрю, нет ли поблизости Арне или Квигстада. В то же время я хорошо понимаю, что всё равно неспособен размозжить Миккельсену череп. Я только хожу вокруг, тяжело дыша. Но ничто не скрыто от моей проницательности: я знаю, что каждый мой шаг — это суррогат пинка в лицо, которым я мог бы легко и внезапно наградить Миккельсена.
Есть ли на свете что-нибудь более неприятное, чем одержимость неким умыслом, который никогда не будет исполнен, умыслом, способным привести к каким-то результатам только в мире твоих собственных грёз, где ты всемогущ? Избить Миккельсена до смерти, не притрагиваясь к нему ни руками, ни даже левой ногой. Долго пинать его правой ногой в голову. Он не сопротивляется, только бьётся в конвульсиях, издаёт хриплые вопли с каждым новым пинком, в конце концов перестаёт шевелиться, и лишь удары моей ноги ещё приводят его тело в движение.
Я оставляю его в покое, засовываю снимки к себе в планшет, неутомимо бегу вперёд, перелетая через реки, точно зная, куда мне нужно попасть. С первого же взгляда я заметил на снимках шесть, нет, семь метеоритных кратеров. Семь мелких и один большой посередине. Что это? Моё внимание привлекают какие-то странные картофелины, покрытые сверкающей глазурью. Подбирая их, я чувствую, что они раз в семь тяжелее, чем обычные картофелины, раза в три тяжелее, чем обычные камни такой величины.
Это метеориты.
31
— Упражняешься в тройном прыжке?
Как будто пробуждаясь ото сна, я внезапно замечаю стоящих рядом Квигстада и Арне. Арне смеётся.
— Ты о чём это? — спрашиваю я, и со стыдом понимаю, что в моём голосе ясно различима угроза.
— Несмотря ни на что, ты ещё вполне резво бегаешь.
Я умираю от боли. Левую икру сводит судорога, и я с трудом удерживаюсь на ногах. Как будто в костный мозг мне впиваются спицы.
— У него аэрофотоснимки, — говорю я.
— Что, что? Я тебя не расслышал.
— У него мои аэрофотоснимки, — повторяю я, почти так же тихо.
— Твои аэрофотоснимки? Ты о чём?
— Я специально приехал в Осло, — объясняю я, глядя в упор на Квигстада, — чтобы взять у Нуммедала снимки, которые он пообещал мне дать. Но когда я пришёл к Нуммедалу, он сказал, что ничего не знает. Что, если мне нужны снимки, я должен поехать в Тронхейм, к директору Валбиффу. Я поехал в Тронхейм. Но и в Тронхейме тоже ничего не добился, потому что из Тронхейма снимки давно уже отправились к Нуммедалу. Нуммедал просто прикидывался дурачком. Он отлично знал, что снимки у Миккельсена.
В первый раз в жизни Квигстад смотрит на меня с таким интересом. Арне стоит немного позади него.
— Арне, — говорю я, — ты ведь помнишь, чт'о я рассказал тебе, когда ты спросил, есть ли у меня снимки.
— Разве я у тебя об этом спрашивал?
— Да, ты у меня об этом спрашивал. Те снимки, что я нигде не мог найти. Обошёл весь институт в Тронхейме, вместе с директором Офтедалом.
— С Офтедалом? Правда не помню. Ты сказал, директора звали Валбифф? Таких фамилий вообще не бывает. В Норвегии, по крайней мере.
— Да, Валбифф. Но Валбиффа не было на месте.
— Очень жаль, — говорит Квигстад. — А не то можно было бы и подкрепиться.
— Ах, вот как, — говорю я безразлично. — Господин Квигстад — весёлый людоед. Но директора ровно так и звали.
— «Валбифф» значит «китовое мясо», — говорит Арне.
— Вкус примерно как у говядины, но оно гораздо мягче, — просвещает меня Квигстад, — и, знаешь, странно: у такого чудища, как кит — и ни капли жира.
— Валбиффа, или как там это имя правильно произносится, в институте не было, — повторяю я, — меня принял геофизик, Офтедал, хотя он и был тут вовсе ни при чём. Он понял, кого я имею в виду под Валбиффом.
— Как же, как же, — говорит Квигстад, — но давайте лучше присядем.
Его голос звучит озабоченно. Неужели со мной происходит что-нибудь странное? Они смотрят на меня так, как будто я — плачущий ребёнок, но в глазах у меня резь от сухости.
— Да, хорошо, присядем, — говорю я.
Арне садится, я тоже, Квигстад заходит в палатку и возвращается с бутылкой коньяка.
— Ну вот, — продолжаю я, — я только что видел у Миккельсена те самые снимки, за которыми я ездил в Осло. Нуммедал не мог не знать, что они у Миккельсена. Мы запросили их достаточно давно. Нуммедал мог бы ответить, что ничем помочь не может, или же заказать копии. Но ничего подобного он не сделал. Он непонятно зачем вызвал меня в Осло, а потом ещё, как дурачка, послал в Тронхейм.
— Ну ладно, успокойся, — говорит Арне, — мне кажется, ты всё преувеличиваешь. Я теперь припоминаю, что ты мне всё это рассказывал. Но вполне возможно, что Нуммедал решил, что в Тронхейме они и правда найдут выход из положения.
— Конечно, — соглашается Квигстад. — А может быть, вся эта история просто вылетела у Нуммедала из головы. Он старик, он почти ослеп. Да, впрочем, и всегда был немного тронутый. Он по-прежнему держит этого глухонемого вахтёра?
— Глухонемого вахтёра? Ты хочешь сказать, слепого вахтёра?
— Слепой учёный и его слепой вахтёр! Великолепно!
Квигстад кладёт мне руку на плечо и наливает довольно много коньяка в мой пластиковый стаканчик.
Я пью и медленно повторяю:
— Слепой вахтёр.
— Как ты догадался, что он слепой?
— Это был инвалид в тёмных очках.
— Ну да, в вестибюле, в который никогда не проникает солнце!
— А для того, чтобы узнать, сколько времени, он ощупывал стрелки своих часов.
— Часы для слепых, — говорит Арне.
— Часы для слепых, — повторяет Квигстад, — после каждой войны на этом делают кучу денег. Человеческой тупости нет предела. Подумать только. Ослепнуть, и к тому же не знать, сколько времени!
Он встаёт и идёт к Миккельсену, который до сих пор лежит, изучая снимки.
Чуть позже он возвращается вместе с Миккельсеном. Миккельсен несёт в одной руке пачку снимков, а в другой — стереоскоп.
— Of course, you may look at ze pictures if you like. Iet ies my pleasure.
Он кладёт фотографии и стереоскоп рядом со мной и снова уходит.
Я ложусь на живот, точно так же, как минуту назад лежал Миккельсен, беру стереоскоп и снимки. Неужели Миккельсен нарочно сложил их в неправильном порядке? Их же надо смотреть парами. Парные снимки частично перекрываются. Арне помогает мне их разобрать, хотя я и не просил его об этом. Собственно, на самом деле разбирает снимки именно Арне: он знает местность гораздо лучше, чем я, во мгновение ока узнаёт рельеф и немедленно показывает мне, какому участку на карте соответствует тот или иной снимок.
Я смотрю в стереоскоп. Я почти не слушаю Арне. Меня интересуют только впадины. Вижу ли я озерца, похожие на метеоритные кратеры, да или нет? Мои глаза скользят по снимкам, как будто сметая с них пыль кисточкой. И эта кисточка должна наткнуться на круглую впадину, частично окружённую низким валом, совсем как отпечаток конского копыта в песке. Попробуйте сами, киньте мячик или камень в сухой песок. Снаряд проделает в песке ямку, а вытесненный из этой ямки песок образует вокруг неё небольшой вал.
Так падают и крупные метеориты. Они разлетаются на куски, которые часто уходят глубоко в землю, но так бывает далеко не всегда. Иногда эти куски подскакивают вверх и снова падают, но теперь уже примерно с такой же силой, как если бы их кто-то подбросил. Это и есть те метеориты, что находят коллекционеры. А ещё бывает, что метеорит полностью сгорает от тепла, выделившегося при его ударе о землю. И тогда только оставшаяся яма с кольцевым валом свидетельствует о том, что наша планета поглотила часть другой, давно разрушенной планеты.
На снимках всё в десять тысяч раз меньше, чем на местности. В стереоскоп видишь трёхмерную картинку. Горы кажутся даже выше, чем на самом деле, и хорошо видно, где что-нибудь растёт, а где нет. Ручьи, реки и озёра выдают себя чёрным цветом, так что воду узнать легче всего. Все впадины заполнены водой. Я изучаю каждое озерцо, оцениваю площадь, пытаюсь понять, насколько круты берега. Пока я рассматриваю снимки, мне кажется, что я лежу на полу самолёта и смотрю в бинокль на чёрно-серый мир.
Голос Арне произносит названия, на которые я почти не обращаю внимания. Время от времени я поднимаю голову от стереоскопа и пытаюсь изобразить хоть какой-то интерес к тому, что Арне показывает мне на карте.
Когда кто-то пытается мне что-нибудь объяснить, я никогда не могу сосредоточиться. Как будто и сам понимаю всё, что по-настоящему хочу знать. Мне никто не нужен. И помощь Арне тоже не нужна.
Как жаль, как жаль. Он не верит в гипотезу Сиббеле. Он ученик Нуммедала, его это не интересует. Он не сможет помочь мне найти то единственное, что мне действительно нужно: метеоритный кратер.
Я осмотрел все снимки. Впадин полно, но ни одна из этих чёрных клякс ничем не отличается от других. На снимках не видно ничего такого, что могло бы хоть как-то подкрепить мою надежду на поразительное открытие. С таким же успехом я могу сдаться прямо сейчас.
Добродушно и услужливо, Арне всё ещё отслеживает различия между снимками и картой, и тому подобное. Мне приходится сдерживаться изо всех сил, чтобы не закричать: «Брось! Мне уже всё равно! Я уже всё понял! Я не найду здесь ничего такого, чем смог бы гордиться, чем смог бы отплатить за смерть отца! Я уезжаю! Я только зря теряю время! Я не из тех, кто готов выполнять монашескую работу, я не „что-то вроде вольного бухгалтера“, я должен делать открытия, а не регистрировать! Всё, что здесь можно найти, уже давно обнаружили где-нибудь ещё! Я не собираюсь составлять инвентарь, я не архивариус, как девяносто девять учёных из ста! Мне нужна сенсационная находка! Но здесь это невозможно!»
Я не говорю ни слова. Ломаю комедию, веду себя тихо, как школьник, которому пригрозили поркой. А что мне, собственно, ещё делать?
Несмотря на то, что я не нашёл кратеров, я не могу сказать, что не обнаружил вообще ничего; просто то, что я сейчас понял, не имеет никакого отношения ни к геологии, ни к какой-нибудь другой науке о Земле или о космосе. Да и вообще не имеет отношения к науке. Это как раз такой случай, как описывает Виттгенштейн: путь, которым ты пришёл к определённым выводам, исчезает в самих этих выводах. Например, ты можешь сказать: «Я понял это, выпив крепкого кофе». Но кофе не имеет никакого отношения к тому, чт'о ты понял.
А я начинаю понимать, как устроен мир, по крайней мере, мой мир: тот, в котором я должен проделать громадную работу, тот, в котором мне нужно добиться успеха. Я вдруг догадываюсь, — и невероятно глупо, что это происходит только сейчас, — что на самом деле я должен бы был изучить эти снимки задолго до отъезда в Норвегию, ещё в Амстердаме. Я должен был сказать Сиббеле: «Пока я не просмотрю снимков этой местности, строить какие-либо планы бесполезно».
Но главное моё открытие заключается даже не в этом.
Во мне растёт недоверие к Сиббеле. Всё-таки у Сиббеле настолько больше опыта, чем у меня. Я на тридцать лет моложе, наконец, я всего лишь аспирант; и я отправляюсь в экспедицию по совету своего научного руководителя. Это, может быть, и глупо, но простительно. Ведь это именно Сиббеле вынесет мне приговор — талантлив я или нет, сделаю ли я карьеру или же окажусь неудачником. Я не могу спорить с ним без веских на то оснований.
И не то, чтобы непростительно, а, скорее, непонятно то, что Сиббеле отправил меня в Норвегию без снимков. По-хорошему, Сиббеле должен был бы сказать: «Я просил аэрофотоснимки у Нуммедала, но он не хочет посылать их по почте. Так что лучше тебе заняться чем-нибудь другим». Потому что отправляться в тундру наудачу, при том, что есть такой мощный и современный инструмент, как аэрофотосъёмка — это полное безумие. Это так же абсурдно, как выйти в океан без компаса, рации и радаров.
Сиббеле не сумасшедший. Не может быть, чтобы ему ни разу не пришла в голову подобная мысль. И всё-таки Сиббеле ничего мне не сказал. Он позволил мне уехать. Почему?
Почему? С фотографиями и со стереоскопом в руках я ковыляю к Миккельсену, и, подойдя к нему поближе, говорю:
— Большое спасибо за то, что ты дал мне посмотреть эти снимки.
— Already ready? — спрашивает он.
— Yes. Ready.
— Please, put zem before my tent, will you?
Я делаю так, как он попросил — кладу стереоскоп и снимки на кусок полиэтилена перед его палаткой.
Почему же всё-таки Сиббеле позволил мне уехать? Это, конечно, как-то связано с той враждой, которую питает к нему Нуммедал. Чего хочет Сиббеле? Если он вообще чего-нибудь хочет, то только того, чтобы я обнаружил некие доказательства неправоты Нуммедала. Вот ещё одно важное обстоятельство во всей этой истории: только в Осло я узнал, что Нуммедал — вовсе не лучший друг Сиббеле. Раньше я об этом и не подозревал. Из рассказов Сиббеле я никогда не смог бы заключить, что известный на весь мир Нуммедал не очень-то высокого о Сиббеле мнения. Естественно! Не будет же Сиббеле так прямо и признаваться своим ученикам: «Знаменитый Нуммедал обо мне не очень-то высокого мнения».
Погружённый в свои мысли, я бреду вниз, подальше от палаток. Только дойдя до берега, я снова начинаю обращать внимание на окружающий мир. Солнце освободилось от туч, и морщинистая поверхность озера превращается в тонкий слой жидкой красной меди. Больше ничего не видно, ничего не слышно, кроме жужжания комаров вокруг моей головы.
— Это, — торжественно говорю я вслух, — очень важный момент в жизни неопытного юноши.
Всё, что мне остаётся в моём теперешнем положении — это делать то, что в глубине души я считаю неправильным. Как будто я свернул не в ту сторону, но возвращаться в любом случае уже поздно; поставил не на ту лошадь, но скачки уже в самом разгаре. Does Alfred go to the races today? No, he doesn't. Если сделать надлежащие выводы изо всего, что я сейчас узнал и обдумал, то получается, что мне нужно немедленно вернуться в Голландию, явиться к Сиббеле и сказать: «Мне очень жаль, профессор, но эти исследования не принесут нам ожидаемых результатов. До свидания».
А потом? Я знаю, что я обязан совершить что-то значительное, но не знаю, что именно. Как бы мне это выяснить?
Если я вернусь и объявлю, что сдался, так как обнаружил, что занимаюсь ерундой, моя мать не поймёт. Она подумает, что я заболел. Сиббеле меня тоже не поймёт. Никто не поймёт.
Что же мне делать?
Я оглядываюсь по сторонам, вижу плоское озеро, холмы, на которых нет никаких признаков жизни. Здесь почти никогда не бывали люди. Наверное, хоть что-то здесь всё же ещё можно найти. Что-нибудь, чего ещё никто никогда не видел. В мире осталось так мало необитаемых мест.
— Альфред! Where are you?
Это меня зовут есть. Я всё время чувствую себя так, как будто я в гостях. Норвежцы берут на себя все бытовые заботы. И, несомненно, только гостеприимства ради Квигстад попросил Миккельсена показать мне снимки. Пока я приближаюсь к тому месту, где они сидят вокруг примуса, мне приходит в голову, что Арне, наверное, не раз подумал про себя: «Если бы здесь и правда были метеоритные кратеры, то мы давно нашли бы их и сами. Для этого совершенно не нужно выписывать геологов из Голландии».
Даже Арне — а ведь он мой друг, ведь его я знаю гораздо лучше, чем остальных, — даже Арне вполне способен так подумать. Потому что я не верю, что Арне до сих пор не знал, что нужные мне снимки — у Миккельсена.
Угрюмо, даже подозрительно, в страхе, что они высмеивали меня в моё отсутствие, я сажусь. Каша готова. Миккельсен хочет вытащить ложку из кастрюли, делает неловкое движение, кастрюля падает, каша заливает примус, и он гаснет, шипя и дымясь. Мы вскакиваем, ругаемся на разных языках, хохочем.
Арне распределяет остаток каши по трём мискам, а сам выскребает кастрюлю ложкой. Про новую кашу не может быть и речи. Слишком мало осталось бензина.
Мы съедаем ещё по две галеты, одну с сыром, который с каждым днём всё больше плесневеет в своей пропитанной жиром бумажной упаковке, и ещё одну с мёдом из тюбика.
— Может быть, — говорит Квигстад, — уже недалеко то время, когда научатся делать компьютеры умнее человека. Умнее даже самых великих учёных. Этим компьютерам можно будет приказать сделать новые компьютеры, ещё умнее. Как только появится компьютер, способный придумывать такие сложные задачи, что людям они принципиально не могли бы прийти в голову, — и другие компьютеры, способные такие задачи решать, — наука прекратит своё существование. Превратится в спорт. Как стрельба из лука на фольклорном празднике, или гребля, или спортивная ходьба.
— Или шахматы, — добавляет Арне.
— О нет, только не шахматы, потому что непобедимые шахматные компьютеры появятся уже задолго до того. Каждую возможную комбинацию можно будет отыскать в специальной таблице, составленной компьютерами. К тому времени просчитают все варианты. Выиграть в шахматы станет делом памяти. Нет, шахматы отпадают. Интересно, чем вообще люди будут тогда развлекаться.
Арне: — Да тем же, чем и сейчас: будут играть в домино, в футбол, сплетничать, ловить рыбу, каждый день читать одно и то же в газетах и смотреть одно и то же по телевизору.
Квигстад: — Согласен. Ну, а особенные, выдающиеся люди? Столько талантов останется невостребовано. Представляешь — у тебя есть некий талант, но всё, что благодаря ему ты мог бы совершить, уже сделано. Давно сконструирована машина, которая гораздо талантливее тебя.
— Мы очень бедные люди, — говорит Арне. — Наука становится всё анонимнее. Скоро в ней совсем не останется места для славы и почёта. Учёные растворятся в собственных открытиях. Когда-нибудь мы будем знать о мире всё, но люди, добывшие это знание, окажутся забыты.
— Забыты, — говорит Квигстад, — совсем как изобретатели костра, колеса или гироскопа. Впрочем, до тех пор, пока университеты перестанут выдавать профессорские мантии и присваивать учёные степени или почётные звания, пройдёт ещё довольно много времени.
— Но в будущем, — говорит Миккельсен, — это станет делом случая. Даже сейчас кому-то удаётся прославиться без всяких выдающихся свершений. Например: у сотни тысяч никому не известных девушек хорошая фигура, и только одна из них становится Мисс Вселенной и попадает в газеты.
— Роскошные сиськи, — говорит Квигстад, — это всё-таки совсем другое. Множество девушек получает от этого кучу удовольствия. Конечно, не попадая в газеты, а просто в кругу друзей.
— А математический ум или чутьё первопроходца — зачем они нужны в кругу друзей, особенно если у машин всё получается гораздо лучше и все открытия уже сделаны?
— Только сумасшедшему взбредёт в голову сделаться знаменитым учёным, — подытоживает Квигстад.
Ровно так и говорит. Что у него на уме? Может быть, это он так меня утешает?
— Игуанодоны вымерли из-за своих размеров, — утверждает Квигстад, — а человечество погибнет от сознания своей ненужности.
32
Я ощупываю спальник: ещё не высох. Тогда попробую спать без спальника, просто не раздеваясь. В четыре — каждые полчаса я смотрю на часы, Арне храпит — поднимается такая буря, что палатка бьётся на ветру. Я приветствую ветер, избавляющий от комаров. Но вот уже незаметно проникли в палатку кровососущие мухи, они забираются мне под рубашку и в рукава. Они не причиняют боли, но оставляют на теле большие капли крови. Они совсем не пытаются избежать справедливого наказания. Я давлю их указательным пальцем. Мелкие чёрные мухи, меньше тех, что облепляют у нас банки с вареньем.
Приподнявшись на локте, я смотрю на Арне. Он лежит, повернувшись ко мне лицом, подложив руки под голову, с открытым ртом; так, что видны его плохие жёлтые зубы, вплоть до коренных. Зубы старика. Его лицо уже сейчас выглядит ветхим. Как будто он уже прожил много дольше того срока, на который было рассчитано его тело. Его глаза словно провалились под веки. Его густая щетина вызывает мысли о старости, упадке, запущенности. Он похож на обессилевшего великана, на слабоумного тролля, кажется, что издаваемый им храп — это единственный язык, которым он владеет. Каждую ночь он не даёт мне заснуть. И всё же я точно знаю, что время от времени сплю. Потому что я просыпаюсь от тишины, когда храп наконец прекращается. Арне тогда, как правило, уже нет в палатке. Я смотрю вверх, в остриё пирамиды, где собираются комары, сажусь, во рту какой-то тухлый привкус. Большими глотками пью воду из фляжки, закуриваю сигарету. Отгоняя комаров рукой, выкуривая их дымом, я минут десять сижу в раздумьях. Докурив сигарету, я просовываю руку под край палатки и закапываю окурок пальцем.
Правая нога у меня совсем не сгибается. Она опухла и приобрела странный цвет. Но ходить я, наверное, ещё смогу. Ходить будет гораздо легче, чем натягивать на ногу мокрый носок. Для этого я должен проделать разные движения, весьма болезненно напоминающие утреннюю гимнастику, которую я делал слишком редко, даже когда это ещё не причиняло никакой боли. Наклоняя туловище вперёд и назад, я в конце концов попадаю носком на пальцы правой ступни и кое-как надеваю его на вытянутую ногу. Другой носок — не проблема. Я встаю, сую ноги в ботинки и выбираюсь наружу. Половина одиннадцатого. Палящее солнце.
Над костром, на палке, косо вбитой в землю, висит чайник. Больше ничего не видно. Зелёная палатка Квигстада исчезла. Что случилось? Арне тоже нет. Только поднявшись вверх по склону, я замечаю его на берегу озера, где он сворачивает голубую сеть.
Глядя то на Арне, то на чайник, я размышляю, что будет полезнее — пойти помочь Арне или же присмотреть за костром (но в этом последнем случае пройдёт ещё какое-то время прежде, чем я выясню, куда делись Квигстад и Миккельсен). Тонкая палка, на которой висит чайник, загорается, а сам костёр начинает гаснуть. Я ковыляю к нему так быстро, как только могу. Лучше было бы поставить чайник на камни, но нигде не видно камней подходящего размера. Палок потолще тоже нет. Даже чайник вскипятить, оказывается, не так просто без примуса.
Лёжа на земле, я дую на раскалённые угли. Осторожно подкладываю в костёр сухой мох и сухие карликовые берёзы. Когда Арне возвращается, вода наконец вскипает мелкими пузырьками. В руках у Арне только сеть, рыбы нет.
— А где Квигстад и Миккельсен?
— Ушли, уже часа два назад.
— Ну да, я так и подумал. Enfin, вечером они будут встречать нас жареной форелью.
— Боюсь, что нет.
— Почему?
— Мы пойдём в другую сторону. Я сейчас принесу карту.
Арне приносит карту, пока я засыпаю кофе в кипящую воду. Завтракать придётся галетами с мёдом из тюбика, потому что Квигстад и Миккельсен забрали сухое молоко и геркулес.
Арне садится, разворачивает карту. Пересилив себя, я всё-таки спрашиваю:
— А что, у них были какие-то особые причины так быстро сняться с места?
— Особые причины? Что ты имеешь в виду?
— Ну, знаешь, вообще-то я хотел бы с ними попрощаться.
— Ах, вот ты о чём. Но ты же ещё спал.
Он достаёт своё увеличительное стекло.
— А мы с ними должны потом опять где-нибудь встретиться?
— Нет, думаю, что это не очень вероятно.
Я сажусь рядом с Арне. Мои усы уже так отросли, что я могу закусить их и пожёвывать в такт своим туманным мыслям, мрачно перескакивающим с одного на другое.
Арне объясняет, что, в связи с тематикой Квигстада, Квигстад и Миккельсен пойдут на север, а потом вернутся к горе Вурье и, наконец, обратно в Скуганварре.
А нам, наоборот, лучше всего идти на юг, вот сюда — он указывает на тонкую пунктирную линию, которой на большинстве других карт, пожалуй, была бы обозначена дорога, но на этой, собственно, нет.
Это, объясняет он, едва различимая тропинка десятисантиметровой ширины, маркированная камнями. Это значит, что на встречающиеся по пути большие камни люди, проходившие здесь раньше, положили камни поменьше. Такой способ маркировки очень распространён в Норвегии. В старые времена по этой тропе носили почту. Подойдя к большому камню, на котором лежит маленький, как правило, видишь вдали другой такой камень, так что по ним можно ориентироваться. Обычай таков, что каждый, кто проходит этой тропой, снова кладёт мелкие камни на те большие, на которых по каким-то причинам, — ветер, растаявший снег, — больше ничего нет. Потому что не только на карте, но и на самом деле тропа эта представляет собой пунктирную линию. Местами она размыта, местами заросла на сотни метров подряд.
Он откладывает лупу в сторону, чтобы налить себе кофе и намазать мёдом галету. Я смотрю на карту, размышляя, выгодно ли мне идти так, как решил Арне. Когда мы попадём на эту тропу, мы пойдём по ней на восток и в конце концов придём в место под названием Равнастуа. Это не город, даже не деревня. Арне рассказывал мне, что это такое: дом, в котором живёт один лопарь, с парой пристроек, где можно остановиться на ночлег. Конечно, на самом деле почти никто там не останавливается, даже летом. Дом содержится государством, в качестве убежища в неприветливой арктической пустыне. Ближайшая деревня — это Карасйок, но даже от него Равнастуа так далеко, и попасть туда так трудно, что Равнастуа совсем не привлекает туристов. Разве что забредёт какой-нибудь особенно эксцентричный рыбак. Время от времени ещё пара биологов или геологов. Или попавших в беду лопарей. Арне был там дважды, и оба раза оказался единственным постояльцем. Еду и другие предметы первой необходимости туда доставляют на вездеходе.
Если, как предлагает Арне, выйти на старую почтовую тропу, то до Равнастуа получится как минимум сто пятьдесят километров. Так я в любом случае увижу большую часть «своего» района. Очень разумно, что Арне собирается пойти именно этим путём. Но вопрос, почему же Квигстад и Миккельсен пошли на север, не выходит у меня из головы.
Солнце больше и горяч'ее, чем когда-либо. Похоже, день будет удушающе жарким. В небе — громадные облака, как будто одновременно взорвались двадцать атомных бомб. Кажется, что эти облака состоят не из воды, а из горячего газа.
Я встаю, заливаю костёр, разбрасываю угли, выливаю остатки кофе, спускаюсь к озеру и ополаскиваю чайник.
Норвежцы, как я уже не раз замечал, очень предупредительны в общении друг с другом. Их всего четыре миллиона в стране размером с десять Голландий, а ведь население Голландии в три с половиной раза больше. В Норвегии на каждый квадратный километр приходится одиннадцать человек, а не триста шестьдесят, как у нас. В такой стране встреча с другим индивидуумом — всё ещё нечто из ряда вон выходящее. Ты останавливаешься в трёх шагах от него, приветствуешь его лёгким поклоном, дружелюбно улыбаешься, думаешь про себя: «А ведь с таким же успехом это может оказаться и бандит», подаёшь ему руку, осторожно справляешься о здоровье и благополучии. Или, может быть, прощание, наоборот, не связано у них ни с какими формальностями? Трудно себе представить. Но почему же тогда Квигстад и Миккельсен ушли, не сказав мне ни слова? В какую рань пришлось им встать, чтобы так получилось. Они же сначала завтракали, складывали палатку, собирались. Арне их ещё застал. Наверное, я очень крепко спал. Но почему, всё-таки, они так торопились?
Они тут гуляют, как в парке, думаю я, медленно возвращаясь обратно с чистым чайником в руках. Они ходят сюда почти каждый год, они здесь как у себя дома. Я отлично понимаю, что удивляюсь этому ровно так же, как удивляются иногда иностранцы в Голландии, наблюдая, как мы лавируем на велосипедах по дорогам, полным машин и трамваев, вдоль глубоких каналов, среди движущихся пучин смерти.
Что же я сам здесь, вдали от дома, делаю? Лучших результатов добивается вовсе не тот, кто прилагает наибольшие усилия; скорее, тот, кто вдобавок изначально находился в самом выгодном положении. Для того, чтобы стрелять лучше всех, недостаточно быть самым метким стрелком: нужно ещё попасть на самое лучшее стрельбище и завладеть самым лучшим ружьём.
Хотя пока ещё никто ни словом на это не намекнул, я спрашиваю себя, почти вслух: а не выглядит ли всё, что я делаю, попыткой соперничать с норвежцами на их собственной территории? И не так ли с самого начала воспринял это Нуммедал? «Пусть приезжает, — подумал Нуммедал, — пусть расшибётся здесь в лепёшку о скалы».
Наверное, мне было бы в каком-то смысле легче, если бы все мои знакомые норвежцы не были такими хорошими людьми. Да, и Миккельсен тоже, в общем и в целом. А взять хотя бы Арне. Возвращаясь, я вижу, что он уже разобрал палатку и сложил рюкзак. И что же? Мне он не оставил почти ничего.
Раньше я, среди всего прочего, нёс полотно палатки, а Арне нёс стойки.
— Где палатка?
— У меня в рюкзаке.
— У тебя в рюкзаке? Почему?
— Тебе лучше не нагружать рюкзак слишком сильно, с твоим опухшим коленом.
— Да оно уже почти не болит.
— Не в этом дело. Вдруг тебе станет хуже? И как нам быть, если ты вообще не сможешь идти?
— Ну, тогда и увидим. А сейчас отдай палатку.
— Нет, нет, правда не стоит. Завтра.
Он уже уходит. Штатив от теодолита он тоже забрал.
— Арне, дай мне штатив!
Он оборачивается, не останавливаясь:
— Да, хорошо, в следующий раз.
И идёт дальше.
Я становлюсь на колено и собираю рюкзак. Нести мне теперь нужно почти исключительно свои личные вещи: спальник, зубную щётку, мыло, нижнее бельё и так далее. Многие из них я до сих пор ни разу не доставал. И ещё мне остались две пачки галет, семь тюбиков мёда, пачка соли, чайник и большая сеть, но она-то как раз состоит из дыр.
Ковыляя со всей возможной скоростью, я догоняю Арне, который, впрочем, сбавил темп, как только убедился, что я ему подчиняюсь.
— Послушай, Арне, не доводи ситуацию до абсурда.
Клянусь, что я сказал это без тени ханжества. И я даже могу это доказать. Ведь то, что он несёт почти всё, а я — почти ничего, меня не радует, а беспокоит. Я боюсь, что рано или поздно ему это надоест. То есть — я ему надоем.
Между тем Арне объясняет мне, что ему не так уж и тяжело:
— Ты забываешь, что я несколько раз ходил сюда совершенно один. И тогда мне тоже приходилось нести палатку. Полотно, стойки, и ещё и сеть в придачу.
Я очень стараюсь ему верить. К счастью, то соображение, что когда он ходил сюда в одиночку, ему не нужно было нести еды на двоих, тоже не вполне работает — ведь наши запасы порядочно истощились.
33
В три часа дня мы сидим на краю ущелья, самого глубокого из тех, что я когда-либо видел. Как будто размечавший Землю космический топор сделал здесь зарубку на земной коре. Стены ущелья почти отвесные, они состоят из огромных и острых каменных глыб.
По-моему, спускаться вдоль них — занятие скорее для настоящих альпинистов с верёвками, «кошками» и сотней шерпов, всей душой преданных своим сахибам. Такой шерп, если понадобится, потащит сахиба на спине. Или четверо шерпов понесут его на носилках. Четверо шерпов… двадцать шерпов… да хоть двести. Передают сахиба из рук в руки, так же, как люди на пожаре передают по цепочке вёдра с водой. Сахиб курит трубку, пишет дневники, чистит ананас. Сахибу достаются медали, слава, его портрет публикуют газеты. Шерпам достаются чаевые.
До сих пор я был уверен, что в этом походе нет никаких непреодолимых трудностей. За подъёмом следует спуск, дождь рано или поздно кончается, болотистые участки сменяются сухими, и даже камни, на которых я постоянно подворачиваю ноги, иногда пропадают довольно-таки надолго. В общем, как и в жизни, специфическим образом распределённые неприятности. Но таких обрывов, как этот, я ещё не видел.
Я смотрю на Арне в надежде, что он как-то откомментирует ситуацию, но он лишь говорит:
— Лучше всего что-нибудь поесть прямо здесь.
Лучше всего — здесь? Непохоже. Мы оба отправляемся на поиски сухих веток. Проходит не меньше четверти часа прежде, чем нам удаётся найти пару десятков.
Я тщательно складываю очаг из трёх примерно одинаковых по размеру камней. Арне ставит на него сковородку, я ложусь на живот и чиркаю спичкой. Спичка горит пару секунд, потом гаснет. Мелкий хворост тлеет и сморщивается. Зажигаю вторую спичку. Раздуваю огонь изо всех сил. Арне открыл банку консервов и вывалил мясо на сковородку. Я беру третью спичку.
— С примусом было лучше.
— Бензин всё равно кончился. Квигстад с Миккельсеном, так же, как и мы, жгут костры.
Четвёртая спичка. Даже сейчас, лёжа на животе, я всё равно вижу пропасть, такая она огромная.
Когда я перестаю раздувать костёр, мой рот не успокаивается. И вовсе не от голода. Горло постоянно глотает, зубы скользят, будто шлифуясь, по внутренней стороне губ, а язык вновь и вновь беспомощно обследует свою пещеру, хоть он и заключён в ней вот уже двадцать пять лет.
Господи Боже, я боюсь. Даже если я расшибусь насмерть, упав с этой скалы, то и мёртвому мне будет смертельно стыдно. Дурачина-простофиля, увалень с болот. Квигстаду и Миккельсену он в конце концов надоел. Из-за него терялось слишком много времени. Арне слишком вежлив, ничем не выдаст своих мыслей, но он, конечно же, думает так: «Если бы я был один! Управился бы в сто раз быстрее. Сосредоточился бы как следует на своей работе. И не тащил бы всё за двоих. Дьяволы в аду!» (норвежский эквивалент «чёрт подери».)
В данный момент я просто неспособен понять, что мертвецу не может быть стыдно. И при этом я никогда не испытывал такого страстного желания жить, как сейчас. Неприятная мысль застигает меня врасплох, как пощёчина: а вдруг и мой отец был никудышним скалолазом? Вдруг в той экспедиции он уже пару раз падал? Может быть, его товарищи думали про себя: ну что за слабак нам попался, одни проблемы из-за него. А его гибель окончательно спутала все их планы.
Я сижу, ухватившись левой рукой за левую икру, в правой руке, между большим и средним пальцем, у меня ломоть хлеба, и указательным пальцем я придерживаю на нём чуть тёплый кусок мяса. На секунду я забываю о еде, и мой взгляд падает на правое запястье, где отчётливо видно, как пульсирует артерия. Как чудовищен этот один из самых отвратительных признаков принадлежности человека к животному миру. Животное. У меня под кожей скрыт червь, он судорожно выгибается и снова распрямляется в попытках вырваться на свободу. Успокойся, бедный маленький червячок, может быть, твоё освобождение наступит гораздо скорее, чем ты думаешь. И оно тебя очень разочарует, потому что ты точно так же не можешь существовать без меня, как моллюск не может жить вне своей раковины.
Я откусываю от бутерброда и ухмыляюсь. Внезапно я слышу, как Ева, верящая в Бога, утешает мою мать: «Не плачь, мама. Альфред теперь с отцом!»
Она указывает пальцем вверх. Ноготь на пальце тщательно отлакирован. Потом она вынимает из сумочки пудреницу и запудривает дорожку, оставленную слезой на её щеке. Все её подруги тоже очень заботятся о своих ногтях. Глупые девчонки, которые, так же, как и Ева, верят в Бога. Когда останется одна Ева, наша семья уж точно утратит всякую надежду отомстить за отца. Хорошо ещё, если Ева в следующем году сдаст выпускные экзамены в своей средней школе для девочек. И нечего даже и надеяться, что Ева когда-нибудь будет в состоянии пересказывать в семи голландских газетах то, что «Observer» и «Figaro Litteraire» пишут об иностранной литературе. Зато хныкать насчёт Бога она умеет очень хорошо. Я давно уже не пытаюсь её обратить, и, когда я говорю ей: «Понять, что слово „бог“ не может ничего означать — это просто одна из тех вещей, для которых ты слишком глупа», она отвечает: «Посмотрим ещё, что выйдет из тебя, со всей твоей сообразительностью».
Я так смеюсь, что едва глотаю. Все мои амбиции сейчас, кажется, направлены на то, чтобы не задохнуться от смеха. Коль скоро я понимаю, что дело только в том, чтобы доказать свою правоту глупой девчонке, которая верит в Бога. Подумать только — я должен показать ей, что выйдет из меня, со всей моей сообразительностью! Потому что если со мной случится несчастье, она укажет наманикюренным пальцем в небо и скажет: «Он теперь с отцом».
Кто знает, может, и моя мать тоже так подумает. Возраст и накопленная за годы скорбь, несомненно, послужат ей оправданием.
Я встаю, и ущелье кажется ещё глубже. Противоположная стена расселины черным-черна, её никогда не освещает солнце. На ней виден небольшой ледник. Вода стекает с него ручьями, и всё же он почти не уменьшается, всё же он переживёт лето.
Я взваливаю рюкзак на спину и жду, что будет делать Арне. Где он начнёт спускаться? Или мы сперва пойдём вдоль ущелья в поисках места, где спуск не так крут? Я не говорю ни слова, ни о чём не спрашиваю. Арне разрушает очаг и гасит последние огоньки на ветках, которые всё равно уже почти не горят. Мимо пролетает фьелльо, снижается, невидимый благодаря своей защитной окраске, подаёт сигналы азбуки Морзе, три коротких, буква S, первая буква сигнала «S.O.S.».
Ещё быстрее, чем я успеваю это подумать, я осознаю, что делает моё положение таким неприятным и безвыходным: я боюсь, что Ева наговорит всяких глупостей, если я разобьюсь; но если со мной ничего не случится, то мои страхи выйдут слишком смехотворными, так что о том, что я сейчас переживаю, я всё равно никому не смогу рассказать. Попросить Арне выбрать какую-нибудь другую дорогу тоже нельзя — после того, как нас покинули Квигстад и Миккельсен, и принимая во внимание мои догадки о том, почему.
Никогда ещё я не понимал так отчётливо, что мои переживания абсолютно ничтожны и совершенно непередаваемы. Я догоняю Арне, и глубина пропасти захлёстывает меня, как огромная, невидимая, вывернутая наизнанку волна. Что бы я ни делал, что бы со мной ни произошло, — я знаю только то, что я этого не хотел.
Некое тайное знание прорывается на поверхность. Как будто приподнимается уголок окутывающей всю жизнь завесы. Я знаю, что беззащитен, беспомощен, заменим, как атом, и что моё сознание, мои воля, надежда и страх — это всего лишь проявления механики, перемещающей человеческие молекулы в бесконечном облаке космической пыли.
Арне бежит почти прямо вниз, скользит, прыгает на камень, потом на другой камень. Он бежит всё быстрее, нет, он падает, тормозя падение ногами. Вот он выходит на такой крутой участок, что кажется, что теперь его поддерживает только невидимый парашют. Петляя, насколько возможно, Арне направляет своё тело вдоль воображаемой горизонтальной плоскости. Его плечо трётся о склон.
Глубоко внизу — светло-зелёное дно ущелья. Вода вьётся по нему узкими ручейками, так бесцельно, как будто случайно туда пролилась; но она блестит, как жидкая сталь.
Я сосредоточил всё внимание на ногах, я ставлю вперёд одну ногу, потом другую, не чувствую даже своего дыхания, кровь стучит в горле. Я хватаюсь за ничтожные растения в трещинах скалы, как будто они могут спасти меня, если я поскользнусь. Нелепость! Одного прикосновения достаточно, чтобы вырвать их с корнем. Что же будет, если я оступлюсь? Разобью ли я голову о камни, или попаду в щель между двумя скалами, войду в эту щель, как клин, расплющив грудную клетку, переломав кости? Едва сдерживая тошноту, я вижу, как Арне выходит на широкий язык, состоящий из щебня, веер из мелких камней, уходящий далеко в долину, словно пирс. Застывшая каменная лавина. Арне утопает в ней по щиколотку, но теперь ему больше ничто не угрожает. Только бы добраться туда! Там — конец моим мучениям!
Не страшась больше ничего, я перепрыгиваю с камня на камень, ни за что не держась, и, хотя я и готов кричать от боли в раненом колене, я замечаю, что спускаюсь так же плавно и элегантно, как и Арне. Как будто беззаботно сбегаю вниз по лестнице. Я едва смотрю под ноги, вижу то зелёное дно долины, то белую плоскость ледника. Внезапно мой полёт захлёбывается в щебне. Тормозя, я резко наклоняюсь, снова выпрямляюсь, бегу, уже вне опасности, дальше вниз.
Слух переполняется шумом воды. Комары хранят мне верность и вращаются вокруг моей головы, как электроны вокруг атомного ядра. С ледника напротив на меня веет холодом. Чтобы увидеть небо — щербатую голубую полоску — мне приходится сильно запрокидывать голову назад. Я с хлюпаньем иду по зелени — ивовому стланику и торфяному мху. Подхожу к реке, нагибаюсь, выпиваю две кружки воды. Речка такая мелкая, что я перехожу её вброд, не снимая ботинок. Беспокойно и испытующе глядя на противоположную стенку ущелья в поисках места, где легче всего будет взобраться наверх, я следую за Арне, надеясь, что он-то увидит удобный подъём. По леднику? Но ледник упирается в вертикальный амфитеатр.
На другом берегу речки я начинаю чувствовать, что всё глубже утопаю во мху. Мох кончается, сменяется чёрной трясиной. Со всех сторон меня окружает ивовый стланик, доходящий мне до поясницы. Арне уже карабкается вверх. Как он туда попал? Мои ботинки полны воды. Чтобы продвигаться вперёд, мне приходится всё выше поднимать ноги. Вода доходит мне уже до колен. Я чувствую, как штаны намокают на бёдрах. Что же делать? Я поднимаю фотоаппарат и планшет, чтобы не промочить, но вынужден тут же их отпустить, потому что падаю. Всё быстрее переставляю ноги, всё выше их задираю. За каждую секунду, что я стою на месте, я ещё на десять сантиметров ухожу в болото. Выше пояса я тоже весь мокрый, но это от пота. Комары садятся мне на лицо, влетают мне в глаза. Хватающий воздух рот засасывает их внутрь, я чувствую их на языке. Я не кричу, потому что помочь мне всё равно никто не может. В конце концов я падаю вперёд, на груду ивового стланика. Стланик образует над трясиной решётку, и она удерживает меня. Я медленно вытягиваю из болота левую ногу, ставлю её на три плоско полегших ивы, потом освобождаю и правую ногу, встаю.
Вода течёт у меня из рюкзака, из ветровки и из штанов, когда я наконец попадаю на твёрдую землю. Заметил ли что-нибудь Арне? Не думаю. Случайно или благодаря опыту, но он прошёл по тем местам, где болото не так глубоко, или лёд подходит ближе к поверхности почвы. Он понятия не имеет, с какими трудностями мне пришлось справиться. Длинными зигзагами я карабкаюсь вверх, ставя ступни вдоль склона.
От ледника идёт такой гул, как будто в огромном помещении переполнилась сотня ванн одновременно. Лёд грязный, как простыня, которую не стирали несколько месяцев. Местами он так плотно покрыт пылью и щебнем, что белый цвет даже не просвечивает. Глинистый сланец хрустит у меня под ногами, как стекло.
После каждого спуска подъём — как передышка. Подъём — это не медленное падение, как спуск. Иногда ты останавливаешься на середине склона, тяжело дыша, смотришь вниз, ошарашенный страхом. Тебе хочется повернуть назад, но ты тут же понимаешь, что возвращаться ещё опаснее, чем идти дальше, и продолжаешь путь.
34
Я всё ещё не могу поверить, что я и вправду здесь прошёл, не упал, почти нигде не поскользнулся. Арне даёт мне сигарету. Мои промокли. Словно на скамейке, мы сидим на скале, нависающей прямо над ледником. Арне никак не комментирует моё жалкое состояние; он уже понял, что ко мне прямо-таки липнут всевозможные мелкие неприятности.
Я снимаю ботинки, выливаю из них воду и говорю:
— Как странно думать, что от всех тех миллиардов происшествий, что случаются на свете, со временем не останется и следа.
Арне:
— Но ещё более странно было бы думать, что где-то расположилось бюро по их регистрации.
Я:
— В архивах этого бюро было бы зарегистрировано всё, что происходит в мире: волна, разбивающаяся о пирс, падающая капля дождя, все мысли и дела трёх миллиардов людей, любой распускающийся или увядающий цветок; с указанием точных размеров, широты, долготы, цвета и веса.
— Почему же только в нашем мире? Точную историю всей Вселенной тоже потребовалось бы записать. Такое бюро было бы ещё одной Вселенной, копией нашей.
Я:
— Две вселенных, но и этого будет недостаточно. Историю регистрации тоже придётся зарегистрировать: третья вселенная. И так далее. Бесконечно много вселенных, и всё равно мы ничего от этого не выиграем, не разгадаем ни одной загадки.
— Да. Виттгенштейн сказал, что факты — это часть условия задачи, а не её решения. Тайна не в том, как устроен мир, а в том, что он существует.
— А, ты тоже читал Виттгенштейна?
— Его будут читать всё больше и больше. Ты знаешь, что он много лет прожил в Норвегии?
Он берёт свой блокнот, кладёт его на колено и начинает рисовать. Я смотрю через его плечо. Он рисует так, как другие пишут. Всё, что он видит, он записывает без слов. Как я ему завидую!
Со временем я научусь лазать по скалам и переправляться через реки, но только не рисовать. С самого раннего детства я очень старался, и у меня никогда ничего не выходило. Велико моё презрение к рассуждениям некоторых психологов насчёт наивных творческих порывов у маленьких детей. Послушать их, так дети только потому рисуют машины с квадратными колёсами, что живут в своём собственном мире! Лично я всегда жил в том мире, что существовал и до моего рождения, и я не помню, чтобы колёса машин когда-нибудь казались мне квадратными; даже когда мне было пять лет и я их так рисовал.
В пять лет я отлично понимал, что мои рисунки не могут соперничать с фотографиями в газете, и, провозившись несколько часов подряд, я в конце концов впадал в истерику и рвал бумагу.
В самом деле, если как следует подумать, то получается, что судьба отнюдь не наделила меня нужными в геологии талантами. Я невнимателен. Могу сбиться даже с хорошо знакомого мне пути. Неспортивен, не поддерживаю форму. Пишу неразборчиво, рисую топорно.
Как всё это грустно! Получается, что геология вовсе не является естественным для меня занятием, и я занимаюсь ею только напрягая свою волю. Единственное моё достоинство — это терпение. И ещё я обладаю даром быстро схватывать то, что написано в книжке. Благодаря этой способности я легко и очень успешно сдал все свои экзамены.
У Арне шансов добиться успеха гораздо больше, чем у меня; но даже он отказывает себе во всём из-за суеверного страха, что иначе он не сделает в науке ничего серьёзного. Надо бы, кстати, проследить за тем, чтобы не заразиться от него этим пораженчеством. Компас у меня лучше, чем у него, и я докажу, что способен этот компас использовать.
Чтобы не сидеть без дела, я развязываю верёвку на рюкзаке. С ткани всё ещё капает вода; лишь бы только она не впиталась в спальник, который из жёлтого уже наполовину превратился в тёмно-коричневый. Мой блокнот промок. Я раскрываю его, осторожно перебираю страницы в надежде, что так они быстрее просохнут, постукиваю карандашом о зубы. О том, чтобы что-нибудь записать, не может быть и речи. Карандаш не оставляет никаких следов на мокрой бумаге. Если я буду нажимать на него сильнее, то бумага просто порвётся.
Это ущелье — самый потрясающий феномен из тех, что я до сих пор видел, но я не могу ничего про него написать. Что делать? Всё, что мне остаётся — это отснять несколько кадров.
Я раскрываю чехол фотоаппарата, подношу фотоаппарат к глазам, нажимаю на кнопку. Одного снимка, конечно, будет недостаточно. Я хочу перевести плёнку и надавливаю на рычажок. Заклинило! Наверное, в фотоаппарат попала вода, желатин плёнки размок и липнет к корпусу. Я в полной беспомощности. Открыть фотоаппарат нельзя, потому что тогда я засвечу всё плёнку. Здесь светло двадцать четыре часа в сутки. А если я не открою фотоаппарат, то он никогда не высохнет.
Арне закончил рисовать, он закрывает тетрадь и фотографирует в свою очередь, покачивая головой.
— Perhaps…
Я снова убираю фотоаппарат, пытаясь сделать это как можно более незаметно. Потом я достаю из планшета карту; она тоже вся промокла. Я расстилаю её на тёплой земле и изучаю дорогу, которой мы сейчас пойдём.
Вокруг много своего рода холмов, наверное, правильнее сказать — бугров. Скудно поросшие кучи песка, глины и камней, фальшивые дюны. В десяти километрах к юго-западу находится озеро, которое мы выбрали для нашей следующей стоянки. Судя по карте, туда можно пройти почти по прямой, не встретив никаких существенных препятствий.
Я достаю компас и ищу юго-запад.
Взглянув на свою собственную карту, Арне встаёт.
— Нам туда!
Он указывает в направлении под прямым углом к тому, что я только что определил.
— Смеёшься, что ли? Вон туда!
Я указываю своё направление. На левой ладони у меня лежит компас. Ошибиться невозможно, я показываю правильно.
Арне корчит такую рожу, как будто едва сдерживает смех, и вытаскивает из кармана свой пластиковый туристический компас на потрёпанном шнурке. Он протягивает его мне, как шоколадную плитку. Я даже не смотрю. Я наклоняюсь, надеваю рюкзак и иду, по-прежнему с раскрытым компасом в левой руке. Не может быть, чтобы я что-то напутал. Арне догонит меня, как только до него дойдёт, что это он ошибается.
Земля сухая, гладкая, на ней почти ничего не растёт. Подъёмы и спуски совсем пологие, можно идти большими шагами. Через пару часов на мне просохнет одежда. Если небо не затянется, карты тоже удастся просушить. Блокнот я при первой же возможности поставлю на землю раскрытым, осторожно разделив страницы, так, чтобы между ними проходил воздух. Тогда блокнот тоже быстро высохнет.
Не обращая внимания на окрестности, я сосредоточиваюсь на том, как бы высушить фотоаппарат. Если бы здесь хотя бы раз, хотя бы немного стемнело! Тогда я забрался бы с фотоаппаратом в спальник, головой вперёд, открыл бы его в полной темноте и протёр бы изнутри чистым платком. Хоть платки-то у меня не кончились?
Но ничего не выйдет. Здесь нигде не найти достаточно тёмного места. Впрочем, можно посмотреть, что получится, если Арне набросит сверху ещё и свой спальник. Где же Арне?
Я оглядываюсь, но Арне по-прежнему не видно. Неужели он до сих пор не понял, в какую сторону нам нужно?
Оттого, что сейчас впросак попал именно Арне, я в первый раз за долгое время чувствую себя вполне уверенно, хотя и понимаю, что веду себя, как мальчишка.
— Арне! Сюда! — кричу я. По-голландски!
В первый раз за несколько недель у меня вырвалось голландское слово.
Я забираюсь на холм, но так нигде и не вижу Арне. Спускаюсь с холма с другой стороны. Вообще-то так можно и заблудиться. Я со всех сторон окружён холмами, и по мере моего продвижения вперёд очертания местности непрерывно меняются. Нигде нет никаких ориентиров. Попадаются лишь большие валуны, но их слишком много для того, чтобы в них не запутаться. Поэтому я на минуту останавливаюсь и опять смотрю на компас.
Происходит нечто очень странное. Угол, образуемый стрелкой компаса с тем направлением, что я определил по карте, уменьшился ровно на девяносто градусов. Другими словами: если то, что компас показывает сейчас, соответствует истине, то прав был как раз Арне, и это я пошёл не в ту сторону.
Конечно, такого не может быть. Наверное, в компас попала вода, и она мешает стрелке свободно вращаться. Я несколько раз резко нажимаю на рычажок, которым стрелку можно приподнять с оси. Я рассматриваю компас на солнце, но не замечаю никаких следов влаги под стеклом. На всякий случай трясу его, потом снова кладу на левую ладонь. Компас не собирается показывать ничего, кроме направления, перпендикулярного выбранному мной.
Какой же я дурак. Я действительно ошибся. Неправильно снял показания компаса, а потом так важно сообщил Арне, в какую сторону нам идти. Боже правый! Я тупо смотрю на стекло, обескураженно перевожу взгляд на зеркало. Моё отражение вполне соответствует моим чувствам: полураскрытый рот — щель, из которой веет нарастающим страхом. Впалые щёки под жидкой бородой начинающего юродивого, вытаращенные глаза, левое веко опухло от укусов комаров, правая часть лба покрыта хрупкой коркой запёкшейся крови.
Я стою в круглой котловине посреди холмов. Нужно, по крайней мере, подняться на какой-нибудь из них. Где самый высокий? Я взбираюсь на него бегом. Но оказавшись на вершине, я со всех сторон вижу лишь другие холмы. Я уже совсем перестал понимать, откуда я пришёл.
— Арне! — кричу я.
Кричу «Арне!» во все стороны света, но даже эхо ничего мне не отвечает.
Стоять здесь и орать тоже совершенно бессмысленно. В любой момент Арне может появиться из-за какого-нибудь холма, и тогда он меня заметит. На всякий случай я ещё раз как следует сориентируюсь.
Я снова достаю свою мокрую карту. К счастью, здесь есть три камня, они огромные, как фортепьянные контейнеры. Угловатые глыбы, белые, как сахар, местами в язвах чёрного лишайника. Похоже, когда-то это была одна глыба, потом она раскололась на три. Они такие большие, что доходят мне до плеча. Верхние грани плоские, как стол.
Я кладу карту на камень; или, скорее, налепляю её на него. Теперь посмотрим, работает ли компас. Я вынимаю его из футляра, располагаю рядом с картой, наклоняюсь, подбираю несколько мелких камешков, сую их под компас, добиваясь строгой горизонтальности. Камень такой высокий, что показания компаса я вижу лишь в вертикально стоящее зеркальце. Всё тот же угол: девяносто градусов разницы. Мой компас — отличный, а я — болван. Я всё ещё не могу до конца поверить в реальность происходящего. Прежде, чем принять какое-нибудь решение, я на всякий случай разверну карту точно по линии север-юг. Я осторожно приподнимаю мокрую бумагу за угол: карта и так уже порядочно истрепалась, а теперь, когда она ещё и промокла, она в любой момент может порваться. Карта отделяется от камня без происшествий. Я снова опускаю её на камень, но теперь заворачивается угол. Пытаясь высвободить его, я задеваю компас рукавом.
Компас исчезает.
Я медленно выхожу из оцепенения, сжимая зубами ноготь большого пальца. Чувствую себя так, как будто меня ударили по голове. Начинаю бегать вокруг глыб, стараюсь понять, где же щели между ними пошире. Заглядываю в каждую щель, ищу компас, но ничего не вижу.
В отчаянии я пытаюсь забраться наверх — ах, как болит колено! Уцепиться нигде не за что. Может, подкатить какой-нибудь камень поменьше, использовать его, как ступеньку? Но любой достаточно большой для этого камень слишком тяжел для того, чтобы его можно было сдвинуть с места в одиночку.
Я разбегаюсь, бросаюсь на самую низкую из трёх глыб. Мне удаётся зацепиться пальцами за противоположную грань, я подтягиваюсь. А вдруг под весом моего тела камень перевернётся? Хоть бы, в самом деле, он меня расплющил! Но нечего и надеяться, он весит по крайней мере три тонны. Я шарю по камню левой ногой в поисках точки опоры, но ботинок всё время соскальзывает обратно вниз. Лежу, ворочаясь, ругаясь, дрыгая ногами. Непостижимым образом ступня вдруг сама попадает наверх. Теперь встать на камень — пара пустяков. Я выпрямляюсь. Сначала оглядываюсь по сторонам — не видно ли где-нибудь Арне. Зову его, второй раз, третий. Потом сажусь и вглядываюсь в щели между глыбами. Ничего не видно, полный мрак. Спичку, что ли, туда бросить? Но все мои спички промокли. Резервная упаковка — в рюкзаке у Арне, у меня только один коробок.
Надеясь найти компас на ощупь, я просовываю в щель руку. Щель такая узкая, что приходится засучить рукав, и даже так получается довольно болезненно. Я тщательно прощупываю все три щели, изо всех сил желая, чтобы компас не провалился до земли, чтобы он застрял где-нибудь на полпути.
Компаса нет.
Была бы у меня длинная трость или палка, тогда можно было бы попробовать… Ах, комары, ну хотя бы сейчас оставьте меня в покое!
Здесь нигде не найдёшь палки длиннее, чем в полметра. Внезапно в голову приходит мысль, что за палкой можно было бы отправиться в небольшую экспедицию… в какую-нибудь укрытую от ветра долину, где растут настоящие берёзы и ели… Но, во-первых, я не знаю, где находится ближайшая такая долина, а во-вторых, я даже не могу точно показать на карте, где нахожусь я сам.
Потерянный мною компас я не смогу отыскать без компаса.
Что же делать?
Я съезжаю с глыбы, роюсь в рюкзаке, хотя и знаю, что не найду там ничего особенно полезного. В конце концов достаю сеть. По краям у неё длинные верёвки. Концом одной из них я обвязываю камень размером с кулак, бросаю его в трещину, пытаюсь использовать, как багор. Я проверяю все три трещины, но ничего, кроме чёрного гумуса, извлечь оттуда мне так и не удаётся.
Нужна палка, но палки у меня нет. Сколько времени? Без двадцати шесть. Если Арне так хорошо знает дорогу, он должен понимать, что я заблудился. Безо всяких шуток. Почему же он меня не ищет?
— Арне! — кричу я снова, повторяю это ещё три раза.
Почему же он до сих пор меня не нашёл?
Я пытаюсь зажечь сигарету увеличительным стеклом, но воздух стал слишком влажным и солнце светит недостаточно сильно. К тому же сигареты мокрые.
Засовывая их обратно в левый нагрудный карман, я вспоминаю, что в правом кармане у меня должна быть рулетка.
Я достаю её и вытягиваю. Хорошая двухметровая стальная рулетка. Если её не придерживать, она сама собой свернётся обратно в корпус. Гибкая. Я пробую опустить её в щель, но чувствую, что, наткнувшись на препятствие, она начинает складываться пополам. Я пытаюсь её выпрямить, щелкаю ею, как плетью, заставляю её волнообразно извиваться, но рулетка такая податливая, что складывается снова, как только встречает малейшее сопротивление. Камень, конечно, треснул не по прямой линии. Как бы ни старался я быть поосторожнее, рулетка всё равно застрянет. К горлу подступает тошнота. Проклятье! Чёрт возьми! Я стучу по камню кулаком, припав лицом к земле. Исследую таким образом все три щели: встаю, иду к очередной трещине, становлюсь на колено, вытягиваю правую ногу (ох, как больно!), ложусь на живот, носом в щель, из которой несёт тухлыми грибами. Сую в щель рулетку. Пытаюсь затолкать туда все её два метра, не обращая внимания на то, что с ней там происходит. Вдруг она случайно наткнётся на компас, который чуть сдвинется с места, покажется из темноты?..
Никаких успехов.
Я поворачиваюсь, сажусь, оперевшись спиной на камень. Вытягиваю рулетку из корпуса, отпускаю, смотрю, как она с пронзительным свистом сворачивается обратно. Сколько сейчас времени? Часы показывают без двадцати шесть. Как и в прошлый раз. То есть — стоят. Наверное, в механизм попала вода. Почему бы и нет. Наоборот, было бы чудом, если бы она туда не попала. Эти часы подарила мне мать, когда семь лет назад я поступил в университет. Я тогда сказал ей, что водонепроницаемые часы пригодились бы мне гораздо больше.
— Перестань, Альфред! Нельзя же быть таким грубияном! Я так старалась. Хотела купить что-нибудь красивое. Водонепроницаемые часы, они же все такие толстые. Разве ты не находишь, что эти гораздо элегантнее? Самые тонкие в мире мужские наручные часы: два миллиметра! Разве это не чудо?
Да, это чудо, но они стоят.
Я открываю их перочинным ножом. Ничего не видно, никакой воды нет. Дую в корпус, для часов это, наверное, очень плохо, но что же мне ещё делать. Завожу их, насколько можно, встряхиваю и подношу к уху. Тикают. Я ставлю их на семь — наугад.
Когда часы показывают четверть восьмого, они снова останавливаются.
Четверть восьмого. Если, конечно, сейчас и правда четверть восьмого. Может быть, на самом деле уже гораздо позже. Как бы то ни было, я сижу здесь по крайней мере полтора часа, и Арне до сих пор меня не нашёл.
Когда я в конце концов решаю, что не стоит дожидаться здесь Арне, я вижу, что карта уже вполне просохла. Я складываю её и засовываю в планшет. Потом обхожу вокруг глыб, внимательно смотрю, не забыл ли я чего, и, конечно, на всякий случай, — не видно ли где-нибудь компаса.
Нет. Адью. Кожаный футляр у меня на ремне, футляр, который до сих пор выглядит как новенький, раскрыт. Я машинально закрываю и снова открываю его левой рукой.
Если как следует подумать, то получается, что самое вероятное — это то, что Арне, не найдя меня сразу, пошёл назад к ущелью и ждёт меня там.
Но как же я сам попаду в ущелье? Я ещё раз обхожу вокруг трёх камней, пытаясь понять, с какой стороны я сюда пришёл. А может быть, на самом деле моё внимание по-прежнему приковано к трещинам, и я всё ещё надеюсь, что где-нибудь покажется компас?
Я смотрю то на камни, то на горизонт. Со всех сторон холмы, нигде нет ни деревьев, ни кустов, то есть — никаких ориентиров. Только пирамида горы Вурье возвышается вдали над холмами. Там мы, в любом случае, были, хотя и давно. Оттуда мы пришли. Если я пойду в этом направлении, то, может быть, я снова попаду в ущелье. По крайней мере, я вижу эту гору, до неё я могу дойти без компаса. И даже без карты.
35
Мои часы показывают половину девятого, но они опять стоят. Я понятия не имею, насколько они отстали. На час? На несколько часов? В конце концов, какая разница. Лягу спать, когда устану.
По-прежнему никаких следов ущелья. Если бы я его нашёл, я мог бы по крайней мере понять по карте, где я нахожусь.
Становится холодно, и солнце очень низко над горизонтом. Если оно не спустится ещё ниже, значит, это полночное солнце. И сейчас полночь. И солнце стоит на севере.
Я сажусь, достаю карту, разворачиваю её по направлению к солнцу. Оглядываюсь по сторонам, пытаясь узнать рисунок карты на местности. Опять смотрю на карту, ищу на ней окружающие меня холмы. Естественно, ничего не получается. Карта недостаточно подробная, масштаб — один к ста тысячам. К тому же весьма возможно, что солнце пока ещё не точно на севере. Если бы мои часы не сломались, я мог бы обойтись и без компаса, по крайней мере, пока светит солнце; если бы, конечно, я ещё и знал, насколько летнее время отличается от… если бы…
Да что со мной, в самом деле? Пока я вижу гору Вурье, глупо бояться заблудиться окончательно. Конечно, ещё лучше было бы найти ущелье, там меня, наверное, ждёт Арне. Тысяча извинений за эту задержку, случившуюся из-за моего дурацкого упрямства. Ты не очень злишься, Арне? Мне правда очень жаль.
Правда?
Теперь, оставшись один, я, откровенно говоря, чувствую себя заметно бодрее. Как будто до сих пор я находился под надзором. Как будто всё это время я ловил на себе неодобрительные взгляды людей, разгадавших мои амбициозные планы и настроенных по отношению к ним весьма скептически. Как будто присутствие этих людей мешало мне полностью сконцентрироваться на моей задаче — на поиске метеоритных кратеров, на сборе метеоритов.
Теперь, в одиночестве, я, не стыдясь, снова могу верить, что мои мучения оправдает потрясающее открытие. Все сделанные мною до сих пор наблюдения — это всего лишь рутинная работа, их мог бы выполнить кто угодно. Всё в этом мире когда-нибудь будет изучено, надо только набраться терпения. А когда я берусь за дело, я просто обязан обнаружить нечто из ряда вон выходящее.
Нечто из ряда вон выходящее?
Приходит озарение: а так ли уж внимательно я просмотрел аэрофотоснимки Миккельсена?
Может быть, там было что-то важное, что Миккельсен заметил, а я нет. Вот почему они отделились от нас с Арне! Вот почему они ушли, не попрощавшись, в противоположную сторону! А может быть, Миккельсен и вовсе не дал мне просмотреть все свои снимки. Спрятал самые главные.
Куда они пошли? Назад, к горе Вурье!
И по счастливому стечению обстоятельств, мне нужно в ту же самую сторону!
Моё ясновидение на этом не истощается. Конечно, никто не осмелится утверждать, что я нарочно запутался в показаниях компаса, что я хитростью избавился от Арне; но всё же моя идиотская ошибка в конце концов обернулась удачей. Всё оказалось к лучшему! Потому что это очень даже в моих интересах — пойти к горе Вурье. Потому что мне нужно к горе Вурье, чтобы посмотреть, чем там занимается Миккельсен. Я с самого начала хотел последовать за Миккельсеном. Ведь если то, что ищу я, найдёт Миккельсен, — что может быть ужаснее?
У подножия склона, по которому я сейчас спускаюсь, лежит зелёная болотистая равнина, а по ней медленно течёт разделяющаяся на три рукава река. Я точно знаю, что здесь я ещё не был. Непонятно, почему я всё ещё не вышел к ущелью. Всё-таки я иду в правильном направлении: гора Вурье — прямо передо мной.
Кабинет Нуммедала. Присутствуют: Нуммедал и студент Миккельсен.
Нуммедал: — Не забывай, Миккельсен, что кое-кому очень захочется сунуть свой нос в твои дела. Вот аэрофотоснимки. Позаботься о том, чтобы он не узнал, что они у тебя есть. Если он всё же об этом пронюхает, постарайся от него отделаться. В любом случае, нужно будет запутать следы. Вот здесь, у горы Вурье (Нуммедал склоняется над снимком со своей гигантской лупой и указывает на что-то кончиком карандаша), вот здесь есть одна своеобразная впадина. В этом месте могло случиться нечто в высшей степени замечательное. Нечто, представляющее чрезвычайный научный интерес, Миккельсен! Поверь моему слову, Миккельсен!
— Конечно, профессор.
— Позаботься о том, чтобы не привлекать их внимания к горе Вурье. Пройди ещё пару дней вместе с Арне и этим голландцем, а потом поверни обратно.
Ох уж этот Миккельсен! Сбежал, как только я понял, что аэрофотоснимки, за которыми я напрасно мотался по всей Норвегии, — у него!
Но так просто это ему с рук не сойдёт!
Я сажусь у воды и смотрю на карту. Хотя я и не знаю точно, где я нахожусь, больше четырёх километров до горы быть не может. Четыре километра максимум. Здесь, впрочем, это может означать пять часов ходьбы, включая перерывы.
Солнце всё ещё светит, но уже совсем не греет. У меня стучат зубы и не проходят мурашки, как будто моя кожа в страшном напряжении пытается удерживать мокрую одежду на некотором расстоянии от тела.
Вокруг растут мелкие кустики с большими мягкими ягодами, ягоды немного похожи на малину, но они побольше и при этом яично-жёлтого цвета. Я срываю одну из них и кладу её в рот. В ней полно косточек, и на вкус она довольно противная, кислая, как кефир. Незрелая? Или эти ягоды всегда такие?
В любом случае, ничего особенно съедобного здесь не найти. Да, впрочем, и в Голландии я ни разу не оказывался в лесу один и без еды. Удалось бы мне прокормиться там самому? Буковые орешки несъедобны, жёлуди тоже. Черника, ежевика, грибы, — ничего другого не знаю. Я вытаскиваю из рюкзака одну из двух мокрых пачек с галетами. Бумага порвалась. Ароматные, хрустящие, чрезвычайно полезные для здоровья хлебцы, рекомендованные гг. докторами, в особенности при малокровии, превратились в коричневую кашу, которая лезет наружу через дыры.
Еда будет самой большой проблемой, снова думаю я, засовывая галетную кашу в рот пальцами, как повар, вылизывающий кастрюлю. Половину я кладу в полиэтиленовый пакет и убираю обратно в рюкзак. Если бы только галеты с самого начала были в пакете! Я должен был упаковать в пакеты все вещи, быть готовым к любому наводнению, но в конце концов я этим пренебрёг, потому что Арне, Квигстад и Миккельсен ничего такого не делали.
Потом я достаю тюбик с мёдом и выдавливаю его себе в рот. Космонавты тоже едят из тюбиков. Космонавт! Вот так профессия! Космос принадлежит мне! Да, мне! Не им!
Я могу делать всё, что хочу. Испражняться, где хочу. Орать как угодно громко. И ни один смертный никогда ничего не узнает, если только я сам ему не расскажу.
В двух метрах от меня приземляется кулик и церемонно марширует среди зарослей, задрав вверх свой тонкий изогнутый клюв.
Невидимые руки натягивают в небе колышущееся розовое шерстяное одеяло. Меня оно не согревает, наоборот, я всё больше мёрзну, так что я снова встаю.
Я без труда пересекаю все три рукава реки, взбираюсь на холм, ищу, попав наверх, какой-нибудь более или менее плоский участок и сажусь.
Достаю из рюкзака всё своё имущество: спальник, из которого воду можно выжимать ручьями, но я не делаю этого из страха, что пух окончательно превратится в твёрдый комок; размокшие галеты; шесть тюбиков мёда; сигареты, мокрые. Спички, тоже мокрые. Пачку соли, мокрую; твёрдую, как камень. Сеть.
Будто наполняя помойное ведро, я убираю всё обратно. В конце концов заворачиваюсь в дождевик и ложусь спиной к солнцу, подложив мокрый рюкзак под голову. Я очень устал и совсем замёрз. Откуда мой организм берёт энергию на испарение всей этой воды? Неужели из съеденных мной половины пачки галет и тюбика мёда?
Нужно постараться поймать в сеть рыбу. Или две. Сколько рыб я смогу поймать зараз, если мне повезёт? Сотню? Я так устал, что, кажется, действительно засыпаю. Но комары мною пока так и не насытились. Неужели даже теперь, когда рядом нет Арне, мешавшего мне спать своим храпом, я не смогу заснуть? Подняться, намазать лицо и руки мазью от комаров, снова лечь. Упасть.
Провалился в сон?
Солнце находится уже совсем в другой стороне, теперь оно светит мне на лоб. Ноги так окоченели, что я лишь с большим трудом выбираюсь из дождевика. Раскладываю на солнце все мокрые вещи. Спички, аккуратно, по одной, кладу на плоский камень, уже тёплый. Расклеившийся коробок тоже пристраиваю на камне.
Теперь надо ждать. Лучше всего поспать ещё. Но я так голоден, что вначале съедаю остаток галетной каши. Запив водой, ложусь снова. Закрываю глаза. Гуляю в лёгком летнем костюме по узкой пристани, с обеих сторон вода. Судя по всему, нахожусь где-то, куда больше никого не пускают. Вдоль пристани — большие океанские корабли, насквозь проржавелые, потому что их никогда не красили. Кажется, что я иду по улице, на которой вместо домов стоят корабли. В конце пристани — лестница вниз. Пройдя между ржавых кораблей, я спускаюсь по лестнице; наверное, внизу туалет. Открываю две самозахлопывающиеся двери. Туалета нет. Это концертный зал. Оркестр готовится начать игру. Зал до потолка набит аплодирующими людьми. Нигде нет свободных мест. Ах, нет, всё-таки есть одно: моё, в центре ряда, в центре зала. Всё время спотыкаясь о чьи-то ноги, непрерывно бормоча извинения, я пробираюсь к своему месту. Теперь я замечаю, что публика состоит исключительно из пожилых людей, лет пятидесяти-шестидесяти. Мужчины в смокингах, женщины — в вечерних платьях, то есть, полуголые. Белые тела, толстые руки с синими венами. На всех женщинах одинаковые платья, не закрывающие спины, с вырезом до пупка впереди и с большими дырами странной формы по бокам, в которые, впрочем, не видно ничего, кроме белой кожи. Одинаковые платья? Не только. Одинаковые женщины. Они не похожи ни на кого из моих знакомых.
Я сажусь, и в зале гаснет свет. Дирижёр поднимает палочку, и оркестр, почти целиком состоящий из духовых инструментов, начинает играть так громко, что можно оглохнуть. Среди музыкантов есть одна девушка. Я вижу её так ясно, как будто рассматриваю её в лупу на групповой фотографии. Она играет на тарелках, хотя и сидит возле флейтиста. В каждой руке у неё по гигантской медной тарелке, она держит их наготове. Длинные светлые волосы, разделённые пробором посередине, падают ей на плечи. Когда она бьёт в тарелки, волосы развеваются на возникающем от удара ветру.
Кажется, что на голове у неё крылья. Застывшим взглядом она смотрит мне в глаза. Вдруг все инструменты замолкают. Один флейтист продолжает играть. Я понимаю, что девушка — собственность флейтиста. Она подтверждает это оглушительным ударом тарелок, от которого я и просыпаюсь.
Мои глаза открываются легко, но это единственная часть моего тела, которая пока ещё не затекла. Подняться стоит мне огромных усилий. Часы больше не тикают, даже если их потрясти. Совсем сломались. Я мысленно вижу, как ржавчина поражает механизм, словно рак, и как сталь рассыпается в коричневую пыль.
Молния разрывает небо, серое, как асфальт. Через четыре секунды я слышу удар грома. У горы Вурье, должно быть, уже идёт дождь, вокруг неё образовалась радуга, как будто на вершине горы происходит нечто очень святое. Я ещё никогда не видел такой яркой радуги. Как будто я внезапно очутился в плёнке мыльного пузыря. Вот он, ореол, окружающий мою цель.
Напрягая все свои силы, я встаю, расстёгиваю ширинку и направляю струю мочи точно в центр дуги. Откликается очередной удар грома.
У моих ног разложены все мои пожитки. На десятки километров вокруг нет никого, кто мог бы на них позариться. Семнадцать спичек, что я разложил на плоском камне, высохли. Расклеившийся коробок, четыре прямоугольника, голубой, чёрный, красно-жёлтый, снова чёрный. Сухие. Семнадцать сигарет, все в коричневых пятнах, но сухие. Карты, сухие. Блокнот, сухой. Спальник?.. Я встряхиваю его, вытряхиваю, пытаюсь разделить комья лебяжьего пуха. Пока ещё слишком мокрый. Проверяю, не случилось ли какое-нибудь чудо, разблокировавшее плёнку в фотоаппарате. Нет.
Я выдавливаю в рот полтюбика мёда, запиваю водой и закуриваю сигарету. Поднимается порывистый ветер, комары жужжат всё громче, но дождя пока нет, хотя всё небо почернело, и только у меня над головой ещё остаётся небольшое голубое пятно. Если бы только я мог узнать на карте место, где я нахожусь; тогда я бы легко сориентировался и понял бы по солнцу, который час. Что же мне, в самом деле, делать, со всей моей сообразительностью? Но и зачем мне, собственно, знать, сколько времени?
Аккуратно и тщательно я собираю всё своё имущество и пристраиваю самые важные вещи как можно более надёжно: спички, обёрнутые куском полиэтилена, кладу в нагрудный карман; так, если я вдруг опять провалюсь в болото, они промокнут в последнюю очередь. Упаковав рюкзак, я ещё раз внимательно оглядываюсь. Нет, не оставил никаких следов. Ни один человек не догадается, что я здесь побывал. Но разумно ли это? Я вырываю из блокнота листок и пишу на нём: «I am on my way to Vuorje. Alfred».
Сложив листок вчетверо, я кладу его на большой камень. А на бумагу кладу камень поменьше.
36
У горы Вурье три склона: южный, северо-западный и северо-восточный. Судя по всему, я приближаюсь к горе с юга, но взойти на неё по южному склону не смогу, потому что он слишком крут.
Если верить карте, то получается, что проще всего взобраться на гору с северо-запада.
Здесь уже начинается подъём. Дождь меня в конце концов настиг, а может быть, это я пришёл ему навстречу. Большие капли — градины, растаявшие в самый последний момент — падают на полиэтилен моего дождевика и объединяются в потоки, стекающие по штанинам мне в ботинки. Записка, которую я оставил на камне, должно быть, намокла, расползлась, растворилась в небытии.
Мои мысли так же однообразны, как дождь и как боль, которую я чувствую во всём теле. Страх, что Миккельсен напал на след метеоритных кратеров, мучит меня, как нарыв.
И всё же, несмотря на этот страх, время от времени я с ужасом одёргиваю себя: «Осёл! Ты опять перестал обращать внимание на камни под ногами! А вдруг ты пропустил метеорит?»
На такой высоте нет уже ни впадин, ни озёр. Южный склон горы теперь хорошо виден. Он отвесный, иссиня-чёрный, весь в длинных полосах нетающего снега. Потоки светлого щебня тянутся вниз, как щупальца с гигантскими присосками на концах. Я держусь от них на безопасном расстоянии. Медленно, но верно продвигаюсь. Даже облака отступают перед моим напором, расходятся. Солнце окрашивает ландшафт в цвет ржавчины.
Я иду, как мне кажется, вдоль 720-метровой горизонтали. В любом случае, обхожу гору слева. Открывающаяся взгляду картина меняется постоянно и быстро. Наконец я вижу озеро Ливнас-явре! Вижу извилины вытекающей из него реки Оббарда-эльв! Ещё через пару километров я увижу озеро целиком. Где-то здесь должны быть Квигстад и Миккельсен. Где стоит их зелёная палатка? С каждым шагом — а как малы мои шаги! — видимый кусок озера увеличивается. Озеро на триста метров ниже, чем я.
Теперь, наконец, мне не нужно больше запрокидывать вверх свою усталую голову, чтобы осмотреться.
Но зелёной палатки с тентом так нигде и не видно.
Я сажусь, смотрю на гору, потом на карту. Наверное, можно сэкономить время и начать подъём уже сейчас, не доходя до северо-западного подножия. Мне ведь нужно попасть на вершину как можно скорее. Тогда вид откроется во все стороны, и я найду Квигстада и Миккельсена, если, конечно, они где-то здесь.
Я иду наискосок по направлению к вершине, поднимаюсь на следующий уровень. Северо-западный склон действительно совсем простой. Голых скал нет. Отлогий настил из песка и мелких камней. Должно быть, когда-то сверху сошёл поток грязи; теперь растения, пустившие в нём корни, удерживают его на месте, и он весь сморщенный, как плёнка на кипячёном молоке.
Загадочные ступени разделяют склон на горизонтальные террасы. Когда-то здесь был ледник, он их и процарапал. Получился амфитеатр для великанов с пятидесятиметровыми ногами. Добравшись до самой высокой галереи, я вижу, что до вершины ещё далеко. Каждый раз, когда ты взбираешься на гору, она будто становится всё выше и выше.
Растительность редеет, потом пропадает совсем. Я оказываюсь на бесконечном поле, покрытом круглыми камнями размером с пушечные ядра. Чтобы не поскользнуться, нужно ставить ноги точно на их верхушки. Каждый шаг требует расчёта, невозможно сделать ни одного движения без мысли о том, что при малейшей неловкости ногу заклинит между двух, трёх камней, ты упадёшь, нога переломится посередине, как метла.
Через каждые двадцать шагов я останавливаюсь и оглядываюсь, с трудом удерживая равновесие. Сесть я не решаюсь, потому что боюсь поскользнуться, вставая, а потом, будто извергнутый горой, помчаться вниз в головокружительном полёте, разлететься внизу на бесформенные куски мяса и костей.
Время от времени какой-нибудь неосторожно задетый мною камень всё же скатывается, подпрыгивает, с грохотом приземляется, снова подпрыгивает, всё выше, отскакивает всё дальше. Дышать я теперь могу только ртом. Моё тело закутано в шторы, с которых капает пот. Мне никогда не попадалось точных описаний подъёма на подобные горы. Такие, где ты видишь лишь десяти- или двадцатиметровую наклонную плоскость прямо перед собой, и она кончается острым краем, за которым — небо. Но с каждым шагом она снова удлиняется ещё на шаг. Как будто ты идёшь по мельничному колесу, по гигантскому цилиндру, заставляя его вращаться под весом своего тела. Неужели это никогда не кончится? Мне всё время кажется, что я уже почти наверху. Наверное, те, кто поднимался на подобные горы до меня, испытывали такие унизительно неприятные ощущения, что по прошествии времени старались представить всё дело так, как будто оно не стоило им ни малейшего труда. А может быть, они просто уже ничего не помнили. Никто не помнит точно, что он чувствует в кабинете у дантиста. Боль такая леденящая, твоя беспомощность так абсолютна, что ты немедленно стараешься обо всём забыть. И тем более тебе никогда не придёт в голову подробно описывать свои ощущения.
Ещё раз остановиться. Отдышаться. Налетает облако. Оно имеет на это полное право. Я добрался до страны туч, я вторгся на их территорию. Облако скользит к горе, так дирижабли причаливали когда-то к высоким башням. Вот оно окутывает меня. Оно гораздо больше, чем я думал. Собственно, это даже и не облако, а скопление отдельных белых лоскутов. Я делаю глубокий вдох и продолжаю путь. Верхушки камней покрылись тонким белым налётом. Иней. Но склон, наконец, становится совсем пологим, подъём вдруг кончается. Я на вершине.
На земле рядом со мной что-то движется. Движется, снова замирает. Зверь. Полярная лисица. Белая шкура, на спине коричневое пятно. Лисица стоит прямо передо мной, широко расставив лапы и втянув голову в плечи, как боксёр. У неё острые мохнатые уши торчком. Чего она ждёт? Может быть, она в первый раз видит человека? Вот бы приручить её, как собаку. Но внезапно она разворачивается и убегает. Бежит не слишком быстро, не желая показывать, что боится. Хвост свисает почти до земли. Лисица исчезает в тумане.
Наверху.
Что же отсюда видно? Да ничего. Со всех сторон меня окружает белый туман. Я вижу только плоский клочок земли, на котором стою. В отчаянии я хожу кругами: повсюду бездны, из них поднимается пар. Где Квигстад и Миккельсен? Может быть, где-то совсем рядом, но они невидимы. Облако скользит, как будто я сижу в самолёте, становится то плотнее, то разреженнее, но оно, должно быть, бесконечно велико.
Я зажмуриваюсь от разочарования, и моё воображение уже покидает эту гору. Куда же оно стремится? Наверное, в пространство, к звёздам. Собственно, по большей части никаких звёзд в пространстве нет, и вообще ничего нет. Пустота. Где-то в этой пустоте нахожусь я, я смотрю на землю, она выглядит не больше футбольного мяча. На полюсах и на вершинах гор — белая плесень льда.
Я никогда ещё не осознавал с такой полнотой абсолютную ничтожность того атмосферного слоя, в котором возможна человеческая жизнь. Жителю Земли приходится достаточно тяжело, где бы он ни был; а стоит ему попасть на крайний север, или на крайний юг, или взобраться на высокую гору, как он достигает предела своих возможностей. С помощью изобретательности, насилия, всевозможных козней, благодаря непрерывному труду, столетиям научных исследований и огромному напряжению миллионов рабочих, космонавт может продвинуться ещё чуть дальше. Я знаю, что я всего лишь некое равновесное состояние химических элементов, возможное только в определённых узких и жёстких пределах. Мир — это шар, покрытый тонкой оболочкой, внутри которой я только и могу существовать. Ближе к полюсам оболочка становится всё тоньше…
Легко было Иисусу. Он-то был уверен, что по всему миру растут смоковницы.
На других планетах, чуть дальше от Солнца или чуть ближе к нему… что нам останется? Разве что пыльные бури на Венере. Или корка замёрзшего аммиака на Юпитере. Да, впрочем, если бы на других планетах и жили люди, вряд ли что-нибудь бы изменилось. Европейцы вовсе не почувствовали себя менее одинокими, когда Колумб обнаружил, что существует Америка, и что там тоже есть люди.
Шар, на расстоянии выглядящий так, как будто он должен быть целиком покрыт льдом. Местами лёд растопили тёплые ветры, но он ещё сохраняется на полюсах и на выступах. Он не побеждён. Он есть и под землёй. И, может быть, в следующий ледниковый период он пробьётся к тропикам. Конец света. Рагнарёк. Достаточно, чтобы между нами и Солнцем возникла какая-нибудь пустяковая преграда. Облако космической пыли, плотное скопление метеоритов.
Я стою на двух камнях, выставив вперёд левую ногу, обхватив колено левой ладонью, поддерживая левой рукой склонившееся вперёд тело, опустив голову. С трудом оглядываю ещё раз то немногое, что меня окружает — камни, туман. Мне не то, чтобы грустно. Но я с болью и сочувствием думаю о других людях, от которых я так далеко; и даже если бы в моём распоряжении оказался радиопередатчик, то всё равно я не смог бы ничего им сообщить. Я не понимаю их, и они меня тоже. Их головы полны безумных сказок, нелепейших разновидностей мании величия, выношенных дальними предками — пещерными жителями, уверенными, что и весь мир немногим больше, чем их пещера. И даже не веря в эти глупости, они не прекращают искать духовных откровений в материальной бессмыслице. Потому что, говорят они, мы не можем жить иначе, нам нужно утешение. (А я — могу я жить иначе? Кто меня утешит?)
Ради этого они строят папам дворцы и кормят Ага-ханов алмазами. О надругательствах, совершаемых над миллионами людей во имя этой утешительной лжи, об абсурдных законах, что базируются на ней даже в самых цивилизованных странах, они предпочитают не задумываться, — ведь на ночь им нужны сказки, и чем больше крови проливается во имя этих сказок, тем легче людям в них верить. Потому что всё, что у них есть — это кровь, и их ненасытная жажда крови — это единственный непреложный экзистенциальный факт.
Лучше стать жертвой стихии, чем людей. Может быть, в меня попадёт молния, или я свалюсь со скалы от усталости, а может, мне на голову упадёт метеорит, — как хорошо, что пройдёт несколько недель прежде, чем кто-нибудь обнаружит меня, если это вообще когда-нибудь произойдёт. Как я буду доволен, — конечно, если только просуществую ещё какое-то время в качестве призрака и смогу следить за ходом событий. По крайней мере моя смерть окажется в соответствии с тем, что я знаю. Потому что про свою жизнь я никогда не смогу так сказать.
Никогда… Мне нельзя здесь оставаться. Я начинаю спускаться в туман.
Ева скажет, что я вознёсся на небо.
Но я не падаю. Я выхожу из облака, чуть позже остаётся позади и покрытая камнями вершина. Теперь у меня под ногами лишь мох и кусты вереска. Склон, по которому я спускаюсь, покрыт обильной растительностью всевозможных цветов: чёрные, голубые, светло-зелёные, оранжево-красные мхи. Низко надо мной пролетает стая диких гусей.
Глядя на дальний берег озера, я узнаю нашу недавнюю стоянку. Но нигде нет никаких следов Миккельсена и Квигстада.
Здесь, где я сейчас стою, паслось тогда стадо оленей. Пастух, должно быть, тоже был где-то рядом. Но теперь нигде не видно ни животных, ни людей.
Конечно, мне, в моём жалком положении, разумнее всего было бы вернуться в цивилизацию, туда, где живут люди. И в самом деле, на что я могу надеяться в научном плане? Аэрофотоснимков у меня не было с самого начала. Они были у Миккельсена. Он видит то, чего не вижу я. При встрече я его убью. Но я не знаю, где он.
Я потерял компас, сломал фотоаппарат, истекаю кровью, покрыт синяками, меня лихорадит от недостатка сна, и у меня нет никакой еды. Я больше ничего не соображаю, не знаю даже, который час.
Лучше всего было бы вернуться в Скуганварре, это всего двадцать пять километров. Но из-за Арне я, конечно, не могу так поступить. Вдруг он ещё несколько недель будет меня искать. Я почти наверняка знаю, что он до сих пор ждёт меня в ущелье.
Перебирая в уме различные невероятные способы предупредить Арне о том, что я иду в Скуганварре (walkie-talkie, почтовый голубь, встреча с лопарем, которого я попрошу разыскать Арне, гидроплан или вертолёт, который я жестами заставлю приземлиться, — но за всё это время нам ещё ни одного не попадалось), я подхожу к берегу озера Ливнас-явре, сажусь и внимательно рассматриваю карту в лупу. Здесь, совсем близко, из озера вытекает река Ливнасйокка. Это та самая река, что мы переходили вброд. Если я пойду по её правому берегу, то четвёртый по счёту приток будет Риво-эльв. Продолжая путь вдоль Риво-эльв, я рано или поздно окажусь в ущелье. Это порядочный крюк, но если я хочу застраховаться от риска заблудиться снова, то лучшего решения не придумаешь. Далеко ли идти? По моим оценкам, километров двенадцать. Я запросто дойду до цели к завтрашнему вечеру.
Между тем я съел последние полпачки галет. Я закуриваю сигарету, минут двадцать ничего не делаю, только смотрю, как плещется вода в озере. Потом достаю сеть, распутываю верёвки и подхожу к самому берегу. Вдруг мне повезёт. Сеть нужно постепенно разворачивать и одновременно двигаться вдоль берега, так, чтобы отгородить небольшой залив. Но она всё время запутывается в кустах, приходится постоянно возвращаться и извлекать из ячеек попавшие туда листья и ветки. Так у меня никогда ничего не выйдет. Нужно зайти в воду. Я снимаю ботинки и штаны. Внезапно понимаю, что не могу удержаться от соблазна раздеться совсем, хотя комары и облепили все обнажаемые мною участки кожи. Стягивая одежду через голову, я чувствую, как страшно она воняет. Тело покрыто чёрными полосами засохшего пота, оно всё в запекшейся крови от укусов мух. Правая нога опухла, и она сине-лилового цвета от ступни до колена и выше. Не в силах более мириться с таким безобразием, я извлекаю из рюкзака, на свет полночного солнца, совершенно невероятный предмет. Да, я уже понял, что всё, что у меня есть, и всё, что есть я сам, выглядит здесь несуразно. И всё же этот кусок мыла у меня на ладони необычен лишь оттого, что он так похож на камни на земле.
Круглый зелёный камень, камень-безоар, амулет. Словно собираясь заколдовать воду с его помощью, я ковыляю к озеру, испытывая мучительную боль в растрескавшихся подошвах ног. Потом наклоняюсь, покрываю всё тело мыльной пеной, вхожу в воду по колено, падаю вперёд и плыву. Грязь и пена исчезают бесследно. Растворяются — один к миллиону — в этой воде, куда никогда ещё не попадала грязь.
Погрузиться в ласковую воду, нигде не ощущать ни боли, ни сопротивления — это ещё приятнее, чем спать. Я чувствую это в первый раз за несколько недель, на протяжении которых земная поверхность непрерывно награждала меня ударами каменных кулаков — скал, на которых я лежал, обрывов, у которых я терял равновесие, камней, о которые я спотыкался. Я плыву навстречу солнцу сквозь переливающуюся медь, под небом, где, подобно мне, плывут птицы. Слышу только, как они рассекают воздух, и как плещется вода вокруг моих рук.
37
Комары заметили, что я совершил омовение, и находят меня ещё вкуснее, чем раньше. Плотными облаками они висят у сетки, которую, ложась спать, я застегнул под подбородком.
Прошло несколько часов, солнце теперь стоит на юге. Должно быть, я долго спал. И проспал бы ещё больше, если бы не голод. Я просовываю руку под рубашку, давлю мух на голой коже. Чувствую свежую кровь на кончиках пальцев.
Я встаю, беру увеличительное стекло и пытаюсь зажечь им сигарету. Из табака идёт синий дым, потом появляется и огонь. Солнце светит в безоблачном небе, так не было уже давно, и мне кажется, что сегодня у меня всё получится. Я встречусь с Арне в ущелье, и, может быть, ещё раньше я найду метеоритный кратер. Идти назад? Зачем? Что мне делать в Скуганварре? А в Амстердаме? Что я скажу Сиббеле? А самому себе, в ответ на вопрос: «И что теперь?»? Пойти назад — значит перечеркнуть всё, что я проделал до сих пор.
Я зашнуровываю ботинки и спускаюсь к озеру. На воду садится утка с пятью коричневыми утятами. Может быть, попалась рыба?
Я подбегаю к кусту, к которому привязал одну из верёвок. Мой взгляд скользит вдоль ряда качающихся на воде пробок. Кажется, что к ним добавилась новая; но, потянув за верёвку, я слышу хлопание крыльев. В сети запутался лапками утёнок. Я отвязываю верёвку и прохожу вдоль берега до того места, где я закрепил вторую. Начинаю осторожно вытаскивать сеть. Поймал утку! Как можно медленнее я подтягиваю сеть к себе, складываю её зигзагами по мере появления её из воды. Так безумно трепыхаясь, утёнок, чего доброго, переломает себе лапки. Вот оголодавший Альфред, мясник-любитель, сворачивает ему шею. В первый раз в жизни он убивает такое высокоразвитое существо, как утка. Откручивает голову в два, в три оборота, словно поворачивая ключ в часовом механизме. Ощипывает перья, разрезает тельце. Наружу вываливаются грязно-жёлтые, коричневые, красные внутренности. В природе почти ничего, кроме крови и внутренностей, не бывает красным.
Но ещё прежде, чем утёнок оказывается в пределах моей досягаемости, я слышу, как что-то тяжело хлопает по воде. Форель! Я высвобождаю её плавники из нейлоновых нитей, расплющиваю ей голову каблуком и опять тяну сеть, пока не дотягиваюсь до утёнка. Всё, малыш, приехали. Мне приходится сесть на землю, чтобы освободить его покрытые крючками лапки. Я сажаю его на подушку из мха примерно в метре от воды, он остаётся на месте, не шевелится.
Когда я почти полностью извлекаю сеть из озера, вода опять приходит в бурное движение: ещё одна форель.
Утёнок так и сидит на своей подушке, слегка растопырив крылья, он тяжело дышит, хотя ничего страшного с ним, кажется, не произошло. Я подбираю несколько веток и складываю их рядом. Чищу рыбу, разрезаю её на куски, кладу куски в чайник, наливаю туда воды, выковыриваю ножом соль из твёрдой, как кирпич, пачки, поджигаю ветки.
Утёнок видит всё, что я делаю, просто потому, что случайно оказался повёрнут ко мне боком. Нет, я не могу сказать, что он составляет мне компанию, хотя время от времени я дружелюбно говорю ему по нескольку слов. Я был бы рад дать тебе кусочек хлеба, но у меня нет ничего, кроме рыбы, которую я только что поймал. Края его клюва выгнуты наружу ещё глупее, чем это бывает у взрослых уток. Глаза его способны только видеть, но не смотреть. Он и правда меня развеселил, но ведь это от него никак не зависит.
Ах! Как вкусно я ем! Постоянно извлекая изо рта мелкие кости, я наполняю желудок самой нежной, самой благородной рыбой на свете. Я выпиваю даже воду, в которой плавают бляшки ароматного жира.
Утёнок наконец закрыл свой клюв. Он трясёт головой, клюёт себя в спину, разглаживает перья и неловко шлёпает к воде. Вот он уже плывёт обратно, к матери и братьям, не делая никаких видимых усилий, словно уносимый ветром бумажный кораблик.
38
На такой неровной местности не так-то просто измерить длину шага. Рытвины, кочки, плоские участки, подъём, спуск, — наверное, вообще все шаги разной длины. Я развернул рулетку на земле, придавив её концы двумя тяжёлыми камнями. Слежу за тем, чтобы не делать слишком больших шагов, пробую выяснить, сколько их в двух метрах. Три с половиной. Я подбираю рулетку, она сворачивается, я засовываю её в карман штанов. С картой в руках я стою там, где вода вытекает из озера в Ливнасйокку. Отсюда километров пять до Риво-эльв, по карте это четвёртый приток справа. Пять километров — это две тысячи пятьсот раз по два метра, то есть… то есть восемь тысяч семьсот пятьдесят шагов. Приблизительно. Плюс-минус пятьсот, или, может быть, тысячу.
Какими бы грубыми ни были мои прикидки, всё же именно подсчёт шагов поможет мне определить, дошёл ли я уже до Риво-эльв. Я не знаю, какими критериями руководствовался тот, кто составлял эту карту; но он почти наверняка пропустил какие-нибудь мелкие речки. Так что с некоторой вероятностью четвёртый по счёту приток, который мне встретится, будет вовсе не Риво-эльв. А вдруг я попаду не в ту долину? При одной мысли об этом мне хочется завопить от ужаса. Как же я тогда найду Арне? Буквально всё время уйдёт у меня на бестолковые поиски — вместо работы; в конце концов, подгоняемый голодом, я буду рад и тому, что, полуживой, снова окажусь в цивилизации. Едва спасу свою шкуру, и больше ничего не добьюсь.
Я вырываю из блокнота листок, складываю его вчетверо, зажимаю его в левой руке, беру карандаш в правую и отправляюсь в путь.
Вслух считая шаги, я вхожу в долину Ливнасйокки. Это тот самый берег, по которому медленно спускалось тогда к воде стадо оленей. Кое-где мне ещё попадается олений помёт. Катышки выглядят почти как метеориты.
Метеориты!.. Так близко к воде, в заросшем болоте, мне не найти ни одного.
Чтобы не упустить своего шанса, я немного поднимаюсь вверх по склону. Земля здесь суше, растительности меньше. Здесь много камней, но это всего лишь скатившийся вниз щебень.
Семьдесят. Восемьдесят семь, восемьдесят восемь. Когда я спотыкаюсь о туфур, в панике делаю два-три неровных шага, — сколько я должен прибавлять? Прикидываю на глаз; надо же хоть что-то с этим делать.
Досчитав до ста, я ставлю на бумаге чёрточку и начинаю считать снова. Рот пересыхает оттого, что я всё время говорю вслух — хотя можно ли назвать речью перечисление цифр? Бумажка у меня в руке размягчается от пота. Я внимательно изучаю каждый камень и в то же время всё ещё надеюсь увидеть где-нибудь Квигстада и Миккельсена. Сам не понимаю, почему. Арне ведь сказал, что от горы Вурье они пойдут в Скуганварре, а я сейчас иду на юго-восток, почти в диаметрально противоположном направлении.
Тысяча семьсот пятьдесят. Я только что перешёл первый приток. Вроде всё сходится. Тысяча семьсот пятьдесят шагов — это примерно километр. По карте от озера Ливнас-явре до первого притока чуть меньше километра. Надо же! Метод действительно работает, и даже очень прилично. Неужели в конце концов даже я чему-то научусь? Смогу ориентироваться в этих местах без компаса? Чтобы отпраздновать победу, я сажусь и достаю сигарету. Их у меня осталось ещё восемь. Снова поднялся туман, солнце бледное, как луна. Я зажигаю сигарету одной из пяти оставшихся спичек. Ничего страшного, скоро все тревоги останутся позади. У Арне большие запасы. Ещё девять, пусть даже десять километров. Четыре до Риво-эльв и ещё пять-шесть до ущелья. На карте всё изображено очень схематично. Невозможно разобрать, где, собственно, это ущелье начинается. Но ведь и где сидит Арне, я тоже точно не знаю. Десять километров: в Голландии такое расстояние проходится за час сорок пять минут. А здесь? За пять часов? Ну нет, скорее за четыре, мне ведь не придётся идти по горам. Арне не удивится. Он уже два дня только и делает, что разыскивает меня. Злиться или ворчать он тоже не будет, это не в его стиле. Не станет он и отчитывать меня. Мне и так достаточно стыдно.
Подумать только, что Нансену было примерно столько же лет, сколько мне сейчас, когда он пересёк Гренландию с востока на запад, три тысячи километров по льду, при пятидесятиградусном морозе. В одиночку. Без шерпов, преданных сахибу всей душой.
Я думаю о том, как нужно было бы мне устроить свою жизнь, чтобы когда-нибудь оказаться в состоянии совершить нечто подобное. Во-первых, отец должен был остаться в живых. Но в этом случае я, наверное, не стал бы учиться геологии, и вообще не стал бы учиться, а сделался бы флейтистом. Великим флейтистом? Хороший вопрос. Жалею? Нет. Ни о чём не жалею. Ведь тогда я не смог бы ответить за отца, сделать то, что у него не вышло.
Я встаю, мне нужно торопиться. Я всё ещё могу идти, всё ещё держусь на ногах. Пусть я заблудился, пусть выставил себя на посмешище, пусть я делаю всё неумело — всё же я это делаю, и это главное.
Это главное. Пока что я ни перед чем окончательно не отступил. И поэтому у меня всё получится, поэтому в конце концов я найду кратер, и, возможно, привезу домой метеориты.
Я показываю их Сиббеле. Ну что же, говорит Сиббеле со своим фирменным презрительным смешком, — конечно, у таких людей, как Нуммедал, много всяких заслуг. Но со временем эти люди стареют и отказываются принимать какие бы то ни было новые идеи. Собственно, Нуммедалу надо было уйти на пенсию сорок лет назад, на вершине славы.
Мы оба хохочем. Я выкладываю на стол Сиббеле драгоценные метеориты, один за другим. Чуть позже я стою перед другим столом — длинным, обитым зелёной кожей; за ним сидят профессора в мантиях. На мне чёрный фрак, и я склоняю голову, но отнюдь не в знак смирения, а для того, чтобы разглядеть лежащий на столе докторский диплом. Свиток метровой длины, потрясающая каллиграфия, красная печать размером с яичницу. Cum laude.[3]
На бумажке, которую я сжимаю в левой руке, уже три ряда чёрточек, в каждом пять раз по пять, а под ними ещё один — четыре раза по пять. Девяносто пять чёрточек! Девять тысяч пятьсот шагов. Умножим на два, разделим на три с половиной: примерно пять тысяч. Всё сходится! Считать больше не нужно. Я уже перешёл три притока и подхожу к четвёртому. Эта глубокая долина, конечно, не что иное, как Риво-эльв. Зачем мне теперь идти вдоль реки? Заблудиться больше невозможно, я могу смело срезать угол.
Я поднимаюсь метров на шестьдесят, вижу обе реки — Ливнасйокку и Риво-эльв. Пенящаяся вода, постоянно сдерживаемая порогами.
Я пытаюсь представить себе, как долина Риво-эльв будет выглядеть дальше. Она должна всё больше сужаться и в конце концов привести в ущелье, где меня ждёт Арне. Как я его найду? Нужно принять важное решение: идти ли мне по берегу реки, или же выше, по кромке левого склона? Что разумнее? Если пойти поверху, то у меня есть все шансы не заметить Арне в том случае, если он ждёт меня внизу у воды или на другом берегу. Если идти вдоль берега, то, наоборот, я смогу держать оба склона в поле зрения, хотя и тогда может статься, что Арне разбил палатку в плохо просматривающемся с берега месте. Но не идиот же он, в самом деле. Он, в свою очередь, делает всё возможное для того, чтобы мне было как можно легче его найти. Уж на это-то я могу рассчитывать. И оттого, что мне будет гораздо легче идти снизу, оттого, что Арне это тоже понимает, я решаю идти вдоль берега.
Долина становится всё глубже и уже, склоны всё круче, — настолько, что растениям больше не за что на них уцепиться. Местами прослойки породы выходят наружу, как книжные полки. На них лежит снег, он не тает даже летом. Снег, покрытый чёрной пылью. И красный снег. Я кладу немного снега на ладонь и рассматриваю его в лупу, но он тает раньше, чем мне удаётся рассмотреть делающие его красным микробы. Наверное, их вообще нельзя увидеть в лупу. Но не стоит тратить время на всякую ерунду. Если нигде не останавливаться, то, может быть, через пару часов я уже встречусь с Арне. Два часа — бессмысленная мера времени для человека, у которого нет часов. До вечера: такой же бессмысленный ориентир в этих местах, где никогда не темнеет. В любом случае, как можно скорее.
Что я скажу ему при встрече? Конечно же: «Doctor Livingstone, I presume?».
Doctor Livingstone, I presume! На пустой желудок удивительно легко смеяться. А смеяться, собственно, нечему, потому что это — шутка Квигстада, а Квигстада я так и не нашёл.
Я на ходу выжимаю в рот тюбик с мёдом, который какое-то время назад засунул в карман штанов. Исчезли последние сомнения насчёт того, в правильную ли долину я попал, хотя и нельзя сказать, что я узнаю окрестности — отсюда они совершенно непохожи на то, что я недавно видел. Пожалуй, я узнаю только дно, зелёное и болотистое; а вот на левом склоне показался ледник! Тот самый ледник. Журчание реки становится всё громче — к нему добавляется шум стекающих с ледника ручьёв. Теперь я совсем скоро увижу Арне. Doctor Livingstone, I presume.
— Мой компас показал не то направление. Прости. Ты был прав.
— А где же он?
— Потерялся.
— Такой шикарный компас! Как жаль.
— Да тебе радоваться надо, что я от него избавился!
— Наверное, ты просто что-то перепутал.
— Не беспокойся. Теперь я всецело положусь на тебя. Компас мне подарила сестра, та, что верит в Бога. Очень характерный для неё подарок. Интересно, где она набралась всех этих глупостей. Мой отец ни во что не верил, моя мать ни во что не верит, я тоже. Но сестра, кажется, собирается указывать путь всему миру.
— Куда же это?
— Я-то откуда знаю? Наверное, на Северный полюс, как компас. В качестве компенсации она без ума от негритянских религиозных песнопений.
— Ха, ха, ха.
Осторожно ступая, я продвигаюсь дальше, иду как можно ближе к скалам, чтобы не попасть в болото. Три толстых бесформенных негритянки, каждая весом по крайней мере в двести килограммов, хлопают в ладоши, подпрыгивают, бьют по земле высокими каблуками, кричат: «Аллилуйя!». Меня охватывает сострадание к неграм, которых всегда, пусть даже с самыми благими намерениями, выставляют в самом идиотском и смехотворном виде: вопящими, визжащими, трясущимися, закатывающими глаза, истекающими потом от игры на трубе, разбивающими друг другу носы на ринге, требующими равноправия под предводительством пастора, представителя той самой религии, что держит их в повиновении. Ни в газете, ни по телевизору я никогда не видел негров — химиков в лаборатории, негров — космонавтов, негров — поэтов, спокойно декламирующих свои стихи; а ведь такие тоже существуют?
Не видно ли палатки Арне? Нет, этот сделанный человеческой рукой предмет — это не палатка. Что-то другое. Я останавливаюсь, чувствуя смесь радости и разочарования. Это трёхногий штатив, теодолит привинчен сверху. Вне всякого сомнения, Арне где-то здесь. Зря я нервничал всё это время. Приставив ладонь ко лбу, я оглядываю окрестности в поисках Арне. Нет, никаких следов. Палатки тоже не видно. Но о чём мне беспокоиться? Он, конечно, делает какие-нибудь замеры поблизости, он скоро появится.
Направляясь к штативу, я чувствую себя так, как будто целюсь в спящее животное.
Чёрт возьми, я устал, но это было не зря. В общем и в целом, я очень неплохо справился с задачей. Нашёл дорогу без компаса. Очень просто. Точно так же легко, завтра или послезавтра, я сам собой окажусь прямо на краю метеоритного кратера.
Ступая по ивовому стланику, я бодро пересекаю болото и подхожу к реке. Треножник стоит под противоположным склоном. Теперь только бы не свалиться в воду в последний момент, не утонуть по пояс в грязи. Doctor Livingstone, I presume — и у ног его сформировались огромные лужи.
От смеха у меня болит живот.
Я перехожу реку без малейших затруднений, даже не промочив ноги. Подойдя к треножнику, я осматриваюсь во всех направлениях, но так никого и не вижу. Сам не зная, зачем, заглядываю в окуляр прибора. Вижу, прямо перед крестиком, сидящую на склоне тундряную куропатку, она хлопает крыльями, подбирает что-то с земли и исчезает из поля зрения.
Я нерешительно иду в том направлении, в котором был ориентирован окуляр.
— Эй! Арне!
Он лежит на земле, прямо передо мной.
— Эй, эй, — повторяю я.
Арне лежит навзничь, одна нога согнута, другая вытянута. Я отчётливо вижу стёршуюся до гладкости подошву его сапога, который к тому же разорван. Затылок Арне упирается в камень. Камень измазан чем-то похожим на жёлтый пудинг. В нём полно мух, раньше я здесь таких не видел. Большие синие мухи, синие, как стрелки настенных часов.
Рот его закрыт как-то странно, верхние зубы покоятся на нижней губе, как будто в самый последний момент ему пришлось закусить губу от боли. В остальном лицо Арне точно такое, каким я уже много раз видел его, пока Арне спал: невероятно старое и усталое, сморщенное, как кора дуба. Но сейчас он не спит. И никогда больше не заснёт.
Я зажимаю рот рукой, словно собираясь воспрепятствовать собственному дыханию.
По бороде Арне, по его лбу, по его полузакрытым глазам ползают мухи.
Ни одного комара.
39
Сколько раз я пробежал вверх и вниз по склону, на котором разбился Арне?
Вначале я поднялся наверх, потому что заметил наверху его палатку. С высоты я увидел, что рядом с Арне лежит блокнот. Наверное, когда Арне упал, он держал блокнот в руке. Значит, вниз, подобрать блокнот, сунуть в карман. Снова вверх, к палатке. Я вырываю из земли колышки и стойку. Спускаюсь вниз, накрываю Арне палаткой. Снова поднимаюсь, думая сделать что-нибудь с остальными вещами, не знаю, что именно, в конце концов заворачиваю рюкзак и спальник в полиэтилен. Нахожу футляр от теодолита. Не могу оставить теодолит на штативе, во власти стихий. Так что опять бегу вниз, отвинчиваю теодолит, упаковываю его в футляр, складываю треножник. Кладу всё это рядом с Арне. Снова иду вверх. Сам не знаю, зачем. Если я хочу найти тропу на Равнастуа, то лучше всего идти вдоль берега. Так что я опять спускаюсь. Прыгаю с камня на камень, время от времени задеваю скалы плечом, но словно невидимый парашют предохраняет меня от падения. Об опасности я больше не думаю.
Время от времени я оглядываюсь. То место, где лежит Арне, уже скрылось из вида. Я иду дальше. Снова останавливаюсь, приседаю, спустив штаны. Страшная боль в животе. Понос. Рыбно-медовая диета.
Глупо ли я поступил, что не взял с собой еду, которая оставалась у Арне? Вообще-то мне всё равно. Я не хочу есть. Начинается дождь. Я продолжаю путь. Ущелье сужается ещё больше, кончается тупиком. Я выбираюсь из него, но не меняю направления. Дождь всё усиливается, я заворачиваюсь в дождевик. Иду дальше, начинаю спускаться в следующую долину, дождь льётся мощными струями, они омывают мне лицо. Я спотыкаюсь, наполовину ослеплённый дождём; мне удаётся восстановить равновесие, но я наступаю на полу дождевика. Образуется дыра метровой длины. Я отрываю край дождевика совсем и выбрасываю его.
40
Тропа на Равнастуа так узка, что на ней не помещается даже ботинок. Камней на ней почти столько же, сколько и повсюду вокруг. Я промок до нитки, и даже не помню, когда это случилось. Дождь идёт, не прекращаясь, по крайней мере уже два дня. Мои глаза слезятся, горло опухло настолько, что я едва дышу, при каждом шаге я кашляю, в голове стучит кровь. И всё же время от времени я кладу мелкие камешки на большие валуны вдоль дороги. Тем, кто, возможно, пройдёт здесь после меня, будет легче найти тропу.
Арне среди них уже не будет. На привале, в те минуты, когда дождь немного ослабевает, я листаю его блокнот. Все эти чудесные рисунки, сделанные зазря. Аккуратные заметки, которые я не могу прочесть, поскольку не знаю норвежского. Время от времени я произношу вслух какое-нибудь слово. На последней из исписанных Арне страниц дважды встречается моё имя. Что он обо мне написал?
Я сбрасываю рюкзак у маленького круглого озера. Достаю сеть и закидываю её в воду. По всему берегу растёт высокий кустарник. Отойдя чуть-чуть в сторону, я ложусь на бок и закрываю глаза. Я хочу спать.
Открывая дверь большой комнаты, я слышу оживлённый диалог на непонятном мне языке. Очевидно, они забыли выключить телевизор, потому что в комнате никого нет и свет не горит. Я тоже не включаю свет, потому что собираюсь посмотреть телевизор. Но не только свет в комнате выключен, кажется, кто-то отключил изображение. Ориентируясь по звуку, я добираюсь до того угла, где стоит телевизор, приседаю на корточки и начинаю крутить переключатели, пытаясь вызвать изображение. Но картинки не появляется. Кто-то, пробравшийся в комнату вслед за мной, нападает на меня сзади и зажимает мне рот. «Отец!» — кричу я и просыпаюсь от страха.
Противно просыпаться при полном дневном свете. Как получилось, что я позвал отца, ведь отца у меня нет вот уже восемнадцать лет, отец умер так давно, что я даже не помню, чтобы я его когда-нибудь звал?
Рот мне зажимает моя собственная рука.
Дождь кончился, но дует сильный ветер, и небо затянуто. Я ещё долго лежу на спине, открыв глаза, глядя вверх. Подумав обо всём, о чём я уже когда-то думал, я встаю, подхожу к озеру, отвязываю сеть и тяну её на берег. Форель. Ещё форель. Вытянув сеть до половины, я чувствую, что она очень тяжёлая. Порыв ветра поднимает кусок сети и забрасывает его в кусты. Вторую половину я вовсе не могу вытащить, вода приходит в бурное движение, как будто вокруг сети она кипит. Ещё одна рыба. Я отхожу назад и тяну изо всех сил. Сеть полна рыбы, в каждой ячейке по рыбе, сеть превратилась в ковёр из блестящих подпрыгивающих рыб, их сотни. Что делать? Освободить их всех невозможно. Для этого я слишком устал. Сначала поесть.
Сколько у меня осталось спичек? Четыре. Все ветки промокли насквозь от долгого дождя. Я аккуратно складываю костёр, проверяя каждую ветку на относительную сухость. Зажигаю первую спичку. Она гаснет на ветру. Вторую и третью тоже гасит ветер. Четвёртой мне всё же удаётся поджечь тоненькую веточку, но пламя почти сразу гаснет. Веточка тлеет. Пытаюсь раздуть огонь. Не получается. Прекращается даже тление. Я наблюдаю это в растерянности, кусая большой палец, потом разрезаю форель на куски, натираю их солью и ем. Почти как малосольная селёдка.
Когда мне кажется, что я достаточно поел, я возвращаюсь к озеру и осторожно пытаюсь высвободить сеть из кустов. Но каждый раз, когда мне с большим трудом удаётся распутать несколько ячеек, ветер снова сводит на нет все мои усилия. Рыбы застыли неподвижно, но иногда то одна, то другая из них внезапно дёргается. В ярости я пытаюсь вытянуть сеть силой. Она местами рвётся, но так и не отделяется от кустов. Приходится оставить всё, как есть. Как будто прилив увешал кусты искрящимся серебром. Как будто гигантский паук сплёл здесь свою паутину.
41
На каждом холме я останавливаюсь и смотрю на карту. Опять идёт дождь, видимость очень плохая. И всё же я знаю, что я уже недалеко от Равнастуа. Сейчас день или вечер, в любом случае, вторая половина суток.
Через каждые сто шагов мне приходится отдыхать, а шаги мои всё меньше и меньше. Я слишком устал для того, чтобы их измерять. Но шестидесяти сантиметров в них уже точно нет. У моего левого ботинка оторвалась подошва, я пробовал ходить босиком, но это слишком болезненно; в конце концов я привязал подошву к ботинку оторванным от дождевика куском полиэтилена, но полиэтилен всё время развязывается. Я сделал всё от меня зависящее для того, чтобы оказаться в Равнастуа как можно скорее; но чем дальше, тем меньше значит время.
О том, что я здесь, никто не знает. Где же лопари? Последние дикари Европы? Я не встретил ещё ни одного. Собственно, я мог бы умереть, подобно Арне. Ах! Подумать только, что с ним случилось ровно то, чего я так боялся для себя. Я чувствую себя так, как будто не оправдал ожиданий.
Последние записи я сделал позавчера. На пятый день после того, как нашёл Арне. Тогда же я сбавил и темп, как будто решил, что пусть лучше Арне так и лежит там, где я его оставил. Месяц вне цивилизации — и правила обитаемого мира сменяются правилами одиночества. Попавшие здесь в беду олени превращаются в скелет прямо под открытым небом, и вскоре от них не остаётся ничего — разве что рога, ребро или позвонок; и Арне, на самом деле, тоже всё равно. Похороны, венки, надгробные речи — это заботы для тех людей, что живут на мощёных улицах, в десятиэтажных домах, сидят вдесятером в одной комнате. Это — действо, неотделимое от места, времени, сообщества.
Даже мысль о том, что скоро мне дадут поесть, даже мысль о настоящей постели оставляет меня безучастным.
О том, чего я, словно пытаясь заклясть судьбу, так сильно, истерически не хотел, — погибнуть так же, как мой отец, — об этом я тоже думаю без всяких эмоций.
Потому что — с чем я возвращаюсь домой? С пустыми руками. С сообщением о чьей-то смерти.
Как будто я и так недостаточно устал, я не могу сосредоточиться ни на чём, кроме тяжести этого страшного известия. Господь небесный! Одно это уже вселяет в меня ужас перед обитаемым миром, перед встречей с людьми, которым я должен буду это сообщить.
Но ничего не поделаешь, остаться здесь я тоже не могу. И я поджимаю ноги, отталкиваюсь правой рукой от земли. Шатаясь, стою на двух ногах, как и подобает венцу творения. Начинаю медленно взбираться на очередной холм.
Уже какое-то время назад я заметил, что держаться узкой тропы стало гораздо легче. Теперь, чтобы распознать её, не нужно прилагать никаких усилий. Похоже, что здесь по ней часто ходят люди. Это может означать только одно: Равнастуа уже совсем близко.
Вершина холма тоже совсем близко. И что же я вижу, ещё раньше, чем выхожу наверх? Там стоит самое крупное животное из тех, что я видел за последние несколько недель. Лошадь.
Это пегая лошадь, её чёрная грива стоит дыбом, как шерсть на спине у гиены. Она пасётся, а заслышав меня, поднимает голову. Фыркает, переставляет переднюю ногу. Она привязана длинной верёвкой к колышку в земле. Что она ест? Трава здесь не растёт. Лошадь жуёт какой-то худосочный кустик.
Это животное не смогло бы выжить здесь без человеческой помощи. Значит, поблизости есть люди.
Поднявшись на следующий холм, я вижу дом, нет, это целых три маленьких деревянных домика, они покрашены в цвет ржавчины. На крыше самого большого — колоссальная антенна, высотой, наверное, в десятки метров. Неподалёку я в первый раз за долгое время вижу настоящие деревья, берёзы, хотя и совсем небольшие.
Очень медленно я подхожу поближе. Теперь мне приходится то и дело садиться отдыхать. Мне уже давно безразлично, на чём я сижу. На торфяных кочках, если придётся; иногда у меня просто не хватает сил искать сухое место. Торопиться мне больше некуда. Я уже так близко к самому большому дому, что различаю ведущую ко входу лестницу. Сейчас я спокойно поднимусь по этой лестнице. Как ни странно, на самом деле это получается лишь с большим напряжением, как будто я пьян. Я даже не в состоянии сразу ухватиться за дверную ручку, я ищу её на ощупь, как слепой.
Дверь открывается. За ней никого нет, там что-то вроде деревянного вестибюля, на стене висит телефон, рядом с ним стоит большой железный шкаф. За ним — другая дверь.
В комнате. Деревянные стены. У окна сидит старуха с жёлтым морщинистым лицом, её волосы заплетены в короткие чёрные косы. Она беременна. Я выдавливаю из себя несколько слов по-английски. Она улыбается, встаёт и выходит из комнаты. Как она, такая старая, может быть беременна? С потолка свисают полоски липкой бумаги, мухи садятся на них, чтобы никогда больше не оторваться.
На стене нет ничего, кроме трёх больших календарей. На полу, вдоль стен, разложены разные предметы: кастрюли из нержавеющей стали, коробки, швейная машина, стопки одежды. В комнату врывается множество голых смуглых детей. Они ведут себя тихо, прячутся друг у друга за спиной, сосут пальцы. Дверь в другую комнату полуоткрыта. За ней видны кровати. Дети стоят у двери, как на страже, они готовы тут же захлопнуть её за собой, если я сделаю что-нибудь такое, что покажется им опасным. Я пошатываюсь, но не схожу с места. Один, два, три, много голых детей.
Женщина возвращается в сопровождении светловолосого человека, который довольно чисто говорит по-английски. Я же, наоборот, не в состоянии произнести ни слова. Заикаясь, я указываю на карте место, где лежит Арне. Человек берёт у меня карту и выходит из комнаты, жестами объясняя, что я должен пойти с ним. Подходит к чёрному стальному шкафу в прихожей. Это радиопередатчик. Он включает его и звонит по телефону.
Потом он возвращает мне карту.
— Они полетят искать его на вертолёте, — говорит он.
Женщина и мужчина вместе отводят меня к одному из соседних домиков, у входа в который висит табличка: «STATENS FJELLSTUE».
Я сижу на табуретке за белым деревянным столом. Вдоль стены стоят в два этажа четыре деревянные кровати. На столе — тарелка, нож, сковородка из нержавеющей стали с рубленым оленьим мясом, стальная кастрюля с картошкой в мундире, батон хлеба метровой длины и кувшин с молоком. Олений фарш. На вкус почти как ножка косули.
Моя рука не спеша перемещается от еды ко рту и обратно. Я медленно жую.
Сколько здесь всего такого, чего я уже так давно не видел и не слышал. Вот, например, шум мотора. Планер? Шум становится всё громче и громче, как это может столько длиться? Медленный планер? Когда шум достигает пика, я выглядываю в окно и вижу низко летящий вертолёт.
Мои глаза закрываются сами собой. Мне едва хватает сил добраться до кровати.
Когда я просыпаюсь, я вижу, что время суток ровно то же самое. Я лежу на оленьих шкурах, завернувшись в одну из них, как в одеяло.
Прошло двадцать четыре часа.
Я слезаю с нар и моюсь в ведре холодной воды. С мылом!
42
Его фамилии я, конечно, не разобрал, и всё собираюсь спросить ещё раз, как же его зовут; но почему-то так этого и не делаю. Он биолог, специалист по грибам, сотрудник Музея естественной истории в Тромсё. Об Арне он больше ничего не спрашивает.
Когда я плачу женщине за еду и ночлег, он говорит:
— Ей всего тридцать девять, и она беременна пятнадцатым ребёнком. Много детей — лопари от этого без ума. А видите, как обставлен дом? Как будто они до сих пор живут в юрте: всё разложено на полу.
Он суёт мне в руку упаковку аспирина и снабжает меня парой резиновых сапог. Если бы только они были у меня с самого начала!
Он договорился по телефону, что один местный лопарь перевезёт меня на моторке через Карасйокку и доставит в Карасйок.
До реки двенадцать километров пешком. Дорогу найти несложно. Я прощаюсь с женщиной и с ним и отправляюсь в путь.
Внезапно он окликает меня и бежит вслед:
— Вы уверены, что дойдёте без проблем?
— Да, конечно, всё нормально.
— Сапоги не жмут?
— Нет.
— Надеюсь, что всё будет хорошо. Если что, вы ведь можете остаться, я попрошу, чтобы за вами выслали вездеход.
— Нет, спасибо. Я в полном порядке. Спасибо!
Найти дорогу к реке не представляет никаких трудностей. Это настоящая дорога; хотя она вся чёрная от грязи и на ней попадаются лужи по колено, она такая широкая, что по ней спокойно пройдёт вездеход на гусеницах. Местами, и правда, видны следы гусениц.
Всё вернулось к норме: дорога, деревья вдоль дороги — ведь я спустился на сотню метров и оказался ниже границы леса. Выше я уже не попаду, путь плавно спускается в долину Карасйокки. Там, где меня будет ждать моторка, река всего на сто тридцать шесть метров выше уровня моря.
Это уже не экспедиция. Это прогулка по лесу.
Внезапно слева от меня серое небо вспыхивает жёлтым, и я слышу жуткий грохот, такой, как бывает, когда реактивный истребитель проходит сверхзвуковой барьер. Вспышка тут же гаснет, небо снова мрачнеет, но громыхание раздаётся ещё довольно долго, как будто поблизости переезжает мост товарный состав.
Я останавливаюсь, и всё ещё стою на месте, когда уже не видно и не слышно ничего, кроме птичьих стай, поднимающихся отовсюду с пронзительными криками.
Когда они, невидимые, садятся снова, я сворачиваю с дороги и забираюсь на небольшое возвышение. Но даже там деревья заслоняют мне вид, и я нигде не могу различить ни огня, ни дыма.
Там, где дорога выходит к реке, стоит маленький дом. Больше ничего нет, только какие-то болотные заросли. Рядом с домом лежит на берегу моторная пирога. Заметив меня, лопарь идёт мне навстречу. Он немного говорит по-немецки, хочет взять у меня рюкзак и отнести в лодку. Я спрашиваю, слышал ли он тот мощный удар. Да, слышал, и вспышку тоже видел. Как ему кажется, что это было такое? Может быть, где-то упал самолёт.
Не слышал ли он тогда и шума моторов? Я — нет.
Нет, он тоже не слышал.
Как широка Карасйокка. Неужели это и вправду река? Скорее, бесконечно растекающаяся лужа, лишь едва-едва достаточно глубокая для лодки. Она постоянно разветвляется на рукава, обходя покрытые галькой участки суши, слишком низкие для того, чтобы называться островами.
Я сижу в носу лодки, спиной к направлению движения. Домов больше нигде не видно, как не видно и других лодок. Река извивается, и мы, в свою очередь, лавируем по её извилинам. Деревянное дно лодки глухо и ворчливо трётся о дно реки. Иногда даже мотор оказывается не в состоянии протолкнуть нас дальше, и лопарь жестами объясняет мне, что я должен встать, пересесть, переступить с одной ноги на другую, чтобы лодка снова поплыла.
Карасйок. Деревянные дома вдоль воды. Лопарь подгоняет лодку к берегу возле стального арочного моста. Мы выходим на сушу. Видим, как стадо бурых коров робко и беспорядочно поднимается на мост. Невдалеке стоит деревянный дом цвета ржавчины, относительно большой, трёхэтажный, с высокой остроконечной крышей. Рядом с ним — длинная мачта с норвежским флагом. Государственная гостиница.
Лопарь сопровождает меня к магазину, где я покупаю новую рубашку и пару резиновых сапог. Я снимаю сапоги биолога и отдаю их лопарю с просьбой при случае отвезти их обратно. Надеваю новые сапоги. В гостинице я принимаю горячую ванну, сбриваю бороду и ложусь в кровать, на чистые простыни.
На следующее утро за мной заходит полицейский, он спрашивает, сколько дней я не видел Арне прежде, чем обнаружил его мёртвым. Я во всех подробностях рассказываю, что произошло, и даю ему посмотреть блокнот Арне. Он внимательно изучает ту страницу, на которой встречается моё имя, кивает головой, возвращает мне блокнот и спрашивает, хочу ли я ещё раз увидеть Арне.
Вместе мы направляемся в больницу. Проводив меня к врачу, полицейский уходит.
— Вы его родственник? — спрашивает врач.
— Нет, друг.
— Вы знаете его семью?
— Нет, никого.
— Вы хотите его видеть?
— Я не знаю.
— Я вам этого не советую. Правда не советую.
— Тогда я пойду.
— Нет, подождите. Почему вы так хромаете?
Врач осматривает мои ноги, вызывает медбрата, медбрат промывает мне раны, аккуратно перевязывает колено и наклеивает пластыри на ссадины.
Через полчаса я сижу в автобусе, который вначале пойдёт на север, в Руссенес, а потом повернёт на запад, вдоль берега к Алте и дальше на юг.
В Руссенесе автобус останавливается довольно надолго: сюда приплывают катера с Северного мыса.
На остановке я замечаю девушку. На ней длинные брюки, голова повязана платком, а у ног девушки стоит картонный чемодан. Я вяло хожу вокруг неё. Её правая штанина залатана на колене, а брови неумело выщипаны. Она тоже смотрит на меня, может быть, просто потому, что я так жалко хромаю. Перед отправлением я стараюсь войти в автобус сразу за ней, и мне удаётся сесть с ней рядом.
— Ты тоже едешь в Алту? — спрашиваю я.
— Нет, дальше.
— Возвращаешься с Северного мыса?
— Нет.
— А как же тебя сюда занесло?
— Я живу в Хоннингсвоге.
— А где это, Хоннингсвог?
— На том же острове, что и Северный мыс.
— Это далеко на севере.
— Да.
— Зимой, наверное, всё время темно.
— Да, всю зиму.
— И что же ты тогда делаешь? Ходишь по вечеринкам?
— Нет, учу уроки.
В это я охотно верю, потому что она отлично говорит по-английски, но всё-таки зачем-то спрашиваю:
— Значит, ты ещё учишься в школе?
— Конечно.
— Сколько же тебе лет?
— Пятнадцать.
— Пятнадцать? Да ты шутишь. Девятнадцать.
— Нет, пятнадцать, — и она отворачивается от меня.
Ну и дурак же я. Теперь она, наверное, думает, что я счёл её слишком маленькой. Она ведь и так всего лишь отвечала на мои вопросы. Проходит довольно много времени, прежде чем я осмеливаюсь снова с ней заговорить. Наконец решаюсь:
— Я из Голландии.
— О.
— Я довольно долго пробыл в Финской Марке.
— А что ты там делал? Ловил рыбу?
— Нет, изучал грунт.
— Ты студент?
— Да.
— Нашёл что-нибудь интересное?
— Как тебе сказать.
Она протягивает руку к моему ремню и указывает на футляр, в котором когда-то был компас.
— Что у тебя там? Пистолет?
— Просто пустой футляр.
Я открываю его, демонстрирую пустоту и говорю:
— Там был компас, но я уронил его в трещину. Глупо, правда?
— Жаль. Такая красивая кожа. Твой футляр всё ещё выглядит как новенький.
— Хочешь — возьми его.
— Да ты что!
— Мне он всё равно больше не нужен.
— Ты ведь можешь купить новый компас.
— Возьми на память.
— Да зачем он мне?
Нет, этого я тоже не знаю — зачем он ей. «На память!» О человеке, о котором она не знает ничего, даже имени.
Теперь я уже совсем не понимаю, о чём я мог бы с ней поговорить, и битый час тупо сижу, не произнося ни слова, как будто я и не пытался с ней познакомиться.
Скайди. Остановка на плато, у деревянного ларька. Я выхожу, ковыляю по площадке. Девушка тоже выходит из автобуса, и, к моему удивлению, идёт со мной рядом, держась со стороны моей больной ноги. Очевидно, она всё же считает, что имеет ко мне какое-то отношение. Кажется, она с трудом сдерживается от того, чтобы предложить мне свою помощь.
Туристический лопарь появляется из своего шалаша, во рту трубка с медной крышкой, в руках оленьи рога. Точно так же он появился и в прошлый раз, когда мы с Арне стояли здесь, поёживаясь, под серым, как будто зимним, небом. Тогда всё было ещё впереди, тогда Арне был жив.
Я останавливаюсь, как вкопанный, и беру девушку за руку. Она смеётся.
— Почему ты смеёшься?
— А ты почему не смеёшься?
В ларьке я, исполненный отцовских чувств, покупаю ей шоколадку.
Когда автобус снова отправляется, я долго и мучительно ломаю голову над вопросом — как бы мне всё-таки продолжить разговор, но в конце концов так ничего и не придумываю, кроме:
— Ты так и не сказала мне, как тебя зовут.
— Меня зовут Ингер-Мари.
Называюсь сам: одно слово. Сюжет исчерпан.
Поэтому я достаю блокнот Арне, открываю его на той странице, где написано моё имя, и передаю блокнот девушке.
— Вот, — говорю я и указываю на ту строчку, в которой говорится обо мне. — Ты можешь разобрать, что здесь написано? Можешь перевести мне, начиная вот отсюда?
Она смотрит в блокнот, шевелит губами. Указательный палец, кончающийся обкусанным ногтем, скользит от слова к слову. Дойдя до конца страницы, он возвращается к моему имени, и Ингер-Мари читает вслух:
— Альфред свернул не в ту сторону. Сначала я подумал, что это шутка. Подождал минут пятнадцать, но он не возвращался. Я искал его весь день. В конце концов вернулся в ущелье. Буду ждать его здесь.
Местные габбровые породы легко рассыпаются на мелкий щебень. 33. П. 234…
Ингер-Мари начинает запинаться.
— Это можно пропустить.
Через пару строчек она снова начинает читать:
— Альфред так и не вернулся. Всё-таки останусь здесь; если понадобится, хоть на неделю. Я давно заметил, что ему приходится трудно на такой непривычной для него местности. Восхищён его упорством. Никогда не жалуется, хотя несколько раз очень неудачно упал. К тому же по ночам я не даю ему спать своим ужасным храпом. Другой давно бы сказал — всё, хватит, с меня довольно.
Склон…
Я киваю головой, забираю блокнот у неё из рук, захлопываю его, не могу выговорить ни слова.
Автобус едет дальше в облаках пыли.
— «Альфред» — это ты? — спрашивает она.
— Да.
— У тебя очень болит нога?
— Нет, не болит уже давно, — лгу я.
— Надеюсь, что я всё правильно перевела. Я тоже хочу поступить в университет, но отец говорит, что я сумасшедшая. А скажи, может быть, ты что-нибудь об этом знаешь: вчера в окрестностях Карасйока люди слышали страшный грохот. Так сегодня утром передали по радио. Сначала думали, что упал самолёт, но потом так ничего и не нашли. Что там, интересно, случилось?
— Понятия не имею.
— В летающие тарелки я не верю. А ты?
— Я тоже.
— Может быть, шаровая молния. Ты когда-нибудь видел шаровую молнию?
— Нет, никогда.
— А я видела. Один раз. Я стояла поблизости от дома с косой крышей, пережидала дождь. С крыши как будто скатился огненный шар. Но он только шипел.
Когда автобус останавливается в Алте и я встаю, я протягиваю ей руку, но она не обращает на это внимания, обхватывает меня обеими руками за шею и целует в губы. Моя ладонь лежит у неё на спине, я чувствую её худые лопатки. Потом я целую её ещё раз в обе щеки и в смятении чувств выхожу из автобуса.
Шофёр тоже выходит и лезет на крышу, чтобы спустить оттуда мой рюкзак.
Ингер-Мари стоит у окна и смотрит на меня. Она не улыбается, и её лицо не выражает ничего определённого. Я машу ей рукой без особого энтузиазма, ни на что не надеюсь, ничего не хочу. Шофёр возвращается в кабину.
Когда автобус отъезжает, она подходит к окошку в задней двери и продолжает на меня смотреть, так же, как смотрела на меня и всё это время. Только когда нас разделяет такое большое расстояние, что мы почти уже не в состоянии различить друг друга, она делает какое-то движение. Машет рукой? Может быть, стоя у окна, она видела меня как будто нарисованным на школьной доске, и теперь она просто стирает моё изображение. Так, наверное, и правда лучше всего.
43
Друзья Арне всё ещё в отпуске. Я прошу у соседей ключ и нахожу дом точно в таком же состоянии, в котором мы его оставили. Мой чемодан стоит под диваном в гостиной. Я раздеваюсь, потом надеваю свою городскую одежду — сорочку, галстук, пиджак. Управившись с этим, я звоню в Геологическую Службу, в Тронхейм. Директора Офтедала нет, Валбиффа, или как там его зовут, — тоже. Но его секретарша в курсе дела. Она сообщает мне, что аэрофотоснимки временно находятся в университете Осло. Дубликатов у них нет, только негативы. Нужно ли заказывать новые оттиски? Да-да, это можно сделать, но нет, заходить завтра бесполезно. Дело займёт довольно много времени, по крайней мере, месяца два-три. К тому же с этим связаны весьма существенные расходы. Не хочу ли я оставить ей свой адрес?
Потом звоню в университет Осло и прошу к телефону профессора Нуммедала. О. Профессор Нуммедал? Он сейчас не в Осло, он в Хопе, это такой пригород Бергена. Когда он вернётся? Точно пока неизвестно, но в ближайшие дни его не будет. Ах, Вы возвращаетесь в Голландию? Тогда попробуйте разыскать его в Бергене. Вот адрес: Хоп. Трольдхёугенсгате, дом 5, телефон 3295.
Наконец, я вызываю такси и оставляю у телефона две десятикроновые банкноты.
Ноги, опухшие и покрытые пластырем, не влезают в ботинки; так что я снова надеваю резиновые сапоги.
С чемоданом и с рюкзаком, я доезжаю на такси до причала, от которого отправляется гидроплан. Из бюро, где продают билеты, я отправляю матери телеграмму — о том, что буду дома через три дня.
44
Голубое небо, ласковое солнце. Здесь меня окружают не звуки, а запахи, и нигде нет ни комаров, ни кровожадных мух. Местами сквозь траву и цветущие рододендроны проступают угловатые скалы. Дом пять по Трольдхёугенсгате расположен на узкой асфальтированной дороге, так круто поднимающейся вверх, что машина способна пройти этот подъём лишь на первой скорости. Тропинка к дому ещё круче, и часть её — это лестница, грубо вырубленная в скале.
Чтобы встретиться с Нуммедалом, мне опять нужно подниматься вверх, и мне кажется, что в этом заключён некий глубокий смысл. Какой именно — сам не знаю. Преодолевая ступеньку за ступенькой, я добираюсь до двери и звоню.
— Мне к профессору Нуммедалу, — торопливо говорю я горничной, — он меня ждёт, я говорил с ним сегодня утром по телефону.
Она улыбается, скорее всего, понимает только по-норвежски, проводит меня в оранжерею, где Нуммедал сидит на солнце. На нём больше нет тех удивительных очков, собственно, двух пар очков, одну из которых можно было поворачивать вверх и вниз. Обычные солнечные очки.
Нуммедал не встаёт, только невнятно говорит что-то по-норвежски. Горничная произносит в ответ длинную речь, в которой я не разбираю ничего, кроме слова «профессор», и уходит.
Хромая, я подхожу к нему.
— Herr Professor Nummedal…
— Bitte, bitte. Садитесь, пожалуйста. Почему вы так неуверенно ходите?
— Я упал.
— Вы тоже упали? Вы что, вместе упали?
— Нет, когда это случилось, я был далеко. Я сбился с пути и только потом нашёл Арне.
Ближайшее к Нуммедалу кресло всё же довольно далеко от него; зато оно точно напротив, в другом углу оранжереи. Я сажусь. Справа от меня стоит комнатная пальма, её листья упираются в потолок.
Размышляя о том, что бы мне сказать, я разглядываю свои ноги. Нелепое зрелище, эти резиновые сапоги под светло-серыми фланелевыми брюками.
Нуммедал молчит. Вертикальные морщины на его лице теперь так глубоки, как будто его нарезали ломтиками, а его кожа, как старая газета, грязно-серого цвета. В конце концов я говорю:
— Я принёс записи Арне.
— Об этом вы уже сказали по телефону. Чем ещё вы занимались в Финской Марке?
— Боюсь, что это не принесло никаких существенных результатов.
— То есть как это? Есть результаты или нет — это выясняется только после обработки данных!
— Боюсь, что я неудачно выбрал отправную точку для своих исследований. Что я был недостаточно подготовлен для изучения этой темы. Я попытался следовать идеям профессора Сиббеле, но пришёл к заключению, что из этого мало что выйдет. Я хотел бы продолжить работу Арне. Я хочу выучить норвежский. Я готов переучиваться, насколько это необходимо. Проучиться два-три года в Осло под вашим руководством, а потом снова поехать в Финскую Марку. Я понял, что иностранцу вроде меня, совершенно незнакомому с таким типом ландшафта, нечего рассчитывать на какие бы то ни было успехи.
— Вы так думаете? Кажется, вы видите всё это в слишком уж мрачном свете. Я понимаю ваше подавленное состояние. Но перед вашим приездом профессор Сиббеле написал мне письмо, где очень хорошо отзывался о ваших способностях. Уж не хотите ли вы убедить меня в том, что знания, полученные вами от профессора Сиббеле, оказались недостаточными?
— Наверное, профессор Сиббеле ожидал от меня слишком многого.
— То, что вы мне сейчас объясняете — это самая невероятная вещь из тех, что я слышал за долгие годы. Профессор Сиббеле порекомендовал вас мне, несмотря на то, что вы не были готовы к серьёзной работе? Да о чём вы говорите, молодой человек!
— Перед моим отъездом профессор Сиббеле поделился со мной определёнными соображениями. Гипотезами, которые я должен был проверить.
— Должно быть, это были очень интересные гипотезы!
Я отвечаю, заикаясь:
— Я не обнаружил ничего, что могло бы свидетельствовать о верности предположений профессора Сиббеле.
— Но, господин хороший! Это же самая обычная история! Вы, похоже, не имеете никакого представления о том, сколько всего предполагают люди! Только подумайте, что было бы, если бы всё это оказалось верным!
Я делаю вежливую попытку засмеяться и, кажется, действительно смеюсь; но мне никак не удаётся издать соответствующий звук.
Нуммедал тоже не смеётся.
— Я не вернусь в университет после каникул, — говорит он. — Мой преемник пока неизвестен.
С блокнотом в руках я подхожу к Нуммедалу и говорю:
— Вот эти записи. Может быть, вам интересно, что сделал Арне. Может быть, у вас есть ученик, который продолжит его исследования. Я с удовольствием оставил бы этот блокнот себе, хотя бы в качестве сувенира, но ведь я всё равно не понимаю по-норвежски. Другим эти записи могут оказаться гораздо полезнее.
Нуммедал протягивает руку, но хватает пустоту. Он окончательно ослеп! Мне приходится взять его за руку и вложить блокнот ему в ладонь. Потом я говорю:
— Мне очень жаль, что вам пришлось покинуть университет.
— Получили ли вы те аэрофотоснимки у директора Валбиффа?
Да, эта фамилия звучит ровно так, я ничего не перепутал.
— Нет, не получил; а потом я узнал, что они были у вашего ученика Миккельсена. Это тоже поставило меня в невыгодное положение. Но я ни на кого не сержусь. Я понимаю, что был человеком со стороны и должен был таковым и оставаться. Поэтому я и хочу учиться в Осло. Я хочу начать новую жизнь.
— Новую жизнь, говорите?
С большим трудом он поднимается с кресла. Кажется, даже на слух ему не удаётся определить, где я нахожусь. Обращаясь скорее к пальме, чем ко мне, он продолжает:
— У меня в институте никаких снимков нет… Они у Валбиффа, в Геологической Службе, в Тронхейме, как я с самого начала вам и сказал. За аэрофотоснимками надо обращаться в Геологическую службу. К директору Валбиффу. Но этот человек ставит мне палки в колёса с самого своего назначения! Считайте, что вам повезло, что вы не живёте в этой стране! Такая большая страна, и меньше четырёх миллионов жителей. Но все они занимаются исключительно тем, что ссорятся друг с другом!
Начать новую жизнь! Да ещё здесь, в Норвегии. Каждая «новая жизнь» — это не более, чем продолжение старой! И пусть вся Армия Спасения доказывает мне обратное! Подумайте об этом, прежде чем переезжать сюда!
С блокнотом Арне в руке, он бурно жестикулирует в сторону пальмы. Как будто вместо пальмы там стою я. Как будто это я расту там, искривляясь о его потолок!
Почему я завидовал Арне? Он так хорошо рисовал, так чисто писал, без труда взбирался на самые высокие горы и пересекал реки, не промочив ног. А теперь его неоконченный труд попал на хранение к слепому.
Валбифф, сказал Нуммедал. Путаница исключается.
Нуммедал ненавидит этого человека. Слепой ненавистью, да.
Чёрт возьми! Может быть, это просто кличка, которую Нуммедал придумал для директора Геологической Службы? Как, должно быть, все надо мной смеялись! Валбифф. Это значит — китовое мясо, сказал Арне. И забавно, добавил Квигстад, ни капли жира; прямо говядина.
Внезапно у меня в памяти всплывает мягкое, цвета мяса лицо человека из Тронхейма, который в ответ на мой вопрос, как найти директора Валбиффа, представился как директор Офтедал, геофизик.
Может быть, «Валбифф» — это не кто иной, как сам Офтедал?
Пожалуй, я не буду пытаться это выяснить.
45
Горничная закрывает за мной дверь, и я начинаю спускаться к изгороди. Щедрая растительность, хорошая погода, повсюду виллы. Вопреки здравому смыслу, я укоряю себя за то, что уехал из Финской Марки. Собственно, я вовсе не желал вернуться в обитаемый мир, в мир, где растут деревья и цветы; собственно, моё место там, где лёд, изобилие низших растений, птицы и рыбы. То, что мне пришлось покинуть пустынные голые горы, я переживаю, как унижение.
Между тем на противоположной стороне дороги я замечаю прибитый гвоздями к дереву указатель:
ТРОЛЛЬХЕУГЕН
Что это за название? Оно мне явно знакомо, и, кажется, не хватает совсем чуть-чуть для того, чтобы я вспомнил, что это такое; как будто мне нужно всего лишь перевернуть ещё одну страницу в книге, в которой о нём всё написано.
На тихой улице появляется большая открытая машина. За рулём сидит женщина с непокрытой головой. Блестящая причёска цвета красного дерева обхватывает её голову, как шапка, и чёлка падает на глаза. Её безукоризненно отделанное лицо похоже на пергаментную копию какого-то из уже виденных мною лиц; но кто же она? Она смотрит на меня и останавливается у изгороди.
— Привет, — говорит она по-американски, — так и думала, что где-нибудь тебя ещё встречу. Как дела?
Это та женщина, которую я видел в Тромсё, при свете полуночного солнца.
— Какие у тебя планы? — спрашивает она. — Я еду в Трольдхёуген. Ну, знаешь, дом великого композитора Грига. Поедем вместе.
Григ!
Хромая, я обхожу вокруг машины и сажусь рядом с ней. На ней платье с глубоким вырезом и жемчужное ожерелье в несколько рядов, плотно прилегающее к шее.
— Куча новостей, с тех пор, как мы в последний раз виделись. Мне сделали подтяжку лица, видишь. На прошлой неделе вышла из клиники. По-моему, неплохо получилось.
Она заводит машину, и мы уезжаем.
— Джек уже три дня под водой, пьян. Я подумала — что зря расстраиваться? Вперёд! Я отлично проведу время, осматривая достопримечательности. А ты где был?
— На крайнем севере.
— А что ты там делал?
— Искал метеориты, но так ни одного и не нашёл.
— Ты поэтому так хромаешь?
— Я упал, повредил колено.
— И эти жуткие резиновые сапоги. Ты похож на сантехника, возвращающегося с работы.
— Я не влезаю в свои обычные ботинки.
— И вообще ты ужасно выглядишь! Почему у тебя всё лицо в болячках?
Своей маленькой рукой она слегка поворачивает зеркало перед лобовым стеклом, чтобы лучше меня рассмотреть.
— На севере много мух и комаров, — отвечаю я.
— О господи, бедный мальчик.
Она останавливается у входа в Трольдхёуген (на табличке он пишется через два «л»). За деревьями я различаю фрагменты белого здания.
— Посиди пока здесь. Тебе лучше не переутомляться. Долго ждать не придётся, я вернусь in no time.
Она поворачивается к заднему сиденью. Может, ей сделали ещё и подтяжку тела? Оно стройное и очень красивое.
— С твоего позволения, я займусь тем, за что американцев вечно высмеивают, — говорит она, — но ведь иначе тебе придётся сидеть в машине, пока я всего не осмотрю.
Она берёт с заднего сиденья видеокамеру, подносит её к глазам и водит аппаратом в разные стороны, как будто скашивает всё вокруг пулемётной очередью.
В самом деле, она возвращается in no time!
— Дом — самый обычный белый особняк, там стоит большой рояль, а на нём — куча фотографий. Невозможно себе представить, чтобы Григ сочинил там хотя бы такт своей музыки. К счастью, подальше в саду, внизу, есть маленький деревянный домик на берегу великолепного озера. В этом домике он и работал. Прокатимся ещё немного?
Мы ездим по окрестностям.
— Григ, — сообщает она, — Григ, должно быть, действительно был великим человеком, потому что он смог написать всю эту музыку, несмотря на то, что, как и все на свете, жил в доме. Наверное, это и есть отличительное свойство великих людей. Те люди, которым когда-то пришло в голову жить иначе, чем другие звери, не представляли себе, за какую безумную авантюру они взялись в своих ужасных домах, и к тому же совершенно зазря. Если бы они этого не сделали, человек остался бы редкостным животным, совсем как окапи или райская птица.
На парковке, перед резким поворотом дороги, она останавливается, чтобы мы могли насладиться видом на фьорд.
— Так странно, — говорит она, — что мы сейчас здесь вместе; просто невероятно. Я часто думаю, что на самом деле разница между явью и сном не слишком велика. Дело только в том, что когда мы не спим, мы слишком предубеждённо смотрим на мир и не можем понять, что жизнь — это тоже сон.
Спокойно откинувшись на спинку кресла, сложив руки на груди, я молчу, ожидая, что ещё она скажет. Она рассказывает, что работает музыкальным критиком, пишет для нескольких крупных еженедельников.
— Провал человеческой культуры — никто не ощущает этого так остро, как американец в Европе. У нас в Америке полно таких пейзажей, как этот, но все они совершенно испорчены. Интересно, от чего это зависит. У нас растут примерно те же самые деревья, из них выпиливают те же самые доски. Но, кажется, мы постоянно ошибаемся в расчётах на какую-нибудь пару дюймов. Ты представить себе не можешь, как меня раздражает то, что Соединённые Штаты самым нелепым образом имитируются во всём мире. Все эти марки сигарет с американскими названиями, в странах, где никто не говорит по-английски. Зачем? South State Cigarettes. Вот я тебя спрашиваю: что это значит? Самое банальное название, какое только можно придумать. Но в Европе люди почему-то считают, что оно сообщает сигаретам особые вкусовые качества. А все эти несчастные мальчики и девочки, которые объединяются в «джаз-бэнды» под самыми безумными американскими названиями и поют американские песенки с абсолютно сумасшедшим акцентом? Hipsters, beatniks, real gone guys. Мне так невыразимо грустно, когда я вижу, что эти дети трудятся до потери сознания только ради того, чтобы что-то имитировать. Их так же жалко, как и какого-нибудь нефтяного миллионера из Техаса, вешающего поддельного Пикассо на стену у себя в гостиной; нет, даже гораздо сильнее, потому что миллионеру-то, на самом деле, так и надо. А эти дети растрачивают свой энтузиазм на своего рода духовное рабство, пытаясь сделаться Майлзами Дэвисами или Джонами Колтрейнами, да ещё и так, как этого уж точно никогда не получится.
Говорят, что появляется всё больше и больше стихов и даже романов на ужасном ломаном английском. Я прекрасно понимаю, что европейцы говорят по-английски с акцентом. Я искренне восхищаюсь теми, кто знает иностранные языки. Но как только они замечают, что я американка, они начинают самым дурацким образом ломать голос; наверное, они считают, что в этом состоит американское произношение. И так во всех европейских странах. Недавно я ужинала в кафе, а за соседним столиком сидели два немца. Я почти не понимаю по-немецки, но даже я поняла, что один из них постоянно вставлял в свою речь слова «So what!». Конечно, он думал, что это особенно шикарно. So what!
В город мы вернулись далеко не кратчайшим путём. Я признался Вильме, что в детстве я сначала хотел стать учёным, как отец, что в шесть лет я уже просил в подарок метеорит. Но что после гибели отца я раздумал становиться учёным и решил сделаться флейтистом. Пока в четырнадцать лет не обнаружил, что выучился играть на неправильной флейте.
Вильма утешает меня. Если только я захочу, я всё ещё могу стать флейтистом, считает она. Называет великих музыкантов, — американцев, о которых я никогда не слышал, — которые лишь в зрелом возрасте смогли полностью посвятить себя музыке.
— Начало не особенно удачное, — замечаю я, — ведь я остался в машине вместо того, чтобы посетить дом Грига.
Но она отвечает, что мы обязательно съездим туда ещё раз, когда у меня заживёт нога.
На что она рассчитывает? Не противоречит ли это её теориям про явь и про сон? Я, по крайней мере, не могу себе представить, чтобы случайная встреча трижды повторилась во сне.
В гостинице у неё прекрасный номер-люкс с широким балконом, на самом верхнем этаже. Входит кельнер, он приносит накрытое салфеткой серебряное блюдо и ведёрко со льдом, из которого торчит горлышко бутылки шампанского.
Мы стоим на балконе и смотрим на город. Здесь, в Бергене, уже действительно вечер. Не слишком тёмный. Синий вечер. Невозможно описать этот цвет: синий, светящийся, как будто люминесцирующий. Ярко освещённая канатная дорога поднимается на чёрную гору.
Внизу, на тротуаре, у входа в гостиницу, расположились три солдата Армии Спасения; один играет на тамбурине, другой на банджо, а третий на гитаре.
— Мне жарко, — говорит Вильма, — подожди минутку.
Она возвращается в комнату. Интересно, откуда здесь взялись эти типы из Армии Спасения. Может быть, они решили, что я собираюсь начать новую жизнь? Может быть, их прислал Нуммедал?
Я захожу в комнату, включаю светильник и ложусь на диван. Шумят машины, поёт Армия Спасения, в ванной льётся вода.
Вильма выходит из ванной. На ней нечто вроде сатиновой пижамы цвета чайной розы. Короткая рубашка и длинные брюки в обтяжку, сидящие низко на бёдрах. Брюки застёгнуты спереди на сильно бросающуюся в глаза «молнию».
Вильма улыбается мне, подходит к двери, поворачивает ключ в замке и направляется к столу. Она откупоривает шампанское и наполняет два стакана. Держа по стакану в каждой руке, она говорит:
— Эти застёжки-молнии — неплохая идея, правда? Большинство мужчин считает их очень «sexy».
Она подаёт мне стакан и спрашивает:
— Знаешь, почему они так считают?
— Потому что это не… — бормочу я.
Она садится на край дивана.
— Skal, — говорит она и пьёт.
Она очень красива — красотой экзотической куклы.
Вильма продолжает:
— Я точно знаю, что ты собирался сказать: потому что молния на женских брюках — это всего лишь бесполезное украшение, потому что она не может быть предназначена для того, зачем её используют мужчины.
Я смеюсь и мысленно констатирую, что она действительно меня развлекает, и, сама того не зная, утешает.
Вильма говорит:
— Но дело совсем в другом. Я абсолютно уверена, что модельер, придумавший такие брюки, консультировался у психоаналитика. И знаешь, почему?
— Я ничего не понимаю в психоанализе.
Мои глаза наслаждаются видом её бёдер, плотно охваченных тканью брюк, сверху гладкой, как кожа, а по бокам, у швов, собирающейся в мелкие, почти невидимые складки. На мой взгляд, эти складки ещё более «sexy», чем её ширинка, но как объяснить это с точки зрения психоанализа? Спрашивать её об этом как-то не хочется.
Вильма говорит:
— Один весьма недалёкий тип как-то сказал мне: это потому, что молния на женских брюках выглядит как изображение того, что под этими брюками скрывается. Грубовато, да? И, конечно, это совсем не психоаналитическое объяснение. Но всё-таки дело именно в этой молнии. Нужно исходить из того, что даже в психике нормального, гетеросексуального мужчины есть гомосексуальная составляющая.
— В самом деле?
— Сейчас всё объясню. Гетеросексуала переполняет панический ужас при одной мысли о том, чтобы расстегнуть ширинку другого мужчины. Поэтому он и гетеросексуал. Именно из-за этого страха. Так что когда он видит такую молнию, у него в подсознании тут же просыпается тревога, но её немедленно успокаивает сознание, поскольку брюки принадлежат всего лишь женщине. То есть: в таких брюках женщина воздействует на психику гетеросексуала сильнее, чем когда она носит юбку, и даже сильнее, чем раздевшись совсем. Потому что атака ведётся не только на гетеро-, но и на скрытую гомосексуальную составляющую его личности. А значит, стимуляция оказывается гораздо полнее.
— Слишком уж сложное получается у тебя объяснение.
— Да нет, ничуть. Что думает нормальный мужчина? Чужая ширинка — табу. Табу существуют для того, чтобы их нарушать. И что же достаётся нарушителю, если брюки носит женщина? Не устрашающий запретный плод, но райские кущи. Очень просто.
Она берёт меня за руку и кончиками пальцев гладит мне запястье. Потом забирается на диван и прислоняется спиной к стене, поджав под себя одну ногу. Вторая нога лежит поперёк дивана, и ступня с накрашенными ногтями слегка свешивается вниз.
— Видишь — то, что на первый взгляд кажется бесполезным украшением, на самом деле выполняет точные и легко объяснимые функции.
Я хочу к ней притронуться, но мои чувства довольно противоречивы. Она прекрасна, как драгоценная мумия.
— Я вдруг вспомнила про Грига, — говорит она, — этого я тебе ещё не рассказывала. Он похоронен у себя в саду. В вертикальной скале, высоко над проходящей вдоль скалы тропой. Замурован под простой плитой, а на плите выбито его имя.
Она вскакивает с дивана, подходит к столу и берёт металлическое блюдо.
— Знаешь, что это такое?
Откидывая салфетку, она протягивает блюдо мне.
— Похоже на копчёную лососину.
— Да, похоже, и всё же это совсем не то. Это гравлакс.
Гравлакс! То самое лакомство, о котором Нуммедал говорил мне в Осло, и которого там было нигде не найти!
— Знаешь, что такое гравлакс? Это совершенно особенный деликатес. Сырая лососина, которую закапывают в землю, а потом выкапывают снова, не знаю, как скоро. У неё очень изысканный вкус. Хочешь попробовать?
Как раз в эту самую секунду раздаётся страшной силы стук в дверь, и хриплый низкий голос требует:
— Wilma! Wilma! Open this door!
Кто-то бьёт по двери кулаками и ногами, потом падает на неё всем телом. Фред Флинтстоун!
Всё и в самом деле происходит как в мультфильме: дверь прогибается посередине, по её краям образуются огромные щели, потом она снова распрямляется и с громким хлопком встаёт на своё место.
— Yes Jack, I am coming!
В её голосе нет ни тени страха, он звучит так, как будто она только что проснулась. Флинтстоун продолжает колотить в дверь.
Поставив блюдо обратно на стол, она берёт салфетку, вытаскивает бутылку из ведёрка, опрокидывает ведёрко на салфетку. Из него высыпается лёд, вода течёт на пол. Унося куски льда в свёрнутой салфетке, она идёт к двери, поворачивает ключ в замке. Я встаю с дивана.
Флинтстоун с оханием вваливается в комнату. Углы его рта отвисли книзу, как будто последние несколько часов он ходил с костью динозавра в зубах. В глазах — беспомощность и злоба одновременно. Он хрипит и брызжет слюной. Его дыхание наполняет комнату газообразным аквавитом.
В мягких резиновых сапогах мне удаётся бесшумно проскользнуть мимо него в открытую дверь. В коридоре я оборачиваюсь. Вот последнее, что я вижу:
Флинтстоун сидит на диване и стонет. Свет из коридора падает на Вильму. Она прижимает салфетку со льдом ко лбу Флинтстоуна, как будто тушит загоревшееся мусорное ведро. Второй рукой она машет мне, виновато посмеивается и кричит:
— Bye! Bye!
46
Стюардесса проходит с корзинкой, полной безакцизных бутылок джина и виски. Я покупаю маленькую бутылку виски. С колен соскальзывает на пол газета, в которой я только что прочёл одно короткое сообщение. Недалеко от Карасйока была отмечена вспышка, сопровождавшаяся сильным громом. Самолёт геофизической службы с аппаратурой для измерения геомагнитного поля на борту произвёл разведку в окрестностях. В определённой точке были констатированы значительные магнитные отклонения. Не исключено, что они связаны с падением крупного метеорита. В настоящий момент в район происшествия направляется группа геологов.
Бутылку я открыл немедленно, и уже сделал несколько больших глотков.
Метеориты, обломки разлетевшихся на куски планет. Точно так же и Земля когда-нибудь разлетится на куски, и мне на это наплевать. Мне даже кажется, что это уже почти произошло, когда я смотрю в окно и вижу острова в сморщенном море, так далеко от меня, что я не различаю движения волн. Так видит Землю Бог, так видит её и мой отец, если только Ева права. Значит, и им тоже всё равно. Бог в небесах видит Землю как на аэрофотоснимке. Нуммедал, властелин аэрофотоснимков, но он слепой.
У меня снимков нет, и, в конце концов, я не Бог, и мне не удаётся рассмотреть даже маленького кусочка Земли, когда я с большим трудом взбираюсь на высокую гору.
Когда в районе Схипхола самолёт снижает скорость и начинает спускаться, моя бутылка уже пуста.
Космос — гигантский мозг, думаю я напоследок, а Земля — не что иное, как раковая опухоль в нём. Жаль, что у меня нет возможности сообщить об этом Квигстаду. No smoking, fasten seatbelts.
Пустую бутылку я оставляю в самолёте.
Мать и Ева ждут меня у выхода из аэропорта. Проходя таможню, я уже вижу их вдали.
Ева машет мне рукой, но мать стоит неподвижно, зажав рот платком, пока я ковыляю к ним с чемоданом в руке, волоча другой рукой рюкзак по полу. Не стоит труда надевать его только для того, чтобы пройти этот короткий отрезок до выхода: тридцать два шага, по моим оценкам.
Путём подсчёта шагов, оттого, что, подражая Бойсу-Баллоту, я с детства привык считать шаги, мне удалось найти дорогу без компаса. Это ли не успех? Успех, к которому вела меня вся моя жизнь? Высшее достижение! Труп товарища и дорога домой. Вот и всё. Но совершенно незачем объяснять это матери. В том, что касается моих научных занятий, она всё равно ничего не понимает. Она всхлипывает от волнения, видя, как возвращается домой её умный сын. Я не смею и не могу её разочаровывать.
Когда мать бросается мне на шею, я шатаюсь.
В такси я сижу с ней рядом. Ева устроилась напротив, на откидном сиденье.
Мать начинает всхлипывать совсем безудержно.
— О Альфред, не сердись на меня, пожалуйста, ведь я так испугалась.
— Но отчего же?
— Когда увидела, как ты хромаешь.
— Да это пройдёт через пару недель. Поранил колено, вот и всё.
— Не в этом дело, — говорит мать.
— Знаешь, как это вышло, — говорит Ева, — она ведь три ночи подряд не спала, когда узнала про Бранделя.
— Про Бранделя?
— Да, про Бранделя. Ах, ты до сих пор не знаешь? Он взошёл на Нилгири вместе со всей экспедицией, а обратно спустился с обмороженными ногами. Ужас, правда? На прошлой неделе мы видели в газете его фотографию. В инвалидной коляске, у самолёта.
И тогда мама вообразила, что…
47
Мать и Ева любовно усадили меня в самое большое из имеющихся у нас в доме кресел и подставили табуретку под мою больную ногу.
— Скажи, Альфред, — спросила Ева, — где же мой компас?
А я ответил:
— Я его выбросил, потому что он всё равно неправильно указывал направление.
Над круглым столом, где стоит пишущая машинка матери, горит свет. Но мать не спешит садиться за работу. Она расспрашивает меня обо всех обстоятельствах гибели Арне, глубоко вздыхает и резюмирует в нескольких словах всё, к чему сводится для неё эта история:
— Какое страшное несчастье. Но, как бы то ни было, ты с честью вышел из положения. Я горжусь тобой.
На улице темно, по-настоящему темно. В первый раз за много недель можно рассчитывать на то, что день сменится ночью, чёрной ночью, и можно будет спать. Если, конечно, тебя не гонит с постели сознание необходимости наверстать ночью упущенное днём, попытаться ночью исправить то, что ты натворил днём.
Я думаю о том, похоронили ли уже Арне, и о том, что я был бы лишним на этих похоронах, потому что я совсем не знаю его родных. Отец Арне прижимает к глазам платок и жалуется тётке или дяде: «Он отказывался принимать от меня подарки! Он никогда ничего себе не позволял! Все те деньги, что я посылал ему, так и лежат в банке нетронутыми. Я сто раз говорил ему, что он должен купить себе новые сапоги». А тётка или дядя думает: «Всё равно было уже поздно. Чтобы когда-нибудь добиться успехов, сопоставимых с твоими, ему понадобились бы по меньшей мере семимильные сапоги».
Я мысленно спрашиваю себя, по-прежнему ли ходят по Финской Марке Квигстад и Миккельсен, так и не зная ничего ни о смерти Арне, ни о моём отъезде. Странно подумать, что их я точно так же никогда больше не увижу, как и Арне.
Я думаю и о Бранделе. Два года назад, в шведской Лапландии, мы вместе участвовали в экскурсии к озеру Рисса-явре. Шведские геологи, проводившие экскурсию, сказали нам, что глубина озера Рисса-явре — сорок метров, а вода такая прозрачная, что, даже выплыв на его середину, видишь дно. По прибытии к озеру Рисса-явре изо всей группы только мы с Бранделем прыгнули в воду. Вода была очень холодная, всего на несколько градусов выше нуля, ведь она стекала в озеро со снежников на окрестных горах. Так что все остальные предпочли подождать нас на берегу.
Я переплыл озеро туда и обратно, Брандель тоже. Потом, когда мы уже давно оделись, Брандель спросил:
— Ну как? Смотрел вниз? Видел дно?
Посмотреть на дно я забыл.
Как в страшном сне, я сказал себе тогда: «Собственно, ты, кажется, не очень-то подходишь для этой профессии. Ты стараешься, ты виртуозно сдаёшь экзамены, очертя голову бросаешься в ледяную воду, но всегда забываешь о самом главном».
Может быть, мне было бы лучше провалиться на экзаменах в первый же год. А теперь похоже, что я превратился в жертву собственной виртуозности.
Но что же мне тогда было делать? Всё-таки стать флейтистом? Как я это проверю? Вернуться в исходную точку невозможно. Эксперимент, который нельзя повторить — это не эксперимент. Никто не в состоянии экспериментировать с жизнью. Никто не должен упрекать себя за то, что живёт вслепую.
На все вопросы (как вообще прошла поездка? Сделал ли я какие-нибудь интересные наблюдения?) я отвечаю «Да-да» или «Всё нормально».
— Ах, мама, — говорит в конце концов Ева, — подари их ему прямо сейчас, он такой грустный.
Мать встаёт, подходит к дубовому шкафу, где она хранит свои газетные вырезки, и возвращается с небольшой упаковкой. Лапочка! Конечно же, она на всякий случай купила мне новые часы!
— Ты догадалась, что в мои часы попадёт вода? — спрашиваю я.
— Нет, — говорит она, пока я разворачиваю подарок, — это не часы.
Это маленькая коробочка, обтянутая синим бархатом. В ней лежат запонки. Стебельки — золотые, а сами запонки похожи на необработанные камни.
— Знаешь, что это такое?
Я внимательно разглядываю запонки. Никогда ещё не видел таких камней. Они необыкновенно тяжёлые. Если я не ошибаюсь, это две половинки одного и того же камня.
— Такой эксперт, как ты, должен сразу догадаться! — говорит Ева.
— Кусочек руды, — бормочу я, раздражаясь оттого, что не могу сказать ничего точнее. — Кусочек руды, распиленный на две половинки. Смотри, края совпадают.
Срезы тщательно отполированы и блестят, как сталь. Я демонстрирую, что края двух камней действительно совпадают.
— Помнишь, Альфред, — говорит мать, — помнишь, когда ты был маленький? Ты так хотел метеорит, упавший с неба камень. Я никогда тебе об этом не рассказывала, но твой отец и в самом деле купил тогда метеорит тебе на день рождения. Всё это время я хранила его здесь, но никому об этом не говорила. Я не хотела дарить его сама, потому что это был подарок отца, а не мой. А потом я вдруг подумала, что из него можно было бы сделать пару запонок и подарить их тебе на защиту. Я уверена, что твой отец был бы согласен. И я думаю, что он не увидел бы ничего плохого в том, что ты получаешь их уже сейчас.
— Это дар небес, Альфред, — говорит Ева, — настоящий дар небес.
В беспомощности я смотрю на неё. Она не виновата. Она просто глупая. Небеса. Что значит — небеса? Она не сможет ответить ничего внятного, если я спрошу, как она их себе представляет.
Я смотрю и на мать. Я никогда не смогу объяснить ей, почему мне так грустно. Она гордится мной. И, честно говоря, никто из моего окружения не требует от меня ничего такого, чего бы не хотел я сам. В каждой руке я держу по запонке, на каждой запонке — по полметеорита. Вместе — целый метеорит. И никаких свидетельств в пользу той гипотезы, что я должен был доказать.
Гронинген, сентябрь 62 — сентябрь 65.
Перевод с нидерландского Екатерины Америк.Примечания
1
Имеется в виду Джейн Мэнсфилд, американская киноактриса с очень большой и очень известной в своё время грудью. — Прим. автора.
(обратно)2
«На память об одной жаркой ночи во Французской Западной Африке» (фр.).
(обратно)3
Чёрный фрак, мантии, свиток метровой длины и т. д. действительно являются непременными атрибутами защиты диссертации в Нидерландах, а не маниакальным бредом главного героя. — Прим. перев.
(обратно)
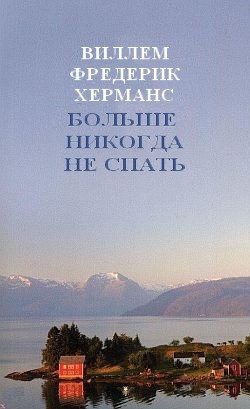





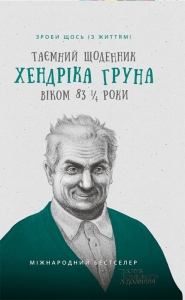

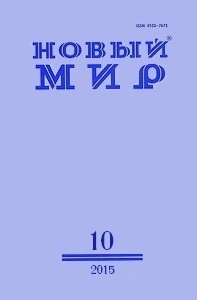
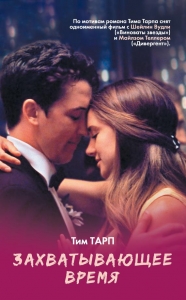



Комментарии к книге «Больше никогда не спать», Виллем Фредерик Херманс
Всего 0 комментариев