Заур Зугумов Записки карманника
© Зугумов З. М. 2015
© Книжный мир, 2015
* * *
Заур Магомедович Зугумов (Заур «Золоторучка») – родился 1 июня 1947 года в городе Махачкале. Автор целого ряда удивительных, захватывающих книг и статей об уголовном мире, бестселлеров «Бандитская Махачкала», «Бродяга», «Русскоязычный жаргон. Историко-этимологический толковый словарь», «Воровская трилогия». Был судим 11 раз, В общей сложности в местах заключения находился около 25 лет. Член Союза писателей России, Союза журналистов России.
Предисловие
Зугумов Заур Магомедович. Родился 1 июня 1947 года, в Махачкале. В 1959 году был водворен в ДВК – детскую воспитательную колонию – города Каспийска (Дагестан). Так называемую «бессрочку». После нескольких побегов, в 1961 году совершил очередной побег и в том же году (как раз исполнилось 14 лет – с этого возраста в России судят) был пойман с поличным за карманную кражу и осужден на три года. Во время отбывания наказания в ВТКН (воспитательная трудовая колония для несовершеннолетних) общего режима, был осужден на спецусиленный режим для малолетних преступников. Колоний со спецусиленным режимом в СССР было две. В Нерчинске (Читинская обл.) и Георгиевске (Ставропольский кр.). Прибыв в Нерчинск, продолжал нарушать режим содержания.
Так, пробыв в колонии около года, с группой единомышленников, забаррикадировавшись в одной из камер, совершил поджог барака, где содержались заключенные. За данное нарушение был этапирован в Георгиевск. Откуда и освободился в 1964 году. Пробыв на свободе около года, вновь оказался в местах лишения свободы, и вновь за карманную кражу. На этот раз, в колонии общего режима для взрослых, в городе Баку, пришлось отсидеть три года. Освободившись в начале 1968 года, в конце того же года, был вновь осужден за карманную кражу, и вновь на три года. На этот раз оказался на усиленном режиме в городе Архангельске. После освобождения, в 1971 году на свободе погулял несколько месяцев и вновь оказался за решеткой за карманную кражу на два с половиной года. На этот раз местом заточения был город Орджоникидзе (Владикавказ). Освободившись в июне 1974 года, через три с половиной месяца впервые оказался в Бутырской тюрьме. И вновь за карманную кражу. На этот раз срок был четыре года. В Коми АССР, где пришлось его отбывать, совершил побег, за что добавили еще год, а в 1977 году, за бунт на Свердловской пересылке, добавили еще два года.
Таким образом, отсидев семь лет, освободился в 1981 году. После чего пробыл на свободе пять лет, до 1986 года. В 1987 году Бакинским городским судом был приговорен к расстрелу, за несколько убийств. Просидел в камере смертников шесть месяцев без трех дней был освобожден в 1988 году. (Случайно, были пойманы настоящие убийцы). Следующий срок получил уже в марте 1996 году, когда второй раз оказался в знаменитой Бутырке. После двух лет, непосредственно проведенных в тюрьме, и шести месяцев в туберкулезном лагере города Киржач, в сентябре 1998 года освободился, но пробыл на свободе несколько месяцев. Еще год провел в тюрьме Махачкалы, откуда освободился в 1999 году.
В этом же году был вынужден уехать из страны. Жил в Египте, точнее, в туберкулезном санатории в трехстах километрах от Каира (оазис Эль-Хара). Подлечившись, побывал почти во всех странах Европы. После написания первой книги («Бродяга»), в 2001 году был приглашен в страну. С тех пор вышли в свет книги «Бродяга», «Записки карманника», «Бандитская Махачкала». В 2014 г. было издано уникальное в своем роде исследование «Русскоязычный жаргон. Историко-этимологический, толковый словарь преступного мира» и документальный роман «Воровская трилогия». Является членом Союза журналистов России с 2003 года. Членом Союза писателей России с 2006 года. Редактор отдела криминальных проблем еженедельника «Молодежь Дагестан».
В отличие от ранее опубликованных книг, в «Записках карманника» автор сконцентрировал своё внимание на отдельных рассказах, которые не вошли в предыдущие книги. Это увлекательный, с точки зрения жанра, экскурс в прошлое, в котором переплелись непростые судьбы людей и разные по значимости события, оставившие неизгладимый след в жизни каждого из них.
Перед глазами старого вора, отошедшего от дел, как в жестоком зеркале, мелькают минувшие дни, годы, проведенные в тюрьмах и лагерях, друзья и недруги. Вот прошедший через все круги тюремного ада узник сводит счеты с надзирателем-садистом. А многоопытный зэк, отмотавший полжизни на дальнем колымском лесоповале, становится фермером в благополучной Канаде. Еще виток памяти – и юный Заур Золоторучка потешается над кознями бакинских барыг. В долгие тюремные ночи можно проиграть в карты все, но можно и выиграть многое… честь, свободу… и даже саму жизнь. Беспощадный рок, насилие, страх и отчаяние преследуют узника, но несломленный дух и вольное сердце не дают ему упасть, удерживая на краю, давая шанс при любых невзгодах остаться человеком.
Не лишним будет еще раз подчеркнуть, что, как и в трилогии «Бродяга», все персонажи в «Записках карманника» подлинные, так же как и события, которые соответствуют действительности.
Борода
Подобно тому, как памятники на могилах обрастают ползучими растениями, так и наше воспоминание о друзьях обвивают высокие умиротворяющие мысли; ибо для наших друзей нет места на кладбище.
Г. ТороНещадно палящее солнце субтропиков, будто огненный шар Апокалипсиса, медленно надвигалось на землю, чтобы испепелить все вокруг. Казалось, что каждый из тех, кто отдыхал в тот момент под сенью экзотической зелени средиземноморского побережья Анталии, изнемогая от жары и зноя, мечтал о хорошей грозе с дождем и громом или, на худой конец, о дуновении хотя бы легкого бриза с моря, но, увы, природа никак не решалась расщедриться на подобную милость. Дым от горящего вдали мангала, над которым возился старый турок, то и дело крутя шампуры, жаря шашлык, стоял столбом и исчезал где-то далеко вверх у, в раскаленном небе.
Не было слышно даже привычного и радующего слух многоголосья райских птиц. Все будто вымерло кругом, и лишь доносившийся издали шум прибоя да частый треск поленьев сухой чинары в мангале, от которого шел аппетитный аромат мяса и восточных специй, нарушали эту знойную тишину и умиротворение.
Я нежился, удобно примостившись в гамаке под стройной и высокой пальмой, зонт из зелени которой, тенью падая на шикарный травяной ковер, образовывал небольшое убежище от зноя, и невольно вспоминал Север, тайгу и почти такой же гамак. Правда, тот гамак был сооружен из нескольких старых простыней, привязанных к двум кедрам. Ничего не скажешь, воспоминания – упрямая вещь, подумалось мне тогда, да и полезная к тому же. Они никогда не позволяют человеку излишне расслабиться.
Пять лет напряженного труда над книгами и нервы, издерганные воспоминаниями о прошлом, все ощутимее давали о себе знать. Стало пошаливать сердце, подниматься давление, открылись старые тюремные болячки, так что я решил на время бросить все и немного отдохнуть.
Разбогатеть, к сожалению, мне пока еще не удалось, поэтому и пришлось выбрать местом для своего отдыха относительно недорогую Турцию, о чем, кстати, в дальнейшем я ни разу не пожалел. Не все то золото, что блестит.
Этот райский уголок природы, а точнее – пляж, расположившийся на берегу лагуны, носил не менее экзотическое название, чем царившая в нем растительность, и назывался «Клеопатра». В данном случае турки как нельзя лучше почувствовали связь между далеким прошлым и настоящим, безусловно попав в самое яблочко. Ибо, видит Бог, будь жива владычица Древнего Египта, она, несомненно, одобрила бы это название. Тонко и со вкусом подобранный интерьер маленьких и удобных бунгало, схожих с жилищами древних египтян, комфорт и доброжелательность обслуживающего персонала здесь были на самом высоком уровне. Чего большего можно было желать человеку, привыкшему в основном к тюремной камере, нарам, да обслуживанию баландера с лепилой? Да, о такой жизни всегда мечтали и сколько еще будут мечтать не только бродяги с четвертаком за плечами, но и любой заключенный, проведший хоть несколько лет за решеткой. Немудрено, что я от души наслаждался благами, посланными мне Всевышним, млел от удовольствия и, потихоньку покачиваясь в гамаке из стороны в сторону, не сводил глаз с милой и очаровательной гречанки.
Таких красавиц, подобных самой Афродите, мне доводилось встречать нечасто. Стройная, как кипарис, с водопадом блестящих, ниспадавших к самой земле, длинных черных волос, она была похожа на живую богиню. В какой-то момент я поймал себя на том, что не просто разглядываю ее, но силюсь что-то или кого-то вспомнить. Именно это и не давало мне покоя, но почему, трудно было понять сразу. Вдруг шальная мысль молнией пронеслась и вторглась в мозг. Мой разум, как в кино, кадр за кадром, стал прокручивать какие-то отдельные эпизоды прошлого, и наконец я все понял.
Мое внимание привлекла вовсе не сама женщина, а сидевший рядом с ней ее друг. Некоторое время я буквально не находил себе места, силясь вспомнить, на кого же он был похож, но, увы, память, как ни странно, на этот раз отказала мне в милости, и я бросил эту затею.
Так прошел бы и этот день, ничем не отличавшийся от многих ему подобных, если бы вечером в баре на берегу залива я вновь не повстречался с этой парой. Я тут же вспомнил, кого напомнил мне этот молодой человек. Хотя слова «напоминал» или «был похож» не отражают сути: это был настоящий двойник моего старого друга, которого я не видел уже в течение многих лет. Меня даже в пот бросило от такого неожиданного открытия, но я тут же постарался скрыть свое удивление. Изъясняясь «по-рыбьи», как я умел это делать тогда, когда того требовали обстоятельства, я пригласил молодежь выпить со мной по бокалу шампанского, ссылаясь на то, что я оказался здесь совершенно один и мне не с кем разделить горечь тоскливого одиночества. Молодые люди переглянулись и, улыбнувшись друг другу, молча согласились. Этот изумительный вечер на берегу залива в приятной компании юных потомков древних эллинов и навеял одно из множества воспоминаний о моей шебутной и бродяжьей жизни.
* * *
Случай этот, так нежданно-негаданно пришедший мне на память в тот бесподобный южный вечер, произошел в далекой России чуть более двадцати лет тому назад, в городе, где я родился. По большому счету, Махачкалу тех лет и городом-то назвать было трудно. Это был маленький провинциальный городишко с двумя жилыми районами – Советским и Ленинским – и одним городским отделом милиции на Пушкинской, 25. Но местная шпана, когда дело того касалось, с уважением и босяцкой гордостью называла его городом без фраеров. Не прошло еще и месяца с тех пор как я освободился и, прежде чем вновь усвоить хитрую игру легавых в кошки-мышки и войти в обычную воровскую колею, я бродил по «хлебным» местам: по старой ещё автостанции, по второму рынку и вокзалу, ездил с поднятыми руками на самых понтовых садильниках, как бы присматриваясь к обстановке, делая для себя выводы и строя планы на будущее.
Как назло, на мусорском олимпе республики произошли к тому времени значительные перемены. Дело в том, что, как только в МВД Дагестана менялся министр (а в тот раз, буквально перед моим освобождением, у штурвала этого никогда не тонущего корабля генерала Рытикова Ю. А. заменил такой же генерал Титаренко И. Д.), вместе со старым хозяином уходило и большинство его приспешников. А новая метла, как известно, всегда метет по-новому, начиная с самого верха и кончая закутками внизу. Так что была не исключена очередная килешовка. Но вновь заступившим работникам нужно было какое-то время, чтобы успеть освоиться, занять полагавшиеся им по жизни ниши, а главное, установить для населения новый «тариф на услуги».
Что касается воров-карманников, то их плодотворная деятельность была для ментов настоящим золотым прииском и кормила, как минимум, четверть всего аппарата уголовного розыска. По неписаному закону того времени, если только что освободившийся карманник не хотел тут же возвратиться в тюрьму, воровать без разрешения легавых на подвластной им территории – то есть на тех хлебных местах, о которых я упомянул, – он не мог. «Мочить рога» я, конечно же, не собирался, поэтому мне не оставалось ничего другого, как терпеливо ждать, что в самом скором времени, разобравшись со своими проблемами, новые мусора все же дадут мне добро на воровство.
Какова же была эта процедура, предшествовавшая «выходу на лед»? Карманники старались оказаться в местах, наиболее подходящих для выуживания денег из чужих карманов, но и менты-тихушники пытались попасть туда с не меньшим рвением. Расчет и у тех и у других был прост. Там, где удавалось больше украсть вору, конечно же могли урвать большую мзду мусора. Поэтому в такие районы посылали тихушников, у которых не только был уже немалый оперативный опыт, но и хватка настоящих легавых псов – верных и преданных своим хозяевам с большими погонами.
Они могли сами, на местах, решить любую возникавшую проблему. Лишь ими определялось, кому будет дозволено красть на их территории, а кто будет лишен такой милости, кого из числа карманников нужно будет арестовать за несанкционированное появление в запрещенных для них местах, а кого просто предупредить.
Критерии отбора кандидатов из числа карманников на разрешение воровства в «хлебных» районах у мусоров всегда оставались неизменными. Помимо того что «втыкала» должен был уметь хорошо воровать, его репутация в воровском мире обязана была быть безупречной. Менты прекрасно понимали, через какие тюремные препоны и пересыльно-лагерные сита проходят воры, мучаясь и страдая, но всегда стараясь сохранить свое честное имя, и какие последствия остаются после всех этих экзекуций. «Отсидели свой срок с достоинством – мы только рады этому, – как бы говорили легавые. Пожалуйста, злачные места для вас открыты, воруйте себе на здоровье там, где это позволено далеко не каждому. Отстегивайте нам и выделяйте сколько хотите на свой воровской общак. Не встревайте в то, во что не нужно встревать, попадая в стремные ситуации, и живите в свое удовольствие на свободе».
Эти слова смело можно было написать на флаге тихушников, если бы таковой существовал, ибо они были их неизменным девизом, что-то вроде воззвания к крадунам. Что характерно, они почти не противоречили законам, царившим в преступном сообществе бродяг. По сути дела, со всей серьезностью вникнув в глубину воровской идеи, мусора уже тогда прекрасно поняли почти совершенную систему отбора кандидатов из числа босоты в элиту преступного мира, то бишь, в клан воров в законе, и в своих личных целях взяли этот воровской опыт себе на вооружение. Правда, менты несколько переиначили его, но смысла своего он от этого не потерял. Мусора умудрялись до такой степени подражать блатным, что, как в шутку говорили сами босяки, из них некого было даже на х… послать.
Что же касается тех ширмачей, которые по тем или иным причинам не вписывались в эту мусорскую схему отбора, то они «тычили» там, где им заблагорассудится. Риск запала при этом у них конечно же возрастал, да и денег попадалось намного меньше, но что поделать, такова была жизнь. Всем приходилось выбирать, кем быть: либо «грешными по жизни», либо «щипачами-верхушниками».
Некоторым читателям, не знающим опасных воровских закоулков и не искушенным в сложных коррупционных лабиринтах уголовного розыска, такой расклад по ту и другую сторону преступного мира (а под «другой стороной» я, конечно же, подразумеваю правоохранительные органы) может показаться не вполне реальным, но все происходило именно так, а не иначе.
Сейчас, в наше время, я частенько встречаюсь с некоторыми людьми из числа бывшей махачкалинской шпаны, старыми ширмачами, прошедшими почти весь тот путь, о котором я писал в своих книгах. Их остались уже единицы. Кого-то съела чахотка, кто-то умер от передозировки наркотиков, кто-то по-прежнему сидит в лагере или тюрьме, так и не сумев переквалифицироваться и приспособиться к требованиям нового времени, а кто-то и вовсе навсегда покинул страну. Но, как бы там ни было, те, кто остался в живых, конечно же, помнят то шебутное время и сами могут рассказать о нем немало интересных историй, и, наверное, не хуже меня. Впрочем, все это почти в равной степени относится и к легавым. Правда, и из их числа многие тоже померли, туда им и дорога, ну а некоторые тормознулись благодаря колоссальной поддержке своего родственного или национального клана. Такие не просто остались в органах, но и умудрились даже подняться на невиданные доселе высоты. Но все они как были, так и остались марионетками. Впрочем, иные ушли из этой структуры с высоко поднятой головой, как и подобает честным и порядочным людям. Рассказ этот напрямую связан с одним из таких работников уголовного розыска.
В рядах этих самых «правоохранительных органов» не все было спокойно. К сожалению для одних и к счастью для других, не все были одинаково продажны. Иначе бы это был феномен, противоречащий всем законам природы.
Совестливым оперативникам поручались, как правило, самые запутанные дела, не сулящие никакой выгоды. Им вменялось в обязанность просиживать на разного рода собраниях и никому не нужных сборищах дегенератов из МВД, активно участвовать в «общественной жизни», выпускать стенгазеты и заниматься прочей белибердой. Их постоянно пытались спровоцировать на тот или иной неверный шаг, подсылая продажную падаль как из числа ренегатов преступного мира, так и из своих мусорских резервов. В общем, старались сделать все возможное, чтобы дискредитировать этих честных людей в глазах общества, сделав их, таким образом, похожими на подавляющее большинство. К сожалению, эти происки удавались чаще, чем хотелось бы. Но согласитесь, ведь очень сложно, пожалуй, почти невозможно порядочному человеку прожить среди стервятников.
Но иногда коса находила на камень и ломалась. Шаткое положение честных мусоров можно было сравнить разве что с малолеткой или, того круче, с воровскими «ломками». Там тоже мучили людей и издевались над ними до тех пор, пока те не сдавались или, что бывало значительно реже, не отстаивали свои принципы, свою идею. Но если эти избранные легавые все же проходили через все «прожарки» своих старших коллег по ремеслу и не сдавались, их не просто оставляли в покое, их начинали уважать. А это обстоятельство, смею заметить, в любом из отделов уголовного розыска было не просто важно, а крайне необходимо.
В то время, о котором идет речь, проблема с карманными кражами в Махачкале вышла за все рамки дозволенного, поэтому в МВД Дагестана был открыт особый отдел по борьбе с карманниками, и на этот раз его возглавил некто Абдуразаков – грубый циник, похожий на гиену. Что же касается УУР (Управление уголовного розыска) республики, то руководил им в то время полковник Валиев. С ним я виделся всего несколько раз, да и то встречи наши были непродолжительны и носили «деловой характер», поэтому и говорить о нем что-либо существенное, думаю, я не вправе.
Как правило, каждый будний день после утреннего сходняка, или как он там у них назывался – «планерка» или «совещание», из здания МВД стайками выбегали легавые псы на охоту в город. Они тоже работали бригадами по двое или по трое, и было таких бригад в городе не менее десяти. Так вот, в одной из этих троек и находился герой моего рассказа.
Он был тезкой моего отца, звали его Магомед, и уже одно это обстоятельство заставляло меня относиться к нему если не с уважением, то хотя бы без презрения. Вообще-то, по имени его мало кто называл, в основном дразнили по погонялу Борода, хотя бороды, насколько я помню, он никогда не носил. Не знаю даже, кто и с какой целью дал ему такое прозвище – преступники или сами легавые. Окончив астраханскую школу милиции, он, вернувшись в Махачкалу, поступил в университет на заочное отделение юридического факультета. Проработал год в уголовном розыске Ленинского районного отделения милиции, а затем его перевели в МВД, в тот самый отдел по борьбе с карманниками, о котором я уже упоминал. Вот в связи с этим обстоятельством мы и познакомились с ним вскоре на одном из «садильников» города.
Это был молодой человек, немного старше двадцати лет, среднего роста, крепкого, я бы даже сказал, атлетического телосложения и довольно-таки приятной наружности. Характерной особенностью было то, что с его лица почти никогда не сходила улыбка. Даже когда он злился на кого-то из крадунов и предупреждал его о том, что если поймает с поличным, то непременно посадит, он все равно старался говорить это с улыбкой, как бы давая понять, что сам по себе он человек жизнерадостный и дружелюбный, но закон есть закон, и он не вправе его нарушать. И, честное слово, за порядочность и откровенность его уважали все без исключения. В общем-то, он был добрым малым и, как показало время, честным человеком.
Пять дней в неделю почти все махачкалинские ширмачи начинали свой рабочий день с «утренника», впрочем, почти точно так же, как и их противники – тихари, правда, с одной оговоркой. Дело в том, что рабочий день у всех легавых начинался, как положено, в девять утра, конечно же, никому из них и в голову не приходило следить и лазить за щипачами, спозаранку по переполненным автобусам и троллейбусам Махачкалы. Слежка за карманниками и их аресты не являлись какими-то особо важными заданиями, ради которых стоило так напрягаться. Это была постоянная рутинная работа мусоров. Просто, как говорится, кто рано встает, тому Бог подает, – и, к слову сказать, подавал Он им немало. Что же касается суббот и воскресений, то на выходные стопы избранных «втыкал» устремлялись на толкучки Дагестана и Чечни – в Хасавюрт, Дербент, Айябазар, в Хошгельды и Шали.
К тому времени, о котором идет речь, я уже успел выправить ксивы и решить проблемы, связанные с моим существованием на свободе, и наверстывал упущенное в тюрьме время, пропадая на садильниках и толчках с утра и до самого вечера.
Тот день я помню, как сейчас. Это был понедельник – единственный день в неделе, когда я мог позволить себе чуть-чуть расслабиться под теплым одеялом и проспать больше обычного. Тем более что на дворе стояла отвратительная, пасмурная погода: дождь, ветер и слякоть – обычное махачкалинское ненастье, характерное для этого времени года. Я как раз немного занемог. Старая лагерная чахотка давала о себе знать, и поэтому, укутавшись в теплую материнскую шаль, я лежал на диване, безучастный ко всему, и смотрел в экран телевизора. В таком подавленном состоянии, как правило, все вокруг бывает человеку безразлично, ничего не хочется делать, а видеть кого бы то ни было – тем более. Чахотка как бы съедает тебя изнутри, нашептывая своим прокуренным и омерзительным голосом: «Все твои усилия в борьбе за жизнь напрасны, ты все равно не жилец на этом свете». В общем, я пребывал в глубокой депрессии, когда вдруг в дверь позвонили.
Незваными гостями в моем доме могли быть разве что мусора, и я с головой спрятался под теплой накидкой, как будто она в тот момент могла спасти меня от легавых. Я закрыл глаза – так было лучше и привычнее слышать, что творится за закрытой дверью в коридоре, – и стал, как обычно, ждать непрошеных посетителей. Но, слава Богу, на этот раз пронесло. Я не услышал привычного ворчания матери, шума и гама детворы, которые всегда сопровождали прибытие легавых.
Нет, ничего этого не было. Мать разговаривала с кем-то как обычно – ровно и спокойно, безо всякого кипеша. Я подумал было, что пришла одна из ее подруг или соседка. Но каково же было мое удивление, когда, потихоньку открыв дверь в комнату, я увидел весьма симпатичную и стройную голубоглазую блондинку. «Здравствуйте», – проговорила она приятным, ласковым голосом, всего лишь раз взглянув на меня, а затем потупив взор, очевидно стесняясь моего наглого разглядывания.
Женщина присела на самый край кресла, предложенного ей матерью, грациозно повернула голову к окну и стала терпеливо ждать, пока я приведу себя в порядок. Я вскочил как ужаленный, будто и не болел вовсе. И откуда только силы взялись? Для матери это обстоятельство, конечно же, не могло пройти незамеченным. Она слегка покачала головой, как бы укоряя меня в чем-то и извиняясь перед девушкой. Оставив нас вдвоем, она молча вышла на кухню. Я тоже в свою очередь попросил у незнакомки прощения за свой наряд и проговорил какие-то второпях составленные дежурные фразы. Наскоро приведя себя в порядок, я сел на диван и стал наблюдать за ней. Удобно расположившись в кресле, положив на колени красивую белую сумочку, она глубоко погрузилась в себя, разглядывая расплывчатые узоры на стекле.
Судя по внешности и манере держать себя, передо мной, безусловно, была женщина из хорошей, да к тому же еще и состоятельной семьи. Об этом свидетельствовал ее строгий, но весьма дорогой наряд – брючный костюм модного покроя и белоснежная шелковая блузка ручной работы с высоким стоячим воротничком. Отдыхавшие на подлокотниках кресла, изящные, холеные руки с нанизанными на пальцы перстнями говорили о том, что ничто человеческое ей не чуждо. Прямая и гордая осанка, высокий лоб и задумчивый, я бы даже сказал, какой-то загадочный вид довершали картину.
После несколько затянувшейся паузы мы познакомились. Нелли, а именно так звали эту прекрасную незнакомку, была наполовину гречанка, наполовину русская. Коротко объяснив цель своего визита, она открыла сумочку, достала из нее письмо и протянула его мне с таким видом, будто в нем заключался весь смысл ее жизни.
Говоря откровенно, в тот момент я еще толком ничего не понимал. Пробежав протянутую записку, я сразу и не сообразил, от кого она, но вида, конечно же, не подал. Я заставил себя задуматься и, прочитав послание еще несколько раз, наконец, догадался. У меня как будто огромный груз упал с плеч.
Видел бы кто-нибудь, какими глазами смотрела на меня в тот момент эта молодая особа, как она была возбуждена и как любила! Можно было лишь позавидовать тому счастливцу, на котором она остановила свой выбор.
Слава Богу, память не подвела меня и на этот раз. Все сколько-нибудь существенные события, такие, например, как борьба с активистами на малолетке, а также лица и имена босяков, которые в ней участвовали, она всегда цепко удерживала в моем сознании. Только теперь, после ее рассказа и чтения этого любовного и драматичного послания, мне стала понятна вся сложность создавшейся ситуации и то значение, которое придавала всему написанному Нелли.
Письмо это было от человека, которого я не видел почти два десятка лет. Был у меня земляк у хозяина, когда я еще четырнадцатилетним пацаненком только-только начинал отбывать свой первый срок на малолетке. Кличили его Чапик. Я даже настоящего имени его не знал, отчего и прочел маляву несколько раз, не въехав сразу, от кого она. Парнем он был неплохим – дерзковатым в меру, но уважительным и добрым малым, да и воевал с активом не меньше нашего, это я помнил точно. Но в тюрьме он был случайным пассажиром. Его счастьем было то, что сроку ему дали – всего год. Это обстоятельство и спасло его от многих неприятностей и бед, которых мы с корешами, к сожалению, не смогли избежать.
Я слышал, что, откинувшись после малолетки, он поступил в какой-то столичный институт. Других сведений о нем у меня не было. И вот – на тебе, объявился, да еще таким странным образом!
Нелли рассказала мне, что они с Игорем, то бишь с Чапиком, познакомились еще в Москве, когда он, закончив экономический факультет МГУ, работал в какой-то престижной конторе, а она доучивалась там же, только на юридическом факультете. Его родители были достаточно состоятельными людьми, что позволило ему получить приличное образование, иметь хорошую работу, любить красивую женщину и ни в чем себе не отказывать. Но на их пути возникло труднопреодолимое препятствие – родители Нелли, точнее, ее отец.
Как правило, в нашей суетной жизни беда в одиночку не ходит. Незадолго до того, как должны были разрешиться проблемы со свадьбой, Игоря неожиданно постигло страшное горе. Погибли его родители вместе с младшей сестренкой и тетей. Все они гостили у бабушки Чапика в Ташкенте и, возвращаясь домой в Махачкалу, разбились на самолете где-то в горах Кавказа. Я помнил тот случай. В этом самолете тогда погибла вся ташкентская футбольная команда «Пахтакор».
Такое несчастье может свести с ума кого угодно, только каждый переживает удары судьбы по-своему. Чапик, к сожалению, запил и стал завсегдатаем сначала дорогих ресторанов, а потом и сомнительных забегаловок. В конце концов такая жизнь снова привела его на скамью подсудимых. Ему дали несколько лет, и уже в лагере со временем сердце его оттаяло ото льда отчужденности и недоверия и он, наконец, пришел в себя. Но в то роковое для них обоих время Нелли, потеряв всякую связь с любимым и отчаявшись бороться с обстоятельствами, успела выйти замуж по настоянию и выбору родителей и в том же году разойтись. Кстати, я сразу обратил внимание на то, что обручальное кольцо у Нелли было надето на безымянный палец левой руки.
Когда Игорь откинулся, они наконец встретились вновь и решили, что теперь это уже навсегда.
К тому времени Нелли работала старшим следователем прокуратуры РСФСР, которая находилась на Кузнецком Мосту. Она помогла Игорю восстановиться на прежней работе, благо он был там когда-то на хорошем счету. В тот момент уже не существовало родительского запрета, горе и одиночество уже не томили их сердца, воцарились любовь и понимание.
Казалось, что наступили наконец безоблачные дни, но злой рок по-прежнему преследовал их и, затаившись, ждал лишь удобного момента, чтобы вновь напомнить о себе.
Уже довольно долго они жили вместе где-то в Кунцеве и подали заявление в ЗАГС, собираясь во время летнего отпуска расписаться и уехать на бархатный сезон куда-нибудь на юг, но судьба распорядилась иначе.
В Махачкале младшая сестренка Нелли выходила замуж. Не поехать к ней они, конечно же, не могли. Поэтому, приготовив необходимые подарки и отпросившись с работы на какое-то время, Нелли с Игорем вылетели в столицу Дагестана. Здесь на свадьбе и произошел тот случай, который перечеркнул все планы этой прекрасной пары и на долгое время лишил их возможности не то что общаться, но даже и видеть друг друга.
Женщины такой своеобразной красоты, такого ума и интеллекта, каким обладала Нелли, всегда были предметом поклонения и восхваления, причиной множества ссор и даже кровопролитных войн не только у мужчин Кавказа, но и среди всей сильной половины рода человеческого. Что же тут говорить о Дагестане? Но поклонение прекрасной даме, ее очарованию и душевной тонкости – и бычье, упрямое стремление обладать ею насильно, лишь только потому, что ты богат и имеешь много влиятельных родственников, согласитесь, абсолютно разные вещи.
В общем, на свадьбе Игорь сцепился с тремя подонками. Его дважды ударили ножом, но и он не остался в замазке, успев садануть осколком бутылки одного из нападавших, как раз того самого норовистого хама, который умудрился порвать на Нелли платье. И саданул по-хозяйски, так, что мразь эта почти полгода провалялась в больнице.
И снова тюрьма, следствие и суд, который первоначально приговорил его к восьми годам особого режима. Но через некоторое время все же состоялось повторное слушание. Множество свидетельств в пользу осужденного и деньги, данные на лапу судье с прокурором, сделали свое дело, и ему скинули не только пять лет, но и изменили режим с особого на строгий.
Все это время, больше года, Игорь находился в махачкалинской тюрьме. За это время Нелли успела родить ему двойняшек – мальчика и девочку и жила, будучи в декретном отпуске, в Махачкале, чтобы быть поближе к любимому. Когда же его отправили на этап, она вернулась в Москву.
На этот раз судьба забросила Чапика подальше, чем в прежние годы, и он очутился в одном из лагерей Алтайского края.
У человека, постоянно живущего на свободе, постепенно складываются свои взгляды на жизнь, ничего общего не имеющие с тюремными представлениями. Совсем другое дело, когда он попадает в неволю. В заключении мировоззрение каторжанина меняется буквально на глазах. И это в принципе нормальное явление для дилетантов, случайно связавших свою жизнь на какое-то время с преступным миром. Ну и, само собой разумеется, если человек не так далек от законов этого самого преступного мира и отнюдь не дилетант в тюрьме, то, попав за решетку, он в первую очередь интересуется теми из бродяг, с кем ему приходилось когда-то чалиться вместе.
Так случилось и с Чапиком. Оказавшись за решеткой, он почти непроизвольно стал «пробивать» у каторжан о своих старых знакомых босяках и таким образом узнал и обо мне: где я, какой образ жизни веду, на каких ролях пребываю в преступном мире. И вот, через несколько проведенных в лагере лет произошло непредвиденное, и он вспомнил обо мне еще раз.
Представляете, человеку остается до свободы несколько месяцев – и тут какая-то мразь повязочник достает его так, что он не выдерживает наглости и издевательств провокатора и разбивает ему макитру табуреткой. Козел с сотрясением мозга попадает в лазарет, тем самым набрав очки у начальства, а Чапика после карцера водворяют в камеру под раскрутку, откуда он и пишет маляву своей благоверной.
Бывает порой в нашей жизни, что никакого терпения и выдержки не хватает обуздать свой ретивый нрав, свои эмоции и порывы, направленные против коварных замыслов негодяев. Да, я прекрасно понимал Игорька, читая его ксиву, и вся вина происшедшего живо представала передо мной. Знал я, конечно же, и то, что мусора лагерные могут достать так, что и за день до обретения долгожданной свободы совершишь то, что сделал этот человек. Я и сам ведь когда-то был на его месте. В ксиве Чапика было несколько строк, адресованных лично мне.
«Заур, бродяга, здравствуй! Знаю, что если это письмо попало в твои руки и если ты не на смертном одре, то поможешь моей жене во всем, в чем сможешь. Заранее тебя благодарю. Бог вам в помощь! С уважением Чапик».
Знаете, что перво-наперво пришло мне в голову после того, как я все уже решил для себя? Я от души позавидовал этому парню. Ну что же я мог еще предпринять при таком раскладе, как не готовиться тут же в дорогу? Благие дела ждали меня впереди.
Нелли прибыла в Махачкалу с тем, чтобы оставить детей у матери, взять денег для отмазки Игоря и со мной или без меня тронуться в путь. Пока ей везло. Карта, легшая в масть, как мне казалось, могла послужить неплохим стимулом для убитой горем и почти отчаявшейся матери двоих грудных детей. А в том, что это было именно так, я догадался сразу, но вида, конечно же, не подал. Для меня, сотни раз видевшего на лицах дорогих мне женщин страдание, горе и отчаяние, это было более чем очевидно, и любые слова здесь были излишни. Но вместе с тем по поведению этой женщины, по ее манере держать себя и выражать свои мысли посторонний наблюдатель не смог бы заметить и капли сомнения или отчаяния. Она была гордой и независимой в своем горе и не искала жалости и сострадания. И это не могло не внушать к ней уважения всех мужчин, с которыми ей приходилось иметь дело в тот момент, начиная с родного отца и заканчивая лагерным кумом, который позже встретился нам на вахте, у ворот колонии. Хотя мужчиной его можно было назвать лишь только потому, что он носил брюки галифе и огромную форменную фуражку, всю в следах от птичьего помета. После того как все вопросы с отъездом были решены, Нелли на минутку вышла из комнаты в коридор, а затем, вернувшись с большим бумажным пакетом, не высыпала, а буквально вытряхнула его содержимое на диван.
«Как вы думаете, Заур, этого хватит?» – спросила она, улыбаясь и одаривая меня при этом добрым и наивным взглядом восточной принцессы. Сказать, что я был удивлен увиденным, значит не сказать ничего. Да и было отчего. Двадцатипяти-, пятидесяти- и сторублевые пачки в банковских упаковках, перехваченные поперек белой бумажной тесьмой, были сложены, будто дрова для костра. Говоря откровенно, я впервые видел женщину, так открыто пренебрегающую деньгами, ради которых я всю жизнь рисковал буквально всем, что может быть дорого человеку в этой жизни. Я неспеша и ласково, как собственных детей, пересчитал лежащие на моем скромном ложе банковские билеты. Набралось ровно тридцать тысяч рублей. Для того времени это была огромная сумма, Думаю, достаточно будет вспомнить, что обыкновенный «жигуленок», «шестерка», стоил тогда чуть больше семи тысяч.
«Вы, Заур, пожалуйста, прикиньте, что к чему, вам ведь лучше знать, – продолжала она, подождав, пока я пересчитаю все деньги. – Меньше всего вас должна беспокоить сумма. Если вы не уверены, что этого хватит, то скажите, сразу, не стесняясь. А то потом на месте будет поздно. Слава Богу, деньги у меня еще есть. Родители меня очень любят и не отказывают ни в чём».
«Да что тут прикидывать, Нелли? Хватит сполна, да еще и останется», – ответил я не задумываясь, а про себя усмехнулся: «Да за такие деньги самый последний парчак на зоне мог бы поставить все лагерное начальство в шеренгу и поиметь их по очереди, на глазах у собственных жен». Пока я, присев к столу с картой СССР и расписанием самолетов из московских аэропортов, прикидывал предполагаемый маршрут и приблизительное время пути, Нелли, взяв мой паспорт, продиктовала кому-то в телефонную трубку его серию и номер, а затем, видимо довольная ответом, попросила, чтобы я пригласил в комнату маму. Я позвал мать и вышел покурить на балкон, оставив женщин наедине. Уж и не знаю, о чем они говорили, но беседа их длилась долго, около часа, затем Нелли тепло попрощалась с нами, а особенно с матерью (они даже обнялись и поцеловались, как близкие родственницы), и уехала на ожидавшей ее у подъезда «Волге» с двумя обкомовскими нолями на госномере. До полуночи я готовился в дорогу, а мать по моему заказу сшила мне пояс в виде патронташа, с кармашками разных размеров для разных купюр – все деньги Нелли оставила у меня. Утром, как мы и договаривались, она заехала за мной на том же автомобиле, который и доставил нас в аэропорт. Судя по тому, что после одного-единственного ночного звонка у нас уже на следующее утро были два билета на первый рейс до Москвы, в то время как простые люди заказывали их минимум за месяц до вылета, мне же долгое время не нужно было беспокоиться о надзоре, можно было с уверенностью предположить, что у Нелли были очень влиятельные родственники. Хотя об этом я догадался ещё накануне вечером, провожая её к машине.
Описание всего нашего пути из Махачкалы до лагеря, где находился Игорь, заняло бы очень много времени и места, поэтому я ограничусь малым. Перед обедом мы были уже в Москве, а ближе к вечеру вылетели из аэропорта Домодедово в Новосибирск. Ночь застала нас уже в поезде, следовавшем из Новосибирска в Барнаул, но и на этом наш путь не заканчивался. Утром, по прибытии в столицу Алтайского края, мы умудрились буквально на ходу вскочить в электричку, следовавшую до Горно-Алтайска и лишь к обеду прибыли в этот маленький, но довольно-таки красивый городишко. Только здесь мы немного перевели дух и отдохнули, если, конечно, хождение по базару и магазинам и затаривание всякой снедью можно назвать отдыхом.
Дело в том, что по моему настоянию выехали мы налегке, не считая кругленькой суммы в моем поясе да модной сумочки в руках у Нелли. Я слишком хорошо знал дорожно-баульную суету женщин-бедолаг, направляющихся в лагеря на свидания к своим родственникам. Они никогда не могли ограничиться малым, постоянно забывая что-то и распихивая это что-то по сумкам и сидорам. Таким образом, вместо разрешенных тогда пяти килограммов продуктов они везли с собой минимум пятьдесят, и поездка в лагерь им запоминалась на всю жизнь. Я уж не говорю о тех приключениях, без которых не мог обойтись ни один вояж подобного рода. Так что, здраво рассудил я, «кешара» нам будут только мешать в дороге, а хавкой можно и на месте отовариться, хватило бы лаве, а его-то как раз было в достатке.
Далее до зоны, около ста километров, нам предстояло добираться на автобусе, но мы могли позволить себе такси, что и сделали с превеликим удовольствием, ибо тянули к хозяину не просто «дачку», а вагон и маленькую тележку…
К сожалению, зачастую в нашей суетной жизни неудачи преследуют нас во всем. За что бы мы ни взялись, что бы ни пытались сделать, все напрасно. А бывает и наоборот, реже, конечно, но бывает. Так случилось и на этот раз. Как пошла масть с самого начала, так и баловала она нас все то время, что нам пришлось провести в этом Богом забытом месте.
Еще по дороге я выяснил у Нелли все, что мне необходимо было знать для осуществления наших замыслов. В частности, я узнал, что Нелли еще ни разу не была у Игоря на свидании. Но, как говорится, не было бы счастья, да несчастье помогло. Так что мы начали свои действия с того, что Нелли подала хозяину зоны заявление о регистрации брака с Игорем.
Я рассчитал все правильно. Дело в том, что по тогдашним законам, где бы ни находился в тот момент заключенный: в карцере, БУРе или даже под раскруткой, если к нему приезжала женщина для того, чтобы расписаться, его выводили из камеры, регистрировали, как положено, в кабинете хозяина и давали трое суток свидания. Не знаю, что за польза от этого была мусорам, но для нас лучшего нельзя было и придумать. Я сам когда-то прошел через такую процедуру в лагере с одной из своих «боевых подруг», поэтому мог себе представить душевное состояние Чапика.
Пока мы сначала несколько дней ждали работников городского ЗАГСа, а потом еще три дня эти голубки ворковали на личном свидании, я потратил время с большей пользой, чем, откровенно говоря, сам ожидал. Отмазать Игоря подчистую не представлялось возможным, так как его уголовное дело уже получило ненужную огласку в самом управлении и было взято на контроль. Поэтому я постарался купить всех лагерных офицеров, которые имели хоть какое-то отношение к этому происшествию, не говоря о непосредственных свидетелях, а затем отправился в Горно-Алтайск.
В городе я без особого труда разыскал судью, которая должна была через несколько дней председательствовать на процессе в зоне, и, отстегнув ей на клык такую сумму денег, от которой она никак не могла отказаться, еще раз убедился в верности пословицы, которая гласит: «То, что нельзя купить за деньги, всегда можно купить за очень большие деньги». Теперь оставалось только ждать.
Примерно через неделю после того, как Нелли посетила убогую комнату свиданий этой колонии, состоялся суд. Для пущей убедительности он продлился целых четыре дня. И нужно было видеть этот превосходно разыгранный спектакль! Были задействованы: профессиональный судья с ручными «кивалами», массовка, состоящая из лагерных офицеров, и сохатый чёрт с еще не зажившей, перевязанной башкой. Очень щедро оплаченное представление стоило потраченных денег. Действующие лица этой трагикомедии отработали свои гонорары сполна, и в результате уголовное дело против Игоря было прекращено за отсутствием состава преступления и его выпустили в зону. Потерпевший и свидетели изменили свои показания, ну а Игорь с самого начала был в несознанке.
После окончания суда, с разрешения все того же купленного судьи, мне удалось перекинуться парой-тройкой слов с Чапиком. Представляете, в каком он был настроении? Как был рад всему происшедшему и как благодарил меня? Он даже хотел имя, данное его сыну дедушкой, – Александр, поменять на мое – Заур, но я вовремя отговорил его, объяснив, что имя у нас меняют в том случая, если ребенок тяжело болен. Так что нечего гневить Бога! Конечно же, к такому аргументу он не мог не прислушаться.
Вот ради таких моментов, думаю, и стоит жить человеку на этом свете. Благородные порывы жиганской души никогда не требуют чего-то из ряда вон выходящего. Здесь нужна самая малость, всего лишь простое желание помочь ближнему. Тогда и судьба не преминет вам улыбнуться, будьте в этом уверены, я знаю, что говорю.
Все остальное – уже детали. Пробыли мы с Нелли в этом поселке ровно двадцать один день. Я так хорошо запомнил эту цифру, потому что она напоминала название карточной игры. Как видите, результат нашего вояжа не заставил себя ждать слишком уж долго по лагерным меркам. Вот что значит, когда «масть катит в рыжей упряжке».
Перед отъездом, пока Нелли собирала нас в дорогу, я сделал все, о чем попросил меня Чапик: на случай шмона капитально затарился малявами в дорогу, сделал жиганский подогрев лагерной братве и купил для нескольких солдат и одного нужного босякам прапорщика всякой всячины, которая стоила приличных денег.
Через два дня, попрощавшись с Игорем и всей босотой лагеря еще раз с небольшого бугорка возле забора зоны, мы с Нелли тронулись в обратный путь. Преодолев огромное расстояние с севера на юг страны, уже через четверо суток мы вернулись в столицу Дагестана. В Москве, в Неллиной квартире, куда мы заглянули по дороге, чтобы привести себя в порядок, а главное, исполнить некоторые поручения Игоря, мы задержались на двое суток. За то время, пока я разъезжал по городу да наводил нужные «коны», Нелли побывала у себя на службе и позвонила в Махачкалу, порадовав своих близких. Поэтому в аэропорту уже стояла все та же черная «Волга» с обкомовскими номерами, которая и развезла нас по домам.
Настроение в тот момент у меня было превосходным, но, к сожалению, это продолжалось недолго, ибо именно с этого дня масть для меня резко переменилась. Впрочем, к подобного рода нападкам судьбы, к ее крутым виражам и обрывам я был готов каждую минуту и почти никогда не расслаблялся, хотя, говоря откровенно, с каждым разом они становились для меня все круче и ощутимее и выбивали из привычного ритма жизни на все больший срок.
Меня не было в городе почти месяц. Вот за этот относительно короткий отрезок времени и произошло то событие, которое так неожиданно пришло мне на память в эту чудную анталийскую ночь.
Но все по порядку. Итак, до Нового года оставалось около двух недель. На следующее после приезда домой утро я собирался ехать в город за елкой. Накануне вечером, радуясь подаркам от тети Нелли, мои маленькие дочери буквально достали меня этой просьбой, но порадовать детей мне, к сожалению, так и не удалось. Не успел я расположиться за столом на кухне, как раздался звонок. Звонили моим «цинком», поэтому я и подумал, что пришел кто-то из корешей, и попросил маму, убиравшую в коридоре, открыть дверь. На этот раз на пороге я не увидел прекрасной незнакомки, да и кентов моих там тоже не было, зато там столпилось человек шесть, не меньше. Это были легавые, которых я не знал. Лишь один из них показался мне знакомым, он в дальнейшем и разговаривал со мной.
Сначала я даже рассмеялся им в лицо. Вы что, мол, «крестного отца» брать пришли? – подшучивал я над ними. Но они не склонны были шутить, и это настроение поневоле передалось и мне. Ты где был, Заур? – на полном серьезе спросил меня один из них, пропустив мимо ушей мою иронию.
Уезжал по делам, – не задумываясь, ответил я, почувствовав в интонации легавого что-то неладное и спрятав на всякий случай свою улыбку подальше. – А что случилось?
Да нет, ничего, – ответил все тот же мент, как-то подозрительно переглянувшись с остальными. Он кивнул головой в сторону легавки: – Давай одевайся поживей, да пойдем, тебя уже целую неделю там ждут не дождутся!
Я, пожалуй, ненадолго прерву свое повествование и постараюсь объяснить читателю некоторые нюансы, связанные с подобного рода визитерами, и расскажу, с чем они у меня ассоциировались и что представляло собой это самое второе отделение милиции.
В то время в Махачкале, помимо городского отдела милиции, было еще три как бы «мини-отделения» милиции. Одно находилось в Первой Махачкале, напротив церкви (теперь это ГАИ Кировского района), третье отделение было в центре города (сейчас там находится народный суд Советского района), а второе отделение милиции на территории Пятого поселка, которое, к счастью, перестало существовать уже добрых полтора десятка лет назад. Так вот, это самое второе отделение милиции находилось прямо напротив моего дома, их разделял лишь детский садик да ряд гаражей.
Надо ли подчеркивать, что я в этом заведении не был редким гостем? Это маленькое и ветхое двухэтажное здание было для меня, пока я находился на свободе и в городе, вторым домом. В любое время суток и в любую погоду, по поводу и без такового, меня приглашали, но чаще доставляли туда в принудительном порядке как вора и нарушителя покоя граждан. Так что, если вдруг ко мне на квартиру заявлялся гонец в милицейской форме, ему никто в доме не удивлялся, а я, конечно же, и подавно.
Как правило, мент, которого посылали за мной, предупреждал меня о том, чтобы я явился в участок в назначенное время, и уходил. В крайнем случае, если мусор был новенький, он ждал, пока я соберусь, и мы отправлялись вместе. Не было случая, чтобы я убежал от конвоира или пообещал и, обманув, не пришел в назначенное время. Такие действия могли мне дорого обойтись. Дело в том, что в округе было несколько доверенных лиц, которые почти всегда могли договориться с сотрудниками – за определенную плату, конечно же, – о том, чтобы я остался на свободе или, на худой конец, чтобы мера наказания была смягчена. Подобная система «отмазки» в структуре правоохранительных органов страны практиковалась повсюду. От денег не отказывался никто.
Начальником второго отделения милиции был тогда Тагиров Роберт Гаджимирзоевич, далеко не глупый человек, хорошо понимавший менталитет своего народа и основные принципы работы руководства МВД, которое предоставляло множество лазеек для обогащения своих подчиненных, но не прощало и строго карало за допущенные ошибки даже самых приближенных коллег. Как видит читатель, дуракам и идеалистам на руководящих постах делать тогда было нечего.
Ко мне Роберт был всегда снисходителен и относился с должным уважением, никогда не допуская ничего лишнего. Знали мы друг друга, можно сказать, с самого детства, да и жили по соседству. Так что визит ко мне на квартиру целой делегации мусоров, из которых я был знаком лишь с одним, да и то поверхностно, меня весьма удивил. Прекрасно зная повадки местных легавых, я, естественно, почуял в их поведении что-то неладное и призадумался. Хоть я и не чувствовал за собой никаких особых грехов, кроме разве того, что воровал безбожно, все же, коснись чего серьезного, я знал это наверняка, меня «загасят», даже не удосужившись собрать достаточного количества улик, доказывающих мою вину. И если впоследствии мусора все же выяснят, что я невиновен, спешить с моим освобождением они не станут, а, скорее, сфабрикуют какое-нибудь уголовное дело за хранение наркотиков или оружия, да и дело с концом. Такова уж была повсеместная практика следственных органов по отношению к таким горемыкам, как я. Вот как я рассуждал в тот момент – и, как показало время, не без оснований. В общем, изменив своему обычному правилу, я на всякий случай оделся по-спортивному, будто заранее знал, что мне придется рвать когти, и, настроив себя на небольшую разминку с бегом и взятием препятствий, молча последовал за мусорами.
Пройдя с таким почетным эскортом метров двести пешком и обогнув детский садик, уже через пять минут я был на месте, и здесь, в коридоре отделения милиции, меня ждал главный сюрприз этого дня. Когда мы вошли в здание, менты почему-то остались внизу, расположившись в дежурке, а я стал не спеша подниматься на второй этаж, где и находился кабинет начальника, к которому меня должны были доставить. Поднявшись по лестнице, я остановился, чтобы отдышаться. До двери его кабинета оставалось всего несколько метров. Справа и слева от нее был коридор, а напротив, тоже в нескольких метрах, стояло две скамейки, на одной из которых сидела молодая и привлекательная на вид девушка и смотрела на меня не отрываясь с таким нескрываемым бесстыдством, на которое способны одни лишь шлюхи и дурочки.
Через минуту, переведя дух, я хотел было уже взяться за ручку двери кабинета, как вдруг неожиданно почувствовал сильный толчок в спину: кто-то оседлал меня, как дикого мустанга, а через мгновение по моим бокам посыпались, как из рога изобилия, удары руками и ногами, сопровождаемые дикими криками и визгом. На какое-то мгновение я растерялся, но затем, сообразив, что верхом на мне девушка, которую я только что видел в коридоре, попытался по возможности мягко избавиться от нее, теперь уже нисколько не сомневаясь, что она сумасшедшая, но не тут-то было. И если бы не мусора, прибежавшие снизу и с великим трудом оторвавшие ее от меня, не знаю, чем бы все и закончилось, ибо уже за это короткое время мои лицо и шея были исцарапаны в кровь, рубашка и свитер разорваны, а на кожаной куртке недоставало одного рукава. Это была не женщина, а настоящая пантера. Несколько ментов еле удерживали ее, пока она с нечеловеческим криком пыталась вырваться из их цепких рук и разорвать меня на части. Сказать, что я был обескуражен ее поведением, значит не сказать ничего, но самое главное в этой истории было еще впереди.
Еле оторвав от этой фурии, менты буквально втащили меня в кабинет, дверь которого уже давно была кем-то открыта, и, захлопнув ее за собой, удалились. Немного очухавшись и неспеша приводя в порядок свой изрядно потрепанный гардероб, я, не в кипеш, исподлобья косил взглядом на людей, находившихся в помещении, и бурчал, проявляя недовольство по поводу буйных идиотов, разгуливающих на свободе.
Сам кабинет я описывать не буду, – по всей стране они были в то время похожи друг на друга, как сиамские близнецы. В глубине стоял казенный стол, за которым восседал начальник отделения, еще несколько человек сидели в разных местах – кто у стены на стульях, а кто и рядом с хозяином кабинета, «Железный Феликс», как и было ему положено, висел за его спиной. Все присутствовавшие, не отрывая глаз, разглядывали меня, как бы изучая. Я почувствовал этот неподдельный интерес внутренним чутьем преступника, но не подал виду. Наконец тишину кабинета прервал его хозяин.
– Ты где был неделю назад, Заур? – сурово спросил меня Роберт.
– Уезжал, гражданин начальник, – лаконично ответил я, подчеркнуто называя его начальником при посторонних.
– А кто тебе разрешил покидать пределы города, находясь под надзором?
Я, естественно, не мог ответить на этот вопрос, поэтому, состроив виноватую мину, опустил голову и молчал.
– Ну ладно, с этим мы потом разберемся, – продолжал он. А можно узнать, куда ты ездил, с кем и зачем?
Эти вопросы, которые не были неожиданными, заставили меня на долю секунды призадуматься. Видно, сказалось нервное потрясение, которое я перенес минуту назад.
– Ездил в лагерь старого кореша повидать, – ответил я через минуту. – А с кем и зачем, не обессудьте, сказать не могу, – это не моя тайна.
– Посмотрите на него, какой джентльмен выискался!
– Придется сказать, Зугумов, еще как придется, – вдруг услышал я сбоку от себя хриплый и высокомерный голос, явно привыкший командовать. – Можешь в этом не сомневаться.
Я повернул голову в сторону говорившего. Это был грузный мужчина высокого роста, с широкими черными бровями. Он почему-то напомнил мне в тот момент Карабаса-Барабаса из детской сказки. Хорошо еще, что у меня хватило ума не улыбнуться. Попытавшись внимательнее разглядеть это чудо природы, я с презрением окинул его взглядом голодного волка, а затем, приняв исходную позицию, ответил как можно спокойнее:
– Это не моя тайна, гражданин начальник, и отвечать на ваши вопросы я не стану.
Боров, разговаривавший со мной, встал и подошел ко мне вплотную, а я в тот ответственный момент даже не пошевелил головой. Как стоял, так и остался стоять на месте.
– Послушай меня внимательно, ублюдок, – продолжал он. – По большому счету меня не интересует, где ты был и с кем. Если у меня и были еще какие-то сомнения на этот счет, порожденные доводами начальника отделения, то минуту назад в коридоре они рассеялись. Чуть позже и в другом месте ты мне расскажешь, как ты посмел сделать то, за что в былые времена казнили без суда и следствия, и, глядя на тебя, мразь, я не нахожу ни одной причины, почему нельзя восстановить этот справедливый закон. И будь я проклят, если будет что-то не так, как я задумал!
Махом выпалив свою угрозу, он вернулся на свое место. Все то время, пока он говорил мне эти любезности, я еле сдерживал тошноту, ибо из его рта шла такая вонь, будто возле меня остановилась ассенизаторская машина. Зная этот свой недостаток, он, наверное, специально подошел ко мне так близко. Но что бы там ни было, мне это не помешало здраво оценить обстановку и отчетливо осознать, что я попал в чье-то дерьмо, и не просто попал, а увяз в нем по уши. Я по-прежнему маячил посреди кабинета, и это положение начинало меня злить.
– Ну ладно, – собравшись с мыслями, я как бы парировал выпад этой вонючки, – что вы там будете предпринимать по отношению ко мне, это ваше мусорское дело, но мне бы все же хотелось узнать, в чем меня, в конце концов, обвиняют?
Видимо, мое законное желание показалось высокому собранию уж слишком циничным.
– Да эта тварь, по-моему, просто издевается над нами, – проговорил сидевший у окна рыжий верзила в дубленке до колен. Он встал и, подойдя ко мне с левой стороны, безо всяких предупреждений нанес такой удар в челюсть, после которого устоять на месте смог бы разве что телеграфный столб. Я рухнул на ковер как подкошенный и тут же вырубился.
Очнулся я уже на стуле. Молодой мент, один из тех, что приходили за мной на квартиру, держал меня за плечи и брызгал в лицо водой из графина. Делая вид, что еще не пришел в себя, и не открывая глаз, я пытался понять обрывки слов присутствующих в кабинете. Они собирались куда-то уезжать, и тот, который обещал заставить меня заговорить, сказал Роберту:
– Приведи его в чувство и закрой пока. Вечером после развода я пришлю за ним машину.
– Слушаюсь, товарищ полковник, – по-гвардейски отчеканил Роберт и пошел провожать своих гостей.
Голова моя гудела, будто это был пчелиный улей, зато мозг работал как ЭВМ. Теперь я понимал больше, чем когда-либо, что главное для меня – узнать, в чем меня обвиняют, и, уже исходя из этого, строить планы на ближайшее будущее, ибо потом, когда я окажусь в тюрьме, будет уже поздно. Оттуда у меня лишь два пути: этапом в лагерь или ногами вперед, третьего не было, и я знал об этом наверняка.
Когда я наконец оказался в «красном уголке», как местные уголовники называли каталажку во втором отделении милиции, то, безо всяких преувеличений, находился на грани нервного срыва. Видит Бог, я даже не мог припомнить, когда еще со мной случалось что-либо подобное, и случалось ли вообще.
Не успел Роберт проводить «козырных» мусоров за дверь своего кабинета, как тут же отослал и того, кто возился возле меня с графином воды. Он даже не стал дожидаться, пока я открою глаза и буду готов его слушать, а сразу же, без какого-либо вступления, начал объяснять мне суть дела. Я слушал его очень внимательно и, по мере того как он углублялся в тему, чувствовал, что на столько же погружаюсь в чужое дерьмо. Один из законов, открытых Архимедом, здесь был явно налицо. Мы всегда испытываем некоторое облегчение, когда узнаем истинную причину наших несчастий, даже если не в силах ничего исправить. Так что же произошло за неделю до этих событий и в чем меня обвиняли? Девушка, которая кинулась на меня в коридоре, неделю назад была еще действительно девушкой, то бишь девственницей. Они с подругой возвращались домой с какой-то вечеринки. Идти было далековато, поэтому и решили поймать мотор. Проголосовав у дороги, они остановили «Волгу», приняв ее за такси и поначалу даже не заметив, что в ней, кроме водителя, находилось еще двое молодых людей, изрядно принявших на грудь. Эти подонки увезли девушек, изнасиловали их и, выбросив из машины, уехали. Но главным для меня стало то, что предводителем этих ничтожеств был, оказывается, не кто иной, как я сам. Люди, которые со мной разговаривали и только что покинули кабинет, состояли в близком родстве с той, что сидела в коридоре. Они работали в прокуратуре, МВД и даже органах Дагестана, и не какими-нибудь рядовыми служаками. Это были монстры с большими звездами на погонах. Когда Роберт перечислил их должности, у меня дрожь пробежала по телу. Их фамилии были на слуху преступного мира Махачкалы. Да уж, веселые у нее были родственники, нечего сказать! Для них я был не более чем букашка, которую можно раздавить одним пальцем, даже не утруждая себя. И я это прекрасно понимал.
Вкратце я рассказал Роберту, что в городе меня не было почти месяц, а ездил я в лагерь к старому корешу на свидание. Куда и с кем, я, конечно же, промолчал, но подчеркнул, что летал в оба конца самолетом и это можно легко проверить.
По-прежнему нисколько не сомневаясь в моей непричастности к этому преступлению, Роберт вызвал дежурного следователя, кстати, тоже знакомого мне мусора. В этот момент я находился в весьма щекотливом положении. Казалось бы, расскажи я все, как есть, и дело с концом, но закавыка была в том, что отец Нелли – второй секретарь горкома партии Махачкалы, а эта должность в то время была самой козырной в городе, тем более что вторые секретари обкомов и горкомов союзных и автономных республик были непосредственными ставленниками Москвы и обязательно русскими. Да и сама Нелли, как я уже упоминал, была старшим следователем прокуратуры РСФСР.
Люди старшего поколения, думаю, поймут меня без каких-либо дополнительных объяснений и осознают, что могло ожидать эту семью, поведай я мусорам все, как было на самом деле. Так что следователю я рассказал почти тоже, что и Роберту.
Взяв показания, он отправил меня в каталажку. Здесь в привычном для меня камерном одиночестве я постарался успокоиться и раскинуть мозгами, как обычно бывало при сходных обстоятельствах, но мысли путались в голове, как рой обезумевших пчел. Это было какое-то наваждение. Со мной творилось что-то невообразимое. Лицо горело, как угли жаровни, нервная дрожь сотрясала все тело. Затем, через некоторое время, оно покрылось капельками холодного пота, а по спине он стекал уже тоненьким ручейком, так что вся одежда успела промокнуть и прилипла к телу. Меня даже бил озноб.
Только сейчас я окончательно понял, что ничего подобного еще в жизни не испытывал. Но все же опыт крадуна и старого арестанта взял верх над обывательской растерянностью и чувством безысходности. Постепенно я стал возвращаться в нормальное состояние и наконец, взяв себя в руки, успокоился. Лишь один-единственный момент в этой истории по-прежнему не давал мне покоя. Я терялся в догадках и никак не мог понять, что это: красиво разыгранный спектакль, удачно подобранная подстава или что-то другое? Если это подстава, то для чего, с какой целью? Для отчетности? Вряд ли. Для мусоров я, по большому счету, не представлял особенного интереса. Карманный вор, да и только. Да если бы даже и представлял, наши махачкалинские легавые никогда не пошли бы на подобные розыгрыши. Они, скорее, спокойно закинули бы мне в карман анашу или пару ампул морфия, и делу конец. Эта практика была у них отработана до мелочей и всегда действовала без сбоев. Значит, эта версия отпадала. Но тогда что же?
Я тусовался по камере, как только что пойманный зверь в клетке, и лихорадочно размышлял, отбрасывая одну версию за другой. Даже в самом страшном сне я не мог представить себе ничего подобного. Человеку, не искушенному в разного рода законах преступного мира, трудно понять, что могло ждать в тюрьме бродягу, не просто грубо преступившего порог нравственности, но и опозорившего своим поступком весь воровской клан, к которому он принадлежал. Такого человека ждало наказание, далеко не равное наказанию для простого арестанта. Что же касается продолжения воровской карьеры, то на этом смело можно было ставить жирную точку.
И тут в относительной тишине камеры меня осенила одна спасительная мысль, но для ее осуществления я должен был быть на свободе, а не находиться под стражей. Не торопясь и пытаясь по возможности не сбиться с метки, я обуздал этот лихорадочный порыв, прекрасно понимая цену выдержки и спокойствия, и в голове моей все стало потихонечку проясняться.
В первую очередь я должен был прикинуть, что меня может ожидать в каземате НКВД, потому что это было определяющим моментом в моей дальнейшей участи, и здесь, к сожалению, и я это понимал больше, чем когда-либо, утешительного было мало, если не сказать, что его не было вообще. И все это несмотря на то, что у меня было поистине железное алиби – я имею в виду билеты на самолет. Так что отбитые почки и поломанные ребра были ничто по сравнению с тем, что меня ожидало на самом деле.
Время, когда меня водворили в камеру, было обеденным. Развод у мусоров происходил в пять часов вечера. Значит, где-то в шесть, в половине седьмого за мной приедут, и кто его знает, как в дальнейшем ляжет моя карта.
У меня оставалось в запасе целых пять часов. Ну что ж, будем думать, уже окончательно придя в себя, решил я, прилег на скамейку и, закрыв по привычке глаза, продолжал лихорадочно искать выход из создавшейся ситуации.
Вы знаете, Всевышний иногда проявляет милость к арестантам, тем более к тем из них, кто был несправедливо обижен власть имущими, и наводит бедолаг на спасительные мысли. Не обошел Он в тот раз и меня. Я вспомнил, что несколько лет назад, еще задолго до того срока, после которого я недавно освободился, мы с Валерой Писклей, – моим старым приятелем и коллегой – пытались освободить нашего друга, который спалился на наших глазах в «марке» и был доставлен во второе отделение милиции. Вот что мы предприняли тогда.
Двор второго отделения милиции был небольшим. В левом его углу, прямо напротив самого здания легавки, в десяти метрах от нее, находился навес из бревен, покрытый шифером, при этом ни стены, ни дверей на нем не было. Он предназначался для двух милицейских «бобиков», один из которых постоянно был в ремонте, и мотоцикла с коляской. В правом углу двора одиноко маячил дальняк, сбитый из деревянных досок, а напротив него, метрах в пятнадцати, стояли такие же деревянные ворота, давно покосившиеся от времени, которые и днем и ночью были открыты. По крайне мере, я их закрытыми не видел никогда. Забор, ближе к которому находились навес для транспорта и туалет, разделял мусорскую и гаражи, стоящие по соседству с домами.
Ближе к ночи мы с Писклей проползли по крышам гаражей, перелезли через этот забор и, подкравшись к задней части туалета, вытащили плоскогубцами четыре гвоздя из двух средних досок, два из середины и столько же снизу. Корешу нашему оставалось лишь повернуть две доски в разные стороны и сделать ноги. Ближе к ночи, когда сестренка нашего друга принесла ему харчи в мусорскую, то сообщила ему все, о чем мы ее попросили. Парень все понял. Ему оставалось лишь улучить время, выждать благоприятную возможность и, попросившись в туалет, исчезнуть.
Но в тот раз ему даже не пришлось бежать. Приятелю тогда крупно повезло. Среди ночи в отделение милиции приехал какой-то его родственник, работавший в одной из структур МВД, надавил на ментов и кореша нашего выпустили на свободу под подписку о невыезде. Прекрасно понимая, что рано или поздно в такой же ситуации может оказаться любой из нас, на следующую же ночь мы с Писклей вновь посетили дворик отделения милиции и вставили гвозди на место, предварительно расширив дырки и разрубив гвозди пополам. Теперь, чтобы проложить себе путь к свободе даже без поддержки со стороны, достаточно было слегка толкнуть доски сортира изнутри.
Но тогда никому из нас не пришлось воспользоваться этой заготовкой. Все, кто знал о ней, в течение пяти-шести месяцев были пойманы и во время ареста содержались под стражей либо в другом городе, или же в ином отделении милиции. И вот теперь, вспомнив о нашей с Писклей выдумке, я терялся в догадках, осталось ли там все по-прежнему или нет? Ведь мусора могли обнаружить подвох. Да и за прошедшее время гвозди вполне могли заржаветь, могло произойти и что-то другое, непредвиденное, кто его знает? Если все осталось, как было задумано много лет назад, то шансов на удачный побег у меня было предостаточно. Но где найти сообщника?
Я весь превратился в слух, уверенный в том, что Бог меня не оставит, кто-нибудь из знакомых все же зайдет в дежурку до вечера и я смогу склонить его на свою сторону. Знаете, когда вы сильно верите во что-то, Всевышний всегда оказывается на вашей стороне и никакие козни дьявола ему не помеха. Всегда будет только так, как Ему угодно.
Через час или полтора моего лихорадочного ожидания я не только услышал, но и увидел знакомого мне поселкового парня, которого кличили Сатера, а звали Магомед.
В Дагестане Магомедов – что в России Иванов. В милиции он оказался случайно. Его двоюродного брата задержали несколько часов тому назад за драку, и он хотел узнать, куда того доставили. Не имея почти ничего общего с преступным миром, Сатера тем не менее был своим в доску. В первую очередь он был настоящим работягой. Твердый дух в благородном сердце, честность и серьезное отношение буквально ко всему, за что бы он ни брался, создали ему немалый авторитет среди сверстников. Так что на него я мог положиться почти как на себя самого. Но главным для меня в тот момент было его согласие, ибо я знал наверняка: если он скажет «да», то наверняка выполнит свое обещание.
Дверь в каталажке была деревянной и только с виду казалась надежной и неприступной. Огромный, величиной со спичечный коробок, глазок давал возможность не только общаться с арестантом, но и, например, передать ему в это отверстие что-нибудь нужное.
Слева от двери «красного уголка» располагалась дежурка. Обычно к вечеру в отделении милиции оставалось трое дежуривших здесь ментов, не считая следователя, работавшего на втором этаже. Один мусор сидел непосредственно в дежурке, на телефоне, двое других и следователь часто разъезжали на «бобике» по вызовам.
При таком раскладе мне не составило особого труда подозвать Сатеру поближе к двери и объяснить ему суть дела. Тем более, и это было очень важно, говорил я с ним на его родном кумыкском языке, тогда как мент, дежуривший у стойки, был аварцем. Это я успел выяснить сразу же, как только был водворен сюда. Сатера понял меня без лишних расспросов и обещал помочь. Больше того, он успел сказать мне, что, если даже менты забили новые гвозди или они заржавели, он опять вырвет их, как только стемнеет. Теперь я был почти уверен в успехе задуманного и от меня уже, можно сказать, ничего не зависело. Оставалось только терпеливо ждать и надеяться.
В тот момент я еще даже не догадывался о том, что звук чахлого двигателя мусорского уазика скоро станет для меня самой долгожданной и желанной музыкой. Дело в том, что мент, дежуривший в отделении милиции, не имел права выводить меня в туалет, пока не прибудут остальные двое, выехавшие на очередное происшествие на этой самой машине. Я на всякий случай теребил его каждые полчаса, и он, входя в мое положение, обещал по приезде коллег сразу же сопроводить меня по нужде.
Уже с час, как стемнело, а машина все не возвращалась. Зимой сумерки наступают рано, но, по моим расчетам, было уже около шести часов вечера. С минуты на минуту за мной должны были прибыть гонцы из управления, и тогда все было бы кончено.
У законопослушного человека, прочитавшего эти строки, может возникнуть вопрос: зачем бежать, если ты невиновен? Ведь побег всегда скорее доказывает вину, нежели опровергает ее. Но, смею вас уверить, это утверждение справедливо лишь для правовых государств, для стран с крепкими демократическими устоями и принципами, тогда как Советский Союз, да, собственно говоря, и нынешняя Россия эти нормы никогда не соблюдали. Так что в подобных ситуациях и я, и мои собратья по несчастью всегда полагались в первую очередь на самих себя, ну и на верных друзей, конечно же, а не на действующий закон и тем более не на абстрактную справедливость.
И вот наконец во дворе отделения раздался долгожданный рев двигателя мусорской таратайки. В коридоре началась суета, зашумели кованые сапоги, послышались грязные шутки плебеев в милицейской форме и все, что обычно сопутствует этому. Менты привезли с собой какого-то парня, и, пока на него составляли протокол задержания, я все же добился, чтобы меня наконец-то вывели в туалет. Представляете, с каким чувством я шествовал в направлении дальняка? Благо опыта было не занимать, иначе пришлось бы изрядно понервничать, а именно этого в столь ответственный момент и нельзя было допустить ни в коем случае. Хотя путь и не был дальним, я все же умудрился за это время перекинуться парой слов со своим конвоиром, рассказав ему анекдот про идиота-постового. Но, судя по его поведению, этот увалень лишь совсем недавно спустился с гор в поисках лучшей жизни и поэтому концентрировал все свое внимание не на речи задержанного, а на его руках, вернее, на руках его родственников.
Я вошел в туалет. Кряхтя и недовольно бубня под нос, чтобы меня хорошо было слышно, я, не теряя ни единой секунды на размышления, приступил к действиям. С ловкостью пантеры, в полпрыжка, я очутился у задней стенки туалета, дотронулся до досок и, вдохнув в грудь побольше воздуха, слегка надавил на них. Когда я почувствовал, что они ходят под руками, я выдохнул так, будто пробыл под водой не меньше минуты. Мысленно от всей души поблагодарив Сатеру за его жиганский поступок и наскоряк скинув с себя кожаную куртку, которая теперь больше походила на душегрейку, я повесил ее на крючок возле двери и, аккуратно раздвинув доски, потихоньку пролез наружу.
Холодный порыв ветра, будто напутствуя меня в дорогу, обжег мое лицо. Прижавшись к промерзшей земле, я замер на мгновение, весь превратившись в слух, но голову, как змея, на всякий случай держал чуть приподнятой. Не уловив ничего подозрительного и хорошенько осмотревшись вокруг, в следующую секунду я уже полз в сторону спасительного забора, как диверсант в тылу врага.
Я хорошо запомнил тот наш ночной рейд с Писклей. Мы тогда промацали буквально каждый метр вдоль забора и пришли к выводу, что преодолевать его удобнее всего было в углу, за которым был какой-то мануфактурный цех. Хоть беглец и находился в этом случае на виду у любого, кто мог появиться во дворе, все же для побега ему понадобились бы лишь доли секунды. Дело в том, что этот угол с годами превратился в настоящую лестницу с глубокими выбоинами в кирпичной кладке, а кое-где и со сквозными дырами, а оба забора были очень высокими, и беглецу вряд ли удалось бы с ходу взять хоть один из них.
Забор был уже прямо передо мной, и мой конвоир повернулся в сторону дежурки. Момент для рывка был самый подходящий, и я хотел уже воспользоваться обстановкой, но именно в этот момент, как назло, один из мусоров, который оставался в дежурке, вышел во двор с родственником арестованного, видно договариваясь о мзде, И мой конвоир тут же подошел к дальняку и, ударив по нему несколько раз ногой, заорал так, чтобы его слышал не только я: «Эй ты, давай поторапливайся там! Что, веревку проглотил, что ли?»
Я еще сильнее прижался к земле, готовый в любую минуту броситься на барьер и рвать когти. Ведь, не услышав моего ответа, мент заподозрил бы что-нибудь неладное. Но, слава Богу, легавый оказался, ко всему прочему, еще и туповатым. Не знаю, сколько я пролежал на холодной земле, уже успев замерзнуть, как суслик, десять секунд или минуту, но точно помню, что я заставлял себя терпеливо ждать столько, сколько потребуется.
За мою выдержку Всевышний щедро отблагодарил меня. Мент, что стоял у подъезда с гражданским, вдруг повернулся к моему конвоиру и крикнул ему, неуклюже мешая аварскую и русскую речь: «Иди сюда на минутку. Не бойся, никуда твой засранец не денется, а если что, хлопну его как муху, и все дела». При этом он постучал рукой по своей кобуре, в которой вместо пистолета, скорее всего, лежала пара огурцов и луковица на закуску: таким олухам, как этот, боялись выдавать табельное оружие, а они просто бредили им.
Мой провожатый оказался возле них тут же, как будто давно ждал, что его позовут. Они вошли, в подъезд и стали там о чем-то договариваться, видно, деньги делили между собой. В этот момент я вскарабкался на забор, как кошка, и замер на доли секунды, но уже лежа на крыше одного из гаражей с другой стороны забора.
Хоть я и продумал весь план побега почти до мелочей, все же даже доли секунды, выигранные у мусоров, были дороги для меня. Поэтому, следя за легавыми в подъезде, я пытался рассчитать, когда они меня хватятся. Убежав сразу, я бы не знал, сколько времени у меня в запасе. Ведь кто знает, что случится в пути. В побеге иногда даже маленький камушек может сыграть роковую роль.
Наконец я скатился с промерзшей крыши гаража и, в мгновение ока перелетев через следующий забор, очутился во дворе детского садика, который находился прямо напротив подъезда, где я жил. Так что через какое-то мгновение я оказался в собственной квартире.
Но был ли смысл прятаться у себя дома? В этом-то и состоял мой расчет. Я нисколько не сомневался, что менты станут разыскивать меня где угодно, только не у себя под носом. Именно так я мог выиграть несколько дней. Ведь их учили всегда действовать, руководствуясь логикой, ни на йоту не отступая от нее и не выставляя себя белой вороной. Но парадокс состоял в том, что вся милиция как раз и держалась на таких вот нескольких «белых воронах», которые эту самую логику не особенно жаловали. С несколькими из них мне довелось столкнуться в своей жизни и в Махачкале, и в столице. И, к моему сожалению, всего лишь один-единственный раз мне удалось выйти из этой борьбы победителем, но это – уже другая история.
В нашей квартире было два балкона. Один смотрел в сторону двора и того самого детского садика, через который я бежал, другой выходил на противоположную сторону дома, на улицу Гагарина. Уже давно я соорудил на этом балконе что-то вроде потайного лаза наверх, на балкон четвертого этажа, для того чтобы в случае шухера меня не было видно снизу. Для этой цели я приспособил высокий кухонный шкаф. Он стоял на балконе с краю, и мама на зиму обычно убирала в него банки с соленьями и вареньем. Но после моей реконструкции шкаф имел уже не одну, а две задние стенки.
Напротив балкона росли два тополя, один из которых стал для меня чем-то вроде убежища и одновременно лестницы. В свое время я до такой степени натренировался прыгать на него с перил как своего балкона, так и балкона четвертого этажа и мгновенно спускаться вниз, что мог проделать этот финт даже с закрытыми глазами. А в случае, если бы я вдруг оказался ранен или болен, тонкий, но крепкий трос, намертво соединявший дерево с перекрытиями между обоими балконами, помог бы мне преодолеть это расстояние.
Этажом выше жили добрые и отзывчивые люди, которые не возражали против моей затеи, тем более что пользовался я этим приспособлением крайне редко – лишь когда был на свободе и моя воровская жизнь вынуждала меня прятаться от легавых.
Не успел я войти в дверь, которую открыла мне мать, как тут же попросил ее завести детей в спальню, и, лишь убедившись, что они не видят меня, вошел в дом. Предосторожность эта не была излишней. Дело в том, что много лет тому назад, еще не зная как следует многих нюансов нашей бродяжьей жизни, я был научен горьким, роковым опытом друга детства, которого выдала ментам его малышка дочь. Незадолго до их прихода он играл с ребенком, а увидев легавых, исчез в своем схроне во дворе. Менты ни за что не додумались бы найти его тайник, но какой-то ушлый пес обманом выведал у крохи, где спрятался ее папа. Ему, кстати, втерли тогда десять лет особого режима, и он, в конце концов, умер в лагере от чахотки.
Жена моя была в отъезде, отец находился в рейсе, так что мама одна управлялась с детьми, поэтому и не смогла сразу прийти в милицию, но, уверенная в том, что меня через час-другой отпустят, была относительно спокойна. В нескольких словах я рассказал ей о происшедшем и, увеличив громкость дверного звонка до максимума, скрылся на балконе.
Пролежал я там довольно долго, но вокруг, как я и предполагал, все было тихо и спокойно. Мне было отлично видно все, что творилось напротив дома. Еще несколько часов назад, находясь в «красном уголке» второго отделения милиции, я точно знал, что если моя затея удастся, то именно здесь, лежа на грязном половичке балкона четвертого этажа, я и намечу план следующего этапа побега.
При моем образе жизни загадывать наперед было по меньшей мере глупо. Поэтому, обдумывая тот или иной план действий, я всегда разбивал его на этапы. Эта система помогала избежать многих ошибок, экономила поистине драгоценное время на размышления, в общем, была чрезвычайно эффективной. Теперь, укутавшись в отцовский тулуп и озираясь по сторонам, как загнанный волк, я пытался найти и сделать следующий ход. От правильности выбора зависела не только моя жизнь, но и воровская честь, что было для меня важнее всего остального.
Представляете, в каком я был положении? Этот день был поистине богат на сюрпризы. Пришедшая вдруг мысль стала не чем иным, как подарком Божьим. Откинув одну за другой все иные версии, я сосредоточился на одной. Я вспомнил частые высказывания того самого «правильного мусора», Бороды, который при случае любил подчеркнуть свою порядочность и преданность идеалам правосудия. И чем больше я думал об этой безумной на первый взгляд затее, тем больше убеждался в том, что в моем положении лучше и правильнее выхода просто не было.
Голова раскалывалась от напряжения. Я решил подождать до утра, а там, как говорится, что Бог пошлет, то и будет.
Глубоко за полночь я спустился к себе в комнату и уже подробно объяснил матери, что произошло в милиции. «Не беспокойся, сынок, – сказала она мне. – Что бы ни случилось в будущем, ты крепись и знай, что я скорей умру, чем позволю кому-то возвести на тебя напраслину и тем самым погубить тебя. Хотя, как мать, я эту несчастную девушку, конечно же, понимаю».
Всю ночь мы проговорили, обсуждая мое нынешнее положение, а под утро я уснул на диване, даже не сняв верхней одежды, но ненадолго. В десять часов утра дверной звонок исполнил свою традиционную «Калинку», оповестив о приходе какого-то раннего гостя. Гость был незваным, а значит, это был мент. Он был в штатском и провел у нас около часа, внушая все это время моей матери, как важно, чтобы я сам пришел в милицию с повинной, и прочую чушь. В конце визита он не преминул заглянуть на всякий случай в спальню, кладовку и туалет и лишь потом наконец откланялся и ушел.
Вернувшись, я поделился с матерью своим планом относительно Бороды, и она одобрила его сразу же, безо всяких оговорок, будто пророчески предвидела все наперед. Я попросил ее позвонить Нелли и объяснил, что нужно было ей сказать. Домашний телефон мог прослушиваться, поэтому мама одела детей и ушла с ними к сестре, заодно дав мне немного отдохнуть и прийти в себя. Я проспал почти до самого вечера, и никто меня не побеспокоил за это время. Это лишь укрепило мои предположения о том, что за квартирой было установлено наблюдение.
Борода приехал часов в десять вечера. Я был приятно удивлен его поведением и манерой держать себя. В присутствии матери я подробно и во всех деталях рассказал ему обо всем, что произошло со мной за последний месяц, пока еще не называя при этом ни имен, ни фамилий. Это и немудрено. Я скорее поверил бы в существование жизни на Марсе, чем в честность и порядочность местного легавого, тем более в тот момент, когда за мою голову была обещана немалая награда. А в том, что награда уже была обещана, я не сомневался ни на секунду. Кроме того, воровская этика не располагала к излишней откровенности: одно дело, если твой язык подведет лишь тебя самого, и совсем другое, когда от него будут страдать другие. Борода выслушал меня молча, ни разу не перебив, и, когда я закончил, сказал, даже не выдержав паузы: «Мне все понятно, Заур, ты действительно невиновен. Это ясно как белый день, но твою невиновность еще надо доказать. Что же касается билетов на самолет, то это, к сожалению, не алиби. Алиби, которое можно легко опровергнуть, уже не алиби, а лишь одна из версий, правда, в твою пользу, но что толку-то? Дело ведь может и не попасть в руки следователя, я уже не говорю о судебном процессе. В конечном итоге наверняка все так и будет, попадись ты им в лапы. Ну да ладно, что тут сейчас гадать, как и что, давай-ка мы лучше вот что сделаем. Оставаться здесь тебе больше нельзя, ты и сам это прекрасно знаешь, поэтому слушай меня внимательно. Недалеко от твоего подъезда, в засаде в сером «Москвиче» сидят работники милиции. Не знаю, есть ли кто-нибудь за домом, но этих я не только видел, но даже поздоровался с ними и немного поговорил, прежде чем подняться к тебе. Поэтому я проеду по улице Гагарина несколько раз в ту и другую сторону, осмотрюсь и, если все чисто, просигналю фарами прямо напротив твоего балкона, два раза дальним и два раза ближним светом с длинными интервалами. Если же я замечу засаду, то уеду и вернусь чуть позже. Ты в это время не нервничай и ничего не предпринимай, пока я не придумаю, как тебя вызволить отсюда, понял?»
Выбора у меня не было. «Да», – ответил я не задумываясь и, прежде чем Борода вышел из дома, уже лежал на балконе этажом выше. Я хорошо знал его машину. Это был «жигуленок» красного цвета, «шестерка», с номерным знаком 05–34.
Несмотря на то, что улица Гагарина освещалась относительно неплохо, ночью, как говорится, все кошки серы. Так что мне трудно было отследить именно его машину, зато когда я увидел, как напротив остановилась легковушка, то понял, что это именно он, впрочем, с окончательными выводами пока не спешил. Прошло уже несколько минут, как автомобиль остановился, но из машины никто не выходил и никаких знаков не подавал. Я уже было подумал, что обознался, как вдруг два дальних и столько же ближних лучей с длинными интервалами прорезали ночную мглу. Ни секунды не задумываясь и даже не тратя драгоценного времени на спуск, я мгновенно оказался на перилах балкона и огромным прыжком, которому позавидовал бы, наверное, даже снежный барс, перемахнул на дерево, а уже в следующую минуту, так же быстро спустившись с него, оказался на земле. Присев на корточки, я тут же огляделся по сторонам, но, слава Богу, все было тихо и спокойно.
Придя в себя настолько, насколько это было возможно, я поднялся на ноги и непринужденной походкой направился в сторону поджидавшей меня машины. Спокойно перейдя проезжую часть улицы и все еще озираясь вокруг, я поравнялся с красным «жигуленком» Бороды, резко открыл заднюю дверь и так стремительно запрыгнул в машину, будто от этого прыжка зависела вся моя жизнь. Автомобиль медленно тронулся, а затем помчался, набирая скорость, по темным улицам и грязным закоулкам в сторону Первой Махачкалы. Борода жил тогда между телестудией и городской тюрьмой. И когда, лежа на заднем сиденье машины и озираясь вокруг, пытаясь разглядеть возможных преследователей, я увидел, что мы свернули именно в ту сторону, то понял – он везет меня к себе домой. Мои последние сомнения рассеялись, и я немного успокоился. Теперь, пожалуй, можно было и передохнуть.
Магомед заехал прямо во двор и, остановившись в самом конце, возле какой-то пристройки, велел мне выходить из машины. «Все. Приехали, бродяга!»
Он поселил меня в этой самой пристройке, которая оказалась на самом деле летней кухней. В этом уютном и скромном домике, переоборудованном за несколько часов в жилище отшельника, мне пришлось провести почти месяц. Месяц тревог и ожиданий, надежды и благодарности. Разве можно забыть это время? Нет, конечно. Такое не забывается никогда. Но во сто крат оно ценнее и памятнее тем, что помогал мне во всем мент, который при других обстоятельствах, окажись я виновным в каком-либо преступлении, не задумываясь, упрятал бы меня за решетку. Но воспоминания эти были бы тусклы и неполны, если бы я не упомянул об очаровательной хозяйке этого теплого, гостеприимного дома и их маленькой красавице дочке, похожей на сказочную восточную принцессу.
Порой случается, что некогда чужие друг другу люди оказываются схожи буквально во всем: во взглядах и мнениях, в непринужденной манере держать себя в обществе и в то же время быть скромными и ненавязчивыми. Такие душевные качества присущи лишь людям с отзывчивыми и чуткими сердцами, людям прекрасно воспитанным и в высшей степени порядочным. В какой-то момент у меня даже сложилось впечатление, что это были дети одной матери. Да и по национальности оба они были кумыками. Набат, так звали супругу Бороды, была чуть ниже среднего роста. Ее отличала приветливая и мягкая улыбка и красивые зеленые глаза, похожие на два благородных изумруда, в которых почти всегда искрился лучик добра и нежности. Аккуратно причесанные недлинные темно-русые волосы делали ее похожей на Шемаханскую царицу, а природная скромность и величавая стать лишь только подчеркивали это сходство.
Когда у себя дома я рассказывал Бороде, где и как провел последний месяц, я побоялся открыться ему полностью, и читатель знает почему. Лишь теперь, находясь под его кровом и видя его красавицу жену, ее доверчивые глаза и милую, доброжелательную улыбку, я понял, что такие люди не способны на предательство. Тем более, как я успел заметить, они были действительно схожи буквально во всем. Ночью, когда Борода закончил все свои дела, по большей части связанные именно со мной, и возвратился домой, я извинился перед ним за недоверие и дополнил свой предыдущий рассказ недостающими подробностями.
– Это обстоятельство намного упрощает нашу задачу, Заур, но, к сожалению, не решает проблемы полностью, – сказал Борода, выслушав меня. – Ну, ничего страшного, думаю, теперь нам будет полегче.
Под утро, после нашей беседы, я позвонил Нелли. Она ждала моего звонка с нетерпением и, по ее словам, еще даже не ложилась спать. Назначив ей встречу на шесть часов вечера возле кинотеатра «Комсомолец» и предупредив о том, кто придет вместо меня, я успокоился и заснул, а Борода уехал на работу, так и не сомкнув глаз.
Вечером я внимательно, не отрывая глаз, наблюдал за двумя «сыщиками» и выслушивал их версии. Смею заметить, что оба они были на высоте и стоили друг друга.
Вот что у них получилось. Во-первых, и это было совершенно очевидно, один из насильников внешне был на меня очень похож. Но как его найти? Ведь, судя по тому, что он был схож именно со мной, этот человек не принадлежал к преступному миру, иначе эту особенность давно бы уже отметили как сотрудники правоохранительных органов, так и мои друзья. Уж меня-то трудно было с кем-нибудь спутать. Значит, искать моего двойника придется по всему городу, а возможно, и не только по городу, и сделать это будет очень непросто. Тем более что никто и не собирался искать никакого двойника – мусора ловили именно меня.
Исходя из этих соображений, Нелли и пообещала, что завтра, кровь из носу, через своего отца повлияет на ход следствия с тем, чтобы дело передали Бороде. К нашему общему удивлению, да и к счастью, конечно, на следующий день ей это удалось без особых проблем, и теперь вся ответственность за поимку преступника легла именно на Магомеда. Вопрос заключался лишь в том, кто и кого считал преступником. По сути, только два человека всерьез занимались этим делом и были заинтересованы в Поисках истины: Борода, который руководил операцией, и Нелли, помогавшая ему советами и доживавшаяся чего-то через своего отца. И уже на первых повторных допросах потерпевших результат этого плодотворного сотрудничества не заставил себя ждать. Им удалось выяснить несколько важных деталей этого преступления. Как показало время, они были на правильном пути.
Дело в том, что, по словам обеих потерпевших, все трое негодяев были, без сомнения, студентами какого-то махачкалинского вуза. Но какого именно? Их в городе было в то время четыре или пять, точно уже и не помню. Больше того, они явно были сыновьями весьма состоятельных родителей, по крайне мере тот из них, кто был похож на меня. Иметь собственную «Волгу» в таком возрасте мог позволить себе тогда далеко не каждый. Поэтому Борода для розыска банды насильников подключил к операции всех младших сотрудников уголовного розыска, которые были у него в подчинении, но дал каждому из них не мою фотографию, а «фоторобот», то есть портрет предполагаемого преступника, сделанный на основании показаний девушек.
Такой подход к делу в корне менял картину следствия. Это могло прийти в голову лишь настоящему сыщику. Около десяти дней ушло у оперативников на поиски, и наконец преподавательница одного из факультетов медицинского института Махачкалы узнала в показанном ей «фотороботе» своего студента.
Нечего сказать, мне действительно крупно повезло. Новогодние каникулы были в разгаре, и все студенты, так же как и их преподаватели, разъехались по домам, а вот именно эта преподавательница иностранного языка, которая и была нам нужна, осталась.
Это я к тому, что если Всевышний с вами, то беспокоиться нечего. Но, к сожалению, мы никогда не знаем до конца, с нами Он или нет. Отсюда и вера в Бога. Или ты веришь – и тебе нечего бояться в жизни и ты спокоен, или хотя и веришь, но все-таки сомневаешься, и тогда ты пребываешь в постоянных тревогах.
Студент, похожий на меня, на самом деле оказался грузином из Кутаиси и был действительно сыном очень высокопоставленных родителей. В Махачкале он жил у родной тетки, сестры отца, и учился в медицинском институте, но на каникулы уехал домой.
Только теперь, когда все стало на свои места, Борода открылся начальству. Ведь до этого они думали, что он ищет именно меня, и вот на тебе… Но они с Нелли подготовились к этому основательно и были уверены в успехе. Я даже не знаю, что бы мы, а точнее, они делали, если бы не ее отец. Ведь вступить в открытое противоборство с власть имущими родственниками потерпевшей мог лишь очень влиятельный человек. У него должны были быть такие длинные руки, чтобы он мог зашнуровать ботинки не нагибаясь. Но отец Нелли был покруче всех их, вместе взятых, тем более что дело касалось справедливости, которая, и он знал это лучше, чем кто-либо, была на нашей стороне. Так что Бороде были предоставлены все необходимые полномочия. Теперь успех зависел только от его расторопности и смекалки, и здесь Магомед вновь был на высоте.
Сразу же после новогодних праздников опергруппа под его руководством выехала в Кутаиси и через несколько дней арестовала преступника, прятавшегося в доме у своего друга. Нашли и «Волгу», на которой насильники увезли девушек, и, перегнав ее в Махачкалу, произвели необходимую экспертизу. Впрочем, и так на первом же допросе это ничтожество призналось во всем и выдало своих подельников с потрохами. Их арестовали в тот же день. Только после этого Борода привез меня в МВД, якобы только что обнаружив после долгих поисков на одной из махачкалинских «блатхат».
И тут началось самое интересное. Меня завели в огромный кабинет, где с непривычки от яркого блеска больших звезд на погонах у меня даже зарябило в глазах. Стояла мертвая тишина. Я сел на стул прямо возле двери, на который указал мне один из присутствовавших, и стал исподлобья разглядывать эту пеструю публику. Того, кто ударил меня месяц назад в кабинете у Роберта, я узнал сразу, но, не подавая вида, скользнул взглядом мимо. Я попал в контору, с которой не следовало шутить, и тем более проявлять свои эмоции.
Не успел я еще как следует прийти в себя в этой обстановке, как дверь неожиданно открылась, и на пороге появился мусор, которого я не мог разглядеть, потому что дверь полностью заслоняла его от меня.
– Разрешите, товарищ генерал, – услышал я голос.
– Привели?
– Так точно!
– Ладно, давайте его сюда.
В кабинет завели задержанного, но я пока видел только его руки с надетыми на них сзади наручниками. Дверь закрыли и задержанному приказали сесть напротив меня. Он присел, а у меня от неожиданности отвисла челюсть. Передо мной как бы предстал я сам, и это было чем-то вроде наваждения. Я даже ущипнул себя за руку. Я ожидал всего, но только не этого. Если бы передо мной в тот момент оказался двухголовый монстр, я, пожалуй, удивился бы меньше. Такого поразительного сходства я никогда больше не видел, ни до этого случая, ни позже. Даже менты, находившиеся в кабинете, были поражены не меньше, чем я.
Первым прервал молчание один из родственников потерпевшей, все тот же генерал, к которому обращались за дверью. Он оказался одним из заместителей министра внутренних дел Дагестана. Как бы оправдываясь перед всеми, он подчеркнул, что сходство действительно поразительное и подобное он видит впервые. Затем, что было уже совсем не в характере таких вот легавых бонз, извинился передо мной и даже осчастливил меня своим рукопожатием. Я молча встал и протянул свою руку, что еще оставалось мне делать? Если бы даже я и захотел пойти на принцип, вид этого необычайного сходства, думаю, остудил бы мой пыл.
Но на этом представление еще не закончилось. Пока мусора разговаривали между собой, а один из них нахваливал Бороду за профессионализм и смекалку, дверь снова открылась, и в кабинете опять воцарилась тишина.
– Заходи, заходи, дочка, – пригласил кого-то один из козырных легавых в форме прокурорского работника. Сначала я услышал легкий стук каблучков модных сапожек, а уж затем увидел и их хозяйку. Это была та девушка, которая кинулась на меня в коридоре второго отделения милиции. Но теперь, не видя меня, она уставилась на моего двойника и чуть не бросилась на него, видно проклиная на своем родном аварском языке этого подонка.
– Уберите, уберите эту мразь отсюда, – приказал все тот же генерал. Один из мусоров вывел его прочь, и, когда она повернулась, провожая проклятиями, наши взгляды встретились. Бедная девушка даже вскрикнула от неожиданности, поднеся обе руки с платочком к губам, и замерла как вкопанная.
– Да-да, моя хорошая, – продолжал все тот же мусорской голос, – это как раз и есть тот самый человек, которого ты по ошибке приняла за преступника.
Я молча встал со стула, глядя прямо в глаза этой несчастной, и услышал тихое и трогательное:
– Простите меня, пожалуйста, я так виновата перед вами.
– Ничего страшного не произошло, не стоит так переживать. В жизни нашей бывает еще и не такое, – ответил я так же тихо и даже постарался улыбнуться, но у меня это так и не получилось.
Сноски к рассказу «Борода»
Баландер – в местах лишения свободы, разносчик пищи или повар.
Босота – представители преступного мира, которые не только придерживаются воровских традиций, но и живут по их канонам.
Выправить ксивы – исправить поддельные документы удостоверяющие личность человека (паспорт, водительское удостоверение и т. д.) на настоящие.
В несознанке – не признавая за собой вины в инкриминируемом ему преступлении.
Дальняк – 1) изначально – уборная, которая находилась на улице. Позже так стали называть все уборные вообще. 2) – Исправительная колония, расположенная где-нибудь на Урале, в Сибири, на Крайнем Севере или на Дальнем Востоке.
Жиганская душа – воровская душа.
Жиганский поступок – поступок, достойный вора в законе.
Здание легавки – здание, в котором находится МВД или ОВД.
Кешар – (от польского «kieszeń») – съестные припасы и предметы первой необходимости, отправленные в передаче, содержащиеся в посылке или находящиеся в сидоре.
Кивалы – «народные заседатели» в бывшем СССР, участвовавшие в судебных процессах, восседавшие по обеим сторонам от судьи, но ничего, по сути, не решавшие.
Килешовка – перевод из одного помещения в другое. Как правило, этими помещениями являются тюремные камеры, корпуса и т. д.
Кипеш – бунт, шум, волнение, скандал.
Крадуны – преступники, занимающиеся исключительно воровством и строго придерживающиеся воровских законов. Кандидаты в воры в законе. В блатном мире ворами называют только тех, кто носит эту масть, то есть высших авторитетов. Других же определяют по «специальности» (домушник, медвежатник, гопстопник) или в целом называют крадунами.
Лепила – медицинский сотрудник (например, медбрат) в местах лишения свободы.
Менты-тихушники – сотрудники уголовного розыска, которые занимаются поимкой карманных воров, поэтому постоянно ходят в штатском.
На мусорском олимпе республики – высшие государственные служащие республики.
Наскоряк – быстро, без задержек.
На случай шмона капитально затарился малявами – на случай обыска хорошо спрятал все записи от сотрудников администрации колонии.
Отмазки – отговорки.
Парчак – одна из самых презираемых категорий сидельцев в колонии. Униженный, грязный и неряшливый человек, зачастую страдающий венерическими заболеваниями. Это, как правило, отчаявшиеся и опустившиеся люди, на которых, кроме заключения под стражу, обрушилась еще масса, по их мнению, неразрешимых проблем.
Пересыльно-лагерные сита – издевательства и пытки, которые проходят осужденные, придерживающиеся воровских канонов, в момент этапирования.
Промацали – проверили.
Садильники – автобусы.
Стремные ситуации – ситуации, которые заставляют о многом призадуматься.
Тормознулись – остановились.
Тычили – совершали карманные кражи.
Хавка – еда.
Шебутное время – время, полное приключений.
В шебутной в бродяжьей жизни – в полной приключений, воровской жизни.
Щипачи-верхушники – одна из множества категорий карманных воров.
Шпана – 1) Беспризорники. 2) Мелкие воры, промышляющие в людных местах, в поисках денег на пропитание. 3) Воры в законе.
Вертун
Никогда не забуду тот давнишний этап на Воркуту. С самого его начала, в небольшой камере-сборке на «Красной Пресне», у мусоров произошел какой-то сбой в тюремной килешовке. После получения сухого пайка, нас, одиннадцать каторжан, стали по одному заводить в смежную со сборкой камеру, и о Боже! – в ней, на широких лавочках вдоль стен, ожидали своей отправки с десяток милых и очаровательных дам, о которых легавые каким-то непостижимым образом забыли, не успев вывести оттуда.
Кто мог ожидать такого подарка судьбы? Что тут началось! Девичий писк, визг, смех, жаркие объятия с поцелуями! Мусорам пришлось в буквальном смысле слова нас отрывать друг от друга. Правда, потом мы получили свою порцию дубинок, но разве жаркие объятия и поцелуи молодой красавицы-арестантки не стоят этого? А ведь мне тогда было чуть больше двадцати пяти…
В столыпинском вагоне судьба свела меня с одним приговоренным к большому сроку на особом режиме рецидивистом. Кличили его Пронырой, и, дело прошлое, лучшего прозвища для бродяги трудно было и придумать. Проныра был арестантом с большой буквы. В отличие от некоторых других заключенных, его по-хорошему интересовало абсолютно всё. Куда и откуда идет встреченный нами по дороге этап? Есть ли на пересылке воры, а в камере воровской общак? По какой причине до сих пор не пробит кабур в соседнюю хату? Почему в баланде нет полагающихся десяти граммов мяса?
В те времена мне в пути частенько встречались каторжане, которые ходили по этапам годами – то в одну, то в другую сторону. То их по каким-то причинам не принимала лагерная администрация, то не успевали они прийти к хозяину, как их тут же требовали назад, туда, откуда были этапированы, да мало ли оказывалось причин? Случалось даже, что, когда до ближайшей пересылки было далековато, людей освобождали прямо из «Столыпина», день в день. Таков уж был порядок.
Так что не было ничего удивительного в том, что и мы мотались в пути уже около двух месяцев. Позади остались пересылки Горького и Казани, и холодным январским вечером 1975 года мы прибыли в кировскую тюрьму.
Помню, я еще не успел даже прийти в себя, как очутился в огромной камере-сборке. Мне показалось, что короткий путь длиной в несколько метров из «Столыпина» в воронок я пролетел по воздуху, сопровождаемый дубинками конвоиров и срывающимися с поводков немецкими овчарками, натасканными на заключенных.
Выделенный для нашей транспортировки воронок конвой забил под завязку. Около получаса пути до пересылки мы изнемогали от жары и запаха пота. Я стоял в воронке как столб, истекая потом, зажатый со всех сторон такими же, как и сам, горемыками, не в силах даже глубоко вздохнуть, и проклинал все на свете. Я думал лишь о том, как избежать «радушного приема» конвоем самой пересылки.
Наконец все процедуры, связанные с приемом и распределением заключенных, остались позади, и всех нас, а этап был немаленький, около тридцати человек, раскидали по хатам. Меня, Проныру и еще одного достойного каторжанина с четвертаком за плечами, который таял от чахотки прямо на наших глазах, посадили отдельно от остальных.
Дело в том, что в те времена в любую камеру, будь то хата следственной тюрьмы, БУРа, изолятора, крытки или пересылки, водворяли строго по мастям. Чтобы избежать ненужных инцидентов, прежде чем забросить в какую-либо из камер, мусора спрашивали: «В какую хату пойдешь?» Говорил: «К ворам» – значит, водворяли в камеру к ворам, «К мужикам» – сажали к мужикам, молчал – значит, попадал к парчакам.
С самого выезда из «Красной Пресни» воры нам не встречались, здесь же урок было двое – Мордак Саратовский и Костя Огарков из Москвы. К ним в камеру нас троих и закинули.
Как только мы перешагнули через порог камеры, шум и гвалт, стоявшие в ней до этого, тут же утихли. Не обращая внимания на сверлящие, любопытные взгляды, всем своим видом давая понять, что пришли к себе домой, мы сначала помогли присесть на нижние нары нашему чахоточному приятелю, которого вели буквально под руки, а уж затем поприветствовали хату, как положено у арестантов нашего круга, и оглянулись по сторонам.
* * *
Камера эта была огромной, площадью около двадцати пяти квадратных метров. Такими славились в основном северные пересылки: Свердловск, Новосибирск, Иркутск. Справа от входа, от одной стены до другой, стояли двухъярусные деревянные нары около двух метров в высоту и в ширину. В стене, к которой примыкали нары, было пробито небольшое и наглухо зарешеченное окно. Такое же окно было и в левом от входа углу камеры, почти прямо над парашей, в ближнем же углу стояла полукруглая печь под потолок, огороженная решеткой. Печь топилась из коридора и обогревала сразу два помещения – наше и соседнее через стену. Вся остальная часть камеры отводилась для тусовок.
Хата была забита под завязку. При норме в тридцать заключенных, в ней в тот момент находилось не меньше ста. В камере было тепло и даже жарко. Арестанты занимались кто чем: играли в карты, тусовались и спали. Тюремная игра для большинства из нас была хлебом насущным – единственным занятием, благодаря которому можно было и «время провести, и кое-что приобрести».
Несколько фуфлыжников метались от нар до угла, где стояла параша. Здесь они варили чифирь для тех, кто играл. Остатки «дров» – вафельных полотенец, чистых бязевых портянок или хлопчатобумажных хозяйских кальсон – тряпья, которое было в ходу, потому что от него почти не было гари, бросали тут же в парашу. При этом один из них держал чифирбак, другой занимался непосредственно варкой чифиря, поддерживая огонь факела под кружкой, а третий был наготове, открывая крышку параши в тот момент, когда небольшой кусок материи прогорал и начинал дымить.
Справа от входа на верхних нарах, под одной из двух неярких лампочек, расположились двое шпанюков в окружении братвы. Хоть Мордаку и было тогда далеко за пятьдесят и он успел уже пройти все круги ада, изобретенные легавыми на этой грешной земле, все же хилым и приморенным назвать его было трудно. Это был круглолицый мужчина среднего роста, от природы коренастый и жилистый крепыш, чего нельзя было сказать о другом жулике.
Костя Огарков был больше похож на столичного интеллигента. Приблизительно одного возраста со своим братом по жизни, но все же чуть моложе его, он был высокого роста, с правильными чертами лица и очень худым. Судя по частому, сиплому кашлю, жулик болел туберкулезом, но держался, как и подобает вору, молодцом.
Босота пригласила нас подняться, и после некоторых формальностей, связанных с арестантским этикетом, мы заняли подобающие места в кругу братвы. Некоторых босяков мы с Пронырой знали и раньше. С кем-то из них в тюрьме сидел я, с кем-то чалился у хозяина Проныра. В общем, нам было что вспомнить и о чем поговорить.
В придачу ко всем своим лагерным талантам, Проныра был еще и «игровым», и, как выяснилось позже, в игре «третьями» с ним вообще ловить было нечего. Я тоже не прочь был раскинуть девять карт веером, но в этом мастерстве до моего кореша мне было далековато. Так что, отдохнув с дороги, на следующий же день мы ринулись в бой, благо карт в хате было хоть отбавляй.
Пересыльные камеры можно сравнить с караван-сараем. Круглые сутки по всей пересылке идет килешовка заключенных. Одних привозят, других увозят, кого-то перекидывают из камеры в камеру по режимным соображениям, о ком-то вообще не вспоминают месяцами. Охранники круглосуточно грохочут кормушками, предлагая арестантам по бешеным ценам самые ходовые на Севере товары: водку, спирт, чай, курево… Я не раз становился очевидцем того, как конвоиры исполняли роль обыкновенных халдеев. Они приносили зэкам из столовой обеды, как и положено у белых людей – на подносах, с салфетками и солонками. Нетрудно догадаться, во что обходился этот сервис каторжанам. Но, имея шальные деньги, каждый сходил с ума по-своему.
Через несколько дней после того, как мы прибыли на пересылку, в нашу хату из нового этапа закинули несколько человек. Их никто не знал, но вели они себя прилично, на вопросы отвечали спокойно и с достоинством, без какого-либо фраерского апломба. Да и чалиться-то в этом клоповнике одному из них оставалось всего ничего – меньше месяца, тогда как у Проныры впереди из двенадцати лет, данных ему судом, оставалось еще около четырех. Как тут не вспомнить народную мудрость, которая гласит, что человек предполагает, а Бог располагает? Впрочем, не буду забегать вперед.
* * *
Арестанта, которому оставалась всего пара недель до свободы, кличили Трясогузкой. Внешне он был настолько похож на Проныру, что, при определенном умении сухариться, они бы без особого труда сошли друг за друга. Да и по лагерной жизни эти зэки были во многом схожи – объединяла их неуемная страсть к игре. Смею уверить любого, если в хате встречаются два «третьиста» одной масти, нет сомнения в том, что рано или поздно они встретятся за игрой.
Человек, незнакомый с бытом и нравами арестантов в тюремных камерах, равно как и в камерах-пересылках, в первую очередь задался бы вопросом: «Когда же эти игроки спят?» И этот вопрос был бы абсолютно справедлив, поскольку складывалось впечатление, что они не спали вообще. Кто бы ни чифирил в хате, он по неписаному арестантскому закону сливал в кружку играющим «пару напасов». Представляете, сколько они выпивали чифиря за сутки? На еду, если игра была увлеченной, у них уходило совсем немного времени, да и ели-то они лишь раз в день.
Я и сам играл в карты и знаю, что когда игровому встречается равный ему по умению партнер, они будут сражаться до тех пор, пока кто-нибудь не обыграет соперника вчистую. Других исключений, кроме запала, этапа и прочих «форс-мажорных» обстоятельств, о которых в самом начале игры делается масса оговорок, нет и быть не может.
Шла уже вторая неделя с тех пор, как Проныра с Трясогузкой сели друг напротив друга, чтобы «разделить полстоса», но масть пока была благосклонна к ним обоим. Конечно же, долго так продолжаться не могло, ведь на одной масти игра не строится и далеко на ней не уедешь. В любом случае в какой-то момент решающими факторами становятся ловкость рук, терпение, умение вовремя остановиться и быстро сориентироваться в сложившейся ситуации. Это основополагающая аксиома любой азартной игры, а происходит ли она в заключении или на свободе, разницы никакой нет.
Такой момент наступил на десятый день после начала баталии. Проныра овладел ходом игры и уже до самого ее конца не упускал вожжей из своих цепких рук третьиста. Трясогузка проиграл все, что имел: семнадцать рублей (червонец он отстегнул на общак, как только зашел в хату), добротно подшитые черные валенки, яловые сапоги, еще какие-то гнидники. Он расплатился, как положено, и тут же вырубился на нарах, провалившись в глубокий сон.
На этом, казалось бы, и должны были, по идее, разойтись картежники, но не тут-то было! Проспали они с Пронырой около суток и поднялись почти одновременно. Когда проснулись и чифирнули от души, Проныра стал рассказывать о чем-то, а Трясогузка спустился с нар и пошел «бить пролетку» по камере. Так продолжалось до вечера. Какое-то шестое чувство подсказывало мне, что все так просто не кончится и должно еще что-то произойти. Я видел, как горели глаза у Трясогузки, когда он расплачивался с Пронырой. Но в то же время, прикидывал я, ему ведь оставалось до свободы всего лишь несколько дней. Подумаешь, гнидники вкатил да копейку мизерную! Но все же я не сводил глаз с Трясогузки, лишь делая вид, что внимательно слушаю Проныру.
Той шебутной ночью в хате не осталось уже почти никого из тех, кто был в ней, когда мы здесь появились. Ушли этапом и урки. И тут вдруг Трясогузка возьми да и ляпни:
– Слышь, Проныра, а что, может, скатаем на срок? У тебя ведь еще четыре Пасхи впереди, а меня по-любому никто не ждет – сирота я детдомовский. Если даже и проиграю, не обидно будет.
Над кругом, собравшимся у дымящейся кружки с чифирем, повисла гнетущая тишина. Все думали о предложении Трясогузки, но от комментариев воздерживались. Первым, как и положено было, прервал молчание Проныра:
– А в случае запала?
– Да какой там запал? Если голову сам в петлю не сунешь, то и не спалишься. Я уже все обдумал, целый день тусовался. При правильном раскладе мы с тобой оба сможем соскочить.
– Это каким же образом?
– Да обыкновенным!
Тут они, извинившись, уединились и с полчаса оживленно беседовали вполголоса, а затем, видно договорившись, вновь вернулись в круг и сделали «объявку», но так, чтобы слышать их могли только мы. После этого они вновь достали стиры и возобновили игру.
* * *
К тому времени я уже и отсидел немало, да и повидал всего предостаточно, но о такой игре не слышал никогда. Можете себе представить, как все следили за этой необычайной дуэлью? Ведь на кону была свобода, где еще такое увидишь!
В течение следующих двух безумных суток всем нам удалось поспать лишь по нескольку часов, да и то по очереди. Откровенно говоря, мне от души было жаль Трясогузку. Чего он только не предпринимал, каких только кренделей не выделывал, чтобы отыграться, но бешеная масть и картежный фарт были явно на стороне Проныры, и к вечеру второго дня игры Трясогузка спекся. Оставалось тогда ему, а вернее, уже Проныре, до свободы ровно сутки. Можете себе представить, с каким нетерпением все мы ждали обеда следующего дня? Именно в это время на кировской пересылке обычно освобождали из-под стражи.
Но всё приходит, проходит и время безудержно, так что утро наступило, как и было назначено ему природой, в положенный срок. Надо ли говорить, что той ночью никто из нас не заснул ни на минуту? Чахоточный глухарь-четверташник, который вместе с нами заехал в эту хату, оказался прирожденным гримером. Он пережег кусок резины, затем из известки, соскобленной со стен, приготовил какой-то клейкий раствор, куда добавил еще какие-то ингредиенты, и за ночь так преобразил Проныру, что их с Трясогузкой, пожалуй, не смогли бы различить даже родные матери.
С утра Трясогузка притворился спящим и не поднимался до самого вечера, а Проныра принялся тусоваться по камере. Ближе к обеду дверь хаты распахнулась, и на пороге появился начальник спецчасти с личным делом Трясогузки в руках, ДПНП (дежурный помощник начальника пересылки) и разводной мент.
– Ильичев!
– Я, начальник! – выкрикнул Проныра, подойдя вразвалочку к дверям.
– Не «я», а фамилия, имя, отчество, год и место рождения, статья и срок. Понял, придурок?
– Понял, начальник, отчего же не понять, – пробубнил, как бы в испуге, Проныра и тут же выпалил выученные за ночь анкетные данные Трясогузки.
Начальник спецчасти все это время тщательно сличал его физиономию с фотографией в личном деле, но, убедившись, в конце концов, в том, что перед ним действительно Трясогузка, а не кто-нибудь другой, грубо выкрикнул:
– Много разговариваешь, Ильичев! Может, остаться захотелось?
– Да нет, что вы, начальник.
– Ну, тогда давай двигайся живее. Пошел вон отсюда, урод! – что на языке нормального человека должно было означать: «Выходите, вы свободны!»
Проныра повернулся лицом к камере, помахал на прощанье рукой, подмигнул мне, не в кипеш, и вышел за порог хаты, все так же вразвалочку и не спеша. Больше я его никогда не видел.
Целый день мы прислушивались к шумам в коридоре и на дворе пересылки в тревоге и ожидании. К вечеру Трясогузка «проснулся», подошел к двери и с показным волнением стал подзывать мусора. Тот не заставил себя долго ждать, полагая, что арестант хочет у него чего-то купить, подошел и открыл кормушку. Трясогузка нагнулся и спросил, как бы шутя:
– А что, начальник, освобождать-то меня думаешь? А то я уже запарился ждать: срок-то вышел давно.
– Да, конечно, скоро тебя освободят, демонюга, только на парашу с вещами. Понял? – проговорил заранее заготовленную вертухайскую остроту конвоир и, довольный, ушел прочь, заливаясь безудержным детским смехом. Но ближе к ночи ему стало уже не до шуток.
Весь вечер Трясогузка ходил по хате, изображая взбудораженность и нервозность, проклиная мусоров, суд, который его осудил, прокурора и все правоохранительные органы, вместе взятые. Дело прошлое, у него это получалось неплохо, но и мы, непосредственные очевидцы происходившего, внесли свою лепту в его постановку. Все это делалось для того, чтобы при разборе мусора не подумали, что в этом замешан сам Трясогузка, иначе легавые забили бы его до смерти. К счастью, он избежал этой участи, хотя я уверен, на пару-тройку дубинок он все-таки раскрутился.
Сразу же после вечерней пересменки Трясогузка тут же принялся жаловаться корпусному, что его ни за что ни про что продолжают держать в тюрьме. Сначала корпусной решил было отшутиться, глядя на его идиотскую физиономию. Но чуть позже, когда ему сказали, что сегодня арестанта с такой фамилией освободили, он встревожился не на шутку. Он закрыл дверь и, даже не доведя проверку до конца, куда-то исчез. Через час он вернулся, но уже с хозяином, кумом и еще несколькими мусорами. Из хаты выдернули человек десять каторжан с Трясогузкой в придачу, и вернулись они назад лишь глубокой ночью. Трясогузки с ними уже не было.
До самого утра мы расспрашивали арестантов о том, что происходило у хозяина, и из их ответов поняли, что Трясогузка доиграл свою роль превосходно. А уже чуть позже, за завтраком, нам стало известно, что его освободили.
* * *
Ни я, ни кто бы то ни был другой из присутствовавших тогда в хате не знали, о чём, уединившись на полчаса, говорили Проныра с Трясогузкой. Через несколько лет, лежа на нарах в одной из камер изолятора в Княжпогосте, я подумал, а как бы я сам поступил на месте Проныры?
Расстояние от Кирова до Горького – около четырехсот пятидесяти километров. У него было две возможности: добираться на машине или по железной дороге. Но, главное, сколько времени оставалось в запасе? А его-то как раз было в обрез, около одиннадцати часов, не более. Ведь сразу же после вечерней проверки, ну, может быть, чуть позже, когда до мусоров дошло, что они освободили не того, кого надо, Проныру объявили в побег. А это значило, что только в лесу среди зверей, у которых нет ни телевизоров, ни радиоприемников, ни телефонов, он мог чувствовать себя в относительной безопасности. Как Проныра умудрился за это время исчезнуть из поля зрения всесильных органов и очутиться на Большой земле в безопасности, для меня до сих пор остается загадкой, ну а то, что затея его удалась, и он до сих пор числится в побеге, я знаю абсолютно точно.
Сноски к рассказу «Вертун»
Арестант – уважаемый всеми заключенный, придерживающийся воровских законов и традиций. Арестантом могут называть тех, кто придерживается воровских канонов и хоть немного соответствует образу жизни воров в законе. Говорить, что арестант «порядочный», неправильно, ибо «непорядочных» арестантов просто не бывает.
Бить пролетку – прогуливаться в тюремной камере или на прогулочном дворике тюрьмы от одной стены к другой.
Босота – представители преступного мира, которые не только придерживаются воровских традиций, но и живут по их канонам.
БУРа – барак усиленного режима. Камера, рассчитанная на несколько человек, находящаяся на территории колонии, или за ее пределами. После Указа от 1961 года в него водворяли осужденных, нарушивших режим содержания (на срок до шести месяцев – на общем, усиленном и строгом режиме и на год в одиночной камере – на особом режиме). БУР отличался от карцера тем, что питание здесь было общее, то есть, такое же, как и в колонии, а после отбоя, когда отстегивались нары, заключенным выдавали матрасы на ночь. Аббревиатура употреблялась с начала 1930-х вплоть до конца 1960-х годов, когда была заменена аббревиатурой «ПКТ» – помещение камерного типа.
Вертухайскую остроту – пошлая реплика, которую надзиратели частенько применяют в адрес заключенных.
В игре «третьями» – в лагерной игре в карты, которая проводится двумя колодами. Один из партнеров ставит какую-либо из карт, не показывая ее партнеру, а другой ее отгадывает.
В Княж-погосте – поселок в бывшей Коми АССР, где располагалось несколько колоний строго режима (единичка, двойка, тройка).
В кругу братвы – в кругу единомышленников.
Воровской общак – «общак», который собирается как в местах лишения свободы, так и на воле, исключительно на нужды воров в законе.
В столыпинском вагоне – в вагоне, в котором перевозят заключенных.
Гнидники – нижнее белье: трусы, майка, кальсоны.
Для тусовок – место для того, что бы «бить пролетку» см. выше.
Два «третьиста» одной масти – оба игрока-третьиста принадлежат к одному сословию. Например, мужики по жизни.
Других исключений, кроме запала – других исключений, кроме обнаружения сотрудниками чего-либо запрещенного.
Демонюга – заключенный, грубо нарушивший какой-либо закон преступного мира, а, оказавшись среди людей, которые его не знают, не просто скрыл свой позор, но и выдал себя за авторитетного человека, которым, возможно, и был ранее.
Жулик – вор в законе.
Зэкам – заключенным.
Из «Столыпина» в воронок – из вагона, в котором перевозят заключенных, в автомобиль предназначенный для тех же целей.
Каторжанин – осужденный с большим стажем отсидки, который не изменяет воровскому образу жизни. Им может быть как блатной, так и мужик по жизни.
Камера-сборка – предкарантинная камера. Такие камеры бывают двух видов. Первые предназначены для водворения прибывших с этапа и ИВС, для того, чтобы до вечера провести дактилоскопию и другие процедуры, а ближе к отбою водворить в карантин. Во вторые помещают заключенных СИЗО, которые прибыли из суда или со следственного эксперимента с тем, чтобы к вечеру возвратить их в камеры, где они содержались прежде.
Килешовка – перевод из одного помещения в другое. Как правило, этими помещениями являются тюремные камеры, корпуса и т. д.
Кличили – была воровская кличка…
Клоповник – Маленькая грязная камера без окна в ИВС, кишащая клопами. В ней нет туалета, зато есть бадья-параша. По большой нужде выводят раз в сутки, ранним утром. Кормят скудно и лишь раз в день. Матрасов не дают. Ходить негде, так что приходится лежать на деревянном настиле.
Кореша – друг, приятель. Пришло с еврейского языка. Изначально, на иврите, слово «корэв» означало «родственник». Корэв, в дореволюционной Одессе быстро превратился в «корэша», а затем уже в привычного нам «кореша».
Крытки – тюрьма. В середине войны некоторых опасных преступников стали вывозить из лагерей и заключать в тюрьмы. Именно в это время появились знаменитые крытки До того тюрьмы в бывшем СССР использовались исключительно в качестве СИЗО и пересылок. Первоначально в качестве крытых были задействованы четыре тюрьмы: златоустовская, тобольская, новочеркасская и вологодская. Заключенные там содержались в специальных камерах и носили полосатую одежду.
К хозяину – в колонию.
Легавые – сотрудники милиции.
Мусоров – сотрудников милиции или мест лишения свободы.
На пересылке – в тюремный пересыльный пункт, куда доставляют заключенных для дальнейшего распределения.
Не спалишься – не допустишь, чтобы обнаружили что-то запрещенное.
Не в кипеш – не спеша, соблюдая осторожность.
Пробить кабур – пробить отверстие в стене в соседнюю камеру с тем, чтобы общаться с соседями и обмениваться необходимым: куревом, чаем и т. п.
Параша – 1) Емкость для испражнений, которая устанавливается в камере. Как правило, в СИЗО для этих целей использовались старые сорокалитровые фляги из-под молока, поскольку у ее основания на крышке находилась резиновая прокладка, которая не пропускала запах. В камерах существовало правило, согласно которому опущенный должен был есть и развлекать сокамерников, сидя на параше. Следует отметить, что к началу 1970-х годов параши в тюрьмах бывшего СССР были заменены камерными туалетами. Что же касается камер ИВС и им подобных, то в них параши заменяют теперь небольшие пластмассовые ведра. 2) Непроверенный или ложный слух, сплетня.
Пару напасов – две затяжки или два глотка. Смотря о чем идет речь.
Разделить пол стоса – сыграть в карточную игру «третями». В ней партнеры периодически (по три раза каждый) одной картой подрезают стос, деля его на две части.
Соседнюю хату – тюремную камеру, расположенную по соседству.
Сухариться – выдавать себя не за того, кто ты есть на самом деле.
Стиры – карты, изготовленные в местах лишения свободы. Чаще всего это происходит в крытых и ПКТ, так как в зоне всегда есть возможность переправить с воли фабричные карты. Называются они так потому, что шулера часто стирали символы на картах. Представляют они собой аккуратно нарезанные листы бумаги, склеенные в четыре, иногда и в пять слоев, все зависит от ее толщины. Как правило, это простая, то есть, не лощеная бумага с продольным слоем, на которую наносится клейстер. Затем следует просушка, прессовка, обрезание неровных концов, печатание, заточка и заправка. Весь процесс занимает не менее суток.
Сделали «объявку» – объявили о чем-то очень важном на данный момент.
С хозяином, кумом и еще несколькими мусорами – с начальником колонии, начальником оперчасти и еще несколькими сотрудниками администрации колонии.
Тусовались – ходили, беседуя.
Урок было двое – воров в законе было двое.
Фраерского апломба – чрезмерной самоуверенности.
Фуфлыжник – уплата карточного долга – это дело святое и арестант, который не смог его вернуть, в лучшем случае становится фуфлыжником. А чаще, как говорят на зоне, его очко уходит в зрительный зал. Для бродяг игра с фуфлыжником, хоть и на сразу – табу, в противном случае бродяга переходит в разряд лагерных изгоев.
Халдеев – шестерок.
Хата была забита под завязку – камера была переполнена народом.
Чалился у хозяина – отбывал срок наказания в колонии.
Чахоточный глухарь-четверташник – больной туберкулезом, засиженный заключенный, у которого срок был двадцать пять лет.
Червонец он отстегнул на общак, как только зашел в хату – десять рублей он тут же отдал на общак, как только вошел в камеру.
Чифирь – чрезвычайно крепко заваренный чай. Обычно в трехсотграммовую кружку с водой засыпают пятидесятиграммовую пачку.
Чифирбак – посуда, предназначенная для приготовления чифиря, обычно – поллитровая алюминиевая кружка, которую выдают в колонии.
Шпанюков – воров в законе.
Малява
Эх, малолетка, малолетка! И чему только я не научился еще пацанёнком, проведя в тюремных застенках часть детства и почти все годы отрочества – начало своего долгого пути по тюрьмам и лагерям нашей необъятной Страны Советов? Сначала, в 1959 году, меня, двенадцатилетнего мальчишку, водворили в ДВК (детскую воспитательную колонию), где я провел два с половиной года, пока меня не забрал оттуда только что освободившийся из мест заключения отец.
Но свободой я наслаждался недолго, да и не дорожил ею, еще даже не осознавая в полной мере, что означает это слово, и в результате через несколько месяцев за уголовное преступление вновь оказался запертым в четырех стенах, но теперь уже на тюремных нарах.
Мне тогда только-только исполнилось четырнадцать лет, а значит, я уже был подсуден и получил три года за воровство. Приговор народного суда города Махачкалы я отбыл, как и положено молодому босяку, от звонка до звонка. Больше того, за это относительно недолгое время я несколько раз побывал «под раскруткой», а последними местами моего заключения за эти три года были колония «специально усиленного» режима в Нерчинске (одна из всего двух на весь Советский Союз) и ростовская тюрьма, откуда я и освободился.
Таким образом, еще до наступления совершеннолетия я умудрился провести в неволе пять с половиной лет.
Какие только «капканы» не выкидывали мы тогда мусорам, лишь бы только навредить режимным службам и тем самым обратить на себя внимание взрослых бродяг и урок! Что только не предпринимали для того, чтобы научиться быть истинными каторжанами! А сколько безумств вытворяли в камерах, на прогулочных дворах и в коридорах тюрьмы, трудно даже перечислить.
Конечно же, за это время случалось множество любопытных и курьезных случаев, в которых я был либо очевидцем, либо самым непосредственным участником.
Это случилось зимой, больше сорока лет тому назад, в восемнадцатой камере махачкалинской тюрьмы, которая располагалась тогда на втором этаже серого, всегда хмурого и угрюмого Екатерининского строения. Было мне тогда чуть больше четырнадцати. Если посчитать, то окажется, что в тюрьме своего родного города мне довелось побывать пять раз, как до суда, так и после него. Суммируя все временные отрезки, получим чуть больше полутора лет, но, что характерно, махачкалинский каземат именно тех далеких лет запомнился мне больше всего. Если чуть-чуть поднапрячь память, то каждый свой прожитый в тюрьме день я смогу воспроизвести в мельчайших подробностях и деталях. Наша детская память – штука необычайно хваткая и оставляет зарубки на всю жизнь.
То было время не просто больших перемен, связанных с заменой денежных знаков и уголовного кодекса, это была еще и эпоха грандиозных преобразований в структуре ГУЛАГа. Если раньше, например, все заключенные содержались вместе (за исключением обитателей специальных лагерей), то теперь осужденные были разделены на пять режимов: общий, усиленный, строгий, особый и тюремный или в просторечии – «крытый».
Теперь уже мало кто знает, что в тюрьме Махачкалы, которая изначально имела статус следственного изолятора, с введением уголовного кодекса 1961 года появился еще и крытый режим содержания. Больше того, после введения высшей меры наказания – расстрела – махачкалинская тюрьма превратилась к тому же в тюрьму исполнительную. Здесь стали приводить в исполнение приговоры Верховного суда, а проще говоря, расстреливали осужденных на смерть людей.
За свою долгую жизнь в неволе мне пришлось объездить по этапам не одну сотню тюрем по всей стране, но, видит Бог, тюрьмы хуже, чем следственный изолятор Махачкалы, я не встречал. Может, это было связано с печальными страницами ее истории, а возможно – просто таково мое предвзятое мнение, но факт остается фактом: все те босяки, которые когда-либо чалились здесь, в один голос утверждают то же самое.
* * *
Думаю, читателю непросто будет представить, как малолетние правонарушители жили в такой тюрьме, где в камерах через стенку находились особо опасные рецидивисты, воры в законе, убийцы и разбойники, а на продоле тусовались попкари-исполнители. Но как бы ни влияли на нашу психику и поведение старшие заключенные, малолетка всегда оставалась малолеткой, со своими абсолютно дикими законами бытия, неслыханным беспределом и яростной жестокостью. Все это было порождением голодного послевоенного детства и закона джунглей, по которому нам приходилось даже не жить, а выживать на улице.
Камера, где мне пришлось провести чуть больше трех долгих зимних месяцев, по сравнению с другими, была довольно просторным квадратным помещением – двенадцать на двенадцать метров. Она отличалась от хат, где сидели взрослые заключенные. В ней было десять одноярусных панцирных шконарей, привинченных к деревянному полу, точно по числу находившихся в ее стенах юных арестантов. В остальном это была обычная тюремная хата: два огромных окна, на подоконнике которых запросто могли бы вытянуться несколько заключенных, безо всяких козырьков и ресничек – жалюзи, которых к тому времени еще не успели придумать институты ГУЛАГа, параша в левом от входа углу и длинный, тоже привинченный к полу, стол. Потолок был очень высоким, поэтому две шестидесятисвечовые лампочки были недосягаемы для подростков.
Администрация тюрьмы часто подсаживала в камеры, в которых содержались малолетки, взрослых заключенных. Это делалось, так сказать, в воспитательных целях. Называли таких «воспитателей» «паханы». В основном это были арестанты-первоходы, но с богатым жизненным опытом на свободе: шоферы, попавшие в тюрьму из-за аварий, унесших человеческие жизни, взяточники, растратчики государственной собственности и тому подобная публика. С нашей камерой тоже попытались было провести такой эксперимент, но мы этого горе-воспитателя ночью сначала избили хорошенько, а после этого еще и изнасиловали хором.
Арестанты из камер строгого режима дали нам вечером цинк, что воспитатель этот – ни кто иной, как конченая лагерная сука, из-за которой уже пострадало несколько человек. Они оказались в тюрьме именно по его доносам. Ясное дело, эта падаль боялась расправы и не могла находиться среди заключенных, знавших о его прошлом. Поэтому-то штатный воспитатель нашего корпуса, лейтенант-дегенерат с тупой физиономией самовлюбленного спортсмена, посадил его к нам в камеру, спасая от праведного гнева арестантов и даже не догадываясь о том, какую ошибку он совершает. Этого идиота потом сняли с работы, а против четверых из нас возбудили дело за мужеложство. В те времена такие действия подпадали под 121-ю статью нового уголовного кодекса.
Я и четверо моих сокамерников, кому еще не исполнилось шестнадцати лет, и одноглазый парень из Дербента избежали этой позорной участи. Целую неделю после случившегося мы терялись в догадках и никак не могли понять, каким образом менты узнали о происшедшем уже на следующее утро, еще до проверки, если до этого никто из камеры не выходил. Хоть мы и были тогда совсем еще зелеными пацанами, но принялись анализировать случившееся и припоминать похожие случаи.
А вспомнить было что. Однажды, например, после того как мы с одним парнишкой ночью сделали себе наколки, утром, чуть ли не с подъема, нас обоих утащили в карцер. Правда, втерли нам тогда лишь по пять суток, но все же…
Или еще случай. Тюремный забор с восточной стороны тюрьмы отделял ее от находившегося по соседству лагеря. Сейчас на этом месте строится новый следственный изолятор, а в те времена находилась первая махачкалинская колония общего режима. Так вот, осужденные из числа хозяйственной обслуги лагеря приходили в тюремный дворик, который располагался прямо под нашими окнами и был виден из них, и заготавливали дрова на зиму, пилили и кололи их. Малолеток, которые содержались прежде в одежде, в которой они были арестованы, после указа 1961 года начали полностью переодевать в робу. Обувь, правда, нам тогда еще оставляли. Вот мы и обменивались с этими чертополохами, закидывая вниз коня и спуская по нему обувь, а хозобслуга посылала нам за это анашу.
Несколько раз этот бартер удался, но однажды после утренней проверки пришло начальство и отобрало у нас обувь, которая хотя бы теоретически могла пользоваться спросом, оставив взамен какие-то безразмерные бахилы. Тех же, кто менял ее давеча, закрыли в карцер.
Произошло и еще несколько инцидентов, после которых некоторых из нас лишали передач, а иногородних – посылок. Так что нам всем было о чём призадуматься.
В то время в тюрьме находилось четверо жуликов: Паша и Джибин (муха) – два кореша-карманника были родом из Махачкалы, кроме них сидели Бондарь Воронежский и Коля Шоколадный из Витебска. У всех урок был крытый режим, а это значило, что содержались они отдельно от подследственных.
Однажды, по чистой случайности, мы все же схлестнулись со шпаной. «Крытники» тусовались в прогулочном дворике через стенку от нас. Никогда не забуду, как я был рад этой встрече, ведь с Джибином мы жили по соседству, в одном квартале, а наши с Пашей дома стояли вплотную друг к другу. Разумеется, оба они знали меня с раннего детства.
В любой тюрьме на прогулочных двориках между стенами и полом располагались небольшие отверстия для стока воды. Арестанты потихонечку, полегонечку расковыривали такую дырочку и со временем из неё получался внушительных размеров кабур, после использования которого, перед возвращением в камеру, аккуратно заделывали кусками асфальта или глины.
Был такой кабур и в нашем прогулочном дворике. Через него-то я почти всё время прогулки и проговорил с Пашей и Джибином. Я, конечно же, поведал им о том, что произошло у нас в хате с тем, и попросил их помочь вычислить иуду. В том, что нас сдали с потрохами, не было никаких сомнений. Вот только оставалось загадкой, кем и каким образом это было сделано.
* * *
– Есть ли в хате люди, которых ты знаешь со свободы? – спросил меня не в кипеш Паша.
– Да, есть двое, – ответил я. – Шайтан и Андрюха, мой приятель со старой Махачкалы. Я тычил с ними на свободе и знаю их с детства. Пацаны нашенские, никогда ни в чем зазорном замечены не были.
– А ну-ка подзови их сюда.
Я окликнул обоих, и, когда они подошли и согнулись над кабуром, Паша не спеша и в мельчайших деталях объяснил, что мы должны сделать, чтобы выявить в камере эту молодою суку.
Клацанье ключа в замочной скважине прервало наше общение, но к тому времени мы обо всем уже успели поговорить и понять всё, что нам было нужно.
Возвратившись с прогулки в камеру, мы вели себя так же, как и обычно, стараясь не выдать бушевавшего в груди волнения. Не стоит забывать, что каждому из нас было тогда лишь чуть больше четырнадцати лет.
Почти целый день я протусовался по хате, понимая, что за мной наблюдают. Переваривая все то, что объяснил нам на прогулке Паша, и, можно сказать, впервые в своей жизни столкнувшись с таким и иным проявлением предательства, я никак не мог понять, как же этот гад, ломая с нами один кусок хлеба, мог пойти на такое.
Урки объяснили нам, что этой суке было легче всего цинковать ментам утром.
– Но как он это делал? – спросил я Пашу.
– Да очень просто. Пока вы, сонные, надевали штаны, протирали глаза и подходили к кормушке за завтраком, он первым оказывался возле неё и не в кипеш бросал на продол малявку. Корпусной подбирал её и относил куму, который и отдавал соответствующие распоряжения о лишении очередной передачи или свидания, о водворении в карцер и так далее.
Вечером, немного успокоившись, я принялся писать письмо домой, а чуть позже, как будто вспомнив о чём-то, ко мне подсел Шайтан и сказал, чтобы я попросил свою мать зайти к ним домой с какой-то просьбой.
Всем было известно, что мы кентовались ещё со свободы и жили неподалеку друг от друга, поэтому и поведение наше не должно было вызвать никаких подозрений у иуды, который, после нашего разговора с ворами, настороженно наблюдал за нами, почувствовав что-то неладное.
Послание мое было адресовано не матери, я писал его… куму. Да-да, не удивляйтесь, именно куму. Посередине полностью исписанного листа я вставил следующие слова: «Я разоблачен, срочно заберите меня отсюда, иначе убьют!»
Не зная, кто из сокамерников на самом деле был предателем, а значит и не имея понятия о его почерке, я специально настрочил маляву покорявее, как бы давая понять адресату, что времени у меня нет. Когда ксива была готова, к столу подошел Андрюха с коробкой домино и, как бы возмущаясь тем, что мы так долго занимаем стол, сказал громко, чтобы было слышно на всю камеру: «Ну ладно, пацаны, хватит ерундой заниматься, дайте поиграть!» При этом он не в кипеш кинул шнифт в исписанный лист бумаги, и тут же стрельнув взглядом, дал понять, что прочёл всё, что нужно. Андрюха сел на лавку и, высыпав на стол кости, стал их перемешивать.
Ночью, когда почти все уже спали, я на всякий случай под одеялом вырезал из середины моей писанины послание, адресованное куму, и, свернув клочок бумаги в малявку, спрятал ее в трусах. По сути, я повторил ту же самую операцию, которую, по нашим предположениям, каждый раз проделывала эта сука, когда хотела сдать кого-либо из нас куму, штампуя свои донесения. Вот только цели у нас с этой мразью были разные.
До утра, а точнее, до того момента, когда кормушка с лязгом хлопнула на ржавых петлях о дверь и баландер крикнул: «Завтрак! Подъем, шпана безусая!» – я не сомкнул глаз ни на секунду, Первым выскочив из-под одеяла, я тут же подбежал к двери и, встав сбоку, чтобы меня не было видно из коридора, и в то же время, закрыв собой обзор находившихся в хате, резким движением руки выбросил маляву в коридор. После этого, отойдя в сторону и с понтом, протирая спросонья глаза, я стал внимательно наблюдать за тем, как сокамерники берут миски с завтраком, но ничего подозрительного не заметил.
Через несколько минут, даже не прикоснувшись к еде, уже одетые, мы с Андрюхой тусовались от параши до стола, загораживая выход, на случай, если сука захочет внезапно ломануться из хаты. Шайтан это время стоял возле двери, опершись о косяк, явно давая понять, что сейчас что-то должно произойти. В камере почувствовалась напряжёнка: ведь четверо из сокамерников были новичками и не могли понять, что происходит, тогда как трое остальных сидели на шконарях почти рядом и, глядя на нас в недоумении, хотели, чтобы мы объяснились как положено.
Вскоре всё встало на свои места. За несколько минут до утренней проверки дверь камеры отворилась и ключник, стоявший в дверях вместе с корпусным, выкрикнул фамилию одного из сокамерников. Я ушам своим не поверил, ибо он вызвал одноглазого. Дело в том, что эта мразь первая предложила изнасиловать «пахана» и первая сделала это, особо усердствуя в избиениях. Он был старше и сильнее нас всех. Мы-то подумали, что мусора его пожалели из-за инвалидности, а оно вон как оказалось…
Не понимая, в чём дело, но делая на всякий случай беспечный вид, он попытался было вразвалочку подойти к двери и ломануться, но не рассчитал и наткнулся на ногу Шайтана, который коршуном прыгнул на него и вцепился ему в горло зубами. Тут и мы с Андрюхой подоспели.
Мусора не успели даже щекотнуться, как эта падаль уже истекала кровью и, вырываясь, орала что есть мочи. Шайтан, вцепившись ему в горло, вырвал зубами кусок мяса, но до сонной артерии не добрался. Зато нам с Андрюхой повезло больше. Паскуда оказался крепким детиной, а когда такие мрази чуют смерть, силы их удесятеряются, но мы все же сумели за эти несколько минут добраться до его единственного шнифта и потушили его навеки.
* * *
Не знаю, как сейчас, но в те далекие времена администрация тюрем применяла по отношению не в меру строптивым малолеткам – смирительную руднику – резиновый комбинезон с длиннющими рукавами и множеством завязок. Это считалось самым крайним средством для усмирения нарушители режима содержания. Я не встречал человека, который при этом не сходил бы под себя. Поначалу, когда узника только пеленали, ему казалось, что все это чепуха. Но первое впечатление было ошибочным. Через некоторое время резина постепенно сжимала суставы и каждая клеточка человеческого тела начинала испытывать адские муки. Крик, стоны, мольбы о помощи – но всё тщетно. Тюремный врач в таких случаях ориентировался на кума или на режимника: всё зависело от того, чей это был «клиент».
Не избежали этой участи и мы. Но, как говорится, не было бы счастья, да несчастье помогло. При этих экзекуциях надлежало присутствовать врачу, хотя, как я уже сказал, присутствие это было пустой формальностью. Лепилы в тот момент на месте не оказалось, злость же мусорская била через край, и они решили нарушить строгую инструкцию и стали пытать нас сами. Результат оказался предсказуемым. У Андрюхи во время применения пыток пошла горлом кровь и его пришлось срочно госпитализировать в городскую больницу Махачкалы с каким-то мудрёным диагнозом, ну а нас с Шайтаном, испугавшись последствий, тут же распеленали и закрыли в карцер на десять суток, но «крутить» позже не стали.
Впоследствии Андрюху освободили из-под стражи прямо в тюрьме, хоть впереди у него и была еще двушка. Это было непременным условием его родителей – лишь только в том случае они соглашались не подавать в суд на тюремную администрацию. А родители у Андрюхи по тем временам были крутые: мать преподавала в школе немецкий язык, а отец работал в обкоме (областной комитет) партии.
Итак, та камерная сука окончательно ослепла, но и Андрюха остался инвалидом на всю оставшуюся жизнь. Больше он в тюрьму не попадал, в отличие от нас с Шайтаном.
О выходках Шайтана и до сих пор в Махачкале ходят легенды. Однажды в камере покойный Хапа наколол на его лопатке: «Смерть прокурору от руки Шайтана!» Прошли годы, и попал он как-то этапом в волгоградский красный лагерь, где у него попытались эту надпись вырезать. На операционном столе бедолага и отдал Богу душу. Впрочем, я все же склонен думать, что его попросту убили лагерные коновалы.
Сноски к рассказу «Малява»
Анаша – высушенный и перемолотый куст конопли с листьями и стеблями и головками растения после снятия пыльцы (гашиша). Хотя это слово – южного происхождения, его с дореволюционных времен употребляют во всех регионах страны, кроме южного, поскольку в республиках Северного Кавказа, Закавказья и в Средней Азии говорят: «план». Не следует путать с гашишем.
Баландер – разносчик пищи в местах лишения свободы.
Бедолага – в местах лишения свободы – мужики по жизни. Администрация чаще, чем других водворяет их в изолятор, БУР, а иногда и под раскрутку. Как правило, они находятся в заключении не один десяток лет и слывут людьми невезучими.
Бахилы – сапоги особого покроя, которые выдают в местах лишения свободы, только на лесных командировках. Во избежание того, что упавшее бревно придавит пальцы ног, они защищены круглой чашечкой, сделанной из твердого материала.
Бросал на продол малявку – бросал в тюремный коридор записку.
Бродяг и урок – воров и тех, кто рядом с ними.
Втерли – дали.
Двушка – два.
Джибин – муха, в переводе с языка кумыков (народность в Дагестане).
Жуликов – воров в законе.
Закидывая вниз коня – опуская вниз веревку или сплетенные вместе несколько ниток с тем, что бы принять или отправить что-либо. Не обязательно, чтобы это были запрещенные вещи, как то наркотики, деньги и т. п. Ими зачастую бывают записки (как правило, личного характера), курево и чай.
Истинными каторжанами – заключенными, которые свято чтят законы тюрьмы, а значит и воровские устои.
Иуды – предатели.
Кабур – небольшое отверстие, проделанное в стене, в полу или в потолке камеры. Пробивают кабуры черенком от алюминиевой ложки – единственным доступным в тюремных условиях инструментом. При обнаружении кабура надзиратели приводят рабочих, которые тут же заделывают отверстие цементом, но через какое-то время оно появляется вновь.
Капканы – определенного рода махинации, хорошо обдуманные нетривиальные ходы, в результате которых противник попадает в сложную или щекотливую ситуацию – западню.
Карцер – штрафной изолятор в местах лишения свободы.
Кентовались – были друзьями.
Конченая лагерная сука – доносчик, предатель, для которого не существует ничего святого. Воровской закон гласит: любой арестант, считающий себя таковым, при первой же возможности, обязан убить любого из них. Так и происходит. Суки знают об этом, поэтому и лютуют. Как правило, они числятся за каким-либо управлением, а некоторые – вообще за Москвой.
Кормушка – небольшое отверстие (15 × 30 см) в дверях камер тюрьмы, карцера, ШИЗО, ПКТ и тому подобных помещений для передачи продуктов питания и предметов, разрешенных действующим законодательством.
Крутить – добавлять лагерный срок к уже имеющемуся по приговору суда со свободы.
Крытники тусовались – осужденные крытого режима ходили в разные стороны.
Куму – начальнику оперчасти.
Ксива – в данном случае записка.
Лагерные коновалы – медицинские работники в ИУ.
Лепилы – ничего общего не имеющие с медициной сотрудники медчасти ИУ.
Ломануться – выбрав удобный момент, выбежать из камеры. Как правило, к этому прибегают подследственные или осужденные, по тем или иным причинам нарушившие тюремные устои: проигравшие и не заплатившие вовремя карточный долг, укравшие что-либо у своего собрата по несчастью, выдавшие соучастника преступления, или те, кто пытался до поры до времени скрыть позорное прошлое, получил по заслугам и изгнан из камеры. Обычно это происходит это во время утренней или вечерней проверки, когда надзиратели открывают дверь. Но бывает и так, что камеру хочет покинуть молодой бродяга. Причина в данном случае, одна – не сошелся характером с себе подобными. Впрочем, на этот счет существует строгое правило: «ушел из хаты – значит, ушел из жизни босяцкой», и обратной дороги уже нет.
Малолетки – колонии для несовершеннолетних преступников.
Малява – записка.
Молодому босяку – подающему надежды будущему вору в законе.
Мрази – негодяи.
Мусорам – в данном случае сотрудникам администрации ИУ.
Наколол на его лопатке – сделал татуировку на лопатке.
На продоле тусовались попкари-исполнители – в коридоре ходили надзиратели, которые приводили приговор суда – расстрел в исполнение.
Не в кипеш – очень осторожно.
Одноярусных панцирных шконарей – имеются ввиду тюремные кровати для несовершеннолетних преступников, в тюремных камерах.
От звонка до звонка – от начала и до конца срока заключения.
От хат – от камер.
Параша – 1) Емкость для испражнений, которая устанавливается в камере. Как правило, в СИЗО для этих целей использовались старые сорокалитровые фляги из-под молока, поскольку у ее основания на крышке находилась резиновая прокладка, которая не пропускала запах. В камерах существовало правило, согласно которому опущенный должен был есть и развлекать сокамерников, сидя на параше. Следует отметить, что к началу 1970-х годов параши в тюрьмах бывшего СССР были заменены камерными туалетами. Что же касается камер ИВС и им подобных, то в них параши заменяют теперь небольшие пластмассовые ведра. 2) Непроверенный или ложный слух, сплетня.
Паскуда – тот, кто поддерживает постоянную связь с милицией и в некоторых случаях использует ее в собственных целях. Паскуды, как правило, долго не живут. После разоблачения их сразу же ликвидируют, тогда как, например, к сукам, не всегда применяются крайние меры.
Переодевать в робу – переодевать в лагерную форму.
Под раскруткой – находясь под следствием будучи в местах лишения свободы.
Режимник – заместитель начальника ИУ по режиму и охране.
С понтом – с определенной долей апломба.
Схлестнулись со шпаной – встретились с ворами в законе.
Тычил – воровал по карманам.
Урок – воров в законе.
Хозобслуга – осужденные к небольшим срокам заключения, не имеющие взысканий и не придерживающиеся воровских законов, а потому и занимающиеся в тюрьме хозяйственными работами.
Цинковать ментам – давать знать милиции о совершенных противозаконных действиях.
Шайтан – кличка (шайтан – злой дух, в переводе с языка мусульман всего мира).
Шнифта и потушили его навеки – выкололи глаза.
Шконарях – лагерных кроватях.
Шпана безусая – молодые преступники, которые стараются придерживаться воровских законов.
Щекотнуться – почуять опасность.
Цинк – опознавательный сигнал об опасности.
Муссолини
1
Случай этот произошел в самом начале 1998-го. Близился к концу второй год моего заточения в московских тюрьмах: сначала в Бутырке, а затем и в Матросской Тишине. В конечном итоге я опять оказался в Бутырском централе.
Тогда я и представить себе не мог, что вскоре вновь окажусь на свободе. Дело в том, что когда в последний, седьмой раз меня вывозили на суд, прокурор, эта с виду милая, пышнотелая дама бальзаковского возраста, после всех доводов, обращенных к судье (кстати, тоже женщине), запросила для меня десять лет особого режима. «Мало того, что вы в своей собственной стране уже двадцать один год, как признаны вором-рецидивистом, – язвительно подчеркнула она, глядя при этом куда-то в сторону и явно избегая встретиться с моим взглядом, – живете в основном по чужим документам и постоянно нарушаете закон. Вы еще и умудряетесь разъезжать по Европе, занимаясь там криминальной деятельностью, и находитесь под пристальным вниманием Интерпола. – В тот раз меня арестовали в аэропорту Шереметьево, прямо у трапа самолета, прилетевшего из Афин. – Не многовато ли для обыкновенного карманного вора, Зугумов?»
Выпалив все это, она хотела было сесть, и тут наши взгляды, наконец, все же встретились. Успев на доли секунды заглянуть в эти маленькие глаза, похожие на глазки королевской кобры, я сделал для себя вывод: этого ядовитое существо может только жалить. Как бы то ни было, фортуна все же улыбнулась мне, и я избежал ржавого меча нашей подгнившей державы. Но это случилось чуть позже, а пока я чалился в 164-й хате.
Накануне Нового 1998 года ко мне на свидание в тюрьму пожаловала одна очень элегантная и привлекательная особа. Я нисколько не удивился странному визиту этой дамы, хотя и видел ее впервые. Дело в том, что уркам, пребывавшим на свободе, понадобилось срочно передать очень серьезную маляву братьям, находившимся в тот момент в Бутырке. Но как это сделать?
Пронюхав о том, что в самом скором будущем в воровской среде должны были произойти какие-то глобальные перемены, администрация тюрьмы наложила запрет на свидания не только с ворами, находившимися на свободе, но и в самой тюрьме жуликам не разрешались свидания ни с кем, даже с матерями.
В этой связи мне хотелось бы отметить одну очень важную деталь, связанную с арестантской жизнью воров в законе вообще и в Бутырской тюрьме в частности. Там постоянно находилось, по меньшей мере, восемь или десять урок. Несмотря на то, что централ был лишь третьим по величине на всем постсоветском пространстве (после питерских Крестов и киевского «Крещатика»), ни в одной из других тюрем не чалилось столько воров в законе, как здесь. Это происходило оттого, что Бутырка находилась в самом центре империи, в её столице, где прокручивается, как известно, семьдесят процентов всего российского капитала.
Что же касается воровских сходняков, то и они, как правило, проходили в Первопрестольной. В златоглавую по разным делам всегда съезжалось много урок со всей страны, ну а уж появиться на сходняке и сам Бог велел.
Обычно результаты очередной сходки переправлялись братьям в столичные тюрьмы, а там урки знакомили с ними заключенных. Таким образом, те, кому это было положено, оказывались в курсе всех воровских дел. Но случалось и так, что большинство воров находились не на свободе, а за решеткой. Тогда сходняк приходилось проводить в бутырских стенах.
В то время в одной только Бутырке сидели восемнадцать воров. Почти всех их я знал лично и общался с ними и в Матросской Тишине, когда был там вместе с Колей Сухумским в табунаре «на положении», и в Бутырке, когда был переведен туда вновь.
Мое положение обязывало меня по нескольку десятков раз в день не только обращаться к ворам по разным причинам, но иногда и встречаться с ними при необходимости. Иначе и быть не могло. Это был наш обычный, повседневный тюремный быт.
Всем известно, что занести в тюрьму что-нибудь запрещенное всегда непросто, а в такое время тем более. Так вот, сведя риск к минимуму (малявка была зашифрована, а код знали лишь единицы), урки отправили курьером на свидание в тюрьму дочь одного очень высокопоставленного чиновника из аппарата правительства России, любовницу одного из столичных босяков, которая ради него была готова на все.
Воры всё рассчитали правильно: вряд ли кто-либо из тюремной администрации рискнул бы подвергнуть ее шмону. Менты в таких ситуациях, а их на моей памяти было множество, предпочитали иметь дело не с тем, кто передавал депешу, а с тем, кому она предназначалась. Таким человеком мог быть либо сам адресат, либо его доверенный посредник.
Миссию получателя воры возложили на меня. Накануне предстоящего свидания урки сказали мне: «Ты сам видишь и понимаешь всю сложность ситуации, Заур, поэтому действуй, как считаешь нужным, на свое усмотрение. Тебя учить не надо, но в любом случае ксива должна либо оказаться у нас, либо быть уничтоженной тобой лично. Третьего не дано и быть не может».
За свою долгую босяцкую жизнь я, конечно же, не раз исполнял поручения подобного рода, как на свободе, так и в неволе, и все, слава Богу, всегда обходилось без запалов. Ума хватало, да и молод был – дурил попкарей и крутил легавыми как хотел и как складывалась ситуация. Но теперь, на старости лет, я, откровенно говоря, немного занервничал.
Боялся я, конечно же, не за свое благополучие, ведь это была моя жизнь, а за дело, мне порученное. Еще с детских лет воры научили меня ходить по краю пропасти и не падать. Ну и, в конце концов, я был у себя дома, чего мне было бояться? Но годы всё же брали своё, я это уже давно чувствовал, потому-то и переживал за возможные последствия запала и за своё честное имя босяка. Ведь поручения такого рода воры доверяют лишь одному из тысяч арестантов, но и спрашивают с него соответственно. Приходилось идти на риск, ибо если не я, то кто же?
2
Краткосрочные свидания почти во всех тюрьмах России проходили по одному и тому же сценарию. Сначала заводили посетителей со свободы и они рассаживались по местам. Затем наступала очередь заключенных. Посреди узкой и длинной комнаты стояло что-то, напоминающее стол. Сквозь него, тоже посередине, во всю длину помещения была намертво закреплена огромная и толстая прозрачная перегородка, уходящая под самый потолок. По обеим сторонам стекла – ряд стульев и телефонные аппараты. Разговаривать можно было только по телефону, иначе ничего не услышишь. Подниматься со своих мест во время свидания запрещалось, залезать на стол или под стол – тем более. Ни единой щели, в которую могла бы пролезть даже спичка, ни единой трещины или дырки в перегородке не было. За этим постоянно следили несколько мусоров.
Но все это лишь кажется человеку, не искушенному в тюремной изобретательности. Арестант же, идущий на свидание не только для того, чтобы увидеть родных или почесать языком, всегда готовится к нему загодя. Собрав последнюю информацию по «дорогам», соединяющим соседние хаты, он всегда знает, к какой кабинке нужно подойти и на какой стул сесть, где следует нагнуться и какую дощечку ковырнуть, чтобы вытащить оттуда маляву, деньги или еще что-нибудь очень полезное.
Рассказывать обо всех хитросплетениях и примочках, к которым прибегают арестанты российских централов, я думаю, ни к чему. Мне бы не хотелось, чтобы они меня неправильно поняли. Так что описывать, как я выцепил ту ксивенку, не буду. О чем только мы не переговорили за два часа, отведенные нам тюремным регламентом, с этой юной и очаровательной незнакомкой, чтобы скоротать время! Мне было не до новостей со свободы, но виду я, конечно же, не подавал. Улыбался своей милой собеседнице, о чем-то переспрашивал её по нескольку раз и почти всё время думал о предстоящей схватке с легавыми. Ну, а в том, что она предстоит в самое ближайшее время, у меня не было и тени сомнений. Легавые были «на хвосте», я это чувствовал всем своим телом.
Наконец, разводящий дубак предупредил всех о том, что время вышло и пора закругляться. Арестанты стали прощаться с близкими, а ещё через минуту-другую заключенных раскидали по боксикам-одиночкам и начали разводить по камерам.
Сидя в самом крайнем от общего коридора боксике, я не в кипеш курил, припасенную ранее сигарету (в боксиках курить не разрешалось), по привычке прислушивался к тому, как мусора клацали затворами на дверях камер, и непроизвольно считал. Как я и предполагал, последней оказалась именно моя крохотная каморка. Меня, молча, вывели и безо всяких расспросов повели в сторону хоздвора. Через несколько минут я оказался в тюремной бане.
Вид этого помещения впечатлял. При входе в глаза сразу бросалось крохотное квадратное отверстие, похожее на окно, которое было зарешёчено двумя рядами толстых прутьев, будто это был по меньшей мере бункер. В какой-то степени это сравнение было справедливым. В окне стёкол не было, И оттуда дул холодный зимний ветер. Все стены бани блестели инеем, ведь на дворе стояли крещенские морозы.
В общем, радоваться было нечему, но и отчаиваться, тоже не стоило. Я уже не раз писал, что все эти экзекуции были частью моей жизни, а тюрьма родным домом. Через какие только препоны мне не приходилось пройти за четверть века, проведённые в казематах и равелинах «нашей необъятной», лишь бы обмануть мусоров, вырулить у них то, что для нас было крайне важным, а порой и то, от чего зависела чья-то жизнь! Так что я готов был ко всему, да и сценарий был мне знаком еще с юных лет.
Здесь я, пожалуй, немного отвлекусь, чтобы рассказать к каким уловкам прибегали вертухаи, чтобы изъять у заключенного важную малявку или деньги. В первую очередь менты задавались вопросом: куда человек может спрятать ксивенку? Есть два почти верных пути её загасить: проглотить или запихнуть в «жиганский гашник». Так что, не мудрствуя лукаво, они раздевали догола свою жертву, заставляли согнуться или помогали это сделать и засовывали в задний проход заключенному железный прут с крючком на конце, а если были слишком злы на арестанта, то и обрывок колючей проволоки.
Если искомого там не оказывалось, они заставляли арестанта выпить загодя разбавленную гашеную известь и сажали его на решетку, заранее постеленную на отверстие в туалете или бане, а сами наблюдали за происходившим процессом. Представьте себе картину: голый человек сидит над толчком, покрытым мелкой сеткой, а вокруг него стоят пять-шесть попкарей разного калибра и боятся пропустить самый главный момент экзекуции: когда же, наконец, вылетит из заднего прохода малява или бандяк с копейкой? В том, что это рано или поздно произойдёт, никаких сомнений у них не было, ведь этот способ в течение не одного десятка лет был проверен на многих тысячах заключённых и всегда действовал безотказно.
Если всё же по каким-то причинам желаемый результат не достигался, то они все равно нисколько не отчаивались и тем более не смущались. С чувством выполненного долга они препровождали заключённого в его камеру, и на этом их миссия заканчивалась. Они своё дело сделали, а остальное их не касалось. Все остальное было прерогативой оперчасти.
Но в случае со мной они могли попасть впросак. Кумовья были уверены в том, что малява у меня, а значит, я её просто здорово пригасил. Они знали, с кем имели дело.
3
Козырные легавые были абсолютно правы, предполагая, что малява всё же существует. Они были уверены, что мне каким-то образом удалось не спалить её, но вот как это у меня получилось, для них, думаю, и по сей день остается загадкой. Что ж, голь на выдумки хитра…
Мусоров гораздо больше беспокоило теперь другое: как избежать всеобщего кипеша среди арестантов? В какую камеру пригасить меня на несколько дней, пока не сойдут синяки и ссадины, которые я получил при столкновении с ними, а заодно и понаблюдать, буду ли я пытаться схлестнуться с ворами?
О том, чтобы водворить меня в одну из камер большого или малого спеца – то есть в обычное место пребывания особо опасных преступников, не могло быть и речи. В то время я как раз был положенцем большого спеца и небольшого корпуса-аппендикса в придачу, а это – треть всего Бутырского централа. На малом спецу тогда парились урки. Так что сажать меня в одну из камер этих корпусов мусорам было никак нельзя.
Вариант с карцером тоже был исключен. В шестнадцати камерах этого живого склепа шла своя тюремная жизнь. Почти каждые два-три часа кого-то сажали, кого-то выпускали. Людской круговорот не прекращался круглые сутки, и утаить кого-либо из арестантов от недремлющих зэков было практически невозможно. Так что этому парчаку-режимнику Ибрагимову, который руководил тогда всей этой операцией, – нужно было или заживо замуровать меня в какой-нибудь камере, как некогда мусора замуровали старого уркагана Байко, либо найти в тюрьме хату на отшибе. В любом следственном изоляторе у легавых всегда припасено что-то на такой случай, а уж тем более в Бутырке.
Так что, в конце концов, и для меня хата нашлась. Во внутреннем дворе Бутырки, там, где находится здание санчасти и больничный стационар, стоит одноэтажный корпус, соединяющий малый спец и левое крыло централа. Здесь полоскалась вся хозобслуга Бутырки, тут же располагались кухня, хлебопекарня, склады с продовольствием и прочие службы. Все эти сооружения оказывались сзади того маленького корпуса-аппендикса из одиннадцати камер, куда мусора наконец-то определили меня после нескольких часов привычной мороки на седьмой сборке.
Сборки выполняли те же самые функции, что и боксики, только были гораздо больших размеров. Самой большой в Бутырке считалась именно седьмая сборка, куда одновременно могли поместиться до двухсот человек. Обычно больных и покалеченных сажали на несколько часов именно сюда из-за соседства с тюремной санчастью. Дверь была прорублена непосредственно в стене для того, чтобы заключенных не выводить из камеры в коридор.
С некоторых пор этот корпус пользовался дурной славой, хоть и здесь порой чалились урки. Всему виной была одна падаль по кличке Чёрный. Я слишком хорошо знал деяния этого гада, но никогда не встречался с ним. Это была старая лагерная сука, до поры до времени сухарившаяся среди бродяг, применяя всевозможные хитрости и уловки. Долгое время ему это удавалось, ведь его хозяева помогали ему во всем. Менты старались не светить этого гада по пустякам, берегли, надо думать, для чего-то более важного, более значимого для них, и однажды такой час пробил.
В первой половине девяностых годов в Бутырке собралось очень много именитых урок. Легавым необходимо было знать всё, что творилось в воровской среде. С этой целью они и запустили наседкой по воровским хатам малого спеца эту суку. Впоследствии босякам удалось вывести его на чистую воду, но, к сожалению, слишком поздно.
После ареста Паши Цируля – держателя воровского общака России – и шмона в его загородном доме, менты, не найдя денег, были очень злы и предпринимали все возможные меры для их поисков. Чёрный, судя по всему, был их последней надеждой. Почему последней? Да потому что вскоре после их встречи, Пашу Цируля перевели в гэбэшную тюрьму – Лефортово, где его впоследствии и отравили.
Ранее, ещё сидя вместе с Цирулем в 53-й камере малого спеца Бутырки, Чёрный сдал легавым всё, что только можно. После всех этих тусовок из камеры в камеру и уточнения ворами некоторых нюансов, Чёрному и был подписан смертный притвор.
Теперь легавые должны были попросту выкинуть его, как ненужную больше вещь. Так они поступали всегда. Зачем им нужны лишние хлопоты с этой засвеченной сукой? Ан нет, они для чего-то всё еще берегли его.
Сроку у него было как у дурака махорки, поэтому он и плавал по тюрьме уже больше пяти лет. Но, с точки зрения босоты, самым опасным и настораживающим было то, что эту мразь почти никто не знал в лицо. И как ни страховались бродяги, а это обстоятельство всё же сыграло на руку легавым.
В то время в тюрьме сидел молодой уркаган – Гриша Серебряный. Даже не знаю, по каким соображениям менты закинули его на этот маленький островок из одиннадцати хат, где «чисто случайно» по соседству с ним, в камере через стенку, оказался один «старый каторжанин». Вечерком этот незнакомый арестант передал Грише через кабур раствор черняшки, который якобы приберёг для себя. Они вмазались, а к полуночи Серебряного не стало. Так вот, этим соседом уркагана был ни кто иной, как тот самый козёл – Чёрный. Такая вот печальная история произошла в этом корпусе незадолго до моего появления.
4
Хата, куда меня посадили, оказалась небольшой восьмиместкой, шести метров в длину и трех в ширину. Справа от входа был приспособлен небольшой толчок, по обеим сторонам, вдоль стен, стояли по два двухъярусных шконаря, а под маленьким, наглухо зарешеченным окном, прямо напротив двери – маленький столик, намертво вцементированный в пол. Еще не успев разместиться как следует, я уже почувствовал, что совсем недавно здесь были люди, хотя хатёнка и была аккуратно прибрана чьими-то заботливыми руками. Каторжанское чутье всегда точно подмечало любые тюремные мелочи. Не помню, чтобы оно когда-нибудь меня подвело.
Присев на нары, я по привычке огляделся вокруг. Это был своего рода ритуал. Войдя в любую пустую камеру, старый каторжанин обычно присаживается на нары и, закрыв глаза, отдает себя в распоряжение тюремного провидения. А уж оно, будьте уверены, всегда подскажет истинному арестанту то, что другим ощутить не дано. Это что-то вроде шестого чувства, утерянного людьми давным-давно. Посидев немного на голых нарах, я встал и зашагал по хате. Ничего неожиданного я не почувствовал. Вид обычной тюремной камеры внушал скорее апатию, чем интерес. Все эти камеры-одиночки, карцеры, боксики, сборки – и всё, что было с ними связано, уже до такой степени надоели мне своим унылым однообразием, а лихорадочная гонка мыслей так истощила мозг, что хотелось обыкновенного человеческого покоя. Хотелось просто лечь, закрыть глаза и ни о чём не думать или мечтать о чём-нибудь далёком и прекрасном. Но многолетняя тюремная привычка всё же брала своё. Так что чуть позже, когда я осмотрел хату более внимательно и промацал все стены, то чуть ниже правой шконки обнаружил кабур, небрежно замазанный раствором цемента. Расковырять дыру особого труда не составляло, главное было определить, есть ли кто-нибудь по соседству?
Пройдя в сторону двери, туда, где заканчивались нары, я встал спиной к одной из стен и изо всей силы стукнул в нее ногой несколько раз. Не дождавшись ответа, я перешел к противоположной стене, туда, где находился замазанный кабур, и проделал то же самое.
К моей радости, понятной всем арестантам, из соседней хаты послышались ответные удары. Но из единственного окна, закрытого ресничками до такой степени, что из мелких, как сито, щелей еле-еле пробивались тонкие лучики дневного света, «подкричать» что-либо соседу было почти невозможно. Да даже если бы я и попробовал это сделать, мусора, охранявшие коридор, не заставили бы себя ждать. Кружки для переговоров через стенку у меня тоже не было. Что делать? Сняв башмаки и подложив один из них под себя, я, удобно устроившись на полу возле шконаря, стал вторым отстукивать в стену колымским шрифтом свои позывные, заодно промацивая соседа «на вшивость».
Дело в том, что далеко не каждый обитатель тюрьмы знал этот шрифт. Но если даже и знал, это еще ровным счетом ничего не гарантировало. Сосед мог оказаться совсем не тем человеком, за кого он себя выдавал. Исходя из этих опасений в затейливой азбуке и были предусмотрены такие хитрости, которые могли знать только настоящие колымчане или, в крайнем случае, те каторжане, которые долгое время с ними общались. Если арестант чалился в Магаданской области (по ней протекала река Колыма, отсюда и «колымчане»), это, конечно, еще не доказывало его принадлежность к элите преступного мира, но и риск того, что он окажется иудой, был намного меньше.
Суровая школа Севера сильным личностям шла лишь на пользу, закаляя их характер и волю, тогда как слабые люди не выдерживали и кололись. Слабаков обычно легко было отличить по характерным признакам. Но так, к сожалению, происходило не всегда. Если падаль оттаяла от северных кошмаров и уже успела вкусить тюремных благ, которые с таким уважением предоставляло им молодое поколение арестантов, то ухватить такую скользкую устрицу было весьма проблематично.
И вот, сам не знаю почему, я стал отбивать именно этим, исконно колымским шрифтом, не помня даже, когда в последний раз пользовался им. Будто наперед знал, что мой сосед – старый колымчанин.
На всякий случай объясню самую его суть читателю, – мало ли, что может случиться в жизни. От тюрьмы и от сумы, как говорится, зарекаться не следует, поэтому запоминайте. Итак, берёте тридцать букв русского алфавита, без мягкого и твердого знаков и буквы «ё». Помещаете их по вертикали в «клетку» – пять клеточек в высоту, шесть в ширину. Буквы в этой клетке нумеруются так: от 1 к 5 вниз и от 1 к 6 вправо. В этой азбуке буква «а» будет передаваться так: один удар – пауза – один удар; «к» – два удара – пауза – пять ударов и так далее.
И опять, к моему немалому удивлению, я получил ответ. Правда, чувствовалось, что человек, посылающий мне его, давненько уже не пользовался этой азбукой, но то, что он знал её на пятерку, было очевидно.
Почти до самого обеда мы проговорили с Мишаней, таким именем назвался мой сосед. Наконец, мусора принесли мне оставленные в боксике пожитки. Сосед мой тоже пребывал в своей камере в одиночестве, и это обстоятельство наводило меня на некоторые размышления. Но делать из этого какие-либо выводы я был совершенно не вправе.
Что я в принципе знал об обитателях этого корпуса? В одной из его камер, если не изменяет память, сидел жулик по имени Гуча Тбилисский. Сам я его никогда не видел, но «подход» к нему был при мне, в 1997 году, здесь же, в Бутырке. Он был одним из подельников Дато Какулии – знаменитого уркагана тех лет. Со стороны двери, ведущей в коридор, я без труда мог «подкричать» ему в любой момент, но был уверен, что менты только этого и дожидались. Поэтому, передохнув немного после разговора с соседом, я стал тусоваться по хате и думать о сложившейся обстановке.
5
Даже для человека привычного – тюрьма всегда остается местом особенным. Это абсолютно другой, постоянно волнующий и лихорадящий воображение мир, где, в отличие от воли, почти нет места лжи и насилию, зависти и несправедливости, алчности и мелочной суете. Но кто поддерживает весь этот порядок? Кто контролирует всё и не дает в стенах каземата разрастись нравственным метастазам, которые давно поразили общество на свободе, как организм человека поражает раковая опухоль? Ну, конечно же, воры в законе, как принято сейчас называть урок, и те, кто постоянно находятся с ними рядом. В тогдашней Бутырке это ощущалось сильнее, чем в каком бы то ни было другом российском централе. Здесь, как нигде больше, арестант ощущал себя именно в тюрьме, а не в следственном изоляторе. Порядочному человеку, простому бедолаге или истинному босяку, что в принципе одно и то же, жилось за её сырыми стенами куда спокойнее, нежели некоторым крученым коммерсантам и жирным бобрам в роскошных хоромах на свободе, и дышалось в прокуренных камерах намного легче, чем в шикарных офисах и кабинетах с кондиционерами.
У кого власть, у того и деньги, ну а кто платит, тот и заказывает музыку. С незапамятных времён эта аксиома, более близкая политикам, нежели ворам была взята урками на вооружение, и, стоит заметить, произошло это не вчера и не десять лет назад. Так, что в Бутырском централе, почти все мусора, от простого дубака до офицеров, с большими звездами на погонах, помимо своей зарплаты ели ещё и из воровской кормушки.
Некоторым вещам, происходившим порой в его стенах, мог бы удивиться кто угодно. Ну, посудите сами: днём тебя истязают и морят, как врага народа, а ночью те же лица предоставляют тебе все запрещенное режимом содержания, что только может пожелать узник в тюрьме: наркотики, спиртное и даже женщин. Но не все арестанты, будь они даже сродни десяти Крезам, могли пользоваться этими благами, равно как и не все менты предоставляли их им. Этот, в какой-то степени, подарок судьбы был исключительной прерогативой избранных, то есть тех, у кого не просто водились деньги, а кому менты могли безоговорочно доверить свою карьеру и дальнейшее благополучие.
И за своё почти двухгодичное пребывание в Бутырке я не помню, чтобы кто-нибудь из мусоров пострадал из-за того, что его предал бродяга. По своей глупости, жадности или неосторожности некоторые из них палились, такое бывало, но случалось это не по вине босоты.
Так что в тот день я зря переживал и волновался за маляву. За ней пришли или, вернее, пришли за нами обоими.
Уже минуло больше двух часов с тех пор, как закончилась вечерняя проверка, близилась полночь. Я всё ещё бил пролетку по хате, когда услышал вдруг противный, тихий писк и скрежет ржавого замка. Я даже улыбнулся, моментально сообразив, что дверь отпирают через марочку, но движения не прекращал, продолжая тусоваться взад-вперед и делая вид, будто ничего не происходит. «Надо же, – пронеслось в голове, – легавые решили провести меня на этой мякине! Умом они тронулись, что ли?» Им ведь было прекрасно известно, что я старый тюремный волк, в свое время битый ими же не раз и не два.
Пока я думал и прикидывал, что к чему, дверь открылась, как и должна была открыться по сценарию мусоров – тихо и внезапно. На пороге появился знакомый мне офицер, дежуривший обычно на малом спецу (в том корпусе дежурили одни только офицеры, потому что там сидели урки), корпусной моего корпуса и попкарь-старшина. Я внезапно остановился посреди камеры, будто меня оглушили обухом по голове и, продолжая делать вид, что визит этой делегации застал меня врасплох, открыл рот и по-идиотски заморгал глазами.
Сцена явно удалась. Все трое молча стояли в проёме двери, как восковые изваяния в музее мадам Тюссо и, ухмыляясь до ушей, глядели на меня так, как будто они были великими изобретателями.
Пауза длилась не больше минуты. Первым, как и полагается, щекотнулся офицер. «Зугумов, на выход!» – почти выкрикнул он, пряча улыбку и хмуря тонкие, почти женские брови. «Давай, давай, пошевеливайся, выпуливайся быстрее!» – тут же начали вторить ему оба попкаря, также пытаясь изобразить на своих физиономиях что-то серьезное и умное.
Я уже давно понял, в чём дело, но на всякий случай всё ещё продолжал играть роль придурка и недотёпы. Мало ли что будет дальше? Молча накинув на плечи куртку – единственную мануфту, имевшуюся в моём скромном гардеробе, которая валялась на нарах, и оглядевшись по сторонам, мол, не оставил ли чего, я вышел из хаты на продол и остановился, в мгновение ока, успев окинуть взглядом оба конца коридора.
Кругом стояла обычная и такая знакомая мне ночная тишина Бутырки, что я поневоле улыбнулся. Ещё через несколько минут я был уже в одной из воровских камер малого спеца, где, переведя дух, раскурковался, «ужалился» и, удобно устроившись на нарах, рассказывал ворам новости, которые поведала мне на свидании юная посетительница.
Перед утренней проверкой тот же офицер проводил меня до входа на малый спец, где нас встретил уже новый попкарь, который и повёл меня в камеру. Когда мы завернули в коридор того корпуса, откуда меня вывели в полночь, дубак спросил, из какой я хаты. Я вдруг решил разыграть один дешёвый трюк, а вдруг пролезет? «Вот из этой», – показал я на стенной проём между камерой, где вчера сидел я, и той, где находился мой сосед. Мент молча открыл соседнюю хату, запустил меня в неё и тут же закрыв за мной дверь, ушёл. Говоря откровенно, я не ожидал от мусора такого ротозейства.
Оглядев камеру пристальным взглядом, я ещё раз убедился в том, что она точная копия моей, с той лишь разницей, что в этой туалет был расположен слева от двери. В глаза сразу бросились идеальный порядок и уют, который порой из ничего может создать себе истинный арестант. Пообвыкнув через минуту, я понял, что и свет здесь чуть мене яркий.
Слева от входа на дальних верхних нарах лежал арестант. Я мог дать голову на отсечение, что он не только не спит, но и пристально пасёт за мной из-под бушлата. Ну что ж, я его понимал, сам, наверное, поступил бы точно так же, поэтому и давал понять всем своим видом, что я не какой-то там заблудший фраер, а КОТ – коренной обитатель тюрьмы.
6
Прошло какое-то время, прежде чем я увидел заспанное лицо незнакомого мне каторжанина. Поздоровавшись так, как это принято у завсегдатаев централов, Мишаня не спеша слез с нар, немного посуетился возле тумбочки с розеткой и стал варить чифирь. В хате по соседству у меня не было ни чая, ни кружки, чтобы его сварить, да мне в тот момент было и не до чифиря. Я был «в хороших тягах», но виду, конечно же, не подавал, да и сосед мой, судя по его поведению, об этом даже не догадывался. Я отстучал ему накануне, что у меня в хате – полный голяк, поэтому он и спешил, как гостеприимный хозяин, справиться с этим делом до проверки, уверенный в том, что после неё меня обязательно переведут назад, да ещё, возможно, и дадут оторваться: отмолотят за обман.
Присев на нижние нары, и подложив бушлат, я прислонился к стене, поджал под себя ноги и, находясь почти в тени, мог спокойно тащиться, не рискуя быть замеченным, и одновременно наблюдать за размеренными и спокойными движениями Мишани. Во всём его облике, так же как и в манере держать себя, чувствовалась абсолютная уверенность в себе, властность босяка и в то же время мудрость обитателя острогов. Да, безусловно, в этом человеке было нечто особенное, то, что отличает, как правило, личность от серой посредственности, но что именно это было, мне еще предстояло понять. Если бы я не знал в тот момент воровской расклад Бутырки, то запросто мог бы ошибиться, приняв его за уркагана. Но и сукой, вроде Чёрного и ему подобных, здесь не пахло. У меня на эту падаль был особый нюх.
На вид ему можно было дать чуть больше пятидесяти, но на самом деле его возраст давно перевалил за шестой десяток. Это был мужчина высокого роста, с гордой осанкой и лицом, внушающим доверие. Мы почти не разговаривали. Я кайфовал, а мой теперь уже сокамерник, видно, по природе своей, был молчуном, по крайне мере, в первые часы у меня сложилось именно такое впечатление о нём. Закурив, мы, молча, наслаждались приятной пахучей жидкостью.
Корпусной, заступивший на дежурство, во время проверки нисколько не удивился моему появлению в этой хате. Его интересовало лишь одно: где мой матрац и прочие казённые принадлежности. Приказав дубаку немедленно их принести, он отметил что-то на своей дощечке, молча покачал головой и ушел, сильно хлопнув за собой дверью. После проверки я так и заснул «в тягах» на том же месте, где, удобно примостившись до этого, наблюдал за сокамерником, и проспал до самого вечера, так и не услышав, как принесли мой матрац и личные вещи.
Проснувшись, я увидел на нижнем шконаре свои гнидники, а у дверей – четыре сумки арестантского добра. Сокамерники загрузили меня по полной программе, очевидно полагая, что меня надолго закрыли в одиночке. Чуть позже я по достоинству оценил их заботу, а пока потянулся, слез с нар, умылся и начал распаковываться. Что говорить, килешовка для меня была делом привычным. Сегодня – здесь, завтра – там. Всё равно дальше тюрьмы не переведут, рассуждал я в таких случаях.
Мишаня лежал на верхних нарах точно так же, как и в тот момент, когда я вошёл в хату, с той лишь разницей, что бушлат, отданный мне на время, ему заменило толстое стеганое ватное одеяло. «Гарная мануфта, ничего не скажешь», – мелькнуло у меня в голове. Казалось, ему ни до чего нет дела. Какая-то отрешенность просматривалась в его взгляде, устремленном куда-то в потолок. Я заметил это сразу, но спрашивать ни о чём не стал. «Мало ли что? Если сочтёт нужным, сам скажет, – рассуждал я. – Зачем в душу лезть к человеку?»
Почти целый час я молча наводил порядок в своем гардеробе, и за это время мы с Мишаней не обмолвились ни единым словом. Но, когда я закончил, заварил жиганского чифирку и приготовил к нему кое-какие «марцифали», сам Бог велел прервать молчание.
– Спускайся Мишаня, блатная каша готова, – с улыбкой позвал я сокамерника.
Сосед молча слез с нар, так же молча присел к столу и так пронзительно заглянул мне в глаза, будто взглядом решил проникнуть прямо в душу.
Такие воровские приемы были для меня не в диковинку, правда, мне давненько не приходилось их испытывать на себе. «Ну что, увидел, чего хотел?» – спросил я его, продолжая улыбаться и протягивая трехсотграммовую эмалированную кружку с пахучим каторжанским напитком. Молча взяв кружку из моих рук, Мишаня опустил глаза, как бы изучая содержимое, отхлебнул со смаком пару «напасов», передал её мне и, глубоко вздохнув, закурил.
Чувствуя какую-то неприятную напряжёнку, воцарившуюся в камере, я решил немного разрядить обстановку. В нескольких словах я объяснил ему, кто я и как попал к нему в хату, минуя ненужные подробности. Я не сводил с него глаз и мог бы дать голову на отсечение, что его абсолютно не интересовал мой рассказ. По всему было видно, что свои выводы он уже успел сделать.
– Слышь, Мишаня, – спросил я его после короткой паузы, – может, у тебя какие проблемы? Так ты говори, не стесняйся. Если ты прав, чем смогу, помогу без базара. Мне многое в этой тюрьме подвластно.
Повисла тягучая пауза, которая, так или иначе, вынуждала соседа хоть к какому-то ответу.
– Да нет, спасибо, браток, за заботу, – услышал я, наконец, спокойный голос сокамерника. – Тюремных проблем у меня, слава Богу, нет.
– Тогда в чём же дело? – не отставал я, почему-то решив допытаться до истины. Уж больно интересным показался мне этот человек, какая-то загадка была запечатлена на его мудром лице. В какой-то момент приятная и добрая улыбка покрыла глубокими морщинами лицо старого колымчанина.
– В чём дело, спрашиваешь? – вдруг проговорил он, глядя почти отрешённым взглядом куда-то в сторону, как будто в камере кроме нас находился еще кто-то. – Дело в самой жизни, Заур, а точнее, в её превратностях…
Устроившись поудобней на нарах и, не торопясь, закуривая одну сигарету за другой, Муссолини – а именно таким было когда-то погоняло Мишани в преступном мире, – поведал мне историю своей жизни, будто он говорил не с собратом по несчастью, а со священником на исповеди. В тот момент я был не просто польщён и тронут его откровенностью, но и немало удивлен ею, даже не подозревая о том, что жить моему сокамернику оставалось ровно неделю. Уж кто-кто, а он хорошо знал, что мир – гостиная, из которой надо уметь вовремя уйти, учтиво и прилично, раскланявшись со всеми и заплатив свои карточные долги. На следующий день после моего перевода в свою, ставшую уже родной, 164-ю камеру на аппендиксе, Мишаня вздернулся… Впоследствии я часто вспоминал этого необыкновенного человека и удивительную историю его жизни, рассказанную мне в минуты откровенности, и дал себе слово, что когда-нибудь обязательно напишу о ней. Теперь у меня появились все основания полагать, что этот момент настал.
7
Человек, испытавший потрясающие события и умолчавший о них, похож на скупого, который завернув плащом драгоценности, закапывает их в пустынном месте, когда холодная рука смерти уже касается головы его. Когда-то, в том далеком и безвозвратно ушедшем прошлом, Мишаня был простым деревенским пацанёнком, жил вместе со своими родителями и двумя младшими сестрёнками-близняшками под Гомелем, в Белоруссии, даже и не ведая о том, какая удивительная судьба уготована ему Всевышним. Шёл первый год войны точнее, первые её месяцы. Кругом стояла голь да разруха. Люди стали уже понемногу привыкать к постоянным артобстрелам и бомбежкам. От запаха гари и пороха, витавшего в воздухе, постоянно першило в горле и было трудно дышать. Даже земля на огромном колхозном поле была вывернута снарядами наизнанку так, будто вспахана тракторами.
Во время очередной бомбёжки один из снарядов и угодил прямо в хату, где жила семья Мишани. Погибли все, кроме него самого, собиравшего в это время картошку, оставшуюся после уборки в поле, и отца, воевавшего на фронте, но впоследствии тоже не вернувшегося с войны. В один миг стал Мишаня круглым сиротой. Люди нашли его, раненного осколком в лицо и контуженного, в развалинах сельской конюшни, куда он непонятно как дополз, повинуясь инстинкту самосохранения. Они и отправили его в госпиталь. Через несколько месяцев медики поставили ребёнка на ноги, но, к сожалению, к этому времени в деревне, где он родился, уже вовсю хозяйничали немцы, а сам госпиталь находился далеко в эвакуации, где-то в Узбекистане.
Кроме постоянно кровоточащей сердечной раны, последствия той бомбежки оставили у Мишани не менее глубокий и заметный след на лице и в манере поведения. Ещё не совсем заживший красный рубец пересекал правую щеку от самого виска до подбородка, а результатом контузии стало заикание, но и это было еще не всё. Временами голова его резко дергалась вправо, так, как это бывало у итальянского приспешника Гитлера – Бенито Муссолини. Из-за этих кровавых превратностей судьбы, уже позже, в лагере на Колыме, Мишаня и получил своё погоняло – Муссолини, но чаще братва звала его Дуче. Так было короче. У зэков не принято давать длинные прозвища.
После выздоровления Мишаню перевели из госпиталя в детский дом, который находился в Ташкенте, где он пробыл около месяца – натура не позволяла долго тормозиться на одном месте. Но не это было главной причиной его побега из приюта. Несмышлёныш рвался на фронт к единственному родному человеку, кто у него оставался в живых – отцу, чтобы вместе с ним мстить фашистам за убийство матери и маленьких сестренок.
Жизнь наша напоминает реку; самая мутная река начинается чистым потоком. Десятилетним пацанёнком с небольшим узелком за плечами, который ему с отеческой заботой собрали раненые бойцы ещё в госпитале, он оказался на прифронтовых дорогах, где судьба его свела с такими же, как и он сам, сиротами и беспризорниками. Вот так и началась бродяжья жизнь Мишани-Муссолини, о чём он сам, конечно же, ещё и не догадывался. В каких только уголках «нашей необъятной» за время войны не побывал маленький бродяга! На каких только паровозах и вагонах не поездил, прячась от холодного ветра, станционных смотрителей и милиции, но до «столыпина» было еще далеко.
В дороге Мишаня познакомился и сдружился с двумя пацанами: не по возрасту высоким, крепким и светловолосым ленинградцем Никитой и чернявым татарином Юсупом – худым и жилистым сиротой из Сталинграда. Оба новых кореша были старше его, но вели себя с ним как с равным, уважая его горе и шрамы на лице, и дерзость, с которой он кидался на каждого, кто хоть в чём-то пытался ущемить маленького скитальца.
Не желая отсиживаться в тылу, в детских домах и приютах, каждый из них уже давно избрал свою дорогу и шёл по ней не по-детски последовательно, не оглядываясь назад, молча перенося лишения и невзгоды, не скуля и не ноя. Они как будто были уверены, что конечная цель их пути будет усыпана розами без шипов.
Они научили Мишаню тому немногому, что уже успели познать сами, тому, что необходимо было знать и уметь в их бродяжьей жизни, но главное, они поднатаскали его воровать. Первое, что он украл в своей жизни, был небольшой кусок чёрного хлеба, который он стащил в каком-то станционном буфете.
Блеклый, болезненный свет, временами мигая, как обычно бывает здесь ночью, пробивался сквозь закопченное стекло лампочки, висевшей высоко над дверью. Он был не в силах рассеять тюремный полумрак маленькой камеры Бутырского централа, давно уже ставший родным и близким истинным каторжанам.
Я сидел в задумчивости, облокотившись на поперечный брус нары, глядел, не отрываясь, на давно остывший кругаль с чифирём. Одну за другой курил сигареты и внимательно слушал рассказ старого бродяги, невольно вспоминая своё детство – свои дворовые и уличные университеты, ту первую краюху хлеба, которую сам когда-то утащил с голодухи и поделился ею с корешами из интерната. Мне показалось в тот момент, что предо мной не сокамерник, с которым я познакомился всего лишь несколько часов тому назад, а невесть откуда взявшийся родной брат. Вообще-то, я был недалек от истины…
Война уже шла на территории Германии, а прорваться на фронт пацанам всё никак не удавалось. То они попадали где-нибудь на полустанке под облаву и приходилось отсиживаться в приютах и детских приемниках по нескольку месяцев, пока не появлялась возможность вновь сделать ноги, то их ловили «на факте» со всякой мелочью, необходимой в дороге, то спящих и измождённых стаскивали с третьих полок теплушек. Всякое случалось за эти долгие четыре года скитаний, но, однажды поклявшись в верности, пацаны уже никогда не оставляли друг друга в беде.
День Победы застал молодых босяков в детском приёмнике Ашхабада, столицы Турменской ССР, откуда они вот уже несколько месяцев никак не могли дать дёру, но ближе к ноябрьским праздникам им все же удалось обмануть внимание бдительных стражей и исчезнуть незамеченными. К этому времени двое друзей Мишани уже возмужали и превратились в рослых подростков, а ему самому хоть и шёл пятнадцатый год, ростом он все же по-прежнему был невелик.
Добраться до Красноводска на товарняке для пацанов было делом несложным, ведь это была их стихия, а вот дальше с транспортом стало намного тяжелей. Целую неделю юным беглецам пришлось пролежать под грязным и провонявшим нечистотами причалом красноводского порта, почти голодая и не вылезая наружу. Они ждали, пока придёт очередной паром из Баку. На первые два им не удалось попасть незамеченными. Хорошо ещё, что успели вовремя унести ноги. Спали по очереди, чтобы не спалиться. Мишаня хорошо запомнил, как он лежал на стреме на сырых и промёрзших, скользких от нефти, брёвнах. Рядом с ним бил прибой холодного Каспия, а он, не обращая внимания на неудобства, смотрел на солдат, возвращавшихся с войны. У кого-то была перебинтована голова, кто-то держал руку на перевязи, кто-то шел, опираясь на костыли, но у них был счастливый вид победителей. Он поневоле вспомнил своего отца и детское сердце защемило в груди с такой силой, будто давало знать Мишане, чтобы тот готовился к самому худшему. Но разве мог он тогда понять эти позывные?
Один Бог знает, как им удалось забраться ночью на пропахшую рыбой палубу прибывшего ночью парома «Советский Азербайджан» и, спрятавшись в какой-то дыре, все-таки добраться до Баку. Там их обнаружили и на руках перетащили в сухой и тёплый склад портовые докеры.
Голодные, успевшие завшиветь и серьезно простудиться, парни еле держались на ногах и даже не помнили, как очутились на больничных койках маленькой палаты бакинского приюта для детей. Через неделю Никита с Мишаней были уже на ногах, а вот Юсупу повезло меньше. С двухсторонним воспалением легких его перевели в городскую больницу, и друзья, впервые с момента их знакомства, расстались, но ненадолго.
8
В который уже раз, перемахнув через забор старенького здания детского дома, кореша вновь очутились в коварных и беспощадных лапах улиц и подворотен. После того как «скорая помощь» увезла их друга, они задержались в приюте ровно настолько, чтобы узнать название больницы и ее приблизительное местонахождение. Они ведь уже имели некоторое представление о том, в каком огромном городе находятся. Почти неделю парни марьяжили молоденькую воспитательницу, пока не выведали у неё все необходимые сведения, и уже на следующий день были таковы…
Баку, к удивлению пацанов, встретил их по-отечески тепло и дружелюбно. Южный портовый город, к счастью избежавший боёв и оккупации, мог позволить себе принимать жертв войны гостеприимно, с сочувствием и пониманием. Жители делились с эвакуированными последним, что у них было и пускали их жить к себе в дома безо всяких принуждений со стороны властей, с охотой и состраданием.
Больницу они нашли без особого труда. Южане – народ добрый и отзывчивый, так что их даже довезли до неё на полуторке, узнав, куда и к кому направляются огольцы. Целыми днями напролёт Мишаня с Никитой шныряли по базарам и лабазам, недалеко от Девичьей башни – района, в котором находилась больница, где лежал Юсуп. Вечерами они залезали в палату через окно, чтобы подогреть кореша, чем Бог послал, ну а ночь маленькие крадуны коротали на чердаке всё той же больницы.
Через месяц Юсуп полностью пришел в себя и даже заметно поправился. Теперь юнцам ничто не мешало продолжить свой путь, так что Новый 1946 год они встретили в дороге, примостившись кое-как на третьей полке вагона-теплушки. Состав тот был формирован в Баку и следовал куда-то вглубь страны.
Посовещавшись перед дальней дорогой и прикинув свои финансовые возможности, друзья решили ехать в Гомель, на родину Мишани, через Ленинград, побывав сначала в гостях у Никиты. В городе на Неве у него оставалась старенькая бабушка и тетя, старшая сестра покойной матери. Отец с дядей были на фронте. Что касалось Юсупа, то ему было абсолютно всё равно, в каком направлении держать путь, ведь он был круглым сиротой, выросшим в интернате, и был, как говорится, гол как сокол.
Трудно перечесть все трудности и опасности, с которыми им пришлось столкнуться на своем пути, какие неудобства и мытарства довелось испытать в дороге. Порой по нескольку дней, а то и по целой неделе пассажирские поезда простаивали на запасных путях, пропуская вперед товарные составы с нефтью, лесом и зерном. Случалось, наших путешественников высаживали на голых безымянных полустанках, и им приходилось по нескольку десятков километров в снег и в стужу, в дождь и в слякоть добираться пешком до ближайшей станции или населённого пункта. Несколько раз вокзальная милиция ловила Мишаню – он был слабее остальных, да и ростом еще не вышел, так что корешам приходилось его выручать из беды, прежде чем продолжить свой нелегкий путь.
Треть всего маршрута до Питера пацаны провели лёжа под вагоном. Человеку неискушенному трудно даже представить себе это: малейшая неосторожность, и ты, падая на рельсы, попадаешь в жернова. Здесь нет ни одного шанса выжить, смерть неизбежна. Но как бы то ни было, а к лету они все же добрались до родины Никиты – Ленинграда. Город-страдалец встретил их проливным дождём и густым туманом, стелившимся над Невой, но это не помешало друзьям сразу же начать поиски родственников своего кореша.
Тот момент, когда Никита нажал на кнопку звонка в своей квартире, Мишаня запомнил на всю жизнь. Палец словно прилип к маленькой чёрной коробочке, а звон, слышавшийся из-за двери, мог разбудить даже мёртвого, но дверь всё не открывалась. Тогда в отчаянии он стал колотить по ней руками и ногами, предчувствуя беду. Друзья остановили его и постарались успокоить, но где уж там… И только еле передвигавшая ноги, тяжело поднимавшаяся по лестнице незнакомая Никите старушка, сказала им, что в квартире давно никого нет.
Через несколько минут дворник, что жил в соседнем подъезде, лишил пацанов последней надежды, поведав им в двух словах трагедию, которая коснулась почти каждой ленинградской семьи. Бабушка и тетя Никиты умерли от голода в блокадную зиму 1942 года, где-то под Киевом погиб дядя, а отец, вернувшийся с фронта на костылях, лежал в каком-то городском госпитале. В боях под Берлином он потерял ногу и кисть левой руки. Дворник видел его собственными глазами, даже разговаривал с ним несколько раз, но вот адреса больницы, куда его увезли из-за застрявшего в голове осколка, не знал.
Несколько дней поисков отца Никиты привели друзей в военный госпиталь на Васильевском острове. Надо было видеть встречу отца с сыном! В сложившейся ситуации о том, чтобы продолжать путь втроём, безусловно, не могло быть и речи. Впервые за долгие годы скитаний и мытарств по дорогам нашей необъятной родины друзья прощались со слезами на глазах, ибо никто не знал, когда они встретятся вновь, да и будет ли она вообще, эта встреча…
9
В глухую белорусскую деревню, где жил когда-то Мишаня, они с Юсупом прибыли лишь в конце 1946 года, но лучше бы они туда вообще не приезжали. Почти всех жителей деревни гитлеровцы уничтожили. В живых остались лишь две старушки под сто лет и пятеро слепых мужиков, которым фашисты выкололи глаза и вырвали носы за связь с партизанами. Теперь деревню восстанавливали родственники погибших и прибывшие из области «терпигорцы», у которых не осталось ни кола ни двора.
От своих земляков Мишаня и узнал, что его отец погиб ещё раньше, чем мать и две сестры, – в самом начале войны, где-то на границе, под Брестом. Надвигавшуюся зиму пацаны решили было пережить в частично разрушенной снарядом, но всё же сохранившейся родительской избе. Здесь, в деревне, и с харчами было терпимо, да и от холода бы не померли. Но потом всё же передумали и вновь пустились в путь, решив, что лучше уж голодать и мёрзнуть в дороге, чем жить в тепле с постоянно ноющей раной в сердце.
И вновь дальняя дорога в глубь страны, поближе к златоглавой, снова поезда и вокзалы, полустанки и тупики, буфеты и магазинчики, мусора и станционные смотрители. Чтобы прокормиться хоть как-нибудь в ту голодную и холодную зиму 1946 года, им приходилось воровать с утра и чуть ли не до самой ночи, общаться с такими же, как и они сами, сиротами и беспризорниками и жить по законам улицы. А эти законы, смею заверить, были чисто воровскими.
Однажды, а случилось это в канун 1947 года, Мишаня с Юсупом и ещё с несколькими новыми друзьями выследили у железнодорожной кассы одного жирного бобра, одетого в шикарное коверкотовое пальто с меховым воротником. Лисья шапка-ушанка и начищенные до блеска хромовые прохоря со скрипом дополняли картину. В бумажнике, который он вытащил из правого косяка шкар, чтобы расплатиться за билеты, босота в доли секунды рассмотрела кучу денег, а на мизинце правой цапки посверкивал крупный бриллиант. На содержимое этого его лопатника все беспризорники, которые паслись вместе с Мишаней и Юсупом на Белорусском вокзале, могли прожить минимум месяц. Что же касается брюлика, то о нём и говорить нечего – он стоил целое состояние.
Ну, разве можно было упустить такой куш? Да нет, конечно. Поэтому босяки тут же обступили этого дятла, пытаясь незаметно приподнять полу его тяжёлого пальто. Хоть и с большим трудом, но им это удалось. Улучшив благоприятный момент, Юсуп ужом юркнул под руку фраера и выудил-таки заветный гомонец. Он успел передать добычу друзьям, но лох в последний момент щекотнулся. Вцепившись в загривок молодого кошелёчника мертвой хваткой, он так ударил его по лицу, что у Юсупа тут же брызнула из носа кровь.
Вся пацанва, участвовавшая в этой операции, тут же разбежалась, кто куда, один Мишаня остался стоять как вкопанный. Увидев истекающего кровью друга, который почти висел на руке фраера, он нисколько не растерялся, а, скорее, наоборот, озверел. Они столько лет провели вместе, мёрзли и голодали, попадали в разные передряги, но никогда, ни при каких обстоятельствах Юсуп не дал усомниться другу в своей братской солидарности. Так разве он мог теперь бросить его в беде?
Мишаня вытащил из-за пояса остро заточенный с обеих сторон кусок железного обода от деревянной бочки и, не задумываясь, с такой силой вонзил его в жирное брюхо фраера, что тот тут же отпустил оглушенного Юсупа.
С диким криком: «Убили, убили!» – шатаясь, как пьяный, он прошёл немного вперёд и рухнул без сознания на пол прямо возле урны в зале Белорусского вокзала, а недалеко от него, возле кассы дальнего следования, лежал, все ещё не пришедший в себя, Юсуп.
10
Легавые «сплели ему лапти» тут же, не отходя от кассы, как говорят в народе, в тот момент, когда он старался привести в чувство друга, лежащего на полу без сознания. Подобрали они и валявшийся рядом нож, которым Мишаня саданул фраера, но в растерянности выпустил из рук.
Вёл он себя спокойно, без ненужного кипеша. Ему было не привыкать к мусорскому вязалову. Где и за что только они не ловили его, в какие только камеры не водворяли, но, как правило, всё оканчивалось либо детским домом, либо детприёмником. Но этот случай был особым. Во-первых, ему уже исполнилось четырнадцать лет и теперь его могли предать суду за совершенное им преступление, а во-вторых, фортель, который он выкинул, правоохранительными органами не прощался никогда и никому, даже малолеткам.
Он прекрасно понимал создавшуюся ситуацию и не обольщался на этот счет. Возле выхода из здания вокзала Мишаню и двух сопровождавших его милиционеров обогнали санитары с носилками. Согнувшись в три погибели, они тащили к машине «скорой помощи» тушу подрезанного им бобра, а чуть поодаль двое других перекладывали с пола на носилки окровавленное тело Юсупа, так и не пришедшего в себя после удара.
На первом же допросе Мишаня тут же «загрузился» по полной программе. «Хотел есть, полез в карман, спалился, ударил ножом…» – больше он своих показаний не менял ни разу. Юсупа он не знает и откуда тот взялся, тоже никак не поймёт. Удар, предназначенный ему, в тот момент, когда он инстинктивно нагнулся, избегая оплеухи, случайно принял на себя этот паренёк.
Конечно, менты прекрасно понимали, что он выгораживает друга, и знали, как всё произошло на самом деле, но не настаивали на изменении показаний. Всем легавым в отделе пришёлся по душе этот не по возрасту шустрый оголец, да и у подельничка его нос оказался переломанным в нескольких местах. Начни легавые докапываться до истины, и эта делюга затянулась бы на месяцы. А время было не то, чтобы «пинкертонить». Преступление раскрыто, ну и ладно.
Новый 1947 год Мишаня встретил на Петровке. Ему тогда больше чем повезло. Судьба распорядилась так, что в хате, куда его водворили, сидел всего один человек, но какой… Это был хорошо известный в воровских кругах страны старый медвежатник, питерский вор в законе – Огонёк. Чуть позже, в начале пятидесятых, его роль сыграет актёр Плотников в фильме о начальнике ленинградской милиции, но Огонька к тому времени уже не будет в живых.
Распознав в пареньке будущего уркагана, он поднатаскал его как мог за четверо проведенных вместе суток. Огонёк отписал маляву в тюрьму босоте, показал и научил, куда и как её спрятать, и, достав буханку хлеба с «начинкой», протянул ему её в дорогу.
– А это еще зачем? – возмущенно и с явной обидой спросил жигана Мишаня. – Я к голоду привык, не впервой мне.
Огонёк хитро улыбнулся пацану, молча взял хлеб в руки и, аккуратно, как хирург, сняв сбоку горбушку которая держалась на четырех воткнутых внутрь спичках, вытащил из мякоти хорошо заточенный с обеих сторон стилет.
– Это на всякий случай, Мишаня. Но запомни, применять его нужно только при самой крайней необходимости, иначе ты будешь не вором, а бандитом.
– А как узнать, когда именно наступит эта самая крайняя необходимость?
– Не беспокойся, сердце твоё воровское тебе это само подскажет, – ответил старый жулик, серьезно и внимательно взглянув на юного босячка. Затем так же аккуратно, как и снял, он пристроил горбушку на место и положил буханку на стол. На следующий день, после обеда, он проводил Мишаню в Бутырский централ, пожелав ему в дорогу воровского фарта. Больше они не встречались уже никогда.
Теперь мне придется немного отвлечься от основного сюжета повествования, чтобы объяснить, читателю некоторые особенности воровской среды и исправительной системы того времени. До августа 1961 года, пока не вышел новый уголовный кодекс, в советских тюрьмах и лагерях различий по режимам не было. Все, будь то впервые споткнувшийся на краже продуктов малолетка или старый рецидивист, отбывали срок наказания вместе, в одной камере. Даже женские лагеря находились рядом с мужскими. Высшей меры наказания, то есть расстрела, в те годы тоже не было. Впрочем, при Сталине смертная казнь была, но потом её отменили. Суд приговаривал к двадцати пяти годам заключения, этот срок и был потолком для арестантов страны.
Что касается воровского братства, то здесь также было всё по-иному, нежели сейчас, и главным отличием было отсутствие «подхода». После указа 1961 года для того, чтобы бродяга был принят в воровскую семью, стало нужно собирать воров на сходняк. Прежде чем стать вором в законе, кандидат на это высокое в преступном мире звание ставит близких ему воров, которые знают его лучше других, в известность о своём намерении, а те в свою очередь созывают воров на сходняк, чтобы протежировать своему корешу. До реформы все эти приготовления были абсолютно ни к чему. Когда молодой босячок впервые появлялся в камере, его обязательно спрашивали, кто он по жизни. Если он отвечал: «Вор», – то никому из сокамерников и в голову не приходило обвинить его в самозванстве. Конечно же, его пробивали и «на вшивость» и «на фраерский расклад», но основой его дальнейшей жизни вором в законе была сама воровская жизнь. То есть если он шёл по жизни правильно, соблюдая все законы воровского братства, не допуская компромиссов с совестью и не вступая ни в какие подозрительные связи, то такой человек был всегда примером для арестантов. Таким вором был Огонек, таких воров чуть позже, как и в наше время, стали называть ворами старой формации или «нэпманскими ворами».
11
Бутырский централ! Как много написано о нём, И сколько ещё будет рассказано писателями, публицистами и историками. Бутырка тех лет в принципе ничем не отличалась от тюрьмы нынешней. Разве что тогда не было шестого коридора смертников. Что же касается правил приёма арестантов, то за эти полвека они не претерпели особых изменений.
По прибытии Мишаню вместе с остальными этапированными водворили в камеру-сборку своего рода привратку, чистилище, «приемный покой». С неё обычно и начинаются первые мытарства первоходов. Через сборку проходят все заключённые – и прибывшие сюда из других тюрем, и из камер предварительного заключения, и те, кого, скажем, отправляют в суд или на этап.
На каждого вновь прибывшего заводится тюремное дело, куда записывают все имеющиеся при арестанте вещи, его особые приметы (наколки шрамы, выбитые и вставленные зубы, родимые пятна), снимают отпечатки пальцев («игра на рояле»), проводят первичный медосмотр и отправляют в тюремную баню, а его пожитки – в прожарку.
Пока этапники проходят эти процедуры, их держат в небольших клетушках-боксиках для временного содержания арестантов при этапировании, переводе из камеры в камеру, вызове к следователю и тому подобных нуждах. В каждый из боксов площадью от одного до трех квадратных метров могут набить человек до шести. Так по очереди и дергают то туда, то сюда.
Каждого шмонают по отдельности. Шмон в Бутырке был и остается ответственнейшей процедурой, и он здесь очень тщательный. У арестанта прощупывают каждый шовчик на одежде, из подметок с корнем выдирают супинаторы – железные пластины, придающие обуви жесткость, и раздевают догола «Нагнись, раздвинь ягодицы, присядь…»
После шмона пересаживают в другой боксик (в прежнем зэк мог что-нибудь припрятать). Фотографируют, но перед этим обязательно пропускают через парикмахера. Он-то и должен придать человеку арестантский вид.
Всю процедуру приёма, как правило, администрация проводит ночью, чтобы к обеду следующего дня арестант уже находился в отведенной ему камере. Общей или одиночной – это зависит от вашего преступного прошлого, точнее, от ошибок, допущенных вами на этой стезе, ну а кумовья тюремные всегда узнают о них если не первыми, то одними из первых. Мишаня не совершал ошибок, да и стезю воровскую поневоле избрал ещё ребенком, но он был не по возрасту шустр и дерзок. Для таких босячков у мусоров были свои камеры. Обычно небольшие, на шесть-восемь человек. Находились они, как правило, на спецу и содержалась в них преимущественно мохнорылая падаль, которая жила по указке администрации.
К тому времени в ГУЛАГе ещё не придумали крытые тюрьмы, прессхаты и «ломки». Все эти новшества придут много позже, после указа 1961 года, но и та гниль, что таилась в местах заключения сразу после войны, была для молодого вора, согласитесь, тоже немалым испытанием.
Согнувшись под тяжестью старого, лоснящегося от пота сотен заключенных матраца, выданного ему в каптерке, Мишаня молча следовал за разводным попкарем, который вёл его по мудреным коридорам и этажам Бутырки, пока они не остановились, наконец, на третьем этаже большого спеца возле камеры 287. Хоть матрац и был чуть ли не больше его самого, Мишаня не поставил его на пол, чтобы передохнуть, а, наоборот, подкинул на плечо и впился дерзким взглядом в тюремный глазок. Пот тёк с его лица, в плечах ломило с непривычки, но ещё свежи были в памяти удары киянкой по спине и рукам, и ехидно улыбающиеся и не предвещавшие ничего хорошего маленькие и узкие глаза кума-татарина, когда тот прошипел Мишане прямо в лицо: – «Ничего, ничего, мразь голодраная, совсем немного осталось, а там посмотрим, какой ты дерзкий. Мне даже самому интересно это узнать». Да и дубак был под стать куму. Всю дорогу до хаты бурчал, что-то себе под нос, орал на Мишаню при каждом повороте или подъёме по лестнице и отчего-то ругал на чём свет стоит весь блатной мир Страны Советов.
Клацанье ключей, ржавый скрип старого замка, противный писк дверных петель – и он в хате Не успел Мишаня ещё даже положить на пол матрац, как дверь за ним с грохотом захлопнулась. Он выпрямился, поздоровался с хатой, как учили, и не спеша стал разглядывать всё вокруг, но разглядывать было нечего. Камера представляла собой обычную шестиместку, которых не один десяток на большом спецу Бутырки. Три двухъярусные шконки справа, слева в углу – параша, посередине – небольшой стол, а прямо напротив двери зарешёченное окно. Вот и весь незамысловатый интерьер.
Почти все обитатели камеры спали, но, как только за Мишаней закрылась дверь, они начали понемногу пробуждаться. Не имея ни жизненного, ни тюремного опыта, Мишаня, конечно же, не мог сразу определить, к какому сословию принадлежат находившиеся в хате. Но он хорошо помнил советы и наставления старого уркагана, поэтому и не отходил от матраца, в котором лежала буханка хлеба с начинкой, которую по счастливой случайности ему удалось пронести, минуя все тюремные препоны.
– Откуда будешь, щенок? – неожиданно, нарушив гнетущую напряжёнку и тишину «маломестки», бросил ему один из обитателей хаты – здоровый, мордатый детина, в тельняшке и галифе на босу ногу. Спускаясь с нар и протирая глаза кувалдами мозолистых цапок, он впился цепким взглядом в новичка, одновременно давая какие-то указания сокамерникам.
Камера заметно оживилась. Те, кто ещё лежал, повскакивали с нар и засуетились вокруг.
– Из Белоруссии, – лаконично ответил Мишаня.
– Да ты что! Каким же ветром занесло тебя в златоглавую? – с иронией и очевидной издевкой в голосе продолжал свой допрос мордатый.
– Попутным, – сквозь зубы и со злостью процедил Мишаня. Он уже понял, куда попал, ибо знал наверняка, что в приличной камере арестанты никогда не будут задавать подобных вопросов, да ещё в такой форме. Они предложат обустроиться, угостят чифирем, объяснят, что непонятно и детально расскажут о том, как нужно жить и вести себя в заключении среди порядочных каторжан, самому оставаясь при этом порядочным арестантом. Да и слово «щенок» обидело молодого крадуна. Его никогда никто так не называл, даже менты.
Наступила гнетущая тишина. Амбал в тельняшке, ничего не говоря, молча подошел к параше, и, пока он оправлялся по-легкому, к нему, держа в руках огромную кружку с водой, а на плече – большое махровое полотенце, подбежал какой-то хмырь в залатанных штанах и рваной рубашке и стал терпеливо ждать, когда тот закончит справлять нужду.
Прошло еще несколько минут. Наконец амбал умылся, вытерся и, вновь повернувшись к Мишане, с наглой ухмылкой продолжил свой козий допрос, не приглашая его даже пройти в хату и присесть.
– А за кого держишь себя в этой жизни, белорус?
Нахмурив брови и выпятив грудь вперед, как перед решающей схваткой с врагом, молодой уркаган не сказал, а выкрикнул прямо в лицо этой мрази:
– Вором держу себя! Понял? Вором!
Секундную паузу, возникшую после этих слов в камере, разорвал дикий смех. Можно представить себе, сколько злости и обиды было в сердце у молодого босяка в тот момент! Какою ненавистью и жаждой мести горели его глаза! Но он терпеливо вынес гогот обитателей этого вертепа и стоял, стиснув руки в кулаки. Он молча смотрел на свору шакалов, собравшихся возле вожака этой стаи падальщиков.
Вдоволь повеселившись и наиздевавшись над вновь прибывшим, все, как по команде, разом умолкли и стали наблюдать за амбалом в тельняшке, который не спеша встал с нар и походкой праздношатающегося матроса стал приближаться к Мишане.
– Так, значит, вор, говоришь? – подойдя вплотную к босяку, спросил он. – Ну что ж, тогда снимай штаны, вор, знакомиться будем. У нас так принято.
И вновь тишину камеры разорвал всё тот же дикий обезьяний хохот ничтожеств. Стиснув зубы, с полными слёз глазами, но уверенный в правоте своих действий, Мишаня нагнулся было к матрацу, но в это время амбал ловко обхватил его за талию – притянул с силой к себе, вероятно посчитав, что Мишаня таким образом предлагает себя. Он попытался было расстегнуть ремень его брюк, но это стало последним действием в его козьей жизни. В доли секунды, разрывая пальцы в кровь о высохшую буханку хлеба, стоя согнувшись в три погибели, Мишаня вытащил стилет и, не задумываясь ни секунды, с разворота, снизу всадил его прямо в горло предвкушающему наслаждение поддонку.
Душераздирающий крик, перешедший в шипение змеи, огласил только что веселившуюся камеру большого спеца. Амбал выпрямился, кровь фонтаном брызнула из его рта и залила дверь вместе с глазком, в который впился шнифт корпусного кума. Сделав несколько шагов в сторону, детина попытался выдернуть стилет из своего горла, но как только он схватился за его рукоять, то задёргался в предсмертных судорогах. Он вытянулся как по команде «смирно», и рухнул замертво на цементный пол рядом с парашей.
Одновременно с шумом упавшего тела послышался всё тот же противный скрипучий скрежет замков. Дверь камеры с лязгом распахнулась и в неё вбежали несколько легавых: корпусной, кум и попкарь. Увидев распростертое тело с торчащим стилетом в горле, они поначалу растерялись, но затем быстро пришли в себя и, схватив Мишаню с обеих сторон под руки, вывели его из камеры в коридор.
12
После столь драматичных событий, происшедших в жизни большого спеца Бутырки, прошло ровно десять суток. Это время Мишаня провел в карцере тюрьмы. Избитого, покоцанного и измождённого, его наконец-то перевели в приличную камеру. За это время шпана централа уже прослышала про молодого босячка, поэтому и встречали его в камере, как и подобает встречать вора. Ксиву, предусмотрительно данную ему Огоньком «на Петрах», он еще в карцере передал одному бродяге, сидевшему через стенку.
В этой связи хотелось бы сказать вот о чём. С того момента как Мишаня перешагнул порог той гадской хаты на большом спецу и объявил себя вором, он в свои неполные пятнадцать лет стал самым молодым вором в законе в столичных тюрьмах. Хотя «ворами в законе» урок стали называть много позже, после указа 1961 года, когда в воровской среде стали применяться «подходы». Ровно через час, после мусорских экзекуций, когда волоком протащили его почти по всем коридорам Бутырки в карцер, он имел уже такой авторитет, какой к своим пятидесяти годам мог заработать не каждый бывалый уркаган.
Следствие растянулось ровно на год, но Мишаня почти не ощущал времени. Он многое понял и многому научился от старых урок за этот короткий срок. От природы молчун, он мог сутками не говорить, слушая и запоминая всё то, что бывает необходимо в воровской жизни.
В отличие от наших дней, когда люди, которые непонятно за какие заслуги, причисляют себя к ворам в законе, разъезжают на шестисотых «Мерседесах», одеваются «от Валентино», а зайдя в казино, ставят на кон по нескольку тысяч баксов за раз, не имея даже представления о том, что такое «стиры», не говоря уже о воровских играх, таких, например, как «третьями», «терс», «бура» или «очко», одной из главных оценок блатного в те шебутные годы было умение хорошо играть в карты, ибо это был его хлеб. На свободе вор воровал, в лагере – играл.
Среди блатных в камере вместе с Мишаней находился один старый «игровой» по прозвищу Хирург. Это был знаменитый на весь Север картёжник. Он симпатизировал Мишане, а потому и поднатаскал его в этом сложном и крайне опасном занятии. Хирург объяснил азы игры в карты, научил его блефовать и уметь вовремя тормознуться – этим двум основным составляющим хорошей игры. Мишаня был хваток до всякого рода новшеств, но главное, в нём была жилка картёжника, так что к тому времени, когда у него начался суд, он уже играл как следует и понемногу выигрывал.
Тот жирный бобёр, которого он порезал на бану, оклемался только через год, стал инвалидом и теперь, давал против него такие показания, за которые Мишане впору было мазать лоб зеленкой. Объединив два дела – тюремное убийство с применением холодного оружия и причинение тяжких телесных повреждений, тоже при помощи холодного оружия, судья накатил Мишане на полную катушку – «дикашку».
Хоть он и был тогда один на всём белом свете, но, тем не менее, не унывал. Впереди его ждало большое воровское будущее. Тюрьма теперь стала его родным домом, а воры – семьей.
Холодным январским утром 1948 года группу заключенных Бутырского централа вывели из этого серого, во все времена года, сооружения и, погрузив в два чёрных ворона, отвезли на «Красную Пресню» – в московскую пересыльную тюрьму, а уже оттуда через месяц их доставили на вокзал северного направления, чтобы отправить по этапу на край земли. Среди арестантов того этапа был и Мишаня.
До знаменитого порта Ванино они добирались больше трех месяцев. В то послевоенное время проблемы у страны были буквально со всем, в том числе с транспортом и дорогами, топливом и продовольствием. И трудно было тоже почти всем: рабочим и профессорам, военным и врачам, зэкам и ментам. Так что никто из босоты не роптал, молча перенося трудности дорог и пересылок, ибо они давно привыкли к этим перипетиям, тяжелее было остальным. Из почти двухсот человек, следовавших по этапу, большинство составляли мужчины: политические заключенные, осужденные по 58-й статье, бывшие военнопленные гитлеровских концлагерей, бежавшие из плена и таким образом выжившие, полицаи, власовцы, офицеры Советской армии и НКВД, работники правительственных учреждений, «некрасовские» мужики и воры.
Огромная пересылка, в которой разместили этап, была забита под самую завязку. Навигация только-только началась, и первыми должны были открыть ее именно эти люди.
Берег встретил их шквальным ветром со снегом, дующим со стороны Японского моря. Снег не успевал ложиться – ветер сметал его с промороженного старого причала прямо в море. Татарский пролив опасен частыми штормами. Каменистый грунт плохо держит якоря кораблей, и, чтобы не разбиться о скалы близ Александровска, суда подолгу дрейфовали в открытом море. Они спешили укрыться в заливе Де-Кастри, искали убежища в Совгавани и торопились зайти в порт Ванино. Это была обычная весенняя погода на этих широтах. Так что расстояние почти в километр по длинному коридору из конвойных с собаками, от здания пересылки до трюма баржи, бедолаги преодолевали, согнувшись в три погибели, прячась от колючей метели и проклиная всех мусоров, судей и прокуроров, вместе взятых.
Ступив на скользкий трап, двое из арестантов с непривычки тут же очутились за бортом. И хотя через несколько минут менты выудили их баграми, это были уже не жильцы на свете.
К вечеру этап загрузили в трюмы старой и ржавой баржи «Сахалин», которая казалась насквозь пропитавшаяся запахом рыбы, пота и ещё чего-то непонятного, и выдали всем сухой паёк на время пути до лагеря. На следующее утро сухогруз отшвартовался от причала и взял курс на Магадан.
Тот, кто плавал по северным морям, знает, что, независимо от времени года, постоянные шторма и качки выматывают моряков, а тем более пассажиров, не давая им времени ни для отдыха, ни для сна. Только эти люди представляют себе, каково идти в это время по Охотскому морю. Но я ставлю сто к одному, что и они не догадываются, что этот путь могут проделать полураздетые и больные зэки в грязном и вонючем трюме.
Тот самый Магадан, о котором много сказано и спето в народе, через семнадцать суток встречал истинных хозяев этой земли, но они об этом даже не догадывались. Еще почти сутки баржа боролась с волной, рискуя разбиться о прибрежные скалы, пока благоприятная погода не позволила войти в бухту Нагаево, а ещё через несколько часов пришвартоваться в порту.
Больных, измученных и измождённых от долгой дороги и Богом проклятой качки каторжан вывели, пока ещё было светло, из трюмов. Через весь порт и прилегавшие к нему строения их повели по скрипучему, только что выпавшему снегу под усиленным конвоем с бьющимися в злобной истерике псами к веренице полуторок, которые стояли прямо за воротами порта. Загрузив каторжан в машины, их тут же отправили по тракту в поселок Уптар, в малую зону, которая находилась в нескольких десятках километров от Магадана.
Малая зона – это пересылка. Большая зона – лагерь горного управления – бесконечные приземистые бараки, арестантские улицы, тройная ограда из колючей проволоки, караульные вышки, похожие на скворечни. В малой зоне ещё больше колючей проволоки, ещё больше вышек, замков и щеколд – ведь там живут приезжие, транзитные, от которых можно ждать всякой беды. Архитектура малой зоны идеальна. Это один квадратный барак, огромный, где нары настелены в четыре этажа и не менее пятисот мест для вновь прибывающих арестантов. Это значит, что если понадобится, то можно вместить тысячи.
Зимой этапов мало и зона изнутри кажется почти пустой. В не успевшем просохнуть бараке – белый пар, на стенах лёд. При входе – огромная электрическая лампа в тысячу свечей и от неровной подачи энергии она то желтеет, то загорается ослепительным белым светом.
Днём зона спит. По ночам раскрываются двери, под лампой появляются люди со списками в руках и хриплыми, простуженными голосами выкрикивают фамилии осуждённых. Те, кого вызвали, застёгивают бушлаты на все пуговицы, шагают через порог и исчезают навсегда. За порогом ждет конвой, где-то пыхтят моторы грузовиков, заключенных везут на прииски, в совхозы, на дорожные участки… Их прибыло около трёх тысяч человек. При подсчёте надзиратели недосчитались семнадцати арестантов. Между небом и землей, не в море и не на суше, эти люди, отмучившись, лежали теперь на дне зловонного трюма, заботливо накрытые с головой белыми рубашками от кальсон и разным тряпьём, которое оказалось под руками у каторжан.
Почти месяц Мишаня провёл на малой зоне, пока его и ещё нескольких блатных не включили в большой этап на прииск «Заречный». Две тысячи километров тянулась, вилась центральная колымская трасса – шоссе среди сопок и ущелий, столбики, рельсы, мосты… Почти четверо суток мучений и около пятисот километров пути потребовалось преодолеть бедолагам для того, чтобы сквозь таёжную глушь и лощины меж сопками, болотистую местность и покрытую снегом равнинную гладь, прибыть в огромный, по колымским меркам, поселок Дебин, что на левом берегу Колымы.
Приказав выгружаться из машин, конвойные построили их в большую колонну и, даже не дав хорошенько передохнуть, заставили вновь трогаться в путь, но уже своим ходом, вдоль берега, всё дальше и дальше на север.
В тайге всё неожиданно, всё – явление: луна, звёзды, зверь, птица, человек, рыба. Через двенадцать-пятнадцать километров, будто появившись из глубины промерзшей земли, прямо рядом с колонной, вынырнули белые сопки, с синеватым отливом, похожие на сахарные головы. Круглые, безлесные, они были покрыты тонким слоем плотного снега, спрессованного ветрами. Обойдя их слева, каторжане, наконец, увидели очертания большой зоны.
Теперь этап насчитывал не более восьмидесяти человек. Четверть из них (в основном хилые и больные интеллигенты – Иваны Иванычи, как называли их на Колыме) добрались до лагеря лишь на спинах своих собратьев. Потеряв последние силы, они проделали, таким образом, почти треть пути. Но для тех, кто нёс ослабевших людей, а это были крепкие, жилистые мужики и блатные, эта ноша окажется самой легкой из тех, которые им придётся тащить на своих горбах ещё не один десяток лет.
Десятью годами позже описываемых мною событий три тысячи человек были посланы зимой пешком в один из портов, где склады на берегу были уничтожены бурей. Пока этап шёл, из трех тысяч человек в живых осталось триста. Кого-то из начальства осудили, кого-то сняли с работы, но что толку? Людей не вернуть с того света.
13
На Крайнем Севере, на стыке тайги и тундры, среди карликовых берёз, низкорослых кустов рябины с неожиданно крупными светло-желтыми водянистыми ягодами, среди шестисотлетних лиственниц, что достигают зрелости в триста лет, живёт особенная разновидность дерева – стланик. Это дальний родственник кедра – вечнозеленый хвойный кустарник высотой в два-три метра. Он неприхотлив и растёт, уцепившись корнями за щели в камнях горного склона. Он мужествен и упрям, как все северные деревья.
Арестанты вручную заготавливали хвою стланика. Зелёные сухие иглы щипали, как перья у дичи, захватывая побольше в горсть, набивали хвоей мешки, вечером сдавали выработку десятнику. Затем хвою возили на таинственный витаминный комбинат, из неё варили темно-желтый густой и вязкий экстракт с непередаваемо противным вкусом. Этот экстракт заставляли пить или есть (кто как сумеет) перед каждым обедом. Без стопки этого лекарства в столовых нельзя было получить обед – за этим строго следили. Цинга была распространена повсеместно, а стланик был единственным лагерным средством от цинги, одобренным медициной того времени.
Но главная пахота шла на прииске, где лопата, кайло, лом и тачка были основными орудиями труда. Люди работали в обледенелых разрезах, в зловещих, залитых студёной талой водой забоях прииска, где каждый промороженный до блеска камешек обжигал руки, а казённые резиновые калоши-чуни не спасали от холода многократно обмороженные ноги бедолаг.
Круглыми сутками в ущелье между сопками вился над прииском белый туман, такой густой, что в двух шагах не было видно человека. Старожилы точно определяли безо всякого градусника: если стоит морозный туман – значит, на улице сорок градусов ниже нуля; если воздух при дыхании выходит с шумом, а дышать трудно – значит, сорок пять градусов. Свыше пятидесяти пяти градусов – плевок замерзает на лету.
Из разреза, где добывали песок и снимали торф, было два пути: «под сопку» – в братские безымянные могилы – и в больницу. Вши заживо съедали работяг. Колымчане снимали белье и закапывали его на ночь в землю, каждую рубаху и кальсоны отдельно, оставив на поверхности лишь маленький кончик. Это было народное средство против вшей. Наутро они собирались на кончиках рубах. Паразитов сжигали, поднося рубаху к горящей головне из костра. Увы, этот остроумный способ не уничтожал гнид.
Чудесные свойства земли были оценены по достоинству, когда заключенным приходилось ловить мышей, ворон, белок и чаек. Мясо любых животных теряет свой специфический запах, если его предварительно закопать в землю. Золотой сезон начинался пятнадцатого мая и длился ровно четыре месяца, заканчиваясь пятнадцатого сентября. К лету основные забойные бригады формировались из вновь пришедших этапников, здесь ещё не зимовавших, ибо даже после одной зимовки выдержать повторно этот кошмар было не по силам никому.
Летом было немногим лучше, чем зимой. Здоровый деревенский воздух остался далеко за морем. Здесь же арестантов окружал напитанный испарениями болот разрежённый воздух тайги. Сопки были сплошь покрыты болотами и только лысины безлесных сопок сверкали горным известняком, отполированным бурями и ветрами. Нога тонула в топком мхе, а обувь за ночь не успевала просохнуть.
Летом воздух был слишком тяжёл для сердечников, зимой – просто невыносим. Тучи комаров облепляли лицо – без защитной сетки было нельзя сделать ни шагу. А на работе сетка душила, мешала дышать. Поднять же её было невозможно.
Работали тогда по шестнадцать часов и нормы были рассчитаны под это время. Если считать, что подъём, завтрак, развод на работу и пеший путь до места занимали минимум полтора часа, обед – час и ужин вместе с отходом ко сну – еще полтора часа, то на сон после тяжелой физической работы на воздухе оставалось всего четыре часа. Человек засыпал в ту самую минуту, когда переставал двигаться, умудрялся спать на ходу и стоя. Недостаток сна отнимал даже больше сил, чем голод. Невыполнение нормы грозило штрафным пайком – триста граммов хлеба в день и без баланды.
Мужики ещё как-то справлялись со всем этим, а вот заключенные-интеллигенты были полностью подавлены лагерем. Всё, что было дорогим, растоптано в прах, цивилизация и культура облетают с человека в самый короткий срок, исчисляемый неделями. Аргументы в споре – кулак и палка. Средство принуждения – приклад и зуботычина. Интеллигент превращался в труса, и собственный мозг подсказывал ему оправдание своих поступков.
Что же касается блатных, то они одни, пожалуй и жили нормально в этих условиях. Если, конечно, выражение «нормально» позволительно для характеристики жизни обитателей колымских лагерей во все времена. Их кормили карты, но и в быту у них всё было схвачено, особенно в санчасти, «на кресту» – единственном промежуточном этапе в сложной, а потому и запутанной системе лагерей Дальстроя. Это давало им возможность не работать и жить так, как они хотели. Ни один из покладистых медицинских работников лагеря не заботился о своей судьбе, ибо они были под покровительством урок. Больше всего блатных было на прииске «Спокойный».
Женских лагерей тоже хватало. В них было немало блатарок, которые иногда исполняли приговоры воров в отношении несговорчивого начальства.
Шли годы. С тех пор как Мишаня прибыл на колымскую землю, минуло пять долгих лет. Из совсем ещё юного вора Мишаня превратился в бывалого уркагана по прозвищу Муссолини, или Дуче. Как для мужиков-работяг, к которым в те времена применялись зачеты «один к трём», так и для бродяг годы, проведённые на Колыме, в плане достижения опыта и знания жизни, умения терпеливо преодолевать всякого рода препятствия и быть всегда в форме – можно смело приравнивать один к трем. Так что, исходя из этих колымских, критериев Дуче было уже не двадцать, а все шестьдесят лет.
Это был уважаемый всеми, всегда задумчивый, дерзкий, но добрый и отзывчивый уркаган. Впрочем, дерзость его проявлялась обычно лишь тогда, когда дело касалось чего-то очень важного, серьезного и принципиального. Тут уж он становился лютым, как волк, и с ним было лучше не связываться. Так что многие здраво полагали, что с Муссолини лучше дружить, нежели враждовать.
Все эти годы мысль о побеге ни на минуту не покидала его, но как сбежать с Колымы? С одной стороны на сотни километров сопки, тайга, болота, наряды, посты, немецкие овчарки и прочие прелести, а с другой – Охотское море. Очень многие в ту пору уходили в побег и погибали либо от пули конвоира, либо от голода и стужи, а некоторых разрывали в клочья стаи голодных волков. Тем, кто всё же дерзнул испытать судьбу, путь назад был заказан. Одинокий выстрел начальника конвоя из трофейного парабеллума или автоматная очередь навеки оставляли их жертву лежать на промерзшей колымской земле, пока падальщики-шакалы не обглодают каждую косточку, а пурга не заметет останки вглубь тайги, чтобы схоронить их там навечно.
14
В то время когда Дуче прибыл в Колымское управление лагерей, оперативной частью там заведовал капитан Еремеев – плюгавый урод с наклонностями садиста. Это была одна из тех злодейских натур, которые не отступают перед смертью, не знают ни веры, ни любви и по какой-то страшной, необъяснимой причине издеваются над людьми, доводя их до могилы, как будто они присягнули уничтожить весь род человеческий.
Мразь эту ненавидели и боялись почти все – и свои, и чужие. Он не ведал меры ненависти, которую считал главным двигателем всех жизненных процессов. Он не просто ненавидел заключённых – нет, он лелеял и холил свою ненависть, как чистую голубку, как светлое начало всех благословенных начал. Он ощущал себя бодрым и сильным, когда ненавидел, и делался вялым и дряблым, словно сдувшийся пузырь, когда это чувство покидало его. Неудивительно, что, руководствуясь такими жизненными принципами, он удерживался на должности главного кума управления почти пятнадцать лет. К тому же где-то в высших слоях гулаговской власти у этого паскудника была могучая поддержка.
Не раз на него совершались покушения, он был весь изрезанный, в шрамах, с проломленной в нескольких местах башкой и переломанным носом, но всё равно оставался при своих пиковых интересах, ненавидел людей, продолжая приносить им как можно больше зла и страданий.
Не обошёл этот гад своим вниманием и Мишаню. Ведь блатные для него были самыми ярыми и непримиримыми врагами, ибо только они и наносили ему раны и увечья, иногда, правда, чужими руками. Подобные инциденты на зонах и пересылках всегда происходили именно с подачи воров, и никак не иначе.
За время пребывания на Колыме, с легкой руки капитана Еремеева, Дуче изъездил почти все лагеря управления, не избежав, конечно же, карцеров и пересылочных бункеров. Много зловещих лиц довелось мне видеть в своей жизни, но ни одно не дышало такой яростью, как лицо старого уркагана Муссолини, когда он вспоминал лагерного кума. Зоркий глаз этой мрази следил за ним везде, где бы он ни был. Змей лишь ожидал удобной минуты, чтобы расправиться с неугодным вором раз и навсегда, но судьбе было угодно распорядиться иначе.
Вместе с первыми признаками весны 1953 года на Колыму пришли тревога и переполох. Умер вождь всех народов Иосиф Сталин, и никто из начальства не знал, чего теперь ожидать от властей. Все страшились неопределенности, начиная с начальника Дальстроя и кончая самым последним вольнонаемным рабочим, ибо у всех было рыло в пуху. Притаился на какое-то время и капитан Еремеев, видно, и его высокие покровители оказались не столь уж всесильны.
Но Муссолини смерть Сталина принесла лишь удачу. Быть может, одной из самых замечательных черт его интеллекта была способность к очень быстрой, почти мгновенной реакцией на внешние события. Воспользовавшись благоприятным моментом, когда легавым было не до него, он провернул одно дельце, которое впоследствии оправдало все его усилия.
За несколько месяцев до этих событий пришел на Колыму большой этап из Москвы. Как водится, пара десятков человек по дороге умерли, не выдержав испытаний, а те, которые выдержали дорогу, впоследствии завидовали мёртвым. В то время для того, чтобы здоровый молодой человек, начав свою лагерную карьеру в забое на зимнем воздухе, превратился в доходягу, требовалось от двадцати до тридцати дней. При шестнадцатичасовом рабочем дне, без выходных, при систематическом голоде, рваной одежде и ночевках в пятидесятиградусный мороз, в дырявой брезентовой палатке, побоях десятников, старост и конвоя, а порой и меньше того. Находясь среди всего этого кошмара, поневоле и сам становишься жёстким. Вся низость, которая прячется в глубинах человеческой души, всплывает на поверхность у тех, кто недостаточно силён духом, чтобы перенести все невзгоды, связанные с заключением.
Был среди того этапа один пожилой интеллигент – седой и высокий врач, родом из Ленинграда. Я уже говорил, что на Колыме интеллигентов, мягко говоря, не любили. Не обошла стороной эта ненависть питерского доктора и лежать бы ему через месячишко-другой на погосте, в братской безымянной могиле, если бы не вмешательство в его жизнь Муссолини. Разговорившись как-то ночью с Савелием Игнатьевичем – так звали врача, – Дуче понял, какую выгоду можно в будущем извлечь из этого знакомства. Дело в том, что Савелий Игнатьевич был не просто психиатром, а профессором и одним из ведущих в этой области специалистов в стране. Но кому нужен был психиатр, хоть и профессор, на прииске, где он даже не пахал, а, скорее, доживал последние дни?
Страх бывает присущ даже людям исключительно мужественным и гениальным. Мозг, подгоняемый страхом, работает с удвоенной силой. Ходить в забой было далеко – два-три километра в один конец. Той зимой нередки были снежные заносы и после каждой метели прииск приходилось буквально откапывать. Тысячи людей с лопатами выходили чистить дорогу, чтобы дать проход автомашинам. Всех, кто работал на расчистке пути, окружали сменным конвоем с собаками и целыми сутками держали на работе, не разрешая ни погреться, ни поесть в тепле. На лошадях привозили примороженные пайки хлеба, иногда, если работа затягивалась, консервы – по одной банке на двух человек. На тех же лошадях отвозили назад в лагерь больных и ослабевших вконец.
Савелий Игнатьевич обморозил ноги и заработал пеллагру в придачу. Таким вот образом он и встретился с Дуче. Откормив доходягу доктора и приведя его в человеческий вид, он устроил его в санчасть при лагере для начала лепилой, уверенный в том, что умный и образованный врач проявит себя в дальнейшем. А о том, чтобы того заметили и дали работать по специальности, он позаботился сам.
Врач на Колыме мог почти всё: освободить человека от работы, положить в больницу, определить в оздоровительный пункт, увеличить паёк. В трудовом лагере врач определял «трудовую категорию» – степень способности к труду, по которой рассчитывалась норма выработки. Врач даже мог представить к освобождению по инвалидности, по знаменитой тогда 458-й статье. Разумеется, эти права были предоставлены только вольнонаемным врачам, но Дуче это обстоятельство совершенно не смущало. Он задумал нечто такое, что требовало времени, терпения и выдержки. Прежде чем замутить эту варганку, Дуче составил устный договор, что-то вроде рыцарского обета чести, которому оба они должны были следовать неукоснительно.
В связи со смертью Сталина во всем ГУЛАГе начались нешуточные волнения. Одно из них – амнистия, которую провел Берия. К осужденным по пятьдесят восьмой статье она не применялась, но всё же какие-то поблажки в связи с переменой власти на первых порах на Колыме чувствовались. Срок у Савелия Игнатьевича был небольшой – всего три года. Те, кто судил его и отправлял на Дальстрой с таким маленьким сроком, очевидно, были уверены в том, что оттуда он уже живым не воротится. Ан нет, просчитались! Человек предполагает, а Бог располагает. Проработав в лагерной санчасти около полугода, Савелий Игнатьевич, как и предполагал Дуче, зарекомендовал себя с самой, что ни на есть, положительной стороны (конечно же, не без помощи своего покровителя) так, что на следующий год он работал уже в огромной областной больнице в посёлке Дебин, что на левом берегу Колымы. Как раз по окончании сезона добычи золота в сентябре 1954 года его представили к досрочному освобождению, но с условием, что он какое-то время проработает еще врачом в этом управлении.
15
Зима того фартового для Муссолини 1955 года выдалась на Колыме злой и холодной. Каждый день во двор лагерной санчасти заезжали подводы с арестантами, у которых были отморожены ноги, руки, носы.
Мертвых оставляли на месте, рядом с прииском, с ними некогда было возиться. Тех же, кому оставалось жить считанные дни, перевозили из лагерной санчасти в больницу посёлка Дебин. Здесь комиссия из нескольких врачей их обследовала, подписывала «актировку» и первым же транспортом отправляла сначала на Магадан, а оттуда пароходом на Большую землю.
Среди актированных, ожидавших этапа, был и герой нашего рассказа – Мишаня Муссолини. Престарелый интеллигент сдержал данное однажды слово и сделал всё для того, чтобы Дуче оказался в этом списке. Правда, немалую роль в разыгранном, как по нотам спектакле, сыграло военное детство уркагана, точнее, раны и увечья, полученные после той роковой бомбежки, когда погибла его семья.
За несколько месяцев до предстоящей «премьеры» профессор научил Дуче, как должен вести себя шизофреник, одержимый манией преследования и слышащий «голоса». Ученик, надо отдать ему должное, оправдал надежды учителя. Кстати, это был лишь второй случай в истории управления, когда актировали с таким диагнозом. Первым прошёл через это сито какой-то знаменитый конструктор из Москвы. Для определения его заболевания из центра прибыл целый консилиум врачей. Его признали невменяемым и отправили на принудительное лечение в Казань. Эту психиатрическую лечебницу арестанты называли «вечной койкой»: там до конца дней своих содержались неугодные режиму люди.
Надо ли говорить, что предстоявший вояж на Большую землю имел для Дуче большое значение. Отсидев семь долгих лет на Колыме, в постоянном ожидании и вечной напряжёнке, все время отстаивая свое место под солнцем, он прекрасно понимал, что оставшиеся три года будут самыми тяжелыми в его жизни, если он вообще сможет когда-нибудь освободиться из этого, Богом проклятого, места. Теперь же судьба давала ему реальный шанс сделать ноги.
Главным препятствием для арестанта, задумавшего совершить побег с Колымы, была сама Колыма. Из этого следовало, что, вырвавшись с её территории в психологическом плане, беглец был настроен гораздо оптимистичнее, чем те из его собратьев по несчастью, которые бежали откуда-нибудь из Архангельской области или, например, из Коми АССР.
Забившись в угол кузова полуторки, закрытой старым, заштопанным со всех сторон брезентом, безучастный, казалось, ко всему на свете, Мишаня думал, перебирая в голове все возможные варианты, которые может подбросить ему судьба в самом скором будущем. О трудном во всех отношениях маршруте из Магадана в Казань он имел некоторое представление, но разве всё предусмотришь? Уже четвертые сутки несколько его попутчиков, умиравших на каком-то рваном тряпье прямо на полу кузова, тряслись в этом «колымском экипаже», и казалось, не будет конца этому пути. Их сопровождал всего один охранник, но и его присутствие было необязательным, учитывая лютый мороз, для семерых доходяг и одного дурака в придачу, которым и числился Муссолини.
16
«Счастье покровительствует смелым»… Пароход «Клим Ворошилов» стоял на рейде и сверху казался игрушечным. Даже когда на катере их подвезли к самому борту и они один за другим взбирались на палубу, чтобы сразу разойтись и исчезнуть в горловинах почти пустых трюмов, пароход был неожиданно маленьким: слишком много воды окружало его. На одиннадцатый день пути судно пришвартовалось в порту Советская Гавань. И вновь пересылка, «телятник» и путь, нескончаемый путь в неизвестность. Больше семи тысяч километров до пункта назначения, дни и ночи, проведенные в душном, вонючем вагоне, пересылки, камеры и люди, нескончаемый поток арестантов и в ту, и в другую сторону.
Муссолини всю дорогу присматривался к окружающей обстановке, людям, конвою. Продумывал всевозможные варианты, уже было решался на что-то, но затем вновь откладывал задуманное. Он прекрасно понимал, что у него нет права на ошибку, ибо на карту поставлена жизнь, а Мишаня был хорошим игроком. И, как обычно бывает, случай – этот перст Божий – представился сам собой.
Последней пересылкой перед конечным пунктом была узловая станция Агрыз, которая находилась в трехстах километрах от Казани. Здесь Мишаню водворили в камеру к единомышленникам – ворам-«четверташникам». Около месяца они провели вместе – в одной хате, на одних нарах, и, когда всех их забирали на этап, Муссолини был уверен почти в каждом из бродяг. А он к тому времени уже был неплохим психологом.
Был канун 1 Мая. Напившиеся в стельку краснопогонники вели себя как цепные псы. Расположившись прямо на полу, в тамбуре вагона, и побросав автоматы в угол, они пили самогон из граненых двухсотграммовых стаканов, закусывая его огромными кусками сала, пели похабные песни, орали матом что есть мочи и хохотали как проститутки на панели, но в какой-то момент всего этого им показалось мало. Двое из них куда-то исчезли на время, а вернувшись, буквально приволокли с собой третьего. Это был арестант – пацан лет четырнадцати-пятнадцати. Сначала они заставили его пить спиртное прямо из горлышка, а потом, напоив, раздели догола и начали по очереди насиловать. Этот поступок переполнил чашу терпения воров, и они решили проучить легавых, но всё вышло еще круче, чем то, что они задумали.
Самый верный способ обратить на себя внимание мусоров в «телятнике» или в «Столыпине» – раскачать этот самый вагон. Арестанты становятся на одну сторону и, по команде одного из них, начинают потихоньку его раскачивать. Если их вовремя не остановить, вагон рано или поздно сойдет с рельсов, а с ним и весь состав.
Пьяная, озверевшая краснопогонная мразь поначалу не поняла, что творится с вагоном, а когда щекотнулась, было уже поздно. Пронзительный гудок паровоза, страшный скрежет тормозных колодок, падающий набок вагон, летящие вокруг куски досок и железных угольников, автоматные очереди конвойных – все смешалось в кучу в этом страшном хаосе крушения поезда. Выбравшись кое-как из искорёженного вагона и очутившись на железнодорожном мосту, Дуче в мгновение ока разглядел под собой широкое русло бурлящей реки и берег, покрытый какой-то растительностью. Весь исцарапанный и забрызганный кровью, он сразу же пришел в себя, увидев, как в его сторону бегут солдаты, стреляя на ходу. Благодаря удаче, которую Бог посылает тем, кого любит, Дуче даже не был ранен. Пригнувшись от летящих в него пуль, не раздумывая больше ни секунды, он, как кенгуру, в несколько гигантских прыжков очутился у перил моста и прыгнул с огромной высоты вниз, в бурлящий черный поток. Это был единственный путь к спасению, предоставленный ему Всевышним.
Холодная, почти ледяная вода, казалось, навеки приняла его в свои смертельные объятия, но стремление выжить оказалось намного сильней. Долгое время он не выныривал, – в горячке событий последнего часа организм пока еще не чувствовал холода. Прекрасно сознавая, что пули конвойных еще могут его достать, Муссолини пытался проплыть под водой как можно дольше, цепляясь в отчаянии за какие-то коряги, временами доставая руками до илистого дна и отталкиваясь от него, а когда, наконец, появился на поверхности, мост был уже далеко позади.
Течение реки несло его вперёд с бешеной скоростью. Стоит на мгновение заглянуть в глаза смерти, чтобы ощутить настоящий вкус жизни! Кое-как оправившись от первых потрясений, Дуче вдруг почувствовал, как всем его организмом моментально овладел холод. Он стал грести к берегу с сумасшедшей скоростью, стараясь таким образом согреться и как можно быстрее выбраться на спасительную сушу. Через какое-то время ему это удалось. Почти выбившись из сил, он лежал теперь на скользком от ила берегу, не в силах даже пошевелить руками. Но мозг, лихорадочно работая, подталкивал его к движению, к жизни.
Собрав последние силы, Мишаня вскочил на ноги и побежал. Куда, он и сам не знал. Инстинкт самосохранения подсказывал, чтобы он ни в коем случае не останавливался, и Мишаня всё дальше и дальше уходил от холодной черной реки. В тот момент у него не было ни крова, ни пищи, ни тепла, ни любви, но он не падал духом, потому что был свободен.
Отбежав на приличное расстояние от бурлящего потока и взобравшись на какой-то бугорок, Муссолини неожиданно наткнулся на одинокую хижину, стоявшую прямо на краю обрыва. Недолго думая, он с одного маху перемахнул через плетень и решительно постучал в дверь хаты. Терять ему было нечего.
Дверь открыли неожиданно быстро, безо всяких расспросов. На пороге стояла высокая молодая женщина в тёмном платке и телогрейке поверх белой ночной рубашки. В одной руке она держала маленький топорик, в другой – керосиновую лампу. Стараясь придать своему облику решительный вид, она грозно взглянула на непрошеного гостя, но, увидев насквозь промокшего, измождённого, валящегося с ног беднягу, опустила топор и, прямо у дверей, скинув с себя одной рукой бушлат, протянула его Мишане. Буквально втолкнув его в хату и затушив лампу, женщина вышла во двор. Через некоторое время она вернулась и тут же спросила с порога:
– Собака-то моя где? Убил, что ли?
– Да вы что, не видел я никакой собаки, – возмутился Мишаня.
– Ну ладно, не шуми, потом разберёмся. Лучше раздевайся побыстрее. Гляди, аж посинел уже весь!
Только после этих слов Мишаня ощутил дрожь во всем теле, как будто при лихорадке. Женщина подала ему полотенце, большие брюки галифе и большую белую рубашку от кальсон. Предлагать дважды ей не пришлось: босяк хорошо знал, что к милостям судьбы не следует относиться легкомысленно.
Зайдя за огромную русскую печь, Мишаня скинул с себя мокрую одежду, быстренько обтерся полотенцем и, надев все сухое, вышел из-за печи. Увидев его в таком наряде, женщина прыснула со смеху. Да, вид у блатаря был действительно впечатляющий. Длинная и широкая рубаха чуть ли не до пят и шкары, в которые могли бы поместиться еще несколько человек такой же комплекции, сидели на нём весьма своеобразно. На ходу заправив рубашку в брюки, а штанины подвязав болтавшимися внизу тесёмками, он сел на широкую лавку у стола и стал молча растирать давно отмороженные ступни и ноющие колени.
Женщина успевала что-то говорить, разглядывая уркагана оценивающим бабьим взглядом, и вертелась по хате как юла. Она задернула занавески, ещё раз выглянула во двор и, немного прикрутив фитилек лампы, села напротив босяка. На столе появилась пара соленых огурчиков, граненый стакан и небольшая бутыль с самогоном.
– Чего зенки-то опять вылупил, с луны, что ли, свалился? – улыбаясь, продолжала командовать хозяйка. – Давай-ка тяпни рюмашку-другую да согрейся маленько, а уж потом и поговорим.
Два полных стопоря пришлось опрокинуть Мишане, чтобы его передернуло как следует и он начал потихоньку приходить в себя. Хмель не спеша стал обволакивать его. Он отломил кусочек хлеба, загрыз горькое лекарство хрустящим огурчиком и, подняв голову, произнёс всего одно слово: «Благодарю». Но надо было видеть и слышать, как и с каким выражением во взгляде было произнесено это слово!
17
Не зря я назвал тот, 1955 год фартовым для бродяги Муссолини. Посёлок, куда волею случая попал, а точнее, заплыл Мишаня, назывался Богатые Сабы, а хата, где его так гостеприимно встретила молодая хозяйка, был домом детей «изменников Родины». Прямо перед войной в посёлок приехали какие-то люди в чёрном, забрали родителей и старшего брата Светланы – так звали молодую женщину – в районный отдел НКВД, но живым оттуда вернулся лишь брат, да и то с психическими отклонениями. Отца с матерью расстреляли, а его после долгих пыток отпустили домой. Так и пережили они вдвоём всю войну и две первые пятилетки в хате на отшибе – молодая и красивая девушка, превратившаяся после ареста родителей за месяц в старуху да и её брат-бедолага.
К ним в гости, кроме заблудшей деревенской скотины да волка-одиночки, никто никогда не заглядывал. Люди боялись проявлять жалость и сострадание к людям, у которых близкие были арестованы и расстреляны по 58-й статье, такое было страшное время. Можно себе представить, как ненавидела советскую власть Светлана, как презирала трусов и лизоблюдов! Так что Дуче здесь повезло вдвойне. Он попал в единственную в этом поселке семью, где его не могли не принять как должно, а узнав о том, что он совершил побег, не сдать властям.
После крушения поезда в районе станции Вятские Поляны, гибели двадцати восьми человек, семеро из которых были солдатами конвоя, и побега нескольких заключенных, войска НКВД взяли в кольцо весь район поиска и почти месяц прочесывали местность. Они неожиданно заявлялись со шмонами то в одну, то в другую избу, но всё было тщетно: беглецы исчезли, не оставив следа. Всё это время Светлана прятала Мишаню в глубоком погребе во дворе возле колодца, где он жил до тех пор, пока не покинул гостеприимный дом и полюбившую его хозяйку. По ночам он выходил на прогулку, а в светлое время суток проводил в своем схроне под землей. Но долго так продолжаться не могло, и за несколько дней до ноябрьских праздников он ушел в ночь так же, как и появился, незаметно для окружающих.
Ему опять сопутствовала удача. Мишаня прекрасно понимал, что без документов перебраться в Северную столицу, а именно туда решил направить свои стопы беглец, было делом безрассудным. Поэтому о ксивах он позаботился в первую очередь. И здесь дело опять не обошлось без помощи его возлюбленной. Если Мишаня и Света были почти одного возраста, то её брат был старше почти на десять лет. Дуче отрастил бороду, которая скрывала его шрам на щеке, прибавляла возраст и делала похожим на владельца паспорта, который он позаимствовал у бедолаги-несмышлёныша. Они заранее договорились со Светланой о том, что неделю-другую она постарается не выпускать брата на улицу, чтобы в случае пробивки ксив в пути, легавые думали, что перед ними больной человек. Ну а косить под шизофреника Муссолини было не привыкать.
Но их опасения были напрасны. Дуче так вжился в свою роль, что на всём протяжении пути легавые даже ни разу не пробили его ксивы.
В тот момент у Мишани было только одно желание: добраться до Ленинграда, к корешу Никите, перекантоваться у него с месяц, навести коны с босотой, ну а дальше – как масть ляжет. Но судьба распорядилась иначе: в Питер Муссолини прибыл после почти двух месяцев пути, а вот Никиту увидел лишь спустя пятнадцать лет.
18
«Северная Венеция» встретила босяка предновогодним морозом и крупными хлопьями падающего снега. Дуче шёл по набережной Мойки, рассматривая таблички с названиями улиц и номерами домов, разыскивая интересующий его адрес. Он любовался открывавшимися перед ним панорамами и памятниками истории, наслаждаясь безветренной погодой и массой других мелочей, которые простому смертному, не прожившему долгие годы на дальних командировках, не понять никогда.
Неожиданно морозную тишину разорвали крики детей, игравших на льду замерзшей реки. Еще не поняв, в чём дело, Мишаня стремглав бросился на зов малышей и в мгновение ока оказался у огромной полыньи, в которой бултыхался пацанёнок, пытаясь ухватиться за руку, лежащей на льду сестренки.
Не успел Муссолини крикнуть девчушке, чтобы она отползла подальше, как лед, проломившись под ней, увлек и этого ребенка в воду. Не обращая внимания на мороз, в доли секунды скинув с себя тяжелую телогрейку и сапоги, Мишаня прыгнул в образовавшуюся полынью.
Он знал, что на спасение малышей у него совсем мало времени, поэтому даже не пытался их успокаивать. Он молча подплыл к сорванцу, который уже начал покрываться тоненькой корочкой инея, но всё еще пытался зацепиться за кромку льда, скинул с него тяжелое от воды пальтишко, подхватил за ноги и изо всех сил буквально вытолкнул на лёд. Как ему это удалось, он и сам потом не мог понять.
Помочь девочке оказалось сложнее. Несколько раз Мишаня подплывал под неё, пытаясь сделать то же самое, но ему это не удавалось. Он размотал ее шарф и скинул с неё намокшее пальто с капюшоном. Мишаня уже начал коченеть, руки почти перестали слушаться, да и ноги еле шевелились, но каким-то чудом он всё же удерживал ребенка на плаву.
Наконец с помощью подоспевших людей он помог выбраться малышке. Потом и его самого, обмотавшегося из последних сил брошенной веревкой, еле вытащили на поверхность. Он запомнил лишь вой сирены «скорой помощи» да лицо дворника в белом фартуке, склонившегося над ним, когда он лежал на льду реки. В следующую минуту Дуче потерял сознание.
Очнулся Мишаня от боли в груди и сухости во рту. Первое, что он увидел перед собой, с трудом приоткрыв тяжелые веки, была молодая и красивая женщина. Он почему-то сразу отметил белый медицинский халат, застегнутый на все пуговицы, так шедший к её худенькой фигурке. Она сидела на стуле у него в ногах, увлечённо читая какую-то книгу, временами поднимая брови и мило шевеля губами.
Его самочувствие было ужасным. Страшно болела голова, и единственное, что ему тогда было по силам, – смотреть по сторонам и ни о чём не думать. Он лежал между двух окон небольшой палаты, рассчитанной на четырех человек, но остальные три кровати были аккуратно заправлены. Через окна в помещение проникало столько солнечного света, что от него и без того белая комната буквально светилась чистотой убранства и белизной побелки. Возле каждой койки была пристроена небольшая тумбочка белого цвета. Посреди палаты стоял стол, покрытый белой скатертью, на ней – графин с водой и что-то ещё.
В какой-то момент женщина отвлеклась от книги, взглянула на больного и, увидев, что тот пришёл в себя, прослезилась, стала поправлять подушку и говорить что-то ласковое и приятное, гладить по его щетине маленькой ручкой и все время улыбаться. От такого внимания у Мишани пошла кругом и без того больная голова, сразу же потеплело на душе, и он постарался одарить эту милую женщину самой очаровательной улыбкой, на которую только был способен после пережитого в тюрьмах.
Оказывается, он пролежал в этой палате в бреду и на волосок от смерти пятеро долгих суток. И всё это время женщина – мать спасённых им детей – не отходила от него ни на минуту. У Мишани было двухстороннее воспаление легких и плеврит в придачу, но самое страшное осталось уже позади. На этот раз он попал в весьма щекотливую ситуацию. Ведь узнай окружающие его люди – врачи, репортёры из газет, уже не раз приходившие справиться о его здоровье и написать очерк о героическом поступке парня из глубинки, эта женщина и многие другие – кто он на самом деле, можно было не сомневаться: они тут же найдут какую-нибудь вескую причину для того, чтобы переменить своё мнение о нём.
Но, к счастью, на этот раз бродяга ошибался. Поступок, который он совершил, невозможно было вот так просто взять и перечеркнуть одним росчерком какого-нибудь районного опера. В этой палате, по большому счету, решалась дальнейшая судьба босяка. Впрочем, он, конечно же, ещё даже и не догадывался об этом.
19
Мать спасенных детей звали Натальей. У неё была бледно-золотистая кожа, овальное лицо, щёки абрикосового оттенка, длинные, густые, шелковистые на ощупь, прямые чёрные волосы и приятная, мягкая улыбка. Она была старше Мишани на семь лет, работала инструктором и переводчицей в ленинградском обкоме партии и пользовалась репутацией принципиального и умного работника. Говоря коротко, начальство ценило её и ставило в пример другим. Несколько лет назад муж Наташи – доцент кафедры минералогии ленинградского университета – ушёл с экспедицией в горы Памира, да так и не вернулся. Он сорвался в пропасть во время одного из спусков. С тех пор она жила без мужа в большой четырехкомнатной квартире на Мойке вместе со своими детьми, хотя родители постоянно звали её домой, в Москву.
Её мать работала во Внешторге и почти постоянно бывала в заграничных командировках, а отец – генерал-майор госбезопасности, всю войну прослуживший в контрразведке СМЕРШ, – продолжал теперь служить на Лубянке. С него-то и начались в жизни молодого уркагана те самые перемены, которые круто перевернули его жизнь.
Случается, хотя и нечасто, что и бешеная масть простреливает. Хуже, когда масть идёт, а ставить нечего. У Мишани же и масть шла, и было что ставить на кон. Как только родители Натальи узнали какое несчастье чуть не постигло их семью, они в тот же день к вечеру были уже в Ленинграде. Дети, как ни странно, отделались лишь легкой простудой и насморком, а вот их спаситель был в куда худшем состоянии. Мать Наташи осталась в Ленинграде, чтобы присмотреть за ещё не совсем выздоровевшими внуками, а отец вернулся домой в Москву, предусмотрительно захватив с собой документы Мишани.
Хотя генерал и не перекинулся ни единым словом с уркой, так как тот пятеро суток провалялся в бреду, что-то всё же настораживало его. Какой-то внутренний голос подсказывал ему, что никакой это не дурак из деревни Богатые Сабы. Но кто он?
И зачем генерал вообще стал рыться в его документах? Ну, казалось бы, спас человек твоих внуков, что же тебе еще надо? Отблагодари, как издавна принято, да и дело с концом. Ан нет. Профессиональное чутье старого разведчика взяло верх над простыми законами человеческой нравственности. Но думать и предполагать теперь можно что угодно, ибо о причинах, по которым старый чекист решил прокоцать ксивы, Мишаня так и не узнал никогда.
Прошло еще две недели, прежде чем Дуче смог сидеть на кровати, самостоятельно принимать пищу и просто разговаривать. Всё это время Наташа была рядом, не отходя от него ни на шаг, забыв про мать, детей, и работу. Казалось, она вообще забыла всё на свете, и единственной её целью стало выходить больного. Что это было? Проявление благодарности за жизнь спасенных детей? И это тоже, конечно. Но главное, она просто влюбилась в этого молодого и чертовски обаятельного парня. Когда больничный брадобрей привел Мишаню в порядок, Наталья была поражена. Как когда-то в давнишних девичьих грёзах, прямо на неё смотрело суровое, но красивое лицо, в чертах которого отражались железная воля и непреклонный характер. Его черные выразительные глаза были окружены тёмной тенью – следствием житейских невзгод. Взгляд его был твёрд и спокоен, он утратил тревожное выражение. А этот шрам на всю щеку, эта манера вести диалог, не спеша и доходчиво объясняя собеседнику каждое непонятное ему слово! Даже молодые медсестры теперь чаще, чем положено, задерживались в его палате, чтобы продемонстрировать свои стройные ножки, фигурку, немножко пофлиртовать. Он обладал прирожденной грацией движений и, когда его лицо оказывалось в тени, никто не догадался бы, через какой ад прошёл этот человек.
У некоторых людей бывает врожденная способность завоевывать симпатии всех окружающих. Таким человеком был Мишаня, кстати, даже и не подозревавший об этом и некоторых других своих качествах. Тюрьма оказала на него благотворное, воспитательное действие, как воспитывает она всех порядочных людей. Им предоставляется возможность оценить красоту и ценность жизни с точки зрения «птички в клетке».
В какой-то момент Наташа почувствовала, что ревнует Мишаню буквально ко всем на свете, и с той самой минуты она готова была поклясться чем угодно, что уже никогда и никому его не отдаст. Да, пути Провидения поистине неисповедимы. Сердце у бродяги тоже было не из камня, хотя он многое уже успел повидать на своем веку и многому смог научиться. Дуче давно почувствовал непреодолимое влечение к этой молодой и красивой женщине. Он еще не знал, что любит, но твёрдо был уверен в том, что не имеет прав на неё. Ведь он был вором, изгоем того мира, в котором она жила и растила детей. Но как сказать ей об этом, как объяснить всё?
И вновь на помощь ему пришел случай. Уже давно несколько корреспондентов из газет и какого-то ленинградского журнала пытались написать очерк о его поступке, но их не пускали к больному. И вот сразу после старого Нового года запрет, наконец, был снят. Наталья с лечащим врачом хотели сделать сюрприз больному, но всё вышло совсем не так, как они ожидали.
Всё бы ничего, если бы Дуче не разбил аппарат пожилого фотографа с реденькой бородкой, клинышком и замашками лагерного педераста. Когда все разошлись, не понимая в чём дело, Мишаня не выдержал и выложил Наташе всё: кто он и как попал в Питер. Конечно же, Наташа была в шоке от такой откровенности, но удивительно быстро пришла в себя и решила действовать. Она решила воевать и отстаивать жизнь и будущее своего любимого где угодно и перед кем угодно.
Есть женщины, для которых любовь столь же священна, как вера. Отдаваясь влечению сердца, такие женщины предпочитают развалившуюся хижину бедняка царскому дворцу, простого, одетого в лохмотья пастуха они не променяют и на царевича. Всем своим существом они стремятся к одной цели и, если эта цель оказывается недостижимой, они на всю жизнь избирают страдание. Наташа влюбилась, и сердце подсказывало ей, что она любит достойного и благородного человека. Она так и сказала Мишане: «Если бы ты был таким нехорошим, то ни за что бы не прыгнул сломя голову в ледяную прорубь, рискуя своей жизнью, чтобы спасти детей». Это была логика нормального человека и, как всё гениальное, она была проста и точна.
Что мог сказать ей в ответ босяк, который и подниматься-то с кровати не мог без посторонней помощи? Он стал уповать на Бога и, как показало время, это был правильный выбор. Всевышний был на его стороне.
Наташа обещала немедленно поговорить с отцом. В сложившейся ситуации это было единственно верным решением. Забежав на несколько минут домой, чтобы повидаться с матерью и детьми и взять документы, она в тот же день отправилась в Москву. Поистине, если женщина симпатизирует мужчине или тем более любит его, то чувства эти лишь удесятеряются от ощущения опасности, грозящей ему.
20
Разговор с отцом был непростым. Когда он внимательно выслушал доводы и просьбы своей единственной дочери, то был поражён глубиной её чувств к этому, как он уже успел выяснить, вору и беглецу, но виду не подал. Уж что-что, а владеть собой этот человек умел в совершенстве. Наталье было двадцать семь лет, она была уже взрослой женщиной, матерью двоих детей, а он только сейчас заметил это. Он хорошо помнил, как когда-то, вроде не очень давно, соседский мальчишка таскал её портфель из школы, как она встречалась в институте с сыном его лучшего друга, наконец, прекрасно помнил её свадьбу, но всё же что-то он пропустил.
Так редко заставая отца дома, Наташа тосковала по нему и, конечно же, очень его любила, делясь с ним буквально всем, что может доверить девичье сердце отцу. Они были друзьями и генерал думал, что знает своего ребенка, но, оказывается, ошибался. Он даже не подозревал, какая глубина чувств, сколько страсти, огня и женской верности таится в сердце его дочери. Как она полюбила этого бродягу, можно было только диву даваться!
Генерал прекрасно понимал, что сделает теперь всё от него зависящее и поможет спасителю своих внуков обрести свободу и новое имя. В конце концов, это был его долг. Но по профессиональной привычке всё же решил ещё раз просчитать свои действия и не спешить. После затянувшейся паузы он задал ей лишь один вопрос:
– Откуда тебе известны такие подробности из его жизни, Наташа?
– Он сам мне обо всём рассказал, – не отводя взгляда в сторону, ответила она отцу.
Сомнений больше быть не могло – любовь была взаимной. Иначе, зачем ему было допускать незнакомую ему, по сути, женщину в своё прошлое, в своё сердце? Генерал уже знал всю подноготную Дуче и прекрасно понимал, что такие люди и в огне не горят, и в воде не тонут. Лишь любовь может растопить их и превратить в ничто.
Он опять задумался, но ненадолго. Ему всё больше и больше нравился этот молодой человек, хотя он видел его всего лишь раз в жизни, да и то лежащим в палате без сознания. Ход его мыслей прервал пронзительный телефонный звонок.
– На столе лежит бланк с вопросами. Возьми его и поезжай домой. Пусть твой благоверный ответит на них, только учти, мне нужна абсолютная правда. Отдай заполненный бланк матери, и ждите, – сказал генерал, зажав на секунду трубку телефонного аппарата огромной ладонью, а затем, отвернувшись, начал разговор с невидимым собеседником на английском языке.
Наташа знала своего отца и его работу и поняла, что на сегодня беседа закончена. Утром она вновь была в больнице и рассказала Мишане о своей поездке и разговоре с отцом. Что ж, делать было нечего и Муссолини, уже вдвоём с любимой, стал ждать, как же ляжет карта.
Ждать пришлось мучительно долго. После того телефонного звонка генерал срочно уехал куда-то в командировку и лишь через месяц смог выбраться в Ленинград. Один Бог знает, что они только не передумали, ожидая его. Мишаня к тому времени шёл на поправку и через несколько дней его обещали выписать из больницы.
Он уже несколько раз побывал у Наташи в гостях, поближе познакомился с её матерью и даже умудрился понравиться ей. Она взяла отпуск за свой счёт и оставалась с внуками. Мать уже знала, какого зятя уготовила ей судьба, но ничего не могла поделать с собой: слишком уж велика была любовь к единственной дочери. Да и парень, говоря откровенно, тоже нравился всё больше и больше. Ну а про детей и говорить было нечего. Они сразу же полюбили своего спасителя так, будто он и вправду был их родным отцом.
Разговор с генералом был деловым и недолгим. Такие люди как он не привыкли к продолжительным беседам, да и урка был не словоохотлив. Для начала генерал обрадовал Мишаню, показав ему копию документа, из которого следовало, что вор по кличке Муссолини при попытке к побегу был застрелен конвойным таким-то. К документу прилагалась фотография неизвестного утопленника, акт судебно-медицинской экспертизы и еще какие-то записи.
– Так что Слатова Михаила Анатольевича больше на этом свете не существует, – проговорил генерал, протягивая Мишане потертую метрику. – Теперь вас зовут Кузьмин Анатолий Николаевич. Так будет привычней, ведь это имя и отчество вашего отца, не так ли? Что касается паспорта, то он будет готов только после операции…
– Какой операции? – не удержавшись, спросила отца Наташа.
– Пластической, – коротко ответил ей отец. – Со столь яркой отметиной на лице он не сможет появляться на улице. От него на версту, прошу прощения, прёт вором. Послезавтра за вами заедут мои люди и сопроводят вас в один из филиалов нашей больницы. От вас требуется лишь одно – не открывать свой рот. Но, думаю, это требование вас не обременит. Кстати, о вашем отце… Слатов Анатолий Николаевич геройски погиб под Брестом и похоронен в братской могиле вместе с остальными защитниками крепости. Думаю, вам, молодой человек, не следует об этом забывать.
21
Операция прошла удачно. От былого шрама не осталось и следа. Теперь Мишаня в полной мере превратился в Анатолия, сменив вместе с документами и внешность. Его заикание со временем тоже исчезло.
За несколько месяцев Анатолий превратился в прилежного ученика и заботливого отца семейства. Наталья порой диву давалась, как у него всё получалось. Образование у босяка было ниже уровня церковноприходской школы, ведь учился-то он урывками: то в госпитале после ранения, то в детских домах и приёмниках-распределителях, так что мог лишь читать да писать. Но это не мешало ему готовиться к поступлению в институт. Он оказался усидчивым и настырным учеником. Конечно же, ему помогала любимая женщина.
Благодаря неожиданной удаче, иной раз выпадающей на долю тех, кого долгое время угнетала жестокая судьба, Дуче мог достигнуть невиданных успехов в жизни. Он прекрасно понимал это, поэтому и пытался, как мог, не упустить свой шанс.
Расклад после отъезда генерала был такой. По протекции будущей тёщи в сентябре Анатолий должен был поступить в институт советской торговли в Москве, где у неё были крутые завязки. Всё это время они с Натальей должны были жить врозь – он в Москве, она в Ленинграде, и лишь по окончании института могли пожениться.
Решение отца не подлежало обсуждению. А пока двое влюбленных жили так, как будто у них была давнишняя дружная семья. Время пролетело незаметно, и Анатолий покинул гостеприимный Ленинград, избрав на будущее девиз: «Побеждай терпением».
Если описывать всё, с чем пришлось ему столкнуться за время учебы в Москве, наверное, получилась бы целая книга, но это была бы уже другая история. Французы говорят, что счастье приходит к тому, кто знает, как его ждать. Они расписались сразу после окончания Анатолием института. Но за время его учебы у них родилось двое детей – тоже мальчик и девочка. Все четверо называли его папой.
Несколько раз они были в Бресте. Как потом вспоминала Наталья Сергеевна, это были единственные моменты в их жизни, когда она видела в глазах мужа слёзы.
Но если детёныша тигра лишить мяса и кормить молоком, он всё равно останется хищником. Как бы ни ласкал его, приручая, хозяин, однажды он выпустит когти и оскалит пасть. А если тигр показывает зубы, не стоит принимать это за улыбку.
Шли годы. Наташа с Мишаней любили друг друга также крепко, как и в первые дни их знакомства, ну а дети, чувствуя родительское взаимопонимание, были без ума от них обоих. Со временем они перебрались в Москву, поближе к родителям, которые уже давно были на пенсии. Наташа работала инструктором в ЦК ВЛКСМ, имела огромный авторитет и была в фаворе власти имущих. Что касается её мужа, то и он был под стать своей супруге. Он вступил в партию и стал директором одного из крупных предприятий общепита. Их дети учились в самых престижных институтах Москвы и, конечно же, не были обделены вниманием ни со стороны родителей, ни со стороны бабушки и дедушки.
Казалось, так будет всегда: крепкая дружная семья, финансовое благополучие, положение в обществе, любящие дети. Что могло помешать их счастью в будущем? Это сложный вопрос, на который, кроме Всевышнего, некому ответить.
В то лето они с Наташей выбрались отдохнуть в Сочи. Годом ранее у неё умер отец, думая, что уносит в могилу тайну их семьи, и мама была на грани нервного срыва. Но, слава Богу, всё в этом мире проходит, прошла и эта боль и горечь утраты. Они уже не первый год проводили свой отпуск именно в Сочи, всегда всей семьей, в шикарном ведомственном пансионате. Но на этот раз было всё по-другому – они были вдвоем и ещё в дороге решили отдохнуть дикарями где-нибудь на скалистом берегу Чёрного моря, вдали от цивилизации и мирской суеты.
Пока Анатолий Николаевич разговаривал на вокзале по телефону с приятелем, который прибыл в Сочи чуть раньше и остановился в одной из гостиниц курорта, Наташа подошла к группе стоящих неподалеку людей. Это были пожилые хозяева домов, расположенных у берега моря. И надо же было ей в тот момент изо всей карточной колоды вытащить именно пикового туза! Из шести человек, предлагавших свои квартиры приезжим, она выбрала низенького лысого старикашку в очках и выцветшей от солнца белой кепчонке. Дом, как они и хотели, находился за городом, в безлюдном и тихом месте, и она тут же договорилась о цене.
22
В нашей жизни есть вещи, которые невозможно планировать. А чрезмерная самоуверенность, говорят, ведёт к несчастью, поскольку делает нас беспечными. Прошло ровно три недели с тех пор, как Анатолий Николаевич и Наталья Сергеевна обосновались в небольшом домике у самого берега, откуда открывался прекрасный вид на море. Они любовались кораблями, стоявшими на рейде, чайками, летавшими над поверхностью воды и время от времени нырявшими за добычей, огненно-красным солнцем на закате и мерцающими огнями в ночи. Двор, который они арендовали, утопал в зелени цветов, фруктовых деревьев и винограда. Но росла в этом Эдеме, в глубине двора, одинокая осина. Почти высохшая, она ждала своего часа, тихо шелестя листвой и доживая свой долгий век…
С утра они загорали и плескались в море, днём отдыхали в разных комнатах, вечером вновь плавали и лишь ночи посвящали друг другу. Хозяин был одинок и жил неподалеку, у соседки во дворе. Первое время, довольный щедрой платой, он частенько наведывался к ним, явно подчеркивая свое расположение к гостям, угощал их вином, фруктами и вареньем, рассказывал разные истории, связанные с этими местами, а тут вдруг исчез куда-то.
Однажды днём, когда семейная пара отдыхала, расположившись в шезлонгах во дворе дома, в тени разросшегося виноградника, к ним пожаловали незваные гости. Они пригласили Анатолия Николаевича проехать с ними в местное отделение ОБХСС – якобы для выяснения каких-то обстоятельств, связанных с его профессиональной деятельностью. Получили, дескать, циркуляр из Москвы и обязаны были его проверить. Успокоив супругу, они вежливо попрощались и уехали.
Но Наталья Сергеевна сразу почувствовала недоброе. Уж кто-кто, а она, дочь покойного генерала КГБ, знала лучше, чем кто-либо, как красиво и убедительно могут разговаривать и вести себя представители этого в высшей степени загадочного ведомства, а в том, что их посетили именно гэбисты, у неё сомнений не было.
Через несколько часов ожидания она отправилась на такси в районное отделение ОБХСС, но там и понятия не имели о людях, которые приезжали к ним. Догадка стала подтверждаться, когда она позвонила в Москву. Младшая дочь сказала, что несколько дней назад приходили двое сослуживцев отца, спрашивали его, а узнав, что он с женой отдыхает в Сочи, ушли, извинившись.
Вечером Наталья Сергеевна была уже в адлерском аэропорту, но вылететь в Москву ей удалось лишь к утру, да и то после звонка в столицу. На следующий после прилета день её вызвали на Лубянку, допросили, и через несколько часов обоих отпустили, но чего стоили эти несколько суток ожидания и ложь во имя любимого, знала лишь она одна…
Неправда, что женщины не умеют хранить тайны. Если они любят, то будут молчать до могилы, даже вопреки здравому смыслу. В этом их слабость и их великая сила! Да, за прошлое рано или поздно приходиться платить, только вот плата у каждого бывает разной.
Дети, которые уже давно выросли, сами стали папами и мамами и жили, заняв целый этаж высотки в одном из спальных районов Москвы, конечно же, ничего не знали о прошлом отца. Они думали, что у него какие-то неприятности на работе.
В некогда дружной семье произошёл маленький раскол. В то время как отец с матерью, уединившись в своей комнате, часами обсуждали свои проблемы, дети думали, как и чем им помочь, а бабушка демонстративно не вмешивалась. После того как Наталья Сергеевна приехала из отпуска, прошло около месяца, и тут муж вновь исчез из дома, но уже по своей собственной инициативе, лишь оставив ей записку: «Не беспокойся, я просто забыл кое-что сделать, скоро буду. Анатолий».
Хорошо зная любимого человека, с которым прожила много лет, она прекрасно понимала, что он мог забыть что-то сделать в Сочи, но не стала суетиться и паниковать, здраво рассуждая, что, чему суждено случиться, того не миновать.
Возвратился Анатолий Николаевич на следующий день в хорошем настроении, будто скинул камень с плеч и сразу же ушёл на службу. Но сердце женщины трудно обмануть, оно предвещало беду – и не ошиблось. Через неделю после приезда из Сочи, 13 июля 1995 года, в канун дня рождения Натальи Сергеевны, Кузьмина Анатолия Николаевича взяли под стражу прямо на работе, обвинив по 102-й статье – в умышленном убийстве с особой жестокостью.
Как раз тогда я и встретил в Бутырском централе бывшего уркагана по кличке Муссолини.
Эпилог
Тщетно пытаемся мы шлифовать тяжёлую неотёсанную глыбу – нашу жизнь. Чёрная прожилка злого рока неизменно проступает на её поверхности. Читатель, думаю, догадался, что хозяином того уютного домика на берегу моря был ни кто иной, как бывший кум – капитан Еремеев, садист из колымского острога, так невзлюбивший в своё время Муссолини. Паскуда сразу узнал бывшего вора, но поначалу не мог поверить своим глазам и не стал спешить с окончательными выводами. Часами, развлекая семейную пару разными рассказами, угощая их сладостями и фруктами, он всё это время терпеливо ждал, когда же, наконец, Дуче допустит какую-нибудь ошибку. И дождался-таки, гад.
На любого заключенного ГУЛАГа во все времена при заведении, как уголовного, так и лагерного дела описывались особые приметы. Что касается урок и лиц, придерживавшихся воровских идей, то к ним всё эти циркуляры применялись ещё строже, чем к остальным заключённым. Эти особые приметы в первую очередь обязана была знать «кумчасть» и, надо отдать им должное, эти люди добросовестно исполняли свои обязанности. А некоторые, вроде капитана Еремеева, с особым рвением. Хотя с годами у Муссолини и зажили раны, нанесённые в детстве войной, всё же иногда, хоть и нечасто, он по привычке непроизвольно резко вздергивал головой в сторону и после этого несколько секунд не мог произнести ни единого слова.
Этой однажды замеченной особенности капитану хватило, чтобы убедиться в том, что профессиональная память его не подвела. В тот же день бывший кум обратился в местное отделение ФСБ с заявлением. Игнорировать такую депешу бывшего полковника внутренней службы там, конечно же, не могли. Но, проверив подозреваемого, старого служаку попросили больше их не беспокоить. Не унявшись и озверев ещё больше, словно почуяв запах крови, мусор подался в Первопрестольную. Ну а на Лубянке таких посетителей привечают всегда.
Проверив все данные и убедившись, что легавый прав, в тот же день Дуче доставили самолетом в Москву, в один из отделов ФСБ. Он не стал ничего отрицать и рассказал следователям почти всё, как есть.
Будучи человеком дальновидным и умным, он всегда понимал, что его прошлое может всплыть в любой момент. За себя он, в общем-то, не волновался, но переживал за жену, хотя они с ней заранее хорошо подготовились к возможному «запалу».
Казалось, всё обошлось как нельзя лучше. Гэбисты, надо отдать им должное, отнеслись к бывшему вору с пониманием. Учитывая срок давности, его военное детство, безукоризненное поведение на протяжении многих лет, отличную работу на высоких должностях, правительственные награды, хорошую семью и геройски погибшего отца, они не стали чинить ни ему, ни его жене никаких препятствий, хотя и догадались сразу, что она знала обо всём.
А что же сам Мишаня Муссолини – старый уркаган, так красиво засухарившийся среди фраеров и машек? В его жилах проснулась вдруг дремавшая несколько десятков лет дерзкая кровь жигана, который никогда не прощает удара, нанесённого непримиримым врагом, тем более если этот враг – мент.
Знаете, как слон мстит своему извечному и беспощадному врагу – крокодилу? Он хватает его хоботом, уносит в уединенное место и крепко-накрепко вонзает его тело между двумя половинками ствола треснувшего дерева. Потом он спокойно уходит, оставляя своего врага медленно умирать.
Бывший босяк поступил немного иначе, поняв, что не сможет спокойно прожить остаток жизни, если не уничтожит этого змея, яд которого, несмотря на его дряхлый возраст, так и не утратил своей губительной силы.
Способна ли человеческая натура измениться коренным образом, до основания? Может ли человек, которого Бог создал добрым, стать злым по вине другого человека? Может ли душа совершенно ожесточиться, если судьба человека оказалась к нему безжалостной? Может ли сердце под гнетом неизбывного горя стать дурным и уродливым, заболев неизлечимым недугом, подобно тому, как искривляется позвоночный столб под низким, давящим сводом? Нет ли в душе любого человека той первоначальной искры, той божественной основы, которая не подвержена тлению в этом мире и бессмертна в мире ином и которую добро может развить, разжечь, воспламенить и превратить в лучезарное сияние, а зло никогда не может погасить до конца? Кто его знает… Думаю, что всё в этой области, как и во всём остальном, подвластно Всевышнему, и только Ему.
Прежде чем этот старый садист-отставник Еремеев оказался в петле на осине, Дуче пытал бывшего лагерного кума с яростной жестокостью и впервые в жизни наслаждался мучениями человеческого существа. Мишаню одолел припадок смертельной ненависти, и он напомнил этой мрази всех тех бедолаг – воров, мужиков, хилых и немощных интеллигентов, которые по его доносам уже полвека покоились на безымянных кладбищах под сопками на Колыме. И, вору по крови, ему не было стыдно за свой фраерский поступок, ибо на этой падали были сотни, если не тысячи человеческих жизней.
Среди лунной сочинской ночи, когда на чёрном бархатном небосводе блещут серебряные звезды, а у берега Чёрного моря бьет ласковый тёплый прибой, Дуче вытолкал истерзанного, с поломанным носом и пальцами рук и ног легавого во двор и приказал тому лезть самому в петлю. Убить его – уже не значило наказать, а, скорее, избавить от мук и страданий. Кум не противился, молча выполняя приказ уркагана. И пока эта мразь лезла на заранее приготовленный эшафот и просовывала свою лысую башку в петлю, старый урка продолжал кайфовать от его мук. Прежде чем выбить из-под ног этой падали опору, он сказал ему напоследок: «Я не Иисус и не прощаю тебя ни сейчас, когда от смерти тебя отделяет лишь мгновение, ни когда ты будешь гнить на этом суку, пока тебя не снимут и не сожгут, а пепел твой развеют по ветру, потому что ты никому не нужен. Разве в природе могла найтись самка для такого убожества? Ты всю свою жизнь ненавидел людей, стараясь приносить им одни только муки и страдания, страх и смерть, поэтому и подохнуть ты должен соответственно. Я благодарен Всевышнему, который избрал меня орудием Своего возмездия тебе. Так сдохни же, мразь, и будь проклят ты и тебе подобные во веки веков. Аминь!»
Прочитав приговор, вынесенный от имени многих сотен тысяч замученных в колымских дебрях заключенных, урка выбил из-под ног этого гада опору.
Ночь подходила к концу, звезды тускнели; наступил час предутренней прохлады. Луна спустилась к горизонту и, перед тем как окунуться в море, залила перламутром всю его поверхность. И даже издали, голосуя на дороге, ведущей в аэропорт, старый босяк всё ещё продолжал смотреть вдаль – туда, где на толстом, но уже почти сгнившем стволе старой осины висел труп. Всё живое посылается в этот мир с определенной целью, вот и осина дождалась своего часа.
Сноски к рассказу «Муссолини»
Актировка, актировку – освобождение из мест лишения свободы в связи с неизлечимой болезнью, когда жить остается совсем немного. Например, в связи с заболеванием раком и т. п.
Бандяк с копейкой – несколько купюр, очень туго свернутых, а затем запаянных со всех сторон в целлофан.
Бедолаге или истинному босяку – мужику по-жизни или арестанту, живущему строго по воровским законам.
Бил пролетку по хате – ходил в разные стороны в камере.
Блатарка – самая «козырная» из трех воровских мастей в женском преступном мире. Изначально мастей было три: воровайка, жучка и блатарка или багдадка – нечто сродни вору в законе у мужчин. Для блатарок-багдадок существовал лишь один запрет – участвовать в воровских сходках. Название двух мастей – «багдадка» и «жучка» просуществовали вплоть до конца 1960-х – начала 1970-х годов. Затем на место «багдадки» пришла «многоходка», а «жучку» сменила «пацанка». Лишь название одной масти – «воровайка» существует и сегодня.
Блатаря – вора в законе.
Большой или малый спец – тюремные корпуса в СИЗО № 2 города Москвы, где содержатся особо опасные рецидивисты и воры в законе.
Боксик-одиночка – небольшая тюремная камера, рассчитанная на одного человека, предназначенная для ожидания следователя, адвоката, выезда на суд или на место преступления.
Босота, босоты – представители преступного мира, которые не только придерживаются воровских традиций, но и живут по их канонам.
Брюлик, брюлика – бриллиант.
Бутырка, Бутырский централ – СИЗО № 2 города Москвы.
Варганку – интригу.
Вертухаи – надзиратели.
Вмазались – употребили внутривенные наркотики.
Вор в законе, воров в законе – высшая ступень в иерархической лестнице преступного мира.
Воровских сходняков – съезда воров в законе, созываемых для решения важных вопросов или для разрешения возникших разногласий.
Ворами старой формации или «нэпманскими ворами» – ворами в законе, которые жили законами принятыми в самом начале их зарождения.
Воры-«четверташники» – воры, у которых срок заключения был двадцать пять лет.
В прожарку – издевательства и пытки, применяемые администрацией ИУ над осужденными, придерживающимися воровского образа жизни.
Вытащил из правого косяка шкар – вытащил из правого кармана брюк.
Выцепил – достал.
Гарная мануфта – хорошая, качественная вещь.
Гнидники – мужское нижнее белье: трусы, майка, кальсоны.
Гомонец – небольшой женский кошелек.
Гэбэшную тюрьму – тюрьма КГБ города Москвы Лефортово.
Делюга – уголовное дело.
Дикашка, дикашку – десять.
Дубак – сторож.
Жиганский гашник – заднепроходное отверстие толстой кишки.
Жиганского чифирку – качественно заваренного крепкого чаю.
Загасить – водворить под стражу.
Замутить – что-то предпринять.
Засухарившийся – выдававший себя не за того, кто есть на самом деле.
Зенки – глаза.
Зэков – заключенных.
Именитых урок – известных воров в законе.
Кабур – небольшое отверстие, проделанное в стене, в полу или в потолке камеры. Пробивают кабуры черенком от алюминиевой ложки – единственным доступным в тюремных условиях инструментом. При обнаружении кабура надзиратели приводят рабочих, которые тут же заделывают отверстие цементом, но через какое-то время оно появляется вновь.
Казематах и равелинах – разного рода тюрьмах и пересылках.
Как масть ляжет – как повезет.
Карцер – камера штрафного изолятора.
Килешовка – перевод из одного помещения в другое. Как правило, этими помещениями являются тюремные камеры, корпуса и т. д.
Кипеш, кипеша – бунт, шум, волнение, скандал.
Козырные легавые – старший офицерский состав того или иного отдела МВД или ИУ.
Колымчане – зеки, отсидевшие на Колыме большой срок.
Колымский шрифт – своеобразная «азбука Морзе» тюремного образца, изобретенная политическими заключенными на Колыме еще в начале 1930-х годов. Она предназначалась для перестукивания с соседними камерами по водопроводным и канализационным трубам, через стены, полы и потолки.
Корешу – другу.
Косить – притворяться, симулировать.
Крадуны – преступники, занимающиеся исключительно воровством и строго придерживающиеся воровских законов. Кандидаты в воры в законе.
Крещатика – центральной тюрьмы города Киева.
Кругаль – пол-литровая кружка, которую каторжане приспосабливают для варки чифира. Как правило, алюминиевая.
Ксива – 1) Документ, удостоверяющий личность. Например, паспорт, военный билет, водительские права и т. п. Слова пришло из иврита, где ксива – документ, нечто написанное. Слова повсеместно употреблялись с дореволюционных времен вплоть до середины XX века, когда было заменено словом «корочки» «Я ехал, уверенный в том, что ксива моя – в порядке». «Целых полгода после освобождения из тюрьмы мне пришлось получать ксивы». 2) Письмо, записка.
Кумовья – оперативные работники в ИУ.
Кумчасть – оперативная часть в ИУ.
Лагерь – ИУ.
Легавыми – сотрудниками милиции или работниками ИУ.
Лепила, лепилой – медицинский сотрудник (например, медбрат) в местах лишения свободы.
Лефортово – тюрьма КГБ в Москве.
Ломки – издевательства и пытки, практиковавшиеся администрацией красных крытых в отношении осужденных, которые придерживались воровского образа жизни. Обычно это происходило следующим образом. Сначала босоту сажали на фунт на полгода или даже больше, чтобы ослабить организм и сокрушить волю к сопротивлению и держали в одиночках или двойниках, подальше от собратьев. Воров подвешивали за руки и били палками по пяткам, до тех пор, пока не уставали сами, а зимой загоняли в камеры с отрицательной температурой в одном нижнем белье. В результате всех этих истязаний и произошел раскол. Кто-то не выдержал мучений и ушел к б. дям, кто-то сцепил зубы и остался вором. В 1980-х годах на советских зонах наступает новый этап ломки воровских традиций. Ужесточается режим содержания, создаются различные организации заключенных, что, разумеется, вносит раскол и определенную напряженность в среду арестантов, ударными темпами строятся локалки. Ко всем этим мероприятиям привлекались помощники администрации из числа заключенных. Естественно, после того, как они надевали лантух, пути назад таким зекам уже не было.
Лопатник, лопатника – большой, увесистый мужской бумажник с множествами отделов.
Лох – простодушный, наивный, доверчивый человек. Деревенский житель, приехавший в город из далекой глубинки. Потенциальный потерпевший.
Мазать лоб зеленкой – приговорить к расстрелу.
Мануфта – верхняя одежда: костюм, пальто, плащ и т. д.
Марьяжили – крутились рядом, стараясь что-то выведать, высмотреть.
Матросской Тишине – СИЗО № 1 гор. Москвы.
Малява, малявка, маляву – тонко скрученная записка (не толще сигареты), обмотанная целлофаном и аккуратно запаянная со всех сторон, чтобы предохранить от намокания. Как правило, в малявах заключенные пишут серьезные вещи. Например, обсуждают с подельниками перспективы общего уголовного дела и тактику поведения, сообщают о крюковом мусоре на продоле, извещают о греве, который должен откуда-либо поступить и т. д.
Мразь – подлец, негодяй.
Марцифали – чего-нибудь.
Медвежатник – вор, который специализируется по вскрытию сейфов.
Менты, мусор, мусора – то же, что и легавые.
Мусоров в «телятнике» или в «Столыпине» – солдатский конвой, который сопровождает заключенных в этапе, в вагонзаках.
Мусорскому вязалову – аресту.
На бану – на вокзале.
Навести коны с босотой – навести справки о том, где находятся кто-либо из воров в законе, положенцев или уважаемых в преступном мире бродяг. Одно из негласных правил воровского мира гласит: «бродяга обязан знать, где в данный момент находится тот или иной вор в законе, чтобы ответить находившимся долгое время под крышей. Это сплачивает воровской мир.
Нары – спальные места в камерах ИВС, ШИЗО и ПКТ, покрытые деревянным настилом высотой 50–70 см. Что касается камер СИЗО, пересылок и транзиток, то почти все оборудованы шконками, в основном, двухъярусными.
На табунаре «на положении» – был положенцем на туберкулезном корпусе тюрьмы.
На хвосте – следить, преследовать.
На седьмой сборке – одна из самых больших камер сборки в Бутырке.
От простого дубака – от простого надзирателя.
Пару напасов – несколько глотков или затяжек. Смотря о чем идет речь.
Парились урки – отбывали срок наказания воры в законе.
Парчаку-режимнику – негодяю-начальнику режимной части ИУ.
Пацан – осужденный, занимающий самое высокое положение в сообществе несовершеннолетних заключенных, настоящий, полностью сформировавшийся преступник, при соответствующем поведении имеющий все шансы стать со временем вором в законе. Эта категория преступников возникла во времена, когда массы беспризорников сколачивались в банды, возглавляемые матерыми уголовниками.
Пинкертонить – следить.
Питерских Крестов – тюрьма в Санкт-Петербурге.
Подельничек – соучастник преступления, проходящие по одному уголовному делу.
Подход, подходы – после сучьих войн, ломок и подписок, когда воровское братство раскололось на два противоборствовавших лагеря, урки постановили: вором отныне может считаться только тот, кого признают другие воры, а не тот, кто, как некогда, объявлял таковым сам себя. В широких кругах эта процедура стала называться коронацией, а среди бродяг – подходом. Тот, кто хотел войти в семью, должен был задолго до сходняка поставить воров в известность о своем желании. Затем, по его просьбе, кто-то из именитых урок представлял его на сходке, а собравшиеся воры решали, принимать его или повременить. Если хотя бы один из присутствовавших оказывался по каким-то объективным причинам против, претенденту необходимо было впоследствии доказать этому вору свою состоятельность и искренность. Лишь только после этого он мог войти в семью.
Покоцанного – побитого.
Положенцем – осужденным, который исполняет в местах лишения свободы функции вора в законе. Такой человек должен обладать всеми качествами вора и не быть им лишь в силу своего возраста. Дело в том, что бродяги старше сорока лет редко поднимают свой вопрос, но их авторитет, как правило, соизмерим с воровским.
Попкарей – надзирателей.
Прессхата – камера в СИЗО или в крытке, в которой содержатся осужденные, грубо нарушившие законы тюремного бытия и, как следствие, вынужденные исполнять незаконные требования администрации, в частности, вынуждать сокамерников писать явки с повинной. Вот лишь один из используемых ими способов. Пойманную крысу сажают в банку и не кормят неделю. Как только очередной «подопытный» заключенный отказывается писать явку с повинной, эту банку привязывают к его голой ягодице. Вопли истязаемого заглушаются подушкой или одеялом. Спустя несколько секунд заключенный готов не только подписать все, что прикажут, но и кого угодно подвести под монастырь. Первые прессхаты появились во времена сталинского наркома НКВД Н. И. Ежова для того, чтобы лохмачи могли физически воздействовать на политических арестантов, требуя подписать сфабрикованные показания.
Пробить на вшивость – всевозможными способами, на которые так богат мир арестантов, проверить характер человека, его человеческую сущность (добрый, жадный, злой, отважный и т. д.) Как правило, это происходит на пересылке. Особенно пристальному вниманию подвергается люди, которые назвались бродягами и приговорены к отбытию наказания на общем или усиленном режиме.
Пробить на фраерский расклад – проверить, разузнать, поинтересоваться, не был ли человек замечен в обществе недостойных и не состоял ли он в организации, порочащей воровские устои, например, в народной дружине или в комсомоле. Это, прежде всего, касается арестантов, которые называют себя бродягами, но их никто не знает.
Прокоцать ксивы – проверить документы.
Промацал – прощупал.
Попкарь-старшина – старший надзиратель.
Продол – тюремный коридор.
Прохоря – сапоги.
Раскурковался – достал что-либо из потайного места.
Раствор черняшки – наркотическая инъекция.
Сборка – предкарантинная камера. Такие камеры бывают двух видов. Первые предназначены для водворения прибывших с этапа и ИВС, для того, чтобы до вечера провести дактилоскопирование и другие процедуры, а ближе к отбою водворить в карантин. Во вторые помещают заключенных СИЗО, которые прибыли из суда или со следственного эксперимента с тем, чтобы к вечеру возвратить их в камеры, где они содержались прежде.
Сделать ноги – убежать.
Спалить, спалиться, спалился – попасться во время свершения преступления.
Сплели ему лапти – поймали с поличным на месте преступления.
Сродни десяти Крезам – очень богатый.
Стилет – определенный формы холодное оружие.
Стиры – карты, изготовленные в местах лишения свободы. Чаще всего это происходит в крытых и ПКТ, так как в зоне всегда есть возможность переправить с воли фабричные карты. Называются они так потому, что шулера часто стирали символы на картах. Представляют они собой аккуратно нарезанные листы бумаги, склеенные в четыре, иногда и в пять слоев, все зависит от ее толщины. Как правило, это простая, то есть, не лощеная бумага с продольным слоем, на которую наносится клейстер. Затем следует просушка, прессовка, обрезание неровных концов, печатание, заточка и заправка. Весь процесс занимает не менее суток.
Сухарившаяся среди бродяг – выдававшая себя не за того, кто есть на самом деле среди людей воровского толка.
Схлестнуться с ворами – встретиться с ворами.
Тусоваться по хате – ходить по камере в разные стороны.
Ужалился – ввести наркотическую инъекцию.
Урка, уркам – вор в законе.
Уркагана – вора в законе.
Фарт – везение.
Фартовый – везучий.
Фортель – неожиданный, неординарный поступок.
Фраер – Если исходить из воровских понятий, то это любые люди, не являющиеся ворами в законе. В ГУЛАГе фрайером или фрайерюгой называли простачка, лопуха. Теперь так называют потерпевших и, вообще, наивных и доверчивых людей, непрактичных, а иногда и ни на что не способных. Кроме того, фрайер – это рядовой уголовник. Существуют и связанные с этим словом понятия: вечный фрайер – слабоумный человек; дикий фрайер – человек без каких бы то ни было убеждений, железный фрайер – трактор, экскаватор и тому подобная техника.
Фраеров и машек – потерпевших обеих полов.
Хмырь – спившийся, опустившийся преступник.
Хозобслуга – осужденные к небольшим срокам заключения, не имеющие взысканий и не придерживающиеся воровских законов, а потому и занимающиеся в тюрьме хозяйственными работами.
Цапки – руки.
Чалился в 164-й хате – отбывал срок заключения в 164-й камере.
Чёрных воронов – автомобилей, которые перевозят заключенных.
Чифирь – чрезвычайно крепко заваренный чай. Обычно в трехсотграммовую кружку с водой засыпают пятидесятиграммовую пачку.
Шёл по жизни правильно – своим поведением и образом жизни стремился войти в семью воров в законе.
Шкары – брюки.
Шконки, шконаря – спальное место в местах лишения свободы.
Шмон, шмонать, шмонают – обыск. Этот термин пришёл от узников Одесских тюрем начала прошлого столетия, где каждый 8-й день проводился обыск и, где в основном, сидели евреи и чтоб не могла понять охрана, они говорили на своём, т. е. ШМОНЕ – цифра восемь.
Шныряли – искали.
Шнифт – 1) глаз. 2) небольшое отверстие в двери камеры для просмотра надзирателями происходящего в камере.
Щекотнулся, щекотнулись – почувствовал.
Этапированными – отправленными на этап.
Не было бы счастья, так несчастье помогло [Из цикла «Рассказы о Колыме»]
I
Весной этого года, будучи по делам в Москве, я был приглашен на день рождения к знатной и весьма загадочной особе. Хотя, если бы не был в тот момент в златоглавой, всё равно бы был приглашен. Так уж легла в тот раз карта.
Профессору, Елизавете Петровне…, известному во всем мире врачу-гинекологу, в тот день исполнилось 80 лет. Как только я увидел впервые эту почтенную даму, она почему-то непроизвольно напомнила мне картины Ренуара, которые я видел в Лувре – отливающие благородной, серебристой массой высоко зачесанные назад волосы, собранные в жгут. Прозрачно-голубые глаза, а крохотные морщинки в их уголках только придавали ласковость и нежность её улыбке. Она не нуждалась в косметике и, исходя из моих дальнейших наблюдений, ею почти не пользовалась, хотя дамы её возраста частенько этим злоупотребляли. Лицо Елизаветы Петровны всё ещё хранило свежесть и мягкие тона молодости. И здесь не было никакой тайны – ибо оно всегда светилось благородством и добротой, перед которыми любой парфюм – ничто.
Сказать, что это было шикарное торжество, связанное с юбилеем знаменитого человека, значит, ничего не сказать. Это был пир, в буквальном смысле этого слова. Сама по себе юбилярша была очень умна, скромна и прекрасно воспитана. Вела аскетический образ жизни, прекрасно ладила с людьми и, конечно же, была противницей подобных мероприятий, тем более, когда они касались её лично. Но именно на таком пышном мероприятии и настояли те, кто организовал его, хоть в нём и чувствовалась некоторая доля аскетизма. Шоу, на котором путешествие в прошлое плавно переходило в наши дни, дополнялось тостами седовласых старцев. Даже по одному их виду, не говоря уже о речи, от которой порой могло бросить в дрожь любого неоперившегося юнца, чувствовалось, что повидали на своем веку они не мало. И это слишком мягко сказано. Уж те, кто в теме, знают, о чём пишут. Ну а спонсорами этого потрясающего торжества были благодарные мужья пациенток, которые после долгих лет отчаяния, обретали своих наследников и наследниц. Всю полноту этого счастья, наверное, могут почувствовать только те, кто прошёл этот долгий путь вместе со своей половиной. И всё благодаря гениальным способностям юбилярши, которые ей любезно предоставил Всевышний.
Описывать собравшеюся публику, думаю, нет смысла, ибо некоторые из читателей видят их на экранах телевизора, наверное, чаще своих собственных жён. Ну и естественно, место для торжества было выбрано с подобающим вкусом – «Киноплов».
Само приглашение к столь известному и уважаемому человеку, с самого начала было окутано какой-то тайной, а потому не давало расслабиться, хотя, тюрьма, в купе с образом жизни и воровской профессией, научили меня всегда быть собранным и внимательным. Особенно это касалось именно подобного рода мероприятий, которыми, стоит отметить, в последние годы я не был обделен.
Когда мне стало известно, что юбилярша всемирно известный врач, я сразу подумал, что приглашение связано с моей покойной матерью. Они обе были врачами, приблизительно одного возраста. Наверное, воевали вместе. Возможно, их сталкивала совместная работа. Моя мать беременным после нескольких сеансов массажа – в утробе матери переворачивала ребенка, который находился в неправильном положении. А Елизавета Петровна как раз и была гинекологом. И это по её части. Я с детства привык видеть вокруг себя людей в белых халатах, а посему особо не заморачивался на счёт приглашения.
Об имениннице, на тот момент, я, можно сказать, не знал ничего, уверенный в том, что мне это и не нужно. Правда, краем уха услышал да и то непосредственно на банкете, что она врач от Бога, аскет, но, самое главное, что меня насторожило, человек, который терпеть не может рассказов о преступном мире и всего того, что с ним связано. А тут на тебе, самый, что ни на есть, антипод получил не просто персональное приглашение, но и был предупреждён о том, что юбиляршу сильно обидит его отказ или причина такового. Так что об игнорировании не могло быть и речи. Тем более, что я уже и сам был заинтригован. Ну что ж, поживём – увидим, подумал я, как обычно, когда попадал в подобные ситуации. Да и развязку этого странного приглашения, судя по всему, оставалось ждать уже совсем не долго.
Одним из последних присутствующих на торжестве, который решил покинуть мероприятия, был я. Но именинница, как я уже успел давно заметить боковым зрением, которое у карманного вора включается в самых исключительных случаях, тайком следила за мной. Так что, когда я подошел, что бы проститься, она бархатным голосом, но тоном, не терпящим возражений, попросила меня остаться.
Лишь далеко за полночь мы оказались в ее уютной квартире, в одной из семи сталинских высоток. До места назначения мы добрались втроем. Серебристый мерседес-«лисичку» вела дама с красивой кавказской внешностью. Ещё в самом начале торжества, когда я только вошел в зал, перед моим изумленным взором предстала высокая жгучая брюнетка приблизительно одного со мной возраста, с удивительно правильными чертами лица, огромными миндалевидными глазами, нежной кожей, слегка тронутой загаром и осиной талией. Строгое фиолетовое платье удачно подчеркивало все прелести её фигуры. А ожерелье из крупного гавайского жемчуга говорило о безупречном вкусе его хозяйки, которую я сразу окрестил Шахерезада.
Через какое-то время, отвлекшись от светской беседы, которая лишний раз подчеркивала интеллектуальные способности собеседников, я непроизвольно стал гадать, кто же все-таки эта таинственная особа за рулем? Но потом бросил это занятие, удовлетворившись тем, что хоть одно знаю почти наверняка, она не замужем. Почему я решил именно так, а не иначе, ума не приложу. Но уж точно не потому, что на её безымянном пальце не было обручального кольца.
Мои предположения относительно жгучей брюнетки продолжились выяснением её роли в жизни великосветской дамы, которая удобно расположившись на заднем сидении авто, по правую от меня руку, что-то объясняла мне тихим, мелодичным голосом.
Поначалу, у меня почти не было сомнений в том, что Анастасия была коллегой Елизаветы Петровны. Точнее, её ученица. Об этом говорили обрывки фраз, которые я случайно услышал ещё на банкете. Теплое, душевное, неподдельное отношение ученицы к учителю, ну и ещё что-то, что можно только почувствовать. И потом, внешность обоих. Но, оказалось, и здесь я ошибался. А когда услышал: «Ну вот, мама, мы и приехали», был откровенно поражён. И не в последнюю очередь своей слепотой. Хотя… это было лишь начало моих удивлений. Но, тем не менее, кое в чём мои догадки всё же были верны. Дочь Елизаветы Петровны Анастасия была действительно врачом. И она не была замужем. Если же быть более точным, её супруг, летчик-испытатель, погиб шесть лет назад при исполнении служебных обязанностей. И с тех пор она жила вместе с мамой и младшим сыном.
Елизавета Петровна уже и сама не помнила, как ей на глаза попал тот номер «Комсомольской правды», в котором я описывал случай, произошедший на Колыме в начале пятидесятых годов прошлого века. Ну а слово «Колыма» с некоторых пор стало для неё более символичным, чем рассказы и очерки об этом богом проклятом месте в эпоху ГУЛАГа.
Но когда она начала читать статью, у неё все поплыло перед глазами, стало плохо и её в спешном порядке увезли домой. Тот день ей запомнился слишком хорошо. Она даже и не предполагала, что может вновь так остро пережить те давно забытые моменты своей жизни, которые она так глубоко схоронила в своем сердце.
Наверное, внезапно возникшие воспоминания и переживания связанные с ними, этим бы и ограничились, как это обычно и бывает у людей её возраста. Но была причина, которая не позволяло доктору забыться на долгое время. И она прекрасно понимала, что этой причиной были ни кто-нибудь, а её родные дети. В самых сложных жизненных ситуациях, когда уже совсем опускались руки и хотелось одного лишь – смерти, именно они давали ей силу бороться и выживать. Что-то подобное произошло и в этот раз.
После инцидента, который на время вывел её из нормального состояния, Елизавета Петровна успокоилась и стала спокойно размышлять. Все её мысли сводились к одному. Откуда провинциальный журналист и писатель, пусть даже уже и известный в стране, мог знать о том, что она берегла в своем сердце более пятидесяти лет? Хотя статья была написана не именно о ней, но это обстоятельство ничего не меняло. Выходит, кто-то рассказал ему о том инциденте, который произошел в то время, когда автор этих строк ходил под стол пешком. А раз так, вероятнее всего, этот кто-то жив, а значит необходимо срочно его найти.
Для начала, она, как все умудренные опытом люди, решила не спешить и прочитать трилогию «Бродяга», а там видно будет. Но с первых же страниц этой автобиографической повести она прониклась такой симпатией к автору, что даже не заметила, как проглотила три книги за несколько дней, и это человек, который и на дух не переносила ничего, что было связано с преступностью и преступным миром.
Больше всего ей импонировало то, с какой любовью я описывал всё, что касалось моей мамы, её коллег. Но всё же, главным известием был тот факт, что я несколько десятков лет назад отбывал срок заключения в ИК-4, в поселке Уптар, одном из двух оставшихся зон на Колыме на сегодняшний день. Теперь, когда она знала почти всё об авторе, ей лишь оставалось выяснить главное, из-за чего и произошёл весь этот сыр-бор. Вот почему я и был приглашён на мероприятие, о котором вкратце поведал читателю в самом начале повествования.
II
В 1952 году в середине лета в один из лагерных пунктов под Средеканом прибыл довольно большой женский этап. Надо сказать, что на Колыме в те суровые времена с женским полом было совсем плохо. А уж в Средекане – и подавно. Местные обитатели и зеки, и свободные – занимались, в основном, добычей медной руды. Работа эта была трудной и вредной, на которой женщинам делать было просто нечего. Вот почему и не присылали сюда осужденных представительниц лучшей половины рода человеческого. А свободные сами сюда не ехали.
Этап тот состоял в основном из молодых и красивых женщин из Москвы и Ленинграда, отправленных на Дальний Восток по «модной» тогда 58 статье – измена родине. Их было тринадцать человек. Что называется – «чёртова дюжина». В полной мере эту народную примету юным арестанткам пришлось признать чуть позже. Это были девушки из состоятельных и весьма именитых семей. Самой старшей, из которых было двадцать семь лет, а младшей девятнадцать. По каждой из них можно было судить обо всех, потому как судьбы у них были почти одинаковы.
Юной москвичке Лизе, совсем ещё недавно закончившей медицинский институт, было чуть более двадцати лет. Отец профессор-ядерщик, член АН СССР, работал в каком-то секретном НИИ, мать – врач-гинеколог, доктор наук, преподавала в том же ВУЗе, какой закончила её дочь с красным дипломом.
Так случилось, что дядю Сашу, старшего брата её отца, кадрового военного офицера полковника-артиллериста, забрали в НКВД. Он раненый, попав в окружение в 1942 году, оказался в плену и находился в концлагере, пока в конце войны их не освободили наши части. На фоне того, как наше государство обходилось с теми, кто во время войны побывал в плену (почти все они по той злополучной 58-й статьей оказывались в сталинских застенках), к полковнику судьба благоволила. Но только лишь до тех пор, пока его брат нужен был при разработке каких-то секретных программ. Как только нужда в нём отпала, бывший узник Дахау поменял лишь название концлагеря и оказался узником ГУЛАГа на долгие десять лет.
Сразу после его ареста, от греха подальше (как только Лиза окончила мединститут), её со старшей сестрой отправили к бабушке в деревню, в Подмосковье. И надо же было такому случиться, что деревня та находилась в нескольких километрах от секретного объекта, где работал отец. Об этом соседстве никто из семьи даже и не подозревал. Да, от судьбы, как говорится, не убежишь. Старшую сестру Лизы спасло от тюрьмы лишь то обстоятельство, что в деревне она серьезно заболела и на долгие годы была прикована к инвалидной коляске.
Надо сказать, что симпатичные арестантки, тем более такого пошиба, очень редко попадали в такую глушь. Чаще всего они оседали в Магадане и других крупных городах Колымского края в качестве сожительниц большого и мелкого начальства. Но на этот раз что-то там наверху не срослось…
Почти одновременно из тайги пришла геологическая экспедиция. На Колыме работа сия считалась элитной. Отправить зека в тайгу с запасом продуктов и походным снаряжением – это всё равно, что послать козла в огород. Охранников-то там к ним не приставишь. Поэтому в экспедиции ходили «вольняшки». Так на Дальнем Востоке называли вольнонаемных работников. В подавляющем большинстве рабочими в партиях были бывшие зеки. Других рабочих взять было просто неоткуда. По сути, это были крепостные «Дальстроя»: уехать на «материк» они не могли – не имели такого права. Но крепостными весьма богатыми. Зарплату им платили очень и очень серьезную. Да и вообще старались по мере сил и возможностей удовлетворять все их потребности. Работать изыскателем в колымской тайге – это вам не на продуктовой базе подъедаться. Приходилось порой по три-четыре месяца бродить по тайге, ежедневно накручивая десятки километров с тяжеленными рюкзаками. И все прелести Восточной Сибири здесь были налицо: дожди, болото, горы и комары. И, понятное дело, полное отсутствие женского общества. Кроме того, в геологической партии существовал негласный «сухой закон». В общем, к концу работы в экспедиции мужики несколько зверели. И вот приходит эта партия в Средекан. А тут – срочное дело – необходимо в пожарном порядке произвести изыскательские работы для строительства новой дороги. Всё местное начальство уже стоит на ушах. Сверху стукнули кулаком по столу и указали конкретные и очень сжатые сроки строительства. Не успеешь в них уложиться – пеняй на себя – в момент превратишься из «гражданина начальника» в обычного осуждённого. Такое на Колыме бывало сплошь и рядом, так что начальство за свою шкуру перепугалось изрядно. Начальник строительства Афонин срочно вызвал к себе Старкова, начальника геологической партии:
– Слушай, Витя, дело такое, через три дня надо снова в тайгу выходить.
– Ты что, сдурел, начальник? Да мы пришли из тайги только позавчера! Никуда мои люди не пойдут и хотел бы я посмотреть, как ты их заставишь это сделать?
Афонин понимал, что угрожать в данном случае было абсолютно бесполезно. Геологи не боялись ни Бога, ни чёрта. Чем их можно было пронять? Пригрозить посадить? А кто тогда работать будет?
Поэтому начальник решил действовать не кнутом, а пряником. Для начала он пообещал всем из геологической партии невероятные премиальные и прочие материальные блага.
– Афонин, да нам эти рубли в бочках солить, что ли? Мы ведь с весны пахали в тайге – без баб и водки. И снова не отдохнув по-человечески, ты нас хочешь заставить переться в тайгу?
На следующий день один из довольно больших то ли сараев, то ли бараков в посёлке, который обычно пустовал, стал приобретать очень странный вид. Все окна в нём крепко-накрепко заколотили досками. На нары бросили старые матрасы, в угол поставили парашу, дощатые столы уставили мисками с солёными грибами, салом, варёной картошкой и ломтями серого хлеба. Потом подкатила «эмка» Афонина, из которой двое дюжих охранников вытащили несколько канистр. Это был спирт из частного афонинского неприкосновенного запаса.
Через пару часов к строению организованной толпой подошли геологи. Это были по большой части здоровенные, небритые мужики в колымской «униформе» – меховых треухах, кирзовых сапогах в ватниках.
– Эй, начальник, куда путь держим? – спросил у Афонина один из них.
– Кто мне вчера плакался, что баб у вас давно не было, вы плакались?! Вот вам руководство и решило выдать премию за ударную работу «девчатиной»…
Внутри в бараке было темно – горели лишь несколько стеариновых свечек. Геологи, не теряя времени, принялись выпивать и закусывать. И тут на улице послышались шаги. О, уже ведут! Конвойные стали загонять в барак одну за другой арестанток. Они не понимали, куда и зачем их гонят, и откровенно трусили.
– Вот, красавицы, вам и наши кавалеры! – скалили зубы охранники, заталкивая зечек в двери. Заходите, подруги, выпьем с нами, никого не обидим! – орали мужики, успевшие уже изрядно зарядиться спиртом.
После этого два геолога заперли двери и крест-накрест заколотили их досками. Свет погас – и тут всё и началось…
Женщин находили на ощупь, торопливо срывали с них одежду и так же торопливо набрасывались на них. Красота и даже возраст дам никого особо не волновал. Главное – это были женщины!
Я уже описал выше, из какой среды были арестантки. Так нравы в обществе, к коему они принадлежали, были всегда строгие. Это вам не какое-нибудь там городское подмастерье, типа продавщиц и консьержек. И к такому натиску изголодавшихся по бабьему телу мужиков – они, конечно же, были морально не подготовлены. К тому же, двое из них были девственницами. Кто-то из них пронзительно кричал, кто-то пытался отбиваться. Иные старались забиться в какой-нибудь тёмный угол… Большинство из арестанток, правда, довольно быстро поняли, что против лома нет приёма, и смирились со своей участью. Так что скоро в бараке шум и крики приутихли, и стали явственно слышны женские стоны и тяжёлое дыхание занимавшихся сексом мужчин.
Утолив первый голод, мужчины ощупью находили канистры со спиртом, пили и снова шарили по полу в поисках очередной арестантки. Впрочем, не все женщины кричали и отбивались. Некоторые, кто был постарше и немного опытнее, наоборот, пытались ласкать своих нежданных, негаданных кавалеров. То ли они тоже за время долгих этапов соскучились по мужчинам, то ли сообразили – лучше уж с одним мужиком переспать, чем с десятком. Некоторые из них начинали обильно прикладываться к спирту, дабы и им стало всё равно. Кто-то из геологов тут же заваливался спать. Потом, просыпаясь, опять пил спирт и тянулся за новой порцией «девчатины».
В тёмном бараке время не ощущалось. Мужики, изголодавшиеся по женскому телу, погретые обильно выпивкой, казалось, были неутомимы. Они всё насиловали, насиловали и насиловали арестанток. «Групповуха» в бараке продолжалась три дня. Только после того, как весь спирт был выпит, вся закуска съедена, а желание совокупляться прошло, мужики оторвали доски от дверей и арестанток, помятых, исцарапанных, в синяках, забрал конвой. А «культурно отдохнувшие» геологи снова ушли на работу в тайгу.
Впоследствии, когда в 1953 году Берия стал наводить порядок в лагерях, Афонина пытались за это дело привлечь к уголовной ответственности. Но не успели. Погорел и сам Берия, а дело об этой необычной «групповухе» спустили на тормозах. Начальники тихо «ушли» из органов. А геологи? А им-то что? Ведь никто из женщин опознать их не мог. Никто из потерпевших не смог бы сказать – вон тот, с золотой фиксой и с татуировкой Сталина на левой груди. А значит, и дела быть не могло! А дорогу, кстати, построили в требуемые сроки. Пятнадцать километров одной скальной выемки! Я сам её видел, когда чалился на Колыме. Она и до сих пор там. И переживет, наверное, египетские пирамиды.
III
Как читатель, наверное, уже догадался, одной из тринадцати арестанток была Елизавета Петровна, которая, как и положено, спустя девять месяцев после произошедшего инцидента, весной 1953 года, родила двойняшек, мальчика и девочку. А ещё через некоторое время, после того, как расстреляли Берию, и вовсе оказалась на материке. Конечно же, не без помощи родственников.
Как только дети немного подросли, у обоих стало проявляться ярко выраженная кавказская внешность. У сына даже нос, как и положено, был с горбинкой. Сначала мать хотела от неё избавиться, но позже, когда мальчик уже подрос, оставила эту затею, ибо горбинка эта придавала её сыну неподдельную черту мужества, привлекательности и обаяния, которое так свойственна кавказским мужчинам. Что касалось дочери, то она медленно превращалась в восточную красавицу, этакую Шамаханскую царицу. Так любовно называла её бабушка. Казалось бы, ну, что теперь поделать, что случилось, то случилось. Тем более, что дети росли здоровыми и красивыми, на зависть многим недоброжелателям. Вот уж, действительно, как никогда верна была поговорка: «не было бы счастья, так несчастье помогло». Конечно же, Елизавета Петровна не беспокоилась о том, что скажет детям об их отце, когда они вырастут. Ей просто самой хотелось узнать, кто же был тот самый геолог, её первый мужчина?
Тем более что к тому времени они уже жили в самом центре столицы. Отец снова был востребован властями, да ещё как востребован. Началась гонка за атомным оружием. А новые соседи по дому были глубоко образованные, воспитанные люди, которые, даже если и чувствовали что-то таинственное, относились с уважением к чужим тайнам.
Так что Елизавета Петровна могла спокойно продолжать учёбу в аспирантуре и работать. И лишь только после смерти матери, которая не раз говорила ей, чтобы она ни откладывала в долгий ящик поиск того мужчины, пока отец востребован государством, она принялась за расследование. Много позже Елизавета Петровна вспоминала и отдавала дань уважения мудрости своей матери, которая так хорошо знала, в какой стране живёт.
Получив доступ в один из архивов ГУЛАГа, который непосредственно касался того места заключения и времени, когда произошли события, описанные мною, выяснилось, что из всей той дикой бригады был лишь один кавказец, дагестанец по имени Омар. В принципе, из-за чего я и решил написать этот рассказ в том варианте, в каком его сейчас и видит читатель.
Теперь такому человеку, как Елизавета Петровна, найти отца своих детей, особого труда не составляло. Благо он был жив и жил в глухой провинции, по меркам СССР тех лет, в городе Буйнакске. Этот кусочек из своей жизни моя собеседница предпочла опустить. Как тут её не понять. Сказала лишь, что заранее подготовив, познакомила его с детьми. Правда добавила, что никогда бы не смогла подумать, что этот человек когда-то мог быть другим. Не знаю, каким образом она объяснила детям, что произошло между их родителями, но, полагаю, такая умная женщина, как Елизавета Петровна смогла выйти из этого положения достойно. Сына, кстати, тоже врача, я так и не увидел, он на тот момент работал где-то в Африке.
Больше мы к этой теме не возвращались за исключением самого главного – человека, который мне и поведал эту историю. К сожалению, ей повезло меньше, ибо в ГУЛАГовских застенках она провела восемь долгих лет. Правда в последующем судьба была к ней благосклонна. Подругой по несчастью Елизаветы Петровны была жена известного российского композитора, с которым она познакомилась в ГУЛАГе. Правда, он недавно упокоился. По понятным причинам я не могу назвать имён моих героев. Я видел встречу двух подруг по несчастью через пятьдесят с лишним лет и это, доложу я вам, было что-то. Но это уже совсем другая история.
Сноски к рассказу «Не было бы счастье, так несчастье помогло»
«Дальстрой» – государственный трест по дорожному и промышленному строительству в районе Верхней Колымы. Был образован 13 ноября 1931 года. С 1938 года – Главное Управление строительства Дальнего Севера НКВД СССР «Дальстрой». С марта 1946 года был подведомственен МВД СССР. Ликвидирован путём реорганизации 29 мая 1957 года.
Зечек – женщин-заключенных.
Параша – емкость для испражнений, которая устанавливается в камере. Как правило, в СИЗО для этих целей использовались старые сорокалитровые фляги из-под молока, поскольку у ее основания на крышке находилась резиновая прокладка, которая не пропускала запах. В камерах существовало правило, согласно которому опущенный должен был есть и развлекать сокамерников, сидя на параше. Следует отметить, что к началу 1970-х годов параши в тюрьмах бывшего СССР были заменены камерными туалетами. Что же касается камер ИВС и им подобных, то в них параши заменяют теперь небольшие пластмассовые ведра.
Чалился – отбывал срок заключения.
Новый год
1
Этот случай произошёл за несколько часов до Нового года в поселке Княжпогост, в одном из лагерей строгого режима Коми АССР.
Прошедший год был для меня крайне неудачным. Ну, хотя бы потому, что встретил я его в карцере вместе с питерским медвежатником Митрохой, огромным чёрным пауком под потолком – вестником жиганского «грева» и почти ручной крысой Лариской, которая жила уже несколько лет в девятой, воровской камере изолятора и подкармливалась босотой из кровных хлебных паек. А затем пошло-поехало. Шесть месяцев БУРа, семь карцеров по десять, двенадцать, пятнадцать суток… Лишь в оставшееся время легавые выпускали меня на зону, вероятно, для того, чтобы я подышал немного свежим воздухом и смог осилить следующее заточение. Согласитесь, такой образ жизни мог свести в могилу кого угодно и сводил, будьте уверены, не одного и не двух, а тысячи. Но что поделать, такова была участь всех подневольных босяков ГУЛАГа.
Поэтому наступающий Новый год я мечтал встретить подальше от изоляторских стен, где-нибудь в тайге на лесоповале или, на худой конец, на лесной бирже в кругу своих друзей и единомышленников. Но, как известно, человек предполагает, а Бог располагает…
Говоря откровенно, часто босота встречала Новый год на лесных командировках лучше, чем некоторые граждане отмечали это событие на свободе. У нас не было телевизора, по которому мы могли бы посмотреть «Голубой огонек», не было рядом родных и любимых, с которыми люди встречают этот семейный праздник, мы не могли наслаждаться терпким вкусом и волшебным ароматом хорошего армянского коньяка и слышать звон бокалов с шампанским.
Тем не менее, несколько преимуществ у нас всё же было. Во-первых, рядом с нами были проверенные в радостях и бедах друзья, которые при любых обстоятельствах, даже не задумываясь, подставляли свой локоть или плечо другу, а во-вторых, в душе каждого из нас горел огонь – это была жажда жизни и свободы. Цену того и другого мы знали слишком хорошо, чего нельзя было сказать о большинстве тех советских граждан, которые жили тогда на воле, в этой Богом и людьми проклятой стране, погрязшей в зависти, лизоблюдстве, коррупции и властолюбии.
В тот раз меня, выпустив из изолятора, почти целую неделю продержали в жилой зоне. Перед праздниками в целях безопасности, как объясняли мусора эту меру предосторожности, неблагонадёжных заключённых, у которых в личном деле стояла красная полоса, предупреждавшая о склонности к побегу (а у меня она стояла уже несколько лет), администрация не выпускала ни на биржу, ни тем более на лесоповал в таёжную глушь.
В моём случае всё это было излишним, поскольку до освобождения мне оставалось теперь всего два месяца, а не многие годы, как в тот раз, когда я совершил побег. Но мусора держали стойку до последнего и уже в канун праздника, скрепя душой, по просьбе нескольких бригадиров и под их ответственность, пошли всё же им на уступки и выпустили меня на биржу, но о тайге не могло быть и речи. Туда до конца этого срока путь мне был заказан.
Так что за несколько часов до Нового года вместе с бригадой ширпотреба, в которой числились многие достойные арестанты, я и вышел на биржу.
Как только колонна заключённых под конвоем солдат с остервенелыми псами на поводках выходила из коридора длиною в несколько километров, который начинался у вахты жилой зоны, и попадала на биржу, тут же, как в сказке, их взору представала огромная гора опилок и древесных стружек, которая высилась как пик Коммунизма. По спирали дороги, которая окутывала её серпантином, пыхтя двигателями и чихая глушителями, волочились старые «ЗИСы», гружённые древесными отходами, чтобы выгрузить их на самой вершине и вернуться обратно. Ну а для того, чтобы увидеть эту вершину, нужно было высоко запрокинуть голову, придерживая при этом шапку.
До самого октября самосвалы сновали по этой «куче», как привыкли называть её заключённые, вверх и вниз, в три смены, почти без перерыва, а затем поздней осенью её поджигали и она горела до самого мая. И так на протяжении многих десятков лет… А сколько сотен, а может, даже и тысяч трупов заключённых были сброшены здесь из грузовиков и сожжены после всякого рода разборок! До сих пор все они еще числятся в «вечном» побеге.
В общем, зрелище горящей горы впечатляло, а во многих, прибывших в лагерь новичков вселяло мистический ужас. Но со временем, проходя мимо по два раза в сутки, заключённые просто переставали обращать на неё внимания. Так оно обычно и бывает…
По сравнению с обыкновенной промзоной – биржа была настоящим гигантом. Достаточно сказать, что на всей территории Коми АССР рабочей зоны таких размеров не было. Арестанты каждого из трёх лагерей Княжпогостского управления – головной, «двойка» и «тройка» – выходили сюда ежедневно для работы в три смены. Движение здесь не прекращалось ни на минуту, ни днем, ни ночью, а цеха и заводы останавливались лишь на время пересменок да ещё один раз в год для профилактики. На бирже имелась заправка и свой автопарк, насчитывавший около ста машин. Правда, все они были старыми и допотопными, но со своей работой справлялись. Это происходило, наверное, потому, что на них шоферили асы и механики-универсалы в одном лице.
Шесть лесоповалов, два шпалозавода, пять заводов разного профиля, около тридцати бревнотасок, огромный цех ДОЦ, фибролитовый цех, ДВП, цех ширпотреба, ДСП и многие другие цеха и заводы – вот неполная картина этой биржи. Через всю её территорию тянулись несколько путей железной дороги. Круглые сутки в ту и в другую сторону сновали локомотивы, тянущие за собой по несколько товарных вагонов. То там, то здесь в эти вагоны, стоявшие у цехов и заводов и охранявшиеся надзирателями с собаками, грузилась разного рода древесная продукция.
Войдя на биржу с утра, только к вечеру можно было добраться до её другого конца. Надо ли подчеркивать, что нигде, или почти нигде, не было видно ни заборов, ни колючей проволоки. Откровенно говоря, на бирже даже не чувствовалось, что ты в заключении. И справедливости ради стоит отметить, что отсутствие привычных лагерных преград положительно влияло на психику арестантов.
Южная часть биржи упиралась в «тройку», с восточной стороны вплотную к бирже примыкал головной лагерь, северная же её часть выходила воротами на станцию Железнодорожная, откуда и заходили паровозы. По всей западной границе биржи протекала небольшая речушка Вымь, приток Вычегды, из которой летом мужики выуживали брёвна и где круглый год ловили рыбу.
Одновременно из всех трёх зон на огромную территорию биржи выходило до пяти тысяч человек и, наверное, глупо было бы предполагать, что такое количество заключенных менты могли оставить без своего присмотра. Конечно же – нет. Так что для этих целей здесь была задействована целая сеть легавых пунктов. Больше того, по территории биржи круглые сутки курсировали несколько воронков, собирая на своем пути смертельно пьяных мужиков, хулиганов, дебоширов, «перекидчиков» и прочий арестантский люд, с точки зрения мусоров, нарушавший правопорядок.
Отдельные группы мусоров прочесывали подозрительные объекты, тупики и закоулки биржи. В каждую из них входили по нескольку солдат-краснопогонников, в основном сверхсрочников, и офицер из батальона охраны. У них имелись ручная рация и штык-ножи, но огнестрельного оружия у них не было. Правда, к каждой из таких групп обязательно придавался проводник с немецкой овчаркой, которая порой заменяла целое отделение пехоты.
2
Однажды, а произошло это за несколько месяцев до Нового года, одна из таких легавых групп зашла в теплушку к знаменитому на все три зоны ширпотребщику-цыгану Папе Карло, как кличили этого чертополоха. Он был с легавыми в наилучших отношениях и заискивал перед ними как мог, выруливая себе, таким образом, досрочную свободу. Почти бесплатно вытачивал он для высокопоставленных мусоров не какие-нибудь там безделушки, а настоящие произведения искусства: выкидные ножи, пистолеты-зажигалки, шкатулки, нарды и шахматы. Зато с ментовской шушерой он вёл свой бизнес уже на широкую ногу, пихая им по ходу пьесы, портсигары, мундштуки, чётки и зары для нард за чай, курево, водку или спирт.
Как ни странно, но цыган почему-то панически боялся собак, особенно мусорских овчарок. Поэтому, когда к нему заходили клиенты-поисковики, собак своих они привязывали у шлагбаума, который был расположен рядом с мастерской Папы Карло. И вот однажды, прикупив какой-то ширпотреб, мусора при выходе из теплушки не обнаружили своей собаки. На шлагбауме висел только, срезанный чем-то острым, маленький обрывок поводка, но сама собака исчезла, будто сквозь землю провалилась.
Немецкая овчарка, тем более натасканная на заключенных – это вам не какая-нибудь болонка. Для того чтобы её увести, смелости маловато, здесь нужна особая сноровка. Только человек, который непосредственно много лет общался с собаками, знал их нравы и привычки, мог пойти на такое. Всё это прекрасно понимал её хозяин, но от этого тоски и переживаний у него не убавлялось.
Думаю, каждый из нас понимает, кем может быть собака – умная немецкая овчарка для своего хозяина-солдата, тем более, вдали от дома, в непроглядной таёжной глухомани. Правда, солдат этот был сержантом-сверхсрочником, но это не меняло дела; он очень тяжело переживал потерю друга. А тут ещё через несколько дней и весточку кто-то подогнал этому служаке: – мол, собаку твою утащили и сожрали, шкуру и лапы кореша своего можешь забрать там-то и там-то.
Нетрудно представить себе чувства этого сержанта, когда он действительно обнаружил закопанные собачьи лапы и шкуру. Надо было видеть его лицо и пережить его душевное состояние! Он тогда поклялся, что всё сделает для того, чтобы найти этого садиста и покарать его так же жестоко, как тот обошелся с его псом.
Я ничего об этом случае не знал и не слышал, потому что сидел в это время то ли в БУРе, то ли в карцере. Как только после сорокаградусного мороза я оказался в тёплом помещении на лесозаводе, где братва проводила почти всё своё свободное время, то в первую очередь чифирнул, а оттаяв, принялся помогать накрывать на стол. И хоть на нём не было чёрной икры и молодого барашка, всё же он был нам необыкновенно желанен и дорог.
Кто-то из босоты жарил на противне сушеные грибы с картошкой, кто-то чистил рыбу, которую наши только что купили на берегу у рыбака, занимающегося подлёдным ловом, кто-то готовил салат из квашеной капусты, кто-то мастерил десерт из таёжных плодов и ягод.
В общем, каждый занимался тем, что ему было делать в кайф. Из стоящего на полке транзисторного приёмника доносились мелодии отечественной эстрады. На большом ящике из-под инструментов стояла небольшая, но очень красивая сосенка, сверкая в лучах неонового света самодельными игрушками. А под ней, как белка в колесе, прыгал недавно родившийся чёрный котёнок, в то время как его мама Маркиза лежала на топчане, покрытом двумя толстыми матрацами, и не сводила заинтересованных глаз с уже успевшей поджариться рыбы.
Приближение Нового года чувствовалось по всему. У всех было приподнятое, праздничное настроение, не предвещавшее ничего плохого и неожиданного.
Наконец стол был накрыт и все приготовления завершены. Будка была большой и вместительной, поэтому все мы, пять человек босоты, расположились в ней свободно и даже с комфортом. Окна в теплушке не было. Справа от входа, приблизительно посередине, стоял большой и широкий топчан, напротив него, чуть левее и ближе к двери – ёлка, а между ними – длинный стол с откидными сиденьями, наподобие тех, что бывают в коридорах вагонов дальнего следования.
Двое из нас забрались на тахту, остальные расположились на этих сиденьях. Стул, хоть и один, у нас всё же был. Он одиноко стоял в стороне от стола, будучи местом для желанного припозднившегося гостя. Оно пустовало, как и должно было пустовать. Это был старый воровской ритуал встречи Нового года в зоне, в лесу или на бирже – без разницы. Дело в том, что частенько случались нештатные ситуации, когда начальство проявляло милосердие и прямо под Новый год выпускало какого-нибудь бродягу из БУРа или изолятора. Вот для такого-то гостя босота и держала всегда пустое место за столом, кругаль самогона и закуску.
3
До Нового года оставалось не больше получаса. На столе уже появилось две бутылки питьевого спирта, который был тогда в ходу в этих краях и бутыль настойки собственного приготовления, которую мы делали, смешивая спирт с клюквой. Белые грибы, поджаренные с картошкой, рыба, пойманная ночью в лунке замерзшей реки, солёные грибы, вяленая щука, салаты нескольких видов и ещё понемногу всякой всячины, присланной из дома, которую каторжане приберегли для этого случая.
На полу, недалеко от двери, на самодельной плите жарилась вторая партия грибов с картошкой, теперь это были опята. Рядом стоял чифирбак с длинной ручкой и десятилитровая канистра из нержавеющей стали с питьевой водой. Тяпнув по маленькой, босота разговорилась, ожидая наступления долгожданного праздника, как вдруг, с первым боем курантов, раздался стук в дверь.
Дурная примета, когда вы встаёте из-за стола во время боя курантов. Пожелав друг другу «матушки удачи да сто тузов по сдаче, жизни воровской да смерти мусорской», мы приняли на грудь горилки, и Коля Чалый пошёл открывать дверь.
На пороге стояла свора легавых во главе с лейтенантом из головного лагеря. Но вели они себя прилично: поздоровались, поздравили, как положено, всех с Новым годом, вот мы и пригласили их отпраздновать с нами, чем Бог послал.
Читателю может показаться странным такое гостеприимство. Но это был Север, здесь властвовали иные законы, нежели на материке. Закон – тайга, медведь – хозяин, и этим, думаю, всё сказано. Мусора, будь то администрация лагеря или биржевые поисковики, всегда знали, кого, когда и при каких обстоятельствах можно было тормошить. Правда, иногда и на старуху бывала проруха, но всё же к бродягам подход у легавых был особый, здесь они всегда вели себя более чем осторожно.
Когда два солдата и офицер сели за стол и уже успели опрокинуть чуть ли не по полной кружке самогона, подтверждая этим поговорку, что на дармовщину и уксус сладкий, третий солдат так и остался стоять на месте, ничего никому не говоря и уставившись куда-то мимо присутствующих, в конец теплушки.
– В чём дело, сержант? – обратился к нему старший по званию. – Что ты уставился как баран на новые ворота? Иди сюда, садись рядом и пей! Порядочные люди угощают, грех отказываться. Но сержант как будто и не слышал, что ему говорят, и продолжал молчать и смотреть в одну точку как завороженный. Когда все за столом увлеклись празднеством и перестали обращать внимание на служивого, он, ни слова не говоря, ударил по стоящему на плите противню с такой силой и злобой, что лицо его буквально перекосилось. Противень, подпрыгнув, опрокинулся, и всё его содержимое вывалилось на пол. Все оторопели от неожиданности: такого откровенного хамства со стороны этой легавой мелкотни никто из нас не ожидал. Ведь почти все они были ручными, как обезьяны на поводке, а тут вдруг на тебе!
Мусора первыми пришли в себя. Они догадались, что сейчас может произойти что-то очень неприятное, повскакивали с мест и, подбежав к сержанту, начали ругать его изо всех сил, показывая тем самым, что они возмущены не меньше нашего, но в обиду своего товарища всё равно не дадут. Мы уже успели прийти в себя и молча смотрели на происходящее. Молчал и сержант.
Самым старшим среди нас был проведший многие годы в лагерях Паша Керогаз. Он первым из нас обратился к сержанту тихим и спокойным голосом:
– Слышь, служивый, ты зачем шухер такой устроил в порядочном доме? Тебя что, обидел кто из нас, или ты по жизни такой стебанутый на всю голову?
К удивлению всех присутствовавших, сержант ответил именно Керогазу:
– Я – не опущенный какой-нибудь, чтобы меня могли обижать, понял! Один из вас ударил меня прямо в сердце, – как будто накликивая беду, продолжал сержант, – и каверза эта изошла от тебя, Керогаз. Ты убил мою собаку, а затем сожрал ее с такими же педерастами, как и сам!
В теплушке воцарилась мертвая тишина. Мы прекрасно понимали, что, будучи бродягой по жизни и уже отсидевший без выхода двадцать три года, Паша не останется в долгу перед молодым мусором.
Он не спеша поднялся с топчана, натянул прохоря и стал потихонечку пробираться к двери, объясняя служивому, что его собакой он накормил чахоточных арестантов на больничке, которые прибыли тогда из Златоустовской крытой тюрьмы.
Вероятно, сержант принял Пашины объяснения за проявление слабости и, осмелев, стал дерзить еще больше, но это продолжалось недолго. Как только Керогаз приблизился к нему почти вплотную, в его руке сверкнуло стальное жало тонкого стилета, которое в следующую секунду он воткнул прямо в сердце сержанту. Тот, ещё даже не понимая, в чём дело, запрокинул голову, закатил глаза и через мгновение рухнул на пол, прямо на грибы с картошкой, которые несколько минут назад сам же и опрокинул.
Я даже не обратил внимания на то, что мусора, явно не ожидавшие такого поворота событий, выскочили наружу и исчезли в ночи. Спрыгнув на пол босиком, я согнулся над бездыханным телом сержанта и, положив два пальца на сонную артерию, замер в ожидании, но мои надежды оказались тщетны: служивый был мёртв.
У каждого из нас за спиной было по нескольку лагерных раскруток, поэтому мы знали, что нужно делать в такие минуты. Вытащив оставшееся спиртное и всё лишнее наружу, чего не следовало видеть мусорам, и, спрятав всё это, мы быстренько договорились, чтобы показания, которые рано или поздно всем нам придется давать следователю, были одинаковы, а затем сели у дверей будки и стали ждать легавых. Керогаз был на удивление спокоен в те минуты ожидания. Точнее, в первые минуты, потому что потом он вдруг исчез куда-то и больше никто из нас его никогда не видел.
4
Ту новогоднюю ночь я досиживал в карцере-одиночке, как и трое моих корешей, и думал над странными превратностями судьбы, проклиная всё на свете, в том числе и свою не фартовую жизнь. На следующий день я узнал, что Пашу мусора искали до самого утра, а когда нашли, ужаснулись от того, что увидели. После себя этот босяк оставил немалый кровавый след.
Исчезнув сразу после того, как мы попрятали всё лишнее в ожидании легавых, он понял, что отвертеться по такому делу ему не удастся и, так или иначе, а лоб зеленкой ему все равно намажут, поэтому и решил отомстить сразу всем, кому только мог в тот момент. Прокравшись на командный пункт легавых-поисковиков, который стоял на территории головного лагеря, он зарезал сначала подполковника, начальника охраны биржи, а затем и его помощника, капитана Людоедова (такую фамилию и захочешь, не забудешь!), ранив при этом сержанта-сверхсрочника и убив его собаку, тоже немецкую овчарку. Когда со всеми, кто находился на командном пункте, было покончено, этот же стилет он воткнул себе в сердце.
Но суд всё же состоялся, хотя судить было уже некого. Мусоров, которые были тогда вместе с покойным сержантом, кумовья успели за это время натаскать и они давали почти такие же показания, что и мы. О спиртном никто не сказал ни слова. Но, как бы не было боязно кому-либо из нас, ведь срок мог корячиться немалый, никто не посмел валить всё, бывшее и не бывшее на покойного, хотя уверен, Керогаз бы на нас не обиделся. Просто босота и здесь оказалась верна своим традициям.
Сноски к рассказу «Новый год»
Босота, босяк, бродяга – преступники, которые живут, придерживаясь воровских законов.
БУР – барак усиленного режима.
Воронок – специально оборудованный автомобиль для перевозки заключенных. Дата появления «воронков» – 1932 год. Именно тогда с конвейеров ГАЗа сошли первые массовые грузовики – ГАЗ-АА» – знаменитые полуторки. Вскоре к ним прибавились более мощные «ЗИСы» и родилось название «черный ворон», хотя тогдашние автозаки были не черными, а стальными. Очевидно, здесь имеет место ассоциация то ли с тюремными «черными каретами», которые, впрочем, тоже в черный цвет не красили, то ли с катафалками.
Жиганский «грев» – грев, в котором содержатся только дефицитные вещи, а также наркотики и деньги. Как правило, он отправляется со свободы ворам в законе и другим особо уважаемым арестантам.
Зона – исправительное учреждение.
Карцер – штрафной изолятор.
Кличили – звали.
Кореша – друзья.
Кругаль – кружка.
Кумовья – оперуполномоченные.
Легавые – сотрудники милиции.
Лоб зеленкой намажут – приговорят к расстрелу.
Медвежатник – вор, который специализируется по открытию сейфов.
Ментовская шушера – никем неуважаемые сотрудники правоохранительных органов.
Мусор – сотрудник милиции или ИУ.
Не фартовый – невезучий.
Перекидчики – люди, которые перекидывает через забор в зону запрещенные предметы: наркотики, спиртное, деньги и т. д.
Пихая им – продавая им.
Прохоря – сапоги.
Стилет – холодное оружие.
Чертополох – человек, который пользуется дурной славой у окружающих.
Чифирбак – поллитровая алюминиевая кружка, предназначенная для варки чифира.
Чифирнул – выпил чифир.
Ширпотребщик – изготовитель предметов ширпотреба.
Шухер – оповещение об опасности.
Оракул
Предыстория этого рассказа берет свое начало в далеких, казавшихся нам тогда безграничными таежных просторах Коми АССР. Ну а ежели быть более точным, в лагере, который находился на ее территории. На этот раз судьба забросила меня на зону строго режима, которая расположилась рядом с поселком Хальмер-Ю. Этот Богом заброшенный населенный пункт стоит и по сей день на границе с полярным Уралом. И хоть Уральский хребет и отделяет его от полуострова Ямал, все же ветра, которые приносят полярные циклоны с Северного Ледовитого океана, с легкостью переваливают через хребет и тогда морозы здесь достигают до минус 60 градусов по Цельсию. И это не предел.
Если и есть на свете что-то длиннее, и безысходнее заполярной лагерной ночи, так это, наверное, смерть. Окруженные со всех сторон тайгой, уральскими горами и снегами толщиной в двадцатиметровую сосну, зеки буквально раздавлены этой безысходностью. Но это холодное время года.
Что же касается лета, то оно здесь не долгое, и составляет менее трех месяцев. Точнее будет сказать, относительное тепло держится именно такой отрезок времени.
Хорошо зная климатические особенности погоды здешних краев, каждый обитатель этого сурового уголка вселенной пытается успеть сделать все необходимое, что бы встретить зиму во всеоружии. Но так как основное население этих мест составляют заключенные и те, кто их охраняет, то им, как любят повторять в этих местах, как те, так и другие, и флаг в руки. Основной работой, со времен открытия этого клочка Вселенной русскими первопроходцами-казаками, была вырубка леса, заготовка и сплав по реке. Следует заметить, что, даже для тех далеких лет, это было редкое сочетание на лесных командировках, которое присуще лишь лагерям, расположенным вдоль северных рек. Дело в том, что со времен ГУЛАГа и до тех лет, о которых мой рассказ, почти весь лес, росший, вблизи рек был истреблен. Поэтому на его вырубку заключенным приходилось ездить как минимум за пятьдесят, а то и более километров. Потом его привозили и сгружали у берега реки Уса, откуда и начинался самый северный в Коми АССР сплав.
Уса берет свое начало здесь же, недалеко, в Уральских горах. Ниже по течению, в районе поселка Петрунь, она впадает в Печору. Ну и там, дальше – больше.
Я уже не раз вспоминал в своих книгах о том времени, которое я провел в заключение, в суровых условиях тюрем, лагерей и пересылок, причем на разных широтах тогда еще необъятной Страны Советов, и каждый раз ловлю себя на том, насколько всё в заключении было многообразно. И это многообразие чувствовалось во всем Хотя, казалось бы, о каком многообразии может вообще идти речь, когда человек находится в неволе, тем более, на северных командировках? Ан, нет, еще как может! Но не буду вдаваться особо в подробности, о которых я уже и так в свое время немало написал. Обозначу лишь главные составляющие жизни в заключении. А их «у хозяина» всегда две. Режим содержания, который, всегда был и остается прерогативой администрации пенитенциарных учреждений, и воровской ход, который, как не трудно догадаться, был в той же мере прерогативой воровского мира.
Каждое пенитенциарное учреждение, будь то лагуправление в общем, или зона, пересылка, тюрьма и т. п. заведения, в частности жили своим, казалось бы, обособленным миром характерным только для этих мест. Но все они, подчеркиваю слово ВСЕ, именно для Коми АССР (потому что здесь сучьих зон не было), имели «воровской ход». Так что, даже если в зоне не было вора в законе, все равно она считалась воровской, ибо в ней присутствовал воровской ход.
Что же касалось первой составляющей – ментов, то их благополучие, да что там благополучие, вся их жизнь вместе с домочадцами, и даже домашними животными, на которых большинство из них походило больше, нежели сами животные, так или иначе, зависела от этого самого воровского хода. Точнее, от перевыполнения государственного плана, который сулил им огромные блага, и, который могли организовать или убить на корню, лишь воры, или те, кто был подстать им. То есть, положенцы зон и воровские авторитеты.
Поэтому, не зависимо от масти, менты никогда не перегибали палку по отношению к заключенным, почти всегда соблюдая долю толерантности, человеколюбия и снисхождения к узникам лесных командировок.
Более того, как это не будет звучать сегодня парадоксально (ибо сегодня воров, оказавшихся за решеткой, в спешном порядком пытаются спрятать в крытой), но если хозяева зон узнавали, что в их управление заехал урка, они тут же наперебой старались заполучить его именно в свою зону. Почему? Да потому что, повторюсь, вор был стопроцентной гарантией буквально во всём. Ибо именно он и был настоящим хозяином того или иного пенитенциарного учреждения.
Но это, конечно же, не значило, что урка в слепую шел на поводу у ментов. Как раз-таки наоборот. Ради того, чтобы был перевыполнен план, менты на многое закрывали глаза. Но и воры никогда не борщили в понятиях, прекрасно осознавая ответственность, которая лежала на их плечах. Так что существовал неписаный паритет, который, если иногда и нарушался, то виновниками всегда были менты. Да и то, в самых крайних случаях. Эти правила были написаны давно, и по всей вероятности, надолго.
Каждый из бродяг играл ту роль, которую уготовила ему воровская судьба. Те же, кто был иного пошиба (ломом подпоясанные, одни на льдине, красные шапочки, раковые шейки и иные мастевые), играли каждый по своим правилам. Как ни странно, но именно этот диссонанс и создавал бурлящую жизнь заключенных, которые варились в одном и том же котле. И если заведующим пищеблоком на этой кухне был всегда хозяин, то шеф-поваром – вор.
Со времен ГУЛАГа, в любых пенитенциарных учреждениях, отношение к отрицалову у ментов было всегда одинаково. Это и понятно. Администрация считала, что «со своим уставом нечего идти в гости». Босота же была иного мнения, считая, что именно менты и есть гости, а мы, арестанты, всего лишь, после очередного отпуска на свободе, возвращаемся к себе домой. И не обязательно, чтобы именно в ту же зону, откуда освободился. Для истого каторжанина любое место под замком – дом родной.
Босоту старались развозить по другим зонам, иногда даже вывозили за пределы, в другие лагерные управления, но нигде долго не задерживали. Так что, если у заключенного в личном деле было написано ВОР, или «способен влиять на массы», то считай он был обречен на постоянные этапы до тех пор, пока, в конце концов, не окажется в крытой. Если, конечно же, срок позволял. То есть, как правило, был, где-то пять и выше лет. Если нет, морили по изоляторам и БУРам, почти не выпуская в зону.
Эта участь, конечно же, не могла обойти стороной и меня, потому что я не просто жил воровской жизнью, выполняя какие-то обязательные функции, совершая ритуалы, приводя в жизнь догмы и постулаты, но и дышал ею. То есть, для меня помимо всего воровского, тогда не существовало ничего. А о какой-либо альтернативе, чтобы облегчить свою участь страдальца, не могло быть и речи. Наоборот, я, и такие как я, лезли в самое пекло событий, чтобы пройдя через всевозможные мусорские прожарки (а здесь, на Севере, они подстерегали босяка на каждом шагу), быть достойным именоваться бродягой.
Набор догм, которые прочно вросли в сознание бродяги, формировали мир, в котором он жил. И вне которого себя не мыслил. Когда же возникало нечто, грозящее разрушить его, инерция сознания стремилась защитить этот привычный мир так же, как любой из нас старался бы защитить дом, в котором он живет, если бы что-то угрожало разрушить его.
Это сегодня всякая шушара, которая успела немного похлебать баланды, на вопрос «кто он по жизни?» может смело сказать: «Я бродяга!» И ему за это ничего не будет. Раньше это нарицательное нужно было заслужить. В противном случае спрос за присвоение был очень строгий. Ведь недаром же, любая малява или прогон начинается со слова БРОДЯГА. Так что не мудрено, что все без исключения мои друзья по несчастью страдали от чахотки и язвы желудка. А иногда и всего вместе.
Тот злополучный период моих скитаний выдался для меня крайне неудачным. Мало того, что вот уже на протяжении года меня нигде дольше месяца – полтора не задерживали, катая по зонам Коми, с севера на юг и обратно, осенью у меня вновь обострился процесс и пошла горлом кровь. Но кого это волновало, кроме меня самого? Хотя, я не совсем прав, но об этом позже. Все мои кореша были так или иначе одной ногой в могиле, так что приходилось терпеть, а главное, не отчаиваться.
Зона в Хальмер-Ю тех лет, по сути, почти ничем не отличалась от подобных колоний строго режима на территории как полярного Урала, где она и находилась, так и всего советского Заполярья. Зима, почти круглый год, те же лютые холода, жизнь впроголодь, полускотское отношение к зеку, но с дозированной долей со стороны администрации, что я уже успел описать выше.
В этой связи так же стоит и отметить тот факт, что хотя советская тюремная система и генерировала особый тип тюремщика – безжалостного хама, мордоворота и стяжателя, тем не менее, сердце у некоторых из них не ожесточилось, как у других собратьев. Те попкари, которые, помышляя только о жаловании, положенном за охрану заключенных, умножая свои доходы за счет несчастных жертв и строя благоденствия на чужой беде, в тайне жестоко радовались слезам обездоленных.
Только на этих богом проклятых командировках и можно было увидеть такую картину, когда, чтобы не отстать от графика, в достижении плана, в актированные дни (за минус сорок), начальство, по обоюдному уговору с работягами, за выход на работу, платило каждому из них по пачке чая и дополнительной пайки хлеба. Чай в этих краях был не просто местной, арестантской валютой, которая по значимости никогда не сравнится ни с одной существующей в мире валютой. Это был эликсир жизни на Северных командировках, в полном смысле этого слова.
Целый день, по сути, за 52 копейки (а это была максимальная цена 50-граммовой пачки самого ходового тогда на Севере цейлонского чая) каждый из зеков – добровольцев делал работу, которая стоила несколько десятков тысяч рублей. К примеру, почти столько же стоила двухкомнатная квартира в Москве. И все это было в порядке вещей. Более того, кому попадалась такая «халява», мог считать себя еще счастливчиком. И вот почему.
Принято считать, что одни из самых невыносимых мук (подчеркиваю, не физические пытки и всевозможные истязания, а именно муки) для человека, хотя, уверен, не только для него, являются голод и холод. Но это не так. Точнее, что касается холода, здесь не поспоришь. А вот относительно голода следует сделать маленькую поправку. Смотря при каких обстоятельствах. И вообще, что именно следует считать голодом? Тот момент, когда человека морят голодом в чистом виде, или, когда ему просто не дают умереть от голода, иногда подкармливая? А это, уверяю, не одно и то же. Большинство ответит, конечно же, когда морят голодом. И будут в корне не правы. Самое страшное ощущение не голод, а проголодь.
Полагаю, нет, надобности объяснять, что к этим выводам я пришел не полулежа в шезлонге на берегу Средиземного моря.
Когда человека морят голодом, или он сам решил объявить голодовку, что, для сильного человека, в принципе, одно и то же, он настраивает себя на то, что ему предстоит пережить. И процесс голодовки проходит менее мучительно, нежели, если бы он постоянно думал о хлебе насущном.
Когда же человеку дают пищу лишь только для того, что бы он мог существовать, а точнее, работать, происходит психическое расстройство, которое влечет за собой безразличное отношение буквально ко всему, что не касается еды.
Но этим нападкам судьбы подвластны лишь слабые, не закаленные в этих условиях натуры. А таких бедолаг, как правило, всегда большинство. И как бы это не звучало парадоксально, но именно на них и держится земля. Это и есть рабочий люд.
И, возвращаясь к зоне на Хальмер-Ю. Если одна часть лагерных мужиков (воровские мужики) отдыхала, проклиная все на свете, но, не желая идти на поводу у ментов, другая (некрасовские мужики), шла за пачку чая и дополнительную пайку хлеба пахать на сорокаградусный мороз, то некоторые из некрасовских мужиков, за эту самую, дополнительную пайку шли в личняки. Ими, как правило, были молодые, смазливые юноши, которые, получив первый срок условно, по второму уже автоматически попадали на строгий режим, порой даже не побывав в тюрьме. Другая половина была те, кто уже успел понюхать запах параши по первому сроку, но был выпущен на свободу из зала суда. Но свои тюремные университеты они проходили в родном городе. Где рядом были родственники, а значит и передачи, адвокат, который давал надежду на освобождение, знакомые авторитетных знакомых или родственников, которые могли защитить, или подсказать, чтоб не попасться на каком ни будь тюремном зехре и не попасть в обиженные. В общем, обстоятельства, в которых они находились, не давали полной картины о том, какая участь их ожидает, окажись они на северной командировке.
Много ли людей, которые сейчас читают эти строки, лежа на диване, или сидя у компьютера, могут себе представить картину как молодой человек, который еще недавно крутил романы с красивенькими девочками, был лидером в классе, занимался каким-нибудь видом спорта и т. д., отдается по доброй воле мужчине, как правило, вдвое старше его по возрасту, а уродливей разов в сто, лишь из-за того, что хочет быть постоянно сытым?
Зоны, где происходило подобное, назывались голодными. В Коми АССР тех лет, скажем так, не голодными зонами считались те, управление которых находилось в городе Вожаель. Все остальные, в той или иной степени, были голодными. И это притом, что в Коми АССР шли этапом в основном из Москвы и Московской области. Хальмер-Ю, естественно, не был исключением. Этому явлению также способствовали климатические условия и само расположение зоны. Всего несколько месяцев в году работала узкоколейка, а так почти все необходимое для жизни доставлялось воздухом. Да и то в летную погоду, которая не часто жаловала летчиков.
Так что каждый приспосабливался к жизни, как мог. Те, кто был пошустрее, а это, максимум 10 % от основного числа заключенных, ставили в тайге капканы, в основном, на зайца, иногда попадалась и более крупная дичь, кабаны, лоси, а как-то даже медведь попал к нам в капкан, точнее в яму, откуда смог выбраться уже будучи освежеван. Ловили рыбу в реке, зимой это был подледный лов. Собирали ягоды, всевозможные травы, приправы и запасались ими на зиму. Даже пойманную дичь солили на зиму всевозможными способами. Собирали грибы. Мало кто знает, что в тайге ядовитых грибов нет. Любые грибы съедобны, даже поганки и мухоморы. Ну а какие блюда можно было делать из грибов, рассказывать думаю, нет нужды. Кое-что обменивали у местных жителей – комяков и ненцев, которые, к слову сказать, жили, да и сегодня, наверное, живут так же, как их далекие предки. Недаром, когда Петр I прибыл на землю Коми, сказал: «Земля не земля и люди не люди, считайте их вместе с оленями».
Что же касалось тех, кого именовали бродягами, то они жили картами. Существовал негласный воровской закон, по которому, на свободе вор должен был воровать. Даже если он классный игрок, то только картами он жить не имел права. Воруй и играй, куражи, пожалуйста. В зоне же воровство считалось крысятничеством, а вот игра приветствовалась. Но не все из бродяг могли играть, особенно молодые, которых мало кто знал, но которые уже успели проявить себя. Так что некоторые из них, кому ничего ни откуда не ломилось, шли работать, и это было не западло. Более того, считалось самым честным и достойным босяка поступком.
Неволя диктовала свои правила. На свободе ты мог быть вором высшей квалификации, купаться в золоте и шелках, иметь красивым девок и т. д. В зоне же, не умея играть в карты, без поддержки тебе подобных, ты мог жить мужиком, но естественно, воровским. Вот такой вот существовал парадокс. Но, заметьте, ничего предосудительного, с воровской точки зрения, в этом не было. Такой мужик по-жизни освобождался, его встречали кореша, как и подобает, хорошо зная, что их друг жил в зоне мужиком, и продолжалось все, как и было до отсидки.
Куда бы не прибыл этап: в тюрьму, на пересылку, в карантин зоны, непосредственно в столыпине, первый вопрос, который задают бродяги окружающим: «Кто из воров присутствует»? Если таковых нет, интересуется, кто на положении, в авторитете, когда заезжал последний из урок, кто именно и т.д. Вот поэтому, любой из бродяг всегда знает, даже будучи «под замком», где в данный момент находится тот или иной жулик. И не обязательно, чтобы это было внутри лагерного управления. Беспроводной телефон доносил до самых глухих уголков Страны Советов все то, что касалось воровского мира.
Поэтому, еще до того, как попал в карантин, я точно знал, кто из урок находится на этой зоне. Но, для большей убедительности спросил еще раз. Воров было двое. Моя информация подтвердилась. Ими были Боря Армян и Гриша Грек.
С одним из них, Борей Армяном, мы уже встречались не раз и были в довольно-таки неплохих отношениях.
Здесь следует прояснить некоторые детали. Бродяга мог знать большое количество воров. В особенности, если чалился продолжительный период времени, тем более, если в одном и том же управлении, не зависимо от того, с перерывом, или без выхода на свободу. Но главное было, сколько душ воров знали его. И не просто знали, а в каких отношениях были с этим человеком. К примеру, арестант жил в одном бараке с вором. У них однозначно должны были быть какие-то взаимоотношения связанные со всем общим, но это далеко не значило, что арестант мог где-то похвастаться близостью с этим уркой. Ему бы это и в голову не могло придти. Ибо называлось такое поведение спекуляцией воровским именем. Особо строгое наказание за это не предусматривалось, если в поведении не было корыстных целей, но дорога в воровской мир уже навсегда была закрыта.
Вор мог приблизить к себе, то есть взять в семейку, лишь человека, которого хорошо знал ранее, либо того, за кого ему порекомендовали его братья. То есть, говоря языком светских обывателей, нужны были прекрасные рекомендации.
На кону стояло слишком многое, а порой все, поэтому доверять человеку лишь только потому, что питаешь к нему симпатии, было бы непростительной глупостью, которой, в мою бытность, никто из воров не страдал. Да и доверие доверию рознь. И с этим трудно не согласиться.
Что касается меня, то познакомился я с Армяном еще на пересылке Весляна, когда был там под раскруткой на бетонке, летом 1975 года. Получив из сангорода (областная, или краевая больница для заключенных), от моих подельников урок, Карандаша и Дипломата, маляву, Коля Портной, один из авторитетнейших московских воров, который находился в тот момент на пересылке, сразу подтянул меня к себе в хату. Он чалился в ней один. Позже на пересылку заехал и Боря.
Это был невысокого роста, стройный мужчина лет 45–50, худощавый, но мускулистый и сильный. Лицо его, с правильными чертами и небольшой горбинкой, свойственной кавказским мужчинам, обрамлялось темной недельной щетиной; черные, проницательные глаза смотрели грустно и даже несколько строго. Губы его давно отвыкли от улыбки. В этом человеке чувствовалась такая жизненная сила, что на его высоком, мыслящем лбу не было ни одной морщинки. Однако лицо его было бледно, бескровно, и щеки ввалились. Жизнь в таежных лагерях не могла не оставить свои характерные следы.
Второй раз мы встретились с Борей приблизительно через год, но уже на тройке, в Княжпогосте. Но оба там пробыли не долго. Нас, сначала Борю, а потом и меня, развезли по разным направлениям.
За второго уркагана, Гришу Грека, я только лишь слышал, но того, что слышал, вполне хватало, чтобы проникнуться к нему самым глубоким уважением. Арестанту даже иметь шапочное знакомство с таким вором было уже почетно. А корефаниться, значило быть ему равным. Правда, с одной маленькой, но существенной разницей. Еще, не будучи признанным урками на сходняке. Впрочем, все, кто был в семейкой с Греком и ему подобными ворами, рано или поздно попадали в воровскую семью. Это, помимо самих урок, были молодые, честные и благородные крадуны, в воровском понимании этих прилагательных, готовые в любое время отдать жизнь за воровские идеалы и ближнего своего.
Вероятно, каждый из нас не раз замечал, что между людьми есть избранные. Ни испытание, ни страдание, ни горький опыт не остаются чуждыми для них. Они знают, что должны испить всю чашу тяжкого горя и, несмотря на это, безропотно переносят свою участь и не теряют веры в Бога, как бы одаренные небом высшей силой души и добродетелью. Именно к числу таких избранных принадлежал Гриша.
По его совершенно седым волосам, прорезанному морщинами лбу, бледным губам, по его скорбному, усталому лицу, свидетельствовавшему о пережитых страданиях, можно было предположить, что ему гораздо больше шестидесяти лет. Но, судя по его уверенной, хотя и медленной, походке, по удивительной силе, чувствовавшейся во всех движениях, ему нельзя было дать и пятидесяти. Морщины на его лбу были такого благородного рисунка, что расположили бы в его пользу всякого, кто внимательно пригляделся бы к нему. Его сомкнутые губы хранили странное выражение не то суровости, не то смирения. В глубине его взгляда таилось какое-то скорбное спокойствие, присущее мудрецам и оракулам.
Порой, не имея даже вдоволь хлеба, он осмеливался чувствовать себя довольным, да еще упорствовал в верности тому, чему поклонялся всю жизнь, и дерзко проповедовал воровские идеи, тот дух справедливости, который был присущ всем «ворам нэпманского замеса», к которым он имел честь относиться.
Гриша считался Грозненским уркой, но родился в Греции, в начале 20-х годов ХХ века. Каким образом семья попала в южную часть СССР, до которого еще не дошли отголоски революции, я узнал много позже, в Ростове. Жил он вместе с гражданской женой, изумительного вида гречанкой, и подстать ей дочерью. Когда я впервые увидел их фото – это была еще совсем юная одиннадцатикласница.
Хотя слово «жил», звучит не совсем уместно, скорее числился, по соседству со своим знаменитым земляком и «коллегой» Васей Бузулуцким. Насколько я знаю, это была улица П. Мусорова. Согласитесь, трудно не запомнить, когда в этой связи дело касается чего-то воровского.
Сегодня некоторые молодые люди, из тех, что «слышали звон, но не знают где он» путают грозненского, ныне покойного (родился в 1932, умер в 94 году в Газах – всесоюзной больнице города Ленинграда) Васю Бузулуцого, с грузинским уркой Гвасалией Василием Викентьевичем, которого также кличут Вася Бузулуцкий. Он, правда, тоже не молодой, 1946 г/р, но родился в Грузии.
Насколько я знаю, Гриша Грек воровать начал немного раньше Васи Бузулуцкого, но он и старше него был лет на десять. В этой связи стоит отметить, что в те годы, урок непманского замеса родом из Грозного было не так уж и мало. Рудик «Армян», Эмиди «Старый», Князь и некоторые другие. Я был знаком лишь с Рудиком. Даже «тычил» с ним не раз. Это был не просто урка с большой буквы, но врожденный карманник. Правда, это было много позже того времени, о котором этот рассказ.
Как и за многих патриархов воровского мира, таких, как Вася Бриллиант, Огонек Питерский, Гена Карандаш, Хайка, Хасан «Каликата» Самаркандский, Вася Бузулуцкий и многих других, за Грека, еще при жизни, ходило много легенд. Но самой невероятной был бозар за то, что он был ясновидящий. Шпана даже погоняло ему дала за глаза Оракул. Но проверить эти данные могли, как Вы понимаете, не многие. Забегая вперед, скажу, что мне не только удалось узнать о способностях Грека, но еще и о том, откуда они у него. Правда, это было много лет спустя, в Ростове, и, к сожалению, не от него самого.
У Гриши было сроку пятнашка. В то время это был потолок. Еще немного, и ему намазали бы лоб зеленкой. Но, к счастью, пронесло.
В то время была своего рода цепочка вывоза краденого золота из Магадана. Местные делапуты сплавляли его перекупщикам из Северной Осетии и Чечено-Ингушетии. Цена грамма на черном рынке Магадана составляла около пяти рублей, на Кавказе же она вырастала на порядок. Черные старатели нередко сбывали с рук свою добычу перекупщикам прямо на Колыме. Вывоз краденого золота был делом невероятно опасным, и преступникам приходилось придумывать хитроумные уловки.
К примеру, для вывоза золотого песка нередко использовали брюшко красной рыбы. В те годы она была страшным дефицитом, и гостинец не вызывал подозрений: рыбу из Магадана везли все. Некоторые находчивые умельцы воспользовались тем, что золото и чугун имеют равный вес при одинаковом объеме, и вывозили драгоценный металл, отливая из него… сковородки и закрашивая их черной краской. В самом деле, у кого может вызвать подозрение обычная чугунная сковородка в багаже?
Подельники Грека пошли еще дальше. Они научились ставить в промышленный прибор добычи золота специальные «ловушки», в которых оседал золотой песок. Знали способы незаметного вскрытия опечатанных контейнеров с добытым драгметаллом. На приисках образовалась целая преступная группа, в которой действовал принцип «рука руку моет».
Борьба с контрабандой развернулась в начале 70-х, после того, как один бульдозерист-осетин попытался провести золота на общую стоимость 272 тысячи советских рублей по государственным расценкам. В те годы на эти деньги можно было купить, к примеру, 60 кооперативных квартир. Но главным было то, что один из самородков был по-своему уникален и весил 12 килограммов. Министр Щелоков приказал установить специальную аппаратуру для обнаружения золота на контроле в аэропортах – специальный сканер, разработанный секретным московским институтом.
Всего по их делюге прокатило 40 человек. Почти всех судили за хищение в особо крупных размерах – это была расстрельная статья. Но большая часть подельников Грека, в том числе и он сам, отделалась 12–15 годами строго режима. Ясное дело, что Грек в этой золотой цепочки не был ржавым звеном. И уж кому-кому, а ему-то уж точно намазали бы лоб зеленкой, если не одно «но». Хотя ни самого Грека, ни его подельников уже давно нет в живых, тем не менее, не будем ворошить старое.
Хоть воры и знали, что из пяти человек бригады карманников, в которой я тычил на свободе, трое были авторитетные урки: Дипломат, Карандаш и Паша Сухумский, а сам я, этим сроком, уже успел несколько раз крутануться, в том числе вместе с Гамлетом – Бакинским уркаганом, когда на Свердловской пересылке Гамлет пытался восстановить воровской ход перехваченный блядьми.
Так что, хотя я и был еще относительно молод, но, уже, будучи в заключении, только этим сроком, успел заработать себе авторитет, который давал мне право на многие воровские привилегии.
Тем не менее, сказать, что меня встретили прямо с распростертыми объятиями, значит слукавить.
Таких бродяг как я в то время, хватало. Поэтому, записывать к себе в друзья воры никогда не спешили. Хотя даже маломальских оснований для каких-либо подозрений не было, тем не менее, каждый из них, в подобного рода ситуациях ждал удобного случая, чтобы по-своему пробить на вшивость. Если в процессе жизни вор убеждался в том, что ошибся, то кроме, как самого себя, винить ему было не кого. А такие случаи бывали. Эта тактика, хоть и не часто, но все же приносила свои гнилые плоды.
Много позже, почти не вылезая из мест заключения, проводя на свободе всего лишь несколько месяцев, а то и дней, когда от моего слова в тюрьме зависело не мало, а тот или иной шаг приходилось делать, рассчитывая только на себя, я мысленно спрашивал совета у тех, кого уже давно не было на этом свете, как бы они поступили в той, или иной ситуации, в которой оказывался я: будучи в тюрьме на положении; загрузившись, проходя этапом через пересылку, чтобы сломать блядские движения и при иных подобных обстоятельствах. И, как бы это не звучало высокопарно, не было случая, что бы я не находил нужный ответ. Пример тому я сам. Ведь если бы хоть раз не нашел того самого ответа, уже давно звали бы меня никак, и был бы ни кем. И это самое легкое наказание, которое могло бы меня постичь.
Вспоминая то шебутное время, я каждый раз восхищался дальновидностью, прозорливостью и умом своих учителей, которые так хорошо знали человеческую натуру. Не мудрено, они учились этому десятилетиями, в самых лучших из университетов, которые существовали в мире, в советских тюрьмах.
Нынешним обывателям мест лишения свободы, которые мнят себя блатными, как впрочем, и тем из них, кто на воле, трудно представить картину, когда вор, в зоне шпилит под интерес, или на свободе тычит в бригаде карманников. И не никому неизвестный молодой уркаган, а шпанюк, которого знают далеко за пределами его вотчины.
Часто можно было наблюдать такую картину, что в зоне присутствует несколько воров, а живут они порознь. То есть, каждый имеет свою семью. Но, когда касается, урки конечно же вместе решают насущные проблемы. Или, порой, приходишь в зону, смотришь, вокруг вора, как обычно народу, невпроворот, а живет он с калымским мужиком. А почему? Да потому что мужика этого он знает давно, в курсе какие прожарки пришлось пройти бедолаге, но не сломаться. А тех, кто рядом, почти не знает.
Как правило, такое происходило где-то в начале 1980-х годов, в то время, когда большинство старых, проверенных жизнью арестантов (и не обязательно чтобы это были именно воры), ушли в мир иной.
Жулики Армян с Греком жили в одной семье. Оба были игровыми, да еще какими. Так же, как и в любой другой воровской зоне, вокруг них было много босоты, но жили они впятером. Их троих корефанов звали: Джейранчик, Лёнчик «Водолаз» и Толик Ромашка.
Отношение двух последних мне не всегда было понятно. То они были, как не разлей вода, то дулись целыми днями друг, на друга. Ромашка был из Питера, а Водолаз из Воронежа. Возможно, их сближало то, что они какое-то непродолжительное время вместе сидели на малолетке. Тем более, что оба были, по слухам, неплохими карманниками, так же, как и я, не один год плавающими по Устимлагу и заслужившими достойный им авторитет среди шпаны. Потому и были без пяти минут. А что же тогда отталкивало?
Водолаз отличался необыкновенной надменностью, говорил с людьми так высокомерно, так задирал нос, так безжалостно повышал голос, принимал такой внушительный тон и такую горделивую осанку, что у всякого, кто имел с ним дело, возникало сильнейшее искушение поколотить его.
Ромашка, в этом плане, тоже не был подарком. Но он как-то мог преподнести себя так, что мужики на него не особо-то и обижались. Для кого-то враг, а для кого-то и друг – метла была подвешена у Ромашки, что надо. А это более чем необходимо в сложных житейских лагерных дрязгах. А будущему вору, тем более.
Я неплохо знал обоих. С Водолазом мы сидели некоторое время на пересылке Весляна, когда я был там, на положении, а с Ромашкой чалились на «тройке», в Княж-погосте. Кстати в то же время, когда туда заезжал Боря Армян. Все мы выросли на улице, прошли ДВК, малолетку, общий, усиленный и, оставив за плечами каждый не менее пяти ходок и пятнашку отсиженного, попали на строгий режим. Где каждый также провел не менее пяти лет в заключении.
Что же касалось Джейранчика, то это был добродушный и благородный туркмен, который заслужил такого общения, конечно же, не потому, что продавал дыни на базаре в своем родном городе Чарджоу.
В то время на север везли отрицалово из всех союзных республик СССР. Туркмения, откуда был родом Джейранчик, естественно, не была исключением.
В этапе, который пришел на зону был Фомич – урка из Новосибирска. Джейранчик и еще один парнишка из Курска прокатался с ним несколько месяцев, побывали во многих пересылках, пока судьба не забросила всех троих на одну из сучьих зон Комсомольска-на-Амуре, где они естественно, пытались восстановить воровской ход.
Оба босяка были рядом с Фомичем до последнего, пока каждого из них с проломленными черепами, поломанными ребрами и челюстями не вынесли из зоны на носилках. Хоть они больше и не встретились, а тому минуло уже четыре года, тем не менее, воровской мир их не забыл. Урки никогда не забывали людей, которые ни минуты не раздумывая, готовы были отдать за них жизнь.
Джейранчика штопали в Гаазах – питерской больнице, где без малого, через двадцать лет, во время операции, упокоится Вася Бузулуцкий. Залечивал же раны он позже, на этапах, пересылках, пока не оказался на зоне, где мы и познакомились.
Не зависимо от того, спецэтап ли это, или этап по расписанию, в пункте назначения, как минимум, за несколько дней до того, знали, кто именно должен придти этим этапом. Интерес был либо к босякам, заслуживающим уважения, либо к мразью, которое заслуживало смерти. Беспроволочный телефон никогда не давал сбоев.
Знала босота и о нашем этапе. Поэтому, по прибытии, миную карантин, меня прямо с вахты привели в проход, где сидели вышеперечисленные аристократы воровского мира. Погуторив о том, о сем, подкрепившись с дороги, чуть позже выделили шконарь, где я и притух убаюканный свистом ветра, который, разгулявшись, не предвещал ничего хорошего.
Не знаю как сегодня, но в то время СССР давал некоторым странам квоты на вырубку, заготовку и транспортировку леса с территории советского Севера, к себе на родину. В рассказе «Спичка», которую читатель также найдет на страницах этой книги, я уже затрагивал эту тему, поэтому особо акцентировать внимание на ней не буду. Но все же некоторые моменты, характерные именно для этого периода и места действия, опишу. Но только лишь косвенно. Дело в том, что этот рассказ, в некоторой мере, связан также с темой иностранцев в тайге.
Не трудно догадаться, что такими странами были государства, которые не имели своих «деревянных ресурсов». Ими были Япония, Болгария, Германия, Финляндия, Канада и некоторые другие страны. Сегодня бы сказали, что коммуняки, только и делали, что разбазаривали государственную собственность. Но было это далеко не так. Дельцы от КПСС были тоже не лыком шиты и уж в идиотах не ходили, это точно.
Они выделяли иностранцам участки леса, которые были «у черта на куличках». А находились эти кулички, как читатель уже, наверное, догадался, в глухой и дремучей тайге. Куда лишь по возможности доставляли все необходимое, да и то воздухом. А летный, не летный день, это уж как небесной канцелярии будет угодно. В таком месте ни один нормальный человек не захочет работать, какие бы ему не сулили заработки. Поэтому, хозяевами этих мест и были зеки.
Территория, занимаемая вырубкой, представляла собой гигантское болото. Частью поросшее смешанным лесом: сосной, березой, ольхой, дубом. Среди болота были рассеяны песчаные островки, но все равно, даже на делянках стояла вода, поэтому мужики предпочитали палатки, устланные сосновыми ветками, своего рода шалаши. Деревья пилили, деревья рубили, они же предохраняли от холода. В конце августа наступала короткая осень, тайга начинала желтеть. Днем было тепло, безветренно, ночью холодно, даже морозно, земля подсыхала, твердела, местами становилась почему-то красной. Но продолжалось это не долго. Уже с приходом октября зима вступала в свои права.
Можете себе представить японца в этом Богом проклятом месте, да еще и при морозе в 25–30 градусов по Цельсию, который пытается валить лес, а он не валится. Эту картину надо было видеть своими глазами. Отечественный, старый трелевочный трактор, наполовину ржавый, грязный, с открытыми по бокам створками, откуда выглядывают внутренности, где-то забитые буковым чопиком, где-то заткнутые тряпкой, да еще и тарахтит так, как будто сейчас взорвется, но прёт, как мамонт, перетаскивая огромные стволы деревьев, как карандашики. И это в любую погоду.
И хваленая техника с земель восходящего солнца, вся такая новенькая и аккуратная, но беспонтовая, стоит как на параде в день лесоруба. В чем дело? Оказывается качество солярки в СССР не то, что нужно, и на ней их техника даже не заводится. Тут же глохнет.
Вот когда можно было за державу гордиться. Мы, конечно же, и гордились, но только каждый по-своему.
А теперь второй акт представления. Тот же колотун под тридцатник, на иностранцев тряпья, только нос один да торчит. Скучковались, бедолаги, в бендешки, возле буржуйки, пьют растворимый кофе, руки греют, проклиная русскую зиму, и Россию в придачу. Место у печки меняют каждые пять-десять минут. Одни выбегают, другие вбегают. И вдруг слышат свист на известную песню «Мурка». Глядят в окно, а там зеки-лесорубы, хвосты от шапок ушанок торчат в разные стороны, идут в простеньких телогрейках, да еще и на распашку, курят и попавших навстречу иностранцев спрашивают с подъебкой: «Что случилось, узкоглазенькие»? Представляете реакцию япошек? Многие из них тогда поняли, почему Гитлер проиграл войну. Но главное, они недоумевали со своих военных бонз. Как те не могли понять простой истины.
Разве могла как-либо противостоять их миллионная квантунская армия этим похуистам в робах? Это только диву можно было даваться. Вечером пьют какую-то отраву, самогон называется, от которой глаза из орбит вылезают, и из валенок выпрыгиваешь, утром похмеляются тормозной жидкостью, разбавляя в ней соль и еще какую-то гадость, выкуривая при этом по самокрутке махорки «Медведь», от которой у обыкновенного человека тут же из задницы пойдет дым. Затем «придя в себя» запивают все это чаем такой крепости (имеется в виду чифир), от которой у здорового человека лопнет сердце, и, наконец, удовлетворив свои потребности, спокойно идут валить лес. И что самое непостижимое, как валят! Одно звено зеков из трех человек даёт фору всем «лесорубам»-японцам вместе взятым.
По таежным меркам иностранцы недалеко от нас кантовались. Мусорам казалось, что они сделали все от них зависящее, что бы мы не пересеклись. Ведь легавые прекрасно понимали, что если это произойдет, узкоглазые будут иметь хороший лес, практически не напрягаясь, и задаром, а мы все, что только можно пожелать в наших условиях, и даже немного больше. Под немного больше подразумевалось существенное подспорье в воровской общак.
Но, как обычно, менты, на наш счет просчитались. Разве есть на свете человек изобретательнее, предприимчивее и хитрее российского зека? Навряд ли.
Это уже много позже, когда им некуда было деваться, менты, с подачи властей, сами стали засылать ко всем иностранцам, занимающимся вырубкой леса, рабочую силу в виде зеков и отечественной техники с тем, что бы им подсобить. Это было не только у нас и на Чинья-Ворике (в рассказе «Спичка»), но и по всему Устимлагу.
Ведь, как и японцы, остальной иностранный люд также не понимал, да и не мог понять, по какому принципу у нас умудряется работать такая техника. Как зеки могут выдерживать такие нагрузки и при этом чувствовать себя бодро и весело, употребляя в пищу такую гадость, от которой любой экстремал в момент согнется.
Половина денег, а точнее, золота, заработанных зеками шла в казну государства, вторая ее часть, как нетрудно догадаться, в карманы администрации управления.
А на тот момент, о котором речь, мы были, что называется, в этом деле, первопроходцами.
Так что, когда мы просекли, что к чему, япошки еще только начинали обустраиваться. Тут-то мы и запустили к ним гонца – парнишку сибиряка, из семьи охотников, который ориентировался в тайге, как в собственной квартире. Иностранцы встретили следопыта хорошо. Сразу смекнув, что к чему, передали боссам, то бишь нам, гревчик жиганячий и пригласили в гости, чем мы с удовольствием воспользовались.
Вот так, в начале второй половины ХХ века и начиналось наше тесное сотрудничество, которое до сих пор приносит свои плоды. Правда тогда, хоть совсем и незначительную часть благ, но все же, имели полуголодные, измученные, еле живые зеки. Тогда как сегодня этими благами пользуются ожиревшие, а потому и обнаглевшие от дармовщины бобры.
Чтобы понять, как происходило наше общение, необходимо в нескольких словах описать обстановку в которой находились обе стороны. Ведь одно дело прочесть все в том же рассказе «Спичка», как оно действовало, уже имея опыт, и совсем другое, как все начиналось.
Расстояние от зоны до места, где производилась вырубки леса, составляло где-то около пятидесяти километров. Зимой и летом путь пролегал по лежневке. Зимой, конечно же, было полегче. Потому что шанс оказаться в болоте, а потом вытаскивать из него «ЗИС» был сведен к нулю. Хотя и из сугроба тащить машину было тоже занятием не из приятных. Да и мороз с холодным ветром давали о себе знать. Но мы приспосабливались. С ночи нагревали кирпичи на печке, а утром, заворачивали их в тряпье, какое попадется под руку, и клали себе под ноги. Такое приспособление, по крайне мере, гарантировало, что не отморозишь ноги. А если зек не сберег ступни ног или кисти рук, считай, что это ходячий труп.
По прибытию на место, конвой обходил на лыжах периметр вырубки, как правило, где-то километров пять-семь, и через определенное расстояние втыкал шест с красным флажком. Сунешься за него, и считай ты в побеге. Но в условиях, в которых находились мы с солдатами, это была простая формальность. Так, фартецала, не более.
Самыми приятными днями были те из них, когда зимой пурга заставала нас в тайге, порой по три-четыре дня, а то и более. Тогда конвой из зоны за нами не приезжал. Это было предусмотрено. Поэтому, как только вырубка перебиралась на новое место, туда же перевозили небольшие срубы на салазках. В них было все необходимое для зимовки и на более длительный срок. Тем более, что харчи, в виде сухого пайка, у конвоя, как для себя, так и для нас всегда были в запасе. Мусора нас не беспокоили. А что еще нужно было зекам? Так что, когда у нас появились соседи-иностранцы, времени для общения с ними было хоть отбавляй.
Солдаты из конвоя были ручными. Они прекрасно понимали, что помешать нам выполнить задуманное, значит постоянно чувствовать на себе несчастный случай, который кроме как в деревянный макинтош никуда более их не приведет. Выживший свидетель из числа администрации или конвоя, означал вышак на все 100 % для того, кто его решил спровадить к праотцам. А ведь чаще всего не только выживших, но и трупа-то менты не могли найти. Его просто закапывали в снегу на волчьей тропе. Собаки в жизнь туда не пойдут. А пока то, да сё, волки раздербанят подснежник так, что и косточек-то не найдешь. Зимой с ними шутки плохи. Поговорка «Голодный, как волк» – это как раз про серого в зимнюю пору.
Ходили мы по снегу на широких, самодельных лыжах, которые, за определенную плату, нам мастерили местные умельцы – комяки. Тропинка была протоптана так, что Бродвей отдыхал. Если не было пурги, то, как штык, возвращались до съема, чтобы менты не щикотнулись. Ежели мело, то тормозились у японцев. Но это было лишь в самом начале. Когда в диковинку было так вот, запросто, в тайге общаться с вольными иностранцами. Их вид и разговоры, даже придавали какой-то дополнительный стимул. Но потом хождения на лыжах стали сказываться на болях в суставах и т. п. недугах. Ведь почти все из нас были больны. Кто туберкулезом, как я и Грек, а кто и иными болезнями. Так что позже всю миссию по обмену леса мы предоставили людям, которые и ходить на лыжах могли не напрягаясь, и работу свою знали на пятерку.
Таким образом, житуха в зоне стала во сто крат лучше, чем была, во всех отношениях. Мужики были хорошо одеты, обуты и сыты. А это было главное на лесных командировках. И это я еще говорю о самых малых из благ, которые Всевышний послал нам сверху.
Человеку, который на свободе не один раз в месяц мог позволить себе устроить праздник жизни, по большому счету, было интересно, и в то же время смешно, в хорошем смысле этого слова, смотреть на старого колымчанина. Как тот, еще совсем недавно не имевший даже вдоволь хлеба, но при этом, всегда подходя к этому с улыбкой, теперь держал в руках бутылку дорого шотландского виски, пил, как истый англичанин, прямо из горла, закусывая бутербродом с красной икрой или сёмгой и при этом, кряхтя и пыхтя от удовольствия, благодарил матушку удачу и воровской фарт.
Да и в зоновском общаке было достаточно средств, что бы греть того, кто под крышей, на крест отгонять, мусоров в узде держать, да себя не обижать. Воровской же общак Гриша с Борей отсылали в Сангород, на Весляну.
Всегда, когда делается что-то хорошее, когда праздник жизни, который мы можем позволить себе не так часто, а в условиях зоны и того меньше, в самом разгаре, появится какой-нибудь иуда чтобы все испортить. Так случилось и на этот раз. Как говорится, «Не долго музыка играла, не долго фраер танцевал». И хоть фраерами мы не были, все же вломить нас с потрохами сука не испугался. «Это какой же должен был быть дух у этой падали?» – размышлял каждый из нас.
Казалось бы, чего тут удивительного. Столько солдат, да и один начальник конвоя знали о наших делах с узкоглазыми. Вломили и все тут. Из-за чего, – это уже другой вопрос. А чё им сделается-то? По понятиям не живут, босота голову не сорвёт и не тыкнет. Такого даже в наряд больше не выпустят, и все тут. Ан, нет. Самым удивительным было то, что все мы были уверены в обратном. Сука из нашей среды. Откуда была такая чуйка, один Бог знает. Но она у зека всегда есть. Тем более, если зек под стать нам. Но кто он? Вот где нашелся бы достойный сюжет Шекспиру, будь он живой.
А о том, что это не некрасовский мужик, даже не обсуждалось и не думалось. Этот не сдаст, потому что еще вчера выходил на работу в сорокаградусный мороз всего лишь за пайку хлеба и пачку чая. А сегодня, по лагерным меркам, жил, как у Христа за пазухой. При этом выполняя работу объемом много меньше. Да и многолетние наблюдения давали нам основания предполагать, что мужик никогда не вломит, если его к этому в наглую не принудят. Да и то, не каждый на это пойдет.
А началось все с того, что десятерых заключенных, из числа тех, кого вывозили на вырубку, неожиданно заменили. В том числе, как не трудно догадаться, и нас шестерых. Но главное, заменили нарядчика, который, в принципе и заправлял всем процессом и был тем самым связующим звеном между нами и японцами, который приносил «золотые яйца».
Мы, естественно, кипешовать не стали. В первую очередь надо было выяснить, кто вломил, потому что честь воровской семьи была превыше всего! Во-вторых, вновь наладить связь с иностранцами. Ибо все, что было добыто для общего блага за последнее время, было результатом нашего обоюдовыгодного сотрудничества. Так что, облом был не только для нас, но и для них. А потому, естественно, с нашей подачи, но уже чуть позже, японцы выдвинули какие-то свои требования мусорам, о которых мы так и не узнали. Мусора не стали пренебрегать претензиями иностранцев, тем более, скорее всего, тогда еще и сами не зная, что этот шаг будет на руку и им самим.
В начале 60-х годов, еще будучи малолеткой, я шел этапом через ростовскую пересылку. Еще при выезде из Грозного, которой был первой остановкой после Махачкалинского централа, где мы провели около десяти дней, нескольких малолеток из нашего этапа, в том числе и меня, посадили в отдельное купе столыпина. Так же отдельно нас поместили в камеру в Ростове, куда мы прибыли уже из Грозного, но ненадолго. Уже на следующий день в обед в камеру заехал этап, в котором из одиннадцати человек трое были урками.
В то время еще не было закона, по которому разные режимы, а тем более, несовершеннолетние сидели бы отдельно. Больше того, с ворами нас посадили потому, что мы постоянно дрались со своими сверстниками. А причина была одна. Тогда, как впрочем, и сегодня, не было ни одной малолетней зоны в Союзе, которая не была бы красной. То есть, той, в которой тон задавал актив. Наши злейшие враги. А в этапе было несколько человек, которые уже успели побывать на зоне, будучи активистами.
Как-то вечером, мы, пацаны из этапа, как обычно, расположившись на верхних шконках, слушали рассказы старых каторжан. В основном, прикол держали жулики. Как вдруг один из тех, кто недавно заехал в хату, судя по вопросу, некрасовский мужик, вдруг спросил у того из воров, кто только что рассказал несколько поучительных случаев: «А есть вообще кто-то, кого воры боятся?». Возникла небольшая пауза, после которой урка улыбнулся, и спокойно ответил: «Конечно же, есть». «И кого же?» – не унимался мужик. «Дураков», – ответил уже другой вор.
Почему я вспомнил именно об этом случае, читатель узнает перевернув еще несколько страниц этой книги.
Через каждые десять дней было три этапа. То есть, приезжали к нам, и уезжали от нас. Отправляли в другую зону, на пересылку, до выяснения каких-либо обстоятельств, за пределы управления, на больницу, назад в тюрьму, откуда прибыл (открыли новое уголовное дело и т. п. причины), в общем, направлений было великое множество, и были они самые разные.
С первым же этапом, который прибыл после всего описанного выше, с пересылке Весляна пришел татарин, запамятовал погоняло, у которого были малявы на воров. Из-за близости Сангорода, где постоянно чалился кто-либо из урок, движение на этой пересылке считалось самым активным в Устимлаге.
В том, что этапник привез малявы, ничего удивительного не было, ибо было обычным делом. Но после того, как воры прочитали депеши, по их поведению мы стали замечать, что не все спокойно в Датском королевстве. В таких случаях босота никогда, ничего не спрашивает у шпанюков. Посчитают нужным поделиться, сами расскажут. Не посчитают, значит так и должно быть.
Но урки делиться с кем-либо из нас не спешили. Правда, в преддверии ожидаемого этапа, в приватной беседе со мной Гриша назвал мне имя человека с кем пойдет воровской грев на Сангород. «Хорошенько запомни его, мало ли что с нами всеми может случиться», – сказал он тихим, каким-то удрученным голосом. Как будто винил себя в чем-то.
Такое поведение воров по отношению к семейникам было впервые не только с момента моего прихода в зону, но и в бытность там всех тех, о ком рассказ. То есть, Толика Ромашки, Лёнчика Водолаза и Джейранчика. Тот, кто в теме, может себе представить, каково нам было в те дни. Ходили, как неприкаянные, старались не показываться друг другу на глаза, что бы ненароком не обидеть кореша. Так продолжалось ровно девять дней. Десятый, то есть этапный день, начался с построения зоны.
Вдоль всего строя ходил среднего роста человек с непомерно широкими плечами, с грубым зверским лицом, украшенным густыми темными усами, закрученными на конце. Голубовато-серые глаза, казалось, все видевшие, но ни на что не смотревшие, неприятно поражали своим хитрым и лукавым выражением. Человек этот был одет в видавшие виды гимнастерку, но с белым отглаженным воротничком, поверх которой был одет обыкновенный зековский бушлат, не новый, но теплый, полугалифе и сапоги яловые. В руках он держал огромную тяжелую буковую дубинку, которой все время ловко размахивал. Не зная, никто бы не поверил, что этим человеком был кум управы по прозвищу Полкан.
Его заместитель подкумок Ваня-Миша только что вышел из ворот КПП, спешными шагами подошел к своему шефу и стал что-то шептать ему на ухо. Со стороны было противно, и в то же время смешно смотреть на этих двух отморозков.
Ваня-Миша, то есть, Иван Михайлович был чуть выше среднего роста. Руки у него были большие и жилистые, лицо скорее какое-то квадратное, чем круглое или продолговатое, лоб высокий. Голову его покрывала густая щетина седых волос. Над верхней губой топорщились кротко подстриженные седоватые усики; взгляд его цвета серых, бычьих глаз свидетельствовал об отсутствии интеллекта, а если быть более точным, о природном дебилизме. На щеках играл румянец, как после парной. Когда он улыбался, обнажая, казалось, поставленные в два ряда острые акульи зубы, в этой улыбке было что-то зверское, скорее волчье. Он был человеком жестоким и коварным, а когда на него иногда находили приступы гнева, с ним вообще лучше было не связываться.
Эти двое хорошо дополняли друг друга, потому видно и работали вместе не одну пятилетку.
Не успел Ваня-Миша договорить, как глаза Полкана налились кровью, и казалось, ушли под нависшие брови, щеки сделались темно-багрового цвета, сквозь полуоткрытые губы стали видны оскаленные зубы, длинный нос, вытянулся, казалось, до самого подбородка и придал странный и страшный вид его подвижному лицу.
Некоторое время он не говорил ни слова; только рука его судорожно сжимала рукоятку дубинки. Вперив взгляд в нашу сторону, он некоторое время молча наблюдал за нами. Затем, резко повернулся на сто восемьдесят градусов, как бы в отчаянии ударил концом дубинки по голенищу ялового сапога, и быстрым движением направился в сторону КПП. Через минуту от него и след простыл. А еще через минут пять-десять нам разрешили разойтись. Из-за чего был весь этот сыр-бор, мы узнали уже на следующее утро.
В тот день нам почему-то вновь разрешили выехать на повал. Уже вдали от зоны, много позже тех событий, я понял, что мусора спецом дали нам возможность разобраться с сукой. Да не с одним. Ведь, даже если бы они их спасли, отправив этапом, их все равно ждала неминуемая смерть. Куда бы их не отправили, малява о них пришла бы раньше них самих.
Но с другой стороны, зачем нужны были ментам лишние неприятности с трупами? Ведь два трупа в зоне – это уже ЧП управленческого масштаба. Одно из двух, либо суки знали про своих хозяев слишком много, либо чем-то сильно им насолили. Поэтому они и жаждали видеть трупы собственными глазами, нежели ожидать, что их где-то по дороге убьют. Так что, раз выбрали второй вариант, значит на то были более, чем веские основания. А то, что ЧП, им видать было глубоко наплевать.
До обеда все шло, как обычно. Часам к двум, воры позвали босоту на сходняк. Урки почему-то решили провести его на свежем воздухе. Костер разожгли заранее. Погода хоть и не баловала, но и слишком холодно тоже не было. Где-то 15–18 градусов мороза. При безветрии, такая погода считалась нормальной. Помимо нас троих, на сходняке присутствовали еще четверо бродяг. В том числе и татарин, который привез воровскую почту последним, точнее, предпоследним этапом. Сходняк держал Гриша Грек. Временами, когда он заходился кашлем (чахотка давала о себе знать), его не торопливую речь подхватывал Боря Армян.
То, что мы узнали от воров, повергло нас в шок. Сначала урки рассказали о ксиве, которую привез татарин. В ней, один из воров по кличке Джунгли (а такой вор действительно был и именно в это время плавал в Устимлаге) писал о том, чтобы шпана ни в коем случае не допускала Толика Ромашку в семью, за его косяки, которые он запорол будучи на зоне в Усть-Лабинске (Краснодарский край) в одно и то же время с Джунгли.
Много ранее того времени, о котором рассказ, еще на пересылке Весляна, Водолаз с Ромашкой отписывали ворам на сангород о том, что хотят войти в семью. Это была обычная процедура перед воровским сходняком, на котором решалась судьба претендента. Но почему вдруг ответ, а точнее, свое мнение кто-то из воров решил выдвинуть именно сейчас? Ведь столько времени прошло!
Более того, Гриша с Борей могли бы сделать к ним подход и сами. Два воровских голоса вполне хватало окрестить обоих. Тем более, повторюсь, времени с тех пор, как босяки сделали объяву, прошло достаточно. А не подходили они к Ромашке с Водолазом лишь из-за того, что ждали удобного случая, когда соберется побольше воров. Всегда считалось, чем больше воров присутствуют на сходняке, тем престижнее. Любой шпанюк всегда думал о будущем. Если вдруг кто-то из именитых воров захочет порамсить, с вновь испеченным уркой, сто раз задумается, прежде чем сделать это. Ведь ему тогда придется непроизвольно указать на несостоятельность тех из воров, кто на сходняке давал добро.
Так что, в воровских делах всегда было и есть очень много нюансов, о которых знают только избранные, да те, кто рядом.
Гриша с Борей хорошо знали о том, что Ромашка чалился с Джунгли в одной зоне. Но знали они также и то, что Толик, до и после их совместной с Джунгли отсидки, чалился на зонах, в карцерах и БУРах не с одним вором и везде проявил себя, как и положено бродяге.
Было и еще несколько нюансов, которые озадачили воров и дали им основания предполагать, что малява не что иное, как мусорская подстава. Они ничего не стали говорить Ромашке, чтобы не обидеть семейника, а решили пробить на вшивость татарина. Уже на третий день их подозрения подтвердились полностью. Татарин был кумовским. Но тогда возникал другой вопрос. Зачем было мусорам, вдруг ни с того, ни с сего парафинить доброе имя бродяги? Такие приемы легавые обычно применяли в экстренных случаях. Ответ был налицо. Чтобы отвести подозрения от настоящего суки. Но от кого? Необходимо было это срочно выяснить. Тогда воры решили сделать ход конем.
Времени для того, чтобы выяснить, что к чему, чтобы успеть до очередного этапа, у воров была ровно неделя. За это время они разузнали, кто именно уходит следующим этапом. Узнать эти данные не представляло труда. За наличные, а тем более, импортное спиртное, которое с некоторых пор у нас было в избытке, спецчасть готова была предоставить любые данные.
Выяснилось, что на этап готовят семерых. Из них выбрали троих. За каждым из них закрепили каждого из нас.
То есть, каждому из нас троих в отдельности, воры сказали, что именно тот человек из тройки ими выбранных будет везти деньги на воровской общак. Расчет был прост. От того, кого из этапников тормознут в зоне, чтобы вытрясти из него воровские деньги, будет ясно кто вломил. И этот расчет полностью оправдался. Об этом воры узнали на построении. Полкан с Ваней-Мишей не стали долго думать, а тормознули весь этап с тем, что бы обшмонать предполагаемого гонца, на которого им указал сука.
Мусора знали, что воры должны были отправить бабки на общее. И это были, по тем временам и меркам, немалые деньги. Эту шнягу урки запустили специально, сразу после того, как благополучно отправили деньги по дороге, которую знали только они. Когда же менты поняли, что их попросту обвели вокруг пальца, пустили своих сук под откос.
Это была обычная процедура, которая применялась в подобных случаях. Попользовались, а когда пришли в негодность, выбросили. Ведь не зря таких нелюдей называют гандонами.
Когда шпана закончила свой рассказ, вокруг стояла мертвая тишина. Но не долго. Воры потребовали, чтобы Водолаз в мельчайших подробностях рассказал, каким образом он такое длительное время сухарился, и каким образом общался с кумом управы? Ибо было очевидно, что с зоновскими ментами он не имел никаких дел. Птица была иного полета.
Это необходимо было знать для того, что бы впредь не обжечься на ему подобных. И в первую очередь нам, молодым босякам. Рассказ его занял что-то около часа. И как я понял, причиной его падения была обыкновенная человеческая зависть. Хоть я пишу эти строки не для того, чтобы просто вспомнить дела давно минувших дней, а назидания ради, тем не менее, мне бы не хотелось описывать рассказ этой мрази.
Что касалось татарина, то на него даже не стали тратить время. Воры и так уже знали достаточно и позже нам рассказали. Это была банальная история некрасовского мужика-тяжеловеса, со временем превращенного мусорами в законченную суку. Надо было видеть, как он просил пощады, чтобы убедиться в правильности предположений. Ростом с член и весом с пайку. Да я бы такого в голодный год за Камаз с блинами трахать не стал. А он просил, что бы с ним делали что угодно, только бы не убивали. Да мы и не стали марать об него руки.
Выявленных сук в тайге обычно связывали, мочились на них хором и оставляли околевать на 40-градусном морозе. К концу рабочего дня такая сучка превращалась в покрытый коркой застывшей желтой мочи ледяной столб. Эта участь и постигла горе-гонца. Правда, мороз был поменьше, но это не помешало справедливому возмездию.
Водолаза ждало наказание иного рода. Мы придавили ему правую руку бревном – так, чтоб не выбрался никак. И оставили на морозе. Но при этом оставили единственную возможность для спасения – положили под левую руку топор. Но паскуде и здесь не повезло. Два дня мело, поэтому за нами не присылали конвоя. Когда на третий день конвой прибыл чтобы вывести нас в зону, при подсчете не досчитались двух человек.
Мужики технично подсказали солдатам, где искать недостающих зеков. Безусая солдатня была в шоке от увиденной картины.
К одному из толстоствольных исполинов облокотился желтый ледяной столб, в котором еле проглядывались человеческие очертания. Неподалеку от него, возле сваленной сосны, лежал еще один труп. В левой руке он намертво сжимал топор. Рядом с правой рукой лежала отрубленная кисть. Голова и шея были почти полностью изъедены волками. Вокруг трупа было много крови.
Вечером конвой доставил нас в зону, а уже в обед следующего дня всех действующих лиц этого рассказа отправили на этап по разным командировкам. Мы с Гришей попали на тубзону Ракмос. Там также я пробыл не долго, что-то около четырех месяцев. Но и их бы я ни за что не осилил, если бы не Грек. У людей нашего круга не принято особо распространяться по этому поводу. По возможности благодарят чисто по-жигански. Но мне, к сожалению, не довелось сделать и этого. Больше мы с Гришей Греком так и не встретились, хоть и чалились некоторое время недалеко друг от друга. А уже на свободе я узнал, что он упокоился. Но видит Бог, когда ты хочешь от души сделать что-то хорошее, судьба почти всегда предоставляет тебе такой шанс. Мне, в этом плане, посчастливилось. Но это уже другая история.
Сноски к рассказу «Оракул»
Актированные дни – на «лесных командировках», в определенные дни, когда мороз достигает минус сорок, на работу идут только по желанию.
Без пяти минут – в самое ближайшее время воры должны сделать подход.
Беспонтовая – негодная.
Блядь – бывший вор в законе перешедший на сторону ментов.
Бозар – разговор. Не следует путать с «базар».
Борщить в понятиях – переходить дозволенные рамки правил, которых придерживается воровская масть. Например, если положенец тюрьмы отправит такой прогон по централу, за который воры в законе могут «дать по башке».
Босяки сделали объяву – в данном случае, объявили о том, что они хотят войти в воровскую семью. Таков воровской регламент.
БУР – барак усиленного режима. После 70-х годов ПКТ-помещение камерного типа.
Были игровыми – жили за счет игры в карты.
Вломить нас с потрохами – предать все, что только можно.
Воровать они стали в одно и то же время – в данном случае, под словом воровать имеется ввиду «вошли в воровскую семью».
Воровские мужики – самая уважаемая в арестантском мире категория мужиков, которые чтят воровские законы, поддерживают блатной мир, хотя сами в состав отрицалова не входят. Из числа таких осужденных порой даже выбирают положенцев зоны и смотрителей различных общаков, поэтому урки, положенцы и остальной блатной мир ценят таких мужиков много выше, нежели своих подручных. Отсюда и поговорка: «Воровской мужик скушем иного блатаря».
Воровской ход – жизнь по воровским понятиям, как в местах лишения свободы, так и в отдельных регионах на воле: в поселке, в городе или районе.
Вышак – расстрел.
Гревчик жиганячий – хорошие, с точки зрения заключенных, запрещенные к хранению вещества и предметы (наркотики, шприцы, спиртные напитки, деньги, драгоценности), а также продукты питания и предметы первой необходимости.
Греть того, кто под крышей, на крест отгонять – передавать грев в карцер и больницу.
ДВК – детская воспитательная колония. Её еще называли бессрочка, потому что водворяли с двенадцати лет.
Делапуты – деловые люди. Правило.
Загрузившись – в данном случае, когда рядом нет воров, взять на себя ответственность положенца с тем, чтобы разрулить ситуацию.
Заехал урка – в данном случае, вор в законе пришел на зону этапом.
Запороть косяк – совершить порочащий бродягу поступок.
Колотун под тридцатник – мороз под тридцать градусов.
Кантовались – в данном случае, находились.
Колымский мужик – самая многочисленная категория осужденных: те, кто в местах лишения свободы, в данном случае на Колыме, что поднимает их статус на порядок выше обычного мужика, стараются спокойно отбыть срок наказания, работают, избегая конфликтов с начальством, но в то же время и не желают становиться помощниками администрации.
Кипешовать – ругаться, сориться и т. п.
Коммуняки – члены коммунистической партии СССР.
Корефаниться – дружить.
Красные шапочки – одна из сучьих мастей. Во времена сучьих войн, они воевали с ворами. Позже эта категория осужденных ушла в лагерное «подполье». Они симпатизируют добровольным помощникам администрации, но не предают свои действия огласке, живя двойной жизнью. Например, услышав о готовящемся побеге, не будут ломиться к куму, а выберут подходящий момент и как бы невзначай расскажут об этом активисту. Тот в свою очередь передаст информацию оперативникам, а на вопрос об источнике, расскажет все, как есть.
Крысятничество – кража заключенным у заключенного в местах лишения свободы.
Крутануться – получить довесок к уже имеющемуся сроку заключения.
Ксива – записка, письмо, послание.
Куражи – выигрыши.
Лежневка – дорога по таежной болотистой местности, выложенная на уровне колес бревнами в два ряда.
Личняк – лагерный педераст, любовник того или иного авторитета. Иметь собственного петуха престижно, недаром в знак дружеского расположения вор может угостить кого-нибудь петухом.
Ломом подпоясанный – одна из сучьих мастей.
Малолетка – в данном случае, колония для несовершеннолетних.
Малолеткой – в данном случае, несовершеннолетним.
Малявы на урок – записка на воров в законе.
Менты не щикотнулись – администрация не поняла.
Мразье – люди, которые умышленно допускают проступки, идущий глубоко вразрез с воровскими понятиями.
Мусорские прожарки – незаконные методы (всякого рода истязания), которые правоохранительные органы применяют в борьбе с преступным миром. Причем, чаще, это словосочетание употребляется в местах лишения свободы.
Намазали лоб зеленкой – приговорили к расстрелу.
Недавно заехал в хату – недавно был водворен в камеру.
Не западло – действовать в рамках тюремно-лагерных норм, которые для заключенных разных мастей могут быть различными. Например, шнырю не западло сдать мусорам кого-либо, а петуху – убирать сортир.
Некрасовские мужики – категория арестантов, вечно ищущих, как бы выгадать для себя что-нибудь и найти местечко потеплее. Они готовы пресмыкаться перед сильными, а при случае не остановятся перед предательством.
Не тыкнут – не изнасилуют.
Одни на льдине – мужики вне зависимости от режима их содержания, не входящие ни в одну из воровских группировок и ведущие себя замкнуто и независимо. Неуважаемая лагерным сообществом масть. Иногда их называют меринами. В условиях изоляции от общества самое опасное для арестанта – это оказаться в положении «одного на льдине», ибо при этом он рискует слишком многим.
Отрицалово – осужденные, умышленные нарушающие режим содержания пенитенциарного учреждения, придерживающиеся, или живущие по воровским законам.
Под замком – находясь в заключении, содержаться в камерной системе.
Под раскруткой на бетонке – в ожидании довеска к основному сроку, в одном из корпусов пересылки.
Положенец зон – осужденный, который исполняет в местах лишения свободы (в данном случае в зоне) функции вора в законе. Такой человек должен обладать всеми качествами вора и не быть им лишь в силу своего возраста, или иных, объективных обстоятельств. Дело в том, что бродяги старше сорока лет редко поднимают свой вопрос, но их авторитет, как правило, соизмерим с воровским.
Понюхать запах параши – успеть побывать в местах лишения свободы.
Попасть в обиженные – по тем, или иным причинам оказаться среди изгоев общества в местах лишения свободы.
Порамсить – разобраться в каких-нибудь мудреных вопросах и нюансах, связанных с воровским образом жизни.
Потолок – максимальная составляющая срока по данной статье.
Похуисты – люди, которым все безразлично. Как правило, таким людям преступники доверяют самую грязную работу. Нередко они берут на себя чужую вину, извлекая из этого в дальнейшем материальную выгоду.
Прикол держали жулики – рассказывали воры в законе.
Пробить на вшивость – всевозможными способами, на которые так богат мир арестантов, проверить характер человека, его человеческую сущность (добрый, жадный, злой, отважный и т. д.).
Пустили своих сук под откос – с определенной целью разоблачили предателей, которые работали на администрацию.
Пятнашка – в данном случае, пятнадцать лет.
Раздербанят подснежник – разорвут труп на части.
Раковые шейки – одна из разновидностей сучьих мастей. Во времена сучьих войн, они воевали с ворами, а позже, во второй половине 1950-х годов, эта категория осужденных ушла в лагерное подполье.
Семейники – осужденные, которые живут в лагере, как братья, деля все пополам. Основа такого союза – единомыслие.
Скучковались в бендешке – столпились небольшой группой в помещении, которое служит для рабочих в обеденное время, перекура и т. д.
Солдаты из конвоя были ручными – солдаты были купленными.
Спецом – специально.
Сроку пятнашка – пятнадцать лет.
Столыпин – спецвагон, предназначенный для этапирования заключенных.
Сходняк держал – во время воровской сходки был, кем-то вроде председателя совета.
Сухариться – выдавать себя не за того, кто ты есть на самом деле.
Татарин был кумовским – татарин был предателем и исполнял поручения оперуполномоченного.
Тюремный зехр – хитрая махинация, хорошо продуманный ход.
Ты чил – воровал по карманам.
Урки (воры) нэпманского замеса – воры в законе придерживающиеся старых воровских традиций.
Устимлаг – лагеря, которые находятся на территории республики Коми АССР.
У хозяина – будучи в местах лишения.
Фартецала – в данном случае, обманчивая видимость чего-либо.
Шконарь – лагерная или тюремная кровать.
Шпанюк – вор в законе.
Шпанюки – воры в законе.
Шпилить под интерес – играть в карты на деньги, золото, драгоценные камни и т. д.
Шнягу запустили – пустили ложный слух.
Этапник – тот, кто прибыл этапом.
Оракул [Часть II]
«Лихие девяностые» внесли столько изменений и корректив в нашу повседневную жизнь, что в большинство из них трудно было поверить. И, конечно же, главным нововведением, для большей части граждан страны стало открытие «железного занавеса». Что тут началось! Каждый, кто имел хоть малейшую возможность позволить себе соскочить за бугор, рвали когти, как могли, нисколько не задумываясь о будущем, которое рисовалось им исключительно в розовом свете.
Ведь разве может быть где-нибудь на земле хуже, чем в этой Богом проклятой стране? На чувства патриотизма и Родину почти всем было глубоко наплевать. У некоторых и денег-то было всего в один конец, но это не мешало им грезить о новой жизни, где, как им казалось, манна небесная будет падать прямо в руки. И не было для этих людей в тот момент никакой разница, Америка это или Бангладеш, Греция или Гвинея-Биссау. Только бы подальше от страны, в которой семьдесят лет их отцы и деды были окованы кандалами коммунистической идеологии, страны, которая на целых три поколения была раковой опухолью, красной заразой на теле матушки земли. (СССР перестал существовать 26 декабря 1991 года).
Ну а как же обстояло дело с преступным миром? И этот, далеко не праздный вопрос, могут задать многие, хотя бы из тех, кто хоть раз в жизни побывал в нашей стране и столкнулся с обратной стороной общества. Точнее, увидел в зеркале его отражение.
Здесь следует пояснить один важный нюанс. Дело в том, что преступный мир, в общем, и воровской в частности – это не всегда одни и те же понятия данной тематики. Поэтому, коснемся пока воровского мира.
А для него, казалось бы, наконец, наступило то самое, что ни на есть время, когда можно было половить рыбку в мутной воде.
Но так рассуждали разве что дилетанты, и, как правило, от силовых структур. На самом же деле, за все существование «нерушимого союза братских республик», который в одно мгновение вдруг развалился как карточный домик, и из-за которого и произошел весь этот сыр-бор, такого смутного времени для воровского мира еще не было. Даже сучьи войны, которые спровоцировали власти в начале шестидесятых годов ХХ века с тем, чтобы уничтожить воров в законе, не шли ни в какое сравнение с тем положением дел, которое сложилось в эту пору.
И как бы мои слова не звучали парадоксально, но, по сути, от того, насколько был силен мир воров, в тот момент, в немалой степени зависело будущее страны. Точнее, будущее временного его отрезка. Ведь если бы всякого рода ничтожествам от преступного мира удалось занять место воров, кто его знает, смогли бы в стране воцарить порядок так скоро, как это произошло позднее. Хотя, это «скоро», для каждого из нас понятие относительное.
Но всё это выяснится не сразу. Пройдет не одна пятилетка, прежде чем все и не совсем, но все же, станет на свои места. А пока, те из босяков, которые находились в этот момент на свободе, покидали вотчину в расчете на то, что скоро вернутся. Уж кто-кто, а они точно знали, что лучшего места, чем матушка-Россия им никогда не найти. И вот почему.
Во-первых, воровской закон, по которому живет основная часть преступного мира страны, был и остается исключительной прерогативой как Страны Советов в прошлом, так и России сегодня. По нашим воровским понятиям, почти весь (за исключением Италии и еще нескольких стран, таких, как Израиль, где диаспора российского криминалитета достаточно велика) остальной преступный мир на планете Земля, жил и живет, в наших понятиях, по козьим законам. Которые проповедуют наши барыги, разного рода мрази и иже с ними, и представителей которых ни в одно порядочное воровское общество у нас не допустят. А в зоне, тем более.
В остальном же мире, эти чертополохи вхожи в приличное общество, потому что весьма уважаемые люди.
Так в чем же дело? Критерии иные. У нас они основаны на воровских понятиях, у них же исключительно на деньгах. А как же можно вору жить, но главное общаться среди такой нечисти?
И второе. Главный постулат воровских канонов о том, что вор только тогда является истым вором, когда живет за счет своей профессии, еще никто не отменял. А по сему, крадуну, покинувшему вотчину, рано или поздно придется воровать, чтобы жить. Но в природе существует закономерность. Сколько бы вор не воровал, тюрьмы ему не избежать. В масштабах вселенной, можно по пальцам пересчитать, кому это удавалось. Так что аксиома эта применима к преступникам данной профессии всех стран и народов и во все времена.
А теперь представьте российского вора, ну, к примеру, в тюрьме Стамбула, или Каира. У меня прямо мурашки по телу пошли. Лучше уж не буду углубляться в тему. Ибо в одной из тюрем этих двух столиц востока мне пришлось побывать. Слава Богу, не долго.
Так что, как не крути, как не верти, а лучше родных пенатов, как бы они не звались, СССР ли, царской, или иной Россией, нет, и быть для российского вора не может. Из чего следует, что урки, правда не совсем по собственным убеждениям, но все же, были намного патриотичнее, нежели иные граждане, покинувшие в тот момент родные места.
А вот теперь вернемся к преступному миру, по большому счету, куда, как общеизвестно, входят не только воры всех профессий, разного рода мошенники и аферисты, но и бандиты, грабители, убийцы, насильники, разбойники и иные преступники.
Воспользовавшись тем, что элита преступно мира в спешке покинула родные пенаты, они попытались занять их насиженные места. И надо признаться, им это в большинстве своем удалось.
То шебутное время напоминало начало революционного периода Страны Советов, когда в моде были лозунги типа «У нас кухарка сможет управлять государством». Правда, у красных дальше лозунгов дело не пошло, зато тот преступный мир, который они породили, легко перешагнул эту черту маразма.
Жиганам нэпманского замеса, которые уже давно покинули сей бренный мир, даже в самом кошмарном сне не могло присниться, чтобы некогда чертоватый, но смышленый халдей, то бишь, официант, стал рулить оголтелыми бандитами если не всей, то уж половиной Златоглавой точно. И что самое непостижимое, был в непререкаемом авторитете у своих подданных, в число которых входили отморозки, убийцы и насильники. Началось время патлатых детей горчичного рая.
Да ладно бы еще, если он один был такой. Бывшие спортсмены, менты и даже, некогда неподкупные чекисты, тоже впряглись в эту упряжь. И опять-таки не безуспешно. Правда, они друг друга отстреливали, как котят. Порой из-за контроля над каким-то захудалым ларьком, в котором торговали всякого рода безделушками. И все эти ненужные жертвы были лишь для того, чтобы стращать конкурентов. Но как заметил по этому поводу один знакомый циник, «лес рубят – щепки летят».
Правоохранительные органы, хоть и погрязшие в чудовищной коррупции, тем не менее, кого-то должны были сажать. Ведь разгул преступности захлестнул страну, как никогда. Так появились на тюремных нарах козлы отпущения, которые, естественно считали себя бойцами бригад, у которых столько-то сабель, такие-то торговые точки и т. д. На самом же деле, это была молодежь, без каких-либо жизненных принципов, с нулевым интеллектом и полным отсутствием какой-либо нравственности. С тех самых пор и вошло в обиход словосочетание «полностью отмороженный».
Но тюрьма всегда была воровской вотчиной. За некоторые зехри, которые отморозок выкинул на свободе, и за которые его могли еще и похвалить, в камере, как минимум, его могли опустить.
Нетрудно представить, что десятилетиями отлаженный механизм, в котором все винтики и болтики подогнаны так, что комар носа не подточит, вдруг дал сбой. И неожиданно вдруг, чтобы вернуть всё на круги своя, вместо ювелира-часовщика приходит слесарь-сантехник. Что-то сродни этому произошло и в местах лишения свободы. Война здесь также длилась не один год, а воровской ход победу праздновал не сразу.
Полагаю, теперь самое время заглянуть за кордон, ведь «железный занавес» уже год как поднят, а урок можно встретить не только по всей Европе, но и в США, и даже в Канаде. Но основная масса воровского мира осела в Греции и немногие на Кипре. Дело в том, что большинство воров в законе в СССР, были родом с Кавказа, в частности, из Грузии. Особенно те из них, кто жил на побережье Черного моря. Это Абхазия и Аджария. Большая их часть были наполовину греки. Так что, многие из них, по прибытию на землю древних эллинов, сделали себе двойное гражданство. Следует отдать дань уважения правительству Греции, которое подошло в тот момент к этому вопросу очень благосклонно и не стало чинить даже маломальских препятствий своим землякам из тех исторических мест, куда когда-то в древности аргонавты во главе с Ясоном отправились за золотым руном.
Не буду описывать о том, кто стал возвращаться домой в Россию, и зачем. Когда это стало происходить, и по какой причине. Об этом и так уже много написано. Скажу лишь одно. Главным для всех без исключения бывших граждан СССР стала возможность свободного передвижения по миру. Не был исключением из этого числа и я, ваш покорный слуга, уважаемый читатель. Тем более, передо мной, старым карманником, открылись уникальные возможности расширить свой кругозор, а главное профессиональный опыт на просторах Европы. Чем я не преминул воспользоваться, меняя города и страны, как перчатки.
В тот период моих странствий единственный человек, которого я вспоминал по несколько раз на день была моя покойная бабушка. Этот поистине благородный, честный, глубоко порядочный и родной мне человек, в полуподвальном помещении, где я родился и вырос, учила меня французскому языку, знанию этикета и многим другим премудростям света, которым должен был обладать юный вельможа, в надежде на то, что предо мной когда-нибудь откроются салоны лучших домов Европы.
О, если бы она была жива, и узнала, где и в качестве кого я применяю данные ей уроки, видит Бог, она тут же легла бы обратно в могилу. Поэтому, будучи суеверным, как, почти все воры моей профессии, прежде чем очистить карманы того, или иного француза, грека или итальянца, я, когда тому благоприятствовали обстоятельства, мысленно просил у нее прощение. Так было как-то спокойней на душе.
Профессия карманника по-своему уникальна. Настоящий втыкала – это своего рода аристократ в уголовном мире, который должен обладать незаурядной ловкостью, хорошими актёрскими способностями, крепкими нервами и чуткой реакцией. Ко всему прочему, карманники люди творческие.
Одним из легендарных кошелешников непманского замеса, был кошелешник с странным погонялом для ширмача – Инженер. Согласитесь, больше для домушника подходит, или в крайняк для медвежатника. У него были удивительные способности карманного вора, о которых уже в то время слагали легенды. В его преступной биографии есть один интересный факт, который я не мог обойти стороной.
Так вот, в самом начале НЭПа, французские «коллеги» Инженера, наслышанные о его мастерстве, пригласили российского ширмача прибыть всего на несколько часов в Париж лишь только затем, чтобы снять очень дорогое колье с шеи английской титулованной особы (мне бы не хотелось называть ее имени). Подводку (способ подхода к жертве) и дальнейший сбыт украденного принимающая сторона брала на себя.
Получив крупный задаток, Инженер выехал в Париж по заранее украденным парижскими втыкалами документам французского дипломата. В течение суток он посетил прием в американском посольстве и уехал обратно на родину. Судя по разразившемуся потом во Франции дипломатическому скандалу, Инженер выполнил свою работу на отлично.
В то время, о котором мой рассказ подобная работа (спустя семьдесят лет), называлась втык по вызову. Она была мне более чем знакома, но я, правда, за пределы СССР еще не выезжал, ограничиваясь работой внутри Союза. И виной тому, как не трудно догадаться, был все тот же пресловутый «железный занавес». И в отличие от Инженера, который судя по рассказам и слухам, превосходил меня в профессионализме, я всегда работал в паре, и как правило, в основном, с дамой. Причем, это были исключительно леди воровского мира. А другого подхода наша профессия и не приемлет.
Так что, вернулся я восвояси, отнюдь не потому, что так жаждал вновь лицезреть родные пенаты. Да и ностальгия меня как-то еще не успела замучить. Моей целью было найти подходящую партию, для игр с огнем, коей должна была быть дама. Шерше ля фам, как говорят, в подобных случаях французы.
* *
Ростов-папа встретил меня проливным дождем, который, на языке цыган, окруживших меня на автостанции, приняв за жирного бобра, неминуемо предвещал обалденный фарт. По-шустрому откупившись от назойливых побирушек (пихнув двум детишкам по стольнику за манишку), я нырнул в зал ожидания, где по привычке оглядываясь только лишь шнифтами, проскочил его насквозь и оказался у стоянок такси. Здесь меня должны были ожидать встречающие коллеги, которых опытный глаз старого ширмача вычислил мгновенно.
То, что взгляды босяков проскользнули мимо меня, когда я выходил из зала ожидания, было мне на руку. Ведь по описанию, я не подходил под типаж, который они ожидали. Так что у меня было время и возможность оглядеться по сторонам и прикинуть х… к носу. И лишь после того, как я убедился, что хвоста нет, я резко запрыгнул на заднее сиденье серебристой япошки. Парни оказались понятливыми. Увидев мой незамысловатый маневр, они, недолго думая, запрыгнули следом, и лишь только после того, как мы выехали за пределы автостанции и оказались на трассе, тот, кто сел рядом, спросил пароль. Но вопрос был задан, я бы сказал, каким-то безразличным тоном. Так покупатель спрашивает цену товара, заранее зная, что не купит.
* *
Уже успев побывать некоторое время дома, в Махачкале, я засобирался было в обратный путь, туда, откуда прибыл. Но маршрут мой лежал, через Москву, а возможно и Питер. Только в этих двух мегаполисах, где у меня были неплохие завязки среди местной шпаны я мог найти то, что искал. Но моим планам суждено было измениться. И, вместо прямой дороги на Москву, в фирменном мойдане «Дагестан», мне пришлось трястись в «Неоплане», кстати, тоже фирменном, но авто, где конечным пунктом моего пребывания был Ростов-на-Дону. Но, как я предполагал, ненадолго. От силы на пару дней. Но мы знаем, кто в этом мире предполагает, а кто располагает. Се ля ви, как сказали бы все те же французы.
Перед самым отъездом из Махачкалы, ближе к вечеру, ко мне домой позвонили из второй городской больницы. Девушка-медсестра из реанимационного отделения, нежным, почти детским голосом объяснила мне, что человек, которого утром, почти в бессознательном состоянии доставили в дежурный покой, пришел в себя и просит, чтобы я навестил его. Не имя, ни фамилия больного, мне ни о чем не говорили. Но, для того, чтобы придти на похороны, или в больницу, ФИО, как известно, не требуется. Но я и без того уже фибрами почувствовал, какой будет расклад.
Так что, недолго думая, я вызвал по-шустрому мотор и без промедления отправился по указанному адресу. В больном я готов был узнать кого угодно, но только не его. Это был друг детства Юрка Солдат. Он, как и каждый из нас в то время, сухарился, поэтому и жил по чужим ксивам.
Мы не виделись целую вечность, лет тридцать, не меньше. То он был у хозяина, а когда освобождался, меня принимала контора. Такая вот масть козья преследовала нас. А ближе к перестройке, он вообще покинул родные пенаты из-за того, что мусора плотно упали на хвост, и как я слышал краем уха, жил последнее время в Северной Пальмире.
Многие годы, которые проведены в неволе рано или поздно дают о себе знать каждому из тех, кто прошел прожарки, ломки и тому подобные мусорские издевательства. Так что, прободная язва, которая обострилась именно в тот момент, когда Солдат должен был отправиться с серьезной малявой в Ростов, к местному урке Эдику Краснову, была тому прямым подтверждением. А такие подлянки, как правило, судьба преподносит в самый неподходящий момент, как будто спецом пробивает нас на вшивость.
Конечно же, после лежки на кресте, где-то через недельку, ну от силы десять дней Юрка и сам мог бы спокойно отправиться в дорогу, но в данный момент на карту было поставлено очень многое, если не сказать, что всё. Это касалось старого вора, которого мы оба хорошо знали не один десяток лет. И вот почему.
Эдуард Краснов, или, как его еще называли «Эдик Ростовский», Эдик «Красный», был родом из Карагандинской области Казахстана. В Ростов перебрался после первой в своей жизни отсидки в Новочеркасской крытой, где в 1970 году был коронован легендарным «вором в законе» Васей Бриллиантом. На тот момент этот факт был более чем определяющим для любого уркагана. Я немного встречал урок на своем пути, которые бы могли сказать, что были обласканы фортуной в виде воровского подхода к ним патриарха воровского мира Васи Бриллианта.
Возможно, встретил бы и больше, если бы столыпины ходили по маршруту составленному ворами, а в камерах килешовки были так же с их подач. Это я к тому, что не всегда, а зачастую, очень редко, воровской сходняк может собраться именно в тот момент, который наметили воры. То на этап дёрнут, то камеры начнут килешовать, то еще какая пидерсия мусорская.
До начала 90-х годов Эдик пользовался неограниченным авторитетом и считался одним из самых влиятельных воров в законе в Ростовской области, и не только. Одно только то, что подход к нему был сделан Васей Бриллиантом, который бы никогда не позволил себе окрестить человека даже с малейшей долей отклонений от воровских канонов, говорил сам за себя. Но времена, к сожалению меняются. Угодив в очередной раз за решетку в 1992 году, Эдик выпал из расклада на пять долгих лет, в течение которых регион был полностью поделен на сферы влияния.
Малява, которую я вёз, по моим предположением, должна была поставить все на свои места. Но что в ней было написано, я не знаю и до сих пор.
На хазу к жигану мы прибыли где-то через минут сорок. Эдик знал, кто должен был привести депешу, но, увидев меня, узнал и нисколько не удивился и не расстроился. В свое время он часто бывал в Махачкале. При его непосредственном участии на сходняках был сделан подход к нескольким дагестанским ворам. Да и вообще, Эдик всегда питал уважение, как к дагестанцам, в общем, так и к дагестанской шпане, в частности.
Я свою миссию выполнил и назавтра рассчитывал покинуть гостеприимную донскую землю. Почему именно на следующий день? Да потому что не побывать на босятском сходняке, я не мог. Эта процедура вменялась в обязанность бродяге. Почти то же самое, что и у хозяина. Ведь откуда прибывший этапом арестант, бродяга по-жизни, знает все о том, когда, куда и кто именно из шпаны прибыл? Собирает материал исходя из маляв, прогонов, бозаров босоты на этапах, пересылках, в тюрьмах и т. д. Это один из множества воровских отличий, которые и выделяют его среди остальной массы заключенных.
То же самое и на свободе. Сведения, которыми я потом делился при встрече с «коллегами», в своих похождениях, я получил при встрече с босотой, на которую попал вечером того же дня.
В любом регионе вокруг вора в законе собирается шпана, которая проезжего бродягу ставит в курс последних мировых воровских новостей. Именно мировых, я не оговорился. С тех пор, как упал «железный занавес», именно мировых, а до этого новости были лишь союзного масштаба.
На сходняке присутствовало человек десять. Двоих из них я знал не понаслышке. Карманников: грозненского – «Кабана», дерзкого надменного, «армяна по крови», как он любил частенько выражаться, как будто в жилах других армян текла вода.
И питерского «Стропилу» – как его на свой манер окрестили кавказцы, за его маленький рост. С ними в бригадах он в основном и крал. Я знал его крутой и непримиримый нрав по отношению к разного рода нечисти, потому что чалился с ним на спецу малолетке в Нерчинске. Я даже знал, кто научил его всем азам карманной тяги. Это был старый кошелешник, урка из Эчмиадзина по имени Рантик. После того, как он откинулся из малолетки, в середине шестидесятых, получилось так, что он лишился не только родителей, которые погибли во время пожара, но и дома, в котором они все проживали. Воры не дали умереть с голоду ни ему, ни братишке, который с их подачи пошел по правильному пути, выучившись на инженера и женившись на порядочной девушкой. И все это благодаря поведению Стропилы на малолетке. Дело в том, что в те годы, все зоны малолеток в СССР были красными, как пожарная машина. И что бы заявить о себе, как о молодом уркагане, была необходимо чисто воровская закваска.
Тогда еще я не знал, что из массы информации, которую мне предстояло услышать в тот день, одна, сыграет в моей жизни достаточно важную роль. Точнее, даст мне возможность вернуть старый долг сторицей.
В тот момент, когда я присоединился к присутствующим босякам, прикол держал шахтинский Бархошка – беспалый домушник со стажем. Он только что откинулся с Ветлага, где чалился на тридцатки, в Бадье, вместе с Васей Бузулуцким. В его бытность у хозяина он и помер, но только не так, как прикалывали вокруг. Ведь Бузулуцкий был очень авторитетным вором. О нем, так же, как и о его знаменитом тезке, Бриллианте, слагали немало легенд.
Оказывается, виной всему был осколок от бутылки с шампанским. Точнее, он был предлогом, чтобы его умертвить. Менты давно хотели избавиться от Бузулуцкого, но не знали как именно, а тут подвернулся удобный для них случай. Вася с босотой в зоне отмечали какое-то знаменательное для них событие. Каким-то образом горлышко от бутылки с шампанским разбилось, и осколок отлетев, попал ему в горло. Все бы ничего, но рана постепенно стала гнить. В конце, концов, коновалы поставили диагноз, что это рак, и отправили жулика в Питерские кресты, точнее в Газы – всесоюзную больницу при тюрьме. Ну а здесь лепилы доделали своё грязное дело. Уркаган умер на операционном столе, так и не придя в сознание.
Было и еще несколько интересных приколов, но для читателей они не будут интересны. Поэтому, остановлюсь на главном.
Как-то незаметно мы с Кабаном и Стропилой уединились от остальной братвы, хапнули по соточке «Ахтамара» – армянского коньяка, пару бутылок которого Кабан, насколько я знал, всегда держал при себе, и углубились в прошлое. А нам было что вспомнить.
Если со Стропилой у меня были связано полтора года мучений на малолетке, да пара удачно проведенных «операций» на бздюн, много позже, уже, будучи на свободе, то с Кабаном воспоминания носили немного иной характер. Наверное, потому, что они были связаны с местами, где мы родились и выросли. Одно время я часто наведывался с пацанами в Грозный. В те годы моими неизменными спутниками были «Кардинал», старый кошелешник с пятого поселка, Муртуз – «Тульку», теперь уже покойный ширмач с Ермошкина и Патя «Малютка» – карманница экстра-класса. Мы останавливались в районе железнодорожного вокзала, на хазе одного центрового барыги, а с Кабаном и его приятелями встречались то на Жидовке, то на трассе.
Кабан так же, как и многие его «коллеги» в то время, гастролировал, в том числе приезжая и в Махачкалу, город, с которым у него были связаны самые теплые воспоминания. Насколько я помню, он тычил неизменно с одной и той же бригадой. Напарником у них, с Лечей, молодым втыкалой, который, кстати, проживал по соседству с хатой, где жила мать Васи Бузулуцкого, были кошелешницы-русачки мать и дочь. Имя матери, насколько мне не изменяет память, Клава, а вот имя дочери не помню. Их бригаду знали далеко за пределами Чечни и Дагестана. По приезду в Махачкалу они неизменно останавливались в гостинице Кавказ. Встречались мы и на гастролях. В основном, в Баку, городе, куда в те времена съезжались почти все союзные бригады ширмачей.
Бозар протекал, как обычно. Не торопясь, не спеша, и не перебивая друг друга, каждый из нас излагал то, что считал интересным и нужным, и не только с воровской точки зрения. Что-то вставлял в разговор собеседника, но делал это тактично, как и подобает воспитанному человеку, и, наконец, молчал и слушал, как это умеют делать только воры.
В один из моментов, когда прикол держал Кабан, я ненароком пропустил, (выпитый коньяк давал о себе знать) один важный момент, где Кабан заикнулся о Греке. Точнее, о его жене Созии, которую он случайно встретил недавно на пристани. Дальнейшие расспросы, а главное, ответы на них, меня окончательно отрезвили.
Кабан знал, что я чалился вместе с Греком, знал, хоть и вскользь, о наших братских отношениях, поэтому и рассказал все, что знал о его семье без утайки.
То, что произошло в Чечне за последние годы, вынудило множество людей, которые прожили большую часть своей жизни, а некоторые и родившиеся на этой земле, покинуть родные места и оказаться беженцами. Без дома и средств к существованию судьба разбросала их по разным закоулкам нашей, некогда большой и могучей Страны Советов.
Эта участь также постигла жену и дочь Гриши Грека, старого уркагана, память о котором всегда жила в моем сердце. Но им, хоть немного, но все же повезло больше других. Ибо Ростов-на-Дону, это все же не Мордовия, и не Вятская губерния.
Они жили недалеко от речного порта, там, где в наспех сколоченных, точнее, в реконструированных избах времен Первой мировой войны ютились около двух десятков семей беженцев из Чечни. В основном, это были русские, несколько семей армян и евреев. Каждый зарабатывал, кто как мог. Но в основном, все почти занимались торговлей. На местной барахолке, на автостанции, железнодорожном вокзале и т. п. объектах массового скопления людей. Ростов – большой город, всегда есть, где развернуться торговому люду. Это был, в то время, единственный бизнес, который давал возможность иметь хоть какую-то стабильность в семейном бюджете таким, как они, бедолагам.
Милица – дочь Гриши, так же, как и её мать, была преподавателем английского языка. Ко всему прочему, мать с дочерью не просто не хотели заниматься торговлей, но просто-напросто не умели это делать. Возьмись они за этот бизнес, обязательно бы прогорели. Поэтому не мудрствую лукаво, они с самого начала решили заниматься тем, что могли делать лучше всего – преподавать. Но кому в то время, а читатель думаю, помнит, о каком времени я веду свой рассказ, нужно было изучение английского языка, или уроки музыки при подобного рода обстоятельствах. Другое дело кафедра ВУЗа, или на худой конец школьный класс. Но для такого вида деятельности необходимо была ростовская прописка, а в их паспортах она до сих пор оставалась грозненской.
Так что маме с дочкой приходилось перебиваться случайными заработками. По крайней мере, одной из них. Ибо, заработок у них был, худо-бедно, стабильный. Они убирали дома богатых горожан. Когда не было репетиторства, работали вдвоем. Если же появлялась возможность, и кто-то, естественно, за копейки, хотел повысить свой уровень знания английского языка, Созия всегда предоставляла этого клиента дочери, прекрасно понимания, что творится на душе у ее ребенка в тот момент, когда им приходиться выступать в роли прислуги.
Если в бизнесе, которым занималось тогда большинство беженцев, воспитанность и образованность интеллигентных гречанок не могла принести им необходимых средств к существованию, то здесь получалось все наоборот. Именно вышеупомянутые данные и были определяющими для состоятельных людей, которые не желали видеть в своих «замках и дворцах» в качестве прислуги иных представителей человечества, кроме как тех, кто мог изъясняться на трех европейских языках, читал в оригинале Шекспира и музицировал на нескольких инструментах. Вот такие были времена. Впрочем, оно и сегодня не лучше.
Эх, Гриша, брат!!! Если бы он в тот момент мог подняться с могилы и увидеть, как зарабатывают себе на пропитание его родные, неуютно пришлось бы преступному миру региона, который уже давно позабыл о многих воровских заповедях, сделав акцент на мафиозные начинания. Да разве только в этом погряз Ростов, город, некогда входивший в первую пятерку воровских мегаполисов СССР? Но отожествлять, как я уже не раз убедился, никогда не следует. Чуть позже читатель поймет почему.
* *
Я никогда не знал и не видел (кроме, как на фотографии, которую мне двадцать лет назад показывал Гриша «Грек» в зоне) ни жены, ни дочери уркагана. Но этот факт нисколько не мешал моим планам. Выяснив у Кабана все данные, которые мне могли бы пригодиться в будущем, на следующее утро я направился не на вокзал, как было мною задумано, а на берег Дона, в район, где проживали беженцы из Чечни.
Честно говоря, я никак не ожидал увидеть такое безобразие, которое предстало предо мной через час после того, как я покинул босяцкую хазу. Хоть я и повидал на своем веку немало «неудобств», но это было в неволе. А здесь! Бытовые условия, где-то на уровне первобытно-общинного строя. Постоянная сырость. Отсутствие питьевой воды, которую приходилось носить ведрами на расстояние в несколько километров. То же самое и туалет. Беженцам приходилось идти по этому поводу в город. Точнее, прежде чем возвращаться домой, делать это заранее. Что касалось малой нужды, то для этих целей существовал наспех сколоченный туалет, куда, из-за «сложности» его конструкции, ходили, как правило, в такое время, когда на город опускались сумерки.
Но это еще что! Недалеко от поселка из одноэтажных деревянных строений находилась мусорная свалка, которую при всем желании, если даже все вместе беженцы захотели бы очистить, сделать это было бы не реально, потому что жители близлежащих крупнопанельных домов, на протяжении многих лет привыкли выкидывать отходы быта именно сюда. Плюс испорченная рыба, которая также выбрасывалась на эту свалку рыбаками-браконьерами.
А тот факт, что с недавних пор здесь поселились люди, притом беженцы с малыми детьми, никого не волновал. Привычки горожан из красного совдеповского прошлого, видать, были намного сильней их нравственной и некоторой иной составляющей. А о браконьерах и говорить нечего.
Лишь одно обстоятельство, точнее, дар божий – ветер, который постоянно дул вдоль берега Дона, разгоняя тем самым вонь и смрад от близлежащих нечистот, все же как-то облегчал жизнь бедолагам, давая возможность этим несчастным хоть как-то переносить все тяготы дискомфорта, которые судьба почему-то обрушила именно на их головы.
«Хозяев» двухкомнатной хибары, дверь которую мог выбить даже ребенок, с утра я не застал. В принципе, я так и предполагал. За то у меня было время осмотреться вокруг и наметить дальнейший план действий. Я прекрасно понимал, что для того, чтобы Созия с Милицей поверили в благородства моих намерений, мне необходимо будет все мое мастерство рассказчика. Я бы конечно мог взять с собой Кабана, но, судя по его рассказу, как холодно они встретились и расстались с супругой Грека, решил не делать этого, а лишь обмолвиться о встрече. Да и то, при крайней необходимости. Тем более, отсутствие какой-либо радости при встрече не просто с земляком, естественно, исходила не от Кабана. Больше того, Кабан предложил ей посильную помощь, но она отказалась. Из чего можно было сделать однозначный вывод, что все то, что было связано с покойным мужем, точнее, с теми, кто был когда-то с ним в одной упряжке, было крайне неприятно Созии, да и дочери Гриши, скорее всего тоже.
Наша встреча состоялась вечером того же дня. Я её так почти и рисовал в своем воображении.
Дождавшись, когда сумерки окончательно опустились на город (во избежание всякого рода неожиданностей), я подошел к хижине и тихонько постучал в дверь. В одной руке я держал букет из, сине-черных, бархатных болгарских роз, а в другой, полиэтиленовый пакет, в котором была большая коробка дорогих шоколадных конфет, две банки такого же дорого кофе и несколько пачек самого что ни на есть качественного чая, который я смог найти.
– Входите, открыто, – почти тут же услышал я в ответ на мой стук.
Это был приятный женский голос, который тут же напомнил мне Монику, в «Диком сердце». Но я, к сожалению, не знаю, и по сей день, кто ее дублировал.
Дверь действительно была не заперта. Переступив порог, я оказался в крохотном помещении, которое, судя по утвари, служило домочадцам кухней и прихожей. Соединялось это строение с другой комнатой огромным дверным проемом.
Не останавливаясь, я сразу вошел в зал. Если можно было назвать эту комнату именно так, а не иначе. В глаза сразу бросился изящный, из зеленого атласа абажур, внутри которого сияла лампочка Ильича. Никак не меньше двухсотки. Один только этот предмет интерьера придавал комнате тот незабываемый колорит прошлого, который навсегда остается в памяти с детства. К тому же скрипучий пол, под дешевой дорожкой в коричневую полоску, белые занавески в половину окна, небольшие ажурные вышивки на стенах, и еще несколько мелких аксессуаров к дополнению интерьера этой скромной обители, как-то сразу напомнили мне далекое-далекое прошлое. А с этими воспоминаниями, пролетевшими, как одно мгновение пришло какое-то успокоение, какая-то умиротворенность, которая свойственна очень тонким и чувствительным натурам. Я даже вздохнул, захлебываясь от нахлынувшего чувства.
Почти одновременно с моим появлением, женщина, которая ответила на мой стук, встала из-за стола и молча вперила в меня свой взор, в котором, как я тут же отметил для себя, была сокрыта вся извечная женская мудрость.
Можно ли забыть такую своеобразную внешность эллинки? Благодаря чисто греческому типу Созия, а это была именно она, и в 64 года оставалась довольно-таки привлекательной. Великолепные черные волосы, очень белые, словно выточенные зубы, красные, немного полноватые, может быть, из-за какой-то капли мавританской крови, губы. Все это подчеркивалось изысканной грацией подлинной островитянки, с Кипра или Крита.
Она казалась безмятежным домашним божеством: спокойная, внушающая уверенность, руки скрещены на белом фартуке, белый ситцевый платок из-под которого выбивается прядь седых как иней волос, лицо в веселых морщинах. Серо-голубые глаза излучали покой и тепло.
Приблизительно такой я ее и представлял, даже не смотря на то, что когда поинтересовался у Кабана о внешности обоих женщин, он, по своему обыкновению, описал мне их так, как это мог сделать, ну разве что человек, у которого напрочь отсутствует не просто воображение, а само чувство прекрасного.
Полностью овладев собой, я поздоровался и не произвольно протянул букет с цветами. Когда хозяйка, взяв их у меня, вышла в кухню за вазой, которую ей заменила 750-граммовая стеклянная банка, я успел положить содержимое пакета на стол и остался стоять, ожидая приглашения.
Все эти действия, с обеих сторон, сопровождались молчанием. Вдруг, когда цветы в «вазе» уже красовались на столе, а чайник нашел свое место на кухне, хозяйка прервала тишину, пригласив мне сесть и тут же, извинившись, спросила: «Вас послал Рубен (Кабан)?» «Нет, меня ни кто к Вам не посылал, правда, именно от Рубена я узнал, что Вы есть, но самое главное, что совсем рядом», – ответил я, не задумываясь.
Судя по тому, как развивались события далее, хозяйке понравился мой ответ высказанный именно в такой манере. Она присела напротив, и, скорее всего, задала бы мне еще вопрос, и не один, но дверь сзади меня жалобно заскрипела и тут же закрылась за кем-то. Сначала я услышал шарканье обуви о подстилку, а потом мягкий, материнский голос Созии: Милица, посмотри там чайник, не кипит?
Я встал из-за стола, повернулся к двери и можно сказать, обомлел на время. Милица, была точной копией своего отца.
Перед моим изумленным взором предстала высокая жгучая брюнетка, 32–34 лет. Ее атласная кожа была ослепительна бела, что еще более оттеняла великолепные черные волосы. Черты ее лица были совершенно правильны; легкий румянец в лице, красивый разрез глаз с живейшим блеском и величайшей мягкостью во взоре; у нее были красиво изогнутые брови, маленький рот, ровные жемчужные зубы и нежно-розовые губы, тронутые милой и застенчивой улыбкой. Ее украшала лишь природная красота, из прочих же прикрас была лишь тоненькая золотая цепочка на шее, на которой висел золотой крестик. Ее грудь была хорошо развита и ни в чем не выходила за рамки красивых пропорций. Мода и воспитание приучили ее наполовину приоткрывать её с тою же невинностью, с какой она являла всем свою белую пухлую руку или щеки, на который цвет розы сочетался с белизною лилии.
Не знаю, сколько бы еще времени я так стоял, если бы на землю меня не опустил все тот же голос Созии. «Ну что же Вы стоите, садитесь. Да, кстати, как Вас зовут, молодой человек?» – спрятав нечто подобное улыбке в уголках губ, спросила Созия. «Заур», – ответил я, и вновь сел за стол.
В тот вечер чай выпить мне так и не удалось. Расположившись за столом, я думал было, что начну рассказывать, а, как со мной потом «по-дружески» поделилась Милица, получились воспоминания вслух, правда, в самой доступной форме. Но что самое главное, изложено было все абсолютно искренне.
Сначала я рассказал про ту зону (конечно же, в доступной для дам форме), в которой мы с Гришей познакомились, и где нам пришлось некоторое время отбывать срок заключения. Потом об этапах, пересылках, и, наконец, тубзоне, где их муж и отец буквально вытащил меня из рук чахоточной смерти. После чего наши пути-дороги разошлись навсегда.
Что характерно, за то время, которое я вел свой рассказ (где-то около двух часов), я не услышал в ответ ни одного вопроса. Но меня это нисколько не удивило. Ведь я прекрасно понимал, что им необходимо какое-то время, что бы понять и проанализировать произошедшее. Поэтому, прежде, чем откланяться, я, уже в нескольких словах, рассказал им о своих намерениях, дав при этом понять, что отказ от предлагаемой помощи не принимается ни под каким видом. Если же они все же позволят отклонить мою помощь, Бог их за это по головке не погладит. Это был первый попавшийся аргумент, который пришел мне в голову. После этих слов, впервые за время нашего общения обе женщины улыбнулись и не стали испытывать судьбу.
Так что быстренько выяснить, что на тот момент, все, что им было необходимо, это паспорт с ростовской пропиской, мне не составило ни какого труда.
Откланявшись, я сразу направил свои стопы на хату, где притухал шпанюк. Я спешил, как никогда. Ведь именно сегодня, насколько я был информирован, Эдик должен был уехать на недельку в Ташкент. Но, на мое счастье, поездка по каким-то причинам была отменена. И хоть он был не в настроении, все же выслушал меня, не перебивая. А этот факт в тот момент многого стоил. Тем более, когда собеседник, не в духе. Ведь те, кто хорошо знает манеру моего изложения, знают, что я не могу быть краток, всегда стараясь разжевать каждую деталь, подчеркнуть, с первого взгляда, казалось бы, незначительный нюанс, который в конечном итоге становиться основным аргументом в каком-нибудь важном споре. Тем более, когда дело касается покойного вора, о котором шпана не забывает никогда.
Эдик был уркой старого замеса, с которым мне было легко и свободно общаться. Ни хочу особо разглагольствоваться на этот счет, но тот, кто в теме, поймет меня сразу. А кто не поймет, тому и не надо.
Так что, тут же, не откладывая в долгий ящик, Эдик дал кому надо соответствующие указания. Мне оставалось только на следующий день привезти по указанному адресу фотографии Созии и Милицы.
С утра я подъехал к их лачуге на моторе, отвез к фотографу, и, не дожидаясь готовой продукции, развез, обеих дам по адресам, которые они мне указали. Это было место их сегодняшней работы. Теперь оставалось только ждать. Видит Бог, эти девять дней, которые понадобились для того, что бы я мог вручить новые паспорта их владельцам прошли для меня так, как будто после долгого срока заключения, когда мне оставалось девять дней до свободы, мусора меня хотели крутануть.
Но все проходит, как говорил в древности старый еврей, прошли и эти девять долгих дней ожидания. Новенькие ксивы, в одном из небольших магазинчиков на проспекте Буденного вручил мне лысенький фраерок, с виду похожий на подпольного миллионера Корейко, из «Золотого теленка». Точнее, на артиста Евстигнеева, который сыграл эту роль.
Единственное, что он позволил себе высказать за все время нашего шапочного знакомства, это, чтобы хозяева документов не забыли в них расписаться.
Я естественно, поблагодарил его, и хотел было перекинуться парой-тройкой фраз, но не успел я только лишь на мгновения опустить глаза, чтобы, хоть мельком взглянуть на то, что было завернуто в пакете, как его и след простыл.
О том, что паспорта были самые что ни на есть настоящие, то есть, как и положено, внесенные в базу данных, не могло быть и речи. Это был как раз тот момент, когда почти все продавалось и покупалось, а тем более в милиции. Вопрос стоял лишь в одном. Кто сколько даст. Поговорка «Что нельзя купить за деньги, можно купить за большие деньги», в то время была, более чем актуальна.
Может это даже и к лучшему, что фраерок слинял так шустро, подумалось мне в тот момент. Видать не захотел лишний раз светиться. Ну что ж, Бог ему в помощь. В конце концов, все хорошо, что хорошо кончается.
Все эти девять дней я не видел Созию с Милицей. Не спешил я к ним и в тот момент, когда паспорта уже были у меня в кармане. Во-первых, я, по привычке, решил дождаться темноты, а во-вторых, хотел застать женщин вместе. Да и отметить это событие нужно было как-то по-особенному. Ведь я прекрасно понимал, что за последние несколько лет, у матери с дочерью не было повода праздновать какие-либо события. Даже дни рождения они не отмечали. И на это были определенные причины, которые читателю, полагаю, нет нужды объяснять.
Времени до наступления сумерек было предостаточно, так что я решил прошвырнуться по магазинам. Благо копейка в карманах гуляла по ништякам. Поэтому, поймав мотор, я решил отправиться в один из самых дорогих супермаркетов Ростова. Гулять, так гулять.
Уже в пакете лежала красная и черная икра, моя любимая малосоленая семга, дорогое французское вино, коньяк «Наполеон» и много другой, аналогичной снеди, а я все стоял и думал, что же прикупить еще.
На фоне всей этой кулинарной роскоши, я стоял возле стеллажей с заморским товаром и, глядя в никуда, стал вдруг вспоминать зону, своих корешей, Грека, Армяна и много всего аналогичного. И от этого на душе образовалось какое-то двоякое чувство. Странно. Вроде бы только что был в прекрасном настроение. Строил какие-то планы и вдруг на тебе. Все перевернулось с ног на голову.
Нечто подобное со мной иногда случалось. Но, как правило, это всегда происходило в тот момент, когда было совсем плохо. В чем выражался этот негатив, не важно. В тот момент, я начинал вспоминать тех, кто гниет за решеткой в карцерах, БУРах, на крытой. И это лекарство действовало всегда безотказно. А здесь ведь ничего такого не было.
Я стал размышлять на этот счет и мысли унесли меня в далекое прошлое.
* * *
Семилетка сроку была позади. На Казанский вокзал, мойдан Воркута – Москва прибыл по расписанию. В златоглавой я был проездом. Ждал пересадку, чтобы отправиться домой, в Махачкалу. Времени было предостаточно, а вот с копейкой напряги.
Конечно же, я мог пробежаться по старым адресам, да и с новыми было все путем, но…, это не входило в мои планы. Сначала увидеть старушку-мать, а уж потом все остальное. Сколько было случаев, когда босота не успев освободиться, пробыв на свободе неделю, а то и того меньше, возвращалась к хозяину. И, как правило, палились за какую-то мелочь. Так что на этот счет у меня была своя программа.
Поэтому, чтобы не голодать в дороге, я нашел в окрестностях Курского вокзала (а именно оттуда в то время уходили поезда на Махачкалу), небольшой магазинчик. По мелочам взял того, другого, третьего, но главное, десять пачек папирос «Беломорканал» 1-й Ленинградской фабрике им. Урицкого. Это были самые ходовые папиросы того времени. Их курили, в основном, шишкари. А у хозяина – блатные.
Когда стал рассчитываться (хотя я все давно подсчитал под расчет, оставив лишь пять копеек на проезд в автобусе с вокзала до дома), воровской глаз тут же уловил какие-то движения в подсобке. Оказалось, рабочие выгружали хлеб. Продавщица извинившись, тоже вошла вслед за ними, что бы заточковать товар.
Но прежде чем я узнал, что привезли хлеб, я нюхом учуял душистый запах горячего мандро. И даже мысленного потрогал его и почувствовал, какой он сдобный и мягкий. Тут же вспомнилась поговорка «Хлеб, как вата, рот, как хата». Мы ее обычно применяли по отношению к тем, кто не мог удержаться от соблазна съесть пайку разом. Не оставив на утро и обед следующего дня. Ведь пайку давали сразу на сутки. А в карцере был день летный, день пролетный.
Многие годы существования впроголодь, оставили свой неизгладимый след в памяти. Сегодня могу точно сказать, что хлеб мне снился во сне лет пятнадцать, не меньше. Да разве мне одному.
Задумавшись, я и не заметил, как продавщица, которая давно вернулась из подсобки, не сводила с меня свои добрые, влажные глаза. Опомнившись, она вдруг проговорила обратившись ко мне: «Молодой человек, отойдите, пожалуйста, в сторону, не мешайте обслуживать клиентов».
Спустившись на землю, я не сразу въехал, к чему это она. Ведь первым в очереди стоял я. Но, на всякий случай не стал спорить и молча отошел в сторонку.
Когда в магазине остался я один, продавщица, почему-то проигнорировав мое присутствие, зашла в подсобку и через несколько минут вышла оттуда с полным пакетом снеди. Но главное, я заметил сверху несколько буханок горячего, свежего хлеба.
Возьмите, это Вам, сказала она, таким теплым, нежным голосом, как будто ко мне обращалась мать или сестра, протянув через прилавок увесистый пакет с хавчиком. Я не сразу въехал, что к чему, но пакет взял и положил на конец прилавка. «Извините, но…» – хотел, было я объяснить, что еще не расплатился за то, что взял, а то, что в этом пакете не заказывал, как она, перебив меня, сказала: «Это от меня, возьми по-братски и не задавай лишних вопросов. А деньги прибереги, они тебе в дороге пригодятся».
С двумя пакетами в руках я стоял в сторонке и ждал, когда же рассосется очередь, которая вдруг образовалась нежданно-негаданно, как будто специально для того, что бы лишить меня объяснений.
В поезд я садился загруженный хавчиком под завязку. На мое счастье в попутчики мне достался солдатик, сельский парнишка в отпуск ехал домой, так мы с ним все и умяли в дороге.
Я, конечно же, не забыл этот благородный жест со стороны простой русской женщины, которая каким-то шестым чувством почувствовала мое положение. Поэтому, некоторое время спустя, посетил этот магазин. Как я и предполагал, она меня не узнала. Это и не мудрено, в том виде, в котором я предстал перед ней я и сам себя узнавал с трудом.
Я приберег для нее подарок (золотой с изумрудами комплект «тройка»), и пока ехал в моторе, все еще думал, уже не в первый раз, как же мне его ей преподнести. А о том, что она по-прежнему работает на старом месте, я знал наверняка.
В конце, концов, решение пришло само собой. Остановившись прямо напротив магазинчика, я стал наблюдать за тем, что происходит внутри, не выходя из машины. Дождавшись, когда магазин опустел, я зашел в него так, как мог войти разве что директор торга.
– Мадам, – проговорил я языком, который еще ни кого из прекрасной половины человечества не оставлял равнодушным. – Не окажите ли Вы мне честь принять этот скромный презент от благодарного клиента? Сказав это, я протянул ей зеленую бархатную коробочку с драгоценностями.
– Но кто Вы, гражданин? – удивленно спросила она, но подарок не взяла.
– Тот, кого Вы бесплатно снабдили несколько месяцев назад таким количеством снеди, что ею лакомилось все купе. Сказав это, я положил футляр на прилавок и быстро вышел.
Я ещё не раз видел эту женщину, правда, только издали, но никогда к ней не подходил. Даже имени её не знаю. Но не это главное.
Гришины родственники, которых я видел всего несколько раз в жизни, встретили меня так, как будто я был им родной, или очень близкий человек. Из чего я сделал вывод, что они правильно оценили моё к ним отношение. Правда, пока я не выпил немного коньяку, чувство, которое овладело мной в магазине, не проходило. Но, слава Богу, никто этого не заметил.
Сказать, что Созия с Милицей были рады новым паспортам, значит, ничего не сказать. Теперь перед ними открывались иные возможности. Взять хотя бы место жительства. Ведь со старыми документами они не могли даже снять приличное жилье. Достаточно было показать паспорт с грозненской пропиской и перед ними тут же закрывали двери. Независимо от того, какое впечатления они производили на людей. В конце, концов, они и по национальности были гречанками. Но людей невозможно было переубедить. Так глубоко в них въелся «синдром воинствующей Чечни».
А работа? Ведь они были прекрасными преподавателями. Обе имели звания, «заслуженный преподаватель ЧИАССР». Прекрасное владение тремя языками, совершенная игра на нескольких музыкальных инструментах. Но кто бы их взял с этими, волею обстоятельств ставшими «волчьими билетами» на работу в приличный ВУЗ? Теперь же все обстояло по-иному. Глядя на их нескрываемую радость, я был очень доволен собой, что хоть как-то смог отплатить по старым счетам родственникам человека, которому был обязан жизнью.
Именно в тот момент я и узнал, почему Гришу Грека иногда, шпана за глаза, кстати, имея на то веские основания, называла Оракулом. Оказывается, дар прорицания был у него потомственным. Ведь родом Гриша был с древнего города Дельфы. Это был один из важнейших культовых центров Древней Греции. Находятся они в пригороде Афин, в 176 км от столицы Греции, у подножия знаменитой горы Парнас в Священной Долине. В древности Дельфы считались центром мира. Согласно легенде, два орла Зевса, выпущенные с разных концов света, встретились над склонами горы Парнас, в тот же момент с неба упал конической формы камень, который и обозначил центр Вселенной. Камень этот получил название «омфалос», что в переводе с греческого означает «ПУП» (имеется в виду «пуп Земли»), и стал одним из символов дельфийского святилища.
Террасы на южном склоне горы, достигающей 2457 м, уступами поднимаются к святилищу Дельф. Дельфийский храм, расположенный в естественном каменном амфитеатре, на протяжении веков считался самым священным местом на земле.
Святилище Аполлона (Теменос) было в древности одним из важнейших культовых центров Греции, без самого почитаемого оракула античности, знаменитого Дельфийского оракула, не принималось ни одно важное решение.
Дельфийское святилище было чрезвычайно богато. Каждый паломник приносил в дар богу что-либо ценное, а посланцы городов-полисов строили здесь великолепные сокровищницы и сооружали бронзовые или мраморные скульптурные памятники.
Прежде чем войти в святилище, необходимо было пройти «очищение» в водах священного Кастальского источника, после чего на Большом алтаре Аполлона совершались жертвоприношения.
Оракул находился в храме Аполлона. Там, внутри, в специальном помещении на ритуальном треножнике сидела Пифия (в Древней Греции – жрица, доносившая до людей божьи послания), она изрекала прорицания, которые, как считалось, исходили от самого Аполлона. Предсказания Пифии носили весьма неопределенный характер, часто им можно было дать несколько взаимоисключающих толкований. Хорошо известен ответ Пифии лидийскому царю Крезу на его вопрос об успехе похода против персов: «Если ты пойдешь войной на персов, ты разрушишь Великую империю». Самоуверенный Крез истолковал это изречение в свою пользу, однако был разбит и взят в плен персидским царем Киром II; под «Великой империей» Пифия, оказывается, подразумевала Лидию – царство самого Креза.
Святилище в Дельфах прекратило свое существование в 381 году н. э., когда император Феодосий I запретил исповедание языческих культов. Постепенно Дельфы пришли в запустение, землетрясения и камнепады разрушили святилище. В 7-м веке на развалинах его возник небольшой поселок, который и просуществовал до конца XIX века.
Это был экскурс в прошлое, о котором мне поведала Милица. Но надо было слышать рассказчицу. Видеть ее глаза. Только тогда становилось понятным, как велико было у нее желание увидеть места своих предков.
– Вы, наверное, уже успели побывать на родине своего отца, раз так красноречиво рассказываете о ней? – спросил я Милицу, прекрасно зная, что она кроме Грозного и Ростова нигде не была.
– Увы! Жизнь, к сожалению, у нас складывалась так, что об этом, по крайне мере пока, нечего даже и думать.
– Но ведь у Вас там проживают родственники отца! Неужели они не могут дать Вам обоим приглашение? – в сердцах спросил я?
– Во-первых, мы не знаем, кто именно из родственников Гриши на данный момент жив, – вступила в разговор Созия. – А во-вторых, как им сообщить о том, что мы живы, здоровы.
– А они знают, что Вы существуете? – не унимался я?
– Конечно, знают.
Этим вечером мы больше не затрагивали эту тему, но я о ней не забыл. Ближе к полуночи, я покинул гостеприимных хозяев пообещав, что перед отъездом обязательно заеду попрощаться.
* * *
Прошло еще несколько дней. Мне уже и так давно пора было уезжать из Ростова, но я все никак не мог покинуть этот город. Главное, я знал, что меня здесь удерживало. Но, как бы там не было, а ехать надо, решил я. В ночь перед отъездом, я долго думал, как же мне поступить. И вот что решил.
* * *
Каждый вор, в особенности, карманник, всегда имеет при себе, какую-нибудь дорогую цацку. Еще лучше иметь их несколько. Некоторые дилетанты от преступного мира, да в принципе и не только, при виде босяка, на шее которого висит толстая, увесистая рыжая цепура, на мальце болт с брюликом, а на запястье рыжий котел с таким же браслетом, думают, что крадун решил понтануться. Но это далеко не так, ибо вся эта рыжая мишура играет двойную роль.
Во-первых, как любят повторять в воровских кругах, хороший понт, те же деньги. Так что, шикарно одетый, интеллигентный гражданин, с набором таких цацок, да еще, до кучи, с подвешенной метлой, это более чем хороший понт? Это половина успеха в задуманном деле.
Ну а во-вторых, цацки эти предназначены для мусоров, на случай запала.
Не уверен, что найдется такой ширмач, который будет не согласен со мной в этих вопросах.
Так что, и у меня, естественно, всегда было кое-что в гашнике. На этот раз, это кое-что имело форму двух ограненных брюликов, каждый в четыре карата. Но главное, это были бриллианты чистой воды.
Спихнуть такой товар по хорошей цене, на этот раз, для меня не составило ни какого труда. На хазе я цинканул босоте о своих намерениях, те свели меня с центровым барыгой, заблаговременно, на всякий случай предупредив того о последствиях обмана, хотя это было излишним. По его дальнейшему поведению было хорошо заметно, что он с головой дружит крепко.
Таким образом, главная проблема была решена. Уже к вечеру, у меня в кармане была достаточная сумма наличными, на которую можно было не только прожить не один месяц в столице тех лет, но и смотаться в теплые страны разок-другой.
На следующий день была суббота, поэтому я приехал к своим новым знакомым пораньше. Встреча была более чем радостной. И вновь, как и в первый раз нашего знакомства, без всяких заходов, я рассказал дамам о своих намерениях. А сводились они к следующему.
Мы едем вместе с Милицей в Москву. Пока она будет проживать в отеле, я раздобуду для нее греческую визу и провожу в дорогу. А уж по прилету в Афины ей не составит труда найти родственников отца. Благо до Дельф было меньше двухсот километров.
Главным условиям в таких предприятиях всегда являются деньги. А они были, и к тому же в достаточном количестве. Поэтому дорога, проживание и прочие расходы не являлись проблемой. Что, стоит отметить, бывает крайне редко в данных обстоятельствах. Я имею в виду неожиданность принятого решения. Проблема была лишь в одном. Греческая виза для Милицы, которую, кровь из носа, я должен был достать в Москве. Но здесь, я рассчитывал на ее точковку в паспорте. В нем был вкладыш, который указывал ее национальность. Гречанка. А это обстоятельство намного упрощало мои хлопоты.
И в заключении, я достал деньги, естественно, в долларовом эквиваленте, и большую часть того, что выручил за цацки, положил на стол. Это была сумма, на которую она могла спокойно прожить в Москве месяц, затем отправиться в Афины, пробыть немного там, и вернуться назад, к маме.
Созия не выдержав напряжения, а главное таких убедительных доводов, которые открывали возможность для осуществления давней мечты ее дочери, расплакалась. Но прежде, я краем глаза заметил, каким взглядом она окинула Милицу, которая в тот момент, казалось, была высечена из мрамора. Так велико было напряжение, в которое она впала.
Здраво рассудив, что причин отказываться от поездки не было, Созия, наконец, отпустила дочь в дорогу. Тем более и недавно сложившиеся обстоятельства этому также способствовали. Она устроилась на работу в школу неподалеку. Попасть на государственную службу в то время было очень сложно. Но в этом ей помогла старая приятельница, которая волею случая, так же теперь проживала в Ростове. Созия стала преподавать английский язык и музыку, тогда как Милица всего лишь обучала на дому дочь одного местного олигарха правилам этикета. Занятия она вела два раза в неделю. Но обучение этой девочки мать также брала на себя.
Ну и, наконец, обстоятельство, которое сыграло главную роль в ее решении, это, конечно же, была Греция. Страна, где она родилась и о которой грезила всю жизнь. И вот теперь выпадал шанс. Возможно один из миллиона. Как же им было не воспользоваться? Если все получится, они с дочерью спокойно переедут в древнюю страну эллинов, родину предков, получат греческое гражданство и наконец обретут тот долгожданный покой и умиротворение, о котором так долго мечтали и который по праву заслужили.
Фирменный мойдан «Дон» – скорый поезд Ростов – Москва, отходил с первого пути ростовского железнодорожного вокзала строго по расписанию. В 13–30 по Москве. Окна в купе вагона СВ, который должен был на восемнадцать часов прослужить нам домом, выходили на перрон, где стояла Созия с заплаканными глазами впервые в жизни провожая взрослую дочь в дорогу.
До самой Москвы из купе мы почти не выходили. Разве что покурить. В те годы я еще смолил, как паровоз. Несколько пачек в день не хватало. Еды у нас было столько, что можно было накормить целый вагон. Бутылочка красного сухого вина так же была припасена заранее. Так что, в тот день, до полуночи мы только и делали, что делились воспоминаниями. Точнее, по просьбе Милицы, я вспоминал точнейшие детали, которые касались ее отца. В некоторых местах, для пользы дела, приходилось и привирать, ну куда ж без этого.
Ну а около восьми утра, без опозданий, наш поезд прибыл на перрон самого большого вокзала Европы – Казанского.
Еще будучи в Ростове, я составил первичный план, так что теперь действовал согласно намеченной задумке. Да и Милицу в дороге я немного ввел в курс предстоящего.
Первым делом я повез свою подругу к одной знакомой учительнице. Анастасия Михайловна была матерью Толика – моего покойного друга и коллеги, с которым нас связывало не только работа в паре. С Чириком, так дразнили Толяна, мы у хозяина съели не мало баланды.
После последней отсидки он пристроился на иглу, а конец у наркомана, как известно, всегда один. Упокоился он четыре года назад. В принципе, не умер бы от иглы, сгорел бы от чахотки. Она его буквально съела. Когда мы виделись в последний раз, я его даже не узнал, так он похудел и осунулся.
После его смерти я частенько навещал его мать, естественно, не с пустыми руками. Но никогда к ней никого не приводил. Она жила вместе с внучкой-школьницей. Так что это был идеальный вариант для Милицы. Сам же я знал, где притухнуть.
Как я и ожидал, Анастасия Михайловна встретила нас с распростертыми объятиями. Тем более, в такое тревожное время, копейка лишней могла быть разве что для какого-нибудь толстосума из кремлевских холуев. Да и квартирантку сам Бог послал. Умная, чистоплотная, образованная, интеллигентная. Ну, прямо я в молодости, не могла нарадоваться на Милицу старая учительница.
Обустройством Милицы я занимался с момента нашего прибытия и до самого вечера. Зато все было приготовлено на высшем уровне. Это была первая из двух ночей, когда я остался у них до утра. Дальнейшие двенадцать дней у меня ушли на визу для Милицы, которую, будь я сразу в теме, добыл бы в течение нескольких дней.
* * *
Как один из тех его представителей, для кого преступный мир был родным домом, я, естественно, решил действовать через свои каналы. Кому как не мне было знать расклад, который существовал в то время внутри сообщества. Но очень скоро понял, что иду не по тому пути.
Я знал многих авторитетных чеченцев, которые крутились в то время в Москве. К нескольким из них я и обратился в первую очередь за помощью. Ведь Гриша Грек был грозненским уркой. И все об этом знали. Но, увы! Этот довод в начале девяностых был не совсем тот, ради которого можно было «терять драгоценное время», а значит и, что самое главное, деньги.
Чеченские группировки с самого начала не признавали авторитет воров в законе. Интересной их особенностью являлось то, что они мгновенно разбивались на несколько мелких структур, быстро исчезающих из поля зрения ментов. Преступления выполнялись гастролерами, подчас даже не знающими русского языка. Выполнив задание, они исчезали в горных аулах, где найти их не представляется возможным.
В то время в составе чеченского преступного сообщества в Москве сформировались три крупные группировки: центральная группировка, которая контролировала центр Москвы и являлась головной; ее лидером был Лечи Исламов; южно-портовая группировка, которая контролировала автомобильный бизнес – магазин «Автомобили» в Южном порту; останкинская группировка, которая контролировала стоянки транзитных автофургонов (Москва – Грозный) и базировалась в гостиницах «Байкал» и «Останкинская».
Тем более, тут еще, совсем некстати, Япончик начал готовить новую войну против чеченцев. В результате только за последний месяц неподалеку от аэропорта Шереметьево-2 милиция с завидным постоянством находила мертвых кавказцев. Последний труп обнаружили две недели назад.
* * *
Как сейчас помню, в тот момент я сидел в ресторане «Будапешт», на углу ул. Петровке и проулка… Остограмившись, загрыз беленькую семгой, ни о чем не думал, лишь только наблюдал за прохожими, которые мелькали в огромном окне в разные стороны. В помещении народу почти не было. Поэтому меня сразу насторожило поведение посетителя, который, подошел к моему столику и попросил присоединиться. Да ради Бога, присаживайтесь, пожалуйста, ответил я безразличным тоном. И хоть мужичок с виду был фраеристым, нюх я все же навострил. Но, как оказалось, зря.
После того, как бутылка с моргающим «Распутиным» была выпита, мы с ним познакомились поближе.
Николай, оказался обыкновенным гражданином своей страны, которая, как и многие миллионы ему подобных, выбросила его на улицу. Каждый из тех, кто остался не у дел, пытался выжить, как мог. Николаю повезло немного больше остальных. Будучи реставратором, то бишь, музейным работником, он нашел себе работу по специальности. Разъезжал по странам, под патронажем очень состоятельных людей и оценивал то или иное художественное произведение. Если надо, покупал, а потом реставрировал. Разумеется не на свои деньги. После чего хозяин продавал вещь за более высокую плату.
Судя по его внешнему виду, и тому, как просто он заказывал «черную икорочку без масла», этот бизнес приносил ему неплохую прибыль.
Просидев в кабаке почти до вечера, Николай предложил мне продолжить банкет в его мастерской. Я, даже не раздумывая, согласился. Он был приятным собеседником, умным, образованным, интеллигентным. Немало уже успел повидать, в своих частых поездках по миру. Многие сведения мне были более чем интересны. Но главное, у него были какие-то завязки в греческом посольстве. Я не совсем понял, какие именно, но решил, что выясню это, когда мы прибудем к нему на квартиру.
Кстати, он и расплатился за меня, не принимая никакие доводы с моей стороны по этому поводу.
Мастерская реставратора оказалась обыкновенной двухкомнатной квартирой на Плющихе. Правда, дух творчества в ней присутствовал повсюду. Загрузившись по дороге провизией и спиртным, мы продолжили наше знакомство. То количество спиртного, которое мы употребили в тот день, хватило бы напиться четверым здоровым мужикам в стельку. Мы же были слегка пьяны. Так бывает. Это когда собеседник по душе, и с ним есть о чем поговорить.
Относительно завязок в греческом посольстве, Николай ни сколько не преувеличил. На следующий день я отдал ему ксерокопию паспорта Милицы и небольшое резюме. Мы договорились, что я ему позвоню ближе к вечеру. На том и расстались такими друзьями, как будто знали друг друга с малых лет.
Вечером меня ожидали приятные новости. Привыкший всегда идти по жизни окольными путями, за все платить и переплачивать, я даже не верил в то, что вопрос с визой, который стоял у меня, как ком в горле можно решить так просто. После того, как я приехал к Николаю и он все объяснил мне, я тут же отправился к Милице, прихватив по дороге бутылочку дорого вина.
Тот вечер и ночь я буду помнить до кончины.
На следующий день мы поднялись ни свет, ни заря, и отправились в Греческое посольство. Но у визового окошка Милица оказалась лишь к вечеру. Все это время я ждал ее, сначала на улице, а когда она зашла внутрь, в кафе напротив.
Всё складывалось как нельзя лучше. Для нее, как для гречанки по национальности, существовали льготы. Так что, сдав необходимые документы, уже через три дня она получила визу. А еще через день, я провожал её из аэропорта Шереметьево на родину предков.
В полдень, рейсом «Трансаэро», она вылетела в столицу Греции Афины.
Послесловие
Милица нашла своих родных. Больше того, ей и матери власти Греции предоставили гражданство. Они и сегодня живут в окрестностях Афин, где я уже успел побывать несколько раз. Но это уже совсем другая история.
Сноски к рассказу «Оракул»-2
Бозар – размеренная, спокойная беседа. Не следует путать со словом «базар».
Был у хозяина – находился в местах лишения свободы.
В крайняк – в крайнем случае.
Втыкала, ширмач – карманный вор.
Втык по вызову – особый способ воровства, применяемый карманными ворами.
Гашник – потаенное место.
День летный, день пролетный – во времена СССР, в местах лишения свободы, в штрафном изоляторе, кормили через день.
Домушник – квартирный вор.
Жирного фраера – богатого человека, потенциального потерпевшего.
Остограммившись, загрыз беленькую – выпив сто граммов водки, закусил…
Заточковать – зафиксировать.
Килешовка – перевод из одного помещения в другое. Как правило, этими помещениями являются тюремные камеры, корпуса и т. д.
Козьим законам – законам, по которым живут лагерные активисты.
Коновал – в местах лишения свободы – медбрат, фельдшер. На эти должности обычно подбирают осужденных, не имеющих никакого отношения к медицине. Главным критерием отбора служит сотрудничество с администрацией ИУ.
Копейка в карманах гуляла по ништякам – было много денег.
Кошелешники непманского замеса – карманные воры времен НЭПа.
Крадун – преступник, занимающийся исключительно воровством и строго придерживающийся воровских законов. Кандидат в воры в законе.
Ксивам – в данном случае, документам, удостоверяющим личность.
Лежки на кресте – пребывания в санчасти или больнице.
Лепила – медицинский сотрудник (например, медбрат) в местах лишения свободы. Почти то же самое, что и коновал.
Мандро – хлеб.
Медвежатник – вор, специализирующийся на вскрытии сейфов. Принято считать, что самых уважаемых воровских специальностей в преступном мире две: карманники и медвежатники. С самого начала становления воровского сообщества подавляющее большинство воров в законе промышляли именно этим.
Могли опустить – могли изнасиловать, или сделать что-либо в этом роде.
Мойдан – поезд.
Мусора меня хотели крутануть – в данном случае, администрация ИУ хотели добавить срок заключения к уже имеющемуся.
Мусора плотно упали на хвост – милиция установила круглосуточную слежку.
На бздюн – идти вдвоем на совершение уголовного преступления.
На Жидовке – один из районов города Грозного компактного проживания горских евреев времен СССР. Аналогичные районы были в Махачкале – Биржа, в Баку – Кубинка, в Нальчике – Колонка и т. д.
На мальце болт с брюликом – На пальце огромных размеров перстень с бриллиантом.
На трассе – во время карманных краж в общественном транспорте.
На хазе я цинканул босоте – на конспиративной квартире, где собираются воры, я попросил единомышленников.
На хазе одного центрового барыги – на конспиративной квартире известного спекулянта.
На хазу к жигану – на конспиративную квартиру к вору.
Обалденный фарт – большая удача.
Он с головой дружит крепко – всегда хорошо думает, прежде чем что-то сделать, или предпринять.
Откинулся с Ветлага, где чалился на тридцатке, в Бадье – освободился из колонии № 30, где отбывал срок заключения в поселке Бадья, Кировской области.
Погоняло – кличка, прозвище.
Подлянки – подлые поступки.
Пососкакивали – в данном случае, поразъехались.
По стольнику за манишку – по сто рублей за шиворот.
Прикол держал – рассказывал.
Принимала контора – арест производил уголовный розыск.
Притухал шпанюк – временно проживал вор в законе.
Разглагольствоваться – слишком много говорить на эту тему.
Рвали когти – убегали.
Рыжая цепура – золотая цепочка.
Рыжий котел – золотые часы.
Светиться – показываться на людях лишний раз.
С копейкой напряги – был недостаток в деньгах.
Сучьи войны – кровопролитная, смертельная борьба между ворами с одной стороны и суками, б. дьми и автоматчиками, с другой.
Фраерок слинял так шустро – человек ушел так быстро.
Хавчик – еда.
Хороший понт, те же деньги – поговорка, которую, как правило, употребляют карманные воры. Чем больше людей и движений, тем легче можно украсть.
Цацки – разного рода золотые украшения.
Цацки эти предназначены для мусоров на случай запала – золотые украшения предназначены для дачи ими взятки правоохранительным органам во время ареста.
Чертополохи – неуважаемый человек, постоянно совершающий проступки, идущие вразрез с понятиями арестанта.
Чалился с ним на спецу малолетке в Нерчинске – находился с ним вместе в заключении в колонии для несовершеннолетних, на спецусиленном режиме (таких колоний в СССР было всего три: в Георгиевске, Нерчинске и…) в городе Нерчинске.
Шишкари – большое начальство.
Шнифтами – глазами.
Соломонова мудрость
1
Воры – народ в основном суеверный и мнительный, и я не составлял исключения в воровской период своей жизни. Когда дождливым и туманным утром я выходил из дешевого номера ленинградской гостиницы «Балтика», в коридоре дорогу мне перебежала черная кошка. Целый день после этого какое-то смутное ощущение тревоги почти ни на минуту не покидало меня. Когда на город уже опустилась ночная мгла и я стоял, облокотившись о шершавый ствол старого тополя, не спуская глаз с дома напротив, и ожидал от подельников «цинка», мозг мой почему-то отказывался воспринимать тревогу и волнение сердца. В тот момент я думал только о предстоящем мне деле и мечтал, как и любой преступник, лишь о том, чтобы оно выгорело.
Приподняв короткий воротник модного японского плаща, который по случаю приобрел недавно в одной из московских «Березок», я оглянулся по сторонам. Вокруг было тихо и безлюдно, лишь только рядом с ярко освещенной детской площадкой прохаживалась молодая, элегантно одетая женщина. Она постоянно поглядывала на часы, по всей вероятности ожидая запаздывавшего возлюбленного.
Какое-то время игра этой актрисы меня даже забавляла, ведь этой юной темноволосой красавицей была никто иная, как пребывавшая в то время в самом расцвете цыганской красоты наша подельница Ляля, которая в тот момент стояла на стреме.
2
Начало того фартового года, как ни странно, выдалось крайне неудачным. Мало того, что кого-то из нас чуть не упекли за решетку (пришлось отстегнуть на лапу мусорам немалую копейку), нам к тому же еще и катастрофически не везло, куда бы мы ни поехали и за какую бы «работу» ни взялись. А тут еще, как нарочно, в начале марта неожиданно пришла малява из тобольской крытой тюрьмы, обязывавшая Дипломата, Карандаша и Цируля, как воров в законе, в назначенное время прибыть к братьям на сходняк.
При таком раскладе остановить уркагана могли лишь два обстоятельства: тюрьма или смерть. Слава Богу, ни того, ни другого пока не предвиделось, но, тем не менее, мы уже собрались пойти на дело, что называется, ва-банк, чтобы раздобыть денег. Но тут, как часто бывает, вмешался случай и изменил все наши планы.
В те не столь уж и далекие годы урка, срочно нуждавшийся в деньгах, в первую очередь думал о том, где бы их украсть. Я хочу особо подчеркнуть это слово – украсть. Конечно, существовали воровские общаки, из которых без проблем можно было взять ту или иную сумму, но в общую казну урки ныряли крайне редко. Разве что в случае, когда какому-нибудь жигану грозило что-то очень серьезное со стороны власть имущих. И тут уже не имело абсолютно никакого значения, в тюрьме или на свободе находился жиган. Общак существовал везде, где только были воры, а они были везде.
Наша ситуация была, с воровской точки зрения, банальной, поэтому не было необходимости обращаться к воровской кассе, пока не были испробованы все иные способы добычи денег воровским путем. Еще раз хочу подчеркнуть: воровским, и никак не иначе.
Для воров этот вопрос всегда был принципиальным. Человек, называвший себя вором в законе, обязан был жить только воровством, все остальные ремесла были не для него. Слово «вор» говорило само за себя. Даже игра в карты, поощрявшаяся на зонах, на свободе сводилась к тому, что урка мог, конечно же, и катать, но жить только игрой он не имел права. Если есть свободное от работы время, пожалуйста, «шпиль», «куражи» сколько хочешь, но не забывай о главном – ты вор!
Так что пришлось нам в спешном порядке покинуть Первопрестольную и направиться не в Ханты-Мансийский национальный округ, на территории которого и находилась тобольская цитадель – одна из трех полосатых крытых в стране, а в Питер.
В то время в Москве на Фрунзенской набережной жил один старый игровой по кличке Хряк. В прошлом слесарь-домушник, Хряк был страстным картежником, но до шулера ему было все же далековато. И хотя он и вел ту жизнь, которую в преступном мире называли «один на льдине», все же придерживался воровских традиций с должным уважением. Так что почти все украденные деньги Хряк мог позволить себе оставлять на зеленом сукне тогда еще подпольного казино.
В конце концов однажды Хряк доигрался до инфаркта и чуть было не крякнул на больничной койке. Но самым непонятным для братвы было в этой истории то, что после этого играть Хряк как раз и не бросил, а вот с воровством, основным своим средством существования, как ни странно, подвязал, непонятно каким образом добывая себе на хлеб насущный. Впрочем, на легавых он не пахал. Это точно, босота бы знала.
Так вот, примерно за месяц до описываемых событий на одной из малин в Марьиной Роще Хряк проиграл Карандашу приличную сумму денег, но уже через несколько дней неожиданно появился на нашей хазе в Подмосковье, где мы отдыхали бригадой, и вот что поведал нам.
Хорошо зная о том, что Хряк в своем деле был большим мастером, к нему обратился один молодой и состоятельный еврей с довольно-таки странным предложением. Странным оно было не по своей сути, ибо такие люди, как Хряк, уже давно перестали чему-либо удивляться, а по тому, кто его предлагал. Дело в том, что этот «бирор» давал наколку на ограбление собственного дяди.
Это сейчас, в начале двадцать первого века, люди уже стали привыкать к тому, что сын может заказать своего отца, а дочь – зарезать родную мать только лишь из-за того, что не смогла поделить с ней отчима в постели. В наше же время, в середине шестидесятых, такого ужасающего беспредела и махновщины не мог ни предвидеть, ни ожидать никто – ни самый рьяный мент, ни последний козел и убийца.
Наколка Хряку была дана неспроста. Жид проигрался ему по-крупному, но вовремя расплатиться не смог, хоть и слыл среди своих неплохим ювелиром, а значит, кредитоспособным человеком. В игровых кругах говорили о том, что еврей был не только неуемным картежником, но в придачу еще и наркоманом.
Блатным жид не был, так же как не был и «воровским мужиком» поэтому хоть он и «вкатил фуфло», все же расплатиться мог любым способом, лишь бы кредитор согласился. Иногда фраера расплачивались натурой своих жен и сестер, если те были смазливы и податливы. Проигравшимся парчакам было не западло подставить кого угодно, только бы не убили. Такие люди вообще очень боялись физической боли и, чтобы избежать ее, готовы были на все, что угодно. Так что жиденок этот вместо своей задницы подставлял чужую, и не чью-нибудь, а своего дяди.
С точки зрения воровской этики человек, дающий наколку, по определению не может быть порядочным. Но Хряк нам ее и не давал, а просто предлагал «работу», в которой собирался участвовать вместе с нами. Это круто меняло дело. Такому человеку доверие оказывалось. Наводчику, тоже идущему на дело, никто не мог впоследствии предъявить никаких претензий, если, конечно, они не возникали уже на месте.
Хряка мы с собой не взяли, нам достаточно было его информации, а вот его босяцкую корректность оценили по достоинству.
3
В деле нас было четверо: Дипломат, Цируль, Ляля и я. Больного Карандаша мы оставили дома, на попечение все того же Хряка. Так было спокойнее во всех отношениях. Вот только кто кого опекал…
С приходом весны у старого уркагана обострился туберкулезный процесс. Он температурил, харкал кровью, еле передвигался по комнате и ни в каком деле, при всем своем желании, участвовать не мог.
Покой того тихого апрельского вечера в одном из переулков на Васильевском острове неожиданно разорвал крик неизвестно откуда взявшейся ночной совы. Это Цируль – любитель импровизаций – цинковал нам, что все готово и пора начинать.
Сплюнув для масти через левое плечо и резко оттолкнувшись от ствола старого тополя, как в детстве услышав голос матери, из окна звавшей меня на ужин, я зашагал к нужному подъезду походкой загулявшего студента. И только ледяная сталь револьвера, обжигавшая правое бедро, не позволяла забыть о реальности.
Сложность предстоявшего дела заключалась в том, что хозяин квартиры – старый и известный даже за границей ювелир – дверь открывал только людям, которых хорошо знал. Больше того, для каждого из них он придумал определенный пароль, и эта осторожность была не лишней. Например, тот самый племянничек, который и дал на него наколку, при каждом появлении называл в определенной последовательности имена и отчества сначала своих дядьев, а потом и родных теток. И тех и других в роду было в избытке, к тому же называть их надо было именами, принятыми в семье, что чужаку было не под силу. Шмуэль Соломонович, так звали старика, не считал зазорным записывать все это в особую тетрадь, называемую его близкими «семейным Талмудом», иначе он и сам запутался бы.
Но мало было узнать пароль и умело воспользоваться им. Нам предстояло разыграть настоящий спектакль, да так, чтобы хозяин не почувствовал фальши и открыл дверь. Эта часть операции представлялась самой сложной и ответственной, и ее доверили не кому-нибудь, а именно мне, и, надо заметить, неспроста.
В то шебутное и неспокойное время я хоть и был, на взгляд старых урок, еще безусым юнцом, но все же в некоторых случаях уже успел зарекомендовать себя. Обо мне босота отзывалась как о шустром и толковом крадуне, подающем большие надежды. Я смолоду отличался аккуратностью и всегда старался выглядеть элегантно, одевался со вкусом, хорошо, но не вычурно и мог внушить доверие кому угодно. Всё это позволяло надеяться на успех.
Бесшумно ступая по лестничным ступеням, я наконец-то поднялся на третий этаж старого семиэтажного дома, собрался с мыслями и, переведя дух, уверенно нажал на кнопку звонка. Нужно было строго соблюдать интервалы: три коротких и два длинных звонка, потом повторить несколько раз, постоянно меняя последовательность.
Я сделал все правильно и стал терпеливо ждать. Сказать, что я был абсолютно спокоен, значит покривить душой. Конечно же, я волновался в тот момент, но это волнение никак не проявлялось внешне.
Слева от меня, прижавшись к стене, стоял Дипломат с взведенным пистолетом в руке; на площадке между третьим и четвертым этажом в темноте затаился Цируль, а внизу, у входа в подъезд, стрем охраняла Ляля.
4
– Кто там? – За дверью послышался мелодичный голосок девочки-подростка.
Я произнес несколько загодя заготовленных фраз, постаравшись при этом держаться, как можно непринужденнее:
– Bonjour, la mademoiselle! Pardon de vous deranger. On m’appelle Rouslan, je suis arrive de Moscou sur les affaires. Dites, s’il vous plait, si je peux parler au maitre?[1]
По всей вероятности, в тот вечер здесь не ожидали услышать пусть и не безукоризненную, но все же французскую речь. В коридоре послышалось какое-то движение, затем, после небольшой паузы, тот же юный голосок ответил мне тоже по-французски:
– Одну минутку, мсье, я сейчас его позову. Затаив дыхание, мы вновь замерли в ожидании. Не прошло и минуты, как за дверью послышался спокойный и уверенный мужской голос:
– Dan’s quoi l’affaire? Que je peux aider? В чем дело? Чем я могу вам помочь?
Я знал, что хозяин квартиры владеет французским и несколько дней специально готовился к этой встрече.
– Простите, мсье, мне трудно говорить по-французски, – продолжал я, стараясь держаться как можно непринужденнее, поскольку голос человека часто выдает состояние его души. Видимо, мое поведение произвело нужное впечатление на собеседника. Все тот же голос, но уже по-русски, ответил:
– Ничего страшного, молодой человек. Я готов выслушать вас, на каком бы языке вы ни изъяснялись.
– Дело в том, что я несколько часов тому назад приехал в Ленинград на свадьбу сестренки, – продолжал я врать как можно убедительнее. – Ваш племянник Муся, с которым мы живем в одном доме и общаемся иногда, узнав о том, что я собираюсь в Питер, попросил меня передать вам кое-что от Самуила Яковлевича.
– А где он и почему не приехал сам? – прозвучал резонный вопрос за дверью.
Я ждал чего-то в этом роде, к тому же видел, что уже несколько минут этот бобер пожирает меня через «шнифт» наметанным глазом, а потому по-прежнему спокойно ответил:
– Он сказал, что дядя знает, что из-за гипертонии он на днях должен лететь в Австрию. Доктор прописал ему прогулки по Венскому лесу. (На языке Муси, насколько нам было известно, это означало, что он собирается ехать на лечение от наркомании в Кисловодск.) Затем я отбарабанил пароль в нужной последовательности, мило улыбнулся, глядя на глазок, и стал терпеливо ждать, не проявляя ни нервозности, ни нетерпения.
После довольно-таки продолжительной паузы и тихого разговора за дверью послышались звуки отодвигаемых задвижек и клацанье нескольких замков, как будто передо мной была дверь в хранилища банка, а не в обыкновенную квартиру советского гражданина.
Не успел Сим-Сим открыться до конца, как мы с Дипломатом были уже в прихожей, нацелив на опешившего хозяина сразу два ствола. С третьим на вздержке у входа застыл Цируль, резко закрыв за собой дверь и прильнув к ней, прислушиваясь, что происходило в этот момент в подъезде.
Перед нами предстал мужчина чуть ниже среднего роста, с маленьким животиком, выдававшимся из-под саржевой жилетки. Из кармашка этого нэпманского гнидника выглядывали золотые часы, от которых спускалась цепочка из того же благородного металла. Клифта на фраере не было, зато белоснежная сорочка в сочетании с модным галстуком и черной жилеткой подчеркивали его респектабельность. Судя по совершенно седым волосам, прорезанному глубокими морщинами лбу, по скорбному, усталому лицу, свидетельствующему о пережитых невзгодах, ему можно было дать гораздо больше шестидесяти лет. Но по уверенной, хотя и неспешной походке, по удивительной силе, чувствовавшейся в каждом его движении, нельзя было дать и пятидесяти. Его сжатые губы выражали странное сочетание суровости и смирения, а в глубине его взгляда таились какое-то скорбное спокойствие и благородство.
5
Мы стояли в тесной прихожей. Справа от двери, в которую мы только что ворвались, располагались ванная с туалетом, слева находилась жилая комната. Хотя свет в ней был потушен, я все же успел юркнуть туда и проверить на всякий случай. Это была спальня.
В столовой ужинала семья. Все здесь дышало спокойствием и домашним уютом. Интерьер был подобран под стать обитателям квартиры. Стол и стулья были выполнены под старину, с красивой резьбой и изогнутыми ножками, что только подчеркивало их изящество и искусство мастера. С потолка на белую скатерть и кремовые занавески лился мягкий свет.
За столом сидела пожилая супруга хозяина, рядом с ней – старшая дочь с мужем, чуть поодаль – младшая дочь, девочка лет четырнадцати-пятнадцати, которая, судя по всему, и разговаривала со мной из-за двери. К слову сказать, она была изумительно хороша собой. По обеим ее щекам катились детские слезинки. Мне хотелось ее успокоить, погладить по кудрявой головке, объяснить, что мы не какие-нибудь там бандиты или разбойники с большой дороги, а обыкновенные воры, стесненные обстоятельствами. И что, даже если отец ее ничего нам не даст, мы никого не станем обижать в этом доме, это не в наших правилах, лучше просто уйдем ни с чем. Но я подавил в себе этот порыв.
А вот Дипломат, оправдывая свое погоняло, сумел убить одним выстрелом сразу двух зайцев. На чистом французском, которому он был обучен еще в детстве и которым, в отличие от меня, владел в совершенстве, он доходчиво и доброжелательно объяснил присутствовавшим, что волноваться за жизнь близких не стоит. Только и всего. Но надо было видеть в тот момент выражение его лица. Оно было мягким и суровым одновременно, и, самое главное, в нем чувствовалось неподдельное благородство.
Напряженная атмосфера, еще совсем недавно царившая за столом, после слов уркагана рассеялась. Впрочем, к хозяину дома это не имело никакого отношения. Мы проводили его к тому же самому месту во главе стола, которое он недавно покинул, а сами расположились по углам комнаты так, чтобы из этого садильника не могла выскочить даже муха, не прокомпостировав билет.
– Что вам угодно, господа? – спросил старый еврей так невозмутимо, будто мы пришли не грабить его квартиру, а открывать счет в банке.
– Деньги, мсье, конечно же, деньги. Чего еще могут желать люди нашего ремесла в подобных ситуациях? – лаконично и жестко ответил ему Дипломат, по привычке прищурив немного левый глаз, которым, со времен колымских «замесов», он видел не слишком хорошо.
– Вы хотели сказать: бандиты? – подавив гнев, продолжал испытывать наше терпение Шмуэль Соломонович.
Услышав такую дерзость из уст своего супруга, хозяйка дома от страха вжалась в стоящее рядом со мной кожаное кресло, в которое она успела пересесть, и закрыла глаза.
– А вы, я вижу, привыкли называть вещи так, как вы их представляете? Ну что ж, пусть бандиты, если вам угодно, – все так же невозмутимо и с некоторым цинизмом ответил ему Дипломат. Он не обращал никакого внимания на окружающих, но при этом не сводил глаз с хозяина дома.
– Сколько? – неожиданно спросил старик, почти не задумываясь.
Такой простой и в то же время естественный вопрос, заданный терпилой в таких обстоятельствах, мог застать врасплох кого угодно.
Дипломат улыбнулся, пытаясь скрыть замешательство, и принялся еще внимательнее вглядываться в умное лицо еврея.
В преступном мире люди такого ранга и склада характера, каким был Дипломат, не любят людей, остающихся для них загадками. Но, как ни странно, за несколько минут общения с хозяином квартиры Дипломат каким-то чудом успел проникнуться искренней симпатией к этому человеку. Я знал Дипломата слишком хорошо, чтобы ошибиться в своих суждениях о нем и не заметить эту характерную особенность в его поведении.
– Что значит «сколько», Шмуэль Соломонович? Ну что за банальный и нелепый вопрос? Чем больше, тем лучше, – ответил уркаган тоном посетителя дорого ресторана, заказывающего себе обед. Он по-прежнему улыбался кончиками губ и не сводил пытливого взгляда с хозяина квартиры.
Над комнатой вновь повисла гнетущая тишина. Прервал ее спокойный голос главы семейства:
– Не угодно ли вам, господин бандит, пройти со мною в гостиную, чтобы обсудить условия сделки, – обратился он к Дипломату, поднявшись из кресла и указывая левой рукой в сторону смежной комнаты.
Какой еще «сделки»? Богатый еврей продолжал говорить загадками, но Дипломат лишь молча кивнул ему, как бы соглашаясь на эту игру, и последовал за ним следом, опустив правую руку. В ладони урка сжимал рукоять тяжелого «вальтера».
Ближе всех к двери комнаты, в которую уже успел войти Шмуэль Соломонович, стоял я, поэтому, поймав цинк, я нырнул в нее следом за Дипломатом. Цируль же остался присматривать за присутствовавшими в столовой домочадцами.
6
Спектакль, который разыграл в комнате Шмуэль Соломонович, нужно было не только слышать, но и видеть. Все же я попытаюсь его описать. Мудрый еврей разложил такой пасьянс, который, как показало время, не только оправдал все его ожидания, но и дал ему возможность оставшиеся годы прожить в относительном спокойствии.
– Скажите, пожалуйста, если не секрет, – начал он даже с некоторой долей наглости, – какую сумму вы рассчитывали получить от меня?
Дипломат как будто ожидал такой постановки вопроса, поэтому и ответил не задумываясь:
– Двадцать пять тысяч рублей.
Хочу заметить, что в то время «Жигулей» еще не было и в помине, а «Волга» стоила пять тысяч четыреста рублей. Нетрудно подсчитать, о какой огромной сумме шла речь.
Но еврей оказался находчив и выпалил в ту же секунду:
– Я дам вам в два раза больше, но с одним условием.
– И с каким же? – глядя не отрываясь прямо в глаза Шмуэлю Соломоновичу, серьезно спросил Дипломат.
– Завтра весь Питер должен знать, что меня ограбили на миллион и камешков немного прихватили в придачу.
«Ну и наглец!» – подумал я в тот момент, а Дипломат уже продолжал торг, как будто в последние годы только и делал, что вел переговоры с дельцами такого рода.
– Что-то не пойму, где же ваша знаменитая национальная практичность? – спросил его с некоторой долей сарказма Дипломат.
– Что вы имеете в виду?
– Как «что»? А где же гарантии, что мы не обманем вас?
– Ну, тут вы, голубчик, ошибаетесь, – ответил хозяин, широко улыбнувшись. Я успел заметить ровный ряд белых зубов, похожих на молодой кукурузный початок. – Мои гарантии – в вас самих, молодой человек, в вашем образе жизни, в ваших «понятиях», наконец, – объяснил еврей, как будто зная, что из троих грабителей, ворвавшихся в его дом, двое – воры в законе. – Такие люди, как вы, не бросают слов на ветер. Не имеет значения, даны ли они отъявленным негодяям или, наоборот, честным и порядочным людям, свои обязательства они выполняют во что бы то ни стало. И не надо на меня смотреть с таким удивлением, будто вы только что выиграли автомобиль! Я уже давно понял, что вы не обыкновенные преступники. Никогда не слышал, чтобы в Советском Союзе бандиты при ограблении объяснялись со своей жертвой на французском, а разговаривая по-русски, не употребили ни одного матерного слова.
Мы с Дипломатом улыбнулись одновременно, даже не взглянув друг на друга. Что тут можно было возразить этому умному и дальновидному еврею, да и нужно ли было это делать?
– Деньги при вас? – резко спросил Дипломат.
– Нет, мне необходимо их приготовить. Я надеюсь, вы понимаете, что такую сумму дома никто не держит?
– Что значит «приготовить»? – с подозрением спросил Дипломат.
– Да не волнуйтесь вы так! К чему бы я весь этот сыр-бор разводил? Что же касается вас, джентльмены, – с некоторой долей сарказма продолжал дразнить нас старик, – то вам придется подождать меня в каком-нибудь условленном месте, куда я, ну, скажем, через несколько часов и доставлю деньги. Вам следует лишь указать место. Да, кстати, я вожу автомобиль, у меня «Москвич» зеленого цвета.
Пока Дипломат думал и прикидывал, что к чему, несколько раз переглянувшись с Цирулем, я посмотрел на часы. Было начало седьмого.
– Ладно, – прервал уркаган затянувшуюся паузу. – Ровно в десять мы ждем вас в самом конце Невского проспекта, в переулке за зданием гостиницы «Москва».
Выпалив эти слова на одном дыхании, Дипломат дал мне цинк, что пора сваливать. Спрятав стволы, мы уже вышли было из комнаты, оставив обескураженных домочадцев с раскрытыми от удивления ртами, когда услышали за спиной какой-то растерянный голос хозяина:
– Это что же, вы вот так вот запросто и уйдете, поверив мне на слово и не взяв никаких ценностей?
– А вы, видимо, почитали себя за единственного знатока человеческих душ, этакого «дедушку Соломона» из Питера? До встречи, Шмуэль Соломонович, до самой скорой встречи, папаша! Желаю вам удачи в этот вечер, и дай Бог, чтобы по дороге на рандеву с вами не произошло какого-нибудь несчастного случая! Да, и вот еще что. Вам следует запомнить одну простую истину, которая крайне необходима всем: смелость хороша только до тех пор, пока она не превращается в самонадеянность.
Сказав это, Дипломат резко повернулся и пошел прочь, даже не обратив внимания на то, с каким интересом смотрят на него четыре пары удивленных глаз. Мы с Цирулем, который за все это время не проронил ни единого слова, поневоле сыграв немого, молча последовали за своим корешем и вожаком. Счет в этой необычной, но благородной схватке сравнялся, а я еще раз убедился в том, что урки никогда и ни перед кем не остаются в долгу.
Молча и с опаской озираясь по сторонам, мы вышли втроем из подъезда на улицу, где нас встретила охранявшая стрем Ляля. Мы разделились на пары и разошлись. Дипломат с Лялей пошли по одной улице, а мы с Цирулем двинули по параллельному переулку, чтобы вновь встретиться через квартал, где нас поджидала машина. За рулем «Волги» с шашечками сидел старый каторжанин. Босота дразнила его Толиком Колымским. Воровской мужик по жизни и лагерный кореш Карандаша, он обладал двумя незаменимыми качествами для преступника и верного друга: был большим молчуном и очень надежным человеком.
По дороге мы заехали в какой-то кабак, чтобы опрокинуть по рюмашке «на ход ноги» и обсудить наши дальнейшие действия, а за полчаса до назначенного времени тронулись к условленному месту. Ровно за пятнадцать минут до встречи с евреем мы с Лялей сидели в тачке в квартале от гостиницы «Москва».
На стрелку пошел один Дипломат, а страховать его вызвался Цируль. Действия урок не обсуждались, и мы с Лялей, конечно же, отдавали должное благородным воровским порывам наших братьев, хотя в любую минуту не прочь были бы поменяться с ними местами.
Когда огромные зеленые стрелки часов на крыше гостиницы замерли на отметке 22:00, я почувствовал, что пульс мой заметно участился. Молча переглянувшись и поняв друг друга без лишних слов, мы с Лялей вышли из машины и, смешавшись с прохожими, которых в этот час было особенно много, стали врозь тусоваться по узким тротуарам.
Ожидание затянулось. Прошло уже больше десяти минут, а наши друзья все не возвращались. Я уже начал волноваться, нервы и без того были напряжены до предела, как вдруг увидел с другой стороны улицы Лялин маяк. Присмотревшись, я разглядел в толпе подвыпивших, но, видно, не добравших еще до своей нормы гуляк Цируля, который втолковывал этой пьяной братии что-то свое, размахивая при этом над головой измятой трешкой, а левой рукой пытаясь обнять соседа. Его острый, живой ум, глубокое знание людей и легкое вживание в образ могли бы, я думаю, привести его на театральную сцену, где он стал бы прекрасным актером.
Разобравшись в ситуации и успев в доли секунды оценить игру партнера, я закинул шнифт влево. Вдали виднелась одинокая фигура Дипломата, устало шагавшего по правой стороне тротуара и несшего в руке увесистый кожаный портфель, такой, с каким в те времена обычно ходила советская профессура. Его походку и умение держать себя везде и при любых обстоятельствах нельзя было спутать. Но сегодня и Дипломату пришлось проявить артистический дар. Уставший, сгорбленный вид и весь его облик говорили о том, что это преподаватель вуза, обремененный повседневными заботами, возвращается домой. Казалось, что ему ни до кого не было дела.
Мы с Лялей дождались, пока Цируль с Дипломатом прошли мимо нас и по очереди сели в машину, а сами отправились в сторону гостиницы и остановились неподалеку от нее, перейдя на другую сторону Невского проспекта.
Постояв немного, оглядевшись по сторонам и не увидев ничего подозрительного, мы не спеша вернулись. Машина уже ждала нас, урча мотором, так что нам с Лялей оставалось только вскочить в приоткрытые двери.
7
Рассекая непроглядную ночную мглу острым носом отполированного до блеска локомотива, «Красная стрела» уносила меня вместе со всей нашей воровской бригадой все дальше и дальше прочь от сырого и промозгло апрельского Ленинграда с приличным кушем, доставшимся нам в награду за терпение и выдержку.
Спать не хотелось. Я стоял в тамбуре у окна, курил и глядел в ночь, предаваясь мечтаниям и необузданному полету фантазии.
До столицы-матушки мы добрались, слава Богу, без каких-либо приключений. Да здесь и ехать-то было всего ничего. Из Ленинграда мы выехали около полуночи, а в Москве были уже под утро. Через день, закончив все дела, связанные в основном с болезнью Карандаша, мы были опять в дороге. И хотя путь тот и вел нас в неведомое, мы были полны оптимизма. Мы шли подобно древним волхвам, следовавшим за путеводной звездой, которая привела их к колыбели Иисуса. Наш же путь лежал в Тобольский равелин на воровскую сходку.
С тех пор уже прошло без малого тридцать пять лет. Из всех участников этой истории, к сожалению, в живых остался, пожалуй, только я один. Уже больной и старый, проездом в Финляндию, я посетил как-то обретший свое первоначальное имя Санкт-Петербург. И надо же такому случиться, чтобы через столько лет я случайно вновь встретился со Шмуэлем Соломоновичем. И хотя ему было тогда уже за девяносто, выглядел он, как и много лет назад, моложавым, дерзким и заносчивым. Да и чего ему теперь уже было бояться? Время на дворе стояло совсем другое. Мудрые глаза повидавшего виды еврея могли рассказать о многом.
Мы узнали друг друга сразу, как будто и не было этой временной пропасти длинною в целую вечность. Давно порвав с прошлым, к этому времени я стал писателем и борцом за права заключенных. Не стану описывать, как проходила наша встреча, но в конце нашей беседы я спросил:
– Так все же зачем вам, Шмуэль Соломонович, понадобилось тогда платить в два раза больше той суммы, которой вы спокойно могли откупиться от нас?
Он ответил:
– В этой истории, Заур Магомедович, вы видели лишь одну часть айсберга – ту, которая была на поверхности и оказалась непосредственно связанной с вами и вашими друзьями, и, разумеется, ничего не знали о другой, подводной, его части. Да она в принципе вам и не нужна была. Сегодня, когда моего племянника давно нет в живых, да и конец моего существования в этом мире уже не за горами, я могу вам открыть эту тайну. Режиссером того спектакля был не кто иной, как я сам!
Сказав это, Шмуэль Соломонович по привычке окинул меня изучающим, внимательным взглядом и замер, ожидая ответной реакции. Меня как будто кипятком ошпарили.
– Простите, но я не совсем понял вас. Вы что же, хотите сказать, что всю эту постановку осуществили вы вместе со своим племянником? – проговорил я своим грубым, с хрипотцой, голосом, не скрывая удивления и интереса. Чувства, обуревавшие меня в тот момент, могли быть знакомы разве что старому, потерявшему нюх волку, неожиданно попавшему в западню, которую он многие годы удачно обходил стороной, полагая, что капканы – не для таких матерых хищников, как он.
– Да-да, вы меня правильно поняли, господин писатель, – продолжал говорить загадками старый еврей. – Запомните, на этом свете нет ничего невозможного для того, кто способен все хорошо обдумать. Нет не поддающейся расчету неизвестности, как нет и уговора, которого нельзя бы было нарушить, и клятвы, из которой не было бы потаенного выхода.
Я попросил Шмуэля Соломоновича рассказать все подробнее.
– Ну что ж, я, пожалуй, поделюсь с вами некоторыми нюансами той давней и интересной истории, но лишь в том случае, если вы дадите мне слово не писать обо всем этом до моей смерти. Думаю, что я окажу эту услугу не только вам, непосредственному участнику событий, а теперь ко всему прочему еще и литератору, но и всем тем, кто в ней действительно будет нуждаться.
Я, конечно же, дал такое слово и свято держал его до тех пор, пока несколько месяцев назад не получил письмо из Санкт-Петербурга от внука Шмуэля Соломоновича, его тезки, художника-реставратора Эрмитажа. Внук написал, что дед упокоился с миром. Кстати, внук этот был сыном той самой милой девчушки, с которой я пытался когда-то изъясняться по-французски. Освобожденный таким образом от пут, я и попытался написать этот рассказ, связав его название с мудростью великого иудейского царя Соломона.
8
Не мной сказано: «Если человек обманет меня один раз, то да проклянет его Бог! Если же он обманет меня два раза, то да проклянет его Бог вместе со мной! Если же три раза, то пусть Бог проклянет меня одного!» Будучи опытнейшим ювелиром-огранщиком, мастером, которых в то время в Советском Союзе можно было пересчитать по пальцам, и, само собой разумеется, весьма состоятельным человеком, Шмуэль Соломонович имел огромное количество друзей, но еще больше – недругов.
При таком жизненном раскладе отдыхать бы ему давно на нарах Крестов или Лефортова, а возможно, и париться на вечной койке в Казани, если бы не был он постоянно востребован сильными мира сего. Но рано или поздно «все проходит», как говаривал когда-то его древний библейский предок, и кому, как не Шмуэлю Соломоновичу, было лучше других понимать это?
Но как отличить зерна от плевел? В определенное время сделать эту пробивку на вшивость бывает просто жизненно необходимо. Вот и решил старый еврей разыграть со своим племянником спектакль, который, как показало время, они с блеском нам и продемонстрировали.
Кстати, оказалось, что Муся, племянник Шмуэля Соломоновича, никогда не был ни картежником, ни тем более наркоманом. Он даже и табака-то не курил на самом деле. Для того чтобы умудриться промести пургу на малинах среди катал и игровых – в основном старых каторжан, а значит, и прекрасных психологов, – у человека должен был быть не просто Божий дар пургомета, но и отважный дух в сердце. И хотя я ни разу в жизни не видел этого Мусю, не отдать должное его артистизму, уму и преданности я не могу.
После того как все, кому нужно было узнать о том, что Шмуэля Соломоновича «выставили», узнали об этом, ему стали соболезновать и первое время присматриваться, а не мудреный ли ход конём сделал старый еврей?
Но почти все склонялись к тому, что грабеж все же имел место. Ведь любому и каждому в этой стране было ясно, как белый день, что советские грабители, не выжав все, что только можно выжать из богатого и влиятельного ювелира, никогда бы не оставили его в покое. А любой еврей при таких обстоятельствах готов отдать последнее, лишь бы сохранить жизнь, здоровье и покой своей семьи. Да и дети с зятем были искренни, не догадываясь, что произошло на самом деле, и это не могло не броситься в глаза любому умнику. О супругах и говорить было нечего: краше в гроб кладут… Шмуэль Соломонович был слишком умен, чтобы доверять женщинам такие тайны.
Время шло, и все постепенно становилось на свои места. Не зря ведь говорят, что время – не просто хороший доктор, но и прекрасный учитель. Когда окружающие поняли, что Шмуэлю Соломоновичу в этой жизни уже вряд ли что-нибудь поможет подняться и вновь стать на обе ноги, его стали сторониться и обходить вниманием, что старику только и было нужно.
Но главным все же было не это. Мудрый еврей застраховал себя не только от зависти своих сородичей и коллег, но и от неизбежного рэкета со стороны власть имущих. Пусть страховки этой хватило и не на всю оставшуюся жизнь, но несколько лет передышки он получил. «А за это время, как говорят на Востоке, либо шах умрет, либо ишак сдохнет», – справедливо рассуждал ювелир.
Так и произошло. И лишь несколько бедных родственников, о которых он прежде вспоминал разве что в дни еврейской Пасхи, протянули ему руку помощи, ничего не требуя взамен. Они были искренни и бескорыстны и, самое главное, не считали свой поступок чем-то особенным. Они были истинными евреями, которые привыкли помогать попавшим в беду сородичам, нисколько не думая о какой-либо благодарности, кроме уважения к себе. Эти люди жили по древним заветам Моисея, который говорил когда-то: «Если же будет у тебя нищий кто-либо из братьев твоих, возьми его и пусть живет с тобой».
И это обстоятельство было старику дороже, чем все сокровища Гузерта и Офира.
Сноски к рассказу «Соломонова мудрость»
Беспредел – крайняя несправедливость, попрание всех прав, открытое, насильственное нарушение воровских традиций и законов со стороны администраций ИУ или осужденных-нечисти по отношению к осужденным бродягам и воровским мужикам.
Бирор – брат, в переводе с языка горских евреев, проживающих и ныне в Дагестане, а теперь и во многих республиках Северного Кавказа, России и за рубежом.
Блатным жид не был – сочетание качеств хорошего крадуна и бродяги. Отличие блатного от вора в законе состоит лишь в том, что блатной не был признан на воровской сходке.
Босота – представители преступного мира, которые не только придерживаются воровских традиций, но и живут по их канонам.
Братьям на сходняк – ворам в законе на воровскую сходку.
Вкатил фуфло – проиграть в азартную игру под интерес и либо вовсе не уплатить долг, либо сделать это позже оговоренного срока.
Воровским мужиком – самым уважаемым в арестантском мире категорией мужиков, которые чтят воровские законы, поддерживают блатной мир, хотя сами в состав отрицалова не входят.
Воровские общаки – общаки, который собирается как в местах лишения свободы, так и на воле, исключительно на нужды воров в законе.
Воровской этики – правила хорошего тона, с воровской точки зрения.
В то шебутное время – в то время, когда жизнь круто менялась в разные стороны.
Давал наколку – давал наводку.
Для братвы – для единомышленников.
Для масти – для везения.
До шулера – до картежного афериста.
Жид, жидяра – еврей с польского языка.
И катать – и играть в карты на какие-либо ценности: деньги, золото и т. д.
Клифта на фраере – пиджака на человеке.
Корешем и вожаком – другом и предводителем.
Крадуне – преступнике, занимающемся исключительно воровством и строго придерживающимся воровских законов. Кандидат в воры в законе.
Каторжанин – осужденным с большим стажем отсидки, который не изменяет воровскому образу жизни. Им может быть как блатной, так и мужик по – жизни.
Куражи – выигрыши.
Малява – тонко скрученная записка (не толще сигареты), обмотанная целлофаном и аккуратно запаянная со всех сторон, чтобы предохранить от намокания.
Махновщина – крайняя несправедливость, нарушение всех правил, открытое, пренебрежение воровскими традициями и законами.
Мент – сотрудник какой-либо из правоохранительных структур.
На легавых – на сотрудников какой-либо из правоохранительных структур.
Не западло – действовать в рамках тюремно-лагерных норм, которые для заключенных разных мастей могут быть различными. Например, шнырю не западло сдать мусорам кого-либо, а петуху – убирать сортир.
Начало того фартового года – начало того удачливого года.
На зонах – в исправительных колониях.
На нашей хазе – на квартире, где собираются преступники.
На одной из малин – на одной из конспиративных квартир преступников.
Не прокомпостировав билет – в данном случае не предупредив кого следует.
Нэпманского гнидника – старого нижнего белья.
Один на льдине – мужик вне зависимости от режима их содержания, не входящий ни в одну из воровских группировок и ведущий себя замкнуто и независимо. Неуважаемая лагерным сообществом масть. Иногда их называют меринами. В условиях изоляции от общества самое опасное для арестанта – это оказаться в положении «одного на льдине», ибо при этом он рискует слишком многим.
Ожидая от подельников цинка – ожидая от соучастников преступления опознавательного сигнала.
Отстегнуть на лапу мусорам – дать взятку кому-либо из сотрудников правоохранительных органов.
Парчакам – одним из самых презираемых категорий сидельцев на взрослой зоне. Униженных, грязных и неряшливых людей, зачастую страдающих венерическими заболеваниями. Это, как правило, отчаявшиеся и опустившиеся люди, на которых, кроме заключения под стражу, обрушилась еще масса, по их мнению, неразрешимых проблем.
Первопрестольную – Москва.
Погоняло – прозвище в преступном мире.
Подельница стояла на стреме – соучастница преступления наблюдала за окружающим с тем, чтобы в случае опасности подать сигнал тревоги.
Полосатых крытых в стране – тюрем крытого режима.
Садильника – автобусы.
Слесарь-домушник – одна из нескольких категорий квартирных воров.
Сплюнув для масти – сплюнул на удачу.
Спрятав стволы – спрятав огнестрельное оружие.
Старый игровой – старый картежник.
Стрём – место, откуда преступник наблюдают за опасностью во время преступления совершаемое его соучастниками.
Терпилой – потерпевшим.
Тобольской крытой тюрьмы – крытой тюрьмы расположенной в городе Тобольске.
Уркаган – вор в законе.
Фраера – если исходить из воровских понятий, то это любые люди, не являющиеся ворами в законе. В ГУЛАГе фрайером или фрайерюгой называли простачка, лопуха. Теперь так называют потерпевших и, вообще, наивных и доверчивых людей, непрактичных, а иногда и ни на что не способных. Кроме того, фрайер – это рядовой уголовник.
Цинканул, цинковал – дать опознавательный знак.
Шнифт – в данном случае глаз.
Шпиль – играй. Имеется ввиду азартная игра.
Список
1
Скорый поезд Ростов-Баку прибывал на первый путь Махачкалинского вокзала точно по расписанию, в 20 часов 55 минут по московскому времени. На сегодня это был последний подсад тех ширмачей, которые не смогли хорошо «откупиться» в течение дня, но для гастролеров он был только началом длинного пути в неизвестность. Тот ростовский поезд был действительно понтовым для пассажиров, которые отправлялись в путь по коммерческим или воровским делам, что для правоохранительных органов в те времена было одно и то же. Оба этих вида деятельности считались криминальными и преследовались законом.
Спекулянты, как тогда называли нынешних коммерсантов, отправлялись в Баку почти всегда только в пятницу. В основном это были многодетные работающие женщины. Вечером они выезжали из Махачкалы на ростовском поезде, чтобы в субботу, в шесть утра быть уже в Баку. Два полных выходных дня они проводили в хождении по магазинам, базарам и лоткам, где закупали товар, а вечером в воскресенье, уставшие и измотанные в постоянной сутолоке, со сбитыми ногами, эти бедолаги располагались, занимая целые купе целиком, в скором поезде Баку-Киев, который отправлялся из столицы Азербайджана в шесть часов вечера, и мгновенно засыпали прямо на вещах. Ночь с субботы на воскресенье они проводили на вокзале, чтобы не тратить деньги на гостиницу. В три часа ночи киевский поезд прибывал в Махачкалу, а в семь или в восемь эти труженицы были уже на своих рабочих местах. Что касается крадунов, то они следовали тому же дорожному сценарию, но лишь только до того момента, пока поезд не прибывал в Баку. На вокзале их дороги расходились. Куда держали путь «коммерсанты», я уже рассказал, босота же разбредалась по хазам и малинам, чтобы, отдохнув с дороги, узнать последние воровские новости от местной шпаны, пообщаться с коллегами по ремеслу, заручиться поддержкой ментов – держателей хлебных мест, чтобы свести к минимуму риск запала.
Был вечер пятницы душного и знойного лета начала шестидесятых годов прошлого века. Хотя с моря и дул легкий бриз, неся нежную прохладу седого Каспия, здесь, на перроне вокзала, его дуновение почти не ощущалось. Подошедший поезд вызвал среди отъезжающих обычную суету и ажиотаж, да и встречающие тоже не дремали.
Человеку искушенному было интересно наблюдать эту картину. Всех находившихся на бану людей в тот момент можно было условно разделить на четыре категории: отъезжающие, встречающие, карманники и тихушники. Как только небольшой состав, скрипя тормозами и выбрасывая из-под колес снопы искр, стал тормозить, к тамбурам вагонов с баулами, сумками и узлами тут же бросились отъезжающие. За ними неотступно следовали «втыкалы»; плотно упав карманникам на хвост, шла свора легавых.
В тот день я с бригадой махачкалинских ширмачей отъезжал на гастроли на юг нашей необъятной. Первой остановкой на нашем пути должна была стать столица солнечного Азербайджана, и подошедший майдан нас устраивал больше, чем какой бы то ни было другой. Со мной вместе покидали родные пенаты мои старые кореша: Шурик Заика, Джуст, Черныш, Шамиль Расписной и Витек Боксер. Бригаду нашу знали далеко за пределами Дагестана. Все представители этого дружного сообщества были настоящими кошелечниками, кроме Боксера. Витек не был вором, но исполнял не менее важную часть работы – был на пропуле и на отмазке одновременно.
Разбившись на пары, но не теряя друг друга из виду, мы не в кипеш нырнули в состав, не обращая внимания на работу своих коллег-щипачей, и разбрелись по нему в разные стороны. Мусора не должны были знать, что мы уезжаем на гастроли, иначе нам не дали бы это сделать.
У козырных кошелечников, а бригада наша принадлежала именно к этой категории карманников, на бану почти все было схвачено, так же как, впрочем, и в других хлебных местах города. За наш счет жили сотни легавых, их семьи, любовницы и престарелые родители. Кто же захочет отпустить курицу, несущую золотые яйца?
Из-под надзора легавых мы ушли в тот раз без лишнего шухера. Мусора прекрасно изучили наши повадки. Они, например, хорошо знали, что, если нам вдруг сразу не повезло, мы садились в уходящий поезд и, уже по ходу пьесы переквалифицировавшись в майданщиков, брали реванш по дороге – кто «уголком», а кто и «гарной дуркой». В таких случаях мы, как правило, не удалялись далеко от города, впрочем, иногда доезжали и до Дербента, но только в том случае, если еще на вокзале выпасали жирного бобра.
Отработав, мы возвращались в Махачкалу и на следующий же день отдавали долю мусорам, даже не помышляя утаить от них что-то. В воровских понятиях это означало – скрысятничать. Так же бродяге всегда было западло сдать мента.
Что касается дорожных служб, то почти все проводники поезда Баку – Ростов были куплены крадунами Северного Кавказа с того самого дня, когда он стал курсировать на этом участке дороги.
Мы расположились в разных купе, согласно купленным билетам, отложив на потом воровство. Глуп тот вор, который крадет там, где живет. А этот поезд, хоть и всего на девять часов, становился все же в какой-то степени нашим домом.
2
Столица Азербайджана встретила нас приятной утренней прохладой и суетой расторопных носильщиков, сосущих горький насвай и с диким скрежетом тащащих за собой по перрону железные тачки. Местные мусора тоже были тут как тут. Стоя на перронах с обеих сторон состава, они на всякий случай не сводили глаз с приезжих. На гастролеров-крадунов шнифт у них был наметан, как у профессионалов-сыскарей. Нюх вокзальных легавых был особый, даже острее, чем у хорошей борзой на дичь во время охоты.
Из поезда мы выходили строго по одному и из разных вагонов и сразу же старались просочиться в город по многочисленным переходам в здании вокзала. Конечно, зная весь расклад, можно было сойти с поезда и раньше, но ближайшей к Баку остановкой был Сумгаит, а это не просто лишние несколько десятков километров на такси или автобусе, но и потеря времени и, самое главное, во много раз большая вероятность запала. Тем более что среди нас не было людей, находящихся в бегах.
Построенный еще в позапрошлом веке, Сабунчинский вокзал Баку был в то время чем-то вроде штаба быстрого реагирования. Трамплином на пути гастролеров из России на Кавказ была Махачкала, ну а «пересылочным пунктом» по праву считался Баку. Эти города были до такой степени связаны между собой тесными узами сотрудничества, что об этом даже пели: «От Махачкалы до Баку волны катятся на боку и, вздымаясь, бегут валы от Баку до Махачкалы…» Что касается правоохранительных органов, то они песен по этому поводу не слагали, им было не до этого.
На запасных путях вокзала стояли несколько вагонов электричек. Один из них был оборудован под детский приемник, другие оперативники использовали в своих целях. Здесь круглые сутки кипела работа. Людей без документов, не успевших еще совершить преступление, водворяли на месяц в вагон-спецприемник и посылали на них запросы по месту жительства. В соседнем вагоне воров-гастролеров, катал и аферистов обрабатывали уже опера. Тех, кто спалился с поличным, они за определенную мзду отпускали на свободу, а тех, кто не мог заплатить, увозили в КПЗ, предварительно дав оторваться по полной программе.
Но больше всего возни у легавых было с малолетками. Послевоенное поколение подростков, выросшее на улице, было дерзким и не поддавалось никакому воздействию, а уж тем более мусорскому. Они знали, что пока неподсудны, а потому и выкидывали подчас такие кренделя, что даже опытные преступники диву давались от их выдумок и изобретательности. Потерявшие отцов, а порой не имея и матерей, злые на весь мир за свое голодное и ущербное детство, они мстили обществу.
За сутки через Баку проезжало огромное количество пассажиров, среди которых были преступники всех мастей. Попробуй определи, кто есть кто. Но вокзальные менты умудрялись это делать, и, смею заметить, весьма успешно.
Как обычно, наша стрелка состоялась под огромными круглыми часами на площади, возле входа в привокзальное кафе. Заведующим в этом кафе был старый еврей, но все почему-то называли его Рафик-Джан. При любом запале все сделки с мусорами велись через него, и не было случая, чтобы хоть одна из них сорвалась.
Я помог молодой женщине с ребенком выйти из вагона, а затем под строгим оком блюстителей порядка понес ее вещи к выходу, мило беседуя с ней – так, как если бы она была моей женой или сестрой. Обойдя огромный котлован тогда еще только строившегося бакинского метро, гостиницу «Баку» и примыкавшее к ней небольшое здание и сделав, таким образом, внушительный круг на случай возможного хвоста, я через несколько минут уже был на нужном месте.
3
Баку был, безо всяких преувеличений, городом без фраеров, как любили выражаться в преступном мире, когда хотели подчеркнуть доминирующее положение шпаны в регионе. Это сейчас азербайджанцев обзывают лаврушниками, спекулянтами, черномазыми и прочими обидными прозвищами. Но в то время никто и не помышлял о межнациональных распрях, о том, чтобы обидеть кого-то даже словом. Весь преступный мир жил в мире и согласии. Жуликами в Баку были и азербайджанцы, и русские, и армяне, и представители некоторых других национальностей. Никакой статистики на этот счет, конечно же, не велось. У воров нет и никогда не было ни нации, ни вероисповедания, ни цвета кожи, ни возраста. Все воры равны между собой.
На Кавказе всесоюзные воровские сходняки проводились в Ростове, Баку и Ереване. Не менее жиганскими городами были Тбилиси, Сухуми и Кутаиси, но это была Грузия, где почти на каждой улице любого из городов жил уркаган. Ну и сходняки там проходили преимущественно между своими. Хотя, надо сказать, и в Москве воров в законе из Грузии было больше, чем представителей других республик.
В Баку, если мне не изменяет память, самыми блатными районами считались: Армяникент, Завокзальная, Баилова, Монтино, Восьмой километр и Девичья башня. Ребят из последних двух называли «восьмойскими» и «крепостными».
Был в Баку и знаменитый на всю страну район Кубинка, но его в двух словах не опишешь, это особый разговор. Кубинка была государством в государстве, что-то вроде Ватикана в Риме, только тамошняя вера была далека от католической. Здесь верили во что угодно: в черта, дьявола, в зелень долларовых купюр, но только не в Бога.
В те времена зараза спекуляции проникла повсюду. В рабочих кварталах Баку случалось видеть, как дети, едва научившиеся ходить и не вполне еще научившиеся говорить, торговали игрушками, превращали в объект купли-продажи и надкусанный пряник, и рваный бумажный змей. Большие дети перепродавали все, что только пользовалось спросом: наркотики, спиртное, табак, разное тряпье и женщин.
Все это происходило совершенно просто и естественно, и никому не приходило в голову возмущаться. Весь знаменитый район был оцеплен мусорским кордоном. Чуть ли не каждые пять – десять минут улицы патрулировали милицейские машины и мотоциклы с колясками, наводя шухер и жуть на окружающих. Но охраной правопорядка здесь и не пахло. Вся легавая псарня была куплена воротилами теневого бизнеса Кубинки для того, чтобы оградить преступников, посещавших ее злачные места, от непрошеных конкурентов.
Кубинка не спала ни днем, ни ночью. Круглые сутки здесь велась торговля. Купить можно было все, что душе угодно, от гвоздика до бриллианта. Это был своего рода грандиозный подпольный супермаркет, где девизом было: «Торгуй и обогащайся!»
Но главной статьей дохода была продажа наркотиков. Морфий, промедол, опий-сырец – так называемая черняшка, – гашиш и даже экзотический кокаин – вот неполный перечень продаваемой отравы.
Наркотики завозились в Азербайджан, и в частности на Кубинку, контрабандным путем, и в основном по морю. Чтобы оценить оборот денег от продажи наркотиков, достаточно сказать, что здесь, на Кубинке, ими отоваривались барыги из всех республик Северного Кавказа и Закавказья. Частенько приезжали купцы и из центральной России: Москвы, Ленинграда, Курска, Орла, Смоленска. Бывали гости и из отдаленных республик – Латвии и Эстонии.
Безопасность покупателя, начиная с момента приобретения товара и вплоть до проводов на вокзале, им здесь была гарантирована, что же касалось транспортировки груза, то это уже была забота самих барыг.
Следующей по значимости статьей доходов для боссов Кубинки была игра. На ее огромной территории функционировала целая сеть подпольных казино. За сутки в рулетку и в карты проигрывались баснословные суммы денег.
Однажды случайно я стал очевидцем того, как приезжий цеховик из Грузии схлестнулся на зеленом сукне казино с хлопкоробом из Узбекистана. Их баталию нужно было видеть! На кону попеременно стояли то завод по вязанию сеток-авосек с апельсиновой плантацией в Аджарии в придачу, то хлопковое поле в несколько сот гектаров под Самаркандом. Человеку грамотному нетрудно подсчитать, каких колоссальных денег стоила эта недвижимость в то время.
Публичные дома Кубинки, а их здесь тоже было немало, славились своей изысканностью и гостеприимством и отличались редким своеобразием и национальным колоритом.
Представьте себе добротное саманное одноэтажное строение. Казалось бы, ничего примечательного, но, попадая внутрь здания, посетитель тут же окунался в мир блаженства и сладострастной неги.
Началом небольшого пути по лабиринтам кайфа были турецкие бани. Вас, одного или с приятелем, встречал какой-нибудь Али – как правило, жирный и неуклюжий с виду увалень, похожий на евнуха, в белой набедренной повязке и с длинным полотенцем на шее. Это был массажист. Он провожал посетителей до нужного места и ждал их возвращения, расположившись в удобном массажном кабинете, примыкающем к банному комплексу.
Прелесть турецкой бани общеизвестна – большое и теплое мраморное ложе, которое, как зуб, уходит своим острым корнем под пол, где его нагревают. А вы лежите на этом камне, расслабившись от его тепла, негромкой восточной музыки и задушевной беседы с другом. Затем вам делают отличный массаж, во время которого вы как бы погружаетесь на некоторое время в забытье.
Позже вы оказываетесь в помещении, будто сошедшем с книжных иллюстраций «Тысячи и одной ночи», с восточным интерьером и соответствующим колоритом. Нежные мелодии древнего Востока, стройные, как кипарис, красавицы, исполняющие танец живота, чилим, набитый кашкарским планом, со знанием дела заваренный зеленый чай – и вы вновь погружаетесь в мир видений. Все это происходит до тех пор, пока одна из красавиц не оказывается в ваших объятиях на ложе из белоснежных материй, где одеялом служит огромный кусок голубого китайского атласа. И так продолжается до самого утра.
Такое трудно описать, а забыть – невозможно. Конечно же, этот отдых стоил сумасшедших денег, и позволить его себе мог далеко не каждый.
В течение суток на Кубинке вам могли найти валюту любой страны мира, только заказывай и плати. То же самое относилось и к драгоценным металлам, но наибольшим спросом пользовалось золото. Его скупали приезжие иностранцы, чаще всего турки, в неимоверных количествах, ведь наше российское золото во все времена очень высоко котировалось на международном рынке.
Однажды мой старый друг – москвич захотел подарить своей возлюбленной – нумизматке четвертак царской чеканки, который она искала повсюду несколько лет, но никак не могла найти. Кореш решил пошукать по своим каналам, через барыг и фарцовщиков, но и здесь его ждало разочарование, хотя цена для него не играла никакой роли – он был состоятельным малым. Как известно, таких четвертаков было выпущено в свое время всего несколько тысяч, и они, естественно, давно разошлись по свету. Так вот, ему посоветовали поискать четвертной в Баку, на Кубинке. Он тут же позвонил мне в Махачкалу и попросил об одолжении. Отказать своему корешу я, конечно же, не мог и немедля отправился в Баку. Тем же вечером я уже садился в поезд Баку-Москва, увозя с собой заветный сувенир для возлюбленной моего друга.
Алмазы, насколько мне известно, доставлялись в Баку самолетом из Якутии. Кстати, такой же рейс, но только с золотом, был из Магадана. Его так и называли: «золотой рейс».
Каналы эти были налажены много лет назад и функционировали без перебоев и запалов, поскольку в этом бизнесе были задействованы и самые высокопоставленные чиновники аппарата обкома Коммунистической партии Азербайджана, и их кремлевские боссы.
4
Остановились мы в тот раз на одной из улиц, прилегающих к Сабунчинскому вокзалу, у хорошо знакомого нам крадуна Юры Богдасарова. Чуть позже преступный мир Страны Советов узнает его как вора в законе Амбалика Бакинского.
Родословная этого уркагана была любопытной. Его мать, которую звали Марго, была профессиональной карманницей. Три ее сына, среди которых Амбалик был старшим, и дочь занимались тем же самым, и, стоит отметить, «тычили» они превосходно. Впоследствии сестра Амбалика вышла замуж тоже за вора в законе, но его вскоре развенчали по настоянию самого Амбалика. С чем это было связано, я, честно говоря, не знаю. В то время в Завокзальном районе и соседнем с ним Армяникенте жили преимущественно армяне, – веселый и общительный народ, преступный мир которого всегда славился хорошими карманниками.
Как правило, кошелечники на гастролях не задерживались в одном городе подолгу. Четверо из шести членов нашей бригады, кроме меня и Боксера, плотно сидели на игле. Поэтому, купив на Кубинке отраву по сходной цене, мы уже решили было сваливать из Баку в сторону Армении, где в одном из районов Еревана нас ожидали коллеги по ремеслу. Вот в этот-то момент местная шпана и попросила нас об одолжении. Позвонив в Ереван и сообщив о том, что немного задержимся, мы решили помочь местным.
Жила в районе Армяникента женщина-барыга с распространенным в те времена в армянских кругах именем Мэри-Джан. Она походила на самку Кинг-Конга, никогда не была замужем и торговала наркотиками, но не брезговала скупкой краденых вещей и содержанием публичного дома среднего пошиба, имея к тому же доход от нескольких торговых точек на Верхнем базаре.
В каждом районе Баку были свои барыги наподобие Мэри-Джан. Получая большие партии товара от воротил Кубинки, они брали его на реализацию и тут же запускали в действие мудреный механизм сбыта. Очень скоро они расплачивались с кредиторами, и все начиналось сначала. Как это происходило? Ну, во-первых, товар Мэри-Джан отпускала в больших, по сравнению с барыгами средней руки, количествах и только проверенным людям. Эти люди подразделялись на две категории. Наркоманы, покупавшие товар для своих потребностей, которых было большинство, и те, кто его перепродавал, – те же самые барыги, только рангом пониже Мэри-Джан. Что касается наркоманов, то здесь читателю и так все ясно, а вот о перекупщиках стоит немного рассказать.
Зная конъюнктуру рынка и спрос основных покупателей, Мэри-Джан приобретала в основном беляшку с черняшкой и хороший кашкарский план. Беляшку, то бишь сухой морфий, она расфасовывала в граммовые пакетики и отдавала перекупщикам по пятьдесят рублей за грамм. По тем временам это были большие деньги. Те, в свою очередь, из трех пакетов делали четыре, мешая чистый морфий с каким-нибудь веществом белого цвета, не особенно вредным для здоровья человека, и в результате махинаций получали навар. Учитывая огромный спрос, этот навар был немалым. Что же касалось черняшки, то бишь опия-сырца, то здесь предприимчивые перекупщики умудрялись химичить с еще большей выгодой.
Черняшку Мэри-Джан им продавала, как правило, по пятьдесят, а то и по сто граммов. В то время наркотиков было много, а наркоманов мало, поэтому и спрос на черняшку должен был быть намного меньше, чем в более поздние годы. Но это только так кажется. Да, безусловно, процесс был относительно долгим. Черняшку нужно было сначала жарить на ноже, промокать масло, затем варить и уже потом, остудив и отфильтровав, колоться. Морфий же достаточно было взболтнуть разок-другой в теплой воде или, на худой конец, вскипятить и, остудив, тут же употреблять.
Беляшка была безопасней, но она и стоила намного дороже. Не каждый наркоман мог позволить себе такое удовольствие. Поэтому черняшка и в те времена была самым ходовым товаром. Перекупщики продавали ее барыгам мискалами (мера веса, принятая на Востоке, равная 4,5 граммам), а те, в свою очередь, разбивали порции и тоже имели свой доход от махинаций.
Единственный наркотик, который в те времена и наркотиком-то не считался и за который не сажали в тюрьму, потому что и статьи такой не существовало в природе, была анаша. Как правило, на Кавказе барыги ее продавали башами, по пять косяков каждый. Но не надо путать гашиш, то бишь пыльцу, с высушенной шелухой от стеблей и листьев конопли, которую курят теперь.
Но, как бы там ни было и кто бы ни химичил с отравой, все равно все дороги босоты, желавшей кайфануть, вели к Мэри-Джан. Почти вся шпана в округе ходила в должниках у этой обезьяны в юбке. С бродягами она всегда вела себя вежливо и предупредительно, к другим же клиентам относилась с необыкновенной надменностью. Она разговаривала с ними так высокомерно, так задирала нос и повышала голос, принимала такой внушительный вид и горделивую осанку, что у всякого, кому приходилось иметь с ней дело, возникало сильнейшее искушение вырвать ей кадык вместе с глоткой. Но терпеть приходилось и тем, и другим.
Каким же образом парни умудрялись попадать в зависимость к этой мегере, спросите вы? Да очень просто. Хоть в то время наркотики и стоили относительно дешево, все же человеку, употреблявшему их, они были необходимы постоянно. Но ведь не всегда у крадуна есть деньги, тем более если он наркоман на ломке! Вот в такие-то моменты Мэри-Джан и оказывалась тут как тут, щедро снабжая людей отравой. Она была далеко не глупой коммерсантами и, прекрасно изучив воровской мир Баку, хорошо понимала, что возврат долга у воров – это дело их чести.
Не было никакой разницы, сидит ли на игле бродяга или нет. Больше того, очень часто вместо денег жиганы приносили украденные драгоценности, дорогую «мануфту» из норки или соболя, высоко ценившиеся тогда изделия из хрусталя и венецианского стекла и много других ценных вещей, отдавая свою добычу за полцены.
Но ведь для того, чтобы знать, кто сколько принес и кто еще остался должен, даже феноменальной памяти было маловато. Существовала целая бухгалтерия, и бестия хранила ее не где-нибудь, а в собственном бюстгальтере. Это был обыкновенный тетрадный лист в клеточку, исписанный мелким почерком, одной ей известным шифром, который мне и предстояло впоследствии утащить.
Но здесь возникает уместный вопрос, а можно ли было грабить эту барыгу, ведь она всегда давала в долг босоте и шла на всевозможные уступки? Против нее – да, можно было!
За каждое слово, написанное о законах преступного мира на страницах моих книг, я отвечаю своей головой перед людьми, которых считаю эталоном воровской совести и чести, так что не стоит сомневаться ни в одном из них. Барыги, вне зависимости от их пола, нации и вероисповедания, были особой категорией людей, со своим душевным устройством, непохожим на внутренний мир настоящих преступников. Посудите сами, в то время в основном только они и имели в жизни какие-либо ощутимые материальные блага: деньги, фешенебельные дома, шикарные квартиры, автомобили. При этом они почти не рисковали свободой, тогда как крадуны, которые и приносили им эти блага, наоборот, проводили большую часть жизни в заключении и не имели ровным счетом ничего, кроме тюремной шконки да пайки черного хлеба. Я имею в виду истинных крадунов, а не бандитов и им подобных отморозков.
Нет ничего удивительного в том, что барыг ненавидели, причина была проста и банальна. Они избрали себе самый легкий, но и самый низкий путь в жизни, который презирали настоящие преступники. Не следует путать барыгу, продававшего наркотики, и скупщика краденого с обыкновенными спекулянтами или, как нынче принято их называть, коммерсантами. Это разные категории людей, хоть и схожие по духу.
Всегда существует нечто, способное облегчить нашу жизнь. Для барыг был общак. Чтобы не оказаться ограбленными, не слышать в свой адрес оскорблений и не подвергаться всякого рода унижениям и насилию, некоторые из них отстегивали на общак, как правило в тюрьму или в лагерь, определенную мзду: наркотики, деньги или что-либо другое, нужное в тот момент. Только в этом случае они могли спокойно приторговывать и не бояться за жизнь и благополучие своей семьи. Одно из неписаных правил преступного мира гласило: человек, кто бы он ни был (кроме парчаков, конечно), уделивший на общее, автоматически попадает под защиту общака, а значит, под воровскую защиту. Эти привилегии не распространялись на людей лишь в том случае, если они при разборе оказывались не правы, но все же «уделение на общее» всегда учитывалось. Так вот, Мэри-Джан не отстегивала на общее, а значит, на нее правила преступного мира не распространялись. Думаю, мне удалось объяснить ситуацию.
Теперь, почему эту сложную операцию кореша доверили именно мне, ведь по возрасту я был самым младшим из всех членов нашего дружного сообщества карманников высшей квалификации? Да просто они помнили, как в Пятигорске я умудрился через ширинку брюк вытащить у фраера две пачки денег. Это был сложнейший воровской трюк, требовавший не просто мастерства, собранности и внимания, здесь нужно было нечто большее. Много позже я понял, что именно – воровской талант. Хочу заметить без ложной скромности: справился я тогда с этой задачей блестяще.
5
Когда вору-карманнику предстоит серьезная работа, сродни той, которая ждала меня, он прежде всего должен знать, где именно находится то, что его интересует. Но в данном случае мне нужны были дополнительные и абсолютно точные сведения о том, в чем именно оно лежит. Точнее, меня интересовал материал, из которого был сделан бюстгальтер Мэри-Джан. И эта задача оказалась самой сложной при подготовке к задуманному. Наблюдая за своей будущей жертвой целую неделю, я узнал весь ее распорядок на каждый день недели. Несколько раз мне даже удалось выпасти, как она прячет в левую сторону бюстгальтера свой список.
Для чего мне нужно было знать столь интимные подробности? Дело в том, что я, обладая неплохой сноровкой по выуживанию кошельков из чужих карманов, был еще и «писакой», то есть работал «монетой» и «мойлом» – в то время популярным среди карманников лезвием «Нева», и от того, с каким именно материалом мне предстояло иметь дело, зависел едва ли не полностью успех предприятия.
Я твердо решил «работать письмом». Но работа работе рознь. Одно дело – разрезать кожаную сумочку, висящую на плече, и совсем другое – каким-то образом незаметно запустить руку под платье и возиться там с бюстгальтером из шелка или атласа. Поэтому, чтобы не попасть впросак, я купил в лавке у старьевщика пару десятков самых разных бюстгальтеров и стал готовиться к предстоящей встрече с барыгой.
Завокзальная босота выделила мне одного фуфлыжника, ростом и габаритами схожего с Мэри-Джан, который ради того, чтобы с него списали картежный долг, должен был целыми часами служить чем-то вроде учебного материала для моих опытов. С утра и до самого вечера, почти не выходя из дому, я тренировался, напяливая на этого черта плотно набитые ватой лифчики разных размеров и фасонов, надевал на него сверху платье именно такого покроя, который Мэри-Джан предпочитала остальным, и таким образом набивал руку.
За этим процессом стоило наблюдать. Я до сих пор веселюсь, вспоминая иногда некоторые моменты этого представления. Можете себе представить физиономию фуфломёта, когда я заставлял его напяливать очередной изрезанный бритвой, а потом зашитый бюстгальтер, а сверху натягивать приталенное платье? Больше того, я требовал от него, чтобы он не просто стоял, как истукан, а постоянно двигался, каждый раз объясняя этому увальню, что мне от него нужно.
Бродяги, порой наблюдавшие эти сцены с переодеванием, умирали со смеху и говорили, вытирая слезы: «Ничего, Заур, не переживай, братан, если твой фокус не удастся. Ты и без того такой нам спектакль продемонстрировал, что всю жизнь помнить будем». Я в тот момент был серьезен и сосредоточен как никогда, прекрасно понимая всю ответственность, возложенную на меня. Но главным было, конечно же, сохранить репутацию «карманника по большому счету».
Побывав в свои неполные восемнадцать лет во многих вороватых городах Страны Советов, я ни разу не слышал, чтобы кто-то из карманников умудрился вытащить что-нибудь из дамского лифчика. Мне же предстояло это сделать. К тому же моя «терпила» была крученой, как поросячий хвост, барыгой, которую охраняли два мордоворота. Но зато и награда была высока. Свое погоняло Заур Золоторучка я всю жизнь отрабатывал, рискуя свободой. Иногда на карту приходилось ставить, ни много ни мало, собственную жизнь. Это было чем-то вроде планки для спортсмена. Ваш прежний уровень стал уже для всех привычным и обыденным. Прыгнете выше – и вас ожидает новый триумф. Если же высота не взята, то это равносильно краху всей вашей карьеры. Таковы были правила карманников того времени, распространявшиеся на всех без каких-либо исключений.
Когда нужда в чучеле фурманюги, который позировал мне, отпала, я отпустил его и, конечно же, проконтролировал, чтобы должок его был списан подчистую, как и договаривались.
Плотно присев на хвост Мэри-Джан, я стал отслеживать все ее передвижения. Так прошла еще неделя, но нужный момент все никак не наступал. Помог мне случай. Я уже привык к тому, что рядом с этим монстром в юбке постоянно находились два амбала, от рождения немые и выросшие в детском доме. Один из них был под стать своей хозяйке – рослый и грузный дуболом с мордой бульдога, другой напоминал змею, ищущую добычи, чтобы вонзить в нее свои ядовитые зубы. Лучших телохранителей найти было трудно. Они были преданы ей, как выдрессированные псы, охраняли ее, одновременно исполняя роль грузчиков. Амбалы таскали сумки, когда она бродила по базарным рядам или заходила в магазин, крутились неподалеку, когда она отпускала товар или собирала долги, разбирались с подвыпившими клиентами в ее борделе.
На углу улицы, почти напротив ее дома, местные пацаны целый день, с утра и до темноты, играли в кости. Лучшего места для наблюдения мне было не найти. Всю ту неделю, каждый день, я регулярно проигрывал им по мелочам, изображая огорчение при очередном проигрыше, и, надо отметить, у меня это неплохо получалось. Меня жалели, мне сочувствовали, но продолжали нагло обманывать, обыгрывая раз за разом. Я, прикидываясь лохом, делал вид, что не замечаю этого, ибо только таким образом мог войти к ним в доверие и собрать нужную мне информацию. Я уже знал об этой бестии такие подробности, о которых она и сама вряд ли догадывалась.
И вот на восьмой день слежки, когда я, как обычно, ни свет ни заря прибыл на свой наблюдательный пункт, там никого не оказалось. Это было очень странно. Трудно было даже поверить, что пацаны, все как один, отказались от своего излюбленного занятия. Но ларчик просто открывался. Оказалось, что накануне в город приехал тогдашний кумир миллионов советских людей, звезда индийского кино актер и певец Радж Капур. Он пользовался в то время такой любовью и популярностью, что в Москве и в Ленинграде, в Киеве и в Баку – во всех городах, которые он посещал на протяжении своего турне, его встречали буквально все, от мала до велика. Ясное дело, что такое событие в городе не мог проигнорировать никто – ни пацаны с Монтино, ни шпана с Завокзальной, ни барыги с Армяникента, не говоря уже о других слоях общества.
Когда я узнал от одной из торговок, продающих каждое утро молоко на углу, о готовящемся в Баку грандиозном мероприятии, я сразу же всеми фибрами воровской души почувствовал, что это мой шанс, который я не должен упустить: другого такого случая судьба мне больше не предоставит.
Знать, как нужно действовать, – лишь половина дела; другая половина – верно определить время, когда это действие можно совершить лучше всего. Для всех дел на свете есть надлежащее время. Часто люди упускают его, но я поступил иначе. Какой бы толстокожей ни была Мэри-Джан, рассуждал я, она ни за что не захочет пропустить такое зрелище, как приезд звезды индийского кино, и обязательно придет на площадь имени Ленина возле Дома правительства, где будет проходить представление.
6
Обычно я появлялся на людях в обычных черных брюках, в рубашке с короткими рукавами и в модных тогда и в Махачкале и в Баку «чарыках» – туфлях, сделанных из тонких переплетенных разноцветных полосок кожи. Но, где бы я ни был, даже тогда, когда ложился спать, у меня при себе постоянно была фартэцала – тонкая хлопчатобумажная куртка и «мойка» под губой. Подыскав пару подходящих дощечек для лангета, я дождался, пока откроется аптека, купил большой кусок марли, детскую присыпку, лейкопластырь, несколько широких бинтов и, расположившись на развалинах какого-то древнего строения, стал аккуратно перебинтовывать правую руку. Делал я это так, чтобы локоть был свободен и я мог в нужную минуту воспользоваться рукой.
Когда операция была закончена, я превратился в инвалида с перебинтованной правой цапкой. Я выбрался на противоположную от улицы сторону дома, привел себя в надлежащий для предстоящего спектакля вид, и, оглядевшись по сторонам, пошел к дороге. Нарочито хромая, я припадал на правую ногу, а на лбу у меня была приклеена небольшая полоска лейкопластыря. Весь вид мой свидетельствовал о том, что совсем недавно я стал жертвой какого-то несчастного случая. Поймав мотор, я попросил водителя, чтобы он подогнал машину поближе к дому Мэри-Джан, заплатив ему наперед двойную таксу, и, по-барски расположившись в салоне двадцать первой «Волги», стал терпеливо ждать своего часа, молча наблюдая за интересующими меня воротами.
Читателю, наверное, будет интересно узнать, почему я перебинтовал именно правую руку и хромал на правую ногу. Дело в том, что свой список Мэри-Джан постоянно хранила в бюстгальтере с левой стороны, а перебинтованная правая рука и хромая нога были не чем иным, как дополнением к фартэцале, тоже перекинутой через правое плечо.
Фартэцала для хорошего карманника – это что-то вроде шпаги для искусного фехтовальщика – продолжение его руки. То есть, если карманнику нужно было забраться в левый карман брюк или в сумочку, которую женщина держала на изгибе левой руки, ему необходимо было держать фартэцалу в правой руке, и никак не иначе. Это воровская аксиома была проверена многими поколениями карманников и со временем лишь развивалась и совершенствовалась артистичными кошелечниками. Ведь каждый «карманник по большому счету» – своего рода универсал с характерным воровским почерком и индивидуальной манерой актера-импровизатора.
В тот момент, когда я увидел вышедшего из ворот Мэри-Джан одного из ее телохранителей, мной овладела такая уверенность в себе и такой оптимизм, что я был готов до кучи отстегнуть на ходу еще и подметки с ее туфель. Мэри-Джан и ее охранники, стоя у ворот, недолго посовещались о чем-то и направились в сторону трассы, проходившей перпендикулярно улице, на которой они жили. Еще несколько минут им потребовалось для того, чтобы поймать машину и тронуться в путь. Я плотно сидел у них на хвосте, на всякий случай доплатив таксисту еще пару червонцев.
Хотя стояло утро выходного дня, тем не менее проехать к центру города оказалось делом проблематичным. Выехав на проспект имени Сталина, мы с грехом пополам добрались до улицы Шаумяна – ближайшей к центральной площади. На ней уже было выставлено милицейское оцепление. Дальше пути не было. Время в пути до места назначения составило не меньше сорока минут.
7
Один Бог знает, чего мне стоило пробраться через людской океан, заполонивший всю площадь и прилегающие к ней улицы, улочки и тупики, с перебинтованной рукой, хромая на правую ногу, но ни на секунду не упуская из виду Мэри-Джан. Ее модное платье с красными розами служило мне прекрасным ориентиром в этой бешеной людской толчее. Я неотступно следовал за ней, как бык за красной тряпкой, и старался ни на мгновение не упускать ее из виду.
Наконец процессия остановилась. Выбрав более или менее свободное место, я решил перевести дух, рассудив, что слишком приближаться к этой троице и тем самым светить себя раньше времени не следует.
По всему было видно, что до начала представления оставалось совсем немного времени. Я огляделся вокруг. Мы стояли в двух сотнях метров от огромной, наспех сколоченной сцены. Я отметил про себя огромное количество «мушкетеров», сновавших в толпе с такой сноровкой, какую обычно проявляют охотничьи псы в тот момент, когда нужно найти где-нибудь в камышах на болоте дичь, подстреленную хозяином. Все эти мусорские маневры я предвидел заранее, когда гримировался в развалинах Армяникента, поэтому в тот момент чувствовал себя во всеоружии, всем своим видом показывая, что я – простой бакинский обыватель. И если даже я и сбежал из больницы, то с одной лишь целью: посмотреть представление.
Наконец народ загудел и на несколько шагов приблизился к сцене. Послышались крики и стоны придавленных, ругань, мат, женский визг. В этот момент я понял: пора. В любой толпе я всегда чувствовал себя как рыба в воде, эта атмосфера была моей стихией. Проскользнуть ужом среди нескольких десятков человек мне ничего не стоило, поэтому уже через минуту я очутился по левую руку от Мэри-Джан. Этот мой маневр не мог пройти незамеченным для ее телохранителей, которые были зажаты толпой, но, с презрением окинув взглядом покоцанного инвалида, они успокоились и вновь устремили свои взоры на сцену.
Никогда не забуду тех минут. Видеть происходящее я не мог, мешал какой-то мотыль, маячивший впереди, зато слышал все прекрасно. Чтобы Мэри-Джан смогла привыкнуть к моему присутствию рядом, я с самого начала представления старался как можно плотнее прижаться к ней, как бы промацовывая ее бочину. Как раз в тот момент я и услышал, как ведущего перебил голос самого Капура. Всего несколько слов, сказанных тем на хинди, толмач перевел, впопыхах даже не успев осмыслить услышанное. «Трижды миллионер Радж Капур!» – выпалил он, и толпа взорвалась шквалом аплодисментов. Со свистом и криками люди принялись размахивать транспарантами с надписями о мире и дружбе между советским и индийским народами. Собравшимся настолько понравились слова их кумира, в которых главной составляющей были деньги, что они еще долго не могли успокоиться. Видать, заранее приготовил «Бродяга» свою реплику. Хитер был индус, знал, что за публика была перед ним…
Улучив момент, я достал из левого кармана брюк платочек и, сделав вид, что вытираю со лба пот, круговым движением руки прикоснулся ко рту. Незаметно вытащить двумя пальцами мойло из-за губы труда не составило – этот прием отрабатывался нами, «писаками», годами.
Положив платочек в нагрудный карман рубашки и постаравшись выровнять дыхание, я сделал глубокий вдох, а затем потихоньку выпустил из легких весь воздух и задержал дыхание на несколько секунд. Этого времени было достаточно, чтобы я быстро просунул левую руку под перебинтованную правую и зацепился мизинцем и безымянным пальцем (между средним и указательным – была зажата мойка) за край рубашки.
После этого я слегка прижал ладонь перебинтованной руки к правой стороне груди и постарался вывести немного вперед локоть. При этом я скорчил недовольную гримасу на лице и для пущей убедительности выжал из себя жалобный стон, давая понять таким образом, что меня со всех сторон сдавили и мне больно.
Неожиданно справа я услышал целую тираду, выпаленную с армянским акцентом:
– Нет, ара, на этого сопляка посмотри, э? Зачем сюда пришел, такой покалеченный? Тебе что, ара, опять хочется в больницу попасть? Не видишь, что ли, сколько людей стоят, ара, странный какой! Слушай, что, не мог по телевизору посмотреть?
Этот голос принадлежал не кому-нибудь, а Мэри-Джан. Я мгновенно собрался, будто перед экзаменом, заговорил писклявым, жалобным голоском молодого бакинского повесы:
– Ай, ханум, извините, пожалуйста! Мне так хотелось увидеть Радж Капура вживую, что я даже из больницы убежал ради этого. Мама узнает – клянусь, убьет меня.
– Ну хорошо, хорошо, не бойся, – смягчила она гнев на милость, в доли секунды окинув меня изучающим взглядом и одарив звериным оскалом. – Ничего она не узнает. Ну-ка иди сюда, пацан. Ара, смотри, хилый какой! Тебя что, не кормят, что ли?
Она обняла меня левой рукой за плечи и, прижав к себе, проговорила:
– Прижмись сюда и вот так стой, чтобы не задавили, понял? Только смотри, щенок, не щупай, а то я боюсь щекотки!
Дикий смех и сиплый чахоточный кашель мордоворотов чуть было не ввергли меня в панику, но через несколько секунд, слава Богу, умолкли. Все взоры устремились туда, где началось грандиозное представление. Под музыку оркестра над площадью разлились хорошо знакомые индийские мелодии.
Я закрыл глаза и перевел дух. Век мне воли не видать, если такой ход событий мог предвидеть даже самый козырный провидец!
8
Для того чтобы прийти в себя, мне потребовалось не более минуты. В который уже раз собравшись, словно пружина, готовая в любое время, распрямившись, выстрелить, к тому же еще и плотно прижатый огромной ручищей Мэри-Джан к ее левому боку, я стоял и с трудом переводил дыхание. Левую руку с мойкой между пальцами мне пришлось опустить на время вниз, но зато локоть перебинтованной руки я все же сумел выставить вперед. Я поднял его на уровень груди Мэри-Джан и теперь уже сам постарался еще сильнее прижаться к ее бочине. Затем не спеша приблизил локоть «больной» руки к ее соску, который выпирал из платья, и стал в такт с ее дыханием его теребить, будто ненароком.
Мой прием удался. Боковым зрением я наблюдал за тем, как она, вероятнее всего и сама не понимая в тот момент, откуда идет эта приятная волна, старалась выпятить грудь вперед. Я понял, что настала пора приступать к основной работе.
Левой рукой с зажатой между пальцами мойкой я чуть-чуть приподнял правую полу своей фартэцалы, которая была у меня накинута на плечи, немного согнул ладонь и внешней стороной пальцев стал потихоньку водить возле ее огромной, как резиновый мяч, груди. От прикосновения обеих моих рук она получала двойной кайф и млела под убаюкивающую индийскую мелодию, раскачиваясь из стороны в сторону Я тут же прочувствовал это ее состояние и, слегка обнаглев, стал, в буквальном смысле слова, шарить по ее груди.
Наконец после непродолжительных поисков я нашел то, что искал. Это была застежка с двумя маленькими кружочками, которая соединяла боковую тесемку бюстгальтера с его чашечкой и немного выпирала из-под платья. Значит, вспомнил я тут же недавнюю подготовку к предстоящей операции, на ней был бюстгальтер из ситца. Ну что ж, это упрощало мою задачу, потому что ситец легко разрезался мойлом. Теперь оставалось сделать правильный разрез на платье, так, чтобы лезвие зацепило вместе с шелковым материалом платья еще и тесемку, но именно в том месте, где она держала левое полушарие бюстгальтера, – где-то под мышкой.
Представляете, какой это был риск? Одно лишь неверное движение, толчок сбоку, затекшая рука, ну мало ли, какие могли случиться помехи в тот момент, и все – «Шура веники вязала»…
Неписаное правило карманника-«писаки»: хорошим бывает только разрез, сделанный углом, и никак не иначе. Но здесь была иная ситуация, не подходившая ни под какие правила, а точнее, это было исключение изо всех правил, и решение приходилось принимать мгновенно. Больше того, решение это должно было быть выверенным и точным.
Безо всякой скромности могу сказать, что если бы в природе существовали учебники по ремеслу «карманной тяги», то этот эпизод, без сомнения, вошел бы туда, как один из ярчайших примеров сноровки и ювелирного мастерства карманного вора.
Продолжая локтем перебинтованной правой руки теребить сосок груди Мэри-Джан, я осторожно перехватил лезвие большим и указательным пальцами левой руки и, вывернув руку у нее под мышкой, приступил к делу. Поначалу лезвие между пальцами я вывел всего на несколько микрон, лишь для того, чтобы его хватило распороть шов на платье. Мэри-Джан уже убрала руку с моих плеч, и мне стало намного сложнее продолжать работу. Аккуратно распоротый мойкой шов, шедший из-под мышки вниз, чуть ли не до самой талии, был идеальной работой писаки-ширмача. Один опустившийся конец материи я, не в кипеш, пропихнул немного вперед, обнажив левую часть бюстгальтера, второй же конец, соскользнув вниз, оказался где-то за ее спиной, придавленный в толпе мордоворотом телохранителем.
Теперь мне предстояло «расписать» комбинацию, и, если бы я ненароком зацепил тело Мэри-Джан, крови бы видно не было, потому что она была тоже красного цвета. Ранее я даже и не подозревал, что именно эта часть работы как раз и окажется самым сложным этапом операции, ибо не мог просчитать все заранее. У меня просто не хватало опыта: я был еще слишком молод и, по большому счету, не знал, какую мануфту может надеть женщина в том или ином случае. Камнем преткновения была все та же комбинация, которая прилипла к мокрому от пота телу Мэри-Джан. Стоя рядом, я терялся в догадках, как отлепить от ее тела хотя бы маленький кусочек материи, чтобы добраться до тесемки?
Но я зря волновался – в тот день я был на вершине воровской удачи. Обдумав все хорошенько, я понял, что нечего было даже и помышлять о том, чтобы работать лезвием по самой комбинации. «Писать» нужно было по левой бретельке, которая и держала ее на плечах Мэри-Джан. Но как до нее добраться? Перекинув, по ходу пьесы, фартэцалу на правое плечо и закрыв таким образом возможный обзор, я выбрал момент и добрался до того места, где бретелька соединялась с комбинацией. Я поддел ее двумя пальцами с зажатой между ними мойкой и чиркнул по тонкому шнурочку. Я еще даже не успел убрать руку, как кусочек тонкой материи, скользнув по груди Мэри-Джан, опустился на ее пышный бюст, теперь уже оголив тело вместе с частью лифчика.
Напряжение нарастало с каждой секундой, с каждым выверенным движением пальцев. Еще сильнее прижавшись к боку терпилы, с тем чтобы ее рука оказалась у меня за спиной, я еще немного выпустил лезвие. Дождавшись очередных бурных аплодисментов публики, я резким движением в третий уже раз писанул мойлом по тесемке именно в том месте, где ее соединяли с чашечкой бюстгальтера два маленьких кольца. Это было одно из двух мест, где между лифчиком и телом была хоть какая-то пустота, образованная этими кольцами. Одновременно я надавил на левую грудь Мэри-Джан локтем правой руки, зажав ее, чтобы освободившееся от тесемки полушарие бюстгальтера не соскочило с груди и не повисло в воздухе.
Все прошло блестяще. Когда я почувствовал, как тесемка повисла на платье Мэри-Джан, я скинул мойку на землю. Она сделала свое дело, и в ней больше не было надобности. Дождавшись, когда после очередной песни в исполнении Раджа Капура, Мэри-Джан стала аплодировать, вскинув вверх руки, я потихонечку пропустил средний и указательный пальцы между ее голой грудью и чашечкой бюстгальтера. Когда кончиками пальцев я почувствовал заветный клочок бумаги, сердце мое вновь стало отбивать барабанную дробь, но спешить было смерти подобно. Я знал это и потому остановился, чтобы перевести дух.
Через какое-то мгновение, сделав два глубоких вдоха и выровняв дыхание, я осторожно раздвинул пальцы и затем резко, как клещами вцепившись ими в список, аккуратно выволок эту заветную бухгалтерию из гашника барыги. Локтем правой руки я постарался вновь прижать чашечку лифчика в исходное положение, так как почувствовал, что она немного ослабила грудь и могла вот-вот сползти с нее.
Когда все было кончено, я замер, обливаясь потом. Он заливал мое лицо и временами капал с чисто выбритого подбородка на землю. Долго так продолжаться не могло, пора было делать ноги.
9
Все четверть века, которые я провел в тюрьмах и лагерях, я играл в карты, и поэтому мне не понаслышке знаком такой феномен, как «бешеная масть». Это когда при любой подаче и при любом раскладе вы, так или иначе, остаетесь в выигрыше. Что-то подобное происходило со мной, когда я стоял с зажатым в руке списком должников двух районов Баку, думая о том, как бы поскорее соскочить с этой прожарки. Но, прежде чем исчезнуть, я подтолкнул к Мэри-Джан стоявшего рядом со мной лысого мужика в очках.
С великим трудом выбравшись из толпы и уже оставив далеко позади площадь имени Ленина, я поймал мотор на проспекте Сталина и велел водителю отвезти меня на Шиховский пляж. Прибыв на место, я пешком добрался до небольшого баркаса, который вдали от суеты людской ржавел на берегу уже не один десяток лет. Я забрался на него, спустился в кубрик и, скинув весь свой маскарадный костюм, целый день затем провалялся на песке, загорая и купаясь, снимая с себя таким образом напряжение и усталость. Вечером я был уже на нашей хазе, где меня ожидал настоящий триумф. К тому времени уже почти весь блатной мир* Баку знал о горе, постигшем Мэри-Джан, и радовался. Когда кого-нибудь из козырных мусоров, центровых барыг или высокопоставленных чиновников настигала заслуженная кара, преступный мир по этому поводу всегда праздновал. Но в первую очередь об этом происшествии узнали мусора. Когда легавые рассказывали босоте, в каком виде они застали на площади эту бакинскую кошелку, не было ни одного слушателя, который бы отнесся к этому рассказу равнодушно, все хохотали до слез.
Как я уже говорил, по площади шныряло несколько сотен мушкетеров, и на душераздирающий крик потерпевшей тут же примчалось сразу с десяток легавых. Мэри-Джан была еще в шоке, поэтому предстала перед ними в том виде, в каком я оставил ее незадолго до этого. Левый бок шелкового платья был разрезан, как я и предполагал, почти до пояса и развалился на два куска. Один из них болтался сзади, другой висел спереди, чуть не у самого подола. На нем лежал кусок комбинации с перерезанной бретелькой на конце, а уже на нем, как детская панама, мирно покоилась огромная чашечка белого, как снег, бюстгальтера.
Стоя между двумя обалдевшими мордоворотами, так и не догадавшимися, как же могло произойти такое в их присутствии, расставив ноги, как перед занятиями гимнастикой, с оголенной грудью и налитыми кровью, бешеными глазами, она так колотила ладонями по своим толстым ляжкам, что было слышно далеко вокруг, рвала на себе волосы, орала что есть мочи благим матом и все время проклинала кого-то. Слушая пересказ одного из босяков, очевидца происходящего, я был склонен предполагать, что ее проклятия были обращены именно в мой адрес, и не ошибся. И все же больше всего меня интересовало не это, а то, что же произошло с ней позже, когда ее доставили в районное отделение милиции.
10
Через какое-то время Мэри-Джан, конечно же, пришла в себя и смогла объяснить, что с ней случилось. Думаю, нетрудно догадаться, что с мусорами у нее все было «схвачено». Но все же ей пришлось ответить на вопрос, не помнит ли она, кто стоял с ней рядом во время праздника. И тут в ее памяти возник хромой молодой человек с перебинтованной рукой в лангете и покоцанным лицом, которого она сама, пожалев, прижала поближе к себе.
Когда Мэри-Джан поняла, кто ее обокрал, она завыла сиреной и прокричала находившимся рядом легавым: «Клянусь Богом, озолочу того, кто найдет этого вора!» Клич был брошен, и свора легавых устремилась в погоню.
Ближе к вечеру на хату к Амбалику заехал его кореш-карманник с наркотой. Босота кумарила, и им было не до веселья. Мы с Боксером не кололись, поэтому решили выйти на улицу и прогуляться по свежему воздуху. Витек предложил отправиться в какую-нибудь кофейню, выкурить косячок-другой и поболтать о том о сем.
По соседству в тени нескольких фруктовых деревьев стояла уютная небольшая чайхана, вот туда-то мы и зашли.
Этот шаг оказался необдуманным, поэтому впоследствии и привел к большим неприятностям. Как таксисты по всему Союзу, так и почти все чайханщики на Востоке были в то время мусорскими осведомителями. Разумеется, мы с приятелем знали об этом, но были слишком молоды, чтобы подумать о том, что наш чайханщик – эта паскуда в белом переднике – мог вломить нас при первой же подвернувшейся возможности. Да и ожидать от легавых такой оперативности и прыти, что они буквально за несколько часов успеют оповестить обо мне всех своих подручных, мы, конечно же, тоже не могли.
Расположившись в уголке поближе к двери, мы заказали чаю и, пока его принесли, успели заколотить по косячку. За душевным разговором и время пролетело незаметно. Хорошо еще, что, когда я расплачивался. Боксер вышел в туалет, а оттуда, почуяв неладное, дворами ушел от погони, иначе и ему легавые сплели бы лапти.
Не успел я дойти до двери, как, откуда ни возьмись, на меня кинулась целая свора. Меня повалили на пол и, защелкнув сзади наручники, буквально вытолкали на улицу. Все произошло так стремительно, что я пришел в себя лишь на заднем сиденье машины, зажатый с обеих сторон мусорами.
Через полчаса со всеми почестями я был доставлен в отделение милиции. Здесь, в кабинете начальника, куда Мэри-Джан привели для моего опознания, и состоялся третий акт представления. Что тут началось!
В этом мире есть два существа, испытывающие равный по силе глубочайший внутренний трепет: мать, разыскавшая ребенка, и львица, схватившая добычу. Мне показалось, что в тот момент, когда Мэри-Джан увидела меня вновь, она почувствовала именно такой трепет. Перешагнув порог, она тут же заверещала так, что у меня мороз пробежал по коже. Глаза ее налились кровью, щеки покрылись темно-багровыми пятнами, гнилые зубы оскалились, длинный нос заострился и вытянулся, придавая ее лицу еще более страшный и зловещий вид.
На некоторое время Мэри-Джан замерла, как истукан, а затем, безо всякой подготовки, в тигрином прыжке бросилась на меня и, уцепившись одной рукой за мои брюки в области паха, другой попыталась добраться до глаз. Ожидая чего-то подобного, я был начеку и не допустил ее к цели, иначе ходить бы мне после этого кастрированным или слепым. Все же она успела изрядно исцарапать мое лицо и пару раз укусить со всей силы.
Да, таким зрелищем даже мусорам удавалось наслаждаться не каждый день. Некоторые из них веселились от души, другие прятали улыбки, опасаясь открыто проявлять переполнявшие их чувства и лишиться заслуженной награды. Лишь начальник милиции до поры до времени оставался серьезен. Но в конце концов не выдержал и он, и, закашлявшись, залился безудержным, истерическим смехом со слезами на глазах.
Казалось бы, какой смысл отнекиваться и отпираться, если все было против меня? Ан нет! Смысл был, да еще какой. Мне приходилось вновь играть роль, но теперь уже не травмированного больного, а возмущенного лапотника-недотепы. Никаких документов у меня при себе не было; кто я и откуда прибыл, менты не знали, так что хоть и до поры до времени, но все же я мог навешать им на уши лапши столько, сколько захочу.
Главной моей задачей в той ситуации было выиграть время. «Женщину эту вижу впервые, – начал я твердо отвечать на вопросы. – На площади никогда не был и быть не мог, потому что приехал в Баку из Москвы, по поручению деда, только вечером, на поезде Москва – Баку. По карманам никогда в жизни не лазил и не знаю даже, как это делается. А паспорт мой, наверное, выпал в чайхане, когда на меня напали милиционеры и повалили на пол».
Когда я давал эти показания, я знал, что ожидает меня впереди, но боялся вовсе не этого. Мэри-Джан в тот момент была похожа на пациентку, сбежавшую из сумасшедшего дома. По ее подбородку текли слюни, а она, то и дело вытирая их рукавом, не переставала кричать, чтобы легавые отдали меня ей на растерзание. Эту дикую прыть обезьяны едва сдерживали двое мусоров, но было ясно, что она в любую минуту готова ринуться на меня и разорвать в клочья. Я старался вообще не смотреть в ее сторону.
Мусора, конечно, не поверили ни единому моему слову и дали мне оторваться по полной программе. Когда же и это не помогло, они решили оставить меня в кабинете наедине с Мэри-Джан и двумя ее телохранителями. Это было их главной ошибкой и моим единственным шансом на спасение.
Мордовороты-охранники оттеснили Мэри-Джан в угол и стали объяснять ей что-то на пальцах (если читатель помнит, оба они были немыми). Она, как ни странно, в тот момент молчала и в растерянности глядела по сторонам, видно еще не решив, что предпринять в следующую минуту. Наконец, судя по всему, согласившись на пока еще мирные переговоры, она кивнула им и демонстративно отвернулась к окну.
Посовещавшись между собой около минуты, один из телохранителей, прекрасно зная вспыльчивый нрав своей хозяйки, остался стоять с нею рядом, а другой, подойдя к столу, присел напротив меня и постарался объяснить мне на пальцах, чтобы я вернул список.
Конечно же, я прекрасно понимал всю его жестикуляцию, но лишь пожимал плечами в ответ и с дурацким видом смотрел этому удаву прямо в глаза. В какой-то момент терпение дуболома лопнуло, он уставился на меня безжизненными рыбьими глазами, скрипнул своими железными челюстями, пригнул жирную шею, на которой ясно обозначились складки, сжал кулаки и изо всех сил ударил обеими руками по столу. Затем замычал, как буйвол, и попытался было встать. Но тут уже я, недолго думая, с силой вонзил ему два пальца, указательный и средний, в оба шнифта, как учили. Это был один из самых эффективных методов самообороны в тюрьмах.
Второй раз за час с небольшим в этом кабинете раздался душераздирающий крик потерпевшего, и оба раза виновником кипеша был я. Эта мысль успела лишь промелькнуть в моей голове, ибо уже в следующее мгновение я лежал на полу без сознания. Второй амбал не придумал ничего умнее, как схватить со стола графин с водой и со всего маху садануть им мне по голове.
11
Очнулся я в городской больнице на четвертые сутки после событий, происшедших в кабинете начальника милиции. У меня было тяжелое сотрясение мозга и открытая черепно-мозговая травма, но об этом я узнал позже. С опаской открыв глаза и увидев, где нахожусь, я в первую очередь возблагодарил Бога за то, что Он не лишил меня памяти и рассудка, а уже потом принялся соображать, что к чему.
Почти вся моя голова была обвязана бинтами, но боли я, как ни странно, почему-то не чувствовал. Вокруг сновали какие-то люди в белых халатах, но ни один из них не был мне знаком. Поскольку мусора не знали, кто я, а теперь и спросить было не у кого, они установили слежку за моими посетителями, но гостей все не было. Босота, конечно, узнала обо всем случившемся в тот же вечер, но, затаившись, ожидала, что будет дальше.
Целый месяц я пролежал на больничной койке не только под наблюдением медицинского персонала, но и под суровым надзором легавых. Но как бы ни был надзор строг, все же «вольный крест» – это вам не тюремные стены! Друзья уже давно наладили со мной связь и лишь ждали удобного случая, чтобы выкрасть меня из больницы.
Такой случай скоро представился. Договорившись с одним врачом о консультации, кореша отправили его в больницу. Доктор без проблем нашел повод для обследования и, убедившись в том, что я транспортабелен, дал босоте добро на мой побег. Улучив момент, он объяснил мне некоторые детали и, прощаясь, пожелал удачи.
Ночью друзья помогли мне бежать, привезли на автостоянку, где меня ждала груженная помидорами «Колхида», следовавшая из Баку куда-то в Россию, и уже через сутки я был в своей родной Махачкале.
Сноски к рассказу «Список»
Ай, ханум – на Кавказе, в Средней Азии, обращение, которое направлено преступником в адрес любимой или очень уважаемой женщине.
Амбал – человек плотного телосложения, верзила. Как правило, это люди недалекие, которых состоятельные люди держат скорее для устрашения конкурентов, нежели для каких-то серьезных действий, хотя, иногда им приходится исполнять и очень грязную работу.
Анаша – высушенный и перемолотый куст конопли с листьями и стеблями и головками растения после снятия пыльцы (гашиша). Хотя это слово – южного происхождения, его с дореволюционных времен употребляют во всех регионах страны, кроме южного, поскольку в республиках Северного Кавказа, Закавказья и в Средней Азии говорят: «план». Не следует путать с гашишем.
Аферисты – мошенники.
Барыга, барыги – спекулянт-перекупщик, торгующий товаром, который пользуется особым спросом в преступном мире: наркотиками, драгоценными камнями, золотом, антиквариатом и другими вещами.
Беляшка – Наркотические препараты: морфий, амнапон, промидол и им подобные, чаще – в ампулах.
Бестия – проныра.
Бешеная масть – сумасшедшее везение.
Блатными районами – городскими районами, в которых живет больше всего преступников.
Босота – представители преступного мира, которые не только придерживаются воровских традиций, но и живут по их канонам.
Босота кумарила – «босота» страдала из-за отсутствия внутривенных наркотиков.
Бригадой ширмачей – устойчивая группа карманных воров.
«Бродяга» – кинофильм с участием Радж Капура.
Бродяги – то же, что и «босяки».
Вероятность запала – вероятность ареста.
Вломить – предать.
Вольный крест – больница находящаяся на свободе.
Воры в законе – высшая ступень в иерархической лестнице преступного мира.
Воровские новости от местной шпаны – новости обо всем, что касается воровского мира СССР, которые обязаны были знать «бродяги», где бы они не находились.
Воровские понятия – своеобразная мифология, которая сформировалась в среде беспризорников и позже легла в основу воровских законов.
Всесоюзные воровские сходняки – собрание воров в законе всесоюзного масштаба.
Втыкалы – карманные воры.
Выпасти – выследить.
Гастроли – поездка по региону, стране, миру с целью совершения преступлений.
Гастролёры – преступники, промышляющие в разъездах по региону, стране и миру.
Гашника барыги – потаенного место, куда «барыга» прячет свои ценности.
Городом без фраеров – город, у жителей которого, из числа преступного мира, доминируют воровские понятия.
Дуболом с мордой бульдога – верзила с лицом бульдога.
Жиганскими – воровскими.
Жирный бобёр – очень богатый потенциальный потерпевший.
Жулики – «воры в законе».
Западло сдать мента – нарушение воровских норм, которые исключают предательства кого бы то не было, даже сотрудника правоохранительных органов.
Кайфануть – ощутить состояние эйфории, как правило, после приема наркотиков.
Карманники – карманные воры.
Каталы – профессиональные карточные шулера.
Кашкарский план – особый сорт гашиша, произведенный в кашкадарьинской области Казахстана, который наряду с чуйкой высоко ценится наркоманами.
Кипеш – бунт, шум, волнение, скандал.
Козырные кошелёчники – опытные, знаменитые карманные воры.
Кореш – друг.
Кошелёчники – карманные воры.
КПЗ – камера предварительного заключения.
Крадуны – преступники, занимающиеся исключительно воровством и строго придерживающиеся воровских законов. Кандидаты в воры в законе.
Кто «уголком», а кто и «гарной дуркой» – кто чемоданом, а кто и красивой женской сумочкой.
Лапотника-недотепы – простаки.
Легавые сплели бы лапти – милиция бы арестовала.
Майдан – подпольный игорный дом.
Майданщики – профессиональные карточные и иные игроки.
Малолетки – несовершеннолетние.
Мануфту из норки или соболя – верхняя одежда из норки или соболя.
Менты, легавые, мусора – милиционеры.
Мордоворот – верзила, огромного роста.
Мотор – такси.
Мотыль – высокий, худой человек.
Мушкетеры – сотрудники уголовного розыска, специализирующиеся на ловле карманных воров. Слово употребляется исключительно в Азербайджане, особенно в Баку.
Навар – прибыль.
На бану – на вокзале.
На пропуле – быть готовым к приему кошелька, наличных денег, золотых украшений и других ценностей, украденных одним карманным вором и переданных другому для того, чтобы избежать поимки с поличным.
На отмазке – быть готовым помочь избежать каких-либо неприятностей или выбраться из щекотливой ситуации.
Напяливая – надевая.
Наркоман на ломке – наркоман, который испытывает наркотическое голодание.
Находящихся в бегах – те, кто находится в розыске по линии МВД.
Наша стрелка – наше место встречи.
Не в кипеш – очень осторожно, тихо, без шума, незаметно.
Общак – своего рода касса взаимопомощи, существующая внутри того или иного криминального сообщества.
Опера – оперативные сотрудники милиции.
Откупиться – произвести кражу.
Оторваться по полной программе – выжать из сложившихся обстоятельств все, что только можно.
Отрава – наркотики.
Отстегивали на общак – уделяли внимание «общаку».
Парчак – одна из самых презираемых категорий сидельцев на взросляке. Униженный, грязный и неряшливый человек, зачастую страдающий венерическими заболеваниями. Это, как правило, отчаявшиеся и опустившиеся люди, на которых, кроме заключения под стражу, обрушилась еще масса, по их мнению, неразрешимых проблем.
Паскуда – человек, умышленно допустивший проступок, идущий глубоко вразрез с понятиями арестанта и бродяги, например, преступник-ренегат, поддерживающий постоянную связь с милицией.
Писакой, то есть работал «монетой» и «мойлом» – карманный вор высшей категории, разрезающий с целью кражи карманы и сумочки. Для этого он применяет лезвие опасной бритвы, половинку безопасного лезвия, которую держит за губой, или заточенную с одной стороны полукругом медную монету.
Пацаны – осужденные, занимающие самое высокое положение в сообществе несовершеннолетних заключенных, настоящий, полностью сформировавшийся преступник, при соответствующем поведении имеющий все шансы стать со временем вором в законе. Эта категория преступников возникла во времена, когда массы беспризорников сколачивались в банды, возглавляемые матерыми уголовниками.
Писаки-ширмача – карманные воры высшей квалификации.
Погоняло – прозвище.
Подсад тех ширмачей – скопление народа на остановке общественного транспорта, где орудуют карманные воры.
Покоцанного инвалида – избитого инвалида.
Прикидывался лохом – прикидывался простодушным, наивным, доверчивым человеком. Деревенским жителем, приехавшим в город из далекой глубинки.
Продавали башами, по пять косяков – имеется ввиду анаша, которую продавали пакетиками, в которых было по пять доз.
Прожарка – издевательства и пытки, применяемые администрацией ИУ над осужденными, придерживающимися воровского образа жизни.
Промацовывая её бочину – прощупать карманы потенциального потерпевшего или потерпевшей.
Пошукать – поискать.
Работать письмом – применять во время карманной кражи лезвие или отточенную монету.
Разбредалась по хазам и малинам – расходилась по разного рода конспиративным квартирам преступников.
Саманное строение – строение из больших глиняных кирпичей называемых саманами.
Скрысятничать – своровать у заключенных в местах лишения свободы или у близких людей, которые тебе доверяют.
Сосущих горький насвай – вещество зеленого цвета, которое употребляют для того, чтобы не курить или уже бросив курить. Его заворачивают в тонкую папиросную бумагу и отправляют под язык. В основном, на Кавказе и Средней Азии.
Спалился с поличным – арестован, пойман с поличным.
Спекулянты – коммерсанты.
Сходняки – собрания, на которые собираются преступники.
Терпила – потерпевший.
Тихушники – сотрудники уголовного розыска, специализирующиеся на ловле карманных воров. Они всегда одеты в штатское, более того, порой разыгрывают роли преступников.
Тычили – совершали карманные кражи.
Уркаган – вор в законе.
Фартэцала – предмет, с помощью которого сподручней совершить преступление, связанное с мелкой кражей. Таким предметом, например, может быть обыкновенная газета или перекинутый через руку пиджак.
Фарцовщики – барыги, специализирующиеся на спекуляции валютой и иными ценностями.
Фраер – Если исходить из воровских понятий, то это любые люди, не являющиеся ворами в законе. В ГУЛАГе фрайером или фрайерюгой называли простачка, лопуха. Теперь так называют потерпевших и, вообще, наивных и доверчивых людей, непрактичных, а иногда и ни на что не способных. Кроме того, фрайер – это рядовой уголовник.
Фуфлыжник, фуфломёт – проигравший и не уплативший вовремя картежный долг.
Хаза – конспиративная квартира преступников, притон.
Хата – конспиративная квартира преступников, жилище вора.
Цапка – рука.
Цеховик – деятель теневого бизнеса.
Черняшка – опий-сырец.
Чилим, набитый кашкарским планом – приспособление для курения, набитое анашой самой высокой пробы.
Четвертак царской чеканки – имеется ввиду золотая монета достоинством в двадцать пять рублей, отчеканенная еще при последнем русском царе.
Шнифт – глаз.
Шура веники вязала – ничего из задуманного не получается, все затеи рушатся, как карточные домики.
Шухер – возглас атасника, оповещение соучастников преступления об опасности.
Щипачи – карманные воры.
Спичка
1
Случай этот произошел в начале семидесятых годов на одной из лесных командировок Коми АССР Чинья-Ворик, а точнее, на лесоповале, куда выезжали бригады из этого лагеря пилить и разделывать лес.
Прибыли мы на эту зону то ли поздней весной, когда уже не было снега, то ли ранней осенью, сейчас уже не помню, но точно не зимой, потому что сплав и выкатка, равно как и вырубка леса, шли там полным ходом.
В этапе нас было двенадцать человек, в том числе и один уркаган по кличке Березка Саратовский. В то время многих моих единомышленников, в том числе и воров в законе, которые, как утверждало гулаговское начальство, пагубно влияли на арестантов, проповедуя им воровские идеи, развозили по разным зонам и пересылкам Коми АССР с тем, чтобы ни в одном из лагерей более трех месяцев хозяин нас не задерживал. Иногда отправляли и за пределы тех управлений, где арестанты отбывали срок своего заключения порой не одну и не две пятилетки подряд.
Меня тоже вывозили подальше от УСТИМЛАГа, но всякий раз возвращали назад, в Богом проклятый Княжпогост, в лапы лагерного инквизитора – кума Юзика.
Килешовки эти проводились для того, чтобы «отрицалово», как нас называли менты, не могло глубоко пустить корни на какой-нибудь из командировок и перевернуть устоявшийся там козий режим, «махновщину» и разного рода мусорской произвол. Хотя, по сути, в УСТИМЛАГе таких лагерей не водилось, но зато «сухарей» и разного рода нечисти, притаившейся до поры до времени, было хоть отбавляй.
Мусора трубили во все трубы, что мы переворачиваем всё с ног на голову и мешаем жить осужденным, ставшим на путь исправления, что нас необходимо держать в постоянной изоляции от остального контингента во избежание бунтов и воровских революций.
Но эти «вставшие на путь исправления» были в большинстве своем потерявшие все человеческие качества гады, которые жили уже по нескольку лет лишних и, ожидая часа справедливой расплаты, чинили вокруг себя хаос и беспредел. «После меня хоть потоп» – таков был их девиз. Но главное, эти мрази всегда играли на одну руку с ментами, отчего жизнь и быт обыкновенных мужиков-работяг становились совершенно невыносимыми.
Хотя бродяг и держали в основном под замком: в изоляторах, БУРах, на крытом и особом режимах, мы тем не менее времени зря не теряли, повсюду проповедуя, что нельзя обидеть слабого, не ответив за это по всем правилам арестантской жизни. Мы, как могли, объясняли людям, незнакомым с лагерной жизнью, что на каждой командировке или пересылке, где сидят под замком каторжане, должен быть общак, чтобы босота могла помочь арестантам, попавшим в беду, независимо от того, какой они были масти – воры, мужики или фраера. Одним словом, мы следовали канонам, которых обязан придерживаться каждый уважающий себя человек, находящийся за колючей проволокой.
Нас и гноили «под крышей», но все же иногда бродягам удавалось выбраться на сутки-другие в тайгу, подышать свежим воздухом и отдохнуть немного от клопов и вшей, зловония параши, сырости бетонных казематов и постоянных конфликтов с надзирателями. В одну из таких вылазок, минуя зоркий глаз начальства на разводе, я и несколько моих единомышленников оказались с бригадой лесорубов на лесоповале.
На территории поселка Чинья-Ворик и в его окрестностях располагались три зоны: две колонии строгого и один лагерь особого режима. На огромной площади, занимаемой этими учреждениями, находилась биржа, с множеством заводов и цехов по переработке древесины. В каждой из колоний выделялось по нескольку бригад, которые выезжали на лесоповал глубоко в тайгу, как правило за десятки, а то и сотню километров от жилых зон.
У половины из нас, только что прибывших этапом, был строгий режим, но тем не менее всех нас водворили в один из бараков лагеря особого режима.
За свою долгую тюремную жизнь я ни разу не слышал, чтобы хоть одна полосатая зона была сучьей. Здесь нам не нужно было напрягаться и воевать с кем бы то ни было. Уклад на зоне был чисто воровским, и каждый из нас по-настоящему чувствовал, что находится у себя дома.
В то время в Коми АССР было три зоны особого режима: Иосир и Дикое Поле были закрытыми (позже оба этих лагеря тракторами сотрут с лица земли), а Чинья-Ворик – открытым. Если в закрытых зонах арестантов денно и нощно содержали в бараках, без вывода на работу, то в открытой было немного полегче. Каторжан после утреннего развода выводили на работу: на биржу или на лесоповал, а по возвращении их вновь закрывали под замок в бараки до утра. В колонии же строгого режима осужденных закрывали под замок лишь в том случае, если они нарушали режим содержания. Вот, пожалуй, и почти все различия.
2
Во второй половине шестидесятых годов, после замены уголовного кодекса и правовой реформы в ГУЛАГе, администрации некоторых лесных учреждений стали претворять в жизнь новшества, о которых раньше никто даже и не помышлял. Имея на своей территории огромные лесные угодья, они стали сдавать таежные участки в аренду иностранным компаниям. Казалось бы, эта затея должна была приносить государству огромные прибыли, ведь платили-то за древесину золотом, но так только казалось.
Представьте себе таежный массив приблизительно в сто квадратных километров, поделенный на несколько участков в зависимости от того, сколько компаний претендовало на вырубку леса в этом районе. Если мне не изменяет память, тогда там работали японцы, болгары, финны и канадцы. Они пилили и заготавливали лес на арендованных ими участках, а затем увозили его за пределы страны на своих же лесовозах, прибывших из-за кордона.
Как правило, вырубка шла всегда в одном определенном квадрате, который занимал огромную площадь лесного массива. Так что заключенные и арендаторы-иностранцы работали подчас совсем рядом и, само собой разумеется, им частенько приходилось сталкиваться друг с другом.
Участки иностранцам выделяли, мягко говоря, не всегда с качественным лесом. Поначалу они роптали, жаловались, но потом смирились и спокойно продолжали работать. А куда им было деваться? Где японцы, например, могли бы купить за гроши столько леса, сколько не произрастает во всем их государстве? Конечно, им было выгодно приобретать у нас любую древесину по той цене, которую горе-коммерсанты ГУЛАГа запрашивали за нее.
Вскоре здесь произошли такие изменения, что у всех без исключения иностранцев отпала нужда ругаться с начальством и требовать исполнения условий контракта. Лес, который бригада пилила на своих делянках, десятник менял на тот, который добывали иностранцы на своих. В результате такого «бартера» у мужиков было вдоволь курева и чая, а в выходные дни можно было побаловаться и спиртным.
Конечно, ущерб от этих сделок государству наносился огромный, но кому какое дело было до этого самого государства, которое, не обращая внимания на все бытовые и жизненные невзгоды арестантов, по всему ГУЛАГу нещадно эксплуатировало их, расплачиваясь за адский труд копейками, да и то не всегда. Да провались оно пропадом, такое государство! – справедливо полагали все без исключения, и были правы.
Я уверен, что большинство арестантов готовы были вообще поджечь всю тайгу вместе с лагерями и поселками, в которых жили в основном те же мусора.
3
Больше половины бригады, не считая сцепщиков, трактористов и разнорабочих, выезжавших на лесоповал, делилось на звенья, в которых было по три человека: пильщик, вальщик и сучкоруб. Как правило, это были высококвалифицированные лесорубы с большими сроками заключения, годами работавшие друг с другом. Каждое их движение было выверено до миллиметра. От этого, кстати, зависела порой жизнь каждого из них. Я уверен, что, работай они так на свободе, их награждали бы орденами и медалями за доблестный труд.
В бригаде, с которой мы выехали в тайгу, чтобы немного отдохнуть и развеяться, трудился известный на все управление сучкоруб по прозвищу Шаляпин. Уж и не знаю, за что его прозвали именно так, а не иначе, возможно, он еще и пел неплохо, но что касается ювелирного обращения с топором, то равных ему я не встречал никогда. Чинганчгук Большой Змей со всеми своим индейскими томагавками отдыхал по сравнению с виртуозом Шаляпиным. Низенького роста, с небольшой залысиной на голове, щуплый на вид, он оставлял впечатление хилого мужичка-замухрышки. Но стоило оказаться в его руке топору, как он тут же преображался в непревзойденного мастера своего дела. Даже лицо его, такое серьезное и сосредоточенное, начинало напоминать грозных воинов времен американского Дикого Запада.
Шаляпин был потомственным лесорубом из глухой таежной деревни в Сибири. В двадцатилетнем возрасте судьба забросила его в Карелию на заработки, с тех пор родная деревня снилась ему лишь по ночам. На вырубке он помахался на топориках с двумя местными отморозками и завалил обоих так, как валил вековые сосны и ели в родной сибирской тайге. Накатили тогда Шаляпину пятнадцать лет, и ушел, бедолага, по этапу в УСТИМЛАГ пилить все тот же лес. К концу его отсидки мы и встретились с ним.
В тот день на делянку к нашей бригаде заглянули лесорубы-канадцы. Ясное дело зачем: им нужны были кубометры, об этом они и вели переговоры с нашим десятником, шустрым малым – москвичом, бывшим студентом МГИМО, который неплохо изъяснялся на нескольких языках, в том числе и на английском. Перед тем как зайти в теплушку, иностранцы оставили свои топоры у дверей. Это были по нашим, советским, меркам очень хорошие и дорогие инструменты. Хоть и были канадцы наслышаны о том, что большинство русских нечисты на руку, но знали наверняка, что, когда они в гостях у босоты, с их имуществом ничего не случится. Они всегда доверяли нам и верили каждому нашему слову безо всяких бумажек и подписей. Это всех нас радовало и лишний раз напоминало о том, что мы – не разменная монета в руках власть имущих, а люди.
Во время переговоров возле дверей появился Шаляпин. Он искал зачем-то десятника, и ему сказали, что тот только что вошел в будку вместе с иностранцами. Шаляпин хотел было зайти, но замер у входа как вкопанный. С порога на него смотрели аккуратно сложенные в пирамиду топоры, блистая на солнце своей серебряной отделкой, как курки солдатских винтовок на привале.
Шаляпин даже забыл, зачем пришел. Взяв особенно приглянувшийся топор в руки, он стал разглядывать его с такой любовью и нежностью, что позавидовала бы любая кормящая мать. Он держал и гладил инструмент, будто малое дитя. Канадцы, как завороженные следили за ним в окно, не в силах оторваться от увиденного. Фактор загадочной русской души был налицо.
– Кто это? – спросил у десятника самый старший из лесорубов.
– Шаляпин, – не задумываясь ответил тот, но, спохватившись, объяснил, что к чему, и добавил с гордостью, что равных ему сучкорубов не сыскать во всем ГУЛАГе. Такой ответ, видать, пришелся по душе канадцам. Выйдя из теплушки, они познакомились с местной знаменитостью и разговорились с ним по душам. Десятник не успевал переводить их беседу, перешедшую со временем в профессиональный спор. Тут уже, побросав работу, собралась почти вся бригада, ибо пари, которое вот-вот должен был заключить Шаляпин, касалось всех без исключения. Главенствовала здесь даже не финансовая часть спора, хотя на кону были немалые деньги, а честь русского мужика-лесоруба.
В чем же заключалось пари? Один из канадцев утверждал, что его дед, потомственный лесоруб, мог наотмашь разрубить топором спичку вдоль. Сколько внук ни пытался повторить этот фокус, у него ничего не получалось.
– Так вот, – обратился он к Шаляпину, – если, как утверждают окружающие, вы такой знаменитый мастер, то, думаю, вам будет по силам эта задача. Я понимаю, – продолжал все тот же лесоруб, – что вам нужно немного набить руку. Поэтому, если вы согласны на мое пари, я даю вам три дня на подготовку.
Шаляпин спокойно и с достоинством выслушал перевод десятника, лукаво улыбнулся в усы, почесав затылок, посмотрел на окружавших его каторжан, и протянул правую руку, по которой с размаху тут же ударила мозолистая ладонь канадца.
4
В связи с предстоящей демонстрацией мастерства Шаляпина в лагере и его окрестностях стоял неимоверный ажиотаж. Я не зря сказал об окрестностях, потому что не только арестанты, но и легавые, жившие в близлежащем поселке и работавшие в зоне, узнав о происшедшем на повале, не стали чинить никаких препятствий Шаляпину. Наоборот, они как могли помогали тому, чтобы тот не ударил лицом в грязь перед иностранцем-капиталистом, а вышел бы победителем. Обычный спор двух работяг они, видать, решили превратить в очередную пропагандистскую акцию, сродни социалистическому соревнованию.
Начальник колонии лично следил все эти три дня за тем, чтобы Шаляпина никто не отвлекал от тренировок, чтобы он усиленно питался и вовремя отдыхал. Что касается инструмента, то, думаю, нет нужды говорить о том, что он у каторжанина-лесоруба всегда был в образцовом состоянии.
У меня, по совести говоря, относительно этого самого инструмента с самого начала их спора закрались некоторые сомнения. Как можно умудриться таким вот колуном разрубить спичку вдоль, если само острие топора было немногим ее тоньше?
Наконец настал долгожданный для всех третий день после заключения пари. На поляне возле аккуратно срезанного и отполированного чуть ли не до зеркального блеска пенька собралась уйма народа. По приказу начальника вырубки на целый час была прекращена работа всех бригад, находящихся на лесоповале.
– Ничего, отработают потом, никуда они не денутся. Ведь не каждый же день такое удается увидеть! – говорил он майору, начальнику нашего конвоя.
По этому поводу на вырубку съехались все иностранные лесорубы, которые работали тогда в округе, – японцы, финны, болгары, ну и, конечно же, канадцы были здесь все до единого. Мусора тоже почтили нас своим присутствием. Начальник колонии, начальник отряда и заместитель начальника по режиму даже вызвались быть рефери вместе с несколькими пожилыми дровосеками иностранцами. Здесь же присутствовали и начальник конвоя с десятком солдат, и какие-то менты из управления, которых я раньше не видел.
Шум и гвалт вокруг стоял неописуемый. Казалось, что сейчас должно начаться какое-то необычное цирковое шоу. Когда страсти разгорелись до предела и готовы были выплеснуться наружу, на поляну наконец-то пожаловал сам виновник всей этой кутерьмы.
Шаляпин не спеша вышел из будки, закинул, как бы нехотя, колун на правое плечо и направился прямиком к пеньку. Следом за ним шел пожилой канадец, переводчик-десятник и несколько зоновских легавых.
Выйдя в центр поляны, вокруг которой собрался народ, они во всеуслышание огласили и перевели условия пари, хорошенько осмотрели поверхность пенька и тут же приступили к выбору спички. На пенек был высыпан коробок, и из шестидесяти находившихся там спичек жюри отобрало одну.
Каторжане были возбуждены до предела. Заварив по ходу пьесы жиганского чифиря, те, кто был помоложе и поглазастее, расположились на взгорке, каторжане же постарше, присев на корточки и скрестив ноги, образовали полукруг метрах в десяти от пенька. Обе группы арестантов пустили по кругу пару эмалированных кругалей с ароматным напитком и, скрутив самокрутки из махорки, задымили на всю округу. Чувствовалось, с каким нетерпением они ожидали начала этого представления, нисколько не сомневаясь в способностях своего кореша и коллеги.
Наконец все споры и дискуссии смолкли, и Шаляпин остался у пенька один на один с колуном. Все стоявшие рядом отошли на несколько метров, за цепь сидящих на земле каторжан, и замерли в ожидании. Мертвую тишину нарушало лишь пение северных птиц. Шаляпин, стоя у пенька, был спокоен и невозмутим. Вынув носовой платок из кармана брюк, он приподнял колун и стал с какой-то особой нежностью протирать острие топора, как будто это был его единственный друг во враждебном мире, искоса бросая взгляды то на пенек с лежащей на нем спичкой, то на собравшихся вокруг людей.
Закончив с этим, он поплевал на ладони, потер рукой об руку, ухватился за топорище, заранее определив на нем удобное место, и, закинув топор за плечо, занял исходную позицию и замер на месте, настраивая частоту дыхания. Наконец он резко выдохнул, а затем сделал медленный вдох.
Топор прочертил дугу в воздухе, и Шаляпин, чуть согнув ноги в коленях, опустил колун на пенек прямо по центру. Топор, воткнувшись в мягкую древесину, замер на месте. Кинувшись к пеньку, люди склонились над ним и ахнули от удивления. По обеим сторонам от лезвия топора лежали две крохотные половинки спички.
Что тут началось! Мужики принялись бросать шапки вверх, поздравляя Шаляпина, и даже несколько раз подкинули его в воздух, будто он только что выиграл себе и всем им свободу. Мусора тоже не остались в стороне от всеобщего ликования. Радостные и довольные увиденным зрелищем, они по очереди жали ему руку, хвалили за ловкость и благодарили от лица всех советских заключенных.
Иностранцы были ошарашены. Они собрались вокруг пенька, трогали лезвие колуна, разглядывали две тоненькие половинки некогда целой спички и все никак не могли понять, каким же образом острие этого огромного топора смогло разрубить спичку вдоль на две равные половинки. Но я следил за канадцами. Они были поражены мастерством Шаляпина, не скрывали этого и радовались его успеху вместе с «остальными. Особенно был восхищен тот пожилой лесоруб, который и заключил с ним пари. Складывалось впечатление, будто Шаляпин был его родным братом, который только что в лотерею выиграл огромную сумму денег.
5
С тех памятных событий, которыми, в сущности, так скудна лагерная жизнь, прошло без малого тридцать лет. Однажды, заехав в Москву по делам, я заглянул в гости к своему старому приятелю, с которым чалился в те самые годы в УСТИМЛАГе. Помимо того, что много лет назад мы тащили свой босяцкий груз в одной упряжке, у нас был еще общий интерес кое в чем, поэтому я и решил лишний раз проверить, как идут дела. Приятель был дома не один. Буквально перед самым моим приходом в гости к Артему, так звали этого старого каторжанина, пожаловал кореш откуда-то из-за границы. После того как я был представлен ему, этот человек пригласил нас обоих в ресторан отметить какое-то важное для него событие.
Артем с самого начала немного заинтриговал меня, сказав, что его приятель, сибиряк, вместе с нами мотал срок заключения, но где и когда, не пояснил. Я был немало удивлен этим, ведь памятью, как говорится, меня Бог не обидел, но виду не подал. Судя по тому, что Николай (так звали незнакомца) пришел к моему приятелю, лагерным гадом он, конечно же, не был, но и бродягой, как ни странно, тоже. Уж своих-то я всегда чую, как волк, на расстоянии.
Наше такси спустилось по Моховой, завернуло на Тверскую и, проехав немного, остановилось напротив дверей ресторана «Арагви». Метрдотель – высокий и статный пожилой грузин с шапкой белых, как вершины Кавказа, волос, мой старинный знакомый, встретил нас в смокинге у самого входа и проводил за столик, который мы заказали заранее.
Уютно расположившись недалеко от сцены с оркестрантами, которых к тому времени еще не было в зале, и успев принять на грудь пару рюмок армянского коньяка, я приготовился слушать бывалого арестанта.
Читатель, наверное, уже догадался, что этим незнакомцем из-за границы был не кто иной, как Шаляпин. Только теперь мне стало известно, что звали его Николай, но это и немудрено, ведь видел-то я его всего лишь два раза в жизни.
Но как он изменился с тех пор! Глядя на него, я лишний раз убеждался в том, что одежда действительно может преобразить человека до абсолютной неузнаваемости. Но, послушав немного Шаляпина, понял, что здесь было еще кое-что.
По сути, я видел перед собой совершенно другого человека, отличного от того, что разрубал когда-то пополам спичку на лесоповале. На нем был дорогой, стального цвета костюм-тройка, модные в то время английские лакированные туфли и широкополая шляпа. Его поведение за столом и манера вести разговор свидетельствовали о хороших манерах. Но больше всего меня поразило в нем превосходное знание английского языка, на котором он с легкостью вел диалог с гарсоном, кстати бывшим преподавателем английского языка МГУ.
Когда все вопросы с официантом были решены, Шаляпин провозгласил тост «за тех, кто не дожил». Мы выпили молча, не чокаясь.
Затем он неторопливо, смакуя каждое слово, как будто соскучившись по далекому прошлому, стал рассказывать о том, что уготовила ему судьба после того случая на лесоповале. Внимательно слушая его, я размышлял о справедливости народной мудрости, определяющей всю нашу суетную жизнь одной-единственной фразой: «Пути Господни неисповедимы».
К тому времени, когда случай свел нас в тайге, Шаляпин уже добивал свою пятнашку и готовился к выходу на свободу. Канадцы, пораженные его мастерством, прекрасным знанием тайги и покладистостью характера, кроме выигранных денег, подарили ему тогда часы с компасом и дали свои домашние адреса и телефоны в надежде на то, что когда-нибудь они непременно встретятся вновь, возможно, где-нибудь на берегах Онтарио, откуда были родом многие из них. И время доказало их правоту.
После освобождения Шаляпин уехал в свою родную сибирскую деревню и продолжал там работать до тех пор, пока в стране не началась перестройка. К тому времени он уже многого достиг в жизни, но на рубке леса давно поставил крест. Порой он неделями не выходил из тайги, куда забирался с единственной целью: порыбачить и поохотиться на дикого зверя, но исключительно ради собственного удовольствия.
Шаляпин имел в своем пользовании кусок некогда колхозной земли в несколько гектаров, два трактора, грузовой автомобиль и нескольких рабочих в придачу. Все они были горькими пьяницами и его троюродными братьями. Что и говорить, по сравнению со своими соседями он был богат, но ему все никак не везло в любви. Возможно, отправься он куда-нибудь подальше, то нашел бы себе подругу, но воспоминания о первом и последнем вояже на чужбину, окончившемся пятнадцатью годами тюремно-лагерного заключения, все еще были свежи в его памяти. Здесь же, в краю, где он родился и вырос, найти подходящую спутницу жизни Шаляпину никак не удавалось.
И вот однажды, отправившись как-то по делам в Новосибирск в начале девяностых годов, он увидел объявление, висевшее с обеих сторон двери на входе в зал ожидания железнодорожного вокзала. Очаровательная девушка в узорчатом кокошнике, красном сарафане и яловых сапожках с милой улыбкой на лице приглашала всех желающих посетить по туристическим путевкам курорты Австралии.
Все вокруг было белым-бело. Морозный ветер подметал снег с перронов замерзшего вокзала и уносил его под вагоны подъезжавших электричек, а с рекламного плаката на Шаляпина смотрело такое теплое и заманчивое синее море, ласковое солнце и улыбки загорелых мулаток, что у него мурашки пробежали по коже. Ноги Николая сами привели его в офис туристического агентства, которое сулило всем желающим двухнедельное блаженство в раю. Даже не соображая в тот момент, что творит, он уплатил менеджеру фирмы огромную сумму, на которую собирался купить какие-то запчасти для своей техники, отдал паспорт, заполнил несколько бланков и уехал назад в деревню с таким чувством, будто все, что сделал, было результатом его долгих раздумий.
Разве мог ожидать такого резкого поворота событий человек, который успел отсидеть за свою недолгую жизнь пятнадцать лет за убийство? Деревенский трудяга-парень, который, кроме тайги-матушки да своей избушки, по большому счету ничего и не видел…
Слушая эту удивительную историю, я хорошо понимал состояние Шаляпина и хотел было задать ему несколько вопросов, но вовремя сдержался.
Со времени подачи документов прошло ровно две недели, и почтальон принес ему телеграмму, в которой туристическое агентство извещало о том, что такого-то числа он должен явиться по такому-то адресу для получения билета и загранпаспорта. Отправка была назначена из аэропорта Новосибирска на четвертый день после получения Шаляпиным телеграммы.
Собраться в дорогу и проститься с близкими было делом одного часа, благо мать с отцом и младшая сестренка с двумя спиногрызами (ее мужа за несколько лет до этого задрал в тайге медведь) жили с ним в одной хате. Не забыл Шаляпин взять в дорогу и записную книжку с адресами единственных знакомых ему иностранцев. Это были лесорубы-канадцы с того далекого лесоповала в Коми АССР.
Еще пара дней ушла у нашего героя на урегулирование разных мелких формальностей и закупку необходимых вещей в дорогу, и вот уже наш некогда знаменитый на всю тайгу сучкоруб летел над Индийским океаном.
Почувствовать то, что испытывал в тот момент Шаляпин, мог лишь человек, проведший не одну пятилетку в тайге и прошедший закалку в лабиринтах северных командировок ГУЛАГа. Он видел, с каким вниманием я слушал его, и знал, что я прекрасно понимал его состояние, поэтому, после небольшой паузы, он продолжил свой рассказ, не сводя с меня взгляда задумчивых глаз, как бы приглашая с собой в то далекое путешествие.
Итак, расположившись в кресле комфортабельного лайнера и глядя с любопытством в иллюминатор, Шаляпин в тот момент больше всего хотел увидеть своими глазами, как из холодной, снежной русской зимы за несколько часов можно перенестись в летний австралийский зной. Вскоре Шаляпин провалился в глубокий, долгий сон, а проснулся, лишь когда услышал обрывок объявления командира экипажа: «…температура за бортом плюс двадцать девять градусов по Цельсию…» В салоне самолета вовсю работали кондиционеры, ни холод, ни жара не ощущались, но, когда лайнер, приземлившись, зарулил на стоянку, к нему подогнали трап и открылись двери, Шаляпин понял наконец, что чудо свершилось. Поток раскаленного воздуха ворвался в салон и взбудоражил его до такой степени, что от предвкушения счастья, от синего неба и яркого солнца, которое светило в иллюминатор, у него перехватывало дыхание.
6
Прошло время, и все страсти и волнения постепенно улеглись. Шаляпин целыми днями пропадал на берегу моря, и не просто купался и загорал, а ловил у прибрежных скал рыбу сделанной одному ему ведомым способом удочкой и наслаждался каждым выпавшим мигом удачи. Вечера он всегда проводил в компании нескольких иностранцев. Удобно умостившись у стойки гостиничного бара, он заказывал так полюбившееся ему немецкое пиво и вел неторопливые беседы. Не владея ни английским, ни французским языками, Шаляпин каким-то удивительным образом подружился с пожилой семейной парой из Торонто и все свободное время старался проводить именно с ними. Один Бог знает, каким образом они умудрялись изъясняться друг с другом, но все же им удавалось обмениваться впечатлениями от увиденного. Глава семьи тоже был заядлым рыбаком, а такие люди во всем мире превосходно понимают друг друга без всякого перевода.
Так незаметно пролетело две недели блаженства. Перед самым отлетом на родину Шаляпин, уже успевший поднатореть в общении с иностранцами, решил рассказать своим новым знакомым о случае, происшедшем с ним и их земляками в далеком Советском Союзе много лет тому назад, умолчав лишь о том, что он в то время пребывал в тех местах в заключении. Престарелая пара была поражена не меньше, чем когда-то их молодые соплеменники, ловкостью и мастерством Шаляпина. Им нравился этот простой и добрый русский труженик, и они спросили, не остались ли у того координаты их земляков. «Да, конечно, они при мне», – ответил Шаляпин, доставая свою записную книжку и протягивая ее канадцам.
Переписав адреса и номера телефонов, они пообещали Шаляпину, что дома постараются разыскать этих людей и сообщить им о том, что их старый знакомый помнит о них и хотел бы увидеться.
Вернувшись домой, Шаляпин затосковал не на шутку. За что бы он ни брался, все валилось у него с рук, ничего не хотелось делать. Целыми днями пролеживая на печи, он размышлял о чем-то и ни с кем не хотел разговаривать. Но постепенно рутинные деревенские будни привели его в чувство. Разобравшись с хозяйством и оставив у руля одного из своих троюродных братьев, в одно солнечное морозное утро, закинув рюкзак за плечи, Шаляпин надел лыжи и, окликнув своего любимого пса Ермолая, ушел на охоту в тайгу. Но поохотиться долго ему на этот раз не удалось.
Приближался вечер. Шаляпин, как обычно, отдыхал в своем старом охотничьем домике, который срубил еще его дед больше ста лет тому назад, когда вдруг услышал неистовый лай собаки. Отложив книгу в сторону, он встал с топчана, чтобы взглянуть на незваных гостей, как вдруг Ермолай умолк. Через секунду дверь распахнулась, и на пороге появился его троюродный брат. Шаляпин сразу же понял, что произошло что-то серьезное.
– Что случилось? – подбежав к брату, спросил он.
– Все в порядке, не волнуйся, – ответил тот спокойно и неторопливо. – Все живы и здоровы.
– А чего это ты свалился вдруг как снег на голову?
– Да тут какое-то мудреное послание тебе пришло, не по-русски написано. На почте сказали, чтобы я нашел тебя и вручил как можно скорее, – продолжал так же неторопливо объяснять свой неожиданный приход увалень.
Не дожидаясь, пока тот договорит, Шаляпин выхватил из его рук увесистый конверт, который кто-то уже успел распечатать, вынул оттуда длинное послание, написанное на нескольких страницах корявым неровным почерком. Оказалось, что письмо пришло из Канады, от одного из его старых знакомых-лесорубов, того, с кем Шаляпин когда-то заключал в тайге пари.
Джеффри, так звали канадца, приглашал его в гости к себе в Квебек, где он жил с семьей на берегу залива. Все расходы, связанные с дорогой и проживанием в Канаде, Джеффри великодушно брал на себя.
«Вот это новость!» – обрадовался Шаляпин. Мечты его начинали сбываться со сказочной неотвратимостью. Даже не дождавшись рассвета, он собрался в дорогу и, пройдя по лыжне немалый путь, к утру был уже у себя в деревне. Отдохнув немного с дороги и приведя себя в порядок, он дал наставления сестренке, простился с родителями и вновь отправился в дорогу. Сначала в Новосибирск, а оттуда самолетом в Москву.
Николай не стал рассказывать нам о том, сколько времени и нервов потратил он на то, чтобы получить въездную визу в Канаду. Зато вспомнил, как его там встретили. Только в далекой стране он наконец осознал и почувствовал свою значимость в этом мире. Простой деревенский лесоруб и охотник, он был встречен с таким почетом и уважением чужими, но ставшими за короткий срок родными для него людьми, что, когда он прощался с ними, глаза его были полны слез.
Погостив несколько дней дома у Джеффри, они отправились на джипе в гости к австралийским знакомым Николая, благо те жили неподалеку. Они побродили по лесу с ружьями, успели порыбачить в заливе, в общем, отдохнули по-царски. Шаляпин даже шашлык научил их готовить. Канадцы от такого лакомства были в восторге.
Но все проходит, как говорил когда-то библейский мудрец, подошло время прощаться. И тут, в самый последний момент, за день до отъезда, канадцы сделали Шаляпину такое предложение, от которого отказался бы разве что сумасшедший.
Артель лесозаготовок, в которой работали друзья, пригласила Николая на работу и готова была заключить с ним контракт сроком на три года. Для этого ему необходимо было вернуться в Россию, пройти все бюрократические процедуры и вернуться в Канаду теперь уже на правах работника фирмы. На все про все у Шаляпина ушло недели три, и он вновь вернулся к своим старым приятелям в Квебек.
Проработав в Канаде по контракту три года, кроме денег Шаляпин заработал уважение и авторитет у своих коллег. Все без исключения признавали в нем лесоруба наивысшей квалификации и предложили продлить контракт с их артелью, прокрутив до этого небольшое дельце.
Давно уже заметив неравнодушные взгляды, которые Шаляпин то и дело бросал на одну милую француженку, они просто-напросто взяли да и поженили их. Благо к тому времени Шаляпин уже свободно говорил на двух языках – английском и французском.
Это была зажиточная сельская вдовушка. После трагической смерти мужа у нее осталась дочь-подросток, огромные угодья и кругленькая сумма в банке. Объединив капиталы, супруги занялись лесоторговым бизнесом, который со временем принес их семье немалые дивиденды.
С тех самых пор прошло ровно десять лет. Теперь бывший сучкоруб с далекого лесоповала Коми АССР Шаляпин был канадским подданным, женатым на француженке, имел троих детей и маленькую лесоторговую биржу в одной из провинций Канады на берегу залива Святого Лаврентия.
Когда Шаляпин закончил свой рассказ, мы молча выпили по рюмашке, а затем, как бы подводя итог сказанному, он воскликнул: «Не правда ли, друзья, пути Господни неисповедимы?»
Сноски к рассказу «Спичка»
Босота – представители преступного мира, которые не только придерживаются воровских традиций, но и живут по их канонам.
Босяцкий груз – нелегально переданная посылка или передача, предназначенная для «Бродяги» (см. ниже).
Бродяги – профессиональные уголовники, соблюдающие воровские законы, отрицательно настроенные по отношению как к милиции вообще, так и к администрации мест лишения свободы, в частности.
В изоляторах, БУРах, на крытом и особом режимах – в карцерах, бараках усиленного режима и в тюрьмах и колониях иных штрафных режимов.
Воры, мужики или фраера – изначально, в преступном мире существуют три масти: вор, мужик и фраер.
Воровских революций – смут среди заключенных, в результате которых, в колонии, где доминируют активисты, к власти приходят воры в законе или их сподвижники (бродяги, босяки и т. п).
В этапе – во время переезда из одного места заключения в другое.
Гулаговское начальство – начальство, которое было во времена ГУЛАГа (в СССР, в 1929 году, Главное Управление Лагерей).
Десятником – одна из множества должностей на таёжных работах.
Добивал свою пятнашку – досиживал пятнадцать лет лишения свободы.
Жиганского чифиря – хорошо заваренного, крепкого чая.
Завалил обоих – убил обеих.
Из-за кордона – из-за границы.
Каторжанин – осужденный с большим стажем отсидки, который не изменяет воровскому образу жизни. Им может быть как блатной, так и мужик по жизни.
Килешовки – перевод из одного помещения в другое. Как правило, этими помещениями являются тюремные камеры, корпуса и т. д.
К концу отсидки – к концу отсиженного срока.
Кореш – друг.
Княжпогост – один из лагерей, который находится на территории КОМИ АССР.
Козий режим – места заключения, где доминирует актив и начальство ИУ.
Лагерным гадом – ничтожеством, подлецом, который, по тем или иным причинам стал таковым в местах лишения свободы.
Лагерного инквизитора-кума – оперуполномоченного-садиста, сотрудника ИУ.
Лагерь особого режима – ИУ особо режима.
Махновщина – крайняя несправедливость, нарушение всех правил, открытое, пренебрежение воровскими традициями и законами.
Мрази – люди, умышленно допустившие проступок, идущий глубоко вразрез с понятиями порядочного арестанта.
Мужиков-работяг – мужики, работающие в одной зоновской бригаде, например, на лесоповале или на лесозаготовке.
Мусорской произвол – произвол со стороны сотрудников правоохранительных органов и тюремного начальства.
На делянку – на участок, выделенный для работы.
Накатили пятнадцать лет – приговорили к пятнадцати годам лишения свободы.
На одной из лесных командировок – в одной из колоний, которая находится в тайге и где есть лесозаготовки.
Общак – своего рода касса взаимопомощи, существующая внутри того или иного криминального сообщества.
Отрицалово – отрицательно настроенные на режим заключения осужденные.
Пару эмалированных кругалей – две эмалированные кружки.
Полосатая зона была сучьей – зона особого режима содержания.
Пятилетка – пятилетние планы развития народного хозяйства СССР.
Под крышей – в карцере или ПКТ.
Сидят под замком – находиться в камере тюрьмы, пересылки, карцера, ПКТ и т. п. помещений.
Спиногрызами – детьми.
Теплушка – вагоне, предшественник столыпина.
Уркаган – вор в законе.
УСТИМЛАГ – все ИУ, которые находятся в республике Коми.
Хозяин – начальник колонии.
Чалился – отбывал срок заключения.
Урка
1
Прошло уже почти два года с тех пор, как я покинул свою Родину – Дагестан и «тычил» теперь в Москве в бригаде, которою руководил старый уркаган Гена Карандаш. Тогда ему уже стукнуло шестьдесят два года. Кроме Карандаша, в бригаде нас было еще четверо: Дипломат, Паша Цируль, наша красавица Ляля и я.
Трое из нас были «жуликами», и мне, кроме своей основной деятельности в дружном сообществе карманников-универсалов, как о нас отзывался преступный мир столицы, частенько приходилось выполнять и другие поручения чисто воровского толка. Например, отправляться в один из далеких северных регионов, или навещать союзные республики, чтобы пригласить кого-либо из воров на готовящийся сходняк, или, наоборот, отвезти результаты этого воровского форума авторитетному уркагану, который по тем или иным причинам не смог присутствовать на нем. Были поручения и поинтереснее, с точки зрения юного бродяги, каким я был в то время. Об одном из таких случаев я и хочу рассказать читателю.
На этот раз бригада наша отдыхала в Подмосковье, если мне не изменяет память, где-то в районе Снегирей. В нашей хате собралось тогда толковище. Много шпаны съехалось из Москвы и ее окрестностей, чтобы разобрать кое-какие рамсы, принять в семью очередного кандидата, поговорить о жиганской жизни и вспомнить о мусорских кознях.
Ворам было о чем поговорить. На этот раз урок на сходняке было не так уж и много по сравнению со сборищами союзного масштаба, ибо толковище это было чем-то вроде экстренного собрания, но зато это были урки, прошедшие не одну гулаговскую прожарку. Одним словом, это были истинные бродяги. Любой из присутствовавших на том сходняке жуликов был старше меня по крайней мере вдвое, ведь мне не исполнилось тогда еще и девятнадцати. На самой сходке я не присутствовал, потому что еще не поднимал вопроса о своем входе в семью, но постоянно находился рядом с ворами, и не просто находился, а крал с ними в одной бригаде.
Ближе к утру, когда сходняк уже завершился, босота разъехалась, а мы, кроме Ляли, которой тоже уже давно пора было просыпаться, вчетвером сидели за столом и пили чай, Карандаш вдруг спросил меня как бы между прочим:
– В Ростове-то бывал когда-нибудь, Заур?
– Бывал, как не бывать, – ответил я, – даже дважды. Первый раз – пацаненком, когда бежал из детской колонии в шестидесятом году. Легавые тогда нашли меня больного в клумбе с цветами и определили в детский приемник. Второй раз четыре года спустя, когда откинулся из местной тюрьмы. Шпана меня встретила тогда, взгрела по-жигански и проводила домой в Махачкалу.
– Ну вот и хорошо, – кивнул Карандаш, размышляя над чем-то и временами со смаком отхлебывая из блюдца горячий чай. Он взглянул на маленькие ходики, висевшие на стене напротив, глубоко задумался, прищурив глаза, а затем, через минуту, продолжил уже без остановок, видно решив для себя что-то важное.
– Урки тамошние тебя знают, – думаю, позабыть еще не успели, да и мы отсюда сопроводиловку пошлем. Как прибудешь на место, звякнешь, сам знаешь, куда, мы будем ждать. На прозвон с Лысаком вдвоем придешь, понял?
Как было не понять старого уркагана?
– Конечно же понял, – ответил я тут же.
– Ну, вот и добренько, вечером и тронешься в путь, а сейчас ложись пока, отдыхай. Все мы этой ночью устали, и отдых никому не повредит. Ну что, босота, пошли по шконарям?
2
Я не буду долго говорить о реформах 1961 года, ибо об этой перестройке гулаговской системы написано достаточно много. Коснусь лишь темы, на которой во всех средствах массовой информации не одно десятилетие лежало строгое табу. Впрочем, когда серая вуаль цензуры была приподнята, охотников поговорить на эту щекотливую и, конечно же, интересующую всех тему оказалось предостаточно. Одни сочиняли статьи и даже книги, другие писаки, а по-другому их и назвать-то трудно, пытались затронуть эту тему как бы изнутри, будто они сами побывали в этой шкуре и потому вправе рассчитывать на доверие читателя. Но вся честная публика, вместе взятая, хоть и заработала кучу денег на глупости и лжи, все же главного так и не поняла.
Во-первых, тема воров в законе, их нравов, образа жизни и деятельности, даже внутри самого преступного мира всегда считалась темой строго иерархической. То есть не каждый из нас мог затронуть ее, не поплатившись за это впоследствии своей головой.
Во-вторых, как можно писать, и даже не о ворах в законе, а просто о тюрьме вообще, не просидев в неволе и дня? Я считаю это, по меньшей мере, глупым, безнравственным и неэтичным.
Итак, до реформ 1961 года арестант заходил в камеру и сам объявлял себя вором. И если он соответствовал требованиям этого сообщества, то шел по жизни уркой до конца своих дней. Но вот в ГУЛАГе наступили совершенно дикие преобразования, и в первую очередь администрация учреждений попыталась интригами сломить сопротивление именно воровского сообщества, тем самым посеяв хаос и неразбериху, но, к счастью, она просчиталась. Думаю, что здесь будет уместно процитировать слова одного мудрого средневекового политика, сказавшего по отношению к методам инквизиции: «Убить человека, пытая и истязая его, можно, идею – никогда, она бессмертна!»
Начались «ломки», «прописки» и прочие изощренные попытки истребить жуликов, и попытки эти, стоит отметить, принесли свои плоды. Воры разделились на два лагеря. Тех, кто до этого лишь прикрывался внешней воровской оболочкой, но, почуяв запах жареного, ушел к ментам, стали называть «суками», и, честно говоря, таких оказалось немало. Те же, кто прошел все мусорские испытания, остались теми, кем и родились, – ворами.
Поэтому-то через некоторое время на всесоюзном сходняке урки решили, что ради чистоты воровского сообщества с этого момента повсеместно должны быть вменены «подходы». И чем больше воров присутствовало на коронации жулика, тем сама коронация считалась престижней и надежней.
Но мусора бы не были самими собой, если бы не придумали еще одну каверзу. Для начала всех именитых воров без исключения провезли через крытые тюрьмы страны. Самой лютой среди них считалась тюрьма Соликамска, так называемый «Белый лебедь» или, как ее окрестили в преступном мире, всесоюзный БУР (барак усиленного режима).
Тех урок, которые хотя и были в большом авторитете у арестантов, но не выдержали мусорских ломок и готовы были пойти на попятный, легавые не спешили пускать под откос. После того как они надломились, им настоятельно предлагали вступать в агентурную сеть какого-нибудь отдела как в самой системе ГУЛАГа, так и в КГБ. Им даже пришлось давать подписки о сотрудничестве.
Таких чертей на время закрывали в одиночки, иногда демонстративно подвергали их всякого рода экзекуциям, например подвешивали за руки и избивали дубинками, чтобы все видели, как страдают их собратья по несчастью. Одновременно работала мусорская пропаганда, потихонечку, не спеша поднимая эту падаль на уровень уркаганов «колымского толка». Когда агент был готов к работе, его запускали в привычную для него среду настоящих воров.
Сходняк, который продолжался на нашей хазе почти до самого утра, и был посвящен разоблачению одной из таких сук. А окопалась эта падаль среди ростовских бродяг. В то время воровской общак в этом городе находился в руках знаменитого уркагана из Курска Жени Котла. К сожалению, у Котла прогрессировала чахотка, он почти все время лежал, харкая кровью и, конечно же, не мог приехать на толковище в Москву, а местный урка Валера Лысак откинулся из зоны буквально за день до моего приезда.
3
Освободившись зимой 1964 года из ростовской тюрьмы и прожив в городе всего несколько дней, я подумал, что попал поистине в «город без фраеров», и мои наблюдения были не лишены справедливости. За три года своей, по сути, первой отсидки я побывал в одиннадцати тюрьмах – а в некоторых из них по нескольку раз – и в трех зонах, две из которых были единственными в Союзе спецлагерями для малолетних преступников, и в конце концов оказался в ростовской тюрьме, где встретился с множеством воров. Правда, общался я с ними в основном через кабур, но это обстоятельство не мешало нам, молодым босякам, познавать мир таким, каким он был на самом деле, и узнавать много нового и полезного для себя.
Еще в те юные годы я понял простую истину, что если хочешь чему-то научиться, не обязательно, слушая, смотреть в рот рассказчику. Не имея даже возможности рассмотреть своего собеседника, можно многое узнать, тем более если этот собеседник – вор в законе. Это было крайне важно для пацаненка, который только-только начинал свой путь в преступном мире.
Не успел я выйти за порог вахты ростовского следственного изолятора, как местная шпана была уже тут как тут. Зная, через какие малолетние прожарки я прошел, она послала за мной братву, а затем встретила меня на своей хазе, как говорится, чисто по-жигански. В те времена молодежь моего склада приветствовалась в кругу воров повсеместно, поскольку она была их опорой и будущим.
Когда за мной приехала мать, урки проводили нас до станции, отправили на такси до Махачкалы, уплатили кучеру денег вперед, строго-настрого наказав, чтобы тот, не дай Бог, не выкинул какой-нибудь фортель по дороге. Меня тоже на первое время копейкой взгрели, и, к слову сказать, немалой. Все это и имел в виду Карандаш, когда решил послать меня в Ростов с такой трудной и, говоря откровенно, не очень приятной для меня миссией.
Проснувшись после обеда, я наскоро перекусил чем Бог послал и стал собираться в дорогу, хотя и собирать-то было особенно нечего. Когда приготовления в связи с отъездом были завершены, я затарился малявой и, внимательно выслушав наставления урок, вышел из дома вместе с Лялей, которой поручили сопроводить меня до вокзала.
У ворот хазы нас уже поджидала общаковая «Победа», посланная за мной босотой из Москвы. Удобно устроившись с Лялей на заднем сиденье, я приготовился теперь слушать наставления своей старшей подруги, в то время как водитель, протянув мне заранее приобретенный билет на поезд, тронулся в путь безо всяких указаний, зная маршрут лучше нас.
Ближе к вечеру мы прибыли на Курский вокзал, но из машины выходить не спешили. До отправления поезда Москва – Махачкала оставалось еще полчаса. И хотя ксива у меня была с московской пропиской, а в те времена постовые мусора были обыкновенной столичной лимитой, еще не имевшей представления о том, что в стране существуют изгои – «лица кавказской национальности», все же мне не рекомендовалось лишний раз подвергать себя риску, маяча у всех на виду, на перроне или в зале ожидания. Лишь только тогда, когда диктор объявил об отправлении поезда, я стал прощаться с Лялей и водителем, стоявшими на перроне возле дверей моего вагона.
Поезд этот был выбран не случайно. Среди земляков-дагестанцев я играл роль демобилизовавшегося из армии солдата, успевшего переодеться по дороге, и до самого Ростова чувствовал себя среди них как дома, не привлекая к себе излишнего внимания попутчиков.
На перроне ростовского вокзала меня встречали два местных карманника, Витя Арбуз и Хохол. Мы познакомились и сели в ожидавшую нас синюю «Волгу» с шашечками на дверях. Через некоторое время мы прибыли на место. Это был глухой тогда район трамвайного парка. Отпустив мотор, мы еще несколько минут пробирались по тупикам и закоулкам, пока, наконец, не очутились возле неказистого деревянного строения. По сути, это был старый сруб.
Увидев фасад убогого с виду жилища, я в душе даже обиделся за то, что такой именитый урка, как Котел, живет в этом доисторическом убожестве, но, когда мы зашли внутрь, от первого впечатления не осталось и следа. Огромная горница была залита множеством огней из красивой и, по-видимому, очень дорогой люстры, висевшей над круглым старинным дубовым столом на высоких резных ножках. На полу были постланы несколько ковров ручной работы. Слева от входа находились двери в смежные комнаты. Справа от входа, сразу же за дверями, в русской печи потрескивали сухие дрова, а чуть дальше на широком топчане, облокотившись на несколько пуховых подушек, сидел, скрестив под собой ноги, пожилой уркаган.
К тому времени Жене шел уже пятый десяток, и было видно, что в этой жизни он успел хлебнуть немало горюшка. Даже неспециалист мог понять, что чахотка достала его не на шутку. Под топчаном стояла плевательница, которую он то и дело доставал, извиняясь, и отхаркивался в нее мокротой с кровью. На журнальном столике лежали лекарства и стоял изящный инкрустированный бокал, подаренный Котлу на день рождения владимирскими уркаганами. Когда мы вошли, Котел разговаривал по телефону, рядом с ним лежала колода карт и черные лагерные четки.
Босота пригласила меня раздеваться и располагаться как дома. Сразу было видно, что они здесь свои. Закончив говорить, Женя поздоровался со мной и извинился за то, что не может встать, но подходить к нему запретил, опасаясь, что мы, не дай Бог, заразимся от него туберкулезом.
Мы познакомились, и жулик спросил меня:
– Ну как там братья мои поживают, все ли ладом?
– Да все хорошо, – поспешил успокоить я шпанюка, – все живы, здоровы и тебе того же желают, Женя.
– Малявка-то при тебе, Заур?
– Да, конечно, но в гашнике еще, – ответил я, не задумываясь.
– Хохол, иди покажи братишке, где можно растариться, – приказал Котел, и мы, не успев еще даже расположиться, вновь вышли в сени, а оттуда во двор.
Дальняк находился в глубине сада, но был оборудован по последнему слову техники. Я быстренько растарился и вернулся в хату. Чуть позже, когда Котел «пробил» малявку и мы остались одни, я рассказал ему о том, что урки просили передать на словах. Внимательно выслушав меня, он сказал, чтобы я пока держал язык за зубами и научил, как себя вести вечером, когда в кругу босоты окажется иуда, затем по номеру телефона, который я ему дал, заказал переговоры с братьями.
Пока единственным человеком в этом городе, которому я мог доверять, был Лысак.
4
Сразу хочу оговориться: имени, а тем более клички, под которой жила та сука, из-за которой я прибыл в Ростов, объявить не могу. Кому это знать положено, тот и так знает. Такие, как он, – проказа на воровском теле, и, думаю, не стоит посыпать раны солью.
Так вот, сука, которая была в одной упряжке с Котлом, пока не откинулся Лысак, знала о его обширнейших связях среди «цеховиков» и прочего делового люда Ростовской области. С помощью этих связей собирались деньги в общак, «грели» крытые тюрьмы и лагеря, купленные легавые предупреждали о всякого рода акциях против воровского сообщества, – короче говоря, это были в высшей степени нужные и полезные связи. И теперь, когда стало ясно, что среди братвы появился иуда, перед ворами Женей Котлом и Валерой Лысаком встала задача выяснить все завязки окопавшейся рядом падали, а уж потом разобраться и с ней как положено.
Но спешить с расправой со стороны воров было бы опрометчиво. Ведь перед ними была не просто скурвившаяся гадина, на которой можно было попросту поставить крест, а тайный агент службы, которая, стоит заметить, была покруче немецкого гестапо. Так что приходилось терпеливо выжидать, когда наступит нужное время.
О всей этой стратегии, разработанной ворами, я узнал позже, а пока сидел в компании ростовских крадунов и вел увлеченную беседу с одним из них – Витьком Арбузом. Он был ненамного старше меня, но уже пользовался уважением у сверстников.
В тот вечер на воровской хазе за столом собралось немало народу. Присутствующие полагали, что среди них находились два жулика – Валера Лысак и сука. Что касается Жени Котла, то он по-прежнему возлежал на тахте, никого к себе не подпуская, кроме врачей, которые периодически приезжали к нему из ближайшей больницы делать уколы и ставить капельницы.
Лысак был намного моложе Котла. Ему было тогда всего двадцать девять лет, но, проведя несколько лет в крытых тюрьмах Владимира и Новочеркасска, он зарекомендовал себя как истинный бродяга и жулик. О нем знали не только в Ростове, но и в Москве и других воровских городах страны. Он был умен и отличался хладнокровием и железной выдержкой – самыми что ни на есть необходимыми для настоящего урки качествами.
Под утро слегка выпившая и обкуренная босота стала расходиться по домам и хазам. Меня шпана определила на хату к Витьку Арбузу, где он жил с бабушкой и маленьким братишкой-школьником, которых и обеспечивал, как только мог. Во дворе, в небольшой, с виду неказистой, но уютной и вместительной внутри времянке, вместе с ним жил бакинский кошелечник Гена Крот, находившийся в бегах.
Избушка наша находилась в пяти минутах от пристанища Котла. Едва проснувшись поутру, мы направлялись на хазу к уркагану и, в зависимости от расклада на день, поступали соответственно. Частенько вечерами у нас на хате собиралось общество босяков, как местных, так и залетных, поиграть в карты или просто пообщаться. Вот в такой обстановке я и прожил почти полмесяца.
Как хорошо я запомнил тот миг, когда мы втроем – Арбуз, Хохол и я – предстали перед обоими урками на хазе у Котла. У меня до сих пор при воспоминании об этом мороз пробегает по коже. Когда все запланированное ворами было сделано и бразды правления общаком перешли в руки Лысака, сука вдруг неожиданно исчезла, как будто она ждала именно этого момента, чтобы побыстрее смыться.
Несколько дней его искала вся босота Ростова и Ростовской области, но он как в воду канул. Конечно же, его искали не как гада, наделавшего много зла преступному миру. Нет, конечно. Его искали именно как неожиданно исчезнувшего вора, и во всем, как обычно, винили мусоров. Мол, украли и спрятали уркагана куда-то в каземат от глаз людских подальше. Большинство воров давно уже поняли, что к чему.
Не могла эта мразь так вот вдруг сразу же соскочить со сковороды, как карась, уже политый маслом, если бы его не предупредил кто-то из наших. Но кто мог сделать такое?
О том, кем он был, знали пятеро. Котел и Лысак отпадали сразу, оставались Хохол, Арбуз и я. В тот день втроем мы и предстали перед шпаной на разборке. Обычный вопрос, задаваемый в таких случаях, – «кому это выгодно?» – здесь был абсолютно неуместен. Все трое мы были бродягами с незапятнанной репутацией крадунов, выросших на улице и с самого раннего детства впитавших в себя законы преступного братства, иначе нас и близко не подпустили бы к воровскому котлу. Так что уркам было над чем поломать голову.
Но вор тем и отличается от простых смертных, что в самых запутанных и, казалось бы, неразрешимых ситуациях может найти единственно правильное решение и действовать в соответствии с ним.
5
Пауза, длившаяся, казалось, целую вечность, затянулась на самом деле всего на несколько минут. Котел полулежал на тахте, окруженный подушками, перебирая четки. Временами покашливая, он смотрел куда-то в глубину комнаты и, видимо, размышлял над тем, как же разрешить эту нелегкую задачу. Нам оставалось только ждать и надеяться на благоприятный исход. Но чего стоили эти минуты ожидания каждому из нас, знает один Всевышний.
Из всех присутствующих лишь Лысак казался со стороны абсолютно спокойным. Он сидел за столом, покрытым синей атласной скатертью, раскладывал какой-то пасьянс и даже не глядел в нашу сторону.
Наконец Котел прервал гнетущую тишину.
– Босота, – обратился он к нам тихим, но властным голосом, – я еще раз спрашиваю вас, кто предупредил суку о готовящемся возмездии?
Мы подскочили как ужаленные, и каждый начал доказывать что-то свое, оправдываясь и перебивая других, но урки молчали и, занимаясь каждый своим делом, думали о своем.
Котел выдержал паузу, внимательно вглядываясь в лица каждого из нас так, что мороз пробегал по коже, а затем произнес:
– Ну что ж, дай Бог, чтобы все было по справедливости. Пойдите-ка прошвырнитесь по свежему воздуху пару минут, а мы тут с Лысаком поговорим кое о чем. Далеко не уходите и посторонних не пускайте в хату, поняли?
– Да базару нет, Котел, – ответил Хохол, как будто он ожидал именно этих слов, и мы молча втроем вышли в сени, а оттуда во двор.
Можете себе представить мое состояние, когда, я тусовался между деревьями и кустами, думая о своей дальнейшей судьбе? Я был не просто возмущен происходящим и зол на все на свете, я был повергнут в шок. Посланный урками, я приехал из Москвы в Ростов, делал все, что от меня требовали воры, и в конце концов меня же подозревают в измене! Это было уже слишком!
С одной стороны, если ты честен, то чего бояться? – может подумать читатель. Ведь рано или поздно правда непременно восторжествует и все станет на свои места. Но, к сожалению, зачастую в жизни все происходит не так, как хотелось бы. Родившись чуть ли не на улице и общаясь в основном с махачкалинской босотой, я никогда не сталкивался с таким явным проявлением предательства. Но меня, честно говоря, тревожила не сама эта непонятная мне измена одного из тех, с кем я делил последние две недели кусок хлеба, а то, как эти события могут отразиться на моем будущем. В то время у нас с этим было строго. Малейшее пятнышко в биографии – и путь в воровское сообщество был заказан.
Много раз я сталкивался на своем веку с порядочными людьми, которые между собой подозревали всех и вся, но, когда дело доходило до сходняка, они обламывались. В чем причина, спросите вы? Она проста. Кто-либо из урок, присутствовавших на сходняке, спрашивал претендента на воровскую корону:
– А ты разобрался до конца с таким-то случаем? Все ли ясно босоте?
– Нет, но там все ровно, – отвечал претендент.
– Вот и реши его, бродяга, чтобы все мы знали, что ты чист, как кристалл, тогда и вход в семью для тебя будет зеленой улицей. А пока не обессудь, придется подождать. Сам должен понимать – чистота наших рядов превыше всего, а дурной пример заразителен.
Так что меня можно было понять, ведь и я в скором будущем собирался «поднимать свой вопрос». И сейчас, когда я пишу эти строки, глядя на себя, того юного босяка, через тридцать лет, то, откровенно говоря, не могу винить себя даже на старости лет. Любой другой на моем месте думал бы так же.
За полчаса ожидания никто из нас не проронил ни единого слова. Мы молча тусовались по двору, думая каждый о своем. Наконец на крылечке показался Лысак и позвал нас в хату. Как только мы вошли, нам сразу же бросился в глаза большой финский нож с красивой костяной рукояткой, воткнутый почти в середину почерневшего от времени дубового стола, с которого Лысак заблаговременно сдернул скатерть. Мы остановились у двери и повернулись в сторону Котла, который сидел теперь на топчане, свесив на пол ноги и держась за край тахты обеими руками. Он смотрел в пол, будто хотел просверлить его взглядом. При нашем появлении он поднял голову и тут же, без всяких вступлений, тихим, но уверенным голосом начал заранее приготовленную речь.
– Однажды в тобольской крытой мне на глаза попалась очень любопытная книга. Там говорилось о психологии человека, его достоинствах и недостатках и о многом другом, очень интересном и увлекательном… Вот вы все трое – карманники, и руки, точнее, пальцы рук значат для вас больше, чем для обыкновенных людей. Они – ваш хлеб, ваше будущее, ваша жизнь, в конце концов. Поэтому сейчас вы будете рубить друг другу именно пальцы: не спеша, по одному, а мы с Лысаком тем временем будем за вами наблюдать и думать над тем, кто же из вас та падла, из-за которой приходится калечить двоих достойных и порядочных людей. Начнем с самого старшего. Давай, Хохол, начинай…
Делать было нечего, приходилось выполнять требования уркагана. Слова вора среди бродяг не обсуждаются и не критикуются, тем более в такой щекотливой ситуации, когда от малейшего неверного движения зависело твое будущее. А на карту и было поставлено именно оно. Так что мы с Арбузом молча положили руки на «плаху» и, затаив дыхание, ждали, чем же все это кончится. Еще о чем-то соображая, прекрасно помня о том, что левой рукой краду чаще, чем правой, я выставил вперед именно правую руку, тогда как Арбуз протянул левую.
Хохол выдернул из стола нож, посмотрел как-то странно нам в лица, а затем неожиданно размахнулся и ударил им по моей руке. Глаз я не закрывал, точно помню, только чуть отдернул руку, поэтому нож и зацепил лишь край среднего пальца и воткнулся в стол, который уже успел обагриться моей кровью. Я схватился за кисть руки, сжал ее и стоял бы так, если бы не подоспевший Лысак. Он встал с дивана, по дороге вытаскивая из кармана огромный носовой платок, и, перевязав им мой палец, стал накладывать жгут на кисть руки, отводя меня в сторону от стола. Боли я пока еще не чувствовал, а вот злость была, и еще какая злость, но понять, на кого, в тот момент мне было не по силам.
Ну а события тем временем разворачивались по заранее намеченному сценарию. Когда суета со мной закончилась и Лысак, потянув меня к дивану, сел рядом со мной, в хате воцарилось молчание, которое, впрочем, длилось недолго. Выдернув с какой-то остервенелой яростью нож из стола, Хохол вытер выступивший на лбу пот, долго смотрел на руку своего давнишнего кореша. Крупные капли пота вновь выступили у него на лбу и стали понемногу заливать лицо. Он смахнул их одним пальцем, окинул взглядом хату, Котла, сидящих на диване нас с Лысаком и, остановив свой взор на Арбузе, неожиданно резко размахнулся, как это делают заправские мясники, и ударил «сажалом» по пальцам Арбуза, отхватив от мизинца левой руки кусок длиною в ноготь.
Арбуз так же, как и я, схватился за запястье левой руки и прямо на наших глазах стал бледным как мел. Теперь уже мы оба с Лысаком пришли ему на помощь. Пока Арбузу перевязывали руку, Хохол стоял у стола, опустив голову, а в комнате стояла гнетущая, не предвещавшая ничего хорошего тишина. Наконец Котел не сказал, а чуть ли не крикнул нам с Арбузом, чтобы мы меньше суетились, а подошли к столу, что мы и сделали безо всякой охоты.
– Ну что ж, Хохол, твой поступок доказал нам многое. Теперь твоя очередь, Арбуз, – проговорил Котел ледяным голосом. – Бери нож и руби своему корешу палец.
Хохол положил свою ладонь на стол и, отвернувшись, замер в ожидании, но я не сводил взгляда с лица Арбуза. С силой сжав рукоять ножа в правой руке, он замер, а по щекам его неожиданно потекли скупые бродяжьи слезы. Наконец он глубоко вздохнул, размахнулся и, воткнув нож в стол, выдохнул и сказал громко, чтобы слышали все:
– Босота, падлой буду, я не виноват, но рубануть по пальцам карманника, хоть убейте, не могу!
– Ладно, малодушный, отойди в сторону и уступи дорогу тому, кто посмелей тебя, – проговорил с издевкой Котел.
Арбуз подошел к нам с Лысаком, посмотрел на меня взглядом мученика и остался молча стоять возле дивана, уступив мне место палача. Делать было нечего, я в свою очередь подошел к плахе, но одной рукой вытащить нож не смог. Арбуз с такой силой вогнал сажало в стол, что его пришлось вытаскивать не мне, а Хохлу, и притом обеими руками.
Хохол по-прежнему оставался невозмутим. Выдернув нож из стола, он положил правую кисть на стол и вновь замер в ожидании. Трудно передать те чувства, которыми в тот момент было охвачено мое босяцкое сердце. Я стоял как вкопанный, пока не услышал резкий голос Котла:
– Ну что стоишь, как столб, духу, что ли, не хватает?
Я даже не стал замахиваться ножом, в какой-то миг поняв, что ударить по руке приятеля все равно не смогу. Молча положив перо на стол и сказав босоте почти то же самое, что и Арбуз, я отошел в сторону и стал ждать своей участи.
Лысак спросил нас с иронией:
– А знаете, какую книгу имел в виду Котел? Библию. То место, где царь Соломон судил двух женщин. Одна из них, истинная мать, оставила своего ребенка ради его спасения чужой женщине.
Я знал, что Библия – это мудрая книга, но понять, о чем шла речь, был тогда не в состоянии. Пока Лысак говорил, Котел не спеша встал, взял свою палочку и потихоньку стал приближаться к столу, где стоял Хохол, уже успевший убрать руку со столешницы. Он вытянулся перед Котлом чуть ли не в струнку, как солдат перед командиром. Не успел еще вор приблизиться к нему, как Хохол взмолился о пощаде.
Я оторопел от неожиданности, сдавив запястье правой руки с такой силой, что ладонь моя сразу же побелела, и замер в ожидании развязки.
– Один вопрос, Хохол, – уже подойдя к нему вплотную, спросил Котел. – Скажи нам, с какой целью ты это сделал?
Причина оказалась на удивление простой. Оказалось, что мать той паскуды, которая соскочила в бега, работала в свое время в роддоме и принимала роды у матери Хохла, и если бы не она, то и Хохла бы не было на свете. Хохол всегда знал об этом, но возможности отблагодарить ее у него не было. В то время, когда Хохол был обыкновенным крадуном, эта сука числилась в ворах, да еще в таких авторитетных, а тут вдруг появилась возможность отплатить за добро, вот он и воспользовался ею.
Все молча слушали объяснения Хохла, и, когда он закончил, Котел взял со стола нож и стремительным движением, которого трудно было ожидать от этого больного и, казалось, немощного человека, полосонул им по щеке Хохла. Он развалил ее на две части, сделав ему глубокую сучью отметину.
– Пошел вон, шакал! – выкрикнул Котел. – И запомни цену оставленной тебе жизни!
Эпилог
Хохла я больше не встречал на своем пути и не слышал о его участи, а вот та сучара, которую он предупредил, в будущем наделала еще бед воровскому братству. Много лет спустя она набаламутила во владимирской тюрьме, да так, что некоторым ворам были предъявлены на сходняках обвинения, хотя они не были виноваты, но не мне об этом судить.
Но вот чего я никогда не предполагал, так это того, что я когда-нибудь встречусь с этой падалью. Но без малого через тридцать лет после того случая судьба все же предоставила мне такую возможность, и случилось это не где-нибудь, а в моей родной Махачкале ранней весной 1994 года. Я и двое урок – Алик Махачкалинский и Джонни Кутаисский, гостивший у нас после воровского сходняка, состоявшегося в Махачкале, – отправились в Башкирию, в лагерь, в котором сидел наш земляк, урка Лабаз. В дороге, в связи с мусорскими кознями, мы задержались, а когда прибыли с Аликом в Махачкалу (Джонни отправился прямиком домой в Кутаиси, где через несколько дней его и застрелили неизвестные), была уже весна.
Так вот, через пару дней после нашего возвращения в город сюда же пожаловала и та сука, но Алик знал, что к чему, и встретил эту падлу так, как она того заслуживала. Но это уже другая история…
Сноски к рассказу «Урка»
Бакинский кошелёчник – карманный вор из города Баку.
Босота – представители преступного мира, которые не только придерживаются воровских традиций, но и живут по их канонам.
Братва – друзья единомышленники.
Бродяги – то же, что и «босяки».
Воровской котел – то же, что и воровской общак.
Воровской общак – своего рода касса взаимопомощи, существующая внутри того или иного криминального сообщества.
Воровской толк – воровское обсуждение насущной темы.
Воры в законе – высшая ступень в иерархической лестнице преступного мира.
Гашник – потаенное место.
Город без фраеров – город, у жителей которого, из числа преступного мира, доминируют воровские понятия.
Грели крытые тюрьмы и лагеря – помогали чем можно тюрьма крытого режима и ИУ.
ГУЛАГ – Главное управление лагерей при сталинском режиме.
Гулаговскую прожарку – издевательства и пытки, применяемые администрацией ИУ над осужденными ГУЛАГа.
Жиганской жизни – воровской жизни.
Жулики – воры в законе.
Залётные босяки – приезжие представители преступного мира, которые не только придерживаются воровских традиций, но и живут по их канонам.
Затарился малявой – спрятал от правоохранительных органов записку.
Звякнешь – позвонишь.
Иуда – предатель.
Кабур – небольшое отверстие, проделанное в стене, в полу или в потолке камеры. Пробивают кабуры черенком от алюминиевой ложки – единственным доступным в тюремных условиях инструментом. При обнаружении кабура надзиратели приводят рабочих, которые тут же заделывают отверстие цементом, но через какое-то время оно появляется вновь.
Казематы – разного рода пенитенциарные учреждения.
Карманники-универсалы – карманные воры высшей квалификации.
КГБ – в СССР, Комитет государственной безопасности.
Копейкой взгрели – помогли деньгами.
Кореша – друзья по несчастью.
Коронации жулика – воровской ритуал, во время которого объявляют о новом воре в законе.
Крал в бригаде – совершал кражи в компании подельников.
Крытые тюрьмы – тюрьмы крытого режима.
Ксива – записка.
Лагерь – исправительное учреждение.
Легавые – сотрудники правоохранительных органов, независимо от чинов и занимаемых должностей.
Ломки – Самый мучительный этап наркотического голодания, сопровождающийся болью в суставах рук и ног.
Малява, малявка – записка или письмо.
Менты, легавые, мусора – милиционеры.
Мотор – такси.
Мусорские козни – действия, инициированные и контролирующиеся сотрудниками правоохранительных органов. Например, отправка фальшивых маляв, якобы написанных ворами в законе, с целью дискредитации одного из них или авторитетного сидельца.
Мусорские ломки – издевательства и пытки, практикующиеся как администрацией мест заключения, так и в ОВД.
Находившийся в бегах – объявленный в розыск.
Откинулся из зоны – освободился из ИУ.
Падла – подлец, мерзавец, негодяй.
Перо – холодное оружие.
Писаки – карманные воры высшей квалификации.
Подходы – после сучьих войн, ломок и подписок, когда воровское братство раскололось на два противоборствовавших лагеря, урки постановили: вором отныне может считаться только тот, кого признают другие воры, а не тот, кто, как некогда, объявлял таковым сам себя. В широких кругах эта процедура стала называться коронацией, а среди бродяг – подходом. Тот, кто хотел войти в семью, должен был задолго до сходняка поставить воров в известность о своем желании. Затем, по его просьбе, кто-то из именитых урок представлял его на сходке, а собравшиеся воры решали, принимать его или повременить. Если хотя бы один из присутствовавших оказывался по каким-то объективным причинам против, претенденту необходимо было впоследствии доказать этому вору свою состоятельность и искренность. Лишь только после этого он мог войти в семью.
По-жигански – по-воровски.
Пробил малявку – прочитал записку.
Прожарки – издевательства и пытки, применяемые администрацией ИУ над осужденными, придерживающимися воровского образа жизни.
Прозвон – один из простейших приемов, используемых при квартирных кражах. Домушники обходят выбранный ими многоэтажный дом и обзванивают квартиры, в которых, по их мнению, можно поживиться. Данная процедура проходит в строго отведенное для этого время.
Прописки – процедура встречи новичка на малолетке, состоящая из своеобразных тестов на сообразительность и приколов, чаще всего – дурацких. Прописка сопровождается жестокой проверкой молодого человека на знание воровских понятий и просто на человеческие качества – не расколется ли, если начнут бить? Прописка бывает не во всех тюрьмах и лагерях, но там, где она существует, малолетка, выдержавший ее, может считать, что он морально готов к тяготам арестантской жизни.
Прошвырнитесь – прогуляйтесь.
Рамсы – всякого рода выяснение отношений.
Растариться – достать из потаенного места на теле спрятанное что-либо.
Сажало – холодное оружие.
Скурвившаяся гадина – превратившиеся в полное ничтожество.
Сука – предатель.
Сходняк – сходка, на которой собираются преступники.
Тобольской крытой – тюрьма крытого режима, которая находится в городе Тобольск.
Толковище – сходка, на которой собираются преступники.
Тусовался – прогуливался.
Тычил – совершал карманные кражи.
Уркаган – вор в законе.
Уркаган «колымского толка» – вор в законе, который придерживается старых воровских устоев.
Фортель – неожиданный, неординарный поступок.
Хата – камера или квартира.
Ходики – часы.
Цеховики – деятель теневого бизнеса.
Шконаря – сварная металлическая кровать в местах лишения свободы, в которой вместо пружин используются несколько железных полос. Не следует путать с нарами.
Шпана, шпанюк – воры в законе.
Осетин
На фоне творящейся ныне безнравственности и лжи, подлости и зависти, случай, о котором я хочу рассказать, может показаться чем-то из ряда вон выходящим. Но это лишь для юных дегенератов – скептиков, которые влюбляют в себя наивных девчонок, дочерей нуворишей и власть имущих – не менее «упакованных бобров», занимаются с ними любовью, записывая весь процесс на видео, а позже, шантажируют их, показывая всю эту заснятую грязь. Чистым и светлым чувством под названием любовь, здесь, конечно же, и не пахнет. Да что уж там говорить об этом. Сегодня почти весь кинематограф в стране засорен сценариями на подобную тему. Плюс насилие и жестокость, ревность и предательство. И вот вам полная картина хаоса, к которому страна пришла в результате распада. И это, по анализам заумных дядек, еще только начало. Каков же будет свет в конце тоннеля, и увидим ли мы его вообще, вопрос, на который еще только ищут ответ. Недаром говорил Конфуций: «Не дай Вам Бог жить в эпоху перемен».
В июне 1963 года я прибыл этапом «на малолетку», которая находилась в городе Нерчинске, где судьба меня свела с единственным кавказцем, Аланом, который был на тот момент в зоне, но, к сожалению, хотя нет, скорее к счастью, ненадолго. И никто тогда из нас не мог даже и предположить, что следующая наша встреча состоится лишь через 37 лет, на берегах Луары.
На тот момент, а возможно и по сей день, таких колоний для несовершеннолетних преступников в СССР, было всего две. В Читинской области, в городе Нерчинске и в Ставропольском крае, в городе Георгиевске. Эти учреждения представляли собой что-то вроде зон особого режима для взрослых. Та же «барачная система», тот же контингент, сплошь «отрицалово», собранное «на малолетках» по всей, тогда еще необъятной стране, тот же босяцкий дух, который каким-то непонятным образом витал вокруг, исходя из душ, которым отроду было не больше семнадцати лет. А то и того меньше. (Нам с моим корешем Совой, с которым я прибыл на зону, было по пятнадцать лет). Ну и соответственно суровые условия обитания, всё-таки Читинская область это вам не Краснодарский край, плюс ко всему сотрудники, сплошь ничтожества, которые пытались строить из себя этаких крутых ментов, на манер «колымских вертухаев». Нам, малолеткам, они только и могли показывать свою «залихватскую удаль», ибо, «до настоящих мусоров, за которыми всюду следовало перо босяка, им было, как до луны раком». Да и то, крутыми они были только тогда, когда ходили кодлой, а чё не блатовать, когда все подопечные под замком. «Шушара, типа баландеров и мусорских шнырей», не в счет.
Я уже как-то писал о том, что много лет спустя, по моему, это было в купе поезда, мне попался, какой-то интересный журнал. Перелистывая его, я наткнулся на статью, которая меня весьма заинтересовала. Вот что было в ней написано: в 1909 году Фани Каплан (эсерка, которая стреляла в Ленина, тяжело ранив его) была приговорена к смертной казни. В том же году она ослепла, и виселица ей была заменена вечной каторгой, которую она отбывала в Нерчинске до 1912 году, пока не совершила в том же году побег. Но самое главное я узнал в конце публикации. Оказывается, мы, спецмалолетки, были «под замком» именно в тех бараках, в которых содержались ссыльные каторжане. И, заметьте, более пятидесяти лет назад, их бараки не запирались.
C самого начала нашего знакомства, я старался понять, как Алан, молодой человек, который заметно отличался от всех нас, попал сюда, в это Богом проклятое место. Ведь отправляли в такие зоны только по решению суда, и только тех, кто уже отбывал заключения в зоне и «зарекомендовал» себя, как злостный, систематический нарушитель режима содержания. Но об этом позже.
Очень трудное и неблагодарное это дело – сидеть в тюрьме и хранить веру в светлое будущее. То есть верить, что по окончанию срока все будет хорошо, будут семья и любовь, работа и настоящие, верные кореша. Вокруг – грязь и непотребство, соседи по нарам «перетирают» о прошлых и будущих делах, набираются друг у друга тюремного опыта, а он, Осетин (это погоняло прилипло к нему сразу, как только он «оказался на прописке у бугров»), добровольно влезший на нары, думал только о своей любви.
С первого взгляда казалось, что Алан и дон Жуан, были одного поля ягоды. Разница в веках, как-то не смущала. Как начнет «прикол держать за маресс», тут же откуда-то появляется вдохновение, глаза блестят, как у мартовского кота, руки жестикулируют, выдавая двусмысленные па, и кажется, что он невероятно далеко от нас, где-то в бананово-лимонном Сингапуре. Однако никакой грязи в его рассказах не было. Было истинное восхищение красотой какой-нибудь аппетитной мадемуазель, преклонение перед этой красотой. И выходило на поверку, что не банальный «озабоченный» Алан, а истинный поэт, готовый ради любви на все.
«Бабы, в общем-то, – дуры! Но до чего же они красивы!» – обычно заканчивал он свой очередной рассказ. На «малолетку» Алан попал тоже, в обще-то, из-за своей девчонки. Сам он из потомственной цирковой семьи воздушных гимнастов, на арене выступал с пяти лет. Девчонка его, Фатима, из-за которой и разгорелся весь сыр-бор, тоже потомственная циркачка; родители ее, что называется, дружили домами и мечтали когда-нибудь через детей породниться. Ну а пока они мечтали, дети не теряли времени даром, и случилось у пятнадцатилетнего Алана и тринадцатилетней Фатимы самая, что ни на есть настоящая «взрослая» любовь со всеми вытекающими отсюда последствиями.
В общем, любовью занимались они как сумасшедшие по всем цирковым задворкам, пока однажды Фатима, с трудом забираясь на трапецию, не обратила внимания на свой сильно округлившийся живот. Дело, в общем-то, обычное, однако тринадцатилетнюю гимнастку неожиданная беременность повергла в настоящий шок. Слишком уж хорошо знала она своего папашу, не раз обещавшего, «если что такое с ней до свадьбы случиться», скинуть ее без страховки из-под купола цирка, и все дела.
Фатима хорошо знала отца, человека грубого и невообразимо вспыльчивого, знала, что никогда не оступится он от раз и навсегда сказанного. Известно ей было и то, что слететь без страховки на арену из-под купола шапито означало почти наверняка тяжелое увечье либо смерть. Поэтому, хорошенько подумав и взвесив все «за» и «против», тринадцатилетняя Фатима решила умереть сама, тихо и незаметно, не дожидаясь папашиной расправы.
Приняв решение умереть, Фатима наворовала из матушкиной аптечки снотворного (мать мучалась от болей в спине, последствий цирковой травмы, и без таблеток спать не могла), купила двухлитровую бутыль пепси-колы для запивки и уединилась вечером в цирковой гримерке. Сердце бешено колотилось, дрожали руки, и едва она втиснула в себя первую пригоршню «колес», Фатима тут же вывернуло прямо на ковер. Ревущей, ползающей по ковру и собирающей мокрые и скользкие таблетки ее и застал выломавший дверную задвижку и ввалившийся в гримерку Алан.
Мгновенно оценив обстановку, он быстро сгреб оставшиеся таблетки в карман, поднял Фатиму с ковра и, влепив ей звонкую затрещину, потащил в туалет. Там он, сунув два пальца Фатима в рот, заставил еще и еще раз выкинуть все проглоченное, щедро заливая в бьющуюся в судорогах подругу «боржоми». Когда все было кончено, они еще долго занимались любовью и валялись в гримерке на диване, на том самом, на котором за полчаса до этого Фатима собиралась умереть.
Решение пожертвовать собой пришло к Алану неожиданно, он даже удивился, как же все получается просто и относительно безболезненно, без душераздирающих драм и смертей, «Слушай, Фатима! Один из нас глуп, другой – умен. Естественно, который умен – это я! Поэтому не рыпайся и делай то, что я тебе скажу. Другого выхода у нас нет!» Сказав это, Алан заставил подругу написать заявление в милицию о том, что она, Фатима, тогда-то и тогда-то была изнасилована, и что насильник – он, Алан. Таким образом, папашина угроза «слетать» из-под купола цирка утратила силу, а Алан вскоре оказался там, где и следовало ожидать, в колонии для несовершеннолетних преступников, но еще только на общем режиме. (В малолетке тех лет существовало три режима: общий, усиленный и спецмалолетка, где мы с ним и встретились позже).
«У хозяина» отношение Алана с пацанами складывались непросто, если не сказать, отвратительно. Человека, попавшего в зону за изнасилование, почти всегда ждет то же самое.
Это на «взросляке», прежде чем предпринять что-то подобное, люди сто раз подумают. Ведь по неписанным тюремным законам, «наказания хуем нет». Тот, кто нарушал этот закон, сам рисковал «оказаться в обиженке». Рассказы разного рода дилетантов и писак о том, что человек, попавший за изнасилование тут же попадает в статус обиженных – полная ерунда. Здесь опять-таки действует неписаный закон преступного мира, который гласит «ментам веры нет!». Теперь представьте ситуацию. Входит в камеру вновь прибывший за изнасилование и говорит, что менты его подставили и никакой он не насильник. Все. На этом разговор исчерпан. Ведь все мы знаем, как у нас сажали и сажают безвинных людей. Так что в дальнейшем сокамерники смотрят на поведение арестанта. Этим все и определяется. Поступками. И только ими. Я знал множество воров в законе, даже нескольких своих земляков, которые изначально отбывали наказание именно по ст. 117 (изнасилование). И, как правило, срока у каждого из них были не меньше червонца.
Что же касалось малолеток, особенно тех, которые на первых порах находились в тюрьме, то здесь почти всегда творился беспредел. Единственным весомым аргументам была грубая физическая сила, которую, стоит отметить, ее обладатели применяли, где надо и не надо. Но все-таки большинство малолеток были хилые, постоянно недоедавшие, и не досыпавшие пацаны, по сути, дети. Как правило, в то время, как в принципе и сегодня, на малолетке сидела пацанва спившихся, опустившихся родителей, либо простых работяг, у которых не было денег заплатить кому надо за свободу своего чада.
До того, пока Алан не попал в тюрьму, он ничего общего не имел с преступным миром. Вся его жизнь ограничивалась ареной цирка, гримерной и его детской любовью, за которую он теперь и страдал. Но, оказавшись за решеткой, он узнал, что есть еще и другой мир. Толком-то он тогда, конечно же, еще понять ничего не мог, но уже точно знал, что делать можно, а что «в падло». И, что самое главное, то, что было в зоне «западло», почти совпадало с его личными взглядами на жизнь. А это уже говорило о многом. Ведь как не играй в зоне в урку, а за то, что «сухаришься», рано или поздно все равно придется ответить. За «четвертной с маленькой тележкой», я еще не встречал такого проныру, который бы смог «проканать ёбаным между не ёбаных». Тем более, «на малолетке», где, стоит особо отметить, во все времена, воровские законы соблюдались с такой щепетильностью, что «малолетку поднявшегося на взросляк», или «откинувшегося по звонку», босота встречала как прямого кандидата в воры в законе. И, в большинстве своем, они ими и становились. Это был своего рода трамплин в касту коронованных особ. Правда, пройти его могли лишь единицы. Здесь еще стоит отметить, что на тот момент, как впрочем, и сегодня, все малолетки – это «красные зоны», за исключением двух спецов в Георгиевске и Нерчинске.
Так что, о досрочном освобождении не могло быть и речи. Ну и ладно, подумал Осетин. Отсижу, как положено, что б никто не смог ничего лишнего сказать, ведь теперь он не один, у него уже есть сын. А для мужчины на Кавказе, это очень даже много значит.
Так, или приблизительно так, размышлял Алан, как вдруг в дело вмешался непредвиденный, незапланированный и неожиданный случай. Пришла Алану с воли «малява» от друзей. Те писали, что родители его возлюбленной, не желая больше иметь никаких дел с «уголовником» и «проклятым насильником», подыскали дочери «жениха» втрое старше ее, из так называемых «цирковых спонсоров», который вызвался «проявить понимание» и организовать для Фатимы с ребенком жизнь безбедную и счастливую. Так что решение рвануть в бега и избавить Фатиму от неожиданно свалившегося на ее голову «счастья» возникло у Осетина мгновенно. Но как осуществить задуманное? Как правило, в такие моменты человек, а тем более, зелёный пацан, перестаёт нормально соображать. Все у него идет вверх кувырком. Но бывает и наоборот, Фортуна, как будто предвидя первый поворот событий, поворачивается к вам, если не передом, то уж ее бок вы видите точно. И тогда, как не крути, как не верти, а удачи вам не миновать. Наверное, когда древние говорили о поцелуе фортуны, они имели в виду нечто подобное.
Когда Алан немного пообтерся в зоне, ему пришла в голову здравая мысль. А почему бы не научить близких пацанов тому, что он умеет сам. Глядишь, когда-нибудь и пригодится. Да и время за этим занятием будет проходить незаметно. Ему это было хорошо известно. А в зоне такой расклад – отдушина, лучше некуда. Сказано, сделано. Тем более, администрация этому не препятствовала, полагая, что кроме пользы, ничего другого от этого занятия не будет. Ведь с Осетином вместе занималось одно «отрицалово». Первое, в чем группа Алана добилась успеха, было построение «пирамиды». Думаю, нет смысла объяснять этот акробатический номер, каждый из нас его видел не единожды. Вот, исходя из этой самой «пирамиды», через несколько дней, вместе с пацанами и был разработан гениальный план побега.
Вечером седьмого ноября, когда персонал колонии, включая и охрану, малость «расслабился» в честь праздничка, ныне называемого Днем единства и примирения, трое дружков Алана по отряду устроили маленький «кипиш» возле КПП, отвлекая на себя внимание. Алан же с тремя другими пацанами в это время выполнил свой коронный номер – «пирамиду». А исполнил он его возле той самой стенки в дальнем углу двора, за которой начиналась свобода. Верхний парень в «пирамиде» ухватился за край стены, подтянулся и мигом ее оседлал. Потом достал из-за пазухи заранее припасенный кусок веревки, лег на стену и сбросил конец вниз. Двое ребят из «пирамиды» вскарабкались по веревке на стену, последним втянули Осетина, который, цепляясь за еле заметные выбоины и бугры в стенке, поднялся наверх почти самостоятельно. Потом спрыгнули вниз и разбежались в разные стороны. Немного позже по оставленной на стене веревке переправились и «сделали ноги» еще трое пацанов, издали наблюдавших за побегом группы Аланы. Все произошло очень быстро: кипишь перед КПП был еще в разгаре, а шестерых беглецов, как говорится, уже и след простыл.
Зона, где «чалился» Алан находилась в Краснодарском крае, в городе Усть-Лабинске. Оттуда до его дома в Краснодаре, было рукой подать. В принципе, это был главный аргумент, который обеспечивал удачу самого побега, который, как правило, зиждется на двух главных составляющих. 1. Сам способ исчезновения из места заключения, при котором два одинаковых побега бывают крайне редко. Похожими, да, но не более того. 2. Максимальная безопасность во время передвижения до места назначения, которая напрямую зависит от расстояния.
Что касалось первого пункта, то Осетин так был уверен в себе, а главное, в своих корешах, что, однажды составив план, больше к нему уже не возвращался.
Его больше волновала вторая составляющая. На поверку казалось бы ничего сложного. Тряпья вольного было хоть отбавляй. Деньжата тоже были припасены. Хоть и не много, но на все, про все, хватит с лихвой. Расстояние около двухсот километров он преодолеет на попутке максиму за два часа. Не раз ездил таким способом по краю. Местность и менталитет народа знает. Родился и вырос среди них. Так что, пока «менты щикотнутся», он уже будет дома. А дальше, больше.
Но в противовес этому рисовался иной расклад. Его ловят, он, естественно, сопротивляется. И даже если сможет оторваться от ментов, весь план насмарку. Более того, когда повяжут, а это неизбежно, срок за сопротивление властям и довесок за побег. А это, как минимум еще пять лет. Вот тогда уж точно он лишится предмета своего обожания. Но с другой стороны, кто не рискует, тот не пьет шампанское. А риск, когда на кону стоит любовь, а тебе отроду шестнадцать лет, уже не риск, а удовольствие от самого процесса.
Не буду описывать, как Алан добрался до дома, ибо на это уйдет всего несколько строк. Скажу лишь, что все задуманное у него получилось, что бывает крайне редко в подобных мероприятиях. Самому пришлось побывать не в одном из них, но – ни разу не срослось, то, что задумывал.
В общем, нашел Алан того самого циркового «спонсора» и очень крепко с ним поговорил, надолго отбив ему почки и всякую охоту жениться. Поговорил он и с папашей Фатимы. Присем присутствовала и сама Фатима с ребенком, которая рассказала отцу всю правду о том, как все было на самом деле. Душа старого артиста оттаяла, и он, поняв, что дочка все равно поступит по-своему, благословил молодых. А после всех этих разборок Осетин удивил всех еще раз, явившись к воротам колонии и отдав себя в руки не пришедших еще до конца в себя охранников.
Так сложилось, что отсутствовал Алан меньше суток. А по закону, данный инцидент не мог квалифицироваться, как побег. Хотя закон в таком случае, что дышло, куда повернешь, туда и вышло. Как правило, на все подобные случаи у ментов была почти всегда одна и та же формулировка «по усмотрению администрации». Да и вернулся он не один. Его сопровождало половина цирковой труппы, которые за несколько часов, не то что переменили к нему отношение, узнав всю правду, они его просто боготворили. Так что, засчитали это «художество» Осетину, как самовольную отлучку, а не как побег. То же засчитали и трем вернувшимся корешам Алана, отправив всех «обсуждать впечатления» от «ходки на волю» в карцер. А вот второй «тройке» ушедшей вслед за ними, повезло меньше. Перегуляли пацаны малость, и по возвращении в зону схлопотали себе по небольшому довеску в годичник, к имеющимся уже срокам.
Так бы и отделался Алан пятнадцатью сутками «ШИЗО», если бы не одно «но», точнее комиссии, которая приехала в скорости после его выхода в зону с плановой проверкой. Ну, и что бы не испытывать судьбу, отправили его мусора от греха подальше на спецмалолетку, где мы с ним и познакомились. Никогда не забуду черты его лица, в которых отражалась сильная воля и непреклонный характер. Его черные выразительные глаза были окружены темной тенью, вследствие усиленных занятий и житейских невзгод. Взгляд его был тверд и спокоен. К сожалению, он уже успел утратить, то тревожное выражение, которое составляет одну из прелестей юности. А ведь ему не было на тот момент еще и восемнадцати лет.
Прошло много лет, прежде чем мы встретились с Осетином вновь. Цирк, в котором он выступал вместе со своей дружной семьёй, а детей у него уже было четверо, гастролировал в тот момент во Франции. Когда-то тринадцатилетняя Джульетта, была по-прежнему, хороша собой, хотя я видел ее только на маленькой фотографии. Что касается плода их юной и безудержной любви, то она была просто ангелом, вытворявшим чудеса под куполом цирка-шапито. Но это уже совсем другая история.
Сноски к рассказу «Осетин»
Барачная система – она практикуется только на особом режиме. Не имеет значения, открытый он или закрытый. То же самое относится и к спецмалолетке.
Борзый – дерзкий.
Бугры – активисты-бригадиры.
Взросляк – ИУ, где содержатся осужденные, достигшие совершеннолетия.
До настоящих мусоров, за которыми всюду следовало перо босяка, им было, как до луны раком – имеются ввиду те охранники, кто по решению воровской сходки был приговорен к смерти.
Западло – нарушение тюремных норм, которые для заключенных разных мастей различны.
Зарядить в дыню – ударить по голове.
Колымские вертухаи – самые лютые надзиратели.
Кипиш – в данном случае, небольшой шум.
Кореш – друг.
Красная зона – ИК, в которой власть администрации – безгранична, а основу контингента составляют активисты.
Малолетку поднявшегося на взросляк – осужденный, которому исполнилось восемнадцать лет и его перевели в колонию для взрослых.
Малява – записка, письмо и т. д.
Менты щикотнутся – в данном случае, когда сотрудники администрации придут в себя.
На малолетку – в колонию для несовершеннолетних.
Откинувшегося по звонку – освободившись по отбытию срока наказания.
Отрицалово – арестанты, живущие по воровским понятиям, или просто придерживающиеся их и систематически нарушающие режим содержания в ИУ.
Оказался на прописке у бугров – оказался на процедуре встречи новичка на малолетке, которая состоит из своеобразных тестов на сообразительность и приколов, чаще всего – дурацких. Как правило, вся процедура проходит под руководством бригадиров.
Оказаться в обиженке – оказаться в камере СИЗО, ИВС, ПКТ или ШИЗО, где отдельно от других содержатся осужденные, которых опустили по беспределу или за грубые нарушения тюремных устоев.
Проканать ёбаным между не ёбаных – оказаться настолько изворотливым, чтобы умудриться угодить и врагам, и друзьям.
Под замком – в камере.
Перетирают – обсуждают проблему.
Прикол держать за маресс – рассказывать о женщинах.
Расслабиться – забыть на время о проблемах, употребляя спиртное или наркотики.
Сделали ноги – убежали.
Сухариться – выдавать себя не за того, кем являешься на самом деле.
Упакованные бобры – очень богатые люди.
У хозяина – в ИУ.
Чалился – отбывал срок наказания.
Четвертной с маленькой тележкой – в данном случае, немного больше двадцати пяти лет, проведенных в неволе.
Шестерил – прислуживал.
Шушара, типа баландеров и мусорских шнырей – разного рода лагерные нечисти.
P. S. Все сноски, сделанные в этой и других моих книгах, взяты из составленного мною «Словаря преступного мира».
Заур ЗугумовПримечания
1
Здравствуйте, мадемуазель! Простите за беспокойство. Меня зовут Руслан, я приехал из Москвы по делам. Скажите, пожалуйста, могу ли я поговорить с хозяином?
(обратно)




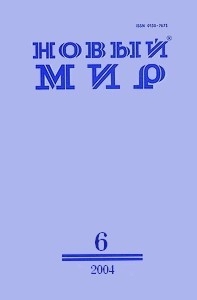





Комментарии к книге «Записки карманника», Заур Магомедович Зугумов
Всего 0 комментариев