Светлана Ермолаева СТРАНА ТЕРПИМОСТИ (СССР, 1951-1980 годы)/ Российско-казахстанский социальноавтобиографический роман-дилогия о советской власти
Моим ровесникам послевоенных лет рождения
КНИГА ПЕРВАЯ РАЙСКАЯ ЖИЗНЬ
Рай для нищих и шутов, Мне ж, как птице, в клетке! Владимир ВысоцкийВместо предисловия
Лев Аннинский: Адская жизнь под райскими знамёнами
Названия двух книг, составивших дилогию Светланы Ермолаевой, смотрятся друг в друга, как в комнате смеха (общий титул анекдотичен: «Страна терпимости»).
Книга первая: «Райская жизнь». Книга вторая: «Адская жизнь».
Если принять во внимание, что книга первая охватывает полтора десятилетия, начиная с последних сталинских лет (1951-1966), а вторая – следующие десятилетия, хрущёвско-брежневскогорбачевские (до 1986 года), то закрадывается стилистическое подозрение: Райская жизнь (когда всё ещё дышит недавним военным временем) на самом деле прикрывает улыбкой дикую по жестокости эпоху мировых войн и страшной для нас Великой Отечественной; а Адская жизнь (когда победоносное советское государство тихо катится к распаду) на самом деле облекает иронией тогдашние надежды на немедленный послесоветский рай.
Постараемся учесть эту игру смыслов.
Биография. Окинув памятью города своего детства и молодости: Якутск, Минусинск, Красноярск, Норильск, Енисейск – Светлана Ермолаева охватывает их биографической деталью: она родилась при пятидесятиградусном морозе! Уж одно это выдаёт в ней острую ироничность (важную черту в характере писательницы). Но сибирский градусник был крут нешуточно: наверное, из этих студёных краёв хотелось туда, где потеплее, поюжнее, посолнечнее? Переезд в Казахстан и впрямь отогрел… Но обожгло не солнышко – а ощущение жгучей ответственности, когда после отроческих грёз и вызовов ухнула душа в мир взрослых.
Тут мы касаемся опыта интимно-душевного, по существу уникального в нашей теперешней прозе, – опыта самоанализа, смысл которого выходит из рамок истории страны за треть века – таких сюжетов пишется сейчас довольно много: эпоха пережита страшная – дедами, отцами, старшими братьями, так что «терпимость» в её имени, из остроты, говорящей о всё той же иронии повествовательницы, начинает дышать философским отчаянием и попадает в объятья беды.
Но конкретно.
Начало – это дом. И двор – если иметь ввиду быт тогдашних поселенцев. Стыки интересов. Перекрёстки эмоций. Тяжбы сторон. Если папа не ладит с мамой, надо принимать чью-то сторону. Если играли в испорченный телефон и поругались, – опять принимать чью-то сторону. А уж если вражда улицы против улицы…
Так вот: маленькая героиня по своему характеру не любит принимать чью-то сторону. Ни в чьи сторонники не вписывается. А если вписывается, – то наперекор! У неё свои правила. Таскает яблоки с соседского сада – но ведь их там ещё много! В школьной раздевалке вместе с подругами чистит карманы у висящих пальто. Но никогда не выгребает всю мелочь без остатка, а иногда в чужой карман добавляет своей. Это разве воровство?! Воровство – на улицах. А это – характер, не желающий подчиняться общим правилам. Тут свои правила.
Оформляются эти правила в привычки. В тона независимости. А если в тона бунта и вызова, – так это ещё круче…
«Как-то Ксеня застала отца за странным занятием. Он аккуратно вырезал из газеты «Правда» чьи-то портреты. – Пап, а кто это? Почему ты их вырезаешь? – с любопытством спросила она. – Это портреты руководителей нашего государства. Их надо уважать и нельзя ими подтирать… Поняла? – сурово ответил отец. В сортире был вбит гвоздь, а на нем висела нарезанная на квадраты газетная бумага. «Какая разница, ведь никто не видит». – подумала дочь, но ничего не сказала. Ей почему-то стало смешно»
Смешно – это пока тебя не вытянули на политику. А политика – кругом: либо сидельцы, провинившиеся перед советской властью, либо охранники, именем этой власти сидельцев карающие. И с теми, и с другими приходится иметь дело. Держаться независимо. Помалкивая о своих правилах.
Позовут на концерт гастролирующих московских артистов – идёт. Вдруг в зале все встают и, поворачивая головы назад, начинают аплодировать. Что такое? Ксеня тоже смотрит, куда все: «В ложе стоит какой-то высокий старик».
Отец громким шепотом: – Это член првительства Климент Ефремович Ворошилов, герой гражданской войны. – Он же старый! – восклицает Ксеня. – Зато умный! – замечает отец.
Оценим находчивость отца. Но речь о дочери. Ей без разницы, что за правитель торчит вверху. Торчал бы кто-нибудь другой… Лаврентий Палыч… Или – эпохой раньше – бухаринец какойнибудь или троцкист?
Да без разницы! Ксеня их различать не станет. А если придётся – то с учётом тех газетных вырезок – пока не завезли с Запада туалетную бумагу. Пусть сами подтираются.
Больше всех от Ксении достаётся Горбачёву (я не уверен, что по справедливости). Остальным – в стиле частушки. «Психбольницы все забиты, тюрьмам дел невпроворот, и ползёт слушок сердитывй: Кучер правит – быдло прёт». Тут же сноска: КУЧер – Константин Устинович Черненко. Теперь уже надо объяснять, кто такой. Во времена Ворошилова и так знали, кто где сидит. Ксене они все без разницы; ответ один на всех;
«Правители все лгали и будут лгать».
Все? Всегда! Где же тогда правда?
– Какая правда? – переспрашивает героиня Ермолаевой. И уточняет в своём стиле:
– Правды ложь или правда лжи?
Вот и ответь на такое…
К коренным вопросам отечественной истории это имеет прямое отношение. Если, по мысли вышколенных историков, бытие зависит от знамени… то есть: люди, выросшие под коммунистическими лозунгами, не должны на дух принимать капитализм… да и социализм социализму рознь… кабы только рознь, а то ведь и война… – такова обязательная марксистская схема.
А если бытие людей определяется не меняющимися лозунгами на знамёнах, а глубинной природой живущих тут веками людей?
Тогда, извините, не так важно, советская ли тут власть, и какого покроя, или хрущёвская имитация, перестройка ли с расхватом суверенитетов или предпринимательство с расхватом собственности, – не это решает! Государственный строй может меняться и выворачиваться, а бытие в глубине определять будет всё то же – вековое, русское, в данном варианте – северно-якутское. И определять это бытие будет Ксения, сохраняющая упрямую независимость при любых правителях, на которых ей… наплевать.
Но учитывать ситуацию постарается? Книги читать будет? Ещё как! Подражать литературным героям? О, да! Но чаще – отрицательным.
Объять такую независимость можно разве что стихами. К ним-то и обращается героиня, стараясь объять необъятное: душу народа.
С политзеками ели мы хлеба краюшку, А родители пели с матерками частушку. Окуджава запретный из общаг нам звучал, Был у нас, норильчан, тыщевольтный накал.И краюха хлеба, которой ты поделишься с зеком (или зек с тобой), и матерки (без которых частушка не споётся) – это и есть потаённые ценности, которые русская душа хранит, чтобы выдержать бесконечную смену хороших и плохих правителей.
А Окуджава откуда?! Да оттуда же: из природной музыки, которую чует в своём характере героиня Светланы Ермолаевой.
Впрочем, Окуджава – не единственный светоч в этой чёрной мути. Обретя статус признанного стихотворца, Светлана Ермолаева высоко ценит и этот статус, и своих признанных коллег. Единственным исключением является Евтушенко, неприязнь к которому переходит в странную враждебность. К другим мэтрам жанра отношение почтительное. И к жанру как таковому.
Как-то сослуживец, увидя, что Ксения записывает в дневник стихи, поинтересовался. Она дала прочесть. Он прочёл три стиха и посмотрел на неё круглыми глазами:
– Да ты поэтесса!
Она поправила:
– Поэт!
Существенное уточнение – для тех, кто чувствует таинства русской речи.
Поэт – в текстах Светланы Ермолаевой – не просто дополняет её как прозаика. Поэт остро чувствует то, на что прозаик ссылается при смутной тревоге. В стихах поэта эта тревога переходит в постоянное, необъяснимое, неизбывное ожидание беды. И возникает готовность к боли, которую надо перенести как неизбежную.
Эта боль – не расплата ли за обретённую с таким трудом независимость?
Поэтом, который помогает обрести голос, становится Владимир Высоцкий – самый славный из неофициальных поэтов своего времени. В нём находит Светлана «что-то близкое и родственное её бунтарской натуре».
Что это? Свобода? Нет. У Высоцкого это полная Несвобода! «Зависимость от ничтожеств», какую она должна была преодолеть.
И преодолела.
А когда преодолела и вошла в число публикуемых литераторов, – почувствовала, что в уходящей советской диктатуре имела всё, о чем могла мечтать. Кроме одного: кроме свободы слова. Цензура душила!
Теперь цензуры нет. Пиши, что хочешь.
Мы дети застоя, бредовых идей, Мы внуки всех рангов воров и вождей. А править такими – проворен любой, Подняв серп и молот, Как кнут над толпой.Серп и молот теперь – кнут над толпой? Удивительное сочетание реальности и тумана, из которого эта реальность жалит.
Что там первично: ложь правды или правда лжи?
А это уже зависит не только от реальности, проступающей сквозь туман. Ибо туман – тоже реальность. Поэтическая.
Пока душа билась за независимость (от толпы и от правителей), главным словом была – свобода.
Теперь, когда свобода завоевана, какое слово становится главным?
Не угадаете. Скука!
«У нас опять гуляют, а я убежала и пишу. Ах, какая скука!»
И опять: «Скука давит камнем!»
И опять: «Скучища-то, господи…»
Пока свобода – недостижимая цель, она наполняется идеальным весом, становится смыслом существования.
Но вот свобода достигнута, и встает вопрос: что с ней делать?
Пока ты сопротивляешься диктатуре, это твой ад, отуманенный общепринятым раем. Когда наконец, входишь в общественный порядок, он даже под адскими знаменами хочет показаться раем…
Главное – понять, на что согласится народ.
Присутствует ли народ в сознании лирической героини Светланы Ермолаевой?
Да вот же:
«Уборщицы, сантехники, буфетчицы, милиционеры…»
Есть ли тут работники, которые мышцами и навыками обеспечивают то, что тут раздают? А без милиционеров такая раздача состоится? Это народ или обслуживающий персонал, который существует помимо народа?
Вот тут-то без поэзии опять не обойтись.
Лезут в душу мне люди разные — Ковыряются, ищут суть. Лезут гнусные, лезут грязные… Ведь запачкает кто-нибудь!Люди – разные. А если и они ищут суть? И не отнесёшь их ни к слугам режима, ни к борцам против режима… Эти одиночки-страдальцы – чего достойны? Сострадания? Порицания? Куда их деть в итоговой картине эпохи? Какое место им уготовано в финальном раскладе ролей?
Утекают мозги, плесневеют таланты, А ведь с ними держава великой была! Остаются ущербные духом мутанты Нет им дел до того, что страна умерла.Страна – умерла?! Да скорее героиня умрёт, сорвавшись со своего этажа в новой квартире! И несчастный случай будет подозрительно похож на самоубийство.
И уж что несомненно, неопровержимо и неотвратимо: в грядущем бед будет не меньше, чем было в прошлом.
Отсюда – ощущение боли, грозящего испытания, фатального страдания, подстерегающего страну даже в её «райские» (мирные, невоенные) времена.
И лейтмотивом – страх, присущий всем живущим «в этом мире чёрно-белом».
И готовность к беде, которую придется вытерпеть.
И конца этому нет? Есть! Неизбежен конец этой реальности, после чего наступит новая реальность. И так же будет начинена болью.
Охаять страну – не надо ума. Ликуйте, охальники-черти! Пируйте: В разгаре безумья чума. Охаят и вас после смерти.Что ж прибавить к этой тяжбе рая и ада в исповеди Светланы Ермолаевой?
Она же и подсказывает:
«Счастье – в объятьях беды»…
И ещё – с почти немыслимой иронией:
«Для счастья не хватает несчастья…»
Жгучее предчувствие боли, дающей силы в мире, который окован ознобом, – делает исповедь Светланы Ермолаевой уникальной в поколении её ровесников «послевоенных лет рождения».
ЛЕВ АННИНСКИЙ,известный российский критик, литературоведВМЕСТО ВСТУПЛЕНИЯ
Алма-Ата, столица Казахской ССР
Ксения переступила порог здания на площади у Детского мира и обмерла: вот это да! Куда я попала, где мои вещи? Во-первых, при входе милиционер, ему был предъявлен пропуск. А дальше!.. Дальше, как в музее: люстры, мрамор, кремлевские дорожки… Это она потом узнала, насчет дорожек. А на ней: пальтишко серенькое, из моды вышедшее, сапожки из кожзама ширпотребовские, платочек уголком. Этакое представительное из народа да в хоромы правительственные. И хватило же наглости!.. Но до этого – шага в райскую жизнь, в Дом на площади, оказавшийся Домом терпимости – было многое и многое, была другая, обыкновенная жизнь, детская, юношеская и уже супружеская.
Часть первая
ЯКУТСК, столица алмазного края
По диким степям Забайкалья, где золото роют в горах, Бродяга, судьбу проклиная, тащился с сумой на плечах… (Из песни)Деревня Исеть Иркутской области, откуда была родом мать героини, располагалась не так далеко от священного озера Байкал. Полдеревни было Скорняковых, отец Павлины Петр был чистокровный бурят, а мать Надежда Таборова из соседней деревни русская. Она была сирота, и прозвище у нее было почему-то Надька из табора. Отца вскоре репрессировали, он отказался вступать в колхоз, шибко умный был. Повезли его «из Сибири в Сибирь» (Владимир Высоцкий). Были в их роду и священники, и шаманы, но после репрессий остались от многочисленного рода рожки да ножки.
Отца реабилитировали. Он вернулся в родную деревню, а из тринадцати детей в живых остались два сына и дочь Павлина. Отец вскоре умер от последствий каторги. Сохранилась его фотография в гробу, Павлина в изголовье, и ей 16 лет.
Одним словом, от деревенской бабы Надежды жить на белом свете и здравствовать осталась лишь Павлина, мать Ксени, которая прожила за всех до 91 года. Прожили, правда, некоторое время два брата Петр и Павел, имена, как у апостолов, но Петр пропал без вести во время войны, а Павел умер молодым от рака. Не красавица, но фигуристая и характером веселая, смышленая и боевая, она, едва минуло девятнадцать, прихватив с собой подругу Машу, отправилась из своей деревни – через Сибирь и часть Казахской ССР, в Ташкент – город хлебный, столицу Узбекской ССР. В те, тридцатые годы, голод свирепствовал по всему СССР. Ташкент и вправду оказался сытным, особенно на фрукты, их можно было есть бесплатно прямо с деревьев, растущих по улицам и улочкам. Узбеки были щедрыми и гостеприимными. И кого только ни привечали в своей столице! Сто народов – русские, татары, казахи, украинцы, но больше всего – среди коренного населения – было евреев и греков. А мать Ксени – Павлина, или Пава-Павушка, как звали ее ровесники, была по отцу буряткой. Отъелись они чуть-чуть в Ташкенте, проучились на курсах: Павлина – на счетовода, а Маша обучилась машинописи, и подались в разные концы огромной страны, Маша – на Дальний Восток: На Дальнем Востоке пушки гремят! А русские солдатики убитые лежат…А Павлина сначала в Иркутск, а потом дальше на Север, в Якутск, где платили северные (надбавку к зарплате) – деньги зарабатывать.
В это время и война началась:
– Вставай, страна огромная! Вставай на смертный бой! (из песни)1940-51 годы. Устроилась Павлина завскладом на аэродром, где проходила воздушная трасса: Красноярск-Уэльколь, заведовала вещевым отделом, жила сытно – на паек: американская тушенка, сгущенка, галеты и шоколад. Аэродром был перевалочным пунктом для американских самолетов – через Аляску на линию фронта. Тут они заправлялись бензином, пилоты отдыхали, знакомились со щедростью русской загадочной души.
Павлине уже к тридцати было, когда она встретилась с Анатолием, да так его окрутила – молодого, красивого механика на аэродроме, что он, будучи женатым и детным, двое ребятишек у него оказалось, влюбился без памяти и стал жить с Павлиной без регистрации брака, будучи еще неразведенным с первой женой. До Якутска Анатолий работал в Магадане на «полуторке», возил продукты с базы на склад лагеря. У него было два друга, тоже водители. Они скинулись по крупной сумме и купили танк. Тогда уже шла война. За свой поступок они получили благодарность от самого Берии. Непростой человек был муж Павлины. Детей не бросил, до совершеннолетия платил матери алименты.
Ксеня, внебрачная дочь, родилась в конце первого послевоенного года, лютые морозы стояли под пятьдесят градусов. Через много лет она написала: «Заморозило морозами сердце детское мое..» Отец хотел назвать ее Светланой в честь дочери Сталина, но баба Надежда воспротивилась: – Сталин – не отец народов, а душегуб. Лучше Ксенией назовите, у меня подружка была в детстве. Родители послушались, а то еще водиться не будет с внучкой из вредности. А им учиться надо и работать. Отец в дочке души не чаял. Из тех, младенческих лет в Якутске, а помнила себя девочка с пяти лет, ее воспоминания были яркими и краткими, как фотовспышки.
Была бабушка Надя, вечно искавшая внучку по всему околотку. Ксюша была пухленькой милашкой со светлыми кудрявыми волосами, карими глазами и яркими лепестками губ, вылитый Вова Ульянов на октябрятском значке, очень приятной и общительной на людях, но дома – капризной и строптивой и вообще при почти ангельской внешности довольно вредной девчонкой. Игрушек у нее было навалом, но дома одна она играть не любила. Брала какую-нибудь игрушку и тащила бабу Надю во двор в песочницу, где собиралась детвора. Выпятив пухлую нижнюю губешку и пузико, она начинала командовать детворой, казня и милуя. Давала поиграть в свою игрушку, если кто-то отдавал ей свою конфету. Чинные игры были не для нее, больше любила проказничать. Могла, осердясь, сыпануть песком в глаза. Ей все сходило с рук.
Перед сном баба Надя качала ее в кроваткекачалке. Как-то мать не вытерпела и сказала сердито:
– Прекрати ты качать эту дылду! Может, еще песни будешь петь?
– А что, и буду! – ответила любящая единственную внучку бабка.
В ту же минуту раздался требовательнокапризный голосок Ксени:
– Баба! Песню пой! И бабка запела:
«По диким степям Забайкалья, где золото роют в горах, бродяга, судьбу проклиная, тащился с сумой на плечах…
или славное море – священный Байкал…»
В 1947 году, в первый год после рождения дочери, оба родителя вступили в партию и стали ярыми и преданными заветам Ильича коммунистами. Баба Надежда не одобрила их поступок и часто бурчала про себя: – Ваши партейцы всю мою родню под корень извели, а вы пошли им прислуживать. Бабушка была верующей, потихоньку, когда родителей рядом не было, крестилась и вполголоса шептала молитвы. Правда, Ксюшу не приучала. Но зато тайком крестила ее, а крестик спрятала подальше: «Родители безбожники, а внучку не допущу…»
Ксеня подросла, ей было лет пять, когда произошел курьезный случай. Одна взрослая девочка выпросила Ксеню у родителей в кино. После долгих колебаний мать отпустила малолетнюю дочь с чужой почти девочкой, уж больно та просила. Окончился фильм, они вышли из кинотеатра. Через некоторое время Ксеня захныкала:
– Уста-а-ала, на ручки хочу…
Девочка взяла ее на руки и обнаружила, что на ногах малышки нет валенок, одни теплые носки. Бегом она вернулась обратно, но валенки не нашлись, и девочка, укутав ноги Ксени полами дохи, всю дорогу тащила ее, тяжеленную, на руках. От матери попало девочке, а не Ксене.
– Но я не знала, что она сняла валенки, – оправдывалась девочка.
– Надо было проверить, ты уже взрослая, с тебя спрос, – не унималась мать.
Ксеня, разомлевшая в тепле, помалкивала.
Похоронили бабушку Надежду. Ксене запомнилось ласковое, любящее лицо бабушки в больничном окне. Потом ее могила, вся в зеленой траве – на ней красиво смотрелись крашеные яйца, когда они втроем пришли на кладбище в родительский день. Конечно, родители были атеистами, но некоторые старые традиции украдкой исполняли. Из тусклого обычно неба вдруг проглянул тонкий солнечный лучик, упал на крашеные луковой шелухой яйца, и они засияли, как золотые.
После смерти бабушки пришлось родителям отдать Ксеню в круглосуточный детсад. Иногда они навещали ее среди недели и привозили что-нибудь вкусное, однажды – виноград. Она ела крупные прозрачные светло-зеленые ягоды и была счастлива. Мороз стоял под пятьдесят, а от винограда пахло летом. Здание детсада было кирпичным, с большими деревянными ставнями на окнах и широкими железными карнизами снизу. Ксене нравилось пускать на железо слюну, которая мгновенно застывала в пузыри – большие и маленькие. У нее здорово получалось. Раз она наклонилась и только хотела выпустить слюну, как кто-то из мальчишек толкнул ее: губы прилипли к железу. Она оторвала их, из глаз брызнули слезы. Не столько, может, от боли, а сами по себе. Она никогда не плакала от физической боли, но часто – от обиды на несправедливость.
К ней подбежала воспитательница, начала жалеть и ругать одновременно. А Ксеня молча смотрела на ярко-красное пятно, замерзшее на железе. И варежка была вся в крови, и во рту была кровь, которую она слизывала с губ. Под тонкой кожицей губ оказалось очень много крови. Пузыри она не перестала делать, только прежде смотрела, чтобы никто не стоял возле.
А вообще от города, где Ксеня родилась, в ее памяти остались снег и мороз почти всю долгую зиму, а летом – пыль, песок, унылая серость деревянных домов и пустота улиц. Много лет спустя она узнала, что Якутск строили ссыльные, «провинившиеся» перед властью люди.
В Якутске родители накопили деньги и купили «Победу» стального цвета.
МИНУСИНСК, город ссыльных
1952-55 годы. Небольшой провинциальный городок по обе стороны речки Протоки, впадающей в могучую сибирскую реку Енисей, соединялся высоким, но не широким деревянным мостом с проездом для телег и машин посередине и тротуарами по краям. Отца подвинула на переезд тетя Нина, его двоюродная сестра. Они жили втроем: тетя Нина, ее муж и сын – в большом доме с большим садом и огородом. Родня жила богато и была прижимиста. К себе жить, во всяком случае, не пригласили. Правда, по приезду, пока нашли квартиру, несколько дней они у них перекантовались.
Ксеня как-то днем на буфете возле хлебницы поймала мышонка прямо в руки. Посадила его в картонную коробку и поставила на подоконник. Такой маленький, такой хорошенький! Она его полюбила. Поднималась утром, шла к коробке и кормила его молоком с крошками хлеба. Идиллия продолжалась два дня. На третий – малышка обнаружила коробку пустой. Она огорчилась очень сильно. Даже заплакала. Вдруг сквозь слезы увидела на полу комочек серой шерстки и красное пятно. Она поняла своим детским умишком, что мышонка съел большущий кот Барсик, живущий в доме. Она сильно горевала, но домашних животных любить не перестала. Это была первая трагедия в ее детстве.
Ксене было ужасно скучно. Книг в доме не было, картинки не посмотришь, и она развлекала себя, как умела: когда все расходились по делам, она втихаря оборвала куст крупной спелой малины и наелась от пуза. Затем решила обследовать сад: яблок уже не было, лишь на одной ветке красовалось большое красное яблоко. Ксюша поняла, что оно висит неспроста, сорвать его и съесть не решилась, но вроде нечаянно задела его и уронила на землю. «Потом съем», подумала она. Яблоко действительно оказалось не простым, а каким-то коллекционным. Оказывается, хозяин дядя Федя пытался привить его к обычной низкорослой яблоне. Мичурин, блин! (XXI век, комментарий автора). Их поторопили с переездом.
Вскоре они поселились в доме у одинокой женщины. Родители купили гуся. Поскольку хозяйка не выносила кошек, а собака сидела во дворе на цепи, Ксеня, когда появился гусь, очень привязалась к нему, живому и теплому, и назвала его Тега. Гусь тоже привязался к ней. Едва Ксеня, возвращаясь из детсада вечером, появлялась в калитке, как он, растопырив крылья и гогоча, устремлялся к ней навстречу. Она, присев на корточки, обнимала его за длинную белую шею и шептала что-то ласковое. Так завязалась дружба. Девочке было очень одиноко, родители работали, хозяйка сидела дома и тоже была одинокая, но неприветливая и недобрая. А может, просто не любила детей.
В конце декабря у Ксени был день рождения. И «недобрая» хозяйка купила Ксюше подарок: пупсика с одежками. Но когда хватилась вручить девочке, оказалось, что потерялся ключ от комода, куда она положила подарок. Бедная женщина обыскалась, а Ксюша ходила за ней, как привязанная, и едва ни плакала. Это было утром перед детсадом. Ключ так и не нашелся. Ксюша от обиды украла в детсаде куклу. Подошла к дому и засунула ее в почтовый ящик. А потом сделала вид, что нашла куклу. Но мать ее разоблачила и заставила вернуть куклу при всех детях с извинениями. Это было очень унизительно. Ключ от комода нашелся на следующий день, но радости уже не было.
Вечером в день рожденья она вернулась из садика, вошла во двор, постояла, дожидаясь своего Тегу, но его не было. Она кинулась в дом.
– Где Тега?
– Сейчас, доченька, увидишь своего Тегу, – мама, наклонившись к духовке, вытащила огромный противень, на котором фырчал жиром, исходил паром и незнакомым для Ксени запахом с растопыренными в стороны крылышками и ножками, зажаренный до коричневого цвета Тега.
Ксеня в ужасе закрыла лицо руками и, зарыдав, бросилась во двор, в сарай, где держали гуся. Она упала на покрытый соломой пол – в соломе торчали белые перышки, и долго, безутешно рыдала, пока мать ни пришла за ней и ни увела ее, замерзшую и заплаканную, в дом. Ксеня еще долго всхлипывала, отогреваясь возле печки.
Отец, со смаком разделав гуся, положил на тарелку крылышко и поставил на стол перед Ксеней.
– Вот съешь и будешь легкой, как это крылышко, – ласково сказал он любимой, единственной дочке.
– Нет! Никогда я не буду есть гуся, – Ксеня непримиримо глядела на улыбающегося отца.
– Глупышка, мы для того купили и откармливали его, чтобы съесть, – сказала мама: она ела ножку, и жир стекал по ее пальцам.
«Лучше бы Тега умер от голода, тогда я бы похоронила его и проведала могилку», – подумала Ксеня.
Нет, нельзя сказать, что Ксенины родители были жестокими людьми, просто им не было времени заглянуть маленькому человечку в душу, в ее внутренний мир; посмотреть на свершившееся ее глазами. А она не могла смотреть, как ели Тегу, который был ее другом. Ксеня сильно хотела есть, но встала из-за стола и легла спать в другой комнате. К ней заходили и мать, и отец – они чувствовали себя виноватыми, хотя и не понимали, в чем, – уговаривали ее поесть, но бесполезно. Она уснула голодной. С тех пор Ксеня, даже став взрослой, не ела птицу. Даже на дух не выносила. Это была вторая детская трагедия в ее жизни.
Изредка они ходили в гости. Ксюша всегда скучала. Пока взрослые сидели за столом, пили и ели, любопытство вело ее поискать что-нибудь интересное. У одних хозяев она проскользнула в спальню. На комоде увидела пудреницу, а на крышке лежала красивая брошь: круглая красная ягодка и зеленые листики. Ручонка потянулась и схватила брошку. Но вот оказия! Вместе с брошкой на пол упала пудреница, пудра просыпалась. Ксеня заревела. Оказывается, брошка была прицеплена к картонной крышке. На ее рев сбежались взрослые. Отец больно дернул ее за ухо.
В другом доме она вышла во двор и увидела взрослый велосипед. Конечно, она вообразила себя велосипедисткой. Вскарабкалась кое-как на раму, не достав до сиденья, схватилась за руль и поехала… Ладно бы просто упала на землю, но на пути попался деревянный ящик, его углы были окантованы ленточками тонкого металла. Колесо уперлось в ящик, а колено девочки со всего маха в угол. Полилась кровь, и она, испугавшись, заорала, как резаная. Прибежали взрослые. Рана оказалась глубокой, и ее пришлось зашивать в больнице, куда ее отвез отец на машине. Одним словом, маленькая авантюристка искала приключений и находила на свою и родительские головы.
Вскоре они переехали на другую квартиру, в полуподвал двухэтажного деревянного дома. В этом же доме, через забор жила разведенка с двумя детьми, дочерями. С Майкой, ее ровесницей, Ксеня подружилась. Они лазили друг к другу через забор, и Ксеня однажды зацепилась подолом за гвоздь. А мама только ей сшила новый ситцевый сарафанчик! Ох и попало же ей ремнем! Мама била и приговаривала:
– Не лазь через забор! Будешь лазить? Будешь?
У Ксени обильно текли слезы, но она молчала. Через забор, конечно, лазить не перестала. Упрямства ей было не занимать.
Недалеко от дома в деревянной будке ютилась лавка вторсырья. На грязном от пыли окошке, как на витрине, была протянута веревочка, а на ней висели разные, привлекательные для детей предметы: пластмассовые ванночки для пупсиков, цветные карандаши, привязанные по одному, пищалки из резиновых шариков. Но для Ксени самыми втайне желаемыми были, конечно же, розовые ленточки, ярко-розовые атласные ленточки. Но чтобы заплести их в светло-каштановые косы, нужно было сдать старьевщику что-нибудь тяжелое. Ленточки стоили дорого.
Родители ушли на работу, и Ксеня, не долго думая, забралась в сарай, где стояла их машина «Победа». В углу она обнаружила спущенную резиновую камеру, схватила ее обеими руками, с трудом дотащила до лавки старьевщика и получила взамен розовые ленточки. Пока во весь дух мчалась домой, радость гасилась страхом: отец мог не только отругать, но и побить. Рука у него была тяжелая. Но Ксене так хотелось иметь розовые ленточки!
С Майкой они были в ссоре и уже два дня не водились. Ксеня обиделась, что подружка дала ей меньшую половину вкусного пирожка с осердием, фаршем из ливера. Но желание похвастаться обновкой оказалось сильнее обиды. Окно Майкиной кухни выходило на лесенку из четырех ступенек, ведущую в полуподвал, где жила Ксеня. На завалинку этого окна и уселась маленькая преступница и стала заплетать ленточки в косы, как будто не видя лица подружки за окном. При этом она приговаривала: «А у тебя-то нет, а у тебя-то нет…»
Одним глазком она все же смотрела на окно, и ей показалось, что Майка плачет. Правда, стекло было не очень чистое, и она могла ошибиться. Увлеченная завязыванием бантиков, она не заметила, как Майка ушла. Тут Ксеня вспомнила: ее мать говорила о соседях, что они бедные. За камеру отец наказал ее ремнем. Ленточки носить ей отчего-то расхотелось. Может, она смутно ощутила вину перед Майкой.
В детсад ее возили на автобусе на правый берег Протоки, иногда на «Победе», и тогда она выходила из машины напоказ, держа платьице за подол двумя пальчиками. Можно подумать, цаца. В детсаду непоседливая девочка скучала, и от скуки затевала проказы. Напротив детсада через дорогу находилась церковь. Ксеню влекло туда любопытство, и, подговорив двух-трех самых отчаянных девчонок и мальчишек, она организовывала вылазку.
Обычно проказы она затевала в тихий час. Выждав, пока все, и воспитательница тоже, уснут, она поднимала свой отряд, ползая под кроватями. Они одевались и крадучись выскальзывали на улицу. Перебежав дорогу, с затаенным страхом входили в церковь, где было столько непонятного, таинственного, а значит – интересного. Во все глаза они разглядывали чьи-то лица и фигуры в ярких красивых одеждах. Ими были расписаны стены и даже потолок. Горело множество свечей, и запах был приятный, и блики трепетали по стенам, оживляя картины. Иногда Ксеня испуганно вздрагивала, повстречавшись взглядом с чьими-то огромными, темными, будто живыми глазами. Сердце в ней от испуга сжималось в комочек и колотилось так сильно, что и платьишко на груди шевелилось. Иногда кто-то пел в глубине помещения. Голос гудел мощно и басовито, поднимаясь к потолку и эхом разносясь по углам. Слова были непонятные, но слушать было приятно. Раз Ксеня даже всхлипнула почему-то и украдкой вытерла глаза. Она заметила, что некоторые люди, в большинстве старушки, не скрываясь, плакали, кланялись и водили рукой ото лба к груди, от плеча к плечу: крестились.
Но вылазки их внезапно кончились из-за непомерного любопытства Ксени. Для нее оказался самым притягательным в церкви стоявший в одном из углов стеклянный ящик на высоких ножках, почти до полу прикрытый белым атласным покрывалом. Люди по одному подходили, откидывали ткань, наклонялись и что-то шептали. Ксеня просто умирала от любопытства: а что же там лежит? Или – кто? Краем уха она услышала, как кто-то из взрослых сказал: Дева Мария непорочная. Последнего слова она не знала, но кто такая дева, знала из сказок. Конечно, ей еще сильнее захотелось заглянуть под покрывало. Бочком-бочком она подобралась к ящику, потянула ткань и, когда открылась стеклянная поверхность, поднялась на цыпочки и прижалась носом к боковой стенке. Увидела тонкий профиль, темную бровь и мохнатую ресницу на гладкой, желтоватой щеке. Лицо было неживое, как у куклы. Остальное было закутано белой тканью. Это разглядывание длилось несколько секунд. Покрывало соскользнуло на пол, и кто-то грубо схватил Ксеню за плечо. В самое ухо раздалось шипенье: «Ах ты, маленькая богохульница…» Ее потащили вон. Сердце Ксени рухнуло в пятки. Бледная, с дрожащими губами, и ноги почему-то подгибались в коленках, она очутилась на улице, на ярком солнечном свете. Больше в церковь ее не тянуло. Так, наверное, становились атеистами.
В детсаду она впервые влюбилась в мальчика Вову. Но у нее была соперница – Люда. Обе они были самые хорошенькие в группе, и Вова явно не знал, кого выбрать, с кем играть в песочнице, с кем сидеть за одним столом во время рисования или обеда. Ксеня была смелее и успевала опередить соперницу. Один раз она даже украдкой поцеловала Вову в щеку. Возможно, победа была бы за ней, если бы у нее на голове ни появились коросты. Врач, к которой обратилась мать, посоветовала остричь Ксеню наголо, а потом лечить. Лысая, она стала некрасивой. Пришла в детсад, повязанная по-старушечьи платком, и дети стали дразнить ее и громко смеяться. Вова смеялся громче всех, он ее сразу разлюбил.
Ксеня сильно страдала и даже плакала один раз. Вова лепил пряники из песка вместе с Людой, а Ксеня одна. Вова наступил на ее пряник, может, нечаянно, но она схватила в горсть песок и сыпанула ему в глаза. Мальчик заревел, и воспитательница наказала Ксюшу: поставила ее в угол. Она стояла и смотрела, как Вова с Людой вместе рисовали за столом. Ей было очень обидно. С потерей волос она потеряла свою первую любовь. Потеряла мальчика, который ей нравился. У него были ярко-голубые глаза, темные кудрявые волосы и крупные веснушки по всему лицу. Вова был такой красивый…
Через дорогу от дома, где они обитали, находился продуктовый магазин. В нем на витрине были только самые необходимые продукты: черный хлеб, маргарин, сахар, соль, серая мука и крупы. Ксеня обожала есть черный хлеб, намазанный маргарином и посыпанный сахаром. Если оба родителя попадали во вторую смену, до полуночи, то она, боясь оставаться одна, сидела на ступеньках, ведущих к закрытой на большой висячий замок двери магазина с бабкой-сторожихой и часто засыпала, положив голову к ней на колени. Ночью родители ее забирали.
Как-то в городке появились цыгане. Несколько человек в живописных одеждах устроили представление перед крыльцом магазина. Бурый медведь в жилетке ходил на задних лапах, пританцовывая. Юная девушка в широкой юбке в цветастой шали с бубном в руке тоже кружилась в танце. Ей аккомпанировал пожилой цыган в красной рубахе с гитарой в руках. Зрители бросали кто что, кто монетки, кто яблоки, кто конфеты, а кто и просто кусок хлеба. Маленький цыганенок шустро подбирал подношения с асфальта, складывая в холщовый мешок. Ксюша протянула чумазому мальчонке целый рубль, который долго копила на пупсика, так ей понравились цыгане.
Любила Ксеня ходить с родителями по воскресеньям на рынок, хотя они предпочитали не брать ее с собой. Привычка Ксени нудно клянчить мороженое раздражала их. А как было стерпеть, если мороженое казалось самым вкусным лакомством на свете! Чего только не было на длинных деревянных столах! В городке – сады и огороды, всякая живность. И все это в изобилии было на рынке. Ксенина мать продуктов покупала немного, но всегда долго выбирала и торговалась, чтобы взять подешевле.
Ксене иногда надоедало стоять возле матери в мясном или молочном ряду, и она шмыгала в тот уголок рынка, где продавали всякую всячину, начиная с котят, щенят и кончая бумажными цветами. Если Ксене удавалось выпросить у матери немного мелочи, она покупала светло-коричневую плиточку серы. Жевала ее, достав из кармашка, когда девчонки и мальчишки собирались по вечерам на бревнах возле дома, где они жили. Когда накапливалась во рту слюна, она лихо сплевывала ее через щелочку между передних зубов – фасонила. Играли в немудреные игры, чаще всего – в испорченный телефон. Ксеня проигрывать не любила и всегда норовила обманом выкрутиться. Некоторые девчонки в таких случаях плакали, а она злилась.
А вообще играть в сидячие степенные игры ей было скучно, ее больше привлекали проделки, связанные с риском. Не зря она лет с шести мечтала, что вдруг станет мальчиком. Ложилась спать с надеждой, что утром проснется и – она мальчик. И значит – можно драться – пусть кровь из носа – но не реветь, как девчонка, а встречать поражение достойно и мужественно, как подобает будущему мужчине. Лазить по заборам – это ли не стоящее занятие? А рискуя получить крапивой по голым рукам и ногам, забраться в чужой сад? Это ли не подвиг, не испытание храбрости? Насколько же, в ее понятии, интереснее быть мальчишкой! И хулиганить можно вволю, и полы мыть – кто же заставит? И косички каждое утро заплетать…Но яростное ее желание, естественно, сбыться не могло. А мальчишество, в постоянной жажде риска, где можно проявить храбрость и отвагу, осталось на всю жизнь. На чужие сады и огороды она все-таки совершала набеги, оставляя трусившую Майку на карауле. Рассуждения при этом были просты: «Я же все не сорвала. Вон у вас сколько!.. А у меня ничего нет»…
Отчаянной девчонкой я была, В чужих садах ранетки я рвала И в огородах шарила чужих… Все потому, что не было своих, А было только съемное жилье, И керосинка на морозе, ё-мое, И двор чужой, и сад, и огород. Протест мой детский кто-нибудь поймет. Здесь и далее стихи автораКсюша очень любила дождь и даже ливень. Она выбегала на улицу, прыгала на одной ножке и кричала: Дождик, дождик пуще, дам тебе гущи, хлеба каравай, кого хочешь, выбирай! А Майка кричала наоборот: Дождик, дождик, перестань! Я поеду на Ристань, богу молиться, царю поклониться. Ксеня бурчала: – Сама не знаешь, бестолковая, что кричишь. И бога твоего нет, и цари только в сказках бывают.
Было одно место в городке, куда неудержимо влекло Ксеню: городская свалка. Когда-то здесь был овраг – широкий и довольно глубокий, а потом стали свозить сюда ненужные вещи – и старую мебель, ставшую рухлядью, и новую, но нечаянно разбитую посуду. Попадались там и дохлые кошки, и обглоданные до блеска кости. Ксеня и ее сверстницы собирали цветные стеклышки и осколки разбитой посуды с рисунками, хвастались друг перед другом, менялись. Ксеня одна отваживалась сползать в овраг на самое дно. Остальные боялись. Зато она находила иногда редкие по цвету стеклышки и смотрела через них на солнце, на все вокруг. Красиво было, когда все становилось голубым или зеленым. Через красное стеклышко ей не нравилось смотреть, и она его выбросила.
Такие были развлечения у малышни. Еще они собирались стайкой и ходили на берег загорать и купаться. На воде возле самого берега плавали скрепленные друг с другом бревна, наверное, прибились, отстав от сплава по Енисею. Плавать из девчонок никто не умел. Они пытались научиться, держась одной рукой за бревно, другой гребли и били ногами. Но отпускать руки боялись. Как непонятно, но пришло Ксюше в голову сделать плавсредство. Она утащила из дома наволочку. Они пришли на берег. Она зашла в воду по пояс, никто ей не подсказывал, она сама догадалась, стала бить наволочку о воду, придерживая за концы, где находилась прорезь для подушки. И, о чудо! Надулся пузырь. Она быстро собрала концы в руки, связала их ленточкой из косички и, держась обеими руками за узел, поплыла! Вскоре она стала отпускать одну руку, изо всех сил бить ногами и продвигаться вперед. Одним словом, не раз окунулась с головой в воду, но плавать научилась. Девчонки завидовали, но трусили последовать ее примеру. Мама не порадовалась успехам дочки, а поставила ее в угол за мокрую испачканную в песке наволочку.
Мама Майки была портнихой и шила с утра до ночи, чтобы прокормить семью. Ей иногда помогала старшая дочь, но она училась и работала. Майке шить не нравилось. А Ксюша часто смотрела зачарованно, как работала Майкина мама, ее глаза горели от желания попробовать. В отсутствие матери дома она пришла к подружке и попросилась за машинку. Майка боялась, а вдруг что-нибудь сломается, но все же выбрала кусочек ткани из обрезков и дала Ксене. Та смело положила ткань под лапку и стала крутить ручку. Игла запрыгала так быстро, что «портниха» не успела убрать палец, придерживающий ткань, игла прошила его насквозь. Хлынула кровь. Майка бросилась к ручке и подняла иглу вверх. А Ксюша растерялась и даже не заревела. Было больно, но она терпела. Майка замотала ей палец кусочком ткани. Кровь продолжала идти.
Тогда «храбрая портняжка» убрала повязку, перелезла через забор и с криком: – Мама! Мама! Меня кролик за палец укусил! – бросилась в дом. Мать перепугалась, схватила йод, залила палец, замотала бинтом и стала ругать дочь: – Зачем ты полезла к кролику? А если он палец откусил бы? Ты соображаешь, что делаешь? Ведь они все равно дикие, хотя и домашние. Зубы у них поганые, жрут все подряд. Хоть бы заражения крови не было. Кроликов действительно держали Майкины соседи со второго этажа в клетках во дворе. Кормили их исключительно овощами. «Зря мама так говорит,» – подумала Ксеня. Слава богу, все обошлось без последствий. Шить Ксеня научилась в 12 лет в Норильске на маминой ножной швейной машинке.
Ксюша была самым обыкновенным ребенком, не верила в сказки, хотя читала их с шести лет, как научилась читать, не мечтала быть Золушкой, не хотела замуж за принца, может, потому, что она сама сочиняла страшные сказки с шести же лет. Ее ровесники, а также дети и помладше, и постарше собирались по вечерам на бревнах, и маленькая сказочница пользовалась большой популярностью. И потом, подрастая, она не переставала читать, это было ее любимым занятием. Тогда же литература заменила ей все и всех: родителей, подруг, впоследствии любимых. Книги ее воспитывали и развивали в ней ум и духовность. Она воображала себя на месте героинь книг. Реальность казалась ей скучной, детские игры ее не увлекали. Можно сказать, что она жила в выдуманном мире, что позже ей пригодилось в собственном творчестве. Фантазия била из нее ключом. Книг в доме не было, родителям было не до чтения. Она ходила в библиотеку и читала в читальном зале. Еще она любила рисовать. У них в комнате висела репродукция картины художника Васнецова «Аленушка». Она ее срисовала в шесть лет. А еще царевну Лебедь, иллюстрацию Врубеля в книжке сказок.
Ей исполнилось семь с половиной лет, когда она пошла в первый класс. Училась отлично по всем предметам. Почерк у нее выработался каллиграфический, ее с первого класса заставляли писать тексты в стенгазетах. Лишь за поведение ей ставили тройки и даже двойки. До чего трудно было усидеть целый урок, сложа руки! И скучно. Однажды за какую-то шалость ее даже посадили, перенеся парту, в угол возле доски – напротив класса. Сначала ей было смешно. Она корчила рожицы, воображая себя героиней. Потом почему-то стало обидно и жалко себя. И вообще в первом классе учиться ей было неуютно.
В октябрята ее приняли с грехом пополам после всех. Ей, правда, доверили прочитать стих: – Камень на камень, кирпич на кирпич, умер наш Ленин Владимир Ильич! Как-то весной в школе шел урок. Вдруг низко и страшно завыл гудок. Все дети почему-то вздрогнули, а потом буквально замерли и онемели от страха. Учительница Татьяна Александровна закрыла лицо руками и выбежала из класса. Дети зашевелились, когда она вернулась с красными от слез глазами. Наверное, у нее случилось горе. По пути домой Ксене попадались навстречу люди, некоторые плакали, некоторые крестились, но были и такие, которые радовались. Дома из разговора полушепотом матери с отцом Ксеня узнала, что умер Сталин, самый главный в СССР НАЧАЛЬНИК. Все взрослые вокруг только и спрашивали друг друга: – Что теперь будет? Как мы жить-то без него будем? Гудок еще некоторое время продолжал звучать у Ксени в ушах, но вскоре забылся.
Зимой Ксюша каталась возле дома с горки на «снегурках», прикрученных кожаными веревочками к валенкам. Тогда она написала первый свой стишок про Ленина: Когда был Вова маленький, коньки одел на валенки, скатился с горки вниз, его раздался визг. Надеясь на похвалу, громко рассказала родителям. Оба родителя замахали руками и закричали: – Не смей никому никогда больше рассказывать эту чушь про великого Ленина. Забудь! Ксюша ушла в сад, прислонилась к холодному дереву и заплакала горькими слезами от обиды на родителей.
Как-то она попала в гости к двум отличницам, сестрам-близнецам. Обе были чистенькие, аккуратненькие и симпатичные. Ксеня опрятностью не отличалась: воротничок и манжеты у нее не всегда были чистые. На столе, где сестры делали уроки, лежало большое толстое стекло, и стояла настольная лампа. Ксеня впервые в жизни почувствовала себя неловко, не зная, куда девать руки с не очень чистыми ногтями. Наконец засунула их в карманы фартука. Может, тогда она поняла, что у детей бывают разные родители. У отличниц они были состоятельными. Так сказала о них Ксенина мама.
Ксеня делала уроки на кухонном столе, и у нее не было лампы. У них не было своего дома, а была чужая квартира в полуподвале. И мама готовила еду на керосинке, которая и летом, и зимой стояла на улице. Зимы были не холодные, и мама была молодая и здоровая. Ксене тоже пришлось научиться разогревать обед на керосинке, она рано стала самостоятельной. Зимой комнату и кухню обогревала русская печь, занимавшая полкухни. Приготовленная на ней еда была очень вкусной, особенно Ксеня любила слизывать сливки с замороженного молока, которое разогревалось в алюминиевой чашке на печи. На керосинке же еда припахивала керосином. Иногда и зимой, когда не хватало дров, использовали опять же керосинку.
Изредка родители ходили в кино на последний сеанс и вынужденно брали с собой дочь. Она боялась оставаться дома одна. Отец, проходя мимо контролера с билетами, прятал ее под зимнее пальто. Она запомнила фильмы «Тарзан» и «Мост Ватерлоо». Когда героиня погибала, отец закрывал ей ладонью глаза.
В Минусинске они прожили около трех лет, и тихий, деревянный, изредка каменный городок с пыльными, сонными улицами незаметно сделался родным Ксене. Но кто бы стал ее спрашивать, хочет она или нет уехать отсюда навсегда. В один день родители собрались и сорвались с места. Долго плыли на пароходе по реке Енисей, долго и нудно, как показалось Ксене. Она устала глядеть на воду и качаться стоя, сидя и лёжа.
КРАСНОЯРСК, столица сибирского края
1955 год. Они остановились в большом городе, столице Сибири. Родители опять сняли тесную комнатенку с хозяйской мебелью в подвале на окраине города. Зато во дворе была большая клумба, огороженная кирпичами, и на ней росли красивые цветы. Они назывались так нежно: анютины глазки.
Ах, как любила Ксеня глазеть на них, заходя то с одной, то с другой стороны. Но цветы эти зорко стерегла злая бабка, которой они принадлежали. «Так всегда, – думала Ксеня, – у меня ничего, а у нее – анютины глазки». Может, тогда, любуясь цветами издали, впервые она поняла сердцем, а не умом, что не все справедливо в этом мире. Бабка запретила ей даже подходить к клумбе: а вдруг эта девчонка сорвет цветок. А девчонка всего-навсего благоговела перед красотой. Но бабкин запрет разозлил ее.
Поздним вечером она выскользнула из дому и, беспрестанно оглядываясь, тенью шмыгнула к клумбе. Сорвала один цветок, другой… Сунула их под майку. Ведь и дома она не могла открыто полюбоваться ими. Да так и уснула – с цветами на груди. Когда проснулась, первым делом вспомнила вчерашнее. Достала из-под майки цветы. Держала их на ладошке – увядшие, тусклые, мертвые… Так жалко стало смотреть на них. «Никогда больше не буду рвать цветы», – решила Ксеня.
…А потом бабка во дворе бегала вокруг клумбы и поносила всех грязными ругательствами. Она растила цветы на продажу. А мать больно дергала Ксеню за ухо – она не успела спрятать «анютины глазки» – и кричала: «Не тронь чужое, не тронь чужое!..» А Ксеня не понимала, почему цветы чужие. Ведь они такие красивые… Нельзя же людям запретить смотреть на небо, на деревья. Больше во дворе ничего интересного не было. И «чужие цветы» разонравились Ксене: она обходила клумбу стороной.
В Красноярске у отца было много родственников: две родные сестры и двоюродные сестры и братья. По выходным родители часто бывали у них в гостях. Почти все много пили, кроме тети Лизы в Коркино. Когда приезжали в Коркино, и дома была младшая дочь тети Лизы четырнадцатилетняя Рита, Ксеня мучила ее стихами, которых она знала огромное множество наизусть, особенно ей нравились сказки Пушкина. Она гордилась, что двоюродная сестренка восхищалась ее памятью. Но долго Ритка не выдерживала: – Ой, у меня уже все в голове перепуталось. Пойдем лучше на Енисей купаться! Но она редко оставалась с Риткой, родители, зная ее хулиганские выходки, держали ее под присмотром и возили с собой по родственникам. Ксене застолья взрослых не нравились, ей было скучно. Если везло, и ей удавалось найти книжку, она пряталась в укромное место и читала. Но книг почти ни у кого не было, все родственники были простыми деревенскими людьми, почти неграмотными, смыслом их жизни была работа, праздности они не знали. Тогда она начинала ныть: – Ну, поехали домой… Чем действовала родителям на нервы. Они бы не брали ее с собой, но дома оставлять одну опасались.
Как-то они гостили на острове у друга отца. Взрослые сидели за столом, выпивали и ели. Ксюша маялась от скуки. Она вышла во двор, на цепи сидела большая собака и смотрела на девочку. Она, долго не раздумывая, подошла к собаке и стала гладить ее по голове. В это время на крыльце появился хозяин дома. Увидев сцену, он окаменел от страха, попятился в дом, появился снова уже с отцом. Отец громким шепотом стал звать Ксеню: – Доча, доча, иди ко мне, только не делай резких движений, тихонько отойди от собаки… Ксеня опустила руку и стала пятиться к крыльцу. Хозяин налетел на нее, как коршун, схватил в охапку и прыгнул на крыльцо. Собака зашлась громким лаем и стала рваться с цепи. – Ну, слава Богу! Успел! Они вошли в дом. Как выяснилось, пес был волкодавом, охотился с хозяином на волков, был злой и неуправляемый, никого никогда не подпускал к себе, кроме хозяина. – Отчаянная у тебя дочка! Тарзан мог напасть на нее. Чудо, что он не сделал этого. Наверное, растерялся, – мужчина захохотал, и все заулыбались, радуясь, что не случилось страшное. Ксеня тоже непонимающе улыбалась: она любила собак и не ожидала от них ничего плохого.
Вокруг Красноярска была настоящая сибирская тайга. Обычно они выезжали туда семьями на машинах. Уму непостижимо, сколько там было ягод и грибов. Малина, смородина, брусника, костяника, земляника… У матери хватало терпения собирать ягоды, чтобы варить варенье на зиму. Взрослые шумели, перекликались, Ксене это не нравилось. Она любила тишину, уединение, пенье птиц, таинственные шорохи, писки каких-то мелких зверушек. Леса она не боялась и старалась побыстрее оторваться от компании. По соснам и елям прыгало множество пушистых белок. Ксеня обожала собирать грибы. Их было такое множество, что ей казалось: грибы сами лезут на глаза. Она срезала ножичком, как научил отец, гриб, а другой уже поглядывал на нее. Крупные белые грибы, цари грибного царства, боровики, подосиновики, подберезовики, маслята, лисички, рыжики. Почти все грибы стояли, гордо выпрямившись, лишь маслята зарывались под мох и нужно было еще поискать их маслянистые коричневые шляпки. Грибы потом жарили, солили, особенно Ксюша любила соленые маслята в сметане.
Как-то они набрели на кедр: высоченный, прямой и могучий, тоже царь среди сосновых деревьев. Взрослым удалось сбить несколько шишек. До чего вкусны оказались молочные ядрышки! Попадались и невысокие деревья с орехом фундуком, они висели пучками по три штуки на ветках. Щедра на дары сибирская тайга! Много чудес было в ее чащобах! Один раз Ксеня даже зайчишку увидела. Косой пролетел мимо нее, прижав от страха уши. А весной все пригорки перед лесом были усыпаны оранжевыми жарками, розовыми саранками и нежносиреневыми кукушкиными слезками. А ландыши? А незабудки? А колокольчики?
XXI век: Родины саранки1
Найдете мои бренные останки, Но не в квартире, – на цветущем луге. Цвести там будут родины саранки, И среди них прилягут мои руки. К земле прильнет устало мое тело Не для того, чтобы набраться силы. Оно с землей сравняться захотело, Войти в нее и раствориться в милой… Хочу лежать На безымянном луге… И пусть сквозь прах саранки розовеют. И там молчать о боли, о разлуке… Ведь там страданья смысла не имеют…Вдруг ближе к осени родители снова засобирались, складывая вещи в два чемодана и большой фанерный ящик. В этот раз Ксеня обрадовано засуетилась и тоже засобиралась, сама не зная, куда, аккуратно и заботливо укладывая свою любимую куклу и ее одежки в картонную коробку. Она даже не заплакала, когда отец выбросил на помойку старого плюшевого мишку с оторванным ухом и без левого глаза-пуговки, так ей хотелось никогда больше не видеть этот двор, эту злую бабку и «чужие анютины глазки». Хотя ей так нравилось, засыпая, поглаживать мягкий плюшевый бок…
НОРИЛЬСК, город вечной мерзлоты, зеков и вольнонаемных
Ты не плачь, не грусти, Как царевна Несмеяна. Это милое детство прощается с тобой… (пела Майя Кристалинская)1955-63 годы. На Крайний Север родители Ксени приехали, когда ей было восемь лет. Они, не скрывая, говорили родственникам и знакомым, что отправились сюда за длинным рублем. Между собой мечтали, когда окончится срок вербовки, зажить, как люди, и чтобы в доме было все. И вот на долгие годы – город вечной мерзлоты и таких морозов, что кипяток, выплеснутый из ведра, едва не на лету превращался в лед. На долгие годы – снег и электрический свет. Свет – дома, с раннего утра и до позднего вечера, пока не укладывались спать, и на улице – желтые пятна фонарей на высоких деревянных столбах. И снег – сияющий так, что глазам больно.
Но снег сиял недолго. Вскоре он становился серым, а потом вообще черным. Металлургический и медный заводы отравляли воздух выхлопами производств. Загазованность в Норильске была выше нормы во много раз. Не зря жителям платили «северные». Было, конечно, и лето, и солнце, – правда, без привычных глазу лучей. Оно походило на апельсин, и летом висело в небе бесконечно, не светя и не грея. Холодному северу нужно холодное солнце. Апельсины она тогда ела часто, их продавали зимой, когда солнца не было, и от них пахло каким-то другим миром, к которому Ксеню неизвестно почему тянуло. А зимой – снег и свет.
Выходя ранним утром из дому в школу, она невольно зажмуривалась. Белый-белый и пушистый снег золотился под фонарями и голубел в тени. Жалко было на него ступать, хотелось присесть и погладить рукой. Ксеня так и сделала однажды: присела и сняла рукавичку. Руку как ожгло. Морозто стоял нешуточный, за сорок градусов. Она торопливо натянула рукавичку и заспешила в школу.
Вообще снег на Севере был особенный: не мягкий и пушистый, а жесткий и колючий, он гулко и весело хрустел под ногами, обутыми в валенки. Частенько Ксеня шла в школу, когда по радио объявлялась «актировка» – из-за сильного мороза или пурги отменялись занятия. Но кого-кого, а ее так и тянуло в школу именно в эти, «актированные», дни. Она даже умудрялась сама просыпаться, тогда, как обычно мать не могла ее добудиться. Почему ей хотелось пойти именно тогда, когда этого можно было не делать, – она и сама не знала. Скорее всего – просто наперекор матери или в угоду собственной строптивости.
– Ну, что ты вскочила? «Актировку» же объявили, нельзя нарушать запреты руководства города. Они лучше знают, что можно и что нельзя, – недовольно ворчала мать.
– А я пойду, – упрямилась в ответ Ксеня.
ХХI век: Север
Пурга мела и заметала Город мой милый Норильск. Шарф на лице, как забрало: Осколки снежинок неслись. И даже глаза задевали, Кололи и, жмурясь от них, Я против пурги восставала В годах малолетних своих. Закрывшись шарфом, как забралом: Слезились от ветра глаза. Душа от борьбы ликовала И презирала «нельзя!»Ее давно раздражала мелочная опека матери. Как и многие дети, она считала себя достаточно взрослой, а значит – самостоятельной в поступках. В пальто на вате и лыжных штанах с начесом, в трех парах рукавиц, и шея укутана толстым шерстяным шарфом, в котиковой шапке с ушами, завязанными на подбородке, она мчалась все триста метров до школы, не переводя дыхания. И все равно на середине пути щеки и вздернутый нос начинали полыхать огнем. Потом нос немел и как будто вообще исчезал. Мерзли руки, особенно большие пальцы. Ксеня, вытащив их из отдельных норок, соединяла с остальными и отогревала, сжав в кулаки.
Не раз наблюдала Ксеня северное сияние. Небо озарялось волнистыми широкими полосами разноцветного света, причем полосы двигались, как живые, перетекая одна в другую и создавая невообразимой красоты небесное полыханье. Становилось даже немножко страшно, глаза щипало, а в груди возникало сладкое чувство невыразимого восторга, даже благоговения, но Ксеня не знала этого слова, перед чудом природы.
XXI век:
«Здесь зима, как будто бы гора, белая, покрытая снегами. И ледовым светом тишина вся окутана небесными холмами. Черная пурга, как королева, властвует, кружася, над землей. То сиянье затмевает небо северной пленительной красой! Ночь усыпана волшебными огнями, серебром покрыта вся земля. Это милый Север, Заполярье и твоя любимая страна! (посвящение маме, героине романа, от дочери Майи)Не зная Севера, дочь моя романтическивозвышенно окрасила суровый город, обнежила его, обтеплила, и превратила зону в сказку, которая была страшная, а стала красивой.
О своей внешности Ксеня еще не задумывалась, но удивлялась, если ее называли хорошенькой. А чего хорошего-то! Взгляд под припухшими веками злющий, упрямый, нос кнопкой и торчит кверху, рот толстогубый, и нижняя губа выпячена. Фу! Кто-то из мальчишек однажды назвал Ксеню «губошлепом». С того раза она постоянно поджимала губы – это стало привычкой – лишь бы противное прозвище не пристало к ней. Вообще Ксене казалось, что она похожа на какого-то зверька, особенно, когда злилась. Тогда она показывала язык в спину взрослым. А злилась она часто и язык показывала тоже. Была у нее еще гадкая привычка сутулиться. Отец иногда брал за плечи и выпрямлял их, сводя вместе лопатки. У Ксени чуть слезы из глаз не брызгали: было больно.
– Вырастешь горбатой – никто любить не будет, – почему-то раздраженно говорил он.
– И не надо! И я никого не буду любить! – отвечала она и резко вырывалась из отцовских рук.
Приехав в Норильск, они сначала жили в поселке Индустриальный, в балке. Так назывался щитовой сборный домик с печным отоплением на два хозяина. Питание было скверное, мясо свиное, его Ксеня не ела, один раз попробовала: на вкус, как дерево, яйца мороженые, овощи сушеные. Их девочка вылавливала из супа и тайком выкидывала. Молоко, которое Ксеня помнила по вкусу минусинское, было восстановленное из порошка. Если сильно хотелось, она пила его, зажав нос. Лишь сливочное масло и хлеб можно было есть, что она и делала, поедая бутерброды, и становилась крепкой, как гриб-боровичок.
От поселка до города было с километр. Ксеня вместе с другими поселковыми девчонками и мальчишками ходила в город в школу. Там же находились магазины, почта, баня, разные учреждения, а также Дом культуры инженерно-технических работников. Он назывался сокращенно ДИТР, в нем работала бухгалтером мать Ксени. Все фильмы, привозимые с материка, сначала демонстрировались в ДИТРе, а потом уже в городском кинотеатре «Родина». В 8 лет Ксюша посмотрела первый советский детектив «Убийство на улице Данте» с Михаилом Козаковым в главной роли. Она даже фото стащила со стенда и хранила в альбоме. На сцене выступали артисты из Москвы и Ленинграда с опереттами Дунаевского «Вольный ветер» и др., а также операми Верди «Травиата», «Риголетто», Кальмана «Сильва». Почти все Ксеня смотрела из ложи второго этажа. Днем работали разные кружки для детей инженерно-технических работников.
Ксеня, по желанию родителей, ходила в балетный кружок. А какая из нее балерина? Почти все девочки в группе были худыми, с ногамипалочками, а одна так вообще светилась, как прозрачная. А плотненькой Ксюше приходилось тяжеленько, туго, как она жаловалась своей соседке по балку Зинке. Но зато родителям нравилось, они даже хвастались – «как маленькие», – думала Ксеня, – перед знакомыми. Три года, будто повинность отбывала, занималась она с грехом пополам балетом. Балерины из нее не вышло. Не вышло также гимнастки, пловчихи, художницы. Она постоянно записывалась в кружки, но через два-три занятия посещать переставала. Ей хотелось сразу, а везде требовался труд и терпение. Трудиться она не любила. Другое дело – книжки читать. Чтение ей никогда не надоедало.
Зимой балки по самые крыши заваливало снегом – особенно после сильной пурги, когда мело день и ночь напролет. Пока мать утром готовила завтрак, отец откапывался: расчищал дорожку, чтобы выйти на свет Божий, как говорила мать, отбрасывал по сторонам снег широкой деревянной лопатой. А дорога в школу? Они не шли, а почти бежали, собираясь в стайки по нескольку человек. Фонарями освещалась только дорога, по бокам ее было темно, и балки, занесенные снегом, возвышались, как огромные сугробы. Фонари, висящие на высоких столбах, и те заметало снегом по самый верх. Ходить было жутковато, особенно когда они пробегали рысью, не глядя по сторонам, мимо зоны.
В классе Ксеня чувствовала себя неуютно, правда, причина была другая – не как в Минусинске. Там были дети как дети, а здесь какие-то странные: вялые, послушные, как напуганные, вели себя примерно, на уроках не разговаривали, не бесились. Ксеня однажды громко прыснула, так на нее все, как один, оглянулись впереди сидящие. И так серьезно, укоряюще смотрели, что ей стало не по себе и расхотелось обращать на свою персону всеобщее внимание. Оказалось, что родители этих детей были «политическими» заключенными и после отсидки оставались на поселении без права выезда из Норильска. Нельзя сказать, что в школу она ходила слишком неохотно. Она нашла себе приятное занятие, вполне заменявшее обычные проделки. Ей нравилось смотреть на одного мальчика с кукольно-красивым лицом. Фамилия у него тоже была красивая и необычная – Ходас. О необычности фамилии Ксеня долго думала, пока не решила, что мальчик нерусский. Этим любопытство ее и ограничилось. Тем более, было нечто в ее жизни более любопытное, чем фамилия одноклассника.
Это – зона, обнесенная в несколько рядов колючей проволокой, – через дорогу от их балка. Там жили заключенные. Взрослые называли их зэками. День и ночь из прожекторов на вышках хлестал ослепительно-яркий свет, тускневший лишь в пургу. День и ночь дежурили на вышках солдаты с карабинами, укутанные в длинные тулупы с поднятыми воротниками, скрывавшими лица. Если вдруг кто-то из заключенных появлялся недалеко от проволоки, на ближайшей вышке раздавался оглушительный в морозном воздухе звук – клацал затвор – и хриплый, но грозный окрик часового: «Куда, зар-р-раза?! Наз-з-зад!» Заключенные реагировали по-разному. Одни на окрик вздрагивали, вжимали голову в плечи, круто разворачивались и мгновенно исчезали, как растворялись в воздухе. Другие – секунду-две стояли неподвижно, медленно поворачивались и медленно брели в сторону черневших в глубине зоны бараков.
Ксеня могла часами наблюдать за зоной из окна. Родители целыми днями зарабатывали длинные рубли, она, отучившись полдня, была предоставлена сама себе. А там – через дорогу – существовало что-то непонятное ее разуму, как когда-то церковь, а значит – интересное. Тем более в доме она чувствовала себя в безопасности, а вообще в нее и в других девчонок зона вселяла страх, особенно когда они проходили мимо по пути в школу. Взрослые не раз говорили, что там сидят воры, убийцы и еще какие-то политические. Слово «политические» обычно произносилось шепотом, и взгляд говорившего бегал по сторонам, и чувствовалось, как ему хотелось оглянуться. И потому, наверное, политические вызывали больший страх. Но одновременно – и большее любопытство. У Ксени с детства так было: чем страшнее сказка, тем интереснее было читать.
И девчонки – на безопасном расстоянии, конечно, – во все глаза смотрели на людей, бродивших за проволокой. Они пытались распознать, кто из них воры и убийцы, а кто политические. Но люди на вид были самые обыкновенные и какие-то одинаковые. Может, из-за одежды? Одеты все были в темно-серые бушлаты, в ватные, стеганые, тоже серого цвета штаны и потертые шапки-ушанки. Редко у кого уши шапки были задраны вверх и торчали, как волчьи. Постепенно страх и любопытство сменились жалостью. Тем более никаких враждебных действий со стороны заключенных не проявлялось. И девчонки бочком-бочком стали подходить ближе. Ксеня не помнила, как это началось: то ли кто-то из заключенных попросил, то ли кто-то из девчонок первой догадался, что там, за проволокой, хотят есть – но теперь они приходили не с пустыми руками. Чаще всего они перебрасывали за проволоку хлеб, иногда вареный картофель или вареные мороженые яйца. Один раз Ксеня бросила даже пачку «Беломора».
Ей не повезло. Обычно отец покупал несколько десятков пачек и складывал их на гардероб. Эта злополучная пачка лежала на самом краю, и Ксеня даже табурет не поставила, чтобы достать ее. Тогда она увидела бы, что пачка одна, и не стала бы ее трогать. А тут она поднялась на цыпочки и зацепила папиросы поварешкой. Пачка упала. Вечером, вернувшись с работы, отец привычно поднял руку, пошарил по гардеробу…
– Фу ты, черт! Куда она закатилась? – он поставил табурет, встал на него – тот жалобно скрипнул от тяжести – рассмотрел пыльную поверхность, где лежали разные слесарные инструменты.
Ксеня как раз готовила уроки, искоса наблюдая за его действиями.
– Нету. Странно! Я хорошо помню, что оставалась одна пачка. Павлина! – позвал он мать и, еще раз недоверчиво глянув наверх, грузно спрыгнул на пол.
Мать сказала, что не брала, что ей вообще нет дела до его папирос. Отец озадаченно хмыкнул и повернулся в сторону Ксени. Она напряглась спиной, ощутив его взгляд.
– Значит, ты взяла. Больше некому. Ну-ка, повернись! – его тон не предвещал ничего хорошего.
Ксеня повернулась вместе с табуретом.
– Ну-ка, встань! Посмотри мне в глаза. Куда ты девала папиросы? – его глаза, обычно голубые, приобрели стальной оттенок.
Ни жива ни мертва Ксеня дерзко вскинула нос.
– Вот еще! Я не брала.
Но отец уже начал расстегивать тяжелый ремень на брюках: он не верил дочери. И у него были к тому основания. Слишком много запретов существовало для Ксени, особенно по части знакомств, которые она заводила, как выражался отец, с кем попало. Родителям нравились тихони, а Ксене наоборот – неслухи и сорванцы. Она терпеть не могла маменькиных сынков и дочек, с ними было скучно. Запреты ограничивали ее самостоятельность. А Ксеня с первого класса в Минусинске, приходя из школы домой, самостоятельно обедала, подогревая на керосинке остатки ужина, покупала хлеб и выполняла другие мелкие материны поручения.
В Норильске тоже. А вот самостоятельно выбирать себе подруг она не имела права. С ее мнением и желаниями родители не считались. Это вызывало протест: она скрывала от родителей, с кем дружит. Ей приходилось лгать. Отец нередко ловил ее на лжи и наказывал ремнем. Иногда перебарщивал: не верил, когда Ксеня говорила правду. Несправедливое наказание переносить было обиднее и – больнее.
В тот раз возмездие было справедливым. Хотя – как посмотреть. По отношению к заключенному она совершила добрый поступок. И Ксеня в смутной надежде на снисхождение завопила:
– Папочка, я больше не буду! Но не тут-то было. – Я тебя спрашиваю, куда ты девала пачку? – отец уже вытащил ремень из брюк и держал его наготове в руке.
Ксеня выдавила слезинку, другую и, притворно всхлипнув, жалобным голосом солгала.
– Какой-то дяденька постучал и попросил.
Отец раскричался.
– Как ты посмела открыть дверь! А если это был вор? В другой раз придет и все унесет? Нет, ты погляди, мать! Она открыла дверь. Самостоятельная какая, соплюха… Ей сто раз говорено: никому не открывай! Никогда! Здесь же одни воры кругом – так и зыркают, где что плохо лежит…
Он кричал и, зажав Ксенину голову между колен, с оттяжкой хлестал ее ремнем. Она билась, пытаясь вырваться. Но разве вырвешься из сильных отцовских рук? Мать стояла на пороге, не вмешиваясь. Отец категорически запретил ей, как он выразился, встревать, когда он занимался воспитанием дочери. У матери прыгали губы, в глазах плавала жалость… Наконец, заткнув уши, – Ксеня громко орала от боли – мать вышла из комнаты.
Эта порка оказала странное воздействие на Ксеню. Ее жалость к заключенным усилилась. Тем более, что постепенно между девчонками и заключенными завязались отношения, похожие на дружбу. В ответ на подаяние на снег частенько летели ловко сплетенные зеками из цветной проволоки корзиночки. Одна досталась Ксене и сохранилась у нее, несмотря на переезды из одного города в другой, на долгие годы. Эта вещица не представляла ценности, хотя по-своему была оригинальна и даже уникальна – Ксеня никогда ни у кого не видела таких. Но дело было не в этом. Просто она о многом напоминала. Если бы Ксеню спросили, о чем именно, она затруднилась бы ответить. Конечно, корзиночка напоминала ей детство, Норильск, но еще что-то, очень важное.
Может, она напоминала ей о доброте, о бескорыстной, ничего не требующей взамен доброте, которую человек дарит другому человеку, и ему приятно и радостно делать это? Впоследствии ей не часто приходилось быть доброй к окружающим. Поэтому, когда Ксене попадалась на глаза эта корзиночка, она испытывала сожаление о чем-то навсегда утраченном. Однажды произошло событие, также запомнившееся Ксене. Через многие годы, вспоминая, она еле сдерживала слезы. Событие тоже было связано с зоной. У самой проволоки стоял невысокий, щуплый и на вид больной человек, заросший серой, клочками, щетиной. Солдат на вышке почему-то промолчал и даже отвернулся в сторону, будто не видя вольности заключенного.
Ксеня, не отводя взгляда от изможденного лица, – лишь глаза синели льдинками в темных подглазьях – увязая по колено в снегу, подошла близко-близко и протянула на ладони – через проволоку – еще теплые домашние оладушки. Человек осторожно, словно боясь ненароком задеть ее руку своей, взял их и, завернув в какуюто серую тряпицу, спрятал за пазуху, неожиданно нагнулся и поцеловал Ксеню в ладошку, в самую середину, прошептал сипло: «Спасибо, человечек…». И, ссутулившись, пошел прочь.
Она посмотрела на ладошку, будто ожидая увидеть там что-то. Но ничего не увидела. Проводив взглядом уходившего человека, повернулась и медленно побрела через дорогу – домой. Ей было до слез жалко его. Так жалко было соседскую собаку Жульку, которой санями отдавило лапу. Она глядела на Ксеню, тихонько поскуливая, будто прося помощи, глазами, полными слез, – так показалось. Точь-в-точь, как этот мужчина у проволоки. Этот-то поцелуй и вспоминался Ксене. Ни до ни после так ее никто не благодарил. Что же еще было в этой своеобразной благодарности? Тогда у Ксени, она хорошо помнила, что-то в груди встрепенулось, ворохнулось туда-сюда, как живое существо, и сжалось щемяще. В глазах стало тепло.
В балке их семья прожила неполный год, второй класс она не доучилась, в пионеры ее не приняли из-за плохого поведения, пионеркой она стала в третьем классе, ее принимали персонально. Школа была другая, в которой она впоследствии закончила девятый класс. Она находилась недалеко от дома, где отцу дали обещанную при вербовке комнату в трехкомнатной квартире на третьем этаже кирпичного дома с общей кухней, ванной и санузлом. Две комнаты занимали бывшие зеки, муж с женой, матерью мужа бабушкой Николаевной и дочкой, младше Ксени. Муж отсидел за убийство, жена – за растрату. Люди они были неплохие, хотя и пьющие, причем часто. Даже Николаевна опрокидывала порой рюмочку ликера, щеки ее становились красными, и она со слезами вспоминала родную деревню, из которой навсегда ее забрал сын.
Мать Ксени вообще не пила, отец иногда приходил с работы «под градусом», спиртного дома не бывало, покупали, когда приходили гости: семейная пара. Все праздники, в том числе и Новый год, родители проводили в ДИТРе коллективом. Как-то соседи решили подшутить над матерью и поднесли ей стакан браги, заговаривая зубы, что это, дескать, просто сладкая наливка без спирта. Мать, не разбиравшаяся в алкоголе, (отца не было дома), повелась на уговоры и выпила одним махом стакан крепкой браги. Пришлось вызывать «скорую». Больше соседи не приставали. А вообще жили две семьи мирно, но не дружили, общались только по-соседски.
У них был телевизор, и они звали родителей смотреть, но отец с матерью не ходили и дочь тоже. Ксеня очень любила пирожки с сушеной клубникой, которые пекла Николаевна, ее все так звали, по отчеству, потому что имя у нее было Хавронья, что означало по-украински свинья. Бабушка была добрая, всегда угощала Ксеню, но хранила пирожки в мешке в кладовке в общем коридоре. Ксеня, уходя к Зойке, тайком запускала руку в мешок, много не брала, чтобы не разоблачили, три-пять пирожков, не больше. Если честно, ей нравилась только бабушка, но не дядя Леня с тетей Леной. Хотя плохого они ей ничего не делали. Но ей почемуто иногда хотелось сделать им назло. Она частенько устраивалась в туалете с книгой. Ксеня, как всегда, много читала, и с годами ее чтение становилось разнообразнее – в ущерб урокам, и поэтому мать преследовала ее за «посторонние», как она выражалась, книги. Ксеня стала прятать их: то среди учебников, делая вид, что корпит над уроками, то под платье, отправляясь в туалет. Это вошло в привычку.
Читая, она забывала обо всем. За дверью собиралась очередь: соседей все же было четверо. Иногда раздавался деликатный стук: ее пытались вернуть в действительность. «Ну, еще страничку, последнюю!» – будто уговаривая кого-то, думала Ксеня. Наконец вмешивался отец. Он стучал увесистым кулаком в дверь и громко требовал:
– Ну-ка, выходи!
Она выходила, придерживая спрятанную под платьем книгу, и делала при этом страдальческую мину – «живот болит».
Как-то Ксеня застала отца за странным занятием. Он аккуратно вырезал из газеты «Правда» чьи-то портреты. – Пап, а кто это? Почему ты их вырезаешь? – с любопытством спросила она. – Это портреты руководителей нашего государства. Их надо уважать и нельзя ими подтирать… Поняла? – сурово ответил отец. В сортире был вбит гвоздь, а на нем висела нарезанная на квадраты газетная бумага. «Какая разница, ведь никто не видит,» – подумала дочь, но ничего не сказала. Ей почему-то стало смешно.
Небольшую комнату родители постарались обставить, как они говорили, не хуже, чем у людей. Когда Ксеня поинтересовалась, у каких людей, мать ответила строго и значительно: у приличных. Слева от двери расположился вместительный гардероб. В нем мать аккуратно развесила свои наряды и выходной шевиотовый костюм отца. Ксенин выходной костюм висел там же, на самодельных плечиках: юбка-плиссе и жакетка в талию. Справа от двери стояла широкая кровать с панцирной сеткой и никелированными спинками, на ней – пышно взбитая пуховая перина, которую мать каждое утро молотила кулаками, три китайских верблюжьих одеяла и три пуховые подушки, покрытые кисеей.
Мать так старательно и любовно сооружала постель по утрам, что Ксеню почему-то тянуло разрушить это сооружение. Что она и делала, когда родителей не было дома. Вдоволь набесившись в пуховой благодати, она пыталась вернуть постели прежний вид. Но, наверное, ей не хватало старательности и любви, поэтому застеленная ею постель выглядела жалко. Бдительное око матери, конечно, обнаруживало непорядок, и Ксеня наказывалась лишением свободы на воскресный день.
Сама Ксеня много лет спала на раскладном диване и молча злилась утром – убирая, а вечером – доставая из углубления внизу простыню, подушку и одеяло. Зато, ложась спать, она долго поглаживала висящий на стене немецкий бархатный ковер, на нем была изображена красивая молодая женщина в старинном наряде на лошади, а перед ней – в низком поклоне – молодой мужчина со шляпой в руке. Приятное тепло бархата действовало на нее успокаивающе и усыпляюще, как когда-то плюшевый бок старенького мишки.
Еще в комнате стоял круглый стол, покрытый скатертью из зеленого бархата – за ним Ксеня делала уроки. В левом углу – громоздкий проигрыватель на ножках и подольская швейная машинка в тумбочке, в правом – невысокий самодельный столик с трельяжем. Прямо перед зеркалом – в ряд – выстроились семь мраморных розовых слоников. Из-за зеркального отражения их казалось вдвое больше. Ксенины родители искренне верили, что эти безделушки приносят в дом счастье, а значит – и достаток. В их понятии, одно было неотделимо от другого. Тут же качал головой китайский болванчик. Обстановка и все перечисленное в комнате, особенно почему-то слоники, считалось мещанством, буржуазной отрыжкой и осуждалось обществом. В почете была опрятная бедность, как у Зойки.
Предки родителей были из крестьянства. Наверное, в детстве в их деревнях были помещики или зажиточные крестьяне, будущие кулаки. Будучи бедным мальчонкой, отец наверняка завидовал более богатым сверстникам и мечтал когда-нибудь зажить, как они. То же самое мать. И вот в Норильске появилась реальная возможность осуществить детские мечты. Мало-мальски проучившись в вечерней школе, отец поднялся до рабочего класса. У него оказались способности в ремонте механизмов, и он приобрел профессию механика. Мать с ранней юности разбиралась в цифрах, сальдобульдо и стала бухгалтером. Они поднялись немного выше простых обывателей, и запросы их соответственно устремились к зажиточной жизни.
Тем более, в 60-е годы уже не велась так яростно борьба голытьбы с мещанством. В Норильске, где проживали бывшие зеки, ссыльные и вольнонаемные, классового общества как бы не существовало. Бархатные портьеры, бархатная скатерть, пуховые китайские птички на тюлевой занавеске единственного окна считались символом достатка, которого родители добивались и в Норильске добились.
Буржуазия была уничтожена как класс октябрьской революцией, но дворяне и помещики были просвещенными образованными культурными людьми, окончившими заграничные институты, знали иностранные языки, писали и говорили грамотно. А народившаяся советская буржуазия, поднявшись с низов, из грязи в князи, не обладала ни культурой, ни образованием, не говоря о таком понятии как образованность, которая копилась веками и поколениями, поэтому вещизм заменял им духовность. Одевались родители добротно, в дорогие ткани, по моде, и этим тоже приближались к советской буржуазии.
Отец оказался мудрым от сохи, к его мнению прислушивались, среди его знакомых были, в основном, начальники. Даже социальным статусом повыше. Но природный ум спасал его от спеси и высокомерия по отношению к простым людям, как, например, соседям. Поэтому он пользовался заслуженным уважением со стороны всех, с кем общался по работе или по жизни. Воспитания и культуры поведения родителям, конечно, не хватало, но они как-то приноровились и не выделялись дурными манерами. Да и остальные окружающие их люди были в общем-то такими же, как они, людьми новой формации: советские.
Было в комнате три стула, по количеству членов семьи. Правда, четвертый все равно некуда было бы поставить. Возле дивана примостился большой фанерный ящик, тоже покрытый куском зеленого бархата. В нем лежали разные заманчивые для Ксени вещи: отрезы тканей, пачки фотографий, перевязанные ленточкой, какие-то бумаги. Она любила в нем шариться, а потом аккуратно раскладывала вещи по местам. Во всяком случае, старалась. Как-то она не преодолела искушения и отрезала две широкие полосы от нежно-сиреневого капрона на банты, которые она носила только в школе, а дома прятала их в укромном месте. Мать вскоре достала отрез, чтобы отдать портнихе, и обнаружила пропажу. Она потчевала дочь ремнем и повторяла:
– Не воруй в доме! Не воруй в доме!..
Как будто вне дома воровать было можно.
Одевали Ксеню скромно. Родители строго придерживались невесть откуда взятого принципа: «Не баловать ребенка, чтобы, став взрослее, не сел на шею». Но и у самой Ксени вещи не вызывали особого вожделения. Зато куклам она шила собственноручно роскошные наряды из отрезков шифона, панбархата, парчи, креп-жоржета, крепдешина, атласа, вуали, шелка и только появившегося капрона, которые она клянчила в ателье, недалеко от дома.
Правда, перед шестнадцатилетием мать заказала ей в этом ателье платье из синего креп-жоржета, а отец повел ее в обувной магазин, где Ксеня впервые выбрала самостоятельно светлые туфли на невысоком, но все же каблуке. Отец покосился неодобрительно, но оплатил покупку в кассу.
С питанием на новой квартире стало лучше. Отец устроился механиком в аэропорт, там давали пайки, как когда-то в Якутске, в основном, тушенку, сгущенку, болгарские конфитюры, которые Ксеня обожала. Со временем появилась свежая картошка, лук репчатый, по праздникам мороженые сливы, свежие яблоки, мандарины и апельсины. Как-то отец принес целую коробку шоколада «Гвардейский», он был покрыт белым налетом, вероятно, просрочен. Отец отмыл налет под краном и съел полплитки. Ничего не случилось. Ксене хватило шоколада надолго.
А тушенка стала ее единственным «мясным» блюдом» на все годы жизни на Севере. А еще мороженые яйца. Потом появился яичный порошок. Такая гадость. Мороженые яйца были настоящими. Часто в доме появлялась рыба: осетрина, стерлядь, таймень, вкуса которой Ксеня не понимала и потому не ела, о чем впоследствии жалела. Отец делал строганину. Зимой в форточке на кухне был «холодильник». Он замораживал в нем на 40-градусном морозе мясо или рыбу и ел в сыром виде с горчицей. Она однажды тоже попробовала, но больше есть не стала, не для девчонки такая еда.
Школьные воспоминания сохранились урывками. В конце второго и в третьем классе она осваивалась в новой школе, в новом классе. Училась она хорошо, до 5 класса была отличницей, даже хулиганила меньше, потому что очень полюбила новую учительницу. Ее звали Валентина Потаповна. Учительница тоже выделяла смышленую девочку из всего класса. В 5-м классе появились разные учителя. Любимыми предметами Ксени были русский язык и литература. Она лучше всех читала по ролям, лучше всех читала наизусть монологи из пьес и стихи, лучше всех писала сочинения. Изложения не терпела. Лишь однажды получила тройку за стих пролетарского писателя Горького: «Высоко в горы вполз уж и лег там…» Возможно, она почувствовала фальшь автора, и стих не вызвал в ней вдохновения. Валентина Потаповна не забыла свою любимую ученицу, когда та перешла в шестой класс, и доверяла ей проверять тетради своих учеников, что Ксеня с гордостью делала.
В пятом классе произошло ЧП. Девчонки бесились на перемене в классе, и Ксеня нечаянно толкнула одноклассницу Любку Шишкину. Та ударилась об косяк и сломала нос. Такой поднялся хай! Девочку увезли на «скорой» в больницу. Ее отец, к счастью, был главным хирургом города после отсидки. Он так заштопал дочке нос, что через месяц он стал, как новенький, остался лишь маленький шрамик.
Случилось так, что вскоре после инцидента с Любкой Ксеня попала в больницу с аппендицитом, причем приступ, уже третий, произошел ночью. «Скорая» повезла ее в больницу, где сразу же отвезли на каталке на операционный стол. Поставили укол, чтобы уснула. Над операционным столом почему-то висел стеклянный шар из мелких зеркал. В нем Ксеня видела свой живот. Тут же появился хирург. Им оказался отец Любки. Ксеня один раз видела его и запомнила. Ей отчего-то стало страшно: вдруг он отомстит за дочь. Ей сделали укол в живот. Она почувствовала, как это место немеет. Ее тянуло в сон, но она изо всех сил таращилась в шар. Сверкнул скальпель, и вдруг по животу расползлась кровь. «Все, зарезал…» – была последняя мысль, и она резко уснула.
Из-за своего дурацкого геройства она стала вставать с кровати раньше времени. Ей это аукнулось после выписки. Через несколько дней шов разошелся внизу, где хирург разрезал по-живому, так как не успела подействовать анестезия. Всетаки отомстил. Она стала ходить на перевязку в амбулаторию. Хирургом была женщина. Она вычищала рану от гноя с таким видом, будто ей доставляет удовольствие наблюдать за искаженным от боли лицом 12-тилетней девочки. «У, фашистка!» – Ксеня с трудом сдерживала вопль. По многим причинам боль сопровождала ее в разные моменты жизни, она даже не ойкала, только изо всех сил сжимала зубы и терпела.
В пятом классе Ксеня поняла, что родители не очень ладят между собой. Днем на людях они не ссорились, зато нередко по ночам слышался с их кровати громкий скандальный шепот, отец обзывал мать плохими словами и даже бил несильно кулаками. Ксеня подслушала, что он ревновал ее к дяде Саше Стрыгину. Мужчина работал вместе с матерью в ДИТРе. Ксене он нравился, такой простой и веселый. Мать была общительная, ей нравилось дружить с мужчинами, болтать с ними, смеяться. Отец же принимал ее простое обращение за кокетство. Подруг-женщин у мамы по жизни не было. Может, из-за того, что с ними она держалась несколько высокомерно и не шла на сближение. Но вообще она была не конфликтная, на службе пользовалась уважением. А дядя Саша однажды зимой угостил мать огромным, больше полкило красивым красным яблоком, привезенным им из Алма-Аты. Называлось оно апорт. Больше таких крупных яблок Ксеня никогда не видела, даже когда они переехали жить в ту самую Алма-Ату. Через много лет до их семьи донесся слух, что дядю Сашу зарезал в Воронеже, приревновав, любовник, он оказался геем.
Все праздники родители отмечали с коллективом ДИТРа. Отец пользовался успехом у женщин, он был душой общества: играл на аккордеоне, пел, танцевал. Все расступались, когда они с матерью танцевали вальс. Он и дочь научил. Мать его не ревновала. Может, не любила? И так продолжалось всю их жизнь: отец изменял, а ревновал мать. Ксеня в их отношения не вмешивалась, жила своей отдельной жизнью, не делясь с родителями своими детскими, а потом и юношескими проблемами, предпочитая решать все сама.
Был в городе и драмтеатр, Ксеня была там один раз с классом на спектакле «Аленький цветочек», театралкой она не стала. Родителям посчастливилось попасть туда на встречу со знаменитым героем фильма «Без вести пропавший» Михаилом Кузнецовым. Во время встречи напоили радушные норильчане любимого артиста под завязку, на ногах не держался. Вывели его из здания и толпой на руках, передавая друг другу, пронесли до самой гостиницы.
Одно время большой популярностью у норильских подростков, особенно девчонок, склонных к сентиментальности, пользовались индийские фильмы, которые завозились десятками, вероятно, была крепкая дружба с Индией. Песенку из «Бродяги» напевали буквально все: и дети, и взрослые. «Бродяга я, бродяга я, никто нигде не ждет меня…» А «Любовь в Симле»? Одна девчонка из их класса из бедной семьи копила деньги на пальто, а потратила их на фильм, посмотрев его 20 или даже 30 раз. Ксеня с Зойкой тоже ходили и плакали.
XXI век. Едва на экране ТУ возникали пузатые, толстозадые с круглыми глупыми часто плачущими мужскими и женскими лицами артисты индийского кино, ее тошнило от фальши выдуманных драм. Наверное, объелась ими в Норильске. Изображают нищих, а у самих пуза висят от обжорства.
Одним словом, с лозунгом тех времен: КУЛЬТУРУ – В МАССЫ! дела в режимном городе обстояли неплохо. К тому же были и свои местные знаменитости из деятелей культуры, отсидевшие срока в лагере и оставшиеся на поселении без права выезда. Вот уж враги так враги народа, наверное, были! Даже знаменитая певица Русланова сидела.
Кто не выпивал по вечерам, как соседи Ксени или Зойки, тот приобщался к культуре: ходил в кино, в театр. А что было делать долгими зимними вечерами? Телевизоры только появлялись, не каждый мог купить. У них телевизора не было. Во-первых, поставить некуда было, во-вторых, отец копил деньги на «Волгу», это было его мечтой.
Сделав уроки, до темноты девчонки часто гуляли по проспекту Ленина, местному Броду. Как-то они гуляли с Колышкой, прозвище Тамары. Это было зимой перед Новым годом. И вдруг увидели сани с запряженными в них двумя оленями. Что за красавцы были эти могучие олени! Как гордо они несли свои огромные ветвистые рога! Не сговариваясь, они побежали за санями. – Дяденька, прокати! Пожалуйста! – слезно умоляли они здорового дядьку в тулупе. Он сжалился, протянул руку. Сначала в сани запрыгнула Ксеня, потом Томка. Дядька что-то крикнул, и олени с шага перешли на бег. Какой упоительный был полет! Визжали полозья, фырчали олени, а у них сладко замирали сердчишки от восторга! Воспоминания сохранились надолго.
В пятом классе Ксене написал записку с предложением дружбы Витька Киричук. Он был ничего, но невысокого роста. Ксеня ему отказала. Он продолжал любить ее молча. Семья у него была бедная, но его мать каким-то образом умудрилась достать путевку в престижный пионерлагерь. Витька оказался в одном отряде с Ксенией. Это было после окончания седьмого класса. Однажды они играли в «бутылочку». И Витька поцеловал ее в кончик губ. После отъезда из Норильска он приезжал к ней в Енисейск. Она отреагировала безразлично. Вот, собственно, и вся история. Но она имела неожиданное продолжение, и Ксеня надолго запомнила образ влюбленного в нее с 12 лет мальчишки. Он оказался однолюбом. Отслужил в армии, вернулся домой, написал Ксене прощальное письмо на 12 страницах школьной тетрадки, всю историю своей молчаливой преданной любви, упомянул единственный поцелуй. После этого в 21 год он повесился на чердаке своего дома. Ей сообщила Зойка Негодяева, ее норильская подружка.
Ксеня окончила пятый класс, когда отец сделал вызов в режимный Норильск своим взрослым детям. Какое-то время сводный брат Олег жил у них. К младшей сестренке он относился плохо. Как-то Ксене было поручено матерью начистить картошку, что она не терпела делать. Олег предложил сделать это за нее, но она должна была присесть сто раз. Не уличив его в коварстве, она присела. А утром не смогла встать с постели: ноги были, как чужие.
Но вскоре отец устроил его на работу, где ему сразу дали общежитие, и Ксеня избавилась от его каверз. Олег был видный парень, и красивые девушки вились вокруг него, сами приходили в общежитие. Но характер у него был вредный, и в избранницы ему досталась обычная на внешность шалавистая пьющая девица из гаража, где работал отец. Уж как все уговаривали его не жениться! Женился, вскоре пожалел, но признаться в ошибке не захотел. Да и сын родился. Жена рано умерла от пьянства, взрослый сын погиб от несчастного случая. Неудачно сложилась жизнь, одним словом.
Сестра Адель была уже замужем, к Ксене относилась безразлично, поглядывала с кривой ухмылкой. Впрочем, это было ее обычное выражение лица. Муж у нее был хороший и относился к Ксене по-человечески. Отец устроил его в шахту на высокий заработок, молодой семье вскоре дали квартиру. Не каждый мужчина так помогал бы уже ставшими чужими взрослым детям. Они его не любили из-за обиды за мать, но помощь принимали. Такая вот родня была у Ксени в Норильске.
Шестой класс ничем особо не запомнился. Правда, Ксеня немного подружилась с Танькой Иохвид, переведенной из другого класса. У новой подружки была одинокая мать, к которой ходил следователь прокуратуры и приносил читать журналы «Следственная практика» (для служебного пользования). Конечно, он не имел права это делать, может, хвастался своей смелостью. Танька давала читать журналы Ксене. Чтение было захватывающе до озноба. С 13 лет страсть к преступлениям уголовного мира, их расследованию и раскрытию стала увлекать ее всерьез, она даже решила про себя стать следователем. А пока читала запоем все, что попадало под руку из этой области.
В шестом же классе родители устроили ее в музыкальную школу, на класс аккордеона. Купили красивый с изумрудной перламутровой отделкой инструмент. Вероятно, родители сознавали, что им не хватает культуры. Хотели восполнить этот недостаток за счет развития этой непонятной для них области человеческих знаний за счет дочери. Пусть она будет культурной. У отца был музыкальный слух, наверное, он решил, что и у дочери есть. Слуха у нее не оказалось, зато была пальцевая память, она запоминала ноты пальцами. Это и решило вопрос при поступлении.
Пока она пилила по нотам, отец забирал у нее инструмент и играл по слуху вальсы «Амурские волны», «На сопках Манчжурии». Вскоре она стала пропускать занятия, а когда на второй год началась история музыки и вообще всякая теория, она категорически отказалась заниматься музыкой. Это была последняя попытка родителей сделать из дочери что-нибудь путное. Они отступились, и Ксения стала заниматься самообразованием, черпая знания из книг. Общаться было не с кем, с одноклассниками велись пустые разговоры. Так и варилась она в собственном соку, пытаясь самостоятельно разобраться в жизни, совершая ошибки, набивая шишки. Но сама!
В 7-м классе Ксеня влюбилась в Гивку Сулукадзе, стала вести дневник. Влюбленность также подвигла ее на стихи. Излить чувства было некому, и она изливала их на бумагу. Стихи были, в основном, подражательные известным в то время Щипачеву: Любовью дорожить умейте, с годами дорожить вдвойне. Любовь – не вздохи на скамейке и не прогулки при луне, Асадову: Ты веришь, ты ищешь любви большой, Сверкающей, как родник, Любви настоящей, любви такой, Как в строчках любимых книг. и Веронике Тушновой: А ты придешь, когда темно, когда в стекло ударит вьюга, когда припомнишь, как давно не согревали мы друг друга. Неужели не будет конца этим дням ожиданья? Никогда и ни с кем не хотела я так свиданья. Бессонные ночи, как годы, летят, но тебя не могу я забыть… И все в таком духе. В 7-м же классе среди учеников была популярна невесть откуда взявшаяся песенка:
Пусти, нахал, не рви трусы! Здесь не бардак, а Сан-Луи. Ах, Сан-Луи, город стильных дам, Но наш Норильск не уступит вам. Шестая школа, второй этаж, И лезет Ксюха на абордаж. Ах, Сан-Луи, нам не до вас, ВЕДЬ ваши люди лабают джаз.Стены школы были выложены блоками: десять сантиметров по периметру выпукло, десять вогнуто. Девчонки играли после уроков в лапту, и мяч застрял в выемке на уровне второго этажа. Недолго думая, Ксеня полезла за мячом, держась за выемки пальцами рук и ступая пальцами ног. Достала и, пройдя еще с два метра влево таким же образом, влезла в окно. Так она попала в заграничную песенку.
Тогда же у них появился новый предмет: трудовое воспитание. Они должны были освоить на выбор одну из специальностей: швея или токарь. Шить Ксеня и так умела, научилась сама на ножной «подольской» швейной машинке, перешивая на себя материны вышедшие из моды, а мать была модницей, юбки и платья. Она записалась в токари, чтобы быть в одной группе с Гивкой. Зойка, конечно, была с ней. Они переодевались на занятия в комбинезоны, на головах – красные косынки. Эдакие комсомолочки-пролетарочки 30-х годов!
Когда Гивка записался на плавание в бассейн, они с Зойкой тоже записались. Сами по выкройке сшили себе купальники. Однажды, чтобы обратить на себя внимание Гивки, она отмочила номер. Предупредив Зойку, что она махнет рукой, а подружка должна была крикнуть Гивке: – Смотри! Ксеня, прячась среди взрослых пловчих, вскарабкалась на вышку. Она даже не знала, сколько там было метров высоты, махнула рукой и прыгнула. Улетела глубоко, в панике стала рваться на поверхность. Кто-то из пловчих бросился на помощь, увидев, что девочка может захлебнуться. За руку девушка дотащила ее до бортика. Ксеня долго не могла прийти в себя от страха: она могла утонуть. За «подвиг» ее отчислили из группы. Но одноклассники, когда Зойка рассказала им, слегка приукрасив, что Ксеня прыгнула с 5-тиметровой вышки «ласточкой», впечатлились, и некоторое время она побыла героиней.
Как-то они пошли с Зойкой в кино. Там оказался Гивка с девчонкой. Ксеня едва не задохнулась от ревности. В кармане у нее было круглое зеркальце без оправы. Она разломила его надвое и стала резать себе руку под свитером. Пришла домой, задрала рукав, он набух от крови, и в крови была рука. Она долго держала ее под краном с холодной водой, смазала йодом и перевязала чистой тряпочкой. Потом приходилось прятать руку от матери, пока не зажила. Шрамы остались как память о неистовой ревности. Впрочем, это было лишь однажды. Больше она никого и никогда не ревновала.
Весной, едва теплело, после уроков они шли к ее подъезду, стояли часами и говорили.
* * *
Посв. Зое Карнауховой (в дев. Негодяевой), норильской подруге.
Раскидала судьба нас по разным пространствам. В нашей жизни Норильск — Стержень будущих странствий, Средоточье всех будущих наших дорог. От Норильска нас, девочек, кто-то волок. И рассыпались мы, Будто бусинки с ожерелья, По Отчизны краям, городам и деревням. Был подъезд на СОВЕТСКОЙ Под номером шесть. После школы стояли мы возле часами. Не хотелось нам, юным, Ни пить и ни есть, Упоенным беседой под небесами. Май 2007 г. авторВ 8-м классе, когда ей исполнилось пятнадцать лет, у Ксени еще сохранилась длинная, ниже пояса, пушистая коса. Почти все одноклассницы по моде того времени носили короткие стрижки. Но ее косу бдительно охраняла мать и потому – волейневолей – приходилось выглядеть белой вороной едва ли не во всей школе.
Но, поехав последнее лето в пионерский лагерь, хотя она была уже комсомолкой, Ксеня все-таки обрезала косу. К этому ее вынудили обстоятельства. Недели две у них в душе не было горячей воды, и они вынужденно мылись холодной. Как-то в тихий час она неожиданно проснулась, скосила глаза: на подушке сидела большая вошь и, казалось, ехидно смотрела на нее. Она потихоньку встала, взяла у соседки с тумбочки гребешок и вышла из корпуса. Пошла подальше в лесок, чтобы ее никто не увидел, и стала с ожесточением чесать свои длинные волосы. Вши буквально посыпались, как внезапный ливень. Ей стало до отвращения противно.
В тот же вечер она попросила у воспитательницы ножницы, опять удалилась в лесок и прядь за прядью стала обрезать свои пышные волосы. Наверное, надо было пойти в санчасть и с помощью дуста побороться со своей бедой. Но ей было стыдно, как будто она виновата в том, что у нее завелись вши. Поэтому она поступила кардинально и тайком расправилась с волосами, правда, потом она постоянно вычесывала насекомых гребешком. Но дома матери еще долго пришлось бороться со вшами с помощью дуста и керосина.
Обрезать-то Ксеня обрезала, но почти сразу пожалела об этом: ее роскошная коса привлекала внимание, а теперь она перестала выделяться среди остальных девчонок и стала, как все. Этим же летом она затеяла среди девчонок коммунизм. Вдоль одной из стен в их комнате стоял длинный шкаф с вешалками для платьев и блузок. Ксеня предложила пользоваться вещами сообща: кто что хочет, то и одевает. Таким в ее представлении должен быть коммунизм: все общее, никакой частной собственности. Все согласились, и весь сезон Ксеня щеголяла в чужих нарядах. Ей нравилось.
Лето в городе было пасмурное, часто брызгал дождичек, небо постоянно было затянуто тучами, не радостное лето, а серая череда серых дней. Вокруг города тундра. Даже искупаться было негде. Единственное озеро Долгое было заражено отходами с никелевого завода, вода была отравленная, свинцового цвета. Самым чистым временем года в Норильске была зима, когда город очищался мощными снегопадами и пургами, сбивающими с ног человека, от всякой заразы производства никеля и урана. Не зря на Крайнем Севере платили крупные прибавки к жалованью, так называемые «северные», и на пенсию трудящиеся уходили раньше: женщины в 50, а мужчины в 55 лет, и пенсия по тем временам была высокая, аж 120 рублей.
Поэтому из года в год родители сплавляли единственное чадо за тысячи километров от Норильска в пионерлагерь «Таежный». Попасть туда могли не все дети и подростки, а самые лучшие: пионеры, отличники, общественники. Или – по знакомству. Ксеня не была отличницей, общественницей, в пионеры ее приняли позже всех – из-за поведения, которое так никогда и не стало примерным, как требовалось в школе. «Как повяжешь галстук, береги его, он ведь с красным знаменем цвета одного». Зато мать ее после ДИТРа перешла работать в Окружком профсоюза бухгалтеромревизором. Именно там распределялись путевки в престижный пионерлагерь. А уж детям окружкомовцев доставались в первую очередь.
Из Норильска до Дудинки, порта на Енисее, они уезжали на электричке, не испытывая грусти расставания, хотя уезжали на все три летних месяца, до конца августа. Наоборот, они предвкушали свободу от учителей и родителей. В вагонах быстро знакомились, то тут, то там начинали звучать песни.
Поезд, оставив дымок, в дальние скрылся края. Лишь промелькнул огонек, словно улыбка твоя…или:
Сиреневый туман над нами проплывает, над тамбуром горит прощальная звезда… Кондуктор не спешит, кондуктор понимает, Что с девушкою я прощаюсь навсегда!От Дудинки до пионерлагеря плыли четверо суток на теплоходе. Восемь лет она плавала по Енисею туда и обратно, и река запечатлелась в ее памяти на всю оставшуюся жизнь. Она скучала о ней, как о живом существе, любила ее всем сердцем.
ХХI век: ЕНИСЕЙ
Река моего отрочества — Ионеси, Енисей, О, как окунуться хочется В прохладу воды твоей. Пороги твои высокие — Взвихрялась вода столбом, А берега одинокие Без света в окне слепом. Река моего отрочества — Ионеси, Енисей… О, знал бы ты, как хочется Притокою стать твоей.Во время пути знакомились, выбирались маленькие начальники, типа старост отряда и т.д., после пионервожатых и воспитателей. Почему-то Ксеня всегда производила положительное впечатление, и ее обязательно кем-то выбирали. Но впоследствии раскаивались и переизбирали. А она присматривалась.
Деревянные домики «Таежного» живописно располагались на берегу Енисея. Лагерь окружал высокий забор, а возле единственных ворот постоянно дежурили взрослые и никого за территорию не выпускали, только воспитателей и вожатых – по особому пропуску начальника лагеря. Сразу за воротами начиналась тайга, а в часе ходьбы – деревня Атаманово, куда дважды за лагерный сезон старшие отряды водили в магазин и на рынок, чтобы они могли купить гостинцы домой. И они покупали зеленые помидоры, которые по дороге до Норильска доспевали и становились красными, репчатый лук, который они довозили в капроновых чулках. Покупали также сахар и землянику и варили на кухне варенье. Небольшие суммы денег от родителей хранились у начальника лагеря. В последний свой сезон на пионерском костре по случаю окончания лагерного срока Ксеня готовилась танцевать индийский танец, у нее здорово получалось движение головой с одного плеча на другое. Как раз вечером была ее очередь варить на кухне земляничное варенье. Она мешала его поварешкой в большом тазу, когда внезапно с поверхности кипящей массы вылетела капля и приземлилась прямо на ее лбу. Боли особой не было. Вернувшись в отряд, в пионерской комнате она посмотрела в зеркало: коричневое пятнышко ожога располагалось ровно в середине лба чуть выше бровей, как у индианок.Такой случился курьез.
Мечты о свободе оказывались призрачными. В лагере царили жесткая дисциплина и многочисленные запреты: «Цветы не рвать», «Траву не мять», «За ограждение не заплывать». Огорожен был небольшой участок мелководья, и Ксене претило купаться в этом лягушатнике. Она и не купалась. Запреты ее страшно раздражали и вызывали протест. Ксене удавалось быть «пай-девочкой» примерно с месяц. Потом она становилась собой и начинала хулиганить да так, что воспитательница и вожатый едва не выли от ярости. «Кто бы подумал, такая положительная девочка была…» – жаловались они начальнице лагеря.
То Ксеня устраивала бой подушками после отбоя, ТО РАССКАЗЫВАЛА СТРАШНЫЕ СКАЗКИ, КАК В ДЕТСТВЕ. Ее, как нарушительницу лагерного режима, выставляли в наказание в одной ночной рубашке и босиком в пионерской комнате, где было не жарко. Стуча зубами, она, однако, из упрямства не просила прощения. В тихий час, когда положено было спать, она, изображая из себя почтальона, бегала с записками от девчонок к мальчишкам и обратно. Их спальни разделяла пионерская комната, в глубине которой находились комнатушки воспитательницы и вожатого.
Но самое опасное предприятие она затеяла в то последнее лето, когда разбудила, предварительно договорившись об этом, несколько надежных девчонок и мальчишек после полуночи. Они, как тени, выскользнули из домика, а потом и с территории лагеря и пошли бродить по другим лагерям, нарушая запреты. Топтали траву, рвали цветы и купались вволю. Под утро, замерзнув, разожгли костер на берегу. Тут-то их и накрыл сторож. Разгорелся сыр-бор. Их пытались уличить в том, чего они не делали. Администрация лагеря никак не могла поверить, что подростки просто резвились на свободе, а не курили, не пили и не целовались. Ксеню едва не сослали домой. Сначала она обрадовалась, но страх предполагаемого наказания вскоре погасил радость. В конце концов эту суровую кару отменили, так как администрация не осмелилась на такой – из ряда вон – шаг. Хотя случай был экстраординарный – за все время существования пионерлагеря. Но директор пионерлагеря была дальней родней отца, и дело прикрыли.
В пионерлагере в 12 лет ей впервые пришла мысль о смерти. Все спали, а она, как всегда, мечтала. И вдруг в ее детские мечты ворвалась страшная мысль: ведь когда-нибудь родители состарятся и умрут. Ведь умерла же бабушка Надежда! А потом… потом… Неужели и она, Ксеня, тоже умрет? Она заплакала так горько, как давно уже не плакала, разве когда родители зарезали Тегу. Впервые она ощутила себя почему-то жалкой и одинокой. Такой большой мир, так много людей, а она одна, и ей страшно, и некому ее пожалеть, обнять, поцеловать. Только бабушка Надя ласкала и миловала любимую внучку. Матери некогда было разводить нежности, она почему-то держала дочку в строгости, полагая, что так и надо воспитывать строптивую деточку. Ксеня тоже не ласкалась к родителям и дичилась, если кто-то из взрослых делал попытку ее погладить, допустим, по голове.
Примечание: ХХI век. Были в пионерлагере костры, были танцы для старших отрядов, но не было такого, как в фильме «Взвейтесь кострами, синие ночи!» Не было махрового блядства пионервожатых и даже начальницы пионерлагеря. Гнусное вранье! А книга Юрия Полякова «Гипсовый трубач»?
ПОЛЯКОВУ Ю.М., владельцу «Литгазеты»
Буржуй Поляков правит балом. Литературка стала продажной. Плати валютой, желательно, налом, И все окей, пиит отважный! Твои стихи, пардон, какашки, В газете выдадут за гениальность. Ну, ешьте, граждане, жрите, букашки! И выходите потом в астральность. Матерый хищник, он вас, овечек, Накормит сытно протухшей пищей. О, как доверчив ты, человечек! Литературка ведь духом нища. Литературка ведь стала гаже, Желтее желтой поносной прессы. Буржуй Поляков, ты сам продажен, (удар. в фамилии на «я») Блюдешь бездарностей интересы. Твой кент стал Тополь, Вы оболгали все наше детство. Засунуть горн бы в твою бы ж…, А рядом Тополь, ну, по соседству.В то последнее Ксенино лето к ней впервые пожаловали родители, чтобы навестить, а заодно продемонстрировать новое приобретение: бирюзовую «Волгу», последний кирпичик в пирамиде, именуемой достатком. Надо было видеть, как автомобиль – редкая и роскошная вещь по тем временам – возвысил родителей в собственных глазах, да и в глазах окружающих тоже. Даже походка у отца стала другой: он не шел, а шествовал – его распирало от гордости, от довольства собой. Ну, как же! В детстве – деревенская голытьба, ни одежды, ни обуви хорошей не имел, донашивая обноски старших братьев. Зато теперь! Ого-го-го, каких высот он достиг! Высокая должность, главный механик в большом гараже, достаток в доме, добротная одежда и предел мечты – собственная машина.
Отец мягкой чистой фланелькой смахивал одному ему видимые пылинки с кузова «Волги», обходя ее вроде бы небрежно и привычно со всех сторон, а на самом деле в глазах его сиял детский восторг, который он и не пытался скрывать. Мать усаживалась на переднее сиденье, расправляя старательно – двумя пальчиками – новое шифоновое платье с многочисленными оборочками. И выпрямлялась, устремив взор вперед и сделав губы бантиком. Этакая важная дама из высшего общества, бывшая босоногая, тоже деревенская девчонка. Как пелось в небезызвестной песне: «кто был никем, тот станет всем». До появления машины мать вела себя проще и не посматривала с таким, несколько высокомерным выражением лица на окружающих, ловя их завистливые или искренне восторженные взгляды, и не разговаривала таким, несколько снисходительным тоном, соблюдая дистанцию.
Родители забрали ее за несколько дней до окончания срока пребывания в пионерлагере в деревню под Красноярском, к тете Лизе, отцовской сестре. Через два года на третий они отправлялись из Норильска на курорт, но перед дальней дорогой обязательно навещали тетю Лизу – не потому, пожалуй, что отец сильно скучал по ней, а просто подышать целебным деревенским воздухом, попить парного молочка и поесть первых огурчиков с грядки. Теперь прибавилась более веская причина: в небольшом уютном сарайчике стояла «Волга». Пусть недолго, но покататься на ней, щегольнуть красавицей перед родственниками, которых и в деревне, и в городе было немало. Отец был родом из этих мест.
К выездам готовились весьма торжественно. Пока мать наглаживала сорочку отцу, готовила свой очередной сногсшибательный наряд из дорогой модной ткани и Ксенино шелковое платье, которое сшили, чтобы она не выглядела замарашкой рядом с родителями, отец обихаживал машину. Он мыл и протирал ее до блеска, без конца что-то смазывал и прочищал. Наконец, все было готово. Ксеня терпеть не могла эти выезды, эту невыносимую процедуру родственных объятий и поцелуев, бесконечных разговоров об одном и том же. Обычно она старалась улизнуть куда-нибудь, «запропаститься», как выражался отец. Иногда они, так и не докричавшись ее, уезжали. Иногда находили, и, предварительно поддав ей тяжелой рукой по мягкому месту, отец запихивал-таки ее в машину. Забившись в угол заднего сиденья, надув губы, она чувствовала себя стреноженной. Иногда отец предлагал сестре:
– Может, тоже поедешь?
Та, поглядев на свои мозолистые крестьянские руки, штопаное-перештопанное платье, невесело усмехалась.
– Куда уж мне! В таком тряпье…
Отец хмурился, а мать обидчиво поджимала губы.
– Ну, что ты, Лиза, вечно прибедняешься? Одеть нечего, что ли? Я же тебе почти новое платье подарила…
Тетя Лиза молчала, пряча глаза: то платье уже уплыло к одной из дочерей – на выданье, как говорили в деревне.
– Да и огород у меня… – роняла она устало, видя, в какое неловкое положение поставила брата с женой.
Родители в очередной раз укатили на курорт – в бархатный сезон, как они говорили, оставив Ксеню в деревне. Сентябрь она проучилась в деревенской школе. С тетей Лизой ей жилось привольнее, чем дома – под вечным надзором. Тут уж она давала себе волю: и уроки почти не учила, и носилась целыми днями с деревенскими девчонками и мальчишками, и купалась до озноба в Енисее, хотя вода была уже по-осеннему холодна. Но и тете Лизе помогала: полола в огороде грядки, носила воду из Енисея на коромысле, кормила и поила курей, собирала яйца из-под них, даже попробовала корову доить, но Буренка ей не далась.
Как-то разразился скандал из-за малюсенького огурчика. В огороде был парник, на нем вызревали ранние огурчики. Тетя каждое утро проверяла их и пересчитывала, она была прижимистой. Но Ксюша углядела самый маленький и сорвала, и съела. До чего же он был вкусный! Хозяйка обнаружила пропажу и раскричалась на весь огород: – Кто тебе разрешил? У меня каждый овощ на счету. Только и живем, что с рынка. Это вы богачи, на всем готовом, а мы каждую копейку горбом зарабатываем. Паразитка тоже!
А вообще бедная тетя руки опускала перед своеволием племянницы, жалея брата со свояченицей: «Ну и чадо им досталось!.. Маются, поди, с ней, сердешные». Она и вслух это высказывала, когда Ксеня, набегавшись за день, уминала черный ноздреватый хлеб или горячие пирожки со щавелем, запивая ледяным молоком из погреба. Иногда тайком, когда тетя Лиза была на огороде, Ксеня спускалась в погреб. Там стояли бидоны с молоком, сверху покрытым толстым слоем сливок. Ксеня пальцем поедала сливки, потом разравнивая поверхность. Вкуснотища!
– Это я с ними маюсь, – бурчала она с набитым ртом.
Два года назад, когда Ксеня окончила пятый класс, родители надумали осчастливить и ее, взяв с собой на Черное море. В Сочи они устроили ее на частной квартире, и Ксеня приходила к родителям в санаторий, чтобы покушать фруктов. Санаторий «Заполярье» находился в лесу, как пионерлагерь «Таежный». У родителей был семейный номер в корпусе. Ксеню поразила столовая в мраморном зале с колоннами! Простые люди, как ее родители, мать-бухгалтер и отец-механик в гараже, отдыхали, как министры. Они заказывали ресторанную еду на завтрак, обед и ужин. Еда была отменная. Обслуживание тоже. В санатории были все равны, почти все, как заявлялось в Манифесте коммунистической партии Советского Союза. Отец ходил в чесучовом костюме желто-песочного цвета и в соломенной шляпе, выглядел очень представительно, почти как Министр какого-нибудь государственного учреждения. Мать ему соответствовала. Меняла наряды каждый день. И ВЫГЛЯДЕЛА ОЧЕНЬ ЭФФЕКТНОЙ ЖЕНЩИНОЙ.
Почти каждый день они ездили на экскурсии. Один раз она тоже поехала с ними на озеро Рицу. Девочка была потрясена: она и не знала, что существует такое великолепие в окружающем мире. Величие и красота горного озера накрепко запечатлелись в ее памяти. Больше она никуда не захотела ездить. Родители не настаивали, считая, что она еще слишком мала и не готова к сильным впечатлениям. Правда, им удалось затащить ее на концерт московских артистов. Они вошли в зал, начали устраиваться в кресла, как вдруг все присутствующие поднялись и, оборачивая головы назад, зааплодировали. Родители сделали то же самое. Ксеня посмотрела назад: в ложе стоял какой-то высокий старик. Отец громким шепотом сказал: – Это член правительства Клемент Ефремович Ворошилов, герой Гражданской войны. – Он же старый! – воскликнула Ксеня. – Зато умный! – заметил отец.
Живя отдельно, она была предоставлена самой себе. Хозяйка, куда ее определили родители, была простой женщиной. Ей хорошо платили, и Ксеня, как в санатории, заказывала еду, особенно ей нравились блинчики. Море было рядом, и она самостоятельно ходила на пляж. Но чаще ее сопровождала дочка хозяйки, девочка 14 лет. Она была молчаливая и не мешала юной курортнице. Сначала Ксюша жила одна, но потом хозяйка, договорившись предварительно с родителями, подселила к ней в комнату молодую женщину. Ксюша была поцанкой и не знала, зачем одинокие женщины и одинокие мужчины ездят на курорт. XXI век: Чтобы заводить скоротечные курортные романы с чужими мужчинами и женщинами. Ее подселенка приехала за тем же. Как-то Ксюша задержалась у родителей, пришла поздно, легла спать. Проснулась от того, что на нее навалилось чье-то тело, и в ее губы впился чей-то слюнявый рот. Она дико заорала. Очнулась, когда соседка плакала, просила прощения и умоляла никому не говорить. Мужик приходил к ней и якобы перепутал кровать. Это было отвратительно: и слюнявый поцелуй, и руки, шарящие по ее телу и еще какой-то предмет, тыкающий ее ниже живота … XXI век: может, оттуда взялась ее ненависть к насилию (по Фрейду). Так что без приключения и в Сочи не обошлось, правда, лучше бы его не было.
Ее поведение на курорте не очень радовало родителей, они ждали восторгов, а их не было. Конечно, море Ксене понравилось, если бы не противные медузы. Нельзя было из-за них полностью наслаждаться плаванием, эти мерзкие создания лезли едва ли не в рот. Загорать она не любила. Так что взять-то взяли, но вскоре пожалели об этом. Отец сильно разгневался на ее равнодушие к южной экзотике, от которой они оба были в неописуемом восторге и, не уставая, выражали его.
– Можно подумать, ты уже сто раз здесь была и все это видела. Ходишь, как сонная тетеря. Знал бы, не взял тебя, – сердито выговаривал отец, когда дочь на предложение полюбоваться кипарисовой аллеей, даже не посмотрев, промямлила:
– Ну… красиво, красиво…
Ей и вправду от изобилия солнечного света постоянно хотелось спать. Да и вообще не умела она выражать свои положительные эмоции вслух и радовать родителей. Наверно, им было неловко за нее перед приличными людьми. А ей было неловко за них, когда они, как дикари, глазели по сторонам и слишком бурно выражали восторг.
Очарование от вечернего серебристого моря, от крупных звезд, рассеянных по черному бархату южного неба, она прятала глубоко в себе, словно что-то хрупкое, которое можно разбить легким прикосновением. Ей казалось, выскажи она вслух то, что ощущает, и оно тут же исчезнет. А ей так хотелось сохранить шум моря, шелест необыкновенных деревьев со сладким пряным головокружительным запахом, чтобы все это воскресло в воображении в бесконечно долгие зимние дни. Уже в 12 лет в ее душе начали пробуждаться поэтические чувства. Она даже написала стихотворение, но теперь уже родителям не хвалилась.
У МОРЯ
Спускаюсь с кручи высокой. Ветки, цепляясь, рвутся за мной. Лишь кипарис одинокий Высится гордо в чаще лесной. И вот стою я у моря. Шумит, налетая, прибой. Не знает ни счастья, ни горя, Грозный, шипящий, шальной.Все годы в Норильске, вплоть до отъезда Ксеня дружила с Зойкой Негодяевой. Дружбу пришлось отстаивать с самого начала, с того дня, когда она впервые привела подругу в дом. Зойка разделась в коридоре, сняв пальто, серую шапку-ушанку, валенки и оставшись в стареньком застиранном платьице и заштопанных чулках. Прежде чем войти вслед за Ксеней в комнату, Зойка поправила жесткие, торчащие в стороны хвостики, заложила за ухо прядку волос, вечно висевшую у нее над правым глазом: она хотела выглядеть пай-девочкой и понравиться Ксениным родителям.
Вошла и застыла у порога. Ксеня дернула ее за руку.
– Ну, входи же!
Зойка еле слышно поздоровалась и, обойдя ковровую дорожку, устремилась к стулу. Села на самый краешек, одернула и расправила на коленках платье и опустила глаза в пол. Ксеня не могла понять, что с ней. И лишь позже, побывав у Зойки в гостях, она поняла причину ее поведения. Зойкина семья тоже занимала одну комнату в трехкомнатной коммуналке. Вдоль стен стояли две железные кровати, аккуратно застеленные дешевыми пикейными покрывалами с кружевной каймой снизу. В изголовье лежало по одной подушке в ситцевых, мелкими цветочками наволочках. Возле окна – круглый стол без скатерти. В углу – этажерка с десятком книг и двумя альбомами с фотографиями. Они почти все тогда занимались коллекционированием артистов кино и даже из Москвы, Ленинграда, Киева выписывали по почте. Иногда крали друг у друга.
Приходили к девчонке, якобы посмотреть богатую коллекцию, поменяться. Пока Ксеня отвлекала хозяйку у проигрывателя – они крутили пластинку с «Бэсамэбэсамэмучо…» и пытались переписать слова, Зойка успевала засунуть в валенки несколько фоток. Или в ДИТРе, где работала Ксенина мать. Зойка отвлекала кассиршу, Ксеня, поддевая ножом кнопки, срывала снимки – кадры из кинофильмов и прятала на груди под пальто. На такой снимок можно было выменять несколько артистов. Срывали и со стендов в кинотеатрах.
Еще в комнате висело зеркало, из него – веером – торчали шедевры народного творчества: целующиеся парочки, над ними – целующиеся голубки и надпись: «Люби меня, как я тебя». Над одной из кроватей висела клеенка с прудом и лебедями.
Тогда, в первый раз, Зойка чинно посидела, спросила что-то об уроках и собралась уходить. Ксеня заметила, что родители – отец из-за газеты, а мать от стола с шитьем – косились на гостью. Мать, конечно же, разглядела и застиранное платьице, и штопку на чулках, хотя Зойка и прятала ноги под стол. Прошло несколько неловких минут молчания, Зойка встала, стремительно обошла дорожку и вылетела в коридор. Ксеня – за ней.
– Ты чего?
– Ничего.
Подружка громко хлопнула дверью на прощание.
– Кто у нее родители? – первым делом спросил отец, едва Ксеня появилась в комнате.
Он завязывал в эту минуту галстук перед зеркалом. Родители собирались в ДИТР – в кино на последний сеанс. Хотя отец и не относился к ИТР, занимая должность механика в гараже, его пускали туда, потому что мать работала там. К тому же, глядя на отца, никто и подумать не мог, что он не ИТР. Хотя лицо у него было простецкое: голубые глаза под сросшимися густыми бровями, нос картошкой и узкие губы, вид, когда он надевал выходной костюм, белую сорочку и галстук в тон костюму, был представительный. И даже важный: если он поджимал губы строго и значительно. Прямо директор автобазы!..
– Откуда я знаю?
– А ты узнай! – внушительно сказал отец. – Нечего водиться, с кем попало… – На нем уже красовалась каракулевая шапка, которая прибавляла важности – Ну, ты скоро? – обращался он к матери.
– Сейчас, сейчас, – мать дорисовывала на губах бантик.
Брови она нарисовала, волнистые от природы волосы уложила в прическу. На ней была юбка из английского бостона и китайская пуховая кофточка с большим выбитым цветком на груди. Когда мать так наряжалась, она становилась даже красивой. Надевая пальто с каракулевым воротником и манжетами, мать выговаривала Ксене:
– Вечно таскаешь в дом каких-то чумичек. Будто у вас в классе нет приличных девочек, с которыми можно дружить. А эта… – мать не захотела назвать новую подругу дочери по имени, – еще стянет что-нибудь…
У Ксени чуть слезы не брызнули от обиды. Она хотела заступиться за Зойку, сказать что-нибудь в ее защиту, даже рот открыла, но мать уже вышла из комнаты: они опаздывали. «Почему, почему они так? Ведь они совсем ее не знают… А мне других подруг не надо! Вот назло, назло им буду с ней водиться!» – Она сидела перед зеркалом, скорчив злую гримасу. Щелчком стукнула болванчика – он закивал головкой, как бы с укоризной, решительно поднялась, оделась и направилась к Зойке. Ей было неловко за прием, оказанный родителями: даже до разговора не снизошли.
У порога ее встретила Зойкина мать, заулыбалась всеми тремя ямочками – на щеках и подбородке, вытерла руки о фартук и, легко касаясь Ксениного плеча, повела гостью на кухню.
– Зоя, гляди-ка, кто к нам пришел… – и, обращаясь к Ксене, продолжила: – Садись, Ксюша, вот сюда…
Она обмахнула табурет полотенцем, усадила Ксеню в угол к батарее – от окна дуло – пододвинула поближе к ней тарелку с картошкой в «мундире» и солонку:
– Ешь…
Ксеня поужинала дома, но все равно ела картошку с удовольствием, макая в крупную серую соль и запивая сладким чаем.
После они сидели с Зойкой, не зажигая света, в комнате на кровати и шептались. На другой кровати спал лицом в подушку Зойкин пьяный отец. Их семья тоже занимала одну комнату в трехкомнатной секции, еще в одной жила одинокая молодая женщина, скользящая тенью по коридору и кухне, в другой селилась живописная семейная пара: высокий крепкий здоровяк муж и тоже высокая статная красивая уже не молодая жена, ее звали необычным именем Эмма. Они частенько выпивали и пели. Как-то девчонки подслушали и услышали знакомую песню, ее постоянно передавали по радио, но слова были другие: – Широка страна моя родная, много зон в ней, тюрем, лагерей. Я другой такой страны не знаю, где б губили собственных людей. Широка страна моя родная, много в ней лесов, полей и рек. Я другой такой страны не знаю, где рабом родится человек. Им стало почему-то страшно. Когда муж трудился во вторую смену, Эмма изредка зазывала девчонок к себе, наверное, ей не хватало живой души рядом, с кем можно поговорить. Женщина она была пьющая и веселая, хотя судьба у нее была страшная. Как-то изрядно выпив, под пластинку Руслановой она рассказала вкратце свою историю.
Война началась, она у тетки на Украине застряла, первый раз гостевать отправилась из своей деревни – через всю Россию. Шестнадцать минуло, красавица была писаная: и лицом, и фигурой. Когда немцы город заняли, высмотрел ее Франц, офицерик из небольших чинов. Она дура дурой, ничего не соображая, еще по улицам разгуливала: интересно было. Тетка переводчицей в комендатуру устроилась, там Франц и уговорил ее насчет племянницы, насулил золотые горы. Правда, и продукты таскал, и вещи красивые дарил. Согласилась тетка выдать племянницу за него, но прежде покумекала о том, о сем – война скоро кончится, немцы здесь останутся, чего же лучше. Тем более Франц на полном серьезе колечко надел Эммочке на палец, свадьбу в ресторане справил, все чин чином. А вскорости и в фатерлянд отправил женушку любимую, к матери своей под Берлин. Убили его через год. Война кончилась, немцы потерпели поражение. Эмма повзрослела, опомнилась. Как ей удалось вырваться из Германии и вернуться домой, один Бог ведает. А дома по доносу соседки заграбастали.
– Ах, ты, потаскуха, подстилка немецкая, с фашистом е… – заревел следователь и по лицу кулаком саданул. То все ластился да облизывался плотоядно, а как не далась ему, так и показал себя во всей красе. Закатали ей срок: “десятку” за измену Родине – и отправили в один из лагерей Крайнего Севера, которых после войны было множество. А там красавица ненаглядная стала добычей начальника норлага. Месяц пытался улестить по-хорошему, в потом предложил «трамвай»: 11 мужиков ее используют, а 12-й больной сифилисом. Одна девочка неделю назад умерла от «трамвая». Эмма молодая была, жить хотела, ужас от угрозы оборвал ее сопротивление. Стала скрепя сердце и скрипя зубами с ним жить. Не раз хотела с собой покончить, товарки отговаривали, все проходит, убеждали. Девочкой пришла, а вышла матерой бабой, стала пить и курить. А уж как она мыкалась в зоне, одна подушка знала, каждую ночь залитая горючими слезами. Девчонки тогда прослезились, слушая бедную женщину. А ведь поначалу осуждали, глупые, за то, что пила, да еще и курила. Сами они до 16 лет оставались паиньками: не пили и не курили.
Однажды Ксеня привела в дом другую девочкуодноклассницу. Та сама напросилась в гости. Тамара была не по возрасту полной, медлительной в движениях и в речи. У нее были серые глаза в мохнатых темных ресницах, правильной формы нос, но тонкие бледные губы, неприятная кожа лица с лишайными пятнами; тусклые пепельные волосы были аккуратно разделены на прямой прибор, заплетены в две косы и уложены на затылке в корзиночку. Платье на ней было из дорогой материи. Внешний вид сразу расположил к ней Ксениных родителей. Она понравилась им еще больше, когда в разговоре, искусно направляемом матерью в нужное русло, выяснилось, что мать Тамары работает директором столовой, а отчим – заведующим ателье по пошиву женской одежды. Тамара ушла, и родители переглянулись.
– Вот, пожалуйста, совсем другое дело. Сразу видно, умная и воспитанная девочка, не то, что вы – халды! – это касалось собственной дочери и Зойки. – И на лицо симпатичная, и полненькая, не то, что ты – пигалица! – сказал отец.
Он весил больше ста килограммов, был тяжелый, как монумент, и с симпатией относился к полным людям. Ксеня – наоборот – терпеть не могла толстых и пренебрежительно называла их «тюфяками». Они с Зойкой были стройными и длинноногими и боролись в классе за первенство: у кого талия тоньше. В те годы на экране блистала молодая, курносенькая Людмила Гурченко с талией в сорок шесть сантиметров. У Зойки обхват был на два сантиметра больше, чем у Гурченко, а Ксене, когда наступал ее черед обмериваться, приходилось хитрить: она втягивала в себя воздух. Когда ее ловили на этом, пыталась опровергнуть очевидное.
– Ну, честное слово, ни граммочки не втягиваюсь…
Она любила материны постряпушки, а та пекла почти каждое воскресенье – отец тоже обожал мучное. Ксеня стоически держалась, но потом сдавалась и уплетала за обе щеки. Так что размера талии Гурченко ей никак не удавалось достичь. Тамара не была ее соперницей, и Ксеня снисходительно проговорила:
– Не полненькая, а тюфяк, и симпатии в ней никакой…
Мать тут же вступилась за Тамару:
– Много ты понимаешь… Зойка твоя, может, красавица? Нос картошкой и глаза навылупку… И отец у нее пьяница. А у Тамары, я уверена, приличные родители. Кого попало начальниками не поставят..
Пока мать рассуждала, Тамарино лицо маячило у Ксени перед глазами: как она говорила, и в уголках рта скапливалась слюна. Возможно, Тамара не знала о своем дефекте, но смотреть было неприятно.
– Да мне с ней просто не о чем разговаривать. И вообще – неинтересно… – пыталась Ксеня объяснить родителям, почему ей не хочется дружить с Тамарой.
Однажды, правда, случилось так, что именно Тамара спасла Ксене жизнь. Было это зимой, двор был завален снегом. Перед ее подъездом стояли качели. Они начали качаться, раскачались высоко, и вдруг у Ксени соскользнула нога, и она оборвалась с качелей в сугроб вниз головой: наружу торчали лишь ноги в валенках. Тамара бросилась к ней, пытаясь вытащить, но силенок не хватало, им было лет по 11. Тогда она громко закричала от страха и кинулась в мужское общежитие тут же во дворе. На ее крик выбежали парни и выкопали Ксеню из сугроба. Она долго не могла отдышаться. С того раза на качели больше не садилась. А с Тамарой стала вести себя более дружелюбно.
Родители остались непреклонны по отношению к Зойке и запретили приводить ее в дом. Но Ксеня все равно приводила, правда, тайком, когда их не было дома, и тогда они с Зойкой устраивали пир. Ксеня тащила из кухни что-нибудь вкусное: сушеную клубнику, изюм, халву или открывала банку болгарского малинового конфитюра. Они ели и болтали обо всем на свете – о книгах, об учителях, когда стали постарше – о мальчиках.
Было в этом «тайком» что-то унизительное для Ксени и для Зойки, конечно, тоже. Но как отстоять свое право дружить, с кем хочется, она не знала. Родителей побаивалась, особенно отца. Мать мучила ее нотациями, и это было еще хуже, потому что длилось долго и нудно. Многословие действовало на Ксеню усыпляюще, а мать требовала внимания. Если дочь грубила в ответ, она хваталась за ремень. Зная, что провинилась, что мать будет воспитывать ремнем, она готовилась к наказанию загодя, надевая под платье теплые китайские рейтузы с начесом. Было не больно, но, чтобы не оказаться разоблаченной, она орала во все горло и пыталась выдавить из глаз хоть одну слезинку. Если не удавалось, смачивала глаза слюной.
И все-таки Ксеня дружила с Зойкой, хотя они иногда так ссорились, что дело доходило до драки. Ксеня драться не умела и лишь неуклюже оборонялась, зато Зойка дралась, как заправская дворовая шпана: ее кулаки довольно чувствительно мутузили Ксеню по ребрам. В лицо она, правда, не била.Тамару Ксеня избегала и даже из школы умудрялась ходить с Зойкой, хотя жила с Тамарой в одном дворе.
А домой к ней – в «приличную» семью – вообще перестала ходить после того, как отчим, у которого было мудреное нерусское имя, серые навыкате глаза, приторно-сладкая улыбка, брюхо, аккуратно перетянутое узким ремешком, но все же нависающее над брюками, и сантиметр, вечно перекинутый через плечо – он чаще работал дома, чем в ателье, – помогая ей однажды снять пальто, общупал ее намечающиеся груди. Она ощутила такой нестерпимый стыд, что и сказать никому невозможно было. «Приличный» отчим совратил старшую сестру Тамары, принудил ее к сожительству, и девушка родила сына. Скандал как-то удалось замять, и мать отвезла дочь в другой город к дальней родне, подальше от позора.
Ксеня повзрослела и уже демонстративно вела Зойку в дом и даже усаживала за стол обедать. Мать ее никогда не приглашала и тихо злилась, если та все же оказывалась за столом. Хотя вроде бы и смирилась с их дружбой, по крайней мере – внешне. Ксене долго приходилось уговаривать Зойку и даже применять силу.
– Не пойду! Сказала – не пойду! Отстань! – лицо Зойки делалось злым и некрасивым.
– Попробуй только не пойди! Я у вас тоже есть не буду. Вот увидишь! – Ксеня тоже начинала злиться и уже грубо толкала Зойку в спину.
И та шла, подчиняясь подруге и явно назло ее матери.
Зато дома у Зойки они часто жарили обыкновенную глазунью, предварительно разморозив яйца в теплой воде, и ели на полной свободе. Поэтому, может, Ксеня надолго запомнила вкус глазуньи и еще черничного варенья, которым они щедро намазывали толстые ломти хлеба с маслом. Они не были пай-девочками ни в школе, ни на улице. На переменах вечно носились, как угорелые, по коридорам и лестницам. Школа была трехэтажная, с широкими гранитными лестничными пролетами. Носились, аж ветер в ушах свистел, задевая на пути и детей, и взрослых. Не умели они степенно – рука об руку – ходить взад-вперед по коридору, как остальные. Редкий день Ксеню не выставляли с урока за дверь – за подсказку. Она боролась с собой, даже рот залепляла пластырем, но видеть мучения товарища и не сострадать ему, не пытаться помочь – было выше ее сил. Она умудрялась подсказывать даже с последней парты – с «камчатки». Еще выгоняли за книги. У Ксени была плохая слуховая память, ей бесполезно было слушать объяснения учителей. Чтобы не терять времени зря, она раскладывала на коленях книгу и читала. Иногда попадалась. Как-то учитель физики, высокий, моложавый мужчина с лобастым лицом, забрал у нее книгу и категорично заявил:
– Отдам вашей матери.
Книга была библиотечная, и ее в тот день нужно было вернуть. За дверь Ксеню не выставили, учитель ограничился тем, что реквизировал книгу. К Зойке полетела записка. Прозвенел звонок, и подруга ринулась к учителю. По физике Зойка еле тянула на тройку, этот предмет был для нее тайной за семью печатями. А тут она с умным видом вдруг озадачила физика каким-то вопросом. Он пошел к доске, взял мел… Ксеня моментально подкралась к его столу, схватила книгу и – была такова.
Иногда на нее нападал вроде бы беспричинный смех. Например, она посылала Зойке стих: Осень настала, холодно стало, птички г… перестали клевать. Вон на заборе сорока наср… Ну, и погодка, итить твою мать! Или еще чище: На кладбище ветер свищет, 40 градусов мороз. Нищий снял порточки, дрыщет, знать, пробрал его понос. Вдруг раздался треск дубовый: из гробницы встал мертвец. – Что ты делаешь, негодный? Обосрал меня, наглец! Нищий долго извинялся, пальцем ж… затыкал. А мертвец расхохотался, громко пернул и пропал. Вскоре стих начинал гулять по всему классу, и раздавался гомерический хохот. Иногда срывался урок. На самом деле Ксеня не была злостной хулиганкой, у нее было просто своеобразное воображение. Она могла представить, что у математички вдруг выросли рога на голове или у англичанки – хвост. Она так живо это воображала, что не могла удержаться от смеха.
– Дудина, выйди из класса!
– Я больше не буду…
– Я сказала: выйди! Ксеня долго выкарабкивалась из-за парты, громко стукала откидной крышкой и, шаркая подошвами валенок, тащилась к двери.
Были проделки и помельче. Подставить ножку идущему к доске, нарисовать мелом крест на чьейто спине, насыпать за воротник пшенки, натереть доску жиром. Любила во время уроков, как мальчишки, играть в «морской бой». Занималась она подделкой и материной подписи. Получив двойку, обычно за поведение, Ксеня прятала дневник. Когда классная проверяла подписи родителей за прошедшую неделю, в дневнике красовалась материна подпись. Мать, в конце концов, увидев двойку, долго разглядывала свою подпись.
– Как же так? Двойки же не было…
– Была, мамочка, была, ты просто не заметила… – уверяла Ксеня.
Мать недоверчиво перелистывала страницы. На третий раз Ксеня была разоблачена. Ох и досталось ей! И китайские рейтузы не спасли.
Собираясь вечером на улицу, Ксеня тайком прихватывала с собой старый кухонный нож, Зойка тоже. По вечерам в городе девчонкам гулять было небезопасно. Тем более, что во всех кирпичных домах существовали подвалы и чердаки. Преступлений совершалось много, но ни говорить, ни писать было нельзя. Новым правителем Хрущевым, который заменил старые солидные деньги на новые вдвое меньше по размеру и оттого несолидные, было заявлено, что страна живет при развитом социализме, что жить стало лучше, жить стало веселее. Еще он обещал к 80-му году построить коммунизм, хотя никто не знал, что это такое. Выглядел правитель несолидно: лапоть деревенский. Говор был простонародный. Когда поменялись деньги, цены на продукты стали просто смешными. До тех пор, пока люди ни разобрались, что к чему.
Из XXI ВЕКА: Все правители лгали, лгут и будут лгать.
На самом деле жить в Норильске было страшно, гулять – тоже. Но они были бы не они, если бы слушались родителей и сидели по домам. Большинство подростков в 14 лет самоутверждаются, и они не были исключением. На вечерние прогулки они брали с собой ножи, их они обычно использовали для безобидных проделок. Обрезали на столбе веревку, на которой сушилось белье: мерзлое, оно падало с хрустящим звуком. Они не думали о злом умысле, им просто нравилось рисковать. Ведь их могли засечь, погнаться… Ох и дали бы они деру!..
Могли они нарваться и на шайку хулиганов, мальчишек их возраста. Те тоже искали приключений, рассеивали скуку долгих зимних вечеров. Однажды и нарвались. Правда, их было трое, они с Зойкой провожали домой девчонкуодноклассницу. Несколько мальчишек внезапно появились из-за угла. Окружили их и почти прижали к стене здания. Они изрядно струхнули: лица были незнакомые. Один из них, стоящий напротив Ксени, развязно прогундосил:
– А не пощупать ли их? Они уже большенькие…
Другой добавил:
– А может, в папу-маму поиграем?
– А вот та, курносенькая, ничего… И губы накрашены. Ай-ай-ай, такая молодая…
Они издевались на словах, пока не распуская рук. Ксеня до боли прикусила нижнюю губу, нащупала в кармане нож и сжала рукоятку. «Вот и пригодился», – мелькнуло в голове.
– Ну, что, поделим пташек? Чур, мне вот эта, с красными губками, – высокий, длинноносый парень показал пальцем на Ксеню.
Галка, одноклассница, всхлипнула.
– Пожалуйста, мальчики, отпустите… Нас родители потеряли… Миленькие, пожалуйста…
Зойка придвинулась ближе к Ксене. Теперь они стояли плечо к плечу.
– А маленькие девочки по ночам не ходят, – назидательно сказал коротышка в полупальто и шапке «пирожком», – по ночам только гулящие ходят…
Ксеня с Зойкой недавно только «зайцами» пробрались в кинотеатр и посмотрели фильм «Гулящая» с Гурченко в главной роли.
– Ну, хватит лясы точить. Разбирай! – высокий схватил Ксеню за рукав, потянул к себе.
Огненными буквами вспыхнуло в мозгу: «Умри, но не давай поцелуя без любви». Она давно записывала в общую тетрадь мысли-афоризмы. Резко оттолкнув парня, выхватила из кармана нож, занесла над плечом.
– Только тронь, – заявила она твердо и почти спокойно: страх куда-то улетучился, – Я сумею за себя постоять. И за них тоже.
Вид у нее при этом был отчаянный. Парни замешкались, отступили. Высокий сплюнул сквозь зубы.
– Скажите «спасибо», что я сегодня добрый. А ну, кыш отсюда!
Они бросились врассыпную. Ксеня и нож уронила. Шайка топала вслед и свистела. С того раза гулять по чужим дворам они с Зойкой воздерживались. Поскольку город был режимный, учащимся гулять можно было только до девяти часов. Както они с Зойкой катались на санках с горы возле бассейна и забыли о времени, еще и спросить было не у кого. Оказалось, что уже полдесятого. Они шли по улице, немного труся, их задержали милиционеры и отвели в участок. Зойка плакала и просила прощенья. Женщина-милиционер записала их данные и грозилась сообщить в школу и родителям. Ксения вела себя дерзко-вызывающе, заявив, что ее мать работает в Окружкоме профсоюзов, и поэтому в школе ей ничего не будет. Но ремня от матери она все же получила.
Город вымирал, когда бушевала черная пурга, ни зги не было видно в двух шагах, а фонари казались еле тлевшими свечками. Хотя о пурге сообщали заранее, некоторые граждане по разным причинам оказывались на улице или, не дай Бог, в тундре. Опасность была смертельная. Когда пурга прекращалась, по городу и тундре ездили крытые машины с милиционерами и собирали трупы замерзших людей.
ИСТОРИЯ ПЕЧЕНИ ТРЕСКИ
Явление первое
Ей было четырнадцать лет, когда она впервые узнала о существовании этих консервов. Банки с яркой желтой этикеткой стояли на полках центрального гастронома плотными рядами и явно не пользовались спросом у жителей Норильска, столицы Заполярья. В восьмом классе Ксеня задумала поставить пьесу «Золушка» к Новому году. Она была режиссером и Золушкой, Зойка играла вредную сварливую мачеху, у нее роль здорово получалась, Принца играла Галька Онисько, похожая фигурой на мальчишку. Костюмы были шикарные, из ДИТРа, мать помогла. Репетировали они у Галки Семеновой дома. Как-то им захотелось есть, и они купили самую дешевую «Печень трески», она оказалась в масле, похожем на рыбий жир, который Ксеня ненавидела. Все ели за милую душу, она есть отказалась.
В Окружкоме профсоюза, куда мать устроилась поближе к дому, была самая большая в городе библиотека, куда с помощью матери Ксеню записали, ей было уже 14 лет. Здесь Ксения отвела душу. Как писал в своей автобиографии Вальтер Скотт, автор «Айвенго»: «Меня швырнуло в этот великий океан чтения без кормчего и без компаса». Тоже произошло и с ней. Особого контроля за ней не было, и семиклассница пристрастилась брать взрослую литературу, открыла для себя зарубежных писателей: Золя, Мопассана, Драйзера, Флобера, Цвейга и многих других. Эти книги почему-то ее мало трогали, казались вымышленными, вроде, так не бывает. Зато книгам советских авторов она верила от всего своего маленького сердца. Особенные рыдания у нее вызвала книга (автор не помнит названия) советского писателя Шолома Алейхема про его детство с погромами. Она не могла понять своим еще не развитым умишком, как такое может быть в таком, например, счастливом детстве, какое было у нее. Во время чтения прорвались воспоминания из детства в Минусинске, где в будках ремонта обуви сидели картавые пожилые мужчины, иногда одноногие (?), а по дворам ходили старьевщики: – Берь-еем ста-гое…
Не все книги ей разрешали брать из-за возраста. Она не возражала, но, ПРИМЕТИВ, ГДЕ СТОЯЛА ЗАПРЕТНАЯ КНИГА, в следующее посещение просто прятала ее за пояс юбки под кофту, специально так одеваясь. Возвращала таким же образом. Однажды она увидела толстую книгу в разделе «Специальная литература», она называлась «Судебная экспертиза», открыла ее и зачиталась. Убийца заманивал женщин к себе в частный дом, убивал, расчленял тело и варил в котле в сарае, мясо съедал, кости вывозил на машине за город на свалку, а бульон выливал в вырытую за сараем канаву. Жуткое варево стекало в овраг. Преступления длились не один год. Каннибал был очень хитер. На автовокзале и железнодорожном вокзале он высматривал одиноких приезжих женщин и под видом хозяина дома, где сдается недорого комната, увозил их на машине к себе.
Собака соседа повадилась лакать из канавы. Хозяин унюхал от нее странный запах, проследил и увидел текущую по канаве жидкость, похожую на жидкое мыло. Он отлупил собаку, заделал дыру в заборе, но непонятная жидкость не давала ему покоя. Мужчина сообщил участковому. Когда каннибала арестовали, город долгое время пребывал в ужасе. Конечно, Ксеня утащила книгу за поясом и прочитала. Прочитанное запечатлелось в архиве ее памяти на долгие годы.
XXI век. Через сорок с лишним лет она написала свой первый детектив «Поцелуй Сатаны».
Из-за матери ей допускались вольности, она сама шарилась по полкам, выбирая книги. Так она прочитала «Жизнь», «Милый друг», «Пышка», а еще страшную книгу Золя «Человек-зверь». Она не все понимала, спросить было не у кого, но книги будили мысли, будоражили чувства, с ними у нее была тайная дружба, слегка овеянная страхом разоблачения. Но она была осторожна, приходила, когда была смена доброй интеллигентной старушки, которая близоруко щурилась, занося данные в формуляр. Однажды Ксеня обнаружила клад: под нижней полкой прямо на полу лежали стопками сильно потрепанные книги, по-видимому, списанные, но не попавшие еще по назначению. Сколько интересного она там выудила! Даже прочитала «Гулящую» Панаса Мирного и книжку про шпионку «Щупальца спрута». Ей так понравилась героиня, что некоторое время Ксюша мечтала оказаться на ее месте, только не шпионкой, а советской разведчицей. Жажда риска и опасностей с возрастом не проходила, а усиливалась. Окружающая ее действительность казалась пресной и скучной. Прятать дряхлые книги от матери было труднее, но это ее не пугало. Она готова была даже понести наказание, которое было такой мелочью перед захватывающим миром книг! Даже Зойка не знала о ее тайне. Можно сказать, что книги заменяли ей живое общение с родителями, с подругами, с их помощью она взрослела и набиралась умаразума.
…Рядом с городом находился поселок Талнах, где добывались урановая руда и никель, имевшие стратегическое значение для всего СССР. Снабжение продуктами в магазинах было 1 категории. В те, теперь уже далекие 50-е годы люди не знали слова «дефицит», его просто не было. Во всяком случае, в этом городе – городе зеков, бывших зеков, вольнонаемных или вербованных (список был довольно разнообразен), одним словом жителей, прибывших по своей воле, а чаще – по чужой, в магазинах было все: от халвы пяти сортов до консервов – двадцати наименований, включая «печень трески». Нелегко обозреть за давностью лет то изобилие продуктов, что красовались на витринах гастронома.
Красная и черная икра стояли в больших хрустальных вазах на стеклянных витринах сверху. Бери и пробуй! Покупали ее редкие покупатели, те, что знали в ней толк. В Норильск кого только ни ссылали в годы репрессий: от высших чинов, в том числе военных, до людей искусства. В основном, из Москвы и Ленинграда, а также других более-менее крупных городов. Все они жили в городе, но – как бы в зоне, которая существовала рядом с городом, жила рядом с ним – через дорогу. Зона – это несвобода. И ссыльные были несвободны, они не могли уехать туда, куда хотели. Их видимая свобода была свободой тигра в клетке.
В городе стоял памятник Ленина на площади его же имени, венчавший улицу его же имени, а по окружности площади располагались как раз самый большой гастроном и самый большой универмаг, где отец купил ей первые в жизни туфельки на низком каблуке… Днем помещение гастронома было почти пустым, продавцы скучали, витрины ломились от изобилия. Похоже было на коммунистический рай. Жители города почти ВСЕ РАБОТАЛИ. ИЛИ УЧИЛИСЬ. ИЛИ СИДЕЛИ. Одним словом, зона в зоне, а вокруг на тысячи километров тундра, где даже волки не водились, не то, что люди.
В гастрономе с Ксеней случилось ЧП. Дело было зимой. Был какой-то праздник, к родителям пришли гости: семейная пара. Как часто бывает, не хватило спиртного. Идти никому не хотелось. Отцу пришла в голову идея отправить Ксению за спиртом, гастроном был совсем недалеко. Она нехотя отправилась. Продавщица ни в какую не хотела отпускать ей бутылку спирта. Ксения упрашивала. Наконец, вникнув в ситуацию, она сжалилась над девочкой, лишь попросила спрятать бутылку под пальто. Что Ксеня и сделала. Двинулась от прилавка по мраморному полу почти пустого гастронома. Но забыла, что надо придерживать бутылку руками поверх пальто. Сделала несколько шагов, бутылка выскользнула и с грохотом разбилась о мрамор. Пришла домой заплаканная, ее не ругали, отец все же отправился в гастроном сам.
Еще Ксене запомнились из юности выборы, особенно весенние. Родители с утра наряжались, шли на выборы. Весь город шел нарядный и праздничный на места выборных участков. Там работали буфеты с некоторыми продуктами, которых в городе не было на данный момент. Было спиртное из краников. Люди верили, (а может, нет?) что с их мнением считаются. Были демон (от слова демон) страции: 7 ноября и 1 мая. Их начали гонять уже с пятого класса.
XXI век: Через много лет, из архива памяти, появились стихи об этих событиях: Шли в колоннах зека всех калибров, мастей. Русский даже не знал, что с ним рядом еврей. Север, Север, Норильск, ты не только тюрьма, ты не только пурга и кромешная тьма. Ты из зеков ковал настоящих людей, и они проживали под сенью твоей. О колоннах школьников: А мороз двадцать пять, но идут малолетки, будто сотни лисят отпустили из клетки. Так немеют носы, ну, а губы синеют, но бегут, коченея, а знамена все реют… 1 МАЯ: Красоту навели, приоделись нарядно, и опять все на площадь толпой безотрадной. Хорошо, что теплело, и валенки прочь, но бежали в колоннах и матерь, и дочь. Будто стадо скота под свистящим кнутом. Я об этом подумала, правда, потом.
Почему-то вспомнилось: пошли они с Зойкой на каток. А там Гивка с девчонкой. Ну и что? А Ксеня как рехнулась. Ушла с катка, бросив Зойку, по дороге домой взахлеб рыдала. Перед домом слегка ударилась головой о стену, пришла домой и притворилась, что упала и ударилась головой об лед. Родители вызвали «Скорую». Ее положили в больницу с диагнозом «сотрясение мозга».
Ох, и оторвалась она тогда, совершенно здоровая! Ставила перед настоящими больными: детьми и помладше, и постарше нее спектакль «Принцесса на горошине», стаскивая матрасы со всех кроватей, и изображала из себя принцессу. Палата была из обычных детей, и они ей восхищались, ей рукоплескали. А уж когда она надевала на себя простыню, как белое концертное платье известной певицы Лидии Руслановой, (отсидевшей 10 лет в Норлаге), и начинала петь громким голосом, оря изо всех голосовых связок, музыкального слуха у нее не было, никто замечания не делал (дети же были, простецы): Я НА ГОРКУ ШЛА, ТЯЖЕЛО НЕСЛА, УМОРИЛАСЬ, УМОРИЛАСЬ, УМОРИЛАСЯ …ЗНАМО ДЕЛО, УМОРИЛАСЬ, УМОРИЛАСЯ.. ИЛИ ВАЛЕНКИ ДА ВАЛЕНКИ, А – НЕПОДШИТЫ, СТАРЕНЬКИ. НЕЛЬЗЯ ВАЛЕНКИ НОСИТЬ, НАДО ВАЛЕНКИ ПОДШИТЬ.
Последний год в Норильске… Ей исполнялось шестнадцать лет, и родители разрешили пригласить девочек из класса и даже мальчиков. Их было двое, а девчонок – пятеро. Сначала все чувствовали себя скованно, тем более – под строгим оком Ксениных родителей. Но, выпив по нескольку глотков шампанского, они осмелели. Заговорили возбужденно и все сразу. Поставили пластинку. Ксеня танцевала с Гивкой, мальчиком, который ей давно нравился, но без взаимности с его стороны. Он был гордый, самоуверенный и немного жестокий. Он, конечно, догадывался, что нравится Ксене. Как-то они стояли близко друг к другу, ей так хотелось, чтобы он ее поцеловал! А Гивка вдруг наклонился и укусил ее в шею, получилось похоже на засос, и ей долго пришлось прятать от матери пятно.
Пластинка на радиоле пела проникновенным голосом Майи Кристалинской:
– Ты не плачь, не грусти, как царевна Несмеяна. Это милое детство прощается с тобой…
Детство действительно прощалось. Ксеня ощутила это, когда ей по-взрослому захотелось прижаться к Гивкиной груди в тонком коричневом свитере. Они танцевали танго. В перерыве между танцами фотографировались. Ксеня нравилась другому мальчику, его звали Валька, и он наклонил голову к ее плечу. Так они и вышли на фото, как жених с невестой. Провожали ее в кузове грузовика с вещами. Поехали девчонки и Гивка с Валькой. Прощались в аэропорту. Девчонки всплакнули, Ксеня крепилась. Она обнялась, перецеловалась со всеми, кроме Гивки. Напоследок подошла к нему, все отвернулись. Это был первый в ее жизни поцелуй в губы. Грузовик отъехал, одноклассники махали на прощанье руками. Ксеня резко отвернулась и зарыдала, закрыв лицо руками. Детство и первая девичья любовь остались в Норильске – городе вечной мерзлоты, ослепительно-белого снега и долгих зимних полярных ночей.
БАЛЛАДА О ДЕТСТВЕ
посвящаю своим землякам-норильчанам
Норильск – это зона, это зимняя тьма. Ну, а мы жили-были, не сходили с ума. Норильск – это валенки, телогрейки, меха. После этого города все чепуха. И сопрано Руслановой, и мороз пятьдесят, И на площади – Ленин, полстолетья назад. Город злой мерзлоты, город зоны и тьмы, Никогда не держал он для духа тюрьмы. Было: пурги сбивали нас яростно с ног, Но по школам мы шли, пусть не знали урок. Нас, детишек, мело, как сметало с земли. Ну, а мы уцелели, мы что-то смогли! С политзеками ели мы хлеба краюшку, а родители пели с матерками частушку. Окуджава запретный из общаг нам звучал, Был у нас, норильчан, тыщевольтный накал. И мы жили, мы были и лабали чарльстон, Правда, не было храма, мы не слушали звон. Не звенели в Норильске – чисто – колокола… Норильчане мои, где же вера была? Где же вера в Христа, в Будду или Аллаха? Ведь, восставши из праха, мы становимся прахом. Жаль, что истину эту мне изрек не Норильск. Но остались от юности жажда знаний и риск. Норильчане мои, где же вера была? Знать, сгорела она в ваших душах дотла, Знать, осталась она где-то там, за колючкой — Вместе с охрами злыми, парашей вонючей… Нас, детишек, мело, как сметало с земли!.. Ну, а мы уцелели, мы что-то смогли. Я безбожником город в своем сердце храню. «Аз воздам!» – только я никого не виню. 1955-1963 гг. (написано 31.03.99 г.)Из дневника: 1963 год. Отъезд из Норильска навсегда.
Да, не зря говорят: лучшее – враг хорошего. Мне было очень хорошо, а хотелось еще лучше, а вот теперь, пожалуйста! Никогда мне не было так горько и тяжело. Я даже не думала, что так привыкла к Гивке, что мне будет так трудно без него. Кажется, наоборот я должна забывать его, а получается, что с каждым днем я все больше хочу увидеть его. Неужели я по-настоящему люблю его или настолько привыкла, что не могу без него? «Разлука для любви, что ветер для огня, маленькую любовь он потушит, а большая разгорится еще сильнее». Неужели это относится ко мне? Но почему тогда у меня нет ничего похожего на любовь, которую описывают в книгах?
Я, наверное, как увижу его, так потеряю голову от радости. Как, как понять мне мое чувство? Какое определение ему: любовь, увлечение, привычка?
Тогда увлечение? Но не может же увлечение длиться так невыносимо долго? Любовь? Хотя я и бросаюсь такими словами, как люблю, обожаю и т.д., но все-таки боюсь думать, что я понастоящему люблю. Потому что с любовью справиться очень трудно, особенно мне почти невозможно, что же я тогда буду делать? Как жить? Самое страшное, что он не любит меня. Если бы я нравилась ему, все было бы совершенно по-другому, я не мучилась бы так, не страдала, не переживала. А то с таких лет (16) портить нервы, сердце… Что со мной дальше будет? Но я не в силах остановить свое влечение к нему, я тянусь как к свету, к воздуху, А как жить без света, воздуха? Невозможно. Знает ли он, как сильно мое чувство? А если и знает? Сердцу не прикажешь. Уж если сердце выбрало кого-то, то ничто не может остановить его в достижении цели. Но неужели мое чувство не может совершить чудо? Неужели его сила не может вызвать ответное чувство?
Но не все же мне время думать только о плохом. Так я вообще заболею от тоски и обиды. Стоило мне в Норильске не увидеть его дня два, как я уже ходила сама не своя. А теперь? Прошел почти месяц!!! А еще бабушка надвое сказала, увижу ли я его вообще. Я даже врагу не пожелала бы таких переживаний, такой тоски. Неужели так устроена жизнь: за минуту счастья расплачиваться часами несчастья? Плохо, очень плохо! Но, се ля ви, пора привыкнуть. Хватит разводить философию. Это в 16-то лет! Нашла достойное занятие.
А я, может, за то и люблю его, что он умеет сдерживать себя. Почему, когда он целовал меня, то смотрел мне в глаза? Почему сразу после поцелуев мы заговорили с ним как ни в чем ни бывало? Или как будто мы давно привыкли к таким вещам или, чтобы скрыть неловкость? Я, конечно, чтобы скрыть смущение, даже стыд. А он? Неужели он привык?
Ведь без мечты невозможно жить. Человек пуст, ограничен, если он не мечтает. Так и я живу сейчас только мечтами. Сижу, пишу, а сама думаю: скорей бы лечь в постель и мечтать, мечтать… Пока ни засну. Наверно, поэтому я стала любить одиночество и ужасно злюсь, если мне мешают. Переписывала в записную книжку нужные и полезные цитаты. Есть такие, в правдивости которых я убедилась на собственном опыте. Да…Так и идет моя «каторга». Я как в Сибири. Даже хуже: ни подруги рядом, ни друга. Кроме этой тетради, я никому не могу рассказать то, о чем пишу.
Сейчас играла в теннис. Слава Богу, отвела душу. Играть стала, конечно, хуже, но ничего – разыграюсь. На велике покаталась. Поем, пойду в библиотеку запишусь: почитать охота. Скорей бы увидеть Гивку, моего милого, хорошего, дорогого и любимого. Мне бы только увидеть его – только за одно это я все бы отдала и была бы счастлива очень, очень. Лучшего я не хочу.
Книгу прочла «Бесики» Белиашвили. Грузинский исторический роман. Ничего книжонка! Вообще мне начинают нравиться книги грузинских писателей, причина, конечно, ясна. Но в этой книге я впервые встретила имя Гиви да и то всего два раза. На меня сразу как-то волнение нашло. Удивительно. Сейчас даже руки трясутся. Ну, почему в книгах так ясно описывают все чувства, которые происходят с влюбленными? А я не могу словами выразить того, что со мной происходит. Чувствовать чувствую, а описать не могу.
Я сейчас вспоминаю поцелуи Володьки (интрижка в деревне Березовка), как раньше вспоминала поцелуи Гивки. Странно. Пожалуй, стоит попереписываться с ним. Уж очень он здорово целует. О?! У меня появляются пошлые мысли. Мне почему-то сегодня показалось, что этот дневник никто никогда не прочтет, вполне возможно, что по окончанию тетради я уничтожу его: уж слишком прямо и откровенно я высказываю свои мысли и чувства.
Я чересчур повзрослела за последние три дня, я чувствую, что всегда буду хотеть от мальчишки поцелуев. Какой ужас! Это пошло и низко. Вчера по телику передавали «Очарование любви», пела Э. Уразбаева. Я сразу вспомнила, как страсть от близости любимого мальчишки впервые возникла у меня к Гивке, когда мы танцевали с ним под эту песню танго. Еще передавали песню: «Загляни, луна, в окошко». Это его любимая (вторая). Сейчас читаю книгу «Юность короля Генриха 1У Генриха Манна. Довольно пошлая книжонка в отношении любви. Ну, у меня и нервишки! Никуда не годятся. Чуть что – слезы. Уж пора бы привыкнуть к тому, что предки больше врут, чем говорят правду.
Позавчера ездили отдыхать на берег Енисея за Дом отдыха. Было просто чудесно. Мы со Светкой не вылезали из воды. Утром я встала в 5 часов и до 7 сидела на берегу. Как красиво! Видела, как солнце выглянуло из-за тучи. Даже сочинила стих про Енисей: Я сидела на берегу Енисея, я не знаю реки величавей…
Вчера опять была семейная трагедия: папка чуть-чуть ни ушел от нас. Я бы очень этого хотела, но у него «кишка тонка». По-моему, не с его слабым сердцем. Внешне я сохраняю олимпийское (?) спокойствие, а внутренне… Чем черт не шутит!
Летели в Москву 12 часов, была одна посадка в Горьком. В самолете мужчины курили, меня тошнило, но я крепилась, а маме хоть бы хны. Наконец приземлились в Домодедово. Перекусили в буфете. Докторская колбаса была необыкновенно вкусная.
Живем в Москве 3-й день в гостинице «Алтай» – немного далеко от центра, но ничего. Если бы ни батя, все было бы тип-топ. Слишком охоч он до достопримечательностей. В Третьяковской галерее два часа проторчали. У меня уже в глазах рябило от картин. Правда, запомнилась страшная картина: Иван Грозный убивает своего сына. Кровь как настоящая. А вообще к шедеврам я осталась равнодушна, не было ни восторга, ни благоговения перед человеческим гением. Может, мала была еще.
Москва – очень красивый и величественный город. Огромные дома, которые в сравнение с норильскими кажутся великанами. Правда, слишком людный и шумный город, но все равно мне он понравился. Ходили в парк Горького, катались на колесе обозрения: городу не видно конца и края. Вечером были в Большом театре, смотрели балет «Лебединое озеро» с Галиной Улановой. «Вот такой балериной я бы стала,» – подумала Ксюша. Ходили в гости к другу отца (он жил когда-то в Норильске), а сейчас жил в столице СССР и работал в Моссовете.
Из воспоминаний: Ксеню поразила размерами квартира на пятом этаже высотного дома почти в центре столицы, она и не знала, что такие бывают. Царские хоромы, как в сказке. А еще сибирский кот. Она, пока взрослые сидели за столом, как всегда, путешествовала по комнатам. Зашла в одну и с порога увидела лежащую на широком подоконнике меховую горжетку. Такая была у матери из черно-серебристой лисы. Она накидывалась на зимнее пальто, как воротник. Ксеня подошла и захотела примерить. Взялась за пушистый мех обеими руками, и вдруг раздалось громкое и грозное: – Мя-я-яу! Она громко взвизгнула и отшатнулась. Зная свою дочь, в комнату примчалась мать. Ксеня застыла в ужасе, глядя расширенными глазами, как «горжетка» поднялась на подоконнике, прогнулась, а потом встала горбом и снова мявкнула. Это оказался огромный кот.
Из дневника: Получила письмо от Володьки. Даже не знаю, какое чувство оно во мне вызвало. Пожалуй, просто удовлетворение. Я, кажется, становлюсь пустой и бессодержательной. Зачем мне было нужно письмо от него? Чтобы удостовериться в его чувстве? Я просто вертихвостка. Могу ли я после поцелуев с Володькой считать себя чистой и правдивой перед Гивкой? Я, по идее, ничем не отличаюсь от современной молодежи: день – один, день – другой. Как пошло! Но не должна же я одевать черный платок и черное платье. Сама не знаю, как жить, как вести себя. Может, просто мозги кручу. Нехорошо. Но теперь все: только Гивка, один Гивка.
Вот и прожили месяц в Краснодаре. Милый городишко, река Кубань прямо в городе, вода мутная и холодная, но я все равно искупалась. Много разных фруктов, и все дешево. Отец искал дом, хотел здесь жить, друг у него закадычный дядя Арся, но что-то не сладилось. Фильм «Три мушкетера» не понравился, сильно отличается от книги, «Банда подлецов» – мура, «Три плюс два» бесподобный фильм, «Деловые люди» – в восторге, дико хохотала. Книг прочла очень много, закончила эпопею о трех мушкетерах, читала в читальном зале. Много фильмов смотрела по телику. Ела досыта фруктов, ничего не делала, спала до 11 часов.
В Сочи неплохо провела время, купалась, плавала на лодке, загорала, ходила в кино, получала письма от своих норильчан, отвечала. Сам город Сочи ничего особенного, много кавказцев, несмотря на то, что я ходила с родителями, пытались приставать и цокать восхищенно языком, изрекая приторно-сладкие словечки, типа, вай, какой персик, как будто я не зеленая девчонка, а взрослая девушка. Гивка-то наполовину грузин, а я его даже не воспринимала как кавказца. А эти уже взрослые и такие приставучие. Фу! Гивка тоже написал, очень радовалась, перечитывала.
Часть вторая
Вьюга смешала Землю с небом. Серое небо с белым снегом… Шел я сквозь вьюгу, Шел сквозь небо, Чтобы тебя отыскать на земле… (пел Муслим Магомаев)ЕНИСЕЙСК, город ссыльных и спецпоселенцев
1963-66 годы. Еще в Норильске Ксеня частенько слышала от родителей, что они поедут на юг, купят там дом…
Остановились они в небольшом провинциальном, похожем на Минусинск, городке Енисейске на берегу Енисея. На ее вопрос, почему они не поехали на юг, как собирались, отец веско ответил:
– Так надо.
Мать объяснила более пространно, что после стольких лет на Севере нельзя резко менять климат, что двое из их хороших знакомых уехали из Норильска на юг и вскоре умерли, что им с отцом не хватает два года для того, чтобы заработать надбавку к пенсии, а Енисейск по климатическим условиям приравнен к Северу. Ксеня удивилась, что родители, такие молодые, уже думают о пенсии, но ничего не сказала: Енисейск так Енисейск, надо так надо. Да и городок сразу сделался ей мил тем, что напомнил Минусинск деревянными, изредка каменными домами, пыльными, сонными улицами…
С год они и здесь жили на частной квартире, занимая три комнаты в особняке. И были почти хозяевами с небольшой оговоркой: владельцы особняка оставили на их попечение двух стариков. Дед, довольно еще бодрый для своих восьмидесяти лет, поторговывал на пристани антоновками из своего сада, куда Ксене вход был строго воспрещен. Но она все равно таскала и яблоки, и малину, благо окно ее комнатки – у нее появилась своя собственная – выходило в сад. У деда была подруга жизни – неопрятная, сгорбленная бабка, на лицо – сущая ведьма: острые колючие глазки, тонкогубый, зло поджатый рот и крючковатый нос с волосатой бородавкой на левой ноздре. «Ну, баба-Яга в натуре», – заключила Ксеня, впервые увидев ее.
Ксеня брезгливо морщилась, если ей приходилось есть за столом одновременно с бабкой. У той все валилось из рук. Она просыпала соль, проливала суп, сыпала сахар мимо чашки с чаем и собирала со стола, покрытого старой, потрескавшейся клеенкой, сухонькой, скрюченной ручкой с грязными ногтями хлебные крошки и, широко разевая беззубый рот, кидала их туда и при этом ехидно косилась в сторону Ксени и, конечно же, ловила ее брезгливую гримасу. Ксеня подозревала, что бабка ведет себя так назло ей, выставляя свою неопрятность в пику Ксениной аккуратности.
Их молчаливая вражда, правда, не затянулась. Однажды они разговорились. Бабка и вправду оказалась ведьмой-знахаркой: она умела заговаривать ячмень, чирей, зубную боль. Но, кроме того, что было самым притягательным для Ксени, бабка умела привораживать и отвращать мужчин. Она поведала, что в молодости не была красавицей, но дед, в ту пору самый видный парень в их околотке, полюбил именно ее. «С божьей помощью» – притворно вздохнула бабка, заканчивая рассказ.
Дед до сих пор смотрелся молодцом, особенно когда хлебнет из запрятанной где-нибудь в саду бутылки дешевого винца. Глаза его начинали молодо блестеть, щеки покрывались румянцем: он выпрямлялся и молодцевато расхаживал по садовым дорожкам. Причем, ходил он не просто так, наобум, а держал направление в сторону очередной, спрятанной в саду бутылки. Их обычно бывало несколько. И кружа так по саду, к вечеру он набирался основательно и становился прямо-таки храбрецом – трезвым он побаивался своей супруги – и даже хлопал ладонью по бабкиным юбкам, что означало – заду. Такой игривый становился.
Ксеня пошла в десятый класс. Школа была деревянная, двухэтажная, старой постройки. Классы были тесные, коридоры узкие: в них могли пройти плечом к плечу от силы четыре человека. Посередине небольшого двора стояла уборная «М» и «Ж». К концу учебного года Ксеня и еще четверо девчонок начали покуривать: сначала дамские длинные папиросы «Любительские», а потом болгарские сигареты «Шипка» или «Солнышко».
Ксеню посадили за первую парту в крайнем ряду возле двери. Рядом с ней позже на пару месяцев подсадили тоже новенькую: Люську Токареву, Торю – симпатичную девицу с большими, слегка раскосыми, приподнятыми к вискам голубоватосерыми глазами, аккуратными темными бровями, изящным прямым носом и полногубым ртом, который в отдельности смотрелся бы несимпатично, но вкупе с остальным придавал лицу особую пикантность. У Люськи были роскошные пепельные волосы, раскинутые по плечам, стройная фигура с небольшой грудью, тонкой талией и прямыми мускулистыми ногами.
Ксеня тоже к тому времени тоже обладала внешностью броской: дерзкий взгляд зеленовато-карих глаз, вздернутый, но аккуратной формы нос, губы пухлые – от природы малиновые, темные брови вразлет, овал лица монгольского типа – с приподнятыми вверх скулами, в деда-бурята. Копна небрежно собранных на шпильки каштановых вьющихся волос завершала ее портрет. Фигура и ноги, что особенно ценилось мальчиками и являлось предметом зависти девчонок, были в полном порядке.
До появления двоих новеньких сразу да еще таких видных в классе были свои авторитеты. Одна из девчонок – Валька Бараковец – считалась первой красавицей. У нее была идеальная фигура, хотя ноги портили слишком полные икры, и пышные, мелковьющиеся пшеничного цвета волосы. Лицо с серыми глазами, прямым римским носом и тонкими, но изящной формы губами лучше смотрелось в профиль, чем фас – тогда оно выглядело плоским. Щеки цвели кирпичным румянцем крепкой, ядреной деревенской девки. Вале же хотелось аристократической бледности. Но против природы не попрешь, и пудра не помогала. Зато в профиль она была неотразима!
Вторым авторитетом по всяческим проказам, типа коллективного ухода с уроков, отказа отвечать домашнее задание, была Лилька Кулакова. На свой день рожденья отличилась тем, что принесла в класс большую, «долгоиграющую» бутылку портвейна. На одном из уроков пустила ее по рядам. В тот момент, когда учитель отворачивался к доске, очередная девица делала глоток – другой прямо из горлышка. Мальчишки в этом мероприятии не участвовали. Они в классе были на вторых ролях: скучные и порядочные, к тому же еще не употребляли спиртного и, за исключением двух отъявленных, не курили. Внешностью Лилька, как две капли воды, напоминала Калягина, только моложе, и когда он в одном из фильмов играл женскую роль.
Не прошло и двух месяцев со дня появления Ксени в классе, как она стала привлекать к себе всеобщее внимание своим внешним видом и вызывающим поведением. Ее школьное платье было чуть короче, чем у остальных. Брюки она надела первая в городе, за ней последовала Люська. Они дерзко шагали по центральной улице, и бабки сыпали ругательствами им вслед. Были и такие, которые плевались. Торя (прозвище от фамилии Токарева) – в серых брючках, Лапка (прозвище Ксени) – в черных. Бабки крыли: – Сучки! Ну, оторвы!
На уроках они часто переписывались стихами, одна начинала, другая продолжала, типа: Кто-то камень положил в его протянутую руку. Какой-то прохожий, видать, пошутил, чтоб разогнать свою тусклую скуку. И нищего лицо окаменело, будто камень волшебную силу имел. Но крик вдруг раздался из высохшего тела: – Спасибо, прохожий, меня ты согрел. И взгляд неподвижный слепца заблестел соленою влагой. Неужель у жестокости нет конца? Неужель к горю еще обиду добавить надо? Иногда это были шуточные пародийные строки: Отелло, негр ревнивый, он Дездемону задушил. Ну, что ты ржешь, мой конь ретивый, и не грызешь своих удил? Демон Тамару хотел завлечь и по небу с ней похилять. Но ангел невинный сумел уберечь, у Демона злого ее отобрать. Татьяна Онегина любила и объяснилась в любви ему. Бежала за ним, как пегая кобыла, и ржала: – Тебя не отдам никому! И сами ржали. Как-то Ксеня написала несколько строк стиха: Я завидую ветру, что целует губы твои, я завидую солнцу, что ласкает тело твое. А небо, жестокое небо взгляд твой ловит оно. Видно, только завидовать мне и осталось. (Смешно, но эти несколько строк были опубликованы в 1975 г. в журнале «Простор», Алма-Ата).
Они с Люськой были едва ли ни единственными в классе, а может, и в школе, кто читал книги. Потом обсуждали прочитанное, засиживаясь часами на скамейке у Люськиного дома. Подруга жила у тети Лиды, муж которой дядя Петя был директором базы «Золотопродснаб». Он снабжал дефицитными продуктами высших чинов Енисейска. Ксенин отец дружил с ним. Жили тетя с мужем небедно, на кухне стоял огромный холодильник «ЗИЛ». Тетя Лида казалась Ксене суровой дамой, может, из-за очков с толстыми стеклами, и она чувствовала себя неловко в их доме, все-таки репутация у нее в городе была не ахти.
С продуктами в енисейских магазинах было шаром покати, не лучше, чем много лет назад в Минусинске. Одно время даже за черным хлебом мать занимала очередь в пять утра. И это, как заявлял Хрущев, при развитом социализме. Наступил 1964 год… Как Ксеня услышала из разговоров родителей, страной уже правил не Хрущев-кукурузник, а Леонид Ильич Брежнев. Этот правитель ей нравился: очень симпатичный с густыми черными бровями статный мужчина. Он смотрелся внушительно.
В школе дела обстояли по-прежнему неважно. Теперь им постоянно выговаривали учителя за прически (в моде появились начесы), особенно одна – завуч и математичка. У нее была кличка «Коробочка» – из-за бесформенности фигуры.
– Будьте добры привести себя в приличный вид, как положено советской школьнице. У вас слишком короткое платье. А прическа? Я больше не пущу вас с такой растрепанной головой на урок. Вы должны привести в порядок свои волосы, – отчитывала она Ксеню, вызвав в свой кабинет.
– А как мне привести в порядок волосы? – непонимающе спрашивала Ксеня.
– Можно разделить их на пробор – прямой или косой и собрать на затылке в пучок, – не подозревая подвоха, отвечала Коробочка: у нее были жидкие, собранные в пучок волосы.
Тут Ксеня не выдерживала.
– Ну уж нет! На прямой ряд пусть отличницы носят, а я себя уродовать не хочу. Мне так идет, и я буду так носить, – она разворачивалась и покидала кабинет.
Коробочка неслась за ней вдогонку по коридору и кричала:
– Нет, не будете! Я не позволю позорить свою школу! Чтоб завтра мать пришла…
Ксеня стремительно уходила, расшвыривая «клашек», так они называли учащихся младших классов. На глазах сверкали слезы ярости. «До волос добралась… Ну, ладно, поведение плохое… Но волосы-то чем виноваты? Не буду я из себя уродку делать…» – негодовала она. Тут ей в голову пришла дерзкая мысль, и она улыбнулась сквозь слезы.
На следующий день она явилась в школу в платье ниже колен, ее укороченный подол школьного платья тоже преследовался завучем, и в темном, по-бабьи повязанном платке.
– Что такое, Дудина? Вы почему в головном уборе? – едва переступив порог, спросила Коробочка.
– Вы же сказали, чтобы я привела волосы в порядок. Вот я и привела, – Ксеня сдернула платок и вскинула лысую голову.
Класс ахнул. Завуч растерялась: она явно не ожидала таких последствий от своей воспитательной беседы.
– Теперь у меня приличный вид, не правда ли? – дерзко спросила Ксеня под общий хохот.
Дома она выкрутилась, придумав несуществующую кожную болезнь. Даже мазала голову обычным постным маслом, выдавая его за мазь. Волосы отросли быстро – еще пушистее и непокорнее. Правда, замечаний по поводу прически она больше не получала. Коробочка отступилась – до поры, до времени. Выжидала подходящий момент, чтобы наказать строптивицу.
Из дневника: 1963 год (продолжение). Слава Богу, наконец-то добрались до Енисейска. Завтра иду устраиваться в школу.
Учусь в 43 школе в 10 «А», как и в Норильске. Класс – так себе, деревня. Девчата, правда, ничего. Пацаны – лажевые. Вообще в городе есть стоящие пижоны, но я не думаю «сниматься с якоря». Трудовое воспитание: радист. Токарей нет, придется переквалифицироваться, практика будет в аэропорту.
В субботу в школе был вечер, почарльстонили. Вот тебе и деревня.
Прошло два года и три дня с того момента, как я впервые обратила внимание на Гивку. Мое чувство к нему действует на меня подавляюще. Влюбиться в кого-нибудь другого, чтобы забыть его навсегда. Собираюсь на ноябрьские каникулы слетать в Норильск. Виктор-летчик, сын друга отца, обещал помочь. Неужели получится? Полечу тайком, оставлю предкам записку.
Вот и прошли каникулы. Из поездки ничего не вышло. В Норильске была нелетная погода. 7 ноября справили у Павловой. Напилась я в поряде. 8 ноября ходила к тете Фине, тоже слегка кирнула и вечером с нашими хозяевами налакалась в доску. От неудачи. Какая скука на любовном фронте! Серость вокруг, никто не нравится, живу прошлым.
Между прочим, не так уж в Енисейске плохо. По крайней мере, не затеряешься, как в большом городе. Гивка, чем ты заполонил мое сердце, мою душу, всю меня? «Поцеловал ее – и умерла воля в твоем сердце. Привяжет она тебя к себе чем-то, чего не видно, а порвать нельзя, и отдашь ты ей всю душу», Горький «Старуха Изергиль». А у нас с Гив-кой наоборот: он привязал меня, а не я.
Вчера ходила второй раз на «Дождливое воскресенье», фильм очень понравился, напомнил «Опасный возраст». Не пойму, зачем Гивка пишет мне? Ведь он дружит с другой девчонкой. Я уверена, что никаких чувств он ко мне не имеет. У меня не хватает смелости не ответить ему. Но, увы! Хватило смелости сжечь все его письма. Если бы можно было сжечь чувства…
Не писала уже две недели, а сегодня что-то захотелось поразмышлять. Мне все больше начинает нравиться здесь. Да, ничто на земле не вечно. Уже начинаю колебаться насчет новогодних каникул: лететь или нет в Норильск. Морозы там за 40, а у нас около 30. Пока мне не нравилось здесь, я без ума хотела в Норильск. А теперь? Все девчонки шьют костюмы, а я? Ума не приложу, что делать. Гивка постепенно и неотвратимо уходит из моего сердца, но, я знаю, стоит мне увидеть его, и моей любви хватит до следующего свиданья.
Это уже пятая тетрадь. Как ни странно, не порвала ни одной. Все-таки интересно потом, когда перечитываешь написанное. Разнообразные чувства: и смешно, и чего-то жаль. Быть может, того, что ушло безвозвратно. Мне уже 17. Сейчас каникулы. До чего медленно тянется время! Скучно! Школьный вечер 30 лично для меня прошел плохо. Не могу влиться в общество, как ни пытаюсь. Все как будто в сторонке и наблюдаю, а не участвую. На 31 пригласили Бармина и Островских из 10 «б». Они согласились. А у нас в кодле разлад. Лидка сказала, что не придет. Девчонки расстроились, мне было все равно. Мальчишки пришли в 12-м, до 12 играли в карты. Вели себя неловко и скованно, собрались первый раз. Потом в спешке сели за стол, Володька пролил шампанское. Выпили, неловкость прошла, все почувствовали себя свободней, стали танцевать. Куз скромничала: ни разу не пригласила Витальку. А ведь она давно в него влюблена. И кажется, серьезно. Не то, что я, то один, то другой, а на самом деле никто. Вечеринка прошла без поцелуев. Скушновато, конечно, никто не напился, родители были дома, да и не напьешься шампанским.
Потом я заболела, мать тоже. От Гивки получила письмо, сожгла. Кажется, любовь растаяла в тумане льдинкою, а мне оставила тоску и грусть…
Я постоянно читаю, много сплю, вижу сны. Как все-таки интересно все в книгах. Завидую. Почему в жизни не так? Почему мне ничего не хочется? Ни к чему не стремлюсь, ни о чем не мечтаю. Как-то нехорошо даже. Ведь столько вокруг интересного!
Были на катке, от нечего делать. Пошли по домам, на дороге остановились, стали разговаривать. Подошла Баракуша. Стоим, едет грузовик. Все отошли, я осталась стоять: испытание храбрости. Или дурость? Шофер остановился, их было двое, стали с матами заталкивать меня в кабину, чтобы отвезти в милицию. Не получилось. Тогда один пошел за милиционером, привел, и тот повел меня в милицию. Мои попутчицы молчали, не вмешивались. Трусишки-зайчишки! Хотели оставить меня на ночь в камере, но потом сжалились, спросили фамилию и адрес. Я наврала, Баракуша подтвердила. Отпустили. Пошли по домам. Сижу дома и трясусь. Боюсь. Но вчера я вела себя довольно дерзко, хотя была неправа.
Прочла книгу «Путь через ночь». Какая была девушка Татьяна! Сильная, независимая и вдруг стала верующей, баптисткой. Мне кажется, я бы ни за что никогда не стала сектанткой. Как бы трудно ни сложилась жизнь. Терпеть не могу подчиняться. Сегодня ходила на стрельбу с мальчишками. Да, я дошла до ручки, то один нравится, то другой, но все не то. Не хватает влюбленности, пусто все, если пусто на сердце, если нет предчувствия чего-то хорошего. Как хочется ревновать, надеяться, ждать, томиться, пусть даже страдать. Но чтобы жизнь была заполнена чем-то. Не знаю, что со мной. Может, мне просто 17 лет и хочется любить? Последнее время у меня какое-то смутное настроение. О, как я завидую всем, кто любит и любим. Почему я все время одна? Почему?
На практику сегодня опять не ходила. Слушала оперу «Риголетто» у Вал. Станисл. Ходила к ней в общежитие. Все думаю и думаю. Я же не уродка, но почему-то никому не нравлюсь. Наверно, сама виновата. Я сама отталкиваю от себя всех, слишком разборчивая. Но разве моя вина в том, что нет человека, от взгляда которого я потеряла бы разум? Чтобы одно его слово я повторяла без конца, одно прикосновение хранила до следующего раза. «Хочется к груди твоей прижаться, хочется обнять, поцеловать. Хочется с тобой не расставаться…» До чего же хочется!!! О боже! Неужели ты бессилен сделать меня счастливой? Молю тебя, всевышний! Ты ведь все можешь! Все! Сжалься надо мной! Дай мне жизнь, счастье, ожидание, томление, страдание – все, только, чтобы я любила и была любимой. Молю, о боже! Никого и ничего, кроме Гивки, его писем, не любовных, а никаких, равнодушных, безликих, безразличных, фразы такие короткие, бездушные.
Скорей бы лето! Дружу с Людкой Даниловой. Она немного грубовата, но в остальном хорошая девчонка. Вчера был вечер в школе. Мы с Людкой пришли, а там девчачий батальон. Мы смылись. Сегодня все девчонки говорят, что было очень здорово. Но я не завидую – подумаешь! Из мальчишек я ни с кем, и мне никто не нравится. Только Гивка, милый, хороший, но не мой. Дружит с Алкой, все пишут. Не будет же он один. Я, конечно, ревную, но что толку на расстоянии?
Купили спальный гарнитур. Теперь у нас в квартире довольно здорово, особенно в моей комнате уютно. Папка по моей просьбе принес откуда-то деревянные полки и сделал стенку. Буду собирать книги. Мой любимый Лермонтов уже занял первое место наверху. Сегодня весь день думала о Гивке, вспоминала. Мамка сказала, что они боятся отпускать меня одну в Норильск, потому что я люблю Гивку. Прямо так и говорит, что «люблю». А мне кажется, как бы я ни любила его, «этого» я не позволю ни за что. А я на самом деле люблю его. Мне уже 7-й месяц никто не нравится. Это мне-то, такой влюбчивой? Я все пишу в дневнике так откровенно, как будто никто никогда не прочтет его. А вдруг? Нет, это невозможно. Такая откровенность только для меня одной. Скорей бы пришло письмо от Гивки.
Ходили с Торей в кино «По газонам ходить разрешается». Ничего особенного, понравилась любовь Ю. и Л. Как чудесно, нежно, хорошо. Но так бывает только в фильмах, на самом деле все проще, дешевле. А Торя неплохая девчонка. Только не разочароваться бы в ней, как в «троице». Поживем – увидим. Интересно, будет в субботу вечер? Л., наверное, опять будет иметь успех. Она довольно симпатичная.
В школе сегодня настоящий байкот. Но лично мне наплевать! Мы с Люс не теряем присутствия духа. Было 4 урока. Ура! Пошли ко мне, Люс читала мои старые дневники, наржались с ней. Смотрели «Путь на арену». Дрянной фильм. Жалко 40 копов. Письма от Гивки нет. Пожалуй, я не буду жечь его письма и фото. Не стоит. Это просто временная злость и слабость. Пусть лежат. Приятно будет когданибудь вспомнить свою «былую юность». А пока в сердце пусто, не «горит огонь желанья». А мне жалко Л., она никого еще не любила. Сегодня у нас опять гуляют, а я сбежала и пишу. Ох, какая скука! Надоело все до чертиков.
По «тришке» отхватила пятак. Сочинение написала зверски плохо: совсем разучилась.
Сегодня проспала и не пошла в школу. Ужасная скука. Людка так и не приходит: вот кляча! От Гивки, наконец, пришло письмо. Как всегда, оправдался. Все же я была рада и почти счастлива.
Я сегодня во сне видела, как целовалась с ним. На самом деле этого никогда больше не будет. Да, на меня снова нашла поэзия. Сочинила 8 стих. Хохма! Есть удачные фразы. Скорей бы в Красноярск! Скука!!!
Сегодня с Людкой нафотались, я в субботу напечатала. Я себе почти на всех фотках нравлюсь, а Людка к себе слишком «строго» подходит. Сегодня на 9 ходили с ней в кино «Голый среди волков», дикая дрянь! Зато наржались на 40 коп.
Вот и май. Каникулы прошли ерундово. Вечер был дико плох. Правда, под конец мы «заправились» и похамили. После вечера пошли шляться по Броду(пр.Ленина). 1 мая я дико болела. Пришли Танька М. Лидка К. Ольга В. Ну, глюкнули и точили лясы.
2 мая были в ДК, были бесплатные танцы. Никто из нас не имел успеха. После вечера пошли в церковь. Она была вся облеплена молодняком. Я кое-как пробралась. Ничего интересного. Я начинаю халтурно учиться: все надоело до «чертиков». Ужасно долго ни от кого нет писем. Как глупо на земле устроено. Обязательно нужно ждать, волноваться. А я не хочу!!! Надоело.
Ну, кажется, наши мучения подходят к концу, осталось два дня учиться. Я безумно рада. Дружу с Людкой. Мы, кажется, нашли друг друга. Она хорошая девчонка, и я люблю ее. Бабка научила меня (заговор) привораживать парней. Я решила произвести опыт над Вовкой С. из параллельного класса. Сделала приворот. Так он бросил свою девчонку, с которой дружил, и стал оказывать внимание мне. Получилось. Но тут я встретила Вовку Битникова и забыла об С.
Что интересно, он полюбил ее, писал долго письма, когда она уехала, а он учился на летчика. Даже приезжал к ней дважды в Алма-Ату. Дважды был женат, но всегда, как сам признался, любил только ее по-настоящему. Жил в Минусинске, городе ее детства, и умер там слишком рано. Больше она никого не привораживала, поняла, что это грех: насиловать чужую волю. Ведь сама же не терпела насилие.
Между прочим, Борик и В.О., по-моему неравнодушны ко мне. Ой, ну, почему мне так дико наплевать на всех? Просто странно и непонятно, что со мной случилось.
Гиви наконец проявил благородство и написал. Как я ненавижу его сейчас! Что он гнет из себя? Болван. Господи, какая я тупая. Скажите, как возвышенно звучит: «Она влюблена в осла». Чумазый питекантроп. Я буду не уважать себя, если в этой тетради еще раз напишу, что люблю его. Нет уж, хватит! Подумаешь, сколько небрежности и одолжения в его письме. Баран безрогий. А на улице чудесно: зелень жгуче-зеленая. Даже порою не верится, что может быть такая красота.
Почти месяц не писала: напала великая лень. Сегодня сдала практику. Чуть с ума ни сошла от радости. Получила 4, принимала 75 знаков. Все были дико удивлены, как и я сама. Получила от Гивки письмо. Ах, он меня целует… Какие нежности.
Опять были на танцах: я, Галка, Лидка и Мака. Я снова имела успех, меня многие приглашали. Опять ползала солдатиков. Ко мне не подходят, одного отшила, остальные поняли, что я не их поля ягода. Многие девчонки танцуют, но не из нашего класса. (За городом располагалась воинская часть, в ней служили мальчики из Москвы, Питера, Подольска. Некоторые девчонки встречались с ними, повыходили замуж и уехали покорять столицы).
XXI век: Донька, кстати, тоже оказалась в Москве, через много лет они отыскали друг друга. А Люська Токарева вышла замуж за военного, жила в Кондопоге, Чернобыле, Донецке, ныне из-за войны выехала в Рубежное, где нет военных действий.
Вчера наши мальчики из класса помогали мне полоскать белье на Енисее. В 8 девчонки собрались у меня: Людка, Галка, Томка. Кирнули. Галка с Людкой были пьяны. Заявляются Мака, Гулька, Юрка, Женька. Я их угостила винным ассорти. Пошли на улицу. Господи, как я хочу видеть Вовку. Просто невозможно. Неужели я его так и не увижу сегодня? Нет, я не на шутку втрескалась. И надо же – перед самым отъездом.
Пошла к Лидке. Стащила у нее фотки С.В. и С.Петрова. Потом пошла к Людке. Ее дома не было, я и у нее взяла без возврата несколько фоток наших «красоток». Пошли с мамкой билеты брать, а 2-го класса нет, пришлось мамочке раскошелиться на 1 кл. На пароход меня провожали девчонки. В каюте мы вдвоем с девушкой Леной. Видела дикий сон (на новом месте приснись жених невесте): целовалась безумно с Гивкой. Только этого не хватало. Странно, но мне сейчас хочется, чтобы он уехал куда-нибудь из Норильска. Не хочу его видеть.
Плыву уже вторые сутки. Скоро Дудинка. Дрыхну без задних ног, отсыпаюсь.
Наконец в Норильске. Иногда мне кажется, что это сон, а иногда, что я вообще не уезжала. А вообще хочется домой! Здесь такая погода ужасная, дождь моросит, ветер. С Зойкой сегодня промотались день. Она дико красится, но ей идет. А вообще она нисколько не изменилась. Я ее по-прежнему люблю. Такая же ехидна и подлиза, милая лиска. Видела Нинку Крец. Она изменилась. Красится, ругается, грубая до невозможности. Томка Х. заб… Гивка уехал в Сухуми. Это к лучшему. Ужасно соскучилась о В. Все время вспоминаю встречу на пристани. Нет, он чудный. Милый мальчишка. Жди меня, думай обо мне, хороший мой. Я бы, кажется, сейчас полетела в Енисейск, чтоб скорее увидеть тебя, мой голубоглазый Вовчик. Шарик, ты меня уваж-ж-жаешь?
Я подстриглась. Мне очень идет, помолодела на 2 года, по крайней мере. Зойке тоже понравился мой причесон. Вчера ночевала у нее, трепались до 3 часов ночи, а потом клопы жрали мое бренное тело, еле уснула. Утром спали до 12. Завтра у нее последний экзамен. Молю Бога, чтобы она сдала. Тогда мы кутнем на всю катушку.
Бац динг-буги – самый модный танец. Бац динг-буги – сказал американец. Эта песня хороша, от нее поет душа. Буги лабают в США.Уже взяла билет на 14. Не вынесла душа поэта… Надоело здесь до чертиков. Скорей, скорей в Енисейск. О, Господи! Вчера кирнули с Зойкой бутылку «шимпанзе» и еще какой-то дряни. Крутили маг. Целую пленку истратили на свои милые голосочки. В общем в поряде. Вечером дурили на Броде. Ночевала у нее. Опять не могла спать из-за клопов. Вот гадость неумирающая.
Хочу видеть Вовку, оченно. Просто невыносимо. Скорее всего, из-за него так рано уезжаю.
Давненько не писала, все лень. ДОЕХАЛА, КАК ВСЕГДА С ПРИКЛЮЧЕНИЯМИ. Села не на тот самолет. Пришлось сойти в Подкаменке. Целые сутки сидела, потом кое-как села на ЛИ-2. Летела в кабине с пилотами, как заяц.
В среду с девчонками ходили на танцы. Гнусно. Какие-то кретины приглашали. Шла домой, меня, оказывается, ждал Вовка. Я была рада. Сидели возле моего дома на лавочке, болтали.
В воскресенье ездили с отцом в Подтесово. Я снова вела машину, кажется, не плохо получается, папка уже не рычит. От Гивки письмо, будет только проездом. Ну, и черт с ним! Страсти какие…
Ну, вот был у меня Гивка. Ладно, начну по порядку. Во вторник сшила свое черное платье и пошла на танцы. Были все девы наши. Мне понравился один мальчик. Он почти все танцы простоял в одиночестве, как Гамлет. Потом смотрю, с Донькой танцует. Я даже расстроилась. Потом второй танец с ней. Когда я встретила его взгляд, мы улыбнулись друг другу. Он пригласил меня на танго. Мы сразу заговорили, как старые знакомые. В конце танца он прижал меня к себе близко-близко. У меня по телу сразу пробежала дрожь. Донька имела успех у Набедо. Он пошел провожать ее.
В 4 утра будит меня бабка и говорит: – К тебе мальчик пришел. Я, конечно, дико удивилась. Выхожу – Гивка. Обнялись. Сидели, трепались до утра. Вообще было весело и хорошо с ним. Дичайше бесились, ходили в кино, на танцы. Немного пообнимались, поцеловались, но все не то. Я, оказывается, уже не питаю к нему никаких чувств. Так, немного приятна близость любимого когда-то мальчишки. Даже странно. Видела Вовку С. К нему тоже ничего нет. Все прошло. Зачем только отбила его у Людки С.? Гивка читал мои стихи, ему посвященные. Что ж!.. Что было, то быльем поросло. Вчера была у Люсси. Немного читала ее дневник. Неглупо. Мне оченно понравились ее стихи. Довольно броские. Люсси Гивка понравился, как мальчишка, а на внешность нет, сказала, что не любит грузинов. Ну, какой он грузин? Так, серединканаполовинку.
В понедельник шлялись по Броду, встретили наших мальчиков. Разошлись во 2-м часу.
Скотство, авторучка не пишет. Зла не хватает. Давненько не писала. Шляюсь почти каждый день на танцы. Какие-то мимолетные чувства, а вообще все лажа. Становлюсь непонятной самой себе. Гивка совершенно разонравился. Мне не может нравиться человек, над которым можно смеяться. Кстати, у него дикий нос, еще хуже, чем я ожидала. Вот и снова конец тетради. Возможно, я слишком откровенна. А что делать? Чем бояться писать, лучше вообще не пачкать бумагу. Скоро в школу. Идут последние деньки свободы. До свиданья, еще одна рукопись.
Десятый класс остался позади. Норильск не отпускал ее. Можно сказать, что она духовно жила письмами одноклассниц и Гивки, а еще книгами. Впереди был одиннадцатый год обучения. Получилось так, что лето предстояло провести в городе. И не ей одной. Ксеня давно замечала, что им скучно. Но не знала, чем заполнить дни, как бороться со скукой. Она наблюдала за гостями, которые изредка собирались у них дома. Приходили и усаживались за стол скучные, вымученно улыбались, говорили нехотя, будто пережевывали что-то. Но вот они выпивали рюмку-другую и менялись на глазах: говорили оживленно, перебивая друг друга, часто смеялись, затягивали песни и затевали танцы. «Это из-за вина. Точно. Надо и нам попробовать. От скуки ведь помираем», – о выпивке они между собой даже и не говорили.
Ее идею одобрили все пять девчонок: Людка Данилова (Донька), Галка Кузьмина (Кузя), Танька Макарова (Мака), редко Торя. С ней у Ксени были другие интересы, к тому же тетя у Люськи была строга до невозможности, из дома не выпускала. Остальные одноклассницы были попроще, их никто особо не контролировал. До Тори, она появилась в школе позже Ксени, подружкой была Донька. Высокая светловолосая, с высокой грудью, которой она стеснялась, Донька была своей в доску. Жили они недалеко друг от друга, и Ксеня частенько бывала в их квартире. Отец где-то работал, а по вечерам спал дома пьяный в другой комнате. Как у Зойки в Норильске. У Людки была своя комната, где они часто собирались на танцы. Мать была настоящей цыганкой, но оседлой, хозяйничала дома, держала на кухне кур. Иногда она гадала им на картах. Вот такая у них сложилась компания после окончания десятого класса. Распив бутылку вина и выкурив по сигарете – они впервые собрались у Ксени, когда родителей не было дома, – девушки пошли на танцы в парк на берегу Енисея.
Танцы – небольшой круглый огороженный деревянный настил с эстрадой на возвышении. Иногда играл оркестр из четырех-пяти человек, но чаще танцевали под пластинки. Вход был платным. Ксеня имела успех. Ее вызывающий вид знающей себе цену девчонки, броский наряд – ослепительно белая блузка и ярко-оранжевая юбка, которая топорщилась на нижней накрахмаленной, уличный жаргон: чувак, клево, потопчемся, лажа, отмочить хохму – моментально сделали ее центром внимания. Кавалеры наперебой приглашали ее, и она вдыхала запах спиртного и табака. Сама старалась не дышать. В тот вечер Ксеня поняла, что никто ее не осуждает. Скуки как не бывало.
Когда она танцевала с очередным партнером, ей бросилась в глаза одна из пар: красивая девушка и парень с капризным и томным выражением лица. Они откровенно прижимались друг к другу. «Во, лажаки!» – она презрительно скривилась, поймав оценивающий взгляд томного блондина. Он пригласил ее на следующий танец и прижал к груди – он был хрупкого телосложения. Ксеня покорилась с отсутствующим видом, будто публичное объятие – для нее в порядке вещей. На самом деле так она танцевала впервые, и близость этого, возможно, уже не мальчика, а мужчины – на вид ему было около двадцати лет – возбудила в ней какие-то незнакомые ощущения. «А это, оказывается, приятно», – подумала она, вдыхая запах табака и одеколона. Выражение ее лица было по-прежнему непроницаемым, хотя она противилась желанию прижаться самой. Ксения, сама того не сознавая, созрела для любви.
Все лето они провели на танцах – под хмельком и с крепким запахом болгарского табака. Она еще не раз танцевала с томным блондином, а потом он исчез с танцплощадки, наверное, куда-то уехал. Кто-то из девиц сообщил, что его зовут Валерка Севастьянов, по кличке Сюся, вроде где-то работает. С танцев их провожали домой разные парни, лезли с поцелуями, распускали руки. Нецелованные, они стали целоваться. Поцелуи пробуждали неясные желания, щеки начинали гореть, внутри появлялась странная дрожь. Пришло время, когда по законам природы и физиологии в девушке пробуждается женщина. Девушке Ксене не нравился никто из одноклассников и вообще из парней. Девчонки делились впечатлениями, она оставалась холодной к их излияниям и возвращалась домой в гордом одиночестве. Она не понимала, почему ей трудно сделать то, что другим легко? Проводил парень до дому, поцеловались, пообжимались и распрощались насовсем. Вроде платы за проводы. Почему она не могла так? Что-то еще ей нужно было, кроме того, что парень нравился внешне, даже вызывал влечение, как тот, по кличке Сюся, на танцах! Но – что?
И в Енисейске отец устроился механиком в гараж. Вскоре их семья переехала в двухкомнатную квартиру на втором этаже нового деревянного дома. Его построили на окраине городка, на пустыре, так что добираться домой поздно вечером бывало страшновато. Чем-то дорога, особенно зимой, напоминала Ксене поселок, в котором они жили, приехав в Норильск. Мать Ксени работала бухгалтером в городском отделе милиции, и это придавало дочери храбрости и уверенности в себе. Она рассуждала, что хулиганы навряд ли решатся обидеть или ограбить дочь сотрудника милиции. Тем более, что она заявляла об этом факте в первую очередь и знакомым, и полузнакомым парням.
Однажды этот факт сыграл отведенную ему роль защитника от посягательств на ее честь или карман. Она одна возвращалась с танцев. Услышав за собой хруст снега – стоял сильный мороз – прибавила шагу. Хруст усилился. Через пару минут она оказалась взятой под руки двумя парнями.
– Что вы так спешите, девушка? Мы вас с удовольствием проводим, – сказал один из них. – Кстати, не скажете, который час?
У Ксени на руке были позолоченные часики с браслетом, которые родители подарили ей на шестнадцатилетие.
– Отпустите меня! – она остановилась.
– Пожалуйста! – они оба убрали руки, но не отошли.
Ксеня глянула на часы.
– Полдвенадцатого.
– Ой-ё-ё-ёй, какие миленькие часики! Ни разу таких не видал, – сказал тот же самый парень и снова крепко взял ее за руку, наклонился, щелкнул браслет, и часы закачались перед ее глазами.
– Гуд бай, мальчики! Я спешу. Встретимся завтра в милиции, моя мать там работает, – и она рванула в сторону дома.
Но мальчики догнали ее. Беседа приобрела мирный характер, и они даже признались, что хотели ее побить, если бы она стала сопротивляться и не отдала бы добровольно свои «миленькие» часики.Также добровольно они их вернули.
У Ксени опять была собственная комната, где стояли шифоньер и кровать с деревянными спинками от немецкого гарнитура. Самодельный деревянный стеллаж за дверью стал заполняться покупаемыми книгами, там же стояли учебники, небольшой портрет Лермонтова – любимого поэта. Иногда она воображала себя Печориным женского рода, этакой разочарованной в любви и в жизни особой, хотя любви она еще не испытала, да и жизни, чтобы пресытиться так, как лермонтовский герой, тоже не знала. Мечтала, ждала, не зная, чего. Может, чего-то необыкновенного. На стене висело зеркало, в котором Ксеня изредка разглядывала себя, приходя к выводу, что не красавица, но симпатичная. Косметикой она не злоупотребляла, как некоторые одноклассницы, та же Люська, соседка по парте, которая даже в школу являлась напудренная и с накрашенными ресницами. В этой комнате, отдельно от родителей, было удобно распить бутылку перед танцами. Курить дома Ксеня не осмеливалась. У матери было тонкое обоняние.
Кухня была тесная, так как посередине стояла громоздкая русская печь, на которой по выходным мать стряпала что-нибудь вкусное: сладкий пирог с брусникой или пирожки с грибами. Отец любил рыбные пироги со стерлядью. Мать заводила кислое тесто; отваривала рис, чистила лук, остальное он делал сам. В еде Ксеня разбиралась и поесть, что повкуснее, любила. Печь служила не только для приготовления пищи. Для Ксени она была заслоном от ремня – мать нет-нет да хваталась за ремень, скорее по многолетней привычке, а не потому, что верила в действенность физического наказания. Тогда Ксения мчалась на кухню, и матери приходилось неуклюже бегать за ней вокруг печки, пока не надоедало. Она бросала ремень, но начинались нудные, бесконечные нотации, от которых избавиться было проще простого: Ксеня затыкала уши и читала книгу.
В день семнадцатилетия родители подарили ей переносной магнитофон «Романтик». Это была редкость в те годы, да еще в такой глухой провинции, как Енисейск. Она искренне обрадовалась подарку, который поднимал ее в собственных глазах. Не говоря о подружках; почти всем такая вещь была не по карману. Будучи щедрой, Ксеня давала им пользоваться и велосипедом, и коньками, и «магом».
Зимой снова навалилась скука. Из-за сильных морозов и на танцы не хотелось, тем более, что идти нужно было на другой конец города. Они пристрастились к выпивке. У одной из девчонок, не из их школы, мать работала ночным сторожем. Они собирались у нее в те вечера, когда матери не было дома, скидывались, распивали большую бутылку портвейна и накуривались до одури. Разговоры велись такие пустые и никчемные, что на следующий день и вспомнить было нечего. По домам возвращались, почти протрезвев от морозного воздуха, и родители ничего не замечали.
Правда, пару раз Ксеня попалась. Выпила в тот вечер больше обычного, и мороз не помог. Явилась домой поздно, открыла кое-как своим ключом дверь, стала искать в коридоре выключатель, который находился на стене на уровне вытянутой руки. Ксеня шарила и шарила по стене, наклоняясь все ниже, пока не села на пол. И на полу продолжала искать. Мать не спала, вышла в коридор и увидела пьяную дочь, сидящую на полу. Она с трудом подняла ее, увела на кухню, чтобы не увидел отец.
На следующий день вечером на кухне долго отчитывала Ксеню, говоря правильные в общем-то слова. Но почему они не доходили до ума, почему – наоборот – хотелось делать наперекор? Сама мать так и не выпивала вообще, зато отец частенько являлся домой выпивши. Конечно, для здоровья вредно – и пить, и курить, это Ксеня понимала, но зато нескучно, и время летит незаметно. В другой раз она так напилась уже весной, когда снег растаял, и кругом была грязь, особенно возле их дома, который так и стоял на отшибе. Ксеня даже идти не смогла одна, ее повела Галка Кузьмина, Кузя, самая правильная из их «теплой» компании. Она нередко отказывалась участвовать в некоторых проделках. По дороге Ксеня расхрабрилась.
– Ты что, думаешь, я сама не смогу идти? Пусти!
Она оттолкнула Галку и нетвердым шагом, стараясь не шататься, пошла вперед. Резиновые сапоги вдруг заскользили, и она, не удержавшись, уселась в грязь. И смех, и грех! Галка, еле сдерживаясь, чтобы не расхохотаться на всю улицу, помогла Ксене встать на ноги и повела ее дальше. Возле подъезда дома стояла большая кадка, полная дождевой воды.
– Помоги! – попросила Ксеня.
– Ты что, рехнулась? – вскрикнула Галка, сообразив, что Ксеня собирается сделать.
– Пьяному море по колено, что мне какая-то кадушка… – и Ксеня с хмельным упрямством полезла в воду, в чем была: в одежде и обуви. Надо же грязь отмыть…
Так и заявилась домой, вода текла с нее ручьями… Благо, отца не оказалось дома. А мать? Что могла сделать мать? Бить она уже не била дочь. Что толку? Раздела ее, вытерла досуха, намазала скипидаром и уложила в постель. Ксеня про себя решила, что больше напиваться не будет. По крайней мере, вне дома.
Но это было уже весной. А зимой – дикие выходки продолжались. В Ксеню будто черт вселился, так и тянуло на подвиги. А ведь и в мыслях у нее не было: будоражить школу, общественное мнение. Некому было ее ум на что-то толковое и полезное направить, некуда было ей энергию приложить, вот и расходовала себя на скверные, из ряда вон выходки. Дурным наклонностям потворствовать всегда легче и приятнее, таково свойство человеческой натуры. Даже в книгах ей нравились больше отрицательные герои. Она и себя считала отрицательной. «Они считают меня плохой, – думала она об учителях, – и я буду плохой».
В середине зимы они отмечали Галкин день рождения. Ее мать, не имея денег на вино, угощала собравшуюся молодежь брагой домашнего изготовления. Пить было приятно, и они не пьянели, хотя пили стаканами. Все могло кончиться вполне терпимо – ну, прополоскало бы – не додумайся они отправиться на танцы. На улице стоял сильный мороз. Они еще зашли к Доньке. Ксеня попросила ее мать погадать. Когда та разложила карты: сплошные пики, Ксене стало не по себе. Женщина сказала: – Никуда не ходи. Иди домой, может, обойдется. Но где там! Пьяному море по колено. Они почти протрезвели, когда рысцой бежали до Дома культуры, километра за два от дома, где жила Донька. Но, оказавшись в тепле и даже духоте раздевалки – в небольшой комнатке, где разоблачались представительницы прекрасного пола, они почувствовали, что сильно пьяны. Ксене стало плохо. Она кинулась к окну, но не успела, и ее стошнило на чужое пальто. Владелица подняла крик. Ксеня смотрела на нее стеклянными глазами и видела не лицо, а белое пятно с дыркой снизу: это рот девицы открывался и закрывался, извергая поток брани.
– Заткни хайло! – еле ворочая языком, выговорила Ксеня.
Девица кинулась за администрацией. Вскоре появилась с пожилой женщиной, которая принялась стыдить Ксеню, грозя сообщить в школу. Ксеня пошла на заплетающихся ногах в угол к своим вещам. Взяла в руки пальто, сделала три шага по направлению к двум кипящим от возмущения лицам и бросила его на пол, как бросали купцы соболя под ноги артисткам – со всей щедростью русской пьяной натуры.
– На, подавись! Мое пальтишко, правда, поприличнее твоего. Ну, да ладно… Мне предки новое справят…
Девчонки говорили после, что она была просто великолепна в черном, блестящем, облегавшем фигуру платье и в красном платке – она не успела его снять – с бледным лицом, блестевшим хмельным взглядом и надменной, кривой усмешкой на губах.
– Ну, прямо, Настасья Филипповна! – восхищалась Галка, только посмотревшая фильм «Идиот».
Ксеню все-таки повели вниз, к директору, молодому мужчине лет двадцати пяти. Он долго читал мораль на тему: «Как должна себя вести приличная молодая девушка в общественном месте». При этом он сидел в кресле, она стояла, прислонившись к стене.
– А сейчас я фотографа приглашу… Запечатлеть вас, так сказать, для суда общественности…
Возможно, директор ждал, что она начнет униженно просить прощения, даже плакать, умоляя не сообщать в школу. Любая другая так и сделала бы, ведь поступок был низкий, поведение наглое, оскорбительное для пострадавшей. Все правильно, но почему хотелось делать наперекор даже себе, своим желаниям?
– А по мне – хоть двоих. Обожаю фотографироваться…
– Чтоб ноги твоей здесь не было! Завтра же сообщу в школу! – взвился директор.
Она удалилась с гордым и независимым видом, в душе ощущая себя виноватой. Девчонки остались.
Последствия этого вечера не замедлили сказаться. Директор Дома культуры на следующий же день сообщил в школу о ее недостойном поведении. Среди учителей и учащихся волной прошло оживление, вылившееся в собрание двух одиннадцатых классов. Пятерку провинившихся усадили в первом ряду, несколько отдельно от остальных, как на скамью подсудимых. Девчонки струсили – все-таки выпускной класс! – поплакали и повинились. Ксеня презрительно молчала, хотя вполне сознавала, что вела себя по-хамски, а значит, была виновата. Упрямство вышло ей боком.
Завуча, которая после случая с прической возненавидела Ксеню, ее молчание вывело из себя. Она предложила исключить ее из комсомола, передав дело на рассмотрение бюро горкома, а также из школы. Ее поддержали не все. Директор, который относился к Ксене с теплом и симпатией – он преподавал у них химию, и она, чувствуя его расположение, занималась по его предмету лучше всех в классе, – предложил ограничиться выговором с занесением в личное дело. От Ксени так и не дождались повинных слов. Из школы ее не исключили, но ее персональное дело, уже появилось такое, передали в горком комсомола.
За горком Ксеня не переживала. Секретарем там был зять близких приятелей ее родителей. Он посоветовал ей покаяться, пустить слезу. Она так и сделала. Ее пожалели и ограничились выговором. Она так правдоподобно изобразила кающуюся грешницу, что Александр Иванович, секретарь, при встрече после на улице воскликнул восхищенно:
– Ну, артистка! Ну, Мария-Магдалина!..
Скука по-прежнему давила на нее камнем. Ей хотелось чего-то необыкновенного, такого, чтобы захватило ее всю, целиком, чтобы появился интерес к жизни, чтобы появилась пища для ума и души, что-то светлое, радостное, возвышенное, а вокруг все было серо и обыденно, все повторялось изо дня в день… И это однообразие сводило с ума: школа – ехидные улыбочки завуча, косые взгляды других учителей, дорога домой – шепоток обывателей, не город, а деревня – все обо всех все знают, а уж Ксеня, отъявленная хулиганка, как бельмо на глазу. Неуютно было и дома – из-за подозрительных взглядов родителей: какой очередной сюрприз преподнесет им единственная дочь. Слава Богу, в школе оставили, хоть бы скорее учебный год закончился! Примитивное бездуховное существование угнетало ее живую душу. И она томилась…
…И вот, как гром среди ясного неба, появился Вовка. Появилась Любовь, и жизнь обрела смысл, заиграла всеми цветами радуги.
Вов-ка… ах, Вовка! Любовь моя, единственная, неповторимая, где ты? Отзовись…
В один из зимних морозных дней – почему-то все значительные для Ксени события происходили зимой – ее вызвали с урока. Она вышла за дверь и обалдела: прямо перед ней стоял он – тот самый интересный блондин, с которым она не однажды обнималась на танцах в городском парке и который оставил тогда о себе приятные воспоминания. Сюся, собственной персоной, одетый в полупальто и меховую шапку «пирожком», последний крик моды, в безвольном рту торчала незажженная сигарета. Он смотрел на нее голубыми, слегка водянистыми глазами, потом, убрав изо рта сигарету, сказал, как промурлыкал:
– Послушай, девочка… Как ты смотришь на то, что у меня сегодня день ангела?
– Поздравляю, – выдавила Ксеня.
Всегда находчивая, она не могла прийти в себя от неожиданности.
– Мерси, – Сюся галантно расшаркался, – Окажите честь, мамзель, быть гостьей на моем празднике.
Они договорились встретиться у памятника Ленина на площади.
Сюся жил с родителями в частном доме. Прекрасному полу для переодевания была отведена малюсенькая комнатушка. Приглашенные были знакомы между собой, но незнакомы Ксене. Почти все с гонором поглядывали на нее – разодетые в декольтированные платья и блузки и размалеванные по всем правилам косметического искусства. Наконец одна из них не выдержала и спросила, небрежно закуривая:
– Ты откуда, такая серенькая?
– Оттуда, откуда и ты.. – вполголоса буркнула Ксеня.
Тон ее, нагловатый, резкий, как бы с непечатным подтекстом, совсем не вязался с тем, довольно скромным по сравнению с туалетами девиц нарядом – узкая черная юбка, открывающая округлые коленки, и невинно-розовая кофточка, обтягивающая грудь. На ее внешности не лежал отпечаток вульгарности. Зато в словах она явно просквозила, и это подействовала безотказно – девицы поубавили гонор.
Когда Ксеня вышла в другую комнату, там уже был накрыт стол. За ним сидели гости. Она окинула взглядом лица и обомлела. Вовку – она уже знала его имя – Ксеня никак не ожидала увидеть здесь, среди этой приблатненной компании.
… Она приметила этого парня недавно на танцах в ДК, куда продолжала ходить – больше просто некуда было, несмотря на то, что ее с месяц назад выдворили за неприличное поведение. Она после якобы образумилась, насколько это было возможно, и посещала танцы лишь слегка «под градусом». Вовка, стоя на небольшом возвышении с левого края большого зала, играл на баяне и пел популярную в то время песню: «Вьюга смешала землю с небом, серое небо с белым снегом…» Его глуховатый голос был выразительным, наполненным искренним чувством.
Она танцевала и украдкой косилась в его сторону. Но он, целиком отдавшись песне, ни разу не посмотрел в зал. Почему-то он показался ей похожим на Демона, героя поэмы Лермонтова. Было в его внешности что-то схожее с портретом кисти Врубеля. Потом она увидела его в буфете, где он угощал какую-то девицу вином. Кто ведает, почему вдруг ее сердце зачастило, а кровь прилила к щекам. У девицы было хорошенькое личико, но Ксеня почему-то решила, что она лучше, и ей сильно захотелось обратить на себя внимание невесть откуда взявшегося парня. В этот миг их взгляды столкнулись: Ксеня смотрела на него вызывающе – в упор. Он принял вызов. В течение вечера он дважды мелькнул в толпе, причем, его кадра еле поспевала за ним – как нитка за иголкой. «Так вот ты как… – отметила она его неучтивость по отношению к девушке. – Не слишком ли мы о себе высокого мнения? Лично я такого не позволила бы!»
И вот он сидит напротив – «ДЕМОН», как она его мысленно окрестила: черный костюм, белоснежная рубашка и черная «бабочка» на шее. Внешность броская и запоминающаяся: почти черные волосы, высокий, открытый лоб, зеленые глаза под темными бровями, нос прямой с едва заметной горбинкой, резко очерченные губы, овал лица несколько удлинен, впалость щек переходила в округлость подбородка с ямочкой посередине. Взгляд искрился усмешкой, но не злой, а скорее по-доброму не обидной.
Почти весь вечер Ксеня провела с Вовкой, Сюся остался где-то в стороне.
– Какая редкость – темные волосы и зеленые глаза, – говорила она во время танца, чувствуя, что ее тянет в его объятия. Она противилась изо всех сил и даже пыталась изобразить на лице полное безразличие к партнеру, кривя в усмешке пухлые губы. Но, наверное, ей это плохо удавалось. Да и сердце колотилось в груди так бешено, что ей казалось, слышно всем. Она избегала его взглядов, боясь, что глаза выдадут ее тайное желание. Но если бы она посмотрела… Ее пронзило бы ощущение взаимности чувства. Но перед ней был хотя и юный, но уже опытный не по годам, не мальчик, но мужчина: ни один мускул не дрогнул в нем, когда он легко уловил ее дрожь, распознал ее суть. Но все же решил проверить догадку.
– Предки виноваты, – ответил на ее вопрос, и рука его как бы случайно, нечаянно скользнула по ее талии вниз – к бедру. А зеленый взгляд его стерег в этот миг ее карий – она прикрыла глаза ресницами. Но не тут-то было!
Наконец, Вовка сжалился над ней.
– Выйдем? – полувопросительнополуутвердительно шепнул ей прямо в ухо.
Ей будто огонь плеснули в лицо, так оно загорелось. Она не помнила, как они оказались в заснеженном дворе, на сорокаградусном морозе. «Помню двор, занесенный белым снегом, пушистым…» Ксения потеряла ощущение времени, места, потеряла себя – растворившись в Вовкиных железных и одновременно бережных объятиях, в его сводящих с ума поцелуях. Что это было?
Жили на земле два человека и не знали о существовании друг друга. Жили каждый сам по себе, – но вот встретились, столкнулись – искры полетели! – и запылал костер до самого неба. Вспыхнул радости костер золотой!.. И сладко было гореть в этом костре и не жаль себя нисколько. В этот миг, хоть земля тресни, они не разняли бы объятий, не оторвали бы ненасытных губ. Глоток морозного воздуха, как ожог, – и снова губы в губы и так – до бесконечности.
Были потом в жизни Ксени и руки, и губы – но таких не было, были объятия и поцелуи – но таких не было. Это было только однажды, в юности, и больше не повторилось. Может, и не могло повториться, ведь не повторяется юность.
Он не пошел ее провожать: в их полублатном, как она узнала позже, мире были свои законы.
– Ты пришла к нему, – строго сказал он, кивнув в сторону Сюси.
Ей стало так противно: неужели этот томный блондин с потугами на роль неотразимого мужчины мог хоть на миг пленить ее воображение? Но она не захотела перечить Вовке и неохотно, но покорно пошла домой с именинником. Может, впервые она проявила такую покорность. Уходя с Сюсей, Ксеня оглянулась. Вовка пристально смотрел ей вслед. Ее опять едва не бросило к нему. Но она сдержалась. Сюся, считая ее своей девочкой, несмотря на то, что она явно – на его глазах предпочла другого, по дороге к ее дому завел Ксеню к своим приятелям, мужу с женой. Угощая водкой, пытался оставить на ночь. Вероятно, ее свободное поведение давало повод надеяться на доступность. Супруги, посчитав ее за очередную чувиху легкомысленного приятеля, всячески способствовали его уговорам. Даже постель приготовили. Ксеня вяло сопротивлялась, она была пьяна, и ей хотелось спать. Но вдруг будто ктото стукнул ее по голове: «Что ты делаешь, дура? У тебя есть Вовка!» Она вскочила на ноги, надела платье, пальто, валенки и бросилась во двор. Сюся – за ней. Догнал ее у ворот, грубо схватил за плечи и стал целовать. У нее не было сил вырваться из его объятий, и она стояла, как чурка. Он шептал: «Ну, останься, девочка моя…». Наконец, она резко толкнула его. Он пошатнулся, едва не упал, сквозь зубы выругался и со злобой бросил:
– Дура!
А ей вдруг стало легко и радостно, она даже рассмеялась. «Ах, бедный мальчик, он так надеялся…» – пожалела его мысленно и почти ласково сказала вслух:
– Сам дурак! – и пошла скорым шагом, почти протрезвев, домой.
Утром мать, как всегда, разбудила ее в школу. А Ксене снился Вовка…
– У нас не будет первого урока, училка заболела. Я еще чуть-чуть посплю, – легко солгала Ксеня.
Мать поверила, ушла на работу. Отец уходил раньше. А Ксеня предалась воспоминаниям…
Она вообще не пошла в школу в тот день. Двое из их компании, зная, куда она собиралась накануне, чтобы не сгореть от любопытства, заявились к ней домой за отчетом. Она, конечно, удовлетворила их любознательность, расписав в подробностях вчерашнее приключение. Но почему-то умолчала о Вовке: у нее появилась тайна. Ксеня из всей компашки предпочитала Люську. У них было много общего во всем. К тому же их связывали не совсем благовидные поступки. Частенько перед последним уроком Ксеня спрашивала у Люськи: «А не пойти ли нам в кинишко? Может, скинемся?» Люська отвечала: «Заметано. А на мороженое?» «Само собой». Одна стояла на стреме, другая шарила по карманам в… раздевалке. Все деньги из кармана они никогда не забирали, оставляя владельцу.
Окинув внимательным взглядом Ксенину опухшую физиономию, Люська ехидно заметила:
– А Сюся, оказывается, по себе долгую память оставил, такой маленький засосик…
Ксеня подошла к зеркалу, оглядела шею и убедилась, что на видном месте действительно красуется небольшая ярко-красная полоска – след Сюсиных жадных поцелуев. Она спокойно взяла лезвие, лежавшее тут же, у зеркала. Девчонки и ахнуть не успели, как она резанула себя по шее.
Ксеня не стала дожидаться – она была не из таких, – пока Вовка соизволит осчастливить ее вниманием. Она сама пошла к нему домой. Предлог был. Ксеня оставила у Сюси свой маг. Случайно столкнувшись с ним на улице, спросила о судьбе своей музыки. Оказалось, что маг у Вовки. «Да здравствует случай!» – бурно обрадовалась она и припустила почти бегом – автобус ждать она была не в состоянии, к Вовке. Сердце бешено отстукивало: «Вов-ка! Вов-ка!», когда она постучала в дверь его квартиры. Открыли сразу, будто знали, что она придет, и ждали. Перед ней стоял Вовка в темных брюках и черном свитере.
– Ну, проходи! – его взгляд обдал жаром. Ксеня вошла и сразу почувствовала себя легко и раскованно – будто его, Вовкин дом, сто лет был ей знаком. Кроме нее в гостях было двое парней. Ксеня не помнила, о чем они тогда говорили, наверное, так, обо всем и ни о чем, но в какой-то момент она спросила, обратившись к хозяину:
– Не угостишь чем-нибудь? Есть так хочется…
Ее бесцеремонность не шокировала Вовку. Он пошел на кухню, погремел крышками и, вернувшись в комнату, сказал:
– Увы, миледи, – он иногда выражался книжно, – ничего не могу предложить вам из своих скудных запасов. Но есть идея: почему бы нам не поужинать в ресторане?
Один из парней горячо поддержал его. Ксеня несколько замешкалась с ответом, когда Вовка обратился к ней:
– Ну, как?
Она на секунду представила, какие могут быть последствия этого ужина, если ее, школьницу, засекут в ресторане в поздний час, а час действительно был поздний. Но соблазн провести с Вовкой время перевесил благоразумие.
Они пошли втроем – один из парней отказался и, конечно же, пили водку. Правда, Ксеня сначала заказала вино, а потом… Когда ей, как выражалась мать, попадала шлея под хвост, она делала, что хотела, и вела себя, как хотела. Пила она и водку, почти не закусывая: есть расхотелось. Она всегда теряла аппетит, если была сильно возбуждена чемто. В этот раз она была возбуждена присутствием Вовки. «Любовь моя…», – думала она, хмелея больше от чувств, чем от спиртного. Ее поведение, когда она лихо опрокидывала рюмку и тут же закуривала сигарету, по-видимому, не осуждалось: Вовка смотрел на нее одобрительно.
У нее уже все плыло перед глазами, когда Вовка, крепко взяв за руку, повел к раздевалке, помог ей одеться. В этот момент к ней подошел молодой мужчина – его лицо плавало перед глазами, так и не остановившись и не приобретя резкости черт, хотя Ксеня смутно помнила, что где-то видела этого человека. Он спросил, в какой школе она учится. Она машинально ответила. Мужчина оказался одним из членов бюро горкома комсомола. Когда ей выносили строгий выговор, он настаивал на исключении, Ксеня же после того, как ей объявили решение, не выдержала – он выходил из комнаты вслед за ней – обернулась и дерзко усмехнулась ему в лицо: «На-кось, выкуси!» Только что язык не показала, как в детстве.
Через два дня после ужина в ресторане ее вызвали в горком. Она пошла, не ожидая ничего хорошего, тем более, что Александр Иванович, ее знакомый, болел. Ксеню разбирали за аморальное поведение. Приговор на этот раз был суров: исключить из комсомола. Все члены бюро, а их было семь человек, сурово и выжидательно смотрели на нее, за исключением того молодого человека из ресторана: он прятал глаза. Рыльце-то было в пушку – что он сам делал там, в этом вертепе, как выразилась одна из присутствующих женщин во время обсуждения ужасного инцидента. Эта женщина была в положении. Когда она произносила обвинительную речь, Ксеня недобро посмотрела на ее выпиравший живот и одутловатое лицо с коричневыми пятнами…
– Кто за то, чтобы исключить Ксению Дудину из комсомола?
Все дружно подняли руки, кроме одного, совсем юного парнишки. Он засмотрелся на Ксеню и вовремя не отреагировал на вопрос. Его толкнули в бок, и он, как кукла, которую дернули за нитку, резко вскинул руку. Ксеня обвела взглядом все семь лиц: таких разных, но в то же время таких одинаковых в выражении готовности лечь костьми за высокие идеалы настоящих комсомольцев, каковыми они, конечно же, считали себя, или втоптать в грязь любого, кто посмеет нарушить устав, охраняющий эти идеалы от посягающих на него аморальных типов, вроде Ксени. А нуждаются ли идеалы в защите?
– Да плевать я хотела на ваш комсомол! И без него проживу… – круто повернувшись, она выскочила из комнаты, где ее судили, захлопнув за собой возмущенный гул голосов.
Неприятности посыпались, как из рога изобилия. Родители, наблюдая за ее бесшабашностью, возненавидели Вовку, считая его причиной всех бед. Он слыл хулиганом, хотя, на Ксенин взгляд, не совершал ничего дурного. Работал, как все, – он был портным в ателье. Обшивал сам себя – она однажды наблюдала, как он за час с небольшим сшил модные тогда суженные книзу брюки. По субботам и воскресеньям играл в Доме культуры на танцах – на баяне или гитаре. Иногда при этом пел хрипловатым баритоном. Ей одной он иногда пел блатные песни: Жил в Одессе славный паренек, ездил он в Херсон за голубями… Лишь оставила стая среди бурь и метели одного с перебитым крылом журавля… Искры камина горят, как рубины… Неслось такси в бензиновом угаре, асфальт лизал густой наплыв толпы, а там в углу в тени на грязном тротуаре лежала роза в уличной пыли… Сумрак осенний, слякоть бульварная мокрыми иглами душу гнетет. Бедная девонька в туфельках беленьких, шатаясь, по грязи бесцельно бредет…
Конечно, выпивал, конечно, курил, изредка дрался. Последнее он делал блестяще. Азарт драки совершенно преображал его лицо: оно бледнело, взгляд становился острым и внимательным, на губах блуждала легкая усмешка, крепкое мускулистое тело становилось пружинистым. Его прыжки, стремительные, как молния, были одновременно по-кошачьи мягкими и неслышными. Барс да и только!
А как он любил Ксеню! Вернее, они любили друг друга с ненасытностью юности. Расставались поздно вечером так, будто навеки: то она окликала его по имени, едва он отходил на три шага, – он возвращался и снова целовал ее; то он – и она бросалась в его объятия. Почти все свободное время они проводили вместе. Один раз она пригласила Вовку к себе домой, они выпили, послушали маг и вдруг уснули на ее кровати. Эту картину в ее комнате застал вернувшийся с работы отец. Он громко окрикнул ее по имени. Ксеня соскочила с кровати, Вовка тоже. Она с испугу бросилась за дверь квартиры. Постояла какое-то время, ожидая скандала, но было тихо. Она вошла. Отец с Вовкой сидели за столом и выпивали недопитую водку. Повидимому, они нашли общий язык. Было поздно, и Вовка остался у них ночевать. Он спал на полу. Утром пошел провожать ее в школу. Они стояли напротив школы через дорогу. Там был деревянный забор, и Ксеня бросала в него перочинный ножик. А мимо шли на работу учителя.
Лишь один раз она случайно уснула вечером после бессонной ночи, проведенной с Вовкой, и проспала время встречи. Было уже темно, и она осталась дома. Именно в тот злополучный вечер Вовка наломал дров. Не дождавшись Ксени в условный час у себя дома, он с дружком отправился на танцы, надеясь встретить ее там. Но не встретил. В расстроенных чувствах он выпил лишнего. И попал в историю. На танцплощадке куражился молодой военный, вдребезги пьяный. Цеплялся к девчонкам. Одна ударила его по щеке, он матерно выругал ее и толкнул. Вовка стоял неподалеку. Он был зол, так как потерял Ксеню. Как вихрь, налетел он на военного. Завязалась драка. К Вовке присоединился его дружок – Колька Азовкин, к военному – другой военный. Кто-то побежал за нарядом милиции, дежурившим в парке. Вовка с Колькой дали деру. Он пришел к ней поздно вечером. Его хмельной лучистый взгляд как никогда ласкал ее лицо, обегая его снова и снова, будто стараясь получше запомнить. Он рассказал ей о случившемся. И добавил:
– Меня посадят.
– За что? Ты же не виноват! И свидетели есть. Ты за дело ему врезал – Ксеня была совершенно спокойна, здраво полагая, что милиция во всем разберется.
Ей и в голову не пришло испугаться за последствия. К тому же она не знала, что у Вовки свои счеты с милицией, и на сей раз счет один-ноль явно не в его пользу. Счастье видеть любимого, ощущать его губы на своих, дерзость его рук – все это туманило разум, лишало здравомыслия. Да еще Вовка шептал ей прямо в ухо:
– О, я плыву, радость моя…
Через несколько дней его забрали. В милицию заявила подружка военного, когда тот рассказал ей о случившемся и продемонстрировал синяки. Она собиралась за него замуж и, рассматривая его уже как свою собственность, из кожи вон лезла, расписывая в заявлении все ссадины и кровоподтеки до размеров ран, полученных на поле сражения. К тому же она не любила Ксеню – они учились в одной школе, но в параллельных классах – и не хотела упускать такого удачного момента отомстить ей за пренебрежение ко всем, в том числе и к ней, кроме своей компашки.
Были весенние каникулы. Суд должен был состояться через десять дней. Ксеня будто омертвела. Она ела, пила, спала, ходила по городу, как сомнамбула. Или – тихо помешанная. Исчез Вовка – исчезло солнце, исчезло все светлое из жизни, ушла радость. Отец, понаблюдав за Ксеней, переговорил с матерью и, усадив дочь в машину, увез к тетке Лизе в деревню.
Несколько дней прошло, как в кошмарном сне. Ксеня ежедневно писала Вовке письма о своей любви к нему, вспоминала каждый день, ночь, час, проведенные вместе: «А помнишь?» Она писала и складывала их в большой конверт, посылать было некуда. А на дворе стояла весна, да такая, что дух захватывало. Просыпалась, обновлялась природа… То же происходило с людьми – уж так устроен мир. Ксеню томило желание любить. Чувства переполняли ее душу, как половодье. Но где Вовка, ее любимый? Что на свете сильнее и неистовее пробуждавшейся в невинной девушке чувственности? Истомы во всем теле, сдерживаемой страсти, не находящей выхода и нежности, – без предела… Встать на колени и молиться, и руки целовать любимому. Умереть в его объятиях, ощущая его губы на своих, – с блаженным, последним вздохом: вот она какая, любовь…
Воздух, когда она вечерами выходила из дома, стоял вокруг, как стеклянный. Казалось, тронь его – и он расколется на тончайшие осколки, мелодично позванивая. Ксеня стояла долго, глядя в небо с яркими звездами, истово шептала озябшими губами: «Любимый, я хочу, чтобы ты был рядом! Я не могу, не могу без тебя…».
Потом был суд – открытый и показательный. Вовка давно был у милиции, как бельмо на глазу, за свой вызывающий, независимый вид – такие всегда на подозрении, за драки и за Ксеню, ведь она была дочерью сотрудницы милиции. Что с того, что мать работала всего лишь бухгалтером. Все равно ее дочь, связавшись с хулиганом, позорила органы, которые должны быть в глазах общества образцом честности и незапятнанности.
Вовка с дружком Колькой сидели под конвоем на отдельной скамье спиной к залу. Прокурор в обвинительной речи, изобразив их бандитами и едва ли не убийцами, настаивал на двух годах усиленного режима. Адвокат, вынужденный защищать, предложил ограничиться двумя годами условно. После совещания судья огласил приговор: полгода лишения свободы. Ксеня рванулась к Вовке, схватила его за руки. Они стояли посреди толпы, ошеломленные случившимся – не веря в разлуку. Не могли разнять рук и отвести друг от друга глаз. Пока их почти силой не оторвали друг от друга. Ксеня не успела даже передать Вовке конверт с письмами. Осужденных увели, и она выскочила из зала на улицу, подбежала к черному «воронку» и стояла в ожидании с трясущимися губами. В глазах стыли не пролившиеся слезы. Милиционер, зная, чья она дочь, не прогонял ее. Когда появились под конвоем Вовка с Колькой, ноги ей отказали. Она так и осталась стоять, как пригвожденная. Зато Вовка рванулся к ней, схватил ее лицо в ладони, мгновенье вглядывался и – впился ртом в ее губы.
– Разойтись. Не положено, – их прощальный поцелуй оборвал грубый голос охранника. Бесцеремонные руки схватили Вовку за плечи и резко толкнули к машине.
– Вовка, я люблю тебя… Я буду ждать… Напиши мне, – кричала Ксеня, не обращая внимания ни на милиционеров, ни на любопытных, толпящихся неподалеку. – Вот, возьми… Я тебе уже написала… – и она, отпихнув охранника, который уже встал на подножку, чтобы забраться в кузов, сунула Вовке конверт. Он сжал его в руке. Охранник хотел было вырвать, даже руку протянул, но, наткнувшись на Вовкин взгляд, будто споткнулся, махнул рукой и захлопнул дверцу.
Ксеня не умерла, но внутри будто что-то оборвалось, что-то рухнуло со страшной силой, погребя под обломками прежнюю ее беспечность, насмешливость, жизнерадостность. Ее выходки из озорных и безобидных приобрели характер злобный и протестующий – против учителей, родителей, обывателей – она ополчилась на весь белый свет за то, что у нее отняли Вовку, ее любимого и желанного, единственного…
В школе вывесили стенгазету. Ксеня никогда не подошла бы к ней, если бы ее не вынудили смешки и перешептывания за спиной. Она нехотя приблизилась к листу ватмана, демонстративно уставилась на рисунок, вызвавший такой ажиотаж. На нем были изображены она и Люська, сидящие за партой. У обеих на головах красовался начес – такой, что и лиц почти не было видно, но зато надпись под рисунком гласила весьма красноречиво, кто эти нарушители Правил школьного поведения. Ксеня внутренне содрогнулась от возмущения: она не делала начес. Ее пышные от природы волосы не нуждались в этом. Глаза ее злобно сузились, губы искривила злорадная усмешка: «Ах, вот вы как? Ну, получайте!» У стоящего рядом мальчишки она выдернула из кармана авторучку. Размашисто, огромными буквами – через всю стенгазету – написала: «Дурачье!»
Да еще написала печатными буквами записку: «Оставьте Дудину в покое. Не то пожалеете. Банда «Черная кошка» – и подсунула ее под дверь кабинета завуча. Газета оформлялась под ее руководством. Тут-то завуч и отыгралась за «прическу». Срочно был созван педсовет, который вынес решение: не допустить Ксению Дудину к выпускным экзаменам. Отец наказал ремнем, мать отрыдала, а Ксеня как ни в чем не бывало предалась безделью, изредка напиваясь и ночуя где попало, у каких-то новых, весьма сомнительных подруг, которые нигде не учились и работали непонятно где, но зато систематически устраивали сборища. Ксеня, овеянная дурной славой, пользовалась успехом у мужского пола. Она не запоминала даже лиц тех, с кем обнималась и целовалась, глуша тоску по единственным рукам и губам. Когда в очередной раз заявилась домой пьяная, родители дружно обрушились на нее с руганью.
– Я вас ненавижу. Вы тоже виноваты в том, что Вовку посадили. Не вам упрекать меня, вы сами этого добились, – раздельно выговорила Ксеня, упала на постель и зарыдала: ее прорвало.
В глубине души она понимала, что правы родители, что пьянки действительно до добра не доведут, что она поганит свою душу, общаясь со всякими отбросами, что она несправедлива к родителям. Ведь не могут они желать плохого единственной дочери?! И все же жестокие слова вырвались, и, как ни странно, ей стало легче. После того вечера она стала почти спокойной, почти смиренной.
Ее одноклассники сдали тем временем экзамены, намечался выпускной бал.
Конечно, никакого бала не было, были танцы под пластинки. На застолье по случаю выпускного ее пригласил кл.руководитель, который относился к ней хорошо, правда, его голос ничего не значил против всего женского коллектива учителей. Ксеня пошла в пику им всем. Они с Люськой сшили себе платья из портьерной ткани: Торя – зеленое, Лапка – голубое. На праздничном столе было много винегрета, был холодец, селедка, на горячее – жаркое, одним словом, популярные в те годы блюда праздников. Из спиртного было шампанское и портвейн. Но выпускники помимо стола затоварились еще и водкой. После нескольких тостов учителей и родителей многие разбрелись кто куда. Танцевали, в основном, отличники и подхалимы. Во дворе Ксения покурила, добавила водки, и ее потянуло на подвиги. Хотела было нахамить на прощанье «коробочке». Но Люська ее отговорила: «Тебе же на будущий год экзамены сдавать, еще завалит назло».
Тут подвернулся Вовка Сидоров, который крутился возле нее с начала вечера. «За неимением гербовой бумаги пишем на простой», – цинично подумала она и позволила себя увлечь на берег Енисея. Они долго целовались, не зная, что делать дальше. Вот такая была оторва Ксеня. Ее дико развезло, и Вовка едва ни на себе потащил ее домой. Так лажево закончились «школьные годы, чудесные». После «бала» отец предложил ей поехать на лето к тете Лизе. Она уехала без сопротивления. Город стал ей ненавистен.
Когда вернулась, родители устроили ее на работу – сначала посыльной в какую-то шарашкину контору. Ксеня носила по городу разные бумажки и от нечего делать научилась печатать на машинке. Отец договорился в гараже с начальником, и Ксеня стала работать секретаршей. Сидела себе и книжки читала. Время шло томительно и скучно. Она жила ожиданием. И дождалась. Ей позвонил Колька Азовкин и сказал, что Вовка ждет ее дома, что он немного приболел и не может прийти к ней. Она отпросилась у начальника и помчалась, как угорелая, на Куйбышева, в другой конец города. Вошла в квартиру. Вовка лежал на диване, вокруг него сидели несколько парней, почти незнакомых Ксене. Она поздоровалась, скованно присела на краешек стула. Парни побыли еще немного и, попрощавшись, ушли.
– Иди ко мне, – ласково сказал Вовка. Ксеня пересела на диван, ближе к изголовью.
– Я стосковался по твоим губкам… – его взгляд искрился нежностью.
Все возвратилось на круги своя: радость встреч, горечь кратких разлук, бесконечные разговоры о будущем, их будущем. И – целомудренная по-прежнему любовь, несмотря на страстные – до дрожи в теле и головокружения – объятья и поцелуи. Что-то мешало Ксене безоглядно отдаться любимому мужчине. Неужели обывательская мораль: выходить замуж девственницей? Или страх потерять Вовку? Она знала, что до нее у него было много юных женщин и по-настоящему красивых, а не просто привлекательных, как она. Она случайно увидела их фотографии с любовными признаниями. Правда, те девицы были легкого поведения. Иногда Ксене казалось, что Вовка гордится перед дружками, что у него порядочная, чистая девчонка. Может, так оно и было. А может, рано изведав взрослую жизнь, он недобрал юношеской влюбленности, страстного влечения… Во всяком случае, его мужской сдержанности в то время, как Ксеня частенько теряла голову от желания испытать неизведанное, можно было подивиться.
Как-то они опять были у нее. Вовка нечаянно взял в руки дневник и стал читать про ее похождения, пока его не было в городе. Ей бы вырвать тетрадь из его рук, а на нее напало странное оцепенение. Он прочитал, не сказал ни слова и пошел из квартиры. Она бросилась за ним, крича: – Прости! Прости! Это все неправда, я придумала… Он ушел. На улице был жестокий мороз. Она выбежала за ним босиком, так босиком залезла в глубокий снег во дворе и стояла, пока не окоченела. На следующий день пошла к Вовке домой. Он сидел за машинкой и что-то шил. Ксеня стала каяться и просить прощение. Он молчал. Она схватила лезвие и резанула себе запястье на левой руке. Хлынула кровь. Вовка испугался, начал перетягивать руку выше пореза, залил йодом, стал перевязывать. Они помирились.
Родители Ксени не теряли времени зря: отец взял отпуск и уехал в далекий южный город, куда его усиленно звал двоюродный брат, комбинатор средней руки, любитель спиртного и женщин. Вернулся он оттуда не с пустыми руками, купил в Алма-Ате, столице Казахской ССР, трехкомнатную кооперативную квартиру. Тогда это было просто. Двоюродный брат заплатил одному товарищу три сотни сверху, – и отца вписали задним числом в члены кооператива. Осуществилась мечта родителей. Но не Ксени – поскольку она никуда уезжать из Енисейска не собиралась.
Зная поперечный характер дочери, отец понимал, что силой он ничего не добьется, а навредить может. Выскочит глупая девчонка за Вовку замуж – и прощай их честолюбивые планы в отношении единственной дочери. Они во что бы то ни стало хотели, чтобы Ксеня поступила в институт. Хотя у нее и аттестата не было. Их можно было почеловечески понять: сами неученые – у отца – пять классов образования, у матери – семь вечерней школы, – они с большим почтением относились к людям с высшим образованием. Особенно их почему-то прельщал институт иностранных языков. Они повели на нее наступление со всех возможных флангов, даже не погнушались привлечь на свою сторону Вовку, не говоря о куче всяких знакомых и друзей.
– Если ты будешь продолжать болтаться здесь, то не видать тебе аттестата, как своих ушей. Останешься недоучкой. Уедем, а ты в спокойной обстановке будешь готовиться к экзаменам, – настойчиво атаковал отец. – Там тебе никто не будет мешать.
– Доченька, ну, куда денется твой Вовка? Ты просто жизнь здесь себе загубишь. Куда ты пойдешь работать? Без аттестата? В уборщицы? В машинистки? – мать брезгливо поджимала губы.
– Ксюш, любовь моя, может, и правда, тебе поехать с родителями? Ведь одиннадцать лет ты проучилась. Я вот, по глупости, без образования. Получи аттестат, а потом будем решать, что дальше делать… – говорил Вовка чужими словами и не выдерживал: – Милая, девочка моя, я умру без тебя, я натворю что-нибудь… я не смогу без тебя…
Они целовались, пока не прерывалось дыхание – будто уже прощаясь. Вовка приходил в себя и, вспоминая слезы Ксениной матери и ее уговоры: дать Ксене возможность сдать экзамены, а также дружелюбный мужской разговор с ее отцом, снова убеждал Ксеню послушаться родителей.
– В конце концов, если захочешь, я приеду к тебе. Что мне стоит? Я человек свободный. Или ты…
Он лучше знал людей, имея за плечами немалый жизненный опыт. Подростком он воровал, реализуя своеобразно жажду романтики и духовную энергию, и, разумеется, побывал в воровских притонах, где ни одна попойка не обходилась без женского пола. Так что на своем недолгом веку он повидал разных девчонок, девушек и женщин и научился различать настоящее от поддельного. Он понял духовную сущность Ксени. На людях – вызывающий вид, лихость в выпивке, курение без меры… Такой способ самозащиты ранимой и чистой души выбрала она. Он интуитивно чувствовал, что Ксеня выше, возвышеннее его, не говоря о других. Он не понимал, чем, но она не вписывалась в окружающую ее среду. Но они оставались вдвоем, и его любимая преображалась: искренняя, тонкая, деликатная подруга и нежная, страстная, влюбленная… С ума сойти, как он любил ее в такие минуты, как боготворил!.. Умом понимая, не пара они, а чувствам разве прикажешь… Он оберегал ее, как мог.
“Ну, все, уговорили. Только быстрей увозите, иначе я раздумаю еще”, – заявила однажды Ксеня, обрадовав родителей до потери чувств. До Красноярска они поехали на «Волге». Вовка провожал ее далеко за город. Они сидели на заднем сиденье, глядели друг на друга и не могли наглядеться, беспрерывно целовались, не стесняясь родителей. Если бы Ксеня знала, что это их последняя встреча! Она выбросилась бы из машины, легла бы под колеса – но не уехала бы! Мать с отцом снисходительно улыбались, глядя на них и слушая их клятвы и обещания. Будто они знали, что будет – через месяц, через год.
XXI век. Они с мужем и внуком побывали в Сибири, сначала в Красноярске. Попали как раз в 2006 году летом после наводнения, несчастную рыбу, оглушенную и выброшенную на берег, собирали ведрами и мешками. Город им понравился, было чисто и немноголюдно. Потом на катере «Ракета» поплыли по Енисею в Енисейск. Через 40 лет!
Подплыли к Енисейску, стали выходить, муж пошутил: – Советская власть здесь есть? – Нету, нету! – дружно ответили мужики с пристани. – Ну, тогда сходим на берег. На самом деле, когда они ходили по городку ее юности веселой, ощущение было такое, что Советская власть никуда не девалась. Все будто застыло во времени. И Ленин в кепке на площади, и улицы не асфальтированные, и коровы бродят по ним, оставляя «лепешки». Тот же автовокзал, тот же дом, где они жили сначала, даже школа та же на берегу Енисея, правда, отремонтированная, где они побывали и сфотографировались. Они остановились в гостинице, и Ксеня, конечно, напилась и стала вспоминать юность и петь блатные песни: неслось такси в бензиновом угаре, асфальт лизал густой наплыв толпы… а муж записывал на диктофон.
Утром после разговора с администраторшей Ксения отправилась в храм. Та рассказала, что в нем служит о.Севостьян, который видит людей, их болезни насквозь, к нему со всей страны приезжают. Она отстояла очередь, подошла и услышала: – Не пей, Ксения! Батюшка смотрел на нее с жалостью. Она обомлела: «Откуда он знает? Может, мне послышалось?» Она быстро отошла пристыженная. Но не послушалась. А зря. Много неприятностей с ней случилось из-за алкоголя. Остались после свидания с родиной два стихотворения.
ИЮЛЬСКИЕ СУМЕРКИ НА ЕНИСЕЕ
Река смешалась с небом, Не отличишь по цвету. Утопленники-бревна По воздуху плывут. Не снилось Сальвадору, Маэстро всех чудачеств, Что в Енисее бревна По воздуху плывут. В пространстве мутно-сером Висят бедняги-бревна. Им не попасть на небо И на землю не лечь. Ну, что за время оно? Дали бы его понял. А я, как ни пытаюсь, Все не могу понять.Я ОТПРАВЛЮСЬ ПЕШКОМ
Я оставила душу в Сибири. Ну и как там живешь ты, родная? На чужбине тащу тяжеленные гири Непризнанья мне чуждого края. И зачем я вернулась? Ну, кто меня ждет? Никому не нужна, пропадаю… Мой единый, всеблагостный Бог, Я к стопам твоим, дочь, припадаю. Я оставила душу в любви К берегам Енисея, К сибирскому краю. Дух Сибири, ты только меня позови, Я отправлюсь пешком, В нетерпенье сгорая.Ксеня кое-как готовилась к экзаменам, ей действительно никто не мешал. Родители в спешном порядке закупали мебель, предметы домашнего обихода, посуду. Все должно быть добротно – на сто лет. Эта квартира, этот город должны были стать их постоянным местом жительства. Так и получилось, лишь Ксеня долгие годы не могла свыкнуться с зеленым, теплым, с арычками вдоль широких улиц, наполненными прозрачной журчащей водой, текущей с гор Алатау, но чужим городом, хотя ей тоже пришлось стать его постоянным жителем. Обставив квартиру, родители уехали обратно в Енисейск. Им оставалось доработать три месяца, чтобы получать впоследствии пенсию в размере ста двадцати рублей. Большие деньги по тем временам. У них все делалось по плану, вероятно, и будущее дочери тоже было запланировано, но Вовке в нем не отводилось места.
Ксеня осталась с квартиранткой, женщиной среднего возраста, работающей недалеко от их дома поваром в детсаду. Таким образом, отпадала проблема с едой, продукты Марья Семеновна приносила с работы. Поскольку она была одинока, то с удовольствием взялась, по поручению Ксениных родителей, откармливать похудевшую от любовных переживаний девочку. Денег за квартиру с нее не брали.
Ксеня устроилась на работу почтальоном. Ходила с сумкой по своему району, где жила, обслуживала десять домов. Довольно быстро освоила профессию почтальона: научилась сортировать газеты, письма. Ей приходило много писем: из Норильска, из Енисейска. Она разносила пенсию, переводы, поднималась на этажи. Ее благодарили: кто-то конфетами, кто-то булочками, кто-то давал рубль. Ей радовались. Было приятно. Живя на всем готовом, она скопила деньги. Но на билет не хватало.
Ксеня проработала месяц, такой максимальный срок она себе установила, заняла недостающих денег на билет у Марьи Семеновны и отправилась на поезде, без копейки в кармане, а ехать надо было двое суток до Красноярска, затем на самолете – в Енисейск, – к своему любимому. В Красноярске она поехала к тете Гуте, двоюродной сестре отца, в Зеленую рощу. Они выпили бутылку водки, Ксения выплакалась в «жилетку», заняла денег и вылетела в Енисейск.
Но она опоздала. Ее Вовку снова посадили – теперь якобы за ограбление. Суд вынес приговор: десять лет строгого режима. Она не знала, что такое – пробыть в заключении десять лет. И собиралась его ждать. Ее поразил тогда не столько срок, сколько факт разлуки в момент, когда она решилась связать с ним свою судьбу, наплевав на аттестат, на институт и вообще – на все! Ему было двадцать, освободился он в тридцать и умер в тридцать пять – от последствий строгого режима. Но все это было потом…
– Это твоих рук дело, – твердила Ксеня, обращаясь к матери.
Та прятала глаза, но отпиралась упорно и яростно. Вероятно, ей хотелось во что бы то ни стало удержать в Ксене остатки дочерней привязанности.
– При чем тут я? Наоборот – я заступалась за него перед следователем, говорила, что он не способен на такое…
– Ты-ы-ы? Заступалась? Да ты его терпеть не могла! Помнишь Зойку? Ты ненавидела ее только за то, что у них в комнате ничего не было, не было таких дорожек и ковров, как у вас, – Ксеня намеренно выделила последнее слово, – не было достатка, о котором вы всегда так пеклись. И у Вовки его нет. Вот что тебя бесит. А я ненавижу ваш достаток, ваше «как у людей», ваших приличных людей! Да все ваши так называемые приличные люди и ногтя не стоят Вовкиных родителей – бедных, но искренних, честных и добрых людей, – ярость душила Ксеню.
Мать заплакала, слезы обильно потекли по ее лицу, и она их не вытирала.
– Доченька, да мы же как лучше хотим… мы о тебе заботимся… о твоем будущем… ты же у нас единственная…
Ксеня внезапно замолчала: она ощутила безмерную усталость. Нелегко ей далась гневная тирада. Но как иначе она могла выплеснуть затопившее душу отчаянье? Кто-то же виноват в случившемся! Не мог Вовка ограбить! Отдать последнее мог! Но где и как узнать правду?
– Не судьба, видно, Ксенюшка…
Ксеня опять было вскинулась от этого притворного сочувствия. Она была убеждена если не в прямой виновности матери, то в косвенной причастности.
– Ну, посмотрим, судьба или не судьба! Я буду ждать Вовку. Если не дождусь, то приведу в дом такого мужа! Дворника с метлой вместо приданого в сундуке… – последняя искра гнева погасла.
Теперь уже Ксеня сама рвалась из Енисейска, ненавистного города, укравшего у нее счастье. Каждый шаг здесь растравлял незаживающую душевную рану: все напоминало о Вовке. Она вздрагивала, если кто-то окликал ее: ей мерещился его глуховатый голос – неповторимый, незабываемый. Тело еще продолжало ощущать его руки, губы – его губы. Тоска становилась невыносимой. Она сдала все же экзамены в школе, ставшей чужой, получила аттестат и, не дожидаясь родителей, уехала одна в еще более ненавистный, где не было следов пребывания Вовки, город.
XXI век: Прощание с Енисейском
Щеголяла в брюках, в юбочке короткой, Обзывали сучкой, швалью, идиоткой, - Цыкала сквозь зубы, отвечала грубо: – А пошли вы все! Отгуляла юность в юбочке короткой, С сигаретой «шипка» и стаканом с водкой! Отгремели трубы, потеряла зубы: – А посли вы все! Подступает старость – нет веселья с водкой. Оказалась жизня вдруг такой короткой! Люди стали грубы, вставила я зубы: – А пошли вы все!Часть третья
Алма-Ата, столица Казахской ссСР
Чуть помедленнее, кони, Чуть помедленнее… Не указчики вам кнут и плеть! В. Высоцкий Я с детства была протестанткой, Ходить не любила в строю. Дерзила, слыла хулиганкой, Свободу лелея свою. Автор1966-80 годы. Вот и осуществилась мечта Ксениных родителей. Они жили на юге, в тепле и зелени прекрасного города у подножия покрытых снегом вершин АЛАТАУ. Алма-Ата располагалась как бы в чаше, окруженная с одной стороны горами, ветрами почти не продувалась. Зато с гор текла бурная пенная с прозрачной ледяной (с ледников) водой река Алмаатинка. Дух захватывало, когда Ксеня отчаянно лезла в речку искупнуться, плавать никто не плавал, могло унести и разбить о камни.
У них была трехкомнатная квартира в строящемся микрорайоне на окраине города, бирюзовая «Волга» стояла в добротном кирпичном гараже, который они строили сами, недалеко от дома. Кстати, пару кирпичей Ксеня тоже заложила в фундамент. Был достаток. Отец с матерью без устали восхищались широкими проспектами, чистыми асфальтированными дорогами и тротуарами, справа от которых журчали арычки с хрустально-прозрачной горной водой.
А Центральный рынок? Изобилие экзотических фруктов, овощей, молочных и мясных продуктов. А продуктовые магазины? А промтоварные? После нищего Енисейска, где в магазинах – шаром покати. Если бы не друг отца, начальник Золотопродснаба, снабжавший дефицитными продуктами городских представителей власти, их семья, пожалуй, голодала бы. «Не город, а рай небесный», – говорил неверующий отец, коммунист с сорок шестого года. Мать поддакивала: «Да, повезло нам. Не зря промучились на Севере. Хоть под старость лет пожить по-человечески». Им было по пятьдесят, мать скоро начнет оформлять льготную «северную» пенсию.
Ксеня не разделяла их восторгов, бурча под нос: «Все бы так мучились…». Теперь, оказавшись за тысячи километров от Енисейска, она всей душой рвалась обратно. Вспоминалось только хорошее: дружба, любовь. Все пережитые драмы потеряли остроту, все стало казаться поправимым. И Вовка… Не умер же он, в конце концов! Наоборот – его длинные-предлинные письма дарили ей радость и надежду. Они любят друг друга, кто помешает ей поехать к нему в колонию под Ачинск и там стать его женой? Юности присущи иллюзии. К тому же она живет будущим, и самые сильные душевные потрясения гораздо быстрее становятся достоянием прошлого, чем в более зрелые годы, когда у человека все меньше будущего, все больше прошлого.
Ксене город казался слишком большим, слишком многолюдным по выходным дням и поэтому – неуютным и чужим. В будние дни прохожих на улицах было немного, машин почти не было. Когда они выезжали в город на своей красавице «Волге», она выглядела диковинкой, прохожие даже останавливались и глазели. Ксеня скучала. Правда, вскоре стали появляться какие-то случайные, скороспелые знакомства, но тут же распадались.
Два года подряд – по настоянию родителей – она поступала в Институт иностранных языков и дважды провалилась, не особо огорчаясь. Ей было безразлично, куда поступать, поступит она или нет. Как-то на тумбе с афишами она прочитала объявление о наборе в самодеятельный театр. Конечно, она пошла. Блестяще прочитала басню «Ворона и лиса». Изобразила лежащую собаку, которой мешает спать муха. Она поводила головой и взлаивала. Ей аплодировали. Ее приняли. Они разыгрывали какую-то пьесу про революционеров. Те попали в тюрьму, их должны были спасти отчаянные товарищи по дороге на допрос. Ксеня изображала лихую блатную девчонку. Она вылетала на дорогу перед телегой, взмахивала юбкой и громко пела, отвлекая конвоира: – Ах, шарабан мой, американка! А я девчонка да шарлатанка! Конвоира стаскивали с телеги, а задержанные разбегались в разные стороны. Жаль, спектакль не состоялся. Внезапно тяжело заболел режиссер и скоропостижно скончался. Не судьба, больше на сцене она не выступала. А способности, между прочим, у нее были. Но зато ей пришлось играть театр одного актера в жизни: на работе и дома.
Вовка продолжал писать. Она же стала испытывать неудовлетворенность от переписки, частенько задерживаясь с ответом. Разве могли письма заменить живого человека, его тепло, его понимание, его глаза, губы, руки!.. А Вовка – будто на другом краю земли. Отчаянье снова захлестнуло ее, и, не зная другого способа избавиться от него, она пустилась во все тяжкие, лишь бы не думать, не чувствовать: частенько выпивала – по поводу и без, со случайными девицами и парнями, много курила, играла в любовь – с очередным провожатым, целуясь, закрывала глаза и воображала, что с ней – Вовка. Если она бывала при этом достаточно пьяна, ей удавалось удержать иллюзию, хотя бы на мгновенья. Но после – она испытывала непреодолимое отвращение к себе. Ей хотелось кожу с себя содрать – ведь она предавала не только Вовку, он так и не узнал никогда о ее неразборчивых знакомствах, но себя саму – свою любовь, свою душу.
Ей исполнилось двадцать. Отцу вскоре надоело смотреть, как она бездельничает, и он через какихто знакомых устроил ее машинисткой в машбюро проектного института ГипроНИИхиммаш. Сначала ей давали всякую ерунду, так как работа была сдельная, и все сотрудницы гонялись за большими работами. Она от нечего делать немного подружилась со своей ровесницей по имени Тася, они вместе стали ходить в столовую. Тася была маленького роста, просто Дюймовочка, фигурка была вполне, а на лицо самая обыкновенная. Она была бедная, одевалась скромно, жила с сестрой, и все ее жалели, Ксеня тоже. Тася стала бывать у нее дома, она ее кормила, что-нибудь дарила из своих вещей. Тася как-то тоже ее сводила в гости к своей двоюродной замужней сестре. Ксеня вела себя довольно бесцеремонно, что не понравилось семейной паре, и ее больше не приглашали.
Перед Новым годом Тася пришла к ней и попросила одолжить приплетную косу. Она похвасталась, что познакомилась с братом Фарида, который недавно вернулся из армии и живет у них. Новый год они собирались отмечать вчетвером. Ксения слегка позавидовала, ей было отмечать не с кем. Тася вертелась перед зеркалом, примеряя косу, а Ксеня ехидно заметила: – Да не видно будет в темноте, что волосы не твои. Тася разобиделась, оставила косу и ушла. С того вечера их короткая дружба кончилась. Но эти вроде бы случайные люди еще появятся в ее жизни.
Наконец на работе ей дали печатать большую, но какую-то бессмысленную работу: целую книгу прейскурантов или таблиц, из двухэтажных цифр. Она справилась с этой книгой, корректор не обнаружила ни одной ошибки. О ней пошла молва, что она классная машинистка, и ей предложили место секретаря-машинистки в бюро ГИПов: главных инженеров проектов. Их было четверо, сидели они все в одной комнате, и она там же за столом с пишмашинкой. ГИПы проектировали заводы химического машиностроения по всей СССР.
Из месяца в месяц она перепечатывала один и тот же текст проектов. Менялись названия городов, менялись цифры, ГИПы ездили в командировки по всему Союзу, получали премии, не обременяя себя работой. Ей хватило два-три месяца, чтобы понять: проектные институты предназначены для бездельников, какой-то прослойки в обществе между рабочим классом и интеллигенцией. Именно там рождались барды и бардессы с походами в горы по выходным с кострами, гитарами, песнями, портвейном, с короткими интимными связями, как непременным антуражем подобного времяпровождения.
Однажды она тоже приобщилась к такому походу. Они остановились на ночевку на базе Туюк-Су. Неплохо побалдели, попили портвейн, она даже поцеловалась в охотку с одним симпатичным мальчиком Сашей. А наутро не понарошку пошли по тропе на пик Гагарина, 3 тыс.метров над уровнем моря. Группа была подготовленная, а она впервые в жизни поднималась в горы. Но упрямства ей было не занимать, была молодость, была неизрасходованная физическая сила. Ярко сияло солнце, а они шли по тропе, которую протаптывали впереди идущие мастера спорта, руководители их группы, в глубоком снегу. На всех были темные очки, на ней тоже. Но все дополнительно прикрывали лица, кто чем мог, она же отмахнулась: – Пусть лицо загорает! Отражение солнечных лучей от снега было небезопасным, и все об этом знали и потому ее предупредили. Как оказалось, не послушалась она опытных людей зря.
Они шли часа два, но дошли до площадки на вершине пика, полюбовались открывшимся потрясающим великолепием снежных гор, попили из термосов кофе, перекусили бутербродами, передохнули и стали спускаться вниз. У нее горело огнем лицо, но она молчала и терпела. Дома мать ей смазала лицо сметаной, ночь она промучилась, на работу не пошла, пошла в поликлинику, ей дали больничный. Кожа на лице слезала раз пять, ожог она получила сильный. Жаловаться было не на кого. Но это приключение надолго отбило ей охоту ходить в горы.
Еще ей запомнилась однодневная экскурсия в столицу Киргизской ССР город Фрунзе. Выпивать они начали уже в автобусе, и она смутно помнила город, какие-то достопримечательности… Наконец автобус остановился на берегу Фрунзенского озера. Они сытно пообедали, снова выпивали, Ксене на пьяную голову захотелось переплыть озеро, благо оно было не широкое. Плавала она хорошо, и будь трезвой, спокойно переплыла бы. До противоположного берега оставалось метров сто, как силы покинули ее. Она стала тонуть. На ее счастье, на берегу оказался еще один храбрец, уже переплывший озеро, и он кинулся ей на помощь. Крепко схватил за руку и вместе с ней погреб к берегу.
Она продержалась в институте полтора года, и бесцельная работа опротивела ей до тошноты. Она уволилась и какое-то время бездельничала, делая вид, что готовится к поступлению в институт. Вдруг вспомнила о своем желании стать следователем и подала документы на юрфак КАЗГУ на следовательский факультет. Сочинение сдала на «отлично». На втором экзамене по русскому языку, который она знала, как пять пальцев, ее угораздило передать подсказку какому-то парню. Ее удалили с экзамена. На этом ее следовательская эпопея завершилась.
Из XXI ВЕКА: Зато продолжилась, когда она стала писать детективы.
Уже два года ее не покидало ощущение временности: временная работа, временные приятели… Никаких ярких впечатлений, жизнь протекала скучно и однообразно – от письма до письма. И даже любовь к Вовке стала казаться исчерпанной. От частого повторения слова стираются, теряют новизну и первозданность. Я люблю тебя! – повторенное много раз, уже не волнует, не будоражит кровь, не вызывает дрожи в теле и смятения чувств. Да и чувственность, пробужденная Вовкой, требовала выхода.
Чтобы вырваться из тупика, Ксеня пошла к дальнему родственнику отца директору АДК и попросила взять ее учеником маляра на стройку и не в городе, а в бригаду, которая ездила в командировки за сто с лишним километров от Алма-Аты: строить новый город – Капчагай. Родители пытались отговорить ее, пугая трудностями, грубыми мужиками и бабами-строителями, но тем сильнее рвалась Ксеня из дома. Пришлось им смириться с очередным сумасбродством дочери.
В бригаде ее приняли за маменькину дочку, и две разбитные девицы принялись опекать ее. Они старались сами в ее присутствии избегать крепких выражений и делали замечания мужикам. А Ксеня, поначалу держась особняком и приглядываясь к непривычному для нее миру простых, рядовых, советских граждан, вдруг ощутила себя нечуждой им. Ей нравилась атмосфера товарищества: незлобные перебранки, грубоватые шутки, скабрезные анекдоты – и тут же помощь друг другу во всем, и в работе, и в быту.
Бездельников на стройке не было, халтурщиков быстро вычисляли и наказывали рублем. Хотя качество новеньких свежеотделанных квартир для простых людей оставляло желать лучшего. Но новоселы при дефиците жилья и этому были радырадешеньки. Прошло немного времени, и Ксеня вполне освоилась в новой обстановке и даже выдала как-то отборный мат, которому обучилась еще в Енисейске, будучи школьницей, от нечего делать. Присутствующие при этом рты пораскрывали, но тут же загалдели все разом.
– А ты, Ксюха, свой парень, оказывается…
– А че паинькой прикидывалась?..
– С этого и начинать надо было…
С того дня она стала в бригаде своей.
На стройке она встретила будущего мужа и осуществила сказанную когда-то в гневе угрозу: он явился к ним в квартиру с одним чемоданом приданого. Зато у него было много родственников, далеко не приличных людей.
– Вот мой жених, – заявила Ксеня в один из приездов на выходные дни, держа избранника за руку.
Ренат слыл в обеих бригадах бабником. Менял новеньких девочек, как перчатки. 23 февраля, в день Советской Армии, был устроен праздник в здании столовки. На сдвинутых столах было много выпивки и мало закуски. Оказалось, Ренату уже показывали ее и советовали закадрить, что он и сделал на этом празднике. Своей дерзкой бесцеремонностью напомнил ей Вовку. Ксеня в него влюбилась. Они стали встречаться. Вместе возвращались в Алма-Ату, вечерами подолгу гуляли по городу, Ренат рассказывал о себе, она больше молчала. Как-то он повел ее в гости к брату, у которого он жил после армии. Теперь он жил в общежитии.
Путь, а потом дом и квартира оказались знакомыми Ксении. Брат был мужем двоюродной сестры Таси. Ксения почувствовала себя неловко, ну, и влипла она: Ренат оказался парнем Таси. Но она же не знала! И уж тем более ни сном ни духом не ведала, что у Любы, жены Фарида, был план поженить свою сестренку и Рената. Так Ксения, сама того не желая, перешла дорогу бывшей подружке, отбив у той потенциального жениха. Правда, жених не догадывался о планах на свой счет, и Тася не представляла для него интереса со своей невзрачной внешностью. У него до Ксении такие девочки были и в общежитии, и на стройке! Впоследствии, когда все выяснилось, а Ксения с Ренатом уже собрались пожениться, Тася отомстила ей с помощью своей родной сестры, которая слыла в поселке, где они жили, ведьмой. Она сделала Ренату отворот на водку. Но об этом Ксения, к сожалению, не знала несколько лет, пока ей ни посоветовали обратиться к одному ясновидящему деду-татарину, который и раскрыл ей тайну пьяных скандалов со стороны Рената. Но снять отворот не получилось, и она продолжала мучиться.
Случился один неприятный эпизод в самом начале знакомства. За ней начал ухаживать довольно симпатичный парень из местных. Как-то даже пришел к ним в комнату, где они жили втроем. Она лежала уставшая на кровати, а он сел рядом на стул и стал уговаривать ее пойти в кино. Вскоре ушел ни с чем. Об этом донесли Ренату. Он вызвал ее на улицу для разговора. Был сильно выпивши, разговаривал грубо, а потом на ее оправдания оскорбил ее нецензурным словом. Она убежала от него в слезах. Потом он просил прощения, объясняя свое поведение тем, что у него в голове помутилось от ревности. Она была настолько чистой и наивной, что ей даже польстило его объяснение: ревнует, значит, любит. А приступы ревности, в особенности к прошлому, преследовали ее всю их последующую совместную жизнь. Беспричинные, они поднимали в ней такую обиду, что она ненавидела мужа. Правда, трезвый он ее не ревновал. Пока был женихом, больше сцены ревности не повторялись.
Между матерью и дочерью не было взаимопонимания. Чтобы бы Ксеня ни затеяла, мать вначале всегда была против, но потом смирялась. Взять случай с кошкой Фроськой. Ксеня любила домашних животных, а матери не нужны были лишние заботы. Ксеню уговорила на улице какая-то бабка, и она принесла котенка в дом. Мать ругалась, пыталась выбросить бедную малышку за дверь, но дочь сопротивлялась. В конце концов, мать смирилась. Ксеня диву давалась, слушая, как мать разговаривала с Фроськой. – Фроська, Фроська, кууда ты, прости господи, девалась? – она выходила из подъезда. – Опять с этим Васькой шляешься? Не пара он тебе, сколько раз говорено! Ты ж у меня красавица! Умница! А он кот дурной, беспризорный! Мать за свою жизнь не научилась выражаться нецензурно. – Нагуляешь, домой не приходи! Такое впечатление было, будто мать не о кошке говорила, а о собственной дочери. Правда, с Ксеней она так ласково не разговаривала, все больше сварливо. Ну, да упрямая дочь того стоила. Вот и доставалась кошке материна доброта. Она так привязалась к Фроське, что даже роды у нее принимала, уговаривая роженицу потерпеть.
Но вот узнала она, кого дочь выбрала в женихи, узнала, что Ренат – татарин, простой плотник с семиклассным образованием, так и слегла в постель: у нее открылась язва желудка, на нервной почве. Разве о таком муже для дочери она мечтала? Ну, ладно, нерусский, ладно, бедный, но – плотник! но – без образования! Несчастная мать, если бы она так яростно не сопротивлялась выбору дочери, может, Ксеня и не совершила бы ужасной ошибки, выйдя замуж не столько из-за страстной любви, сколько наперекор матери. Мать так и не смирилась с выбором дочери и зятя т е р п е л а.
Если бы Ксеня любила! Ренат и внешне напоминал Вовку: темные, правда, волнистые волосы, светло-зеленые глаза. Он был красив, строен и страстен. И ненасытной своей страстностью тоже напоминал Вовку. Но если с Вовкой была духовная близость, было понимание, то с Ренатом отношения свелись к плотским отношениям, причем страсть была лишь с его стороны.
Первая близость произошла в гостях у младшей сестры Рената Аниски, был ее муж-немец Володька, облизывался на чужую девушку, как кот на сметану. Родители Володьки были сектантами и ненавидели татарку, однажды даже вроде случайно закрыли ее в холодном подполе в одном платьишке. Через год Володька разбился на мотоцикле. Возможно, Ксению специально напоили, до этого она все время избегала последнего шага, после которого уже не было возврата в невинность и чистоту. Физические отношения представлялись ей низменными. Ксеня считала себя возвышенной натурой, не такой, как почти все окружающие ее молодые люди, в том числе и Ренат. Она не обольщалась насчет его духовных запросов, ощущая подсознательно его недалекость. Может, надеялась, что сможет со временем возвысить его до себя. Ведь они еще так молоды! Семейная пара уступила им кровать, а сами расположились тут же в комнате на полу и стали исполнять свои супружеские обязанности безо всякого стеснения. Ксеня была мертвецки пьяна и почти ничего не соображала. Даже и боли особой не почувствовала после такой сильной анестезии.
Ренат был груб и нетерпелив, он не привык к долгому воздержанию. После свершившегося ей было стыдно и неприятно. Она осталась холодна и равнодушна к физической стороне любви. К сожалению, слишком поздно Ксеня осознала это. Не национальность, не профессия, не наличие или отсутствие образования играют главную роль в отношениях между мужчиной и женщиной, а тонкость, деликатность, уважение друг к другу, стремление познать душу любимого человека. Брак, основанный лишь на физическом влечении, не может быть счастливым. Наступит пресыщение – как наступает оно даже от самой изысканной пищи, – и конец. Почему дружба между людьми длится десятилетиями, до самой смерти? Потому что она основана на духовной близости, а душа человека – неисчерпаема, непознаваема до дна, непредсказуема и этим притягательна. Человек пресыщается любыми напитками, кроме воды, а душа – это родник, это ключ, это ручей.
На стройке все было просто. Им дали комнату в двухкомнатной квартире, и они стали жить как муж и жена, хотя брак был еще не зарегистрирован. Ксеня стала готовить еду, хотя она не была к этому приучена. В столовой был буфет, и молодая семья питалась, в основном, всухомятку. На полках стояла рядами «печень трески», правда, в томатном соусе. Тут же рядами стояла килька в томате. «Печень» не покупали. Да и кто бы ее покупал? Если была килька, дешевая, любимая, несравненная для всех любителей выпить и быстренько заесть? Строители – все любители. «Печень» была непонятная, а значит, не своя. Кто строил Капчагай? Изредка романтики, как она, а в большинстве, обычные работяги, примитивные, необразованные. Рабочий класс, класс рабов.
Как-то Ксеня отмочила номер. Обмывали премию, их бригада организовала застолье на крыше. Была весна, день был жаркий, и юную супругу так развезло, что она не помнила, как добралась до комнаты, где легла на кровать и вырубилась. Ренат чуть дверь не снес с петель, она не проснулась. Он влез в окно. Скандал был жуткий и опять с ревностью, что она пила с мужиками. В этот раз она даже не стала оправдываться, чувствуя вину. Остальные девушки и женщины их бригады были незамужние. Похоже, в тот день и кончилась ее свобода.
Их документы уже лежали в ЗАГСе. С фамилией разгорелась ссора. Ксения хотела оставить свою: Дудина. – Да кто ты такая, известная личность нашлась, малярша! – возмутился Ренат. – Можешь оставаться со своей фамилией, но без меня. Ксения сдалась, она уже не имела своей воли и стала Кабировой. Несведущая в интимных отношениях Ксеня забеременела. Назад пути не было, хотя разочарование уже начиналось. У нее за всю жизнь не было рядом человека, который мог бы дать ей какой-то нужный совет. Она сама была себе советчицей. Родители не были для нее авторитетами, она с ними не особо-то считалась. И делала ошибки. Ошибкой было ее замужество. Мать оказалась права: они не были с Ренатом парой, как гусь с гагарой. Он крепко стоял на земле, она парила в небесах.
На регистрации в ЗАГСЕ на ней была фата, символ девственности. Хотя невеста уже была женщиной. Было белое платье, а под ним – роскошная немецкая комбинация, купленная по талонам в спецмагазине для новобрачных. Там же и кольца купили. Все покупалось на деньги отца, а не жениха, как полагалось. При бракосочетании присутствовал отец, мать в ЗАГС не поехала, сославшись на нездоровье, свидетелями были Аниска с мужем, распили шампанское. Было ощущение реальности происходящего, но не было реальности счастья: соединение узами брака двух любящих друг друга людей. Зачем был этот брак? Сопротивление родителям? Нежеланная нежданная беременность? Или боязнь вообще не выйти замуж, если она не девственница и с ребенком? Умри, но не давай поцелуя без любви. Ну, кто вдолбил в ее мозги такую чушь? И кто вообще заставлял ее думать? И зачем?
Свадьба, на которую жених с невестой наприглашали, кого попало, из родных Рената были только брат с женой и сестра с мужем, была более, чем скромной. Все угощение обошлось в сотню с лишним рублей. Этим родители выразили свой протест не только против нежеланного зятя, но и против собственной дочери. Вместо брачной ночи был скандал: новоявленный супруг, искурив все свои и чужие папиросы, слонялся по квартире в поисках курева и мешал спать родителям и гостям, оставшимся ночевать. Так началась официальная семейная жизнь…
Молодожены поселились в Ксениной комнате. Мать оставалась непримиримой по отношению к навязанному зятю, используя малейший повод, чтобы укорить Ксеню за неудачный выбор. Причем все недовольство, все придирки она высказывала дочери. Вначале Ксеня резко обрывала ее, огрызалась, но не зря говорят, капля камень точит, и постепенно она стала смотреть на Рената как бы со стороны и замечать то, чего прежде не замечала: его невоспитанность, бестактность, грубость, его дикий необузданный нрав в пустяковых ссорах. И от того, что мать была права в своих придирках, Ксеня еще яростнее оборонялась. Одно дело, когда видишь чьи-то недостатки сама, другое – когда тебе кто-то, пусть даже мать, без конца тычет в глаза пальцем.
Отец, как ни странно, нашел с Ренатом общий язык – как мужчина с мужчиной. Правда, у него не оказалось достаточно опыта, чтобы стать для зятя авторитетом. Он не привык иметь дело с молодыми людьми и начал поучать Рената: как надо и как не надо. Одним словом, учить его жить. Если бы Ренат по характеру был мягок, покладист, уважителен к старшим, у него с тестем могли бы сложиться добрые, человеческие отношения. Но он сразу проявил свой гонор – я сам с усам! – и встал на дыбы. Будто прислушаться к совету старшего было для него унизительным. Но, худобедно, они все-таки ладили. Может, сказывалась мужская немелочность, солидарность против женских склок.
К тому же Ренат считал, что сам может научить, кого угодно и чему угодно. Даром, что он был старше Ксени всего на три года, жизненного опыта ему было не занимать. Судьба его не баловала. Правда, родился он в небедной семье. Дед по матери был первым богачом и силачом в башкирском селе. Он поднимал на вытянутых руках бычка. Одна из его дочерей и стала матерью Рената. Они уехали из села в небольшой провинциальный город в Таджикистане. Отец устроился работать заведующим продовольственным складом, так как был грамотным, умел хорошо считать и писать по-русски. Жили в достатке, мать не работала, у них было четверо детей. Началась война, и отца призвали в армию, он стал пулеметчиком. Был ранен в коленную чашечку, вернулся инвалидом. На склад его не взяли. Работал, где придется.
Как-то на улице разжигал примус, и случился взрыв, огонь перекинулся на него. С сильнейшими ожогами всего тела и лица попал в больницу. Маленький Ренат ходил к нему каждый день. Началась водянка, и отец умер. Ему было 35 лет. Мать осталась одна с четырьмя детьми, когда Ренату исполнилось семь лет. Осталась без образования, без профессии и без средств к существованию. После его смерти она устроилась уборщицей за двадцать восемь рублей и две булки белого хлеба, старшие брат и сестра тоже пошли работать. Едва Ренату исполнилось тринадцать, он бросил школу и тоже устроился на работу: формовал из глины кирпичи, чтобы помогать матери. К тому времени старшие брат и сестра покинули родной город. Брат женился и уехал на родину жены, сестра поступила в техникум в другом городе. Надо было поднимать младшую сестренку.
Потом была армия, где он окончил с отличием заочную двухгодичную партийную школу и вступил в партию. После службы приехал в Алма-Ату, где жил его старший брат с семьей. Город ему понравился, и он решил остаться. Устроился плотником на домостроительный комбинат, надеясь получить квартиру. Пока жил в общежитии. Одним из первых вызвался поехать в Ташкент, где после землетрясения была Всесоюзная ударная стройка. Там жила его старшая сестра с семьей.
О том времени он часто рассказывал Ксене. Правда, в основном, почему-то о пьянках, драках, но и о том – что строители разных национальностей, со всех уголков Советского Союза жили дружно, как одна огромная семья. Если и дрались порой, то не потому, что один – грузин, а другой – латыш, а просто молодая кровь бурлила, да и перед девушками хотелось покрасоваться. Рассказывал он и другое. Пока их бригада вкалывала, отстраивая дома братьям-узбекам, парторг, бригадир, профорг, все – коммунисты, вовсю спекулировали холодильниками и болоньевыми плащами, по тем временам дефицитом, отправляя товары в Алма-Ату и продавая там втридорога. Ташкент снабжался после землетрясения по 1 категории. Многие пользовались этим, как начальники Рената. Видели все работяги, но им было плевать. А Ренату, молодому коммунисту, было стыдно за этих барыг. Он, наивный, считал коммунистов кристально чистыми, честными людьми, ленинцами. А тут – ворье. Его возмущение вылилось в протест против партии, в которой состоят такие преступные личности.
Вернувшись в Алма-Ату, направился в райком партии по месту жительства. Зашел к одному из секретарей, выложил на стол партбилет и сказал:
– Забирайте. Не хочу быть коммунистом…
У секретаря глаза на лоб полезли от удивления.
Рената разбирали на бюро райкома, пытаясь – это был первый подобный случай в их практике – выяснить, почему он так поступил. Почему человек по собственному желанию отказывается от такого блага: быть членом партии? Ведь это так надежно, выгодно, удобно – иметь в кармане партбилет. В случае чего – прикрыться им, как щитом, в другом случае – поднять его, как карающий меч.
– Может, ты баптист? – спросил один из членов бюро.
– Нет, я пью, курю и баб люблю, – ответил Ренат.
Он не хотел говорить об истинной причине ухода из рядов КПСС, не хотел быть доносчиком.
– Сынок, подумай! – сказал другой, пожилой, усталый человек.
Но Ренат был тверд в своем решении и не поддавался на уговоры.
– Я не достоин находиться в ваших рядах, – сказал он, имея в виду парторга и других коммунистов из своей бригады. – Я ухожу из партии, но в душе остаюсь ленинцем.
Через месяц после свадьбы Ренат повез жену знакомиться со старшей сестрой в Ташкент, вернее, не в сам город, а в колхоз в поселке на границе Казахской и Узбекской ССР. Старшая сестра Фануза с мужем-узбеком жили в большом доме со многими комнатами, устланными коврами, сервант был забит хрусталем. Фануза рожала детей, дом продолжал строиться. Через несколько лет Ренат даже построил огромные деревянные ворота. Участок был большой, был сад с плодовыми деревьями, виноградник, бродили куры, блеяли в загоне овцы. Продукты завозились мешками и флягами. Каждый день готовились разные блюда, как в ресторане, еда была вкусной и сытной, но пили водку и вино почему-то в пиалах. Всего было вдоволь. Как-то Ксеня перемыла весь хрусталь и на ужин с выпивкой поставила на стол фужеры. Все посмеялись, выпили, и хрусталь вернулся на пыльные полки серванта.
Фануза отнеслась к выбору брата с большим недовольством, все пыталась одеть новоявленную родственницу в шаровары и платье подлиннее. В поселке царил домострой. Женщины-узбечки были типа рабынь. На праздниках они даже за одним столом с мужчинами не сидели. Похоже, мужчиныузбеки их вообще за людей не держали, а уж о равноправии и думать было нечего. Правда, Фануза поставила себя на равных с мужем, все-таки она имела образование: техникум. Ксения плевать хотела на домострой и вела себя своевольно. Они ходили по поселку, сидели за столиком в кафе, пили вино. Местное население косилось на нее осуждающе, но Ренат помалкивал. Все-таки он был современным мужчиной. Не раз Ксения слышала за спиной шепот стариков: – Джаляп! (блядь). Многие узбеки напоминали ей киношных басмачей своими недобрыми взглядами.
Впоследствии они почти ежегодно ездили в отпуск в Ташкент, куда переехала младшая сестра Рената Аниска со вторым русским мужем. Первый разбился на мотоцикле. Они подружились семьями, насколько это было возможно со стороны Ксении с ее самомнением по отношению к кругу знакомых и родни Рената. Это был явно не ее круг. Говорить с ними было не о чем. Но Аниска с Виктором были добрыми людьми, что-то находилось у них общее для поддержания отношений все годы семейной жизни. Аниска работала официанткой в центральном ресторане Ташкент, бывала на обслуживании в буфете ЦК Узбекской ССР во время разных съездов и конференций. Зарабатывали они оба хорошо, и были обеспечены материально лучше семьи Кабировых. Аниска делала любимому брату дорогие подарки, не забывала и Ксению.
Ташкент Ксении нравился. Он был яркий, праздничный, многие жители одевались в нарядные национальные одежды. Население было многонациональным, но Ксения много раз замечала, что к русским отношение не слишком дружелюбное, особенно к современным девушкам и женщинам. Все русские «джаляпы». Даже муж Фанузы Тимур пытался тайком пощупать Ксению, о чем она помалкивала, хотя было противно. Вроде родня, а все равно неуважаемая. В Алма-Ате так не было. Между коренным населением и русскими существовало взаимоуважение и даже дружба, тем более, что государственный язык был русский. В Ташкенте узбеки говорили на узбекском, коверкая русский язык до невозможности. Ксении казалось, что нарочно. Она не хотела понимать узбекский, и Ренат переводил ей.
Через год замужества Ксеня поступила наконец в Иняз и этим как-то ободрила родителей, дав им надежду, что еще не все потеряно: все-таки она станет образованной, вернее, приобретет высшее образование. Экзамены она сдала блестяще. Ксеня на самом деле подготовилась добросовестно, но… Было одно «но», которое мешало ей считать поступление целиком своей заслугой. Для подготовки по английскому языку родители наняли преподавателя из этого института, и Ксеня подозревала, что, кроме положенной таксы за уроки, они дали этой женщине взятку. Правда, это подозрение перешло в уверенность значительно позже, когда она была уже студенткой и о многом узнала, в частности, о том, что такое блат.
На одном из устных экзаменов двум девушкам из потока поставили двойки. Но они тем не менее оказались в списках зачисленных в студенты. Одна была дочерью ректора университета, другая – начальника Казахского управления гражданской авиации. Ксеня впервые столкнулась с понятием «блатные». Когда-то она знала это слово в другом значении: блатной – человек, близкий к преступному миру. Так отец называл Вовку.
В их группе училась студентка, которая все предметы сдавала еле-еле на тройки, но ее отец был начальником закрытой торговой базы для членов правительства. Спустя несколько лет Ксеня встретила эту девицу, вернее, замужнюю даму, на улице и совсем не удивилась, узнав, что та постоянно ездит за границу в качестве переводчицы. С ее-то знаниями! Другая из их группы – совершенная невежда в английском – стала завучем и преподавателем языка в школе. «Ну и ну! – подумала Ксеня, услыхав от кого-то эту новость. – Жаль ребятишек…»
Первый год обучения Ксене ничем особенно не запомнился. Она была в положении, и ее больше занимало не окружающее, а то, что происходит внутри организма, где шевелился будущий человек. Вот только их преподавателя по языку и куратора группы, молодую, еще незамужнюю женщину, почему-то раздражал Ксении живот, и она часто смотрела на нее злыми глазами и придиралась,
– Почему вы щелкаете семечки на уроке? – спрашивала она.
Ксеню последние два месяца перед родами страшно мучила изжога: она даже спала сидя.
– У меня изжога.
– Полтора часа можно и потерпеть.
– В таком случае я лучше уйду и пощелкаю дома, – Ксеня поднималась из-за парты, собирала учебники и уходила.
Уже после окончания института Ксения встретила преподавательницу первого курса: она везла коляску с близняшками. На приветствие бывшей студентки смущенно улыбнулась.
У Ксени уже был приличного размера живот, когда в один из вечеров она решила встретить Рената после работы. Стояла на остановке и ждала. Какой-то парень спросил что-то насчет автобуса, она ответила. В это момент из троллейбуса выпрыгнул муж. Он был выпивши. Они пошли в сторону дома. Не доходя, муж устроил ей сцену ревности насчет незнакомого парня, что вроде она с ним прощалась. Ксения возмутилась явной несуразице. Он ее ударил, она от неожиданности упала. В ярости он стал пинать ее, Ксеня закричала, закрывая руками живот. Выбежал отец, еще кто-то из соседей. Стали унимать бешеного татарина. На некоторое время он опять собрал свой чемоданчик и ушел жить к брату, как делал уже не раз. Потом начинал звонить, просить прощения, она прощала – до следующей ссоры.
На втором курсе у нее была холодная война с преподавателем языка и куратором группы Зарой Хамитовной. С первого дня Kceня ощутила ее откровенную неприязнь. Она не понимала причины. Прошло немного времени, и Ксеня поняла. Выбрав трех студенток в любимцы, остальных Зара в лучшем случае не замечала, попросту игнорировала, в худшем – изводила едкими и колкими замечаниями. Любимицы подхихикивали. В душе Ксени назревал протест. В один из дней после окончания занятий Зара предложила группе провести собрание, поговорить об успеваемости. Ксеня бросила во всеуслышание:
– Ну, зачем вам утруждать себя и говорить во внеклассное время с теми, на кого вам и глядеть не хочется? Не лучше ли оставить своих любимиц и наговориться всласть о том о сем?
Все онемели. Зара побледнела, потом полыхнула жаром и вылетела пулей из аудитории, хлопнув дверью. Ксеня, собрав книги, направилась домой. Ей было вообще плевать на учебу, ведь она училась в угоду родителям, а не по призванию и желанию, а теперь – из-за Зары – она чувствовала себя униженной, будто знания швыряют ей, как подачку или милостыню. При любой возможности она пропускала занятия. На следующий день после инцидента ее вызвали в деканат и сказали: – Зара Хамитовна просит перевести вас в другую группу.
– С удовольствием это сделаю. Тем более, что я зря теряю время в этой, где наш преподаватель уделяет внимание лишь трем студенткам, а я не вхожу в их число. Можно идти? – ее губы кривились в злой усмешке.
Ее никуда не перевели, пронесся слух, что Заре поставили на вид и объяснили, что институт – государственное заведение, а не частная лавочка. Будто она этого не знала…
На третьем курсе основной предмет – английский язык – у них вела черноглазая энергичная похожая на казачку Ситчихина Галина Александровна, единственная из преподов, оставившая добрую память о себе у студентки Ксении ДудинойКабировой (в инязе она проходила с двойной фамилией из-за аттестата), она даже стала лучше учиться и почти не пропускала занятия. Тем более они начали читать в подлинниках английских и американских писателей: Драйзер «Сестра Керри», очень понравилась, Томас Гарди «Джуд незаметный», ужасно тяжеловесный стиль, Джон Брайн «Путь наверх» и «Жизнь наверху», очень интересные книги, написаны доступным легким языком, пьесы Бернарда Шоу. По «Домам вдовца» Ксения сделала неплохой доклад. Но больше всего ей понравилась «Сага о Форсайтах» Джона Голсуорси. Впоследствии она перечитала ее всю на русском языке и посмотрела потрясающий фильм.
На третьем же курсе у них была практика в одной из алмаатинских школ. Руководителем был молодой, с гонором мужчина, недавно окончивший иняз и оставленный на работу. Он вел разбор проведенных студентами уроков исключительно на английском языке и делал множество ошибок. Произношение при этом у него было скверное. Ксеня пару раз сцепилась с ним, как всегда ратуя за справедливость, и он затаил на нее зло.
Она сыграла ему на руку, когда провела в 10-м классе классный час. Она читала стихи еще полузапрещенного Есенина, рассказывала о его жизни, о том, что он вечно был в долгах, травился уксусной эссенцией, о его жене Айседоре Дункан, которую задушил собственный шарф, застрявший в колесе автомобиля. Присутствующие классная руководительница и учительница русского языка и литературы онемели от шока, а потом разразились возмущением. Руководитель практики довольно потирал руки. На обсуждении результатов практики, проверяя дневники, которые они вели, он прямо-таки с садистским удовольствием выискивал у нее ошибки и совершенно несправедливо, как посчитала Ксеня, снизил ей отметку. Конечно же, не забыл и про классный час. Она не выдержала.
– Вы бездарный и безграмотный преподаватель! И не вам указывать на ошибки, когда вы сами спотыкаетесь в каждой фразе.
Ее опять вызвали в деканат, на сей раз – к декану факультета. Ксеня бестрепетно переступила порог огромного кабинета. Громко поздоровалась, но ответного приветствия не услышала.
– Что это? – декан держал в руке тетрадь и тряс ею над столом.
– Наверно, мой дневник, раз вы меня спрашиваете.
– Нет, это не дневник, это безобразие! – Спокойный тон и независимый вид Ксени, наверно, вывели его из себя, и он вдруг заорал.
– Вы, недоучка! Какое право вы имеете делать замечание преподавателю? На вас государство деньги тратит… – Он выталкивал изо рта отрывистые фразы вместе с брызгами слюны, войдя в раж, топал ногами и размахивал руками – в одной была зажата Ксенина злополучная тетрадка.
– А какое право имеет бездарный преподаватель обучать студентов? – парировала Ксеня, в глубине души презирая декана за истерику.
– Вы… вы… – он задохнулся от возмущения и вдруг начал рвать тетрадь, где было написано несколько нелестных слов в адрес преподавателя, в клочки: они разлетались по ковру.
Ксеня постояла выжидающе.
– Вы будете наказаны, – наконец обрел декан дар речи. – Идите!
Она повернулась и вышла из кабинета. Наказания не последовало, пошли разговоры о том, что руководителя по практике вызывал декан и порекомендовал учиться говорить грамотно хотя бы порусски.
На четвертом, последнем курсе, у них появилась очередная кураторша по имени Лаура. Ей было около тридцати пяти, стройная, невысокого роста, но лицо неприятное – не столько следами оспы, сколько выражением полнейшего безразличия, если не пренебрежения, к студентам. Впечатление было такое, что, преподавая в институте, она кому-то делает великое одолжение.
Ее называли «ни рыба ни мясо» и хихикали, что Лаура одевается скромненько, но со вкусом, ибо она являлась на занятия в дорогих нарядах и украшениях, то на руке – массивный золотой браслет, то на шее – ожерелье из натурального жемчуга. На последнем семестре Лауру замещала другая преподавательница. В конце учебного года пронесся слух, что их кураторша поехала по турпутевке во Францию, спуталась там с французом и пыталась остаться в чужой стране навсегда. Ее не без труда выдворили оттуда, вернули в СССР, в АлмаАту, дело замяли, и она продолжала обучать студентов английскому языку.
Была на последнем курсе еще одна небезынтересная личность – преподавательница истории английского языка. Ее в детстве родители увезли в Бразилию, откуда она вернулась уже зрелой женщиной.
– Ей бы надзирательницей в концлагере, а не преподавателем в вузе работать, – резюмировала вполголоса Ксеня, после очередного неуда, поймав на себе злорадный взгляд, когда с унылой миной усаживалась на место. За семестр ей в лучшем случае грозила тройка. Значит, не видать стипендии, как своих ушей. Зато на экзамене Ксеня отомстила, ответив лучше всех в группе, на «отлично». Из духа противоречия она выучила наизусть все лекции, которые позаимствовала у одной отличницы.
– Я ставлю вам «хорошо», так как в течение семестра вы плохо занимались… – и снова – тот же взгляд.
Ксеня в бешенстве покинула аудиторию.
Несмотря на то, что она не посещала лекции, готовилась к экзаменам по чужим конспектам, вовсю шпаргалила на зачетах и экзаменах – но ни разу не попалась, поскольку делала это виртуозно, диплом она получила без троек. Ее никуда не распределили, поскольку в семье был ребенок, и предоставили возможность устраиваться на работу самой.
Студенческие годы она вспоминала редко, может, потому, что они не были для нее беззаботными, как для остальных. На ее плечах лежало не одно бремя: муж, ребенок, распри с родителями, а пуще всего угнетало безденежье и материальная зависимость от родителей. За пару тарелок щей, которые Ксеня уносила в бидоне в очередное временное пристанище, ей приходилось выслушивать долгие, нудные нотации и попреки. Ксеня с Ренатом давно жили на частных квартирах, меняя их раз, а то и два в году. Сын Руслан остался у родителей, мать уже три года была пенсионеркой, но продолжала работать. Ей пришлось скрепя сердце уволиться, так как отец заставил ее воспитывать внука: «А то наша мамаша сделает из него придурка… с такой жизнью…». Мать еще больше невзлюбила зятя.
И действительно, жизнь у молодых супругов была такая, что они вдвоем еле-еле сводили концы с концами. В трехкомнатных хоромах смогли продержаться с год, и то Ренат трижды за этот срок собирал чемодан и уходил к кому-нибудь из родственников. Родители так и продолжали считать, что они не пара, и не теряли надежды их развести. Но не зря у Ксени был поперечный характер. Покориться – значит признать себя неправой – во всем. Ей было очень плохо, но она терпела. Все чаще и чаще возникали скандалы из-за квартиры.
– Что мне твое высшее образование? Какой от него толк? Четыре года дурочку валяла… Лучше бы пошла работать, где квартиры дают, – муж заводился от собственных слов.
Она молчала, внутренне сжавшись в тугую пружину: ну, вот опять. Ренат требовал ответа.
– Ну, скажи, скажи: коту под хвост эти четыре года! Все предки твои: «Наша дочь должна иметь высшее образование», – его тон становился издевательским. – Тоже мне образованные нашлись: пять классов и коридор. А тебя в институт пихали. За министра замуж готовили, что ли? Да кому ты нужна была? Малярша!.. Скажи «спасибо», что я на тебе женился…
В груди у нее что-то лопалось, и Ксеню несло вперед – на мины.
– Это ты моли своего аллаха, что он тебе такое счастье послал. Кто ты такой? Голь перекатная! Нищий! Я, видите ли, должна о квартире думать, а ты на что? Ты мужик или кто?
И пошло-поехало…
Ренат, пока жена приобретала высшее образование, перепробовал всевозможные варианты получения квартиры, и законные, и незаконные. Он пытался встать на очередь в кооператив, но без блата и взятки ничего из этого не вышло. В райисполкоме действовала годами выверенная система: препятствия в виде всяческих параграфов для того самого народа, слугами которого, как гласил общеизвестный лозунг, являлись сотрудники различных госучреждений, и «полный вперед!» для всякого рода блатных и прочих… У молодой семьи гулял в карманах ветер, и одно это было непреодолимым препятствием.
Познакомился Ренат с одной женщиной, которая намекала на связи в верхах и что надо дать в лапу. Им повезло, что дать было нечего, и они отделались легким испугом: знакомство обошлось в три бутылки водки. Момент в их жизни был напряженный, семья была на грани распада. В шалаше – убогой каморке-времянке – раем даже не пахло. Скорее наоборот: кромешный ад постоянных ссор по всяким пустякам. Причиной, как они полагали, было безденежье и бесквартирье. Мирила их только постель, вернее, потребность Рената в женщине, несмотря ни на что, он оставался страстным любовником. А Ксения…
До свадьбы и какое-то время после она испытывала чувственное влечение к нему, отчасти потому, что он был первым мужчиной. Но влечение постепенно угасало, как пламя свечи, становясь все меньше и слабее. Пустела душа, не получая духовной пищи. Говорить им становилось не о чем, общего почти не было: у него работа, у нее учеба. Изредка, в основном, с получки, они выпивали, и тогда был вечер воспоминаний.
Ренат становился разговорчивым и рассказывал ей о детстве, о первой любви, о службе в армии, о женщинах, которые у него были. Она, расслабившись как-то, сдуру рассказала ему о Вовке. На долгие годы ее прошлое стало поводом для ревности и диких сцен – в пьяном виде. Сто раз после она раскаялась в своей откровенности и решила раз и навсегда не делиться с мужем ни прошлым, ни настоящим.
Она замкнулась в себе и окончательно охладела к Ренату и душой, и телом. На его искреннюю пылкую страсть стала отвечать притворством, изображая чувства, которых не было. Иного выхода она не видела. Лучше ласки нелюбимого мужа, чем одна-единственная фраза, сказанная отцом при ее возвращении в родной дом: «Ну, что я говорил?» Она не вытерпела бы их правоты – язвительной и от того еще более невыносимой. Что до ее души – то, кому она была нужна? Родители не считались с ее чувствами с детства.
Ренат был неглуп и достаточно опытен в отношениях с женщинами и, конечно же, почувствовал ее охлаждение, но не стал придавать значения. Ему было достаточно своих чувств. Ксеня приучалась жить внутренней жизнью. Убедившись в отсутствии деловых качеств у мужа, в его невезучести, она сама занялась квартирным вопросом. Разузнав от компетентных лиц, что наибольшая гарантия получить квартиру существует лишь в нескольких учреждениях города, она не без помощи родителей начала искать знакомых, которые по блату устроили бы ее в одно из таких учреждений. После многочисленных звонков, встреч, разговоров, обещаний, наконец, появилась надежда.
Родители первые вышли на одну женщину, у которой остались какие-то связи после всесильной должности, в настоящее время она была на пенсии. Она обещала. Все ждали. Родители в силу какойто вынужденной воспитанности (откуда у них?) ну, а молодые тем более помалкивали. Увы, милая старушка оказалась больна раком и приказала долго жить. Тут-то за дело решил взяться Ренат.
Когда-то он помог перевезти вещи с одной квартиры на другую некой даме. Денег за услугу не взял, он вообще был бессребреником. В благодарность она снабдила его, за деньги, конечно, моднейшими туфлями. Она работала на базе «Обувьторга». Завязалось, насколько это было возможно при разнице в общественном положении, некое подобие знакомства. Изредка дама обращалась с просьбами: отвезти-привезти. Ренат давно уже работал шофером на стройке, окончив курсы водителей грузового автотранспорта.
И вот, в момент стремительных поисков, они оба вспомнили об этой даме и в свою очередь обратились с просьбой к ней. Оказалось, что ее близкая приятельница, с которой были деловые отношения в виде товарообмена: одного дефицита на другой, импортной обуви на продукты в закрытом буфете, как раз работала в одном из желаемых, но пока недостижимых учреждений: в Совете Министров Казахской ССР.
Колесо закрутилось стремительно и бесповоротно. Первым шагом было собеседование с заведующей канцелярией Скрипкиной Зоей Павловной, приятельницей дамы. Ксения, предъявив паспорт, получила выписанный на ее имя пропуск в Бюро пропусков и нерешительно вошла внутрь большого здания на площади В.И. Ленина, наискосок от магазина Детский мир. Она с усилием открыла деревянную, но тяжелую дверь, которая мгновенно, из-за тугой пружины, закрылась, едва не поддав по заду. Ксения успела отскочить. Суровый милиционер у входа улыбнулся одними глазами, взял пропуск и показал, как пройти в канцелярию. Направо от входа была раздевалка, и Ксения разделась. Она шла медленно и глазела по сторонам. В таком здании ей бывать не приходилось никогда. В кино, правда, нечто похожее она видела.
Просторный холл с колоннами из цветного мрамора посередине, мраморным полом, высоченным потолком с массивными хрустальными люстрами заканчивался мраморной лестницей, покрытой во всю ширину красной ковровой дорожкой, ведущей наверх. Она шла по коридору, вдоль которого по обеим сторонам располагались закрытые дубовые двери с разными табличками. Странные ощущения владели ею, и странные мысли приходили в голову. Вроде в другой мир она случайно попала, в другую жизнь… И оробела вдруг. Куда подевалась ее всегдашняя самоуверенность? Неужели входная дверь, страж порядка, холл, дорожка так повлияли на нее? Само здание? Пусть величественное снаружи, внушительное внутри, но всего лишь строение…
А тут еще шедшая навстречу женщина окинула Ксению недоуменно-пренебрежительным взглядом: «Откуда ты, такая серенькая?» Вспомнился Енисейск, день рожденья Сюси, приблатненные девицы… Как лихо она тогда поставила их на место! А сейчас опустила глаза – от неловкости за юбку из дешевой ткани, немодную блузку и сапожки ширпотребовские из кожзама. Никогда не считала Ксения, что она бедная. Почему же здесь, сейчас, мельком окинув взглядом эту женщину – красивые туфли, капрон, платье из дорогого модного кримплена, золотая цепочка с медальоном на шее, золото – в ушах, на руке, она ощутила себя нищенкой, пришедшей за подаянием? Она мысленно встряхнулась, вскинула голову, прищурила недобро глаза, скривила в усмешке рот: «Ну, поглядим, что здесь за царствие небесное, что за рай для нищих!» И открыла дверь с табличкой «Канцелярия».
Вероятно, блат у дамы был железный, потому что Ксению взяли инспектором, так величалась обыкновенная секретарша, в канцелярию, несмотря на высшее образование, которое здесь было совершенно ни к чему и даже неуместно. У самой Зои Павловны было среднее с коридором. Зато важности – на два высших. Дама предупредила Ксению, чтобы она и не заикалась насчет квартиры, наоборот – должна говорить, что не нуждается, что живет с родителями. С этой безобидной лжи и началось ее устройство в Совет Министров, который вскорости превратился для нее в Дом терпимости.
– Что ж ты в школу-то не пошла, детишек учить? – спросила на собеседовании Зоя Павловна, узнав, что молодая женщина закончила иняз и получила диплом преподавателя английского языка.
– Вакансий нет в городе, – солгала Ксения.
– Мест, что ли? Странно. Я думала, учителей везде не хватает. Ну, в область куда-нибудь поехали бы…
– Ребенок у нас. Свободный диплом мне дали из-за этого, – Ксения старалась держаться скромно, чтобы произвести на начальницу благоприятное впечатление, так ей посоветовала дама.
– Ребенок, говоришь? Нежелательно. У нас работать надо, а не на больничном сидеть, – сурово молвила Зоя Павловна.
Ксения испугалась: неужели сорвется?
– Конечно, конечно, – заспешила она с заискивающей интонацией, – я понимаю, я буду работать. С ребенком моя мама водится, она – на пенсии.
– Все так говорят, а потом… Ну, ладно, – я переговорю с отделом кадров. Документы принесла? Оставь!
Началась ее трудовая деятельность с самой первой, едва ли не самой низкой ступеньки служебной лестницы. Только машбюро считалось ниже. Машинистки – народ неуправляемый, злоязыкий, зачастую не слишком грамотный, за редким исключением; а уж об образовании и говорить нечего, так же как о культуре речи и поведения. В машбюро набирали штат тоже не без блата, но квалификация должна быть высокой, вкалывать приходилось по-черному: бумагу расходовали тоннами. Стучали машинистки, как из пулеметов.
В канцелярии работали только женщины: Зоя Павловна – заведующая, ее правая рука, инспектор-машинистка Фаина Кузьминична, невысокая полная в возрасте за пятьдесят придворная дама в услужении у З.П. и еще одна машинистка, невзрачная безвкусно одетая женщина лет сорока, она редко вставала из-за машинки и редко выходила из комнаты. Трое женщин занимали главную комнату с двумя окнами. В проходной с одним окном комнате сидели Галка, ведущая картотеку входящих и исходящих документов, а второй стол напротив двери с пишмашинкой заняла Ксения. Ее, быстро находившую общий язык с разными людьми, встретили недружелюбно, если не сказать – неприязненно. По всему было видно, что коллектив не случайный, что работают они вместе давно, и, если бы ни тяжелая болезнь женщины, на место которой взяли Ксению, они так и работали бы все свои – до самой пенсии. Ощущая эту незримую стену, Ксения решила не навязываться, не лезть с разговорами, тем более поначалу и времени на это не было: надо было осваивать несложную, но требующую внимательности и терпения бумажную рутину. Изо дня в день – одно и то же.
Освоила она все операции очень быстро, с работой справлялась в два счета, успевая наблюдать за окружающими, прислушиваться к разговорам, приглядываться к поведению своих, канцелярских, и чужих – приходящих. И делать выводы. Все сотрудницы канцелярии были разные и по внешности, и по возрасту, но что-то делало их похожими друг на друга. Может, их манеры, в которых сквозила значимость собственной персоны? Или их плавная, вальяжная походка, негромкий разговор с резко выраженной интонацией: с Зоей Павловной – заискивающе, если не подобострастно, так как их благополучие целиком и полностью зависело от ее расположения; с секретарями отделов – начальственно, якобы делая одолжение, снисходя – в любой удобный момент они готовы были с радостью ткнуть их носом в самую пустяковую ошибку, не ошибку даже, а просто упущение. При этом злорадство так и выпирало из них. Если кто-то из секретарей пытался оправдаться, вмешивалась Зоя Павловна и беззлобно, но сурово обрывала оправдания.
– Ну, конечно, вам можно ошибаться. А нам не дозволено. Ведь, в конечном счете, мы несем ответственность за правильное оформление документа: он выходит от нас. И шишки все на нас, если что. А вы – в сторонке…
Фаина поддакивала. Зоя Павловна, как поняла Ксения, была очень высокого мнения об учреждении, где она работала, о месте, которое она занимала. Она была убеждена в государственной важности тех документов, которые выходили из стен здания. Хотя – кто знает? Может, делала вид, поскольку должность обязывала. Может, и правда была. Ведь были же люди, до последнего верившие в справедливость советского строя, пока их всех не уничтожили. Ксения, проработав какое-то время, составила свое мнение о канцелярии: именно сюда стекались все слухи, сплетни и разговоры и растекались по всему зданию, часто в искаженном виде.
Несмотря на то, что все – и канцелярские, и секретари отделов – постоянно толковали о загруженности работой, Ксения наблюдала другое. Не две-три минуты, а десятки велись пустые разговоры у стола Зои Павловны, причем она сидела, вальяжно раскинувшись в кресле, а собеседницы стояли. Фаина обращалась к ЗП.: – Зоечка Павловна! ЗП была крупной женщиной, вернее, бабой с резкими неприятными чертами лица без грана интеллекта на нем. Звучало такое обращение чересчур подхалимски и смехотворно, и Ксене напоминало басню «Ворона и лиса»: Плутовка к дереву (креслу) на цыпочках подходит, вертит хвостом, с вороны глаз не сводит и говорит так сладко, чуть дыша: – Голубушка (Зоечка Павловна), как хороша! Иллюзия была полная.
В течение дня то одна сотрудница, то другая отпрашивалась в буфет, в аптечный киоск, на почту, в сберкассу, в парикмахерскую, причем все эти службы находились тут же, в здании. И весь обслуживающий персонал также пользовался привилегиями сотрудников аппарата, но уровнем пониже, например, дефицитов в буфете поменьше. Лишь З.П. никуда не ходила, за нее ходила придворная дама. Ксения поняла, что всем коллективом канцелярии, а может, и отделами, а может, и всем аппаратом Совета Министров создается видимость работы. Нельзя сказать, что она была чересчур работящая, но от безделья изнывать ей прежде не приходилось. Как-то, справившись с работой на своем участке, она открыла принесенную с собой книгу – в первый раз. Как оказалось – и в последний.
Уж кто сообщил Зое Павловне о вопиющем факте, осталось в тайне. Но благодетельница такая нашлась. Начальница неторопливо, вроде прогуливаясь, приблизилась к рабочему столу Ксении, задумчиво посмотрела на раскрытую книгу. Ксения заерзала на стуле, закрыла книгу, сунула ее в ящик стола и уставилась на массивный золотой перстень с кроваво-красным рубином на руке Зои Павловны, которой она слегка постукивала по столу. Наконец раздалось грозное:
– Вам что, делать нечего? Нам книги читать некогда, зарубите на носу. Что люди подумают? Что здесь бездельники сидят? У нас самый трудный, самый ответственный участок…
– Простите, я больше не буду, – кротко сказала Ксения.
Ей пришлось учиться создавать видимость работы, раскладывая по столу карточки. Если кто-то входил, она перекладывала их с места на место с сосредоточенным видом. Или смотрела пустыми глазами в стенку напротив, слушая убаюкивающее жужжание голосов и с трудом удерживаясь ото сна – особенно после вкусного, плотного обеда в совминовской столовой, куда пускали по особым пропускам, в определенное время.
Но Ксения нашла занятие от безделья. Она стала тайком, прячась даже от Галки, писать стихи. Делая вид, что корпит над карточками, она записывала строчки на листках бумаги и складывала их в ящик стола. От соседки отгораживалась ящиком с картотекой. Стихи как будто давно ждали выхода и буквально лились одно за другим, причем, на бумагу она записывала уже готовые: Бурно хлынули свежие соки, что до срока копились в душе, и бунтующе вызрели строки, словно злаки на четкой меже. Самый загруженный день в канцелярии был понедельник: почту, скопившуюся за два выходных, приносили мешками. Было не до разговоров, не до чаепитий и буфетов. Они в самом деле работали, не поднимая головы.
Зато остальные дни недели создавалась видимость работы. В промежутках: чаепитие, вязание, разговоры, бурное обсуждение последних новостей. Чаем она не увлекалась, буфеты требовали денег – а где их взять? – разговоры ей были неинтересны, так как она мало кого знала. Теперь она все это игнорировала, оставляя, правда, на лице заинтересованную маску. Она писала: белые крылья печали, черные крылья тоски, вы надо мною трещали, трепетно злы и легки. Оставалось еще одно занятие для души: думать, вспоминать о прошлом или мечтать, о чем угодно, лишь бы убить досуг.
Не надо было быть семи пядей во лбу, чтобы понять, что такое КАНЦЕЛЯРИЯ. Это средоточие всех слухов и сплетней, приносимых секретарями отделов с жалобами на своих сотрудников, инспекторами приемных с жалобами на своих помощников, т.е. помощников зампредов, с шепотком о своих шефах и даже их семьях. Слухи и сплетни буквально просачивались сквозь стены канцелярии по всему зданию и даже за его пределы. Это была своего рода духовная пища для бездуховных женщин.
В те благословенные времена Казахская ССР СЛЫЛА ЖИТНИЦЕЙ СССР, собирая на своих полях едва ли ни ежегодно урожай в миллиард пудов хлеба. Всему аппарату, без исключения, выдавалась премия в размере оклада, даже уборщицам, они тоже вносили свой вклад в этот миллиард. Сколько велось разговоров, на что потратить деньги! Во времена горбачевской гласности и тотальных разоблачений выяснилось, что миллиарды были липовыми за счет приписок. А снабжение Казахской ССР было реально 1 категории, не хуже, чем в Москве. Да еще генсеков связывала дружба: ну, как ни порадеть родному человечку?
Раз в два года в Алма-Ату приезжал Брежнев. Встречали его помпезно, народ сгоняли по всему пути следования правительственного кортежа из аэропорта до правительственной резиденции. Даже высшие учреждения республики: ЦК, Совмин и Верховный Совет обязаны были выходить для приветствия генсека ЦК КПСС на пр.Коммунистический. Ксеня пряталась в туалете цокольного этажа. Она же протестантка.
После таких событий разговоров в канцелярии хватало на долгое время. И про резиденцию с баней и юными девочками, никакого насилия, только по согласию. Педофилов тогда не было, упаси Боже, так, спинку потереть.
Из XXI века: педофилы появились после набоковской «Лолиты», а девочки для высших чинов и в советские времена были. Говорили, деньги им платили немалые. А охотхозяйства, где фазаны, как простые курицы, по тропинкам шастали, бери голыми руками и тащи на кухню. Многое еще обсуждалось, да не все помнится.
Примерно через пару месяцев Ксения сделала первую в своей жизни попытку стать, как все, хотя бы внешне. Уж больно ее наряды не вписывались в добротность окружающих стен и женщин. Зоя Павловна да и остальные не раз косились неодобрительно на ее слишком короткие юбки, слишком прозрачные блузки из простых, дешевых тканей. У них было не принято так одеваться, одежда, даже у молодой, но рано увядшей Галки, которая без мужа растила сына на девяносто рублей зарплаты, была сшита из дорогих тканей неброских расцветок, строгого фасона, типа особой, правительственной спецодежды. Если Галка приходила на работу в новом платье, все окружали ее и начинали ахать, ощупывая ткань, скорее всего, купленную в комиссионке. Ксения не обманывалась по поводу восторженных ахов. В глазах Зои Павловны стыл холод и насмешливое презрение. «Бедная Галка, – думала в такие моменты Ксения, – где уж ей угнаться за ними!» У многих сотрудниц были мужья с высокими окладами.
Галка была ниже Ксении ростом и худая, как щепка, может, от недоедания. Ксении пришла в голову одна мысль, но она некоторое время колебалась, не зная, как ее осуществить, чтобы не обидеть человека. Галка, единственная из всех, относилась к ней по-доброму и помогала освоиться с обязанностями. Ксения давно хотела как-то отблагодарить ее, но не знала, как. И, наконец, придумала. Принесла из дома несколько своих вещей, почти не ношенных и ставших – после родов – тесными. Выбрав момент, когда они остались в канцелярии вдвоем, чувствуя смущение и неловкость, Ксения подала Галке большой целлофановый пакет и сказала:
– Гал, только без обиды. Я от чистого сердца, честное слово… Мне эти вещи малы, а тебе, может, пригодятся. Перешьешь немного…
Галка не обиделась, но как-то смешалась и сказала:
– Но я не могу взять их просто так. Я тебе заплачу.
– С ума сошла, что ли? Вот чудачка! Я не продаю, а отдаю просто так. Ты, наверное, не поняла…
– Неудобно как-то, – она еще помялась, помедлила, но взяла пакет и сунула его под стол: – Спасибо тебе большое. Всегда обращайся, если что непонятно.
Таким нехитрым образом Галка превратилась в доброжелателя, теперь она не выдала бы Ксеню ни за какие коврижки. «Спасите мою душу от злобы и от лжи. Не то, чтобы я трушу, а просто жаль души.» На деньги родителей Ксения справила себе два платья, правда, яркой расцветки, из кримплена, узкую черную шерстяную юбку подлиннее и строгого фасона белую полупрозрачную блузку. К нарядам выпросила у них – на день рождения – кольцо с жемчугом и серьги. Теперь она, если чем и выделялась среди женщин канцелярии, то лишь молодостью и привлекательностью.
Но тут она ничего не могла поделать. Хотя кожей ощущала, как ревниво реагирует Зоя Павловна, если кто-то оказывает Ксении внимание, заговаривает с ней. Начальница сама привыкла быть в центре внимания и никому не позволяла ущемлять свои права. Да и кто бы посмел? Не Галка же! И, конечно, не Ксения. Она вообще старалась быть незаметной, чтобы лишний раз не попадаться на глаза Зое Павловне, от которой зависело и ее будущее. Попробуй не угоди, и вылетишь с работы в два счета. А повод всегда найдется, стоит захотеть. Но все же Ксения едва не стала объектом для пересудов, а это уже один из поводов для увольнения.
Как-то дома во время ссоры Ренат крепко схватил ее за руку повыше локтя. Утром, собираясь на работу, Ксения не удосужилась поглядеть на это место. А там, оказывается, расплылся синяк. Она как назло надела платье с короткими рукавами. На работе потянулась за документом, лежащим перед Зоей Павловной, и услышала:
– Ого! Синячище-то какой! Где это ты так?
Ксения глянула и обомлела: предплечье действительно было синим.
– А… – она беспечно махнула рукой. – Муж приложился.
– Он у тебя дерется, что ли?
– Ага… Как напьется, так кулаки чешутся, – Ксения шутила, не замечая, как женщины многозначительно переглядываются.
Она зачем-то вышла из комнаты, оставив дверь приоткрытой, а когда возвращалась, услышала свое имя и приостановилась.
– Ну, Ксения, кто бы подумал! Конечно, она не виновата. Но если кто-нибудь из посторонних увидит, что он подумает о нашей сотруднице и вообще о нашем учреждении? Что здесь непорядочные люди работают, – Зоя Павловна многозначительно помолчала и продолжила: – Сегодня на руке, завтра на лице… («Типун тебе на язык!» – подумала Ксения). Нет, я не могу допустить, чтобы мои сотрудницы ходили с синяками. С этими замужними женщинами одни неприятности. Насколько в этом отношении лучше одинокие. Если подобное повторится, я вынуждена буду вести разговор с руководством о ее дальнейшем пребывании у нас. Да и вообще…
«Вот как, оказывается, делают из мухи слона. Всего-то неудачная шутка, а какие могут быть последствия!..» – Ксения отступила от двери, благо на ковровой дорожке шаги были неслышны, сошла на паркет и поцокала каблучками – цок-цок – открыла дверь, сделала вид, что споткнулась о край дорожки и плечом ударилась о косяк.
– Ой-ё-ё-ёй! – громко ойкнула она. – Опять по тому месту, что вчера. У нас свет отключили, я пока свечку искала, так ударилась о косяк, аж искры из глаз…
– Ты же сказала, что муж ударил… – в голосе Зои Павловны слышалось явное разочарование.
– Что вы, Зоя Павловна! Он у меня мухи не обидит. Такой спокойный, такой спокойный, аж противно иногда. Одним словом, флегма, – Ксения лгала вдохновенно, искренне напуганная угрозой начальницы.
Не без помощи Зои Павловны уволили недавно молодую женщину из экспедиции, несмотря на беременность. Чем-то не угодила своей начальнице, приятельнице Зои Павловны.
Безделье продолжало мучить Ксению, и стихи не спасали, прятаться было унизительно. Ум бездействовал, не находя пищи в пустых бабских разговорах о мужьях, о тряпках, о чужих делах. Душевная энергия, не находя выхода, подкатывала к горлу. Ксения начинала задыхаться, как рыба на песке, среди обитателей канцелярии. «Пора, пора уносить отсюда ноги, а то как бы чего не вышло», – все чаще думала она, ловя себя на желании громко расхохотаться – вот рты поразевали бы! – или сказать какое-нибудь жаргонное словечко из словаря юности: – Ну, ты, чува, – обращаясь к Зое Павловне, – что ты мне лажу порешь? – или, скажем, сигаретку вдруг в рот сунуть и щелкнуть зажигалкой… Такие вот странные желания возникали у Ксении, одной из сотрудниц образцово-показательной канцелярии, где не водилось бездельников. Усилием воли, а воля у нее была, она подавляла их и даже изображала на лице некое подобие угодливой улыбки, воображая, что она стоит перед Зоей Павловной на задних лапах, вертит хвостом и лебезит.
– Ах, Зоечка Павловна, какие у вас перышки, какой носок…
Но – день ото дня ей становилось все хуже. Она замечала порой, что стала думать и говорить о себе во множественном числе: «мы, в канцелярии», как говорили все. Начинала сливаться с неприятными ей женщинами, терять свою непохожесть, индивидуальность, свое лицо, постепенно превращаясь в конформистку. Они пока своей ее не считали, но Зоя Павловна уже более благосклонно, чем первые дни, поглядывала на Ксению и даже улыбалась одним уголком рта, слушая ее рассказы о семейной жизни. А Ксения правду выдавала за шутку. Ей было плохо, в семье по-прежнему царил разлад. Поделиться было не с кем, вот она и делилась, изливая обиду на мужа и родителей под маской шута горохового. «Всегда быть в маске – судьба моя!» А ведь она искренне пыталась быть и жить, как все! Но поэзия подняла ее над окружающими, ее внутреннее презрение к ним усилилось.
«Не ладится в жизни семейной. Трагедия? А, наплевать! У каждого в этой-то сфере не тишь и не благодать. Не ладится в жизни семейной. Нет пьянства и нету измен. Семейный портрет в интерьере, но – холодом веет от стен.» Бросить бы ей к чертовой матери эту канцелярию, это стоячее болото, это учреждение и бежать, куда глаза глядят. Ан нет! Она не из тех, кто отступает. У нее – цель, для достижения которой она должна терпеть и вытерпеть все, даже унижение: плюнут – утрись, ударят – отвернись. Пусть все хорошее, что есть в ней, сгорит синим пламенем. «Цель оправдывает средства, – твердила она про себя в особенно тяжелые минуты, донельзя подавленная пустотой существования в канцелярии. – Терпи, терпи! Зубы стисни, язык прикуси, душу в кулак сожми. Бог терпел и нам велел…»
В Совмине изредка проходили различные конференции и пленумы, на которые съезжались первые руководители из всех областей Казахской ССР. Целый зал отводится под торговлю дефицитами для дорогих гостей. В два ряда на вешалках располагались шубы из разных мехов, заграничные одежда и обувь, чешская бижутерия, изделия из золота и платины. На всех входах в вожделенную залу стояли милиционеры. Всеми правдами и неправдами сотрудники аппарата все же стремились туда попасть, чтобы отовариться. Ксении удалось как-то улестить одного молоденького милиционера, он ее пропустил. Зажимая пятерку в кулаке, она робко прошмыгнула по отделам. Боже мой, такой роскоши она никогда не видела. Да и где увидеть? ТОЛЬКО В ЗАГРАНИЧНОМ КИНО.
В их самом большом магазине ЦУМе одежда была похожа на спецодежду для советских людей. Женское белье состояло из панталон и лифчиков из хлопчатобумажной ткани грубого пошива местной швейной фабрики, мэйд ин СССР. Однажды она случайно попала в ЦУМ, когда там давали гэдээровские трусики типа плавок «неделька»: семь штук разного цвета по количеству дней недели. Женщины теряли человеческий облик: они давились, как сельди в бочке, обзывались нецензурными словами, дрались, вцепившись друг другу в волосы. Из-за трусов.
Что она могла купить на свою жалкую пятерку? Но купила. Очень красивые бусы чешской бижутерии. Просто загляденье. А носить-то было не с чем. Теперь нужно было ломать голову над тем, на какие шиши сшить к бусам платье, чтобы соответствовало заграничному стеклу.
Так шла служба в канцелярии, как пустая трата драгоценного жизненного времени. Она терпела, имея благую цель: получение квартиры. Но всякому терпению, как известно, иногда наступает предел. А ведь была лишь первая ступенька служебной лестницы. И в этот самый момент появилась вакансия секретаря в строительном отделе – полную нерасторопную Любу загоняли, заездили, и она, вся в слезах, сбежала оттуда. И вообще – из Совета Министров. Ксения, не раздумывая, попросилась на ее место. Зоя Павловна не возражала, она даже была рада избавиться от новенькой, не вписывалась она в их дружный коллектив. Отдел кадров – тоже, так как отдел был большой и работы много. Ксению, не мешкая, перевели, и, довольная, она приступила к работе.
В строительном отделе работало семнадцать мужчин и одна женщина. Мужчины с первого дня окружили ее вниманием: сыпали плоскими шутками, их говорили разные люди, но объединяло их одно – отсутствие юмора; не менее плоскими комплиментами – дежурными. С женщиной по имени Лира Николаевна у Ксении завязались даже приятельские отношения, насколько это было возможно при разнице в служебном положении.
Работы в отделе действительно было много, но скучной и однообразной. Это несколько удручало Ксению, тем более, что работа была чисто механическая, не требующая ни душевных затрат, ни умственных сил. Только внимания и расторопности. Перейдя на новое место, то есть на второй этаж, и, поднявшись на вторую ступеньку служебной лестницы, она получила возможность свободного передвижения по всему зданию. Вскоре она уже знала, где располагаются вспомогательные службы, машбюро, отдел размножения документов, где стояло новейшей марки японское оборудование, другие отделы, а их было немало, а также приемные, где восседали секретари более высокого ранга.
Наблюдательная Ксения сразу поняла их преимущества перед собой: у них был один бог и царь, их непосредственный шеф. На него работали отделы, составляя документы, он лишь подписывал готовые письма и резолюции, собирал совещания, говорильни, как шутили секретари отделов, ездил в командировки, даже заграничные, попутно устраивал свои личные и семейные дела. Секретарь была для него безликим, почти бессловесным существом, в чьи обязанности входило четко выполнять его указания. И – никакой инициативы.
Кроме того, секретарь отвечала на телефонные звонки, исправно поднимая трубку, изредка печатала одну-две странички, принимала бумаги на подпись и возвращала их обратно, в отделы. Причем, по отделам она не ходила, документы в приемную и по отделам разносили курьеры, в основном, молодые незамужние девицы. В свободное время, а свободным был практически весь рабочий день, секретарь сидела сложа руки за столом. Некоторые пожилые дамы печатали левую работу, что приносило им кругленькую сумму в дополнение к окладу. Они добросовестно стучали на машинке дни напролет, взимая высокую плату за свой высококвалифицированный труд, за качество, за быстроту исполнения, а также за государственную бумагу, которую им выдавали, отнюдь, не для этих целей.
Все это Ксения намотала на ус, и ей захотелось тоже пристроиться на такое вот теплое местечко, где она была бы, как наивно полагала, более независима. В отделе, несмотря на доброе отношение к ней начальника да и референтов тоже, она все-таки чувствовала себя «девочкой на побегушках». И не у одного, у всех восемнадцати человек. «Ксения Анатольевна, быстренько размножьте эту бумагу!» «Ксения, это срочненько отпечатайте!» «Ксюш, отправь, пожалуйста, сегодня…»
Иногда она изрядно уставала носиться с бумагами по коридорам, и ей хотелось передохнуть, подумать, помечтать, ан нет! Обязательно кто-то появлялся, чтобы всучить очередную бумагу с важными резолюциями, типа: «прошу принять меры», «к исполнению», «рассмотреть и доложить», «прошу ответить автору письма»… Ксении это начинало помаленьку надоедать, уж такая она оказалась привередливая. Не лучше той старухи из пушкинской сказки «О рыбаке и рыбке». Люди в отделе были неинтересные, не лучше, чем в канцелярии. Поговорить было не с кем.
Было и не до стихов. Работы – завал. В отделе она начала тяготиться своей занятостью, а ведь совсем недавно ее удручало безделье. Может, в этом было виновато непостоянство натуры, а может, что-то другое. Она стала мечтать о свободном досуге в приемной у кого-либо из заместителей председателя Совета Министров. Их было целых шесть. Уж она бы нашла, чем себя занять. К тому же и в квартирном вопросе, а она подала заявление в местком, ее нынешний шеф – начальник отдела не мог оказать реальной помощи. Его слово слишком мало весило.
Единственным человеком, скрашивающим однообразие рабочих дней, была Лира Николаевна. Они обменивались книгами, часто говорили о прочитанном, суждения Лиры казались Ксении оригинальными. С мужчинами она вела себя достойно и сдержанно, чем вызывала еще большую симпатию. Ей было за тридцать, она одна воспитывала дочь. В минуты откровенности она признавалась Ксении, что ей не везет с мужчинами. «Им порядочные не нужны. К тому же у меня слишком повышенные требования», – сетовала она. Ксении по-человечески хотелось помочь ей.
Такой случай однажды представился. К Ренату заявился давнишний приятель, он недавно разошелся с женой и жил один. Когда-то Ренат рассказывал о нем, говорил, что мужик хороший, да бабастерва попалась. Муж неплохо разбирался в людях, она не раз убеждалась в этом. Пока мужчины разговаривали, Ксеня присматривалась к гостю. На вид он казался приличным человеком. Когда речь пошла об одиночестве, она вмешалась:
– Хотите, я вас познакомлю с интеллигентной, порядочной женщиной? Мы с ней вместе работаем.
– Не знаю, я человек простой, а она вон где работает… – он усмехнулся. – Как думаешь, Ренат?
– Мне-то что? Пусть знакомит, – безразлично бросил тот.
Но гость уже загорелся интересом.
– Как мы это организуем? – обратился к хозяйке.
– Очень просто. Я приглашу ее к нам, и вы приходите.
Они договорились на выходной, причем приятель Рената, оглядев их убогую обстановку, предложил организовать стол за его счет и оставил деньги.
В назначенный день они втроем сели за накрытый стол, Лиры не было. Она явилась с опозданием, когда мужчины уже изрядно захмелели, ей налили штрафную: почти полный стакан водки Лира, вопреки ожиданию Ксении, ломаться не стала и выпила до дна. Начался общий треп. Прошло с полчаса, и гостье стало жарко. «Ну, еще бы», – подумала Ксения, хотела что-то сказать, да так и застыла с открытым ртом: пьяная Лира стянула с себя свитер, под которым ничего не было, и снова уселась за стол в одних брюках, снова пила, закусывала, пыталась танцевать…
Ксения убирала посуду, носила закуски, горячее, потом чай и не могла прийти в себя от изумления: Лира так и сидела полуголая за столом. Ренат отчасти протрезвел и с усмешкой косился на нее. Переводил взгляд на жену, будто спрашивая: «У вас все там такие порядочные?» Она делала вид, что не понимает значения его взгляда. В конце концов, Лира – взрослая женщина, отдающая отчет в своих поступках. Если ей не стыдно, то почему должно быть стыдно Ксении? Впредь будет знать, как ведут себя порядочные женщины. А может, приятельница сильно опьянела и сама себя не помнит? Ксения потянулась к свитеру. Догадавшись о ее намерении, Ренат схватил ее за руку и со злостью прошипел.
– Нет уж, дорогуша, сиди и не рыпайся. Ты свое дело сделала: познакомила этих порядочных людей. А дальше они сами как-нибудь разберутся. Не лезь не в свое дело.
Ксения сникла, тем более, что гости действительно разобрались: удалились в другую комнату. Она убирала со стола, пила на кухне чай. Лира так и не ушла, осталась ночевать с приятелем Рената. Муж уснул почти сразу, а Ксения долго лежала с открытыми глазами. Как же так? Ведь Лира умная, начитанная женщина, работает на такой ответственной должности, еще молодая, не уродина… А повела себя, как последняя шлюха, сразу в постель. А еще говорила о духовности в отношениях между мужчиной и женщиной! А сама? С первым встречным, можно сказать. Даже не поинтересовалась у Ксении, кто такой, что за человек. Легко согласилась прийти. Неужели ей все равно, лишь бы мужик? Наверно, все же перепила. Завтра ей будет стыдно…
Наутро Лира как ни в чем не бывало оживленно болтала о каких-то пустяках, собираясь на работу. Был понедельник. Мужчины уже ушли. Ксения поддерживала разговор, делая вид, что ничего особенного не произошло. А может, действительно, не произошло? Ничего особенного? И вчерашнее – в порядке вещей. Для порядочной Лиры. Позже, наблюдая на работе ее ужимки – ах, я не такая! – Ксения внутренне усмехалась и думала: «Так, так, должность, значит, обязывает притворяться порядочной на работе. Двуличная она». Они продолжали общаться, хотя Ксения нет-нет да представляла за рабочим столом не респектабельную сотрудницу аппарата Совмина, а полуголую пьяную бабенку.
Совершенно случайно Ксения вдруг выступила в роли борца за справедливость. Продавцом в закрытом буфете работала некая Людмила Ивановна, одинокая пожилая женщина, потерявшая два года назад сына, он утонул в Алматинке, горной речке. Она постоянно напоминала окружающим о своем несчастье, смахивая при этом слезы. Ее жалели и прощали обсчет на копейки, хотя по коридорам шептались: «Опять в буфете надули. Ладно бы себе брала, а то знакомым. Еще подумают, что я на копейки зарюсь…». Иногда покупатели, были и такие, возвращались за своим кровным гривенником. Почему-то стыдясь и смущаясь, они просительно говорили: «Людмила Ивановна, пересчитайте, пожалуйста, вы, кажется, ошиблись…». Буфетчица хваталась за голову, демонстрируя всем своим видом раскаяние, «ах, какая я несчастная, памяти совсем нет…», – бормотала в оправдание, возвращала мелочь, даже не пересчитывая.
Ксения как-то купила продукты и, расплачиваясь, прикинула в уме примерную сумму. Разница вышла существенная для ее кармана. Вернувшись в отдел, она еще раз пересчитала, чтобы не ошибиться: ее надули на два с лишним рубля. Она вернулась в буфет и, как все, заливаясь краской, промямлила еле слышно: «Вы, по-моему, ошиблись…». Буфетчица, смерив ее неприязненным взглядом, пощелкала на счетах и небрежно кинула на прилавок рубль с копейками. Ксения недобро сузила глаза: «Ах, так? Как нищей, значит? Обнаглели вы, однако, Людмила Ивановна!»
Она тут же, пока не остыла обида за унижение, пошла на прием к заместителю управляющего и заявила, что буфетчица обсчитывает.
– Своих – ладно, но в буфет и чужие ходят. Что подумают? – не сознавая, говорила она словами Зои Павловны.
Замуправляющего вызвал и опросил еще нескольких сотрудников, они подтвердили обвинение в обсчете. Справедливость восторжествовала, но как? Людмилу Ивановну перевели в другой буфет, где было больше дефицитных продуктов. Она после этого стала любезно раскланиваться с Ксенией, будто та сделала доброе дело.
Еще Ксения отличилась на общем собрании машинисток и секретарей отделов. Речь шла о грамотности. Выступил замуправляющего Делами Владимир Николаевич, высказав недовольство неграмотным оформлением документов, многочисленными ошибками в печатных документах. Можно подумать, что машинистки сами писали, а потом печатали документы. Документы писали референты, редко начальники отделов. Ксения почемуто решила заступиться за своих коллег, считая упреки несправедливыми. Она попросила слова:
– Владимир Николаевич! Мне кажется, что машинистки не виноваты. Ведь они печатают то, что им приносят референты. Жаль, что они не могут исправлять и х ошибки, потому что образование не позволяет. Но референты сами обязаны писать грамотно, а не надеяться на секретарей отделов и машинисток. В конце концов, они и не имеют права исправлять написанное. Так что не мешало бы поучиться грамоте референтам.
Ей зааплодировали, а Владимир Николаевич смутился: такого он не ожидал. После собрания по зданию поползли несколько искаженные слухи о том, что секретарша посмела обвинить в безграмотности едва ли не начальников отделов! На нее косились референты, и те, за кого она вступилась, тоже не выражали одобрения ее поступку. «Вот и делай после этого добро людям!» – уныло осудила она себя. Ей позвонил Владимир Николаевич и сказал: «А вы молодчина, Ксения Анатольевна, и меня не побоялись. Я ведь знаю, что вы исправляете ошибки своих референтов-строителей в документах.» На душе полегчало.
Года Ксения не проработала в отделе, как в одной из приемных освободилось вожделенное многими место: секретарь умерла от рака. Секретари из отделов, курьеры потянулись друг за другом в отдел кадров: проситься в приемную. Ксения для начала пошла к помощнику, она его немного знала, приходилось общаться по работе. Он поглядел на нее масленым взором, протянул многозначительно:
– Посмотрим… посмотрим… на ваше поведение…
Ксения кокетливо улыбнулась резиновой улыбкой и тоже – многозначительно – протянула:
– Можете не сомневаться, с вами мы сработаемся.
Зашла и в отдел кадров, там ей ни да, ни нет. Оказалось, вопрос должен решаться на более высоком уровне. Ксения приуныла и стала ждать, ничего больше не предпринимая. Если бы кто знал, как хотелось ей в приемную! Но если бы знала она, что из этого выйдет… Из нервозного состояния ожидания вывел телефонный звонок: Ксению приглашал зайти замуправляющего по кадровым вопросам. С горящими от волнения щеками она переступила порог его кабинета. Наверно, она была хороша в этот миг, потому что Владимир Николаевич секунду пристально и с интересом смотрел на нее. Она смутилась и еще больше похорошела.
– Мы посмотрели ваше личное дело и решили предложить вашу кандидатуру товарищу Кислову, – четко выговаривая каждое слово, сказал Владимир Николаевич. – Что вы на это скажете?
– А если он не захочет? – зачем-то спросила Ксения.
– Мы постараемся его убедить. У вас высшее образование, мнение начальника отдела о вас положительное. Возникнут затруднения, обращайтесь прямо ко мне, – последняя фраза говорила о том, что вопрос решен.
Владимир Николаевич встал из-за стола, подошел к Ксении и, глядя тепло и доброжелательно, добавил:
– А вы не робейте, все преимущества на вашей стороне.
Ксения от радости готова была подпрыгнуть, как ребенок, или завизжать от восторга. Но, опустив глаза в пол, сказала еле слышно:
– Я, конечно, буду стараться… Вот только… Туда много желающих, которые давно работают здесь. Разговоры пойдут… – она лукавила: плевать ей было на разговоры, поговорят – и перестанут.
– Это пусть вас не волнует. Нас, – он сделал нажим на слове, – устраивает ваша кандидатура. Завтра задержитесь после работы. Я представлю вас новому шефу, – и Владимир Николаевич ободряюще положил ей руку на плечо. – Все будет хорошо.
Ксению распирала радость, но поделиться было не с кем, и она продолжала работать как ни в чем не бывало. Лишь уголки губ подрагивали от сдерживаемой улыбки, да руки излишне суетились, перебирая бумаги. «Боже мой, неужели я избавлюсь от этих тупиц? Как они мне все надоели со своими дурацкими бумажками…» – думала она, торопя время.
Дома она не вытерпела и поделилась новостью с Ренатом, описала будущее место работы, где ей приходилось изредка бывать с документами, своего будущего шефа, о котором хорошо отзывались окружающие. Она говорила взахлеб о преимуществах новой должности, пока Ренат не прервал ее, будто ледяной водой окатил:
– Дура наивная! Тобой помыкать будут, а ты радуешься. Подай-принеси! В отделе тебя человеком считают, хоть ты и секретарша, а там… Да что говорить: поживем-увидим. Не вздумай только хвостом вертеть!
Ксения так и застыла с открытым ртом. Когда обрела дар речи, с возмущением выпалила:
– Да ты… Да как ты смеешь все опошлять! Да там… там… такие культурные люди, – и тут же перед глазами возникли масленые глазки помощника, и она осеклась.
– Ага… как твоя Лирка…
Ксения благоразумно промолчала, но в душе продолжала кипеть, мысленно опровергая слова мужа.
Через два дня, сдав дела в отделе новенькой, которую она сама выбрала из нескольких претенденток, она перешла в приемную, поднялась еще на одну ступеньку служебной лестницы. Помощник оказался недалеким по уму, невоспитанным по манерам – он громко харкал и сплевывал в корзину для бумаг – и к тому же обожал скабрезности. Физиономия у него вечно лоснилась, будто смазанная постным маслом, глаза плотоядно жмурились на каждую юбку, но рукам он воли не давал, по крайней мере, в присутствии Ксении. Здоровому мужику сиднем сидеть в мягком кресле – не каждый выдержит. Еще он плохо говорил по-русски, разговаривая с собственным сыном, коверкал русский язык.
После общения с ним Ксения стала критически относиться к лицам коренной национальности. Раньше она как-то не задумывалась о различии наций. Разглядывая от нечего делать справочник правительственных учреждений, министерств и ведомств, она обратила внимание, что почти все первые руководители были коренной национальности, а первыми замами русские или евреи. Они-то скорее всего и руководили делами, а первые лица представительствовали. Был среди мелких начальников один уникальный тип: явный еврей по внешности, по имени и фамилии, он выучил казахский язык и в паспорте каким-то образом записался казахом. Узнала Ксения случайно и поразилась явному прохиндейству этого человека.
Борис Иванович, или Б.И., зампредов было принято называть по инициалам, как засекреченных, выглядел добродушным, с мягкой хитрецой во взгляде человеком. Голубые глаза под кустистыми темно-русыми бровями иногда смотрели сурово и строго – начальственно, а иногда будто искорка в них вспыхивала, и они смеялись. Ксении в такие минуты становилось легко и просто, она тоже в ответ улыбалась, правда, не слишком широко, всегда помня о дистанции.
Поначалу она мгновенно вскакивала на звонок, призывающий ее в кабинет, мгновенно брала телефонную трубку, быстро разбиралась с документами, остальное время сидела за столом, чинно сложа руки, или стояла возле окна. Как-то Борис Иванович проходил через приемную, внезапно остановился и спросил:
– А вы что, читать не любите?
– Люблю… – растерянно ответила она.
– Так читайте!
На ее счастье, в Совмине оказалась обширная библиотека. Туда поступала вся советская периодика: газеты и журналы СССР. За библиотекаря час в день отсиживала секретарша В.Н. Она относилась лояльно к секретарше зампреда, считая ее за равную. Ксении разрешалось, как когда-то в Норильске, самой выбирать книги. Однажды под полками она обнаружила целые залежи запрещенных когда-то книг. Она прочитала «Один день Ивана Денисовича» Солженицына. Может, это была несколько лет назад смелая особенная повесть, но Ксении не понравилась. Сложилось впечатление, что писал полуграмотный человек. К тому же она уже прочла Варлама Шаламова и своего казахстанского автора Ивана Щеголихина «Не жалею, не зову, не плачу…» о зоне, о политзеках. Прочитала она и о страшном голоде в 30-х годах, когда люди в поисках пропитания целыми аулами покидали родные места. «Несколько недель, днем и ночью шли пешком, изнемогая от жары и усталости. Голод «косил» людей. Многие не дошли, вдоль дороги осталось немало могил. Страшно вспомнить, как обезумевшие от голода люди съедали собственных детей. Так было, сам видел – свидетельствую.» – писал скрипач Айткеш Толганбаев в своей книге «Исповедь судьбы жестокой».
Автор после страшных мытарств плена вернулся на родину, хотя знающие люди его отговаривали от опрометчивого шага. Вернулся и сразу попал в цепкие лапы МГБ. Во время фальшивого и неправедного суда Толганбаева поразило мужество одного человека, и он написал о нем в своей книге. В то время, как почти все осужденные признавались во всех несуществующих грехах перед советской властью и народом, каялись, рыдали, на коленях молили о пощаде, бывший нарком, бывший комдив, ныне враг народа Нуркан Сеитов встал и сказал, обращаясь к главному обвинителю: – Не желаю с вами разговаривать, – и сел, отвернувшись.
В те 30-е годы от голода погибла почти половина населения Казахской ССР. Весь скот, а казахи жили скотоводством, вывозили в Москву, Ленинград, на Кавказ. Сначала забивали на местах и в виде мяса отправляли, а когда начался падеж скота от эпидемии ящура, то живьем в товарных вагонах. Десятки лет спустя, уже при Брежневе и Кунаеве, ходил среди народа такой анекдот: Гуляют по Москве Брежнев с Кунаевым, и попадаются им навстречу, в основном, казахи. Они здороваются с Кунаевым. Брежнев удивленно спрашивает: – А почему так много твоих граждан в Москве? Кунаев отвечает: – Так они, Леонид Ильич, за мясом приезжают.
Но самую страшную документальную книгу она прочла о лагере АЛЖИР: Акмолинском лагере жен изменников Родины. Территория Казахской ССР в годы репрессий была буквально забита лагерями для врагов народа всех мастей, а также национальностей. Как, впрочем, и Дальний Восток, и Сибирь, и Север. Одним словом, обширные территории СССР не пустовали. Из XXI века: как-то по делам она ездила в Астану (бывший Акмолинск, Целиноград), нынешнюю столицу независимого Казахстана. Случилось так, что в АЛЖИР ее возил генерал КГБ Казахской ССР, ныне пенсионер Есенгельды М. Они долго ехали через голую степь, кое-где еще валялись куски колючки. Долго ходили по территории бывшего лагеря, потом по музею, прошли вдоль стелы с сотнями имен и фамилий жен изменников Родины. Она шла рядом с бывшим генералом, который не сам, но его подельники из органов несколько десятков лет назад были палачами, и АЛЖИР был их детищем. Ксения ощущала себя предательницей, хотя ее спутник был приятным пожилым человеком, непохожем на палача. Но мысли из головы не выскребишь.
Потом смотрели документальный фильм, где говорили чудом уцелевшие бывшие узницы АЛЖИРа. Стоял во дворе и вагон, в котором привозили несчастных женщин. Больше всего Ксению поразило изуверство, даже садизм сотрудников НКВД. Приходили домой по двое во избежание, наверное, нападения к жертве и сообщали, что ей разрешено свидание с мужем. Через два дня она должна быть готова, за ней приедут и отвезут ее к мужу. Жены высоких чинов жили, конечно, небедно. Женщина надевала на себя самый лучший наряд, драгоценности, набивала продуктами сумки…
Сначала ее вместе с другими такими же везли в товарном вагоне, набитом до отказа с отверстием в полу для отправления естественных потребностей. Потом под конвоем на телегах уже до места расположения лагеря. Женщины до последнего верили, что так надо, надеялись, что их действительно везут к мужьям. Но вот закрывались за ними ворота лагеря, и на долгие годы они становились НОМЕРАМИ, ТЕРЯЯ СВОИ ИМЕНА И ФАМИЛИИ. То были годы сталинского террора, годы полного беззакония и бесправия.
Приобщилась она и к крамольной литературе. В отделе размножения документов работали простые люди. Она вела себя с ними не заносчиво, без высокомерия, и ей доверяли. Так она прочитала ротапринтные издания: «Собачье сердце» Булгакова, «Письма Светланы Аллилуевой». А также скабрезную «Баню» Куприна о развлечениях барина с крепостными девками, повесть Алексея Толстого о шпионке, которая соблазнила чиновника в купе поезда и пыталась выкрасть у него секретные документы, он ее попутал и устроил самолично из страха разоблачения казнь. Поезд прибыл на станцию следования, чиновник вывел молодую женщину в лес и привязал за ноги между согнутых верхушек молодых березок. Ее разорвало пополам. Прочитала также стихи Баркова «Лука Мудищев». Похабщина проходила мимо ее души и разума, не цепляясь. Но знания о литературе и вообще о происходящих в окружающем мире процессах основательно пополнились после чтения таких книг.
На многое открылись глаза. Оказалось, что советский строй – не самый справедливый в мире, как утверждали апологеты социализма в СССР. Она начала думать, размышлять и критически относиться ко многим реалиям этого строя. Ее внутреннее прозрение отражалось в стихах: из лирических они постепенно переходили в гражданские: «Я под гербом своей страны все имею, чтоб быть довольной. Что же снятся черные сны, и душе тревожно, и больно?»
В ущерб семейному бюджету иногда она покупала книги в киоске. Короче, с одобрения шефа Ксения ударилась в запойное чтение. А еще стала вести дневник, БЛАГО БЫЛ СЕЙФ, КУДА МОЖНО БЫЛО ЕГО ПРЯТАТЬ. Почти каждый день писались стихи, но уже не любовные: «Слова, слова… Их действие прошло. Холодный взгляд, ирония улыбки, биенье дум безмыслию назло, чьи проповеди правильные гибки.» (ЧААДАЕВ) Теперь она печатала стихи сразу на эл.машинке на шикарной финской бумаге и складывала в папку, убирая ее тоже в сейф. Правда, иногда ей приходилось отрываться от интересной книги или от записи в дневнике, чтобы поработать: отпечатать очередной научный опус шефа.
Занимая должность зампреда, он, между государственными делами, попутно защитил кандидатскую, потом докторскую по сельскому хозяйству, не покидая кресла зампреда. Диссертации печатала Ксения в рабочее время. Причем, ее обязанности тогда, по указанию шефа, исполнял помощник. Б.И. не терял времени даром. Кресло креслом, но ничто, как говорится, не вечно под луной.
Ксения уже наслышалась о многом. И знала, что любую номенклатурную единицу, какой бы высокий пост человек не занимал, в любой день, будто пешку, могут переставить с места на место, переместить из кресла в кресло или вообще убрать с поля, то есть из правительства. Вполне возможно, что шеф не напрасно запасся званием доктора сельскохозяйственных наук. Тем более, на таком посту звание далось ему без труда. «Да, шеф – малый не промах: и зампред, и доктор, и депутат Верховного Совета. Да еще и человек хороший. Не прав был Ренат», – заключила Ксения.
Освоившись на новом месте, Ксения решила сделать перестановку мебели, чтобы окончательно почувствовать себя хозяйкой. Она обратилась за помощью к Владимиру Николаевичу, тот позвонил управляющему Домом правительства, и все сделалось, как по мановению волшебной палочки. Пришли рабочие и переставили, по указанию Ксении, стол и шкаф для одежды и документов, прикрепили в шкафу зеркало, повесили новые парчовые шторы, вбили гвозди для кашпо и календаря. В кашпо Ксения поместила вьющееся растение, на большом настенном календаре были репродукции с картин Дрезденской галереи. В приемной стало уютно по-домашнему. Даже шеф одобрительно заметил:
– У вас хороший вкус, Ксения Анатольевна.
Незаметно эйфория первых недель относительной свободы стала сходить на нет. Да и какая свобода? От чего, от кого? От канцелярских женщин? От референтов отдела? От занятости делами, когда время летит к концу рабочего дня? Разве безделье лучше, когда время ползет черепахой? Ксения заскучала, и книги не помогали. Общительная по натуре, она вдруг оказалась изолированной от людей.
С помощником, занятым собой, своими личными делами, ей не о чем было говорить: между ними не было ничего общего, никаких интересов. К тому же он не вызывал у нее симпатии. Но приходилось терпеть его присутствие, выполнять его поручения, которые он давал ей от имени шефа. Он частенько отлучался, бросая на ходу: «По заданию шефа», – и она сидела, как привязанная. Если шеф был на месте, приемная ни минуты не должна была пустовать. Вдруг он вызовет?
«Сменила шило на мыло. Скучища-то, господи!..» – изнывала Ксения. Ни с того ни с сего она стала ощущать неловкость, обслуживая одного человека, пусть и зампреда. Что-то двусмысленное было в ее положении. В канцелярии она выполняла определенную работу наравне со всеми. По крайней мере, ей не приходилось никому подносить чай, каждый сам себя обслуживал. И в отделе она делала нужную работу, ощущая себя равноправным человеком. Иначе было здесь, в приемной. Не секретарь, а прислуга: входить на звонок, как швейцар, дважды за день вносить поднос с чаем, как горничная. И помощник был не в лучшем положении. Тоже слуга, только рангом повыше. Перед Ксенией он, правда, корчил из себя начальника. Но она видела, как он трусил позади шефа, неся портфель с книгами или документами.
Добросовестная в работе, Ксения старалась расторопно отдавать шефу документы на подпись, которые поступали из канцелярии или из отделов. Их приносили курьеры, секретари, иногда – сами референты. Шеф не торопился их подписывать, вероятно, у него были дела поважнее. Он как раз занимался докторской. Как-то она не выдержала – ей трижды звонили по поводу одного срочного документа – и зашла к нему сама, без его вызова.
– Борис Иванович, вы еще не смотрели красную папку? – в красную папку она клала срочные бумаги.
Б.И. поднял голову от стола и сухо спросил:
– А почему вас это интересует?
– Письмо там… – она смешалась от его тона, но продолжила: – Балбеков уже три раза спрашивал…
– Пусть хоть десять! Подпишу, когда сочту нужным. Вас это не должно волновать, Ксения Анатольевна. Идите!
Она вышла, как оплеванная. «Вот и делай добро людям… Получила? Впредь будешь умнее, – и зареклась про себя: – Гори огнем все ваши бумаги, мне нет дела ни до них, ни до вас». Так появилось наплевательское отношение к работе. Впрочем, это вообще была отличительная черта правительственного аппарата: НАПЛЕВАТЬ! После инцидента, когда ее поставили на место, если кто-то начинал донимать ее очередным срочным документом, она сухо отрезала:
– Подпишет, у меня не залежится.
Она становилась умнее. И черствее.
Все секретари Совета Министров – правда, некоторые, как в приемных, именовались инспекторами, но суть была та же: подай-принеси – делились по рангам – негласно. Секретари отделов считались низшим рангом и общались, в основном, между собой, хотя среди них были и такие, которые, угождая секретарям приемных, рангом выше, поднимались в собственных глазах как бы до их уровня.
Многие завидовали секретарям в приемных и мечтали занять их место. Влекло туда безделье, а также ВОЗМОЖНОСТЬ ЛЕВОГО ЗАРАБОТКА, но больше – маленькая, негласная власть: над курьерами, над машинистками, над уборщицами и даже над канцелярией, где царила нелюбимая многими Зоя Павловна – Шахиня. Эту меткую кличку Ксения услышала, уже работая в приемной.
Ксения с секретарями отделов не общалась, но, чтобы о ней не говорили, что она кичится своим положением, всегда поддерживала даже самый пустой разговор, если кто-то из них затевал его, коротая время в ожидании документа с подписи. На равных с ними себя не чувствовала. Возможно, она была умнее, начитаннее, образованнее. Хотя у некоторых было среднее образование десяти, а то и пятнадцатилетней давности. У одной был техникум. У кого-то вообще ничего, кроме блата. Правда, секретарь отдела науки и техники училась заочно на третьем курсе института, без конца снабжая преподавателей сервелатом и другими дефицитными продуктами, и закончила, между прочим. Да как была тупой, так и осталась. Секретари в приемных – в частности, у председателя Совета Министров их было двое – держали себя о-оочень неприступно, почти не спускаясь с небесных высот (кабинет председателя находился на четвертом этаже) вниз, скажем, в канцелярию.
Ксения старалась ладить со всеми. У нее это получалось: отчасти – из-за покладистого характера, отчасти – из-за умения располагать к себе самых разных людей, за редким исключением, конечно. Она не заметила, с какого момента стала меняться в худшую сторону. Когда именно бывшая канцелярская «девочка на побегушках» ощутила вкус маленькой, негласной, но власти? Для шефа она была, конечно, секретаршей, но для остальных…
– Зоя Павловна, пришлите, пожалуйста, девочку за срочным материалом, – звонила она по «вертушке» – внутреннему или правительственному телефону с трехзначным номером, которые стояли у начальства и в приемных, в канцелярию Шахине.
Тут же появлялась курьер и забирала документы.
– Александр Петрович, – обращалась она по телефону к управляющему Домом правительства, – пожалуйста, замените шторы в кабинете у Бориса Ивановича на более светлые, он просил, и мне заодно.
Всего два слово лжи – «он просил», и любое ее желание исполнялось. Кто осмелится обратиться к зампреду за подтверждением ее слов? И шторы меняли, и новые телефонные аппараты ставили, и настольные лампы принесли…
– Как это я не сообразил насчет лампы! Намного лучше видно, – одобрил шеф инициативу секретарши.
На прием к Б.И. приходили разные люди: и свои, и чужие. Одним Ксения симпатизировала и не заставляла долго томиться в приемной. Иногда сама заносила документ на подпись. Другие – по разным причинам – были неприятны, и она вела себя иначе.
– Б.И. один? – спрашивал кто-нибудь из последних.
– Один, – отвечала нехотя.
– Можно к нему?
– Он занят.
– А когда освободится?
– Не знаю.
Односложность ее ответов даже самому недогадливому ясно давала понять: «А пошел-ка ты…».
Было у Ксении кое-что, что сотрудникам ее ранга, то есть, секретарям вообще-то не полагалось – чувство собственного достоинства. Вначале, пока она работала в канцелярии, потом секретарем в отделе, оно несколько притупилось: нужно было любым способом удержаться в Совмине. В приемной оно тоже было без надобности. А вот за стенами!.. Когда она называла место работы, у людей появлялось уважительное выражение на лице, непонятно, правда, к ней или названию учреждения. Она как бы становилась выше ростом и смотрела как бы свысока, путая самомнение с достоинством. Пока «как бы», пока она еще оставалась самой собой.
Иногда, зная, что она не загружена работой, к ней обращались с разными мелкими просьбами: отпечатать одну-две странички для личной надобности, одолжить копирку или бумагу, что никогда не возвращалось. Она печатала, одалживала, не думая об иной благодарности, кроме словесной – за «спасибо». Но здесь, оказывается, это было не принято. Ей совали деньги, она не брала, тогда ей приносили конфеты к чаю. Она снова отказывалась, но ей оставляли, и она пила чай с конфетами. Постепенно стала привыкать и уже не отказывалась, ей даже стало нравиться. «За добро плати добром», – рассуждала она, поедая очередную благодарность. Если кто-то отделывался простым «спасибо», у нее возникало такое чувство, будто ее обманули. И сама уже обращалась с просьбой со словами: «Я в долгу не останусь».
И не оставалась. У одних не брала сдачу – в буфете, в аптечном киоске, в книжном, как бы оставляя «на чай»; другим покупала конфеты; третьим – доставала хорошую книгу. Шефу приносили из книжного киоска образцы всей литературы, поступающей в республику из Москвы. То, что оставалось после него и помощника, Ксения могла купить для себя. Что она и делала. Книжный бум тогда только начинался. С нужными людьми за стенами здания Ксения рассчитывалась продуктами, билетами на спектакли московских театров, импортными оправами для очков, дефицитными лекарствами.
Многое из того, что у них в здании можно было приобрести свободно, в городе невозможно было достать. Даже лимитированные подписные издания типа журналов «За рулем», «Наука и жизнь» и другие, Ксения умудрялась оформлять на сторону – нужным людям. Все сотрудники делали то же самое, руководствуясь негласным принципом: «ты мне, я тебе».
Со временем Ксения стала замечать, как менялось к ней отношение окружающих, будто ее присутствие в приемной зампреда поставило ее выше, придало ей значимость в их глазах. В себе изменений она не видела, ей казалось, что она та же Ксения, что и в канцелярии. Может, стала уверенней в себе. Если бы она могла посмотреть на себя со стороны, то была бы немало удивлена. Если в отделе она носилась по коридорам, как девчонка, чтобы все успеть: работы-то было море, то теперь ей спешить было некуда и незачем, и она шла – как бы прогуливаясь – медленно и степенно.
Манера разговора стала вялой и ленивой, особенно после обеда, когда невыносимо клонило в сон. Она уже не молола языком, что на ум взбредет, не думая о реакции собеседника. Теперь ей приходилось следить за своей речью, выбирать слова, особенно при редких беседах с шефом или кратких, вежливых обменах любезностями – с министрами, замминистрами, секретарями обкомов, председателями облисполкомов, приходившими и приезжавшими на прием к Б.И. по работе и по личным вопросам, когда они коротали время в ожидании вызова к зампреду.
Но со стороны, к сожалению, смотреть на себя затруднительно. Почти невозможно, не имея самокритичного взгляда на себя. Ксения не имела. Да и зачем, собственно? «Все, что ни делается, к лучшему», – любимая ее присказка на все случаи жизни. Ладно бы, если изменилась походка, манера поведения, речь, а то и внутри, в душе совершались перемены: бескорыстие, доброта за ненадобностью отмирали, откровенность превращалась в осторожность, общительность – в недоверчивость… А уж о том, чтобы говорить кому-то правду в глаза, и речи не могло быть. Приходилось лицемерить, притворяться, чтобы не нажить себе врагов. Правда здесь спросом не пользовалась: «На свете правды нет, но нет ее и выше».
К шефу часто – два-три раза в день – заходил Владимир Николаевич. Они были связаны по работе и, оказалось, дружили семьями. Всегда жизнерадостный, доброжелательный, он появлялся в приемной, тепло приветствовал Ксению, иногда о чем-нибудь спрашивал, интересовался, что читает, ненавязчиво советовал, что ей, на его взгляд, следовало бы прочитать и даже не раз приносил книги из домашней библиотеки. Она искренне радовалась его приходу, ей было приятно его внимание, его доброжелательность, его ровное настроение. Она всей душой потянулась к этому человеку, выделив его из общей массы начальников и подчиненных.
Рабочую неделю Ксения проводила, в основном, в одиночестве, изредка печатая, разбирая почту, а чаще – читая и размышляя о прочитанном, вела дневник, печатала стихи. Общаться по-прежнему было не с кем, правда, появился Владимир Николаевич. Но он редко бывал свободным. Помощник, к счастью, не мешал ей, не лез с разговорами, у него своих забот хватало, используя служебное положение, он обделывал свои личные делишки. Однажды она увидела, как он примерял дефицитную по тем временам дубленку, привезенную кемто из области. К тому же она своим замкнутым видом и не располагала к пустой болтовне, тем более к флирту. Он, правда, поначалу пытался говорить пошлые комплименты, намекать на более тесные отношения, но она делала вид, что не понимает, о чем он, и держалась на расстоянии. Он понял и перешел на сугубо официальный тон. Подруг в здании у нее не было.
Постепенно между ней и Владимиром Николаевичем установились товарищеские отношения: младшей к старшему. Он был намного старше Ксении, но это не мешало их общению. Она ждала его прихода, его телефонного звонка. Приятный, глуховатый голос волновал ее, ровный, дружелюбный тон побуждал к откровенности. Она стала делиться с ним – сначала мыслями о прочитанном, потом мелкими обидами на несправедливость помощника и даже Б.И., а потом – и семейными неурядицами. Все это получилось просто и естественно. Владимир Николаевич становился необходим ей как друг.
По пятницам она уходила с работы с тяжелым чувством: впереди было два выходных. Она должна быть женой, хозяйкой и женщиной. У нее появлялись обязанности, но изымались права. Все выходные были похожи, как близнецы. С утра она занималась уборкой очередного временного жилья. Быт угнетал ее, ей начинало казаться, что она создана для Поэзии, для возвышенных чувств. «Толкусь у газовой плиты, готовлю, стряпаю, стираю. Но средь забот и суеты стихи писать я успеваю.» Стихи стали занимать много места в ее жизни. Даже дома, уединившись в туалете, она могла сочинить стихотворение, а потом тайком записать его. Не дай бог, муж увидит. Если узнает о ее занятии, наверняка заподозрит только плохое. Никто в его окружении понятия не имел, что такое Поэзия. Простые приземленные люди…
С Т И Р К А
Взвалила груз я непомерный На душу легкую поэта. Я так веду себя примерно, И как же тяжко мне при этом! Во мне энергия сгустилась — Во что же выльется она? И кто ко мне проявит милость, Ведь я на муки рождена. Не мука разве – быть поэтом, Со словом вечно враждовать, Женой быть, матерью при этом И утром заправлять кровать? Душой витаю в эмпиреях — О Муза, ты меня прости, Еду готовлю углем тлею… Как для стихов себя спасти? Сегодня занята я стиркой — Вновь непомерный груз тащу. Строку в простынке старой, с дыркой Я, как проклятая, ищу. Зачем мне кто-то предназначил Сей крест одной за трех нести? Стирать белье, едва не плача… Как для стихов себя спасти?Сын по-прежнему жил у родителей, где дед, уже пенсионер, вел с ним мужские беседы, а бабка воспитывала криком. Справившись с домашними делами, приготовив обед, она раскрывала книгу. Ренат начинал нервничать.
– На работе не начиталась?
Она по глупости призналась, что от нечего делать читает на работе книги.
– А что, я не имею права почитать?
– Делай что-нибудь по хозяйству. Я не для того женился, чтобы самому брюки гладить.
– Почитал бы тоже… – упрямилась Ксения.
– Я и без книг знаю, как мне жить. А у тебя, если ума мало, от чтения не прибавится. Не надейся. Собирайся, пошли к Фархаду!
Фархад, старший брат Рената, тоже работал шофером, жил с семьей – женой и двумя дочерьми, в двухкомнатной секции в микрорайоне. Ксения не любила к ним ходить, но Рената как магнитом туда тянуло. У братьев было много общего: разговоры о работе, воспоминания о детстве. Жена Фархада работала маляром в домоуправлении и была самой обычной женщиной. С ней у Ксении не было ничего общего и не могло быть. Дело было не в разнице возраста или профессий, Ксения тоже работала когда-то ученицей маляра, а в отсутствии симпатии и интереса друг к другу. Но самое неприятное в этих посещениях было то, что супруги по выходным пили. По выражению Фархада, расслаблялись после трудов праведных. Ренат тоже пристрастился к выпивке. Ксения пыталась воздерживаться от неумеренного употребления спиртного, но, когда ей, трезвой, становилось противно смотреть на их пьяные рожи, она не выдерживала и тоже напивалась.
То, что они неумеренно пили, было не самое худшее. Мирно начавшаяся пьянка зачастую кончалась скандалом, а то и дракой. Иногда зачинщиком оказывался Ренат. Он вдруг начинал высказывать брату прошлые детские обиды. Дело доходило до взаимных оскорблений. Жена Фархада брала сторону мужа. Иногда в Фархаде просыпалась ревность к своей благоверной десятилетней давности, Ренат пытался заступиться. Результат в обоих случаях был одинаков: Ксению и Рената выгоняли из дома. По дороге они начинали скандалить между собой.
– Какой черт тебя тащит к этим пьяницам? – возмущалась Ксения.
– Пусть, пусть пьяницы!.. Зато не такие гады, как твои родители – трезвенники… Родную дочь из дому выжили… – с пьяным упорством защищался Ренат.
И пошло-поехало…
Домой они приходили лютыми врагами. То он, то она, кто больше чувствовал себя обиженным, демонстративно укладывался спать на полу. Иногда взаимная неприязнь длилась два-три дня, пока ктото из них, чаще – Ксения, ни просил прощения. В доме возникал относительный покой – до следующего выходного. Немудрено, что Ксения – после таких выходных – с легким сердцем шла на работу. Здесь обиды были мелкие и скоро забывались. И она постепенно отходила, теплела душой, особенно от участливых слов Владимира Николаевича. Он один понимал, как тяжело ей живется между двух огней: родителями – с одной стороны, и мужем – с другой, и сочувствовал и пытался, как мог, ободрить ее.
Перед праздниками сотрудникам аппарата выдавали пайки из дефицитных продуктов: банку красной икры, банку индийского растворимого кофе, баночку паштета, банку болгарских маринованных огурцов, банку печени трески, пачку индийского чая, банку сгущенки, банку тушенки и чтонибудь еще.
«Печень трески»
Явление третье
Консервы исчезли с полок как-то незаметно, наверное, треска перевелась в морях, а может, вся скопом исчезла в Бермудском треугольнике, и они стали дефицитом. Она уже работала в Совете Министров Казахской ССР через год после окончания института, на романтику больше не тянуло. Потрафила родителям, получила высшее образование. Да хрен с него толку, если пошла работать секретаршей. В правительственном учреждении «Печень» выдавали по спискам к праздникам в качестве дефицитных продуктов, того, чего у большинства людей не было, а у них изредка, но было, в том числе, у обслуживающего Дом терпимости персонала: милиционеров, уборщиц, сантехников и др. рабов власти.
Т О Г ДА (70-е годы) ВСЕ стало дефицитом для обычных людей, и они стали жить по принципу: ты мне, я тебе. Ты воруешь то-то, а я то-то. Услуга за услугу, товар за товар. А можно не воровать, а просто брать или давать: палку сервелата за зачет на экзамене в институте. За больничный в спецполиклинике – коньяк и коробку конфет. Везде существовала такса: невидимая, негласная, но весьма конкретно ощутимая для небогатого кошелька. Еще одна маленькая деталь из тех времен: «Печень» обычные люди и мелкие сошки, приближенные к правительству, как консервы уже не ели, только в салате. Если такой салат был на столе, значит, хозяева имели доступ к дефициту непосредственно сами или имели связи, т.е. жили по принципу: ты мне, я тебе. Такая вроде бы мелкая деталь, подумаешь, консервы, а говорила о многом. В Стране терпимости всегда не хватало чего-то, не печени трески, а самого необходимого, например, извините за натурализм, подтирались газетной бумагой, почти до перестройки. Из-за железного занавеса не завозилось в СССР предметов цивилизации, типа туалетной бумаги. Можете себе представить великую державу, подтиравшую задницу газетами «Правда» или «Известия»? Эти лживые насквозь газеты заставляли выписывать всех членов партии. Как ее отец когда-то, уже никто не вырезал портреты правящих лиц СССР.
В городе давно уже не было того изобилия в магазинах, особенно в продуктовых, как десять лет назад, когда их семья переехала сюда на постоянное место жительства. Что-то у дружбанов-генсеков не срослось. Может, поссорились, но страдали-то жители Казахской ССР. У Ксении запросы были скромные – на двоих, ну, иногда еще родители просили подкинуть чтонибудь вкусненького для внука. Правда, скромные запросы были следствием скромных средств существования. Вздыхая украдкой, Ксения покупала не все подряд, а выбирала, что подешевле. Зато остальные…
Ксения, стоя в очереди, незаметно наблюдала, как референты, секретари, машинистки набирают продуктов на сто с лишним рублей, набивая ими по две-три сумки. В это время за воротами здания толпились какие-то люди. Сотрудники выносили сумки, и тут же начиналась дележка или перераспределение. К воротам приходили родные, знакомые, нужные люди.
А какой шум и крик стоял во время торговли! Кто-то пытался влезть без очереди, его оттаскивали едва ли не за шкирку; кто-то взял на кусок колбасы больше положенного; кого-то обсчитали, пользуясь суматохой, царящей в буфете, когда все спешили и больше следили не за счетом, а за тем, чтобы не оказаться обделенным.
– Куда, куда ты лезешь без очереди? У меня самой ребенок дома один…
– Ну, и наглец же вы, Алексей Петрович, я ведь видела, как вы лишнюю палочку сервелата выпросили…
– Эй, бабочки, пустите фронтовика без очереди!.. – взывал к очереди референт с тростью.
– А рубль где? Вы мне сдачи не дали! Как «дали»? Не надо, я не воровка, мне чужого не надо…
– Что вы мне эту тощую селедку суете? Небось, Вере Петровне толстую положили! Где справедливость?
Ксения едва узнавала вежливых, благовоспитанных мужчин, окружавших ее на работе. Они становились как бабы – крикливы и не сдержаны.
А женщины разом теряли изысканные манеры, которыми поражали ее первое время, – растрепанные и потные, с красными лицами и вдруг охрипшими голосами, они напоминали ей рыночных торговок. Зрелище было далеко не из приятных. Какие же эти люди на самом деле? Такие, как на рабочем месте, или вот эти: грубые, злые, жадные, готовые растерзать ближнего, если тому отвесили на двести грамм больше дефицитного продукта. Даже в голодные годы люди не теряли человеческого достоинства. Обыкновенные, простые люди, не сотрудники правительственного аппарата. Редко кто в буфетных баталиях сохранял спокойствие и терпеливо дожидался своего пайка.
Разносчиками слухов и сплетней являлись курьеры. Что они только ни разносили! Например, об аресте начальника Управления строительства при Алма-Атинском облисполкоме Юрия Александровича Котова. Вместо четырех этажей он строил пять, и неучтенный пятый этаж продавал. Вроде при обыске в квартире у него обнаружили золотой унитаз, а на даче статую из золота. Его приговорили к расстрелу, причем, дважды: нельзя воровать у государства, у народа, правда, можно, если не попадаться. Невозможно представить, что испытывает человек в камере смертников, не побывав самому. В результате Котов оказался не так чудовищно виновен, как это пытались представить карательные органы. Но пятнадцать лет он отсидел за всех своих подельников, за тех, кто отдавал распоряжения, а он исполнял.
Вот так слухи направлялись, куда надо и как надо трактовались. Перед Законом все равны, так должны были считать обыватели. На самом деле секретарь обкома или председатель облисполкома были непогрешимы, они творили беззаконие, а мелкие сошки отвечали своей головой. Подумаешь, еще один винтик выкрутить и выбросить. Послать на смерть, как в случае с Котовым. Больной человек с сахарным диабетом претерпел такие муки ни за что, в угоду властьимущим! Дважды его приговаривали к «вышке». Терять было нечего. Почему не назвал имен настоящих преступников? Почему не выдал, не предал? Что ему стоило вести себя достойно!
Через несколько лет Ксения оказалась в гостях у Котова в его трехэтажном особняке в Подмосковье, похожем на музей. О его страшной судьбе написал книгу казахстанский классик Дмитрий Снегин. Ксения книгу прочитала и зауважала мужество этого человека, мецената и коллекционера. Слишком доверчив был Котов.
XXI век. В 2005 году была в Москве, и близкий знакомый повез ее в свою вотчину, где он занимался бизнесом (строительством). Въезжали в городок, а там написано на каменной стеле: Зарайск – 1146 год. «Не может быть, такое совпадение. Ведь она родилась в 1946 году. «Однако буду здесь жить», – подумалось, как чукче в советских анекдотах. Въехали, а дальше… Будто она попала в город своей юности лихой – Енисейск, любимый город, где произошли главные события ее жизни, определившие ее дальнейшую судьбу. Ехали, ехали, и как-то быстро (или ей показалось?) объехали весь прекрасный городок Зарайск. ПОЧЕМУ ЗА РАЕМ? Наверное, в раю и в аду места не нашлось, и образовался такой чудный закуток: Зарайск.
Ехали медленно по улицам. Наверное, она была в ступоре, потому что воспринимала происходящее, как сон. Зашли в Кремль. Тихо, безлюдно. Да, в Зарайске тоже Кремль. А еще около двух десятков храмов. На одной из улиц рынок: один прилавок и три старушки. Есть автовокзал. Знакомый по имени Александр с кем-то поговорил по мобиле, и они выехали за город. Красота неописуемая! Прямо левитановские пейзажи. Проехали речки Осетр и Осетрик. Подъехали к металлическим воротам. Оказался сюрприз. Александр привез ее в гости к своему другу и деловому партнеру, они оба были из бывших алмаатинцев: ее спутник и когда-то очень известный меценат Котов Юрий Александрович (а также бывший вор и зек). Вот уж кого-кого, а эту легендарную личность она не ожидала встретить в своей жизни. Тесен мир. В свое время в Совмине разговоров было много, а что правда, что вымысел, неизвестно. Да не очень-то она и жаждала узнать подробности чужой ей жизни.
И вот этот человек выходит к ним из особняка. Одетый непритязательно, по-американски высокий мужчина в возрасте к 60 или чуть больше. Она не умела определять возраст, не любила пристально рассматривать людей. Самый обычный человек, с простым русским лицом. Поздоровались, познакомились, ее представили писательницей. Александр выгружал продукты, а она прошла, по приглашению хозяина, на кухню. Почуяла носом знакомый запах: в большой кастрюле варились казы. Ю.А. ходил вокруг нее кругами, поглядывал с любопытством, наконец, не выдержал: – Ксения, разве вы не чувствуете, чем пахнет? Она отвечала, не мудрствуя лукаво: – Казами. – А вас это не удивляет? – Удивляет. Что в таком захолустье есть казахский деликатес. – То-то же, – удовлетворенно хмыкнул хозяин. Наверное, он думал, что она казашка, или помесь, вот и решил угостить национальным блюдом. Ничего удивительного, у нее тогда была фамилия Сеитова, по мужу. Когда понял свою оплошность, угостил щами из крапивы. Вот это был для нее действительно деликатес. Первый раз в жизни она ела щи из крапивы, запивая французским вином Божоле 1765 года выдержки.
Но вначале была изумительная финско-русская баня с пихтовым запахом, со всеми банными прибамбасами. А бассейн с прозрачной голубой водой! Такое Ксения видела только в кино. Первый раз в своей не короткой уже жизни почувствовала себя ч е л о в е к о м. Хотела бы она так жить! Не завидовала, нет! Ю.А. ей понравился, стало понятно, за что такого приятного, обаятельного человека могли сажать. Злобная сила – зависть. Она не считала себя люмпеном, чтобы ее раздражало чужое богатство. Так, по идее, должны жить все достойные люди, а не только криминальные авторитеты и высокопостные, не всегда заслуживающие своих постов люди.
Она парилась, принимала душ, плавала в бассейне и чувствовала себя неловко. Будто она обременяла хозяина. На самом деле о ней никто не думал, мужчины занимались своими мужскими делами. Она пробыла в бане полчаса, оделась и вышла на кухню. Мужчины сидели и разговаривали. Ю.А. с укоризной произнес: – Что, баня не понравилась? Она ответила с искренним восхищением: – Слов нет, одни восклицательные знаки! Похоже, ему понравилась такая оценка его бани. И все же хозяин спросил: – Почему так быстро? Она не могла признаться, что было неудобно: провинциалка несчастная. Похоже, она потерялась. Не из-за хозяина, обстановка была непростая, как и хозяин. Ю.А. показал ей после обеда свой дом, в котором было все, что надо человеку для достойного жизнепроживания.
Было огромное зеркало в гостиной, возле него огромная статуя обнаженной богини (она не знала, какой именно), правда, не золотая, а бронзовая. Картины были подлинниками, дом был просторным, у хозяина был отменный вкус, ничего лишнего, все – антиквариатно, уютно, ничего вычурного, все вписывалось в интерьер, все находилось в гармонии. Вдруг хозяин подвел ее к портрету симпатичной девушки-брюнетки. – Посмотри на нее! – заявил он. Она посмотрела. Девушка глядела ей в глаза. – А теперь отойди! – сказал Ю.А. Она отошла, и в шоке увидела, что девушка опять смотрит ей в глаза. – Ой! – непроизвольно воскликнула она, удивляясь волшебству. – У этой женщины чистая душа, – сказал Ю.А., обращаясь к Александру. Наверное, это был тест.
Стали собираться, а хозяин, с сожалением их провожая, сказал на прощанье: – Я-то думал, переночуете, скрасите старику одиночество… Он, конечно, лукавил, до старости было еще далече. Честно сказать, она бы с радостью задержалась, интересно было бы поговорить. Александр вообще здесь частенько останавливался, как она поняла, когда он показал ей е г о комнату с европейскими окнами от пола до потолка с таким обалденным пейзажем! Она спешила на поезд: уезжала в этот день вечером.
Оставив радушного хозяина, Александр повез ее к часовне со святым источником, куда съезжались люди со всех городов и весей России, а может, и зарубежья. Святая вода есть святая вода, надо только верить. Он вошел в деревянную избушку с небольшим бассейном, сказав, что нужно купаться обнаженным. Он вышел, и она, конечно же, несмотря, что было прохладно, тоже зашла вовнутрь и разделась донага. Вода была леденющей, как в алмаатинке. Нырнула трижды и бросила российские копейки, чтобы вернуться. Уже один раз вернулась, с мужем Норланом, тоже нырнули голышом. Как бы хотелось там жить. Впечатления остались самые благостные. Она все успела, и уехала домой в Алма-Ату, чтобы вернуться в эту глубинку, напомнившую ей Енисейск, Минусинск, городки ее детства, ее юности. Не всякий человек полюбит провинцию, а она любит. Генная связь, ведь ее родители – из деревни.
Вот так непредсказуемо пересеклось настоящее с далеким прошлым, и разговоры оказались грязными инсинуациями совминовских бездельников. Да, им было, о чем судить-рядить. А любовные связи в здании? Все становилось явным, всюду были соглядатаи от безделья. Залезали грязными лапами и в семейные отношения.
* * *
Вот это да! За мной следят! И на учете каждый взгляд. И каждый шаг на карандаш — Все больше сыщик входит в раж. Азартом сыщичьим томим, Поддонок сей неутомим. За мною следом в туалет: А вдруг и там мы тет-а-тет? За мной следят. А мне плевать! Пусть он залезет под кровать. Его надежды не лишим, Над ним возьмем и согрешим.А еще в ДТ, как во всяком учреждении, была общественная жизнь. Ксения относилась к ней избирательно. Не ходила на профсоюзные собрания, мотивируя тем, что у нее ребенок. Не выходила на пр.Коммунистический встречать Брежнева, когда всех служащих буквально в шею гнали приветствовать генсека. Почти все правительственные учреждения в те годы располагались на Коммунистическом (через много лет один оригинал окрестил его Капиталистическим), уже при диком капитализме.
Были субботники, когда совминовцы убирали территорию собственного санатория. Высшего начальства, естественно, не было, потому выпивали, как демократы. Ксения даже в один из субботников, выпив, согрешила под кустиком со своим так называемым нелюбимым «любовником».
Были демонстрации на Ноябрь и Первое МАЯ. Сотрудники, низшие чины, ходили на них, как простые смертные. Потихаря пили, потом натужновесело плясали и пели. Ксении было смешно. Ее муж в эти праздники стоял в ограждении на своем грузовике. От кого ограждали?
И в приемной оказался не сахар и даже не сахарин. Если Ксения не читала, ей становилось настолько тошно среди новой мебели, с новой ковровой дорожкой на полу, что хоть волком вой. Она маялась, не зная, чем себя занять. Печатать левую работу ей не хотелось. В открытую нельзя было, а прятаться ей претило. К тому же не было желания зависеть от кого-то, в частности, от клиента, когда она вкусила свободы. Принуждать себя делать то, что не нравится, она не привыкла. Правда, левые деньги, заработанные в рабочее время, не были бы лишними в семейном бюджете. Но она предпочитала жить в долгах, чем потерять независимость. И вообще сидеть, и долбить, как дятел, часами, не имея желания или просто настроения, было для нее невыносимым.
Вдохновение тоже не каждый день посещало, для дневника не всегда было настроение. Поэтому она просто сидела сложа руки и предавалась мечтам о том, как бы скорее получить квартиру, конечно же, хорошую и новую, а не освобожденную после какого-нибудь грязнули. Секретарям часто выделяли квартиры, требующие ремонта, при их-то низком окладе. У Ксении была, правда, слабая надежда на помощь Владимира Николаевича. Он участвовал в распределении квартир.
Она проработала в приемной немногим больше полугода, как по зданию пронесся слух, что распределяют квартиры в только что сданном доме. С какой стати, неизвестно, но она вообразила, что ей тоже могут выделить в нем квартиру из-за трудных условий проживания в частном секторе, как она написала в заявлении. Она упустила из виду, что работает еще слишком недолго для того, чтобы ее чаяния осуществились.
В большом напряжении она провела три дня, показавшиеся ей вечностью. Но ее никуда не вызвали и ничего не предложили: ни новой, ни освобожденной квартиры. Обида захлестнула ее: чем она хуже других? Некоторые, она знала, и через месяц после поступления на работу получают. Опрометью выскочила из приемной, добежала до туалета, закрылась там и разрыдалась. С опухшими глазами вернулась на рабочее место. Посидела в задумчивости: хотелось поделиться с кем-то неудачей. Но с кем? Вспомнился Владимир Николаевич, она позвонила, попросила разрешения зайти.
Вошла к нему в кабинет и, увидев доброжелательный взгляд, мягкую улыбку, снова расплакалась: слезы так и потекли по щекам. Она кусала губы, хотела остановить их, но они продолжали литься. Владимир Николаевич поднялся из-за стола, подошел к ней, положил руку на плечо и, слегка поглаживая, стал ее успокаивать.
– Ну, что вы, Ксения Анатольевна, так убиваетесь? – он сразу догадался о причине ее слез, хотя она ничего ему не сказала, – И надеяться не надо было. Помните, я вам говорил, что вы получите квартиру не раньше, чем через год-полтора? Ну, не надо, не надо… Красоту испортите…
Ксения невольно улыбнулась сквозь слезы и подумала: «И правда, чего это я? Без году неделя, а возомнила о себе. Подумаешь, незаменимый кадр. Будто я одна здесь такая…». Она почти успокоилась и с благодарностью прижалась щекой к его руке, лежавшей на плече, но тут же спохватилась.
– Ой, простите! – кинулась к двери, – Большое спасибо вам, Владимир Николаевич. Вы… вы… просто замечательный! – и вылетела пулей из кабинета.
Ее заплаканный и взволнованный вид не остался незамеченным. Секретарша Владимира Николаевича, женщина за сорок, преждевременно увядшая, чересчур худая и не слишком приятная особа проводила Ксению любопытным взглядом. Валентина Ивановна считала себя неотразимой и приятной во всех отношениях дамой и держалась соответственно, особенно перед посторонними. Наверно, стены влияли: многие задирали нос выше головы.
Работая в Совмине, Ксения пользовалась, естественно, привилегиями сотрудников, например, дешевыми путевками в санатории. Они дважды ездили в санаторий «Казахстан» на озере Иссык-Куль (Киргизская ССР). Озеро, почти море было великолепным. Санаторий выше всяческих похвал. Правда, по приезду, их пытались поселить в разные номера: ее – с женщиной, Рената – с мужчиной. Хорошо, она догадалась дать взятку коробкой конфет. Неприятность разрешилась в их пользу, они оказались в двухместном номере. В столовой была система заказов блюд на следующий день. Как когда-то в Сочи. Они впервые отдыхали на высшем уровне, как будто из обычной семьи с низким достатком перешли в категорию граждан, стоявших выше простых людей. Это было приятно, тешило самолюбие Ксении. Оказалось, что Ренат здорово играет в бильярд, он даже один раз обыграл какогото аса. Днем они бездумно наслаждались морем, загорали, купались, вечером ходили в кино, иногда покупали вина и фруктов, устраивали посиделки в номере. Ренат от безделья терзал ее домогательствами плотских сношений. Она терпела, как уже привыкла. Дни пролетели незаметно. Перед отъездом они посмотрели фильм «Экипаж» о катастрофе самолета. Летели на «Яке», 12-ти местном самолетике. Ксения с замиранием сердца глядела через иллюминатор вниз на острые пики гор: присматривала, куда они будут падать. Но, слава Богу, долетели благополучно.
После отпуска Б.И. дал Ксении печатать свою докторскую диссертацию в двести с лишним страниц. Она стучала на машинке с утра до вечера, было не до размышлений, к тому же и ошибки надо было исправлять, и запятые расставлять, куда следует. Помощник крутился за двоих. Когда заходил Владимир Николаевич, ее обдавало жаром, и руки начинали мелко подрагивать, наплывал туман, и некоторое время она сидела, приходя в себя: машинка смолкала. Через пару недель она закончила эту левую, правда, бесплатную работу. После защиты шеф преподнес ей шелковую косынку.
Ксения опять сидела сложа руки, но теперь мысли ее занимала не квартира, а Владимир Николаевич. Она с радостью, но и страхом призналась себе, что влюбилась. «Что теперь будет?» – думала она, смутно представляя дальнейшее развитие их дружеских отношений. В юности Ксения была честным, правдивым и открытым человеком. Лгать и притворяться – не было нужды. Скрывать свои чувства тоже не приходилось. Перемена в отношении к Владимиру Николаевичу не замедлила проявиться: стоило ему возникнуть на пороге, как она вспыхивала от смущения и неловкости. Он заметил это и ее растерянность тоже – в ответ на любой пустяковый вопрос. И стал еще ласковее, еще доброжелательнее. Он по-прежнему приносил ей изредка книги, иногда с фривольным содержанием, например, «Донна Флора и два ее мужа», будто подливая масла в огонь. Ее чувство разгоралось, пробуждая в ней смутное пока еще желание взаимности.
Для помощника ее состояние тоже недолго оставалось в тайне: куда подевалась ее апатия, раздражительность по любому поводу, холодность!.. Теперь она постоянно томилась ожиданием, и только дурак мог не заметить ее нервное возбуждение, ее невпопад сказанные слова. А помощник в амурных делах дураком отнюдь не был. С понимающей ухмылкой на сытом лице он выскальзывал за дверь при появлении Владимира Николаевича, создавая им условия для общения.
Ксения совсем теряла голову, не зная, куда спрятать сияющий взгляд и радостную улыбку. «Какая разница – по любви иль по минутной слабости я утонула в глазах твоих, в их неожиданной радости. Я утонула, и свет померк – все погрузилось во тьму. Только в душе моей цвел фейерверк, непостижимый уму.» ( XXI век: Эх, Ксюха! Такие перлы! И кому? Первому, кто просто отнесся по-человечески?) С большим трудом ей удавалось сдержаться, чтобы не сказать: «Я люблю вас!» Куда подевалась ее смелость, ее отчаянность? Они умерли в этих стенах, она прекрасно это сознавала. В Совмине не было ни женщин, ни мужчин, были – номенклатурные единицы. Ее не смущала разница в возрасте, это было преодолимым препятствием. Другое дело: разница в служебном положении… Ей до него не подняться, ему нельзя опускаться – до секретарши, так ей казалось.
Временами ей чудилось, что его тоже влечет к ней: его взгляд порой затуманивался, задерживаясь на ее губах, груди… Иногда он приветствовал ее сухо и официально – в присутствии посторонних в приемной. Ею овладевало отчаяние. «Нет, он совершенно равнодушен ко мне», – делала она печальный для себя вывод и страдала от безответного чувства. Пока она занималась любовными переживаниями, в их маленькой вотчине случилось непредвиденное.
Вскорости после защиты докторской Б.И. перевели в Москву на повышение. Правда, прошел слух, что у него там блат… в виде дружка из ЦК Солнцева, недавно тоже переведенного в столицу СССР. Сплетничали также, что, переезжая с семьей в Москву, он прихватил из ведомственной квартиры металлические, покрытые бронзовой краской решетки к батареям. Эти разговоры оставили неприятный осадок в душе Ксении. Она была уверена, что Б.И. целиком и полностью озабочен делами государственной важности, ну и немного личными. А тут – какие-то решетки… Еще бы унитаз с собой увез.
Приемная замерла в ожидании нового шефа. Помощник покрутился туда-сюда и с помощью Владимира Николаевича перешел в отдел референтом, какие-то знания после института у него еще сохранились. Он мог оказаться и вообще без места. Зампреды, назначаемые с периферии, имели обычай прихватывать с собой и помощников: почему бы не порадеть услужливому человечку? Столица манила всех, но повышение властного статуса еще больше. Да еще если он надежный, испытанный кадр. Секретарш с собой не перевозили, это было непринято. Ксения не суетилась, надеясь, что Владимир Николаевич в обиду не даст.
Через пару недель новый шеф явился в сопровождении Владимира Николаевича со своим помощником – из той области, где Мурат Шоханович был председателем облисполкома. Он перекочевал с семьей вслед за хозяином, естественно, получив квартиру. Тысячи маялись по углам, а это дерьмо с круглой харей, как оказалось впоследствии, получил ее за смазливость и услужливость. Ксению представили новым лицам и оставили в приемной. Первый месяц М.Ш. вел себя скромно и сдержанно, осваиваясь с более высокой должностью. Ксения исправляла ошибки в его резолюциях, он обращался к ней с вопросами – как и что. Она ему объясняла. Постепенно в его отношении к ней появилось высокомерие. Она поняла, что ей указывают на ее место, и стала держаться подчеркнуто официально. М.Ш. постепенно приобретал навыки барства и хамства. Посади свинью за стол, она и копыта на стол. Антипатия к лицам коренной национальности усиливалась. У самой-то кровь на четверть бурятская, а туда же, в шовинистки намылилась!
В один из дней произошел конфликт. На нетерпеливый звонок М.Ш. Ксения не спеша переступила порог его кабинета.
– Вы зачем здесь сидите? – его широкое плоское узкоглазое лицо покраснело от гнева, – Вы секретарша или кто? Полчаса на звонок идете! Что вы о себе воображаете? Два слова не можете грамотно напечатать, а туда же… – Он с размаху швырнул какую-то бумагу на длинный полированный стол для заседаний.
Листок порхнул по скользкой поверхности и плавно опустился на пол. Ксения вздрогнула, как от пощечины, с ней никто еще не говорил таким хамским тоном, подошла к столу, подняла с полу бумагу и посмотрела на текст: рука была не ее, хотя содержание было знакомым. Она моментально вспомнила, как ей нужно было позарез отлучиться из здания, и она попросила секретаря из соседнего отдела отпечатать эту бумагу. Но не могла же она сказать об этом! Наверняка правда вышла бы ей боком. М.Ш., скривив рот в презрительной усмешке, пристально смотрел на нее: как он поставил на место эту секретаршу! Ксению так и подмывало высказаться по поводу его грамотности – но вожделенная квартира давно уже лишила ее свободы слова. Вместо этого она едва слышно сказала:
– Извините, я сейчас перепечатаю.
Как писал Грибоедов в «Горе от ума»: – Минуй нас пуще всех печалей и барский гнев, и барская любовь. Она печатала и кипела от возмущения: «За человека меня, выходит, не считает… Секретарша! Да если бы не эта чертова квартира, стала бы я терпеть такое унижение…». Терпели все, и она знала об этом. Не раз заставала в слезах то одну, то другую женщину из секретарей. Им, многим, работающим в Совмине, что-то было нужно; такое, что можно было получить только здесь. Они терпели, плакали, но не возмущались даже между собой, воспринимая грубость начальника или хамство референтов как должное, не пытаясь защищаться, не вступая в пререкания. Иначе они не удержались бы на своих теплых местах. «Как только получу квартиру, и дня здесь не останусь», – мысленно грозилась Ксения и продолжала терпеть унижения.
Внешне она смирилась и старалась быстро и добросовестно исполнять свои обязанности, несмотря на неприязнь к М.Ш. Но чаша терпения стала заполняться капля за каплей – с первого конфликта. Следующей каплей явилась ссора с помощником. Если прежний крутился, как белка, этот бездельничал дни напролет, отфутболивая все указания шефа Ксении, а сам постоянно любовался на себя в маленькое зеркальце – будто его посадили в кабинет для красоты, а не для обслуживания зампреда и его многочисленного семейства. У М.Ш. было восемь дочерей и один сын, психически больной.
В тот день у Ксении было много работы. Позвонила супруга М.Ш. и попросила вызвать на дом сантехника: у них снова засорился унитаз, уже второй раз за неделю. Ксения занималась и этими вопросами, уже не возмущаясь. А что ей оставалось делать? Или носиться со своим человеческим достоинством, или плюнуть на него – ради квартиры. Она смолчала раз, смолчала другой, и помощник отстранился и от этой обязанности: исполнять многочисленные просьбы хозяйки. Причем, хозяйка, быдло областное, не здоровалась, не обращалась к ней хоть как-нибудь, говорила простенько: – Сантехника вызови! Водителя пришли!» Ксения даже ухмылялась про себя: «Очередная Эллочкалюдоедка!»
Чтобы успеть отпечатать срочный материал к концу дня, Ксения попросила Рахима вызвать к шефу на квартиру сантехника. Всего-то позвонить по телефону… Он обещал. Вдруг после обеда – звонок. Ксения поднимает трубку и слышит грубую брань многодетной супруги М.Ш. по поводу того, что посрать некуда: сантехника до сих пор нет. Ксения, сгорая от стыда, что ее отчитывают как прислугу, дослушала до конца все нелестные эпитеты в свой адрес, положила трубку, не сказав в ответ ни слова оправдания. Вошла в комнату к помощнику. Он сидел, развалившись в кресле, за столом и подпиливал ногти на руках. Ксения усилием воли подавила гнев и почти спокойно сказала:
– Послушай-ка, Рахимчик! А я ведь не у тебя в секретаршах, а у зампреда. Я ведь тебя как человека попросила!.. Может, ты думаешь, на тебя управы нет? Тебе не за то двести пятьдесят р. платят, чтобы ты штаны просиживал да в зеркальце любовался… Работать надо, Рахимчик! Унитазы ремонтировать – твоя обязанность, между прочим… Я свои хорошо знаю…
Рахим выскочил из-за стола, прошипел с угрозой:
– Ах, вот ты как, секретутка! Ну, погоди! – он залетел к шефу в кабинет.
Ксения вздохнула почти с облегчением: «Все, конец. Вылечу, как пробка и квартиры не видать, как своих ушей», – и вышла из приемной.
Она ждала последствий, но прошел день, другой, третий, как обычно, – скучно и томительно. Помощник с ней не разговаривал, ходил надутый и обиженный. Она жалела, что так грубо с ним обошлась и винила себя: «Ну, что меня, дуру, понесло? Не могла стерпеть? Столько уже вытерпела! Наверняка нажаловался шефу, тот теперь и пальцем не шевельнет, чтобы помочь мне с квартирой. Живи и дальше со своим дурацким достоинством на частных… Дура, дура и есть. Да что ты такое, в конце концов? Всего-навсего секретарша! Чем ты отличаешься хотя бы от уборщицы? Чем, чем? Она унитаз за ним моет, а ты плевки с физиономии стираешь да еще извиняешься! Не нравится, дуй отсюда! Возвращайся в отдел, тебя везде с радостью возьмут. А-а-а, не хочешь! Работать не хочешь, книжечки лучше почитывать. Так уймись, дура, не высовывайся!» – ее внутренний монолог прервал телефонный звонок.
– Зайдите ко мне, – услышала она строгий голос Владимира Николаевича.
Не ожидая ничего хорошего, она едва передвигала ноги, не шла, а тащилась по коридору до его приемной.
– Ксения Анатольевна, что там у вас произошло? Мурат Шоханович просит убрать вас, заменить другим секретарем… – он смотрел с искренним участием.
Ксения выложила ему все, как на духу. Он помолчал немного, как бы обдумывая, что сказать, и заговорил мягко, доверительно:
– Вы умная, грамотная женщина, Ксения Анатольевна, у вас высшее образование, неужели вы не понимаете, что Мурат Шоханович был прав, обвинив вас в небрежности? Ведь у нас не просто бумажки, а правительственные документы, мы не должны, не имеем права ошибаться. Что подумают нижестоящие организации, если кто-то обнаружит допущенную вами ошибку? Что здесь безграмотные сотрудники. А разве можно допустить подобные мысли? В правительственном учреждении должны работать непогрешимые люди. Что до помощника… Мы не можем указывать ему его обязанности. Их распределяет между вами сам Мурат Шоханович. Вот такое положение дел. Я знаю, вам нужна квартира. Но представьте себе: вас убирают из приемной. Конечно, мы найдем вам место в отделе или в машбюро, но какое мнение будет о вас в коллективе? У местного комитета? И я ничем не смогу вам помочь… А ведь я только добра вам желаю!
Он говорил, а она думала: «Да кому нужны ваши бумажки! Никому они реально не помогают.» В ней подспудно зрел бунт, как когда-то в юности, когда ее исключали из комсомола. Внешне она продолжала внимательно слушать Владимира Николаевича, согласно и покорно кивая, но почему перед мысленным взором мелькали картинки, совсем не относящиеся к предмету беседы. Иногда – во время обеденного перерыва – она выходила из здания прогуляться до скверика напротив Дома правительства, в центре которого возвышался огромный монумент Ленина, посидеть, помечтать на скамеечке при хорошей погоде. Возле постового у главного входа всегда толпилось человек шестьсемь: кто пришел за колбасой, кто принес левую работу или расчет за нее… Ей почему-то вспоминалось некрасовское: «…по торжественным дням, одержимый холопским недугом…».
Однажды в здание пытался прорваться подвыпивший пожилой мужчина. Он лез без пропуска, потрясая бумажками и крича:
– Какой тебе пропуск, сукин сын? Не видишь, я инвалид войны?! Сидят тут, понимаешь, отъели морды за наш счет… Мы вкалываем, а эти бездельники отгородились стенами да мильтонами от рабочего класса, окружили себя холуями да блядями и не доберешься до них! Ишь, цацы какие! Нигде правды не добьешься… Эх, мать честная, вас бы, паскуд, на передовую, посмотрел бы я, как вы в штаны наделали… Как воевать да работать, так мы! Как жрать да с блядями спать – так вы!
На подмогу к постовому, загородившему своим телом, будто амбразуру, дверь, прибежало несколько милиционеров из караулки. Они схватили всем скопом мужчину под руки и быстро увели.
В другой раз на ступеньках гранитной лестницы расположилась неопрятная, растрепанная женщина лет сорока с тремя чумазыми ребятишками. Одного она кормила грудью. К ней тоже подошли милиционеры, подняли ее на ноги, собрали в кучу ребятишек и всех быстро увели куда-то.
Ксения наблюдала этих людей с жалостью, зная уже, как бесполезны и наивны их попытки чегото добиться, даже тех, которым удавалось попасть на прием к одному из замов. Обычно это делалось по знакомству, за взятку или другую мзду – иногда через помощника, но чаще – через людей, занимавших более высокие посты. Соблюдалась видимость демократии, вроде любому простому смертному доступен человек, стоящий у власти. Обычно приемы заканчивались ничего не значащей, как ее и воспринимали нижестоящие организации, резолюцией на письменном заявлении просителя: «Разобраться и принять меры», «Прошу переговорить», «Поставить на очередь согласно действующему постановлению». Никто в дальнейшем даже не думал проследить за исполнением указания зампреда.
Картинки промелькнули и пропали. Ксения слушала ровную, доброжелательную речь – и ей хотелось верить, что Владимир Николаевич действительно желает ей добра, ей очень хотелось верить в это – и появлялось сомнение в собственной правоте, хотя душой, не выносящей несправедливости, она еще противилась, но разум, убаюканный дружеским участием Владимира Николаевича, уже готов был принять его совет.
– Пожалуйста, посоветуйте, что мне делать! – попросила она угасшим голосом.
Он будто ждал этих слов, потому что сразу заговорил твердо и по-деловому:
– Ну, во-первых, я сам сначала поговорю с Муратом Шохановичем, попытаюсь умерить его недовольство, сделаю упор на ваш опыт в работе, на ваши личные достоинства… Скажу и насчет помощника – по обстоятельствам. Если он не будет настаивать на своем решении, вам придется извиниться – и за сантехника тоже. С помощником я тоже сам переговорю… После позвоню вам.
Чувство благодарности переполнило душу.
– Я никогда не забуду вашу доброту, Владимир Николаевич, – она поднялась, – Спасибо вам огромное, – взялась за дверную ручку и вдруг совсем неожиданно у нее вырвалось: – Я… вы мне… очень нравитесь… Ой! – и она вылетела за дверь, едва не сбив с ног входящего посетителя.
Секретарша замуправляющего опять проводила ее любопытным взглядом, многозначительно поджала губы и подумала: «Тэ-э-кс, интересненько! Уж не шуры ли муры здесь – перед самым моим носом?»
На следующий день Владимир Николаевич позвонил ей – сердце заколотилось, как сумасшедшее, – и сказал, что все в порядке, что она может зайти к шефу и извиниться. «А с вас причитается…» – шутливо добавил он в конце разговора. Его шутку она восприняла всерьез, как руководство к действию. Все уладилось. Она извинилась и стала вести себя, как и положено секретарше – с сознанием зависимости своего положения. С помощником тоже все встало на свои места: он праздно порхал по зданию или смотрелся в зеркальце, она обеспечивала семейство шефа сантехниками и прочим обслуживающим персоналом.
Когда шеф с помощником уехали в командировку, она купила бутылку армянского коньяка и коробку конфет. Позвонила Владимиру Николаевичу и попросила его зайти, якобы у нее есть к нему дело. Он пришел, и она пригласила его в комнату отдыха шефа, там-де им никто не помешает. Он последовал за ней. На журнальном столике стоял коньяк и две рюмки.
– Вы что, Ксения Анатольевна? Я же пошутил. Не выдумывайте, пожалуйста! – он попытался выйти, но она встала в дверном проеме.
– Владимир Николаевич, я вас очень прошу: не сердитесь на меня! Я вам так обязана! Вы мне так помогли! Ну, как иначе я могу отблагодарить вас за все добро, что вы для меня сделали? Ну, пожалуйста! Я от чистого сердца. Ну, можем мы просто посидеть, как люди и поговорить! А это, – она махнула рукой в сторону бутылки, – просто так, чисто символически… Дура наивная!
– Ну, зачем же символически… Давайте пригубим, раз так.
Он сел на диван, жестом приглашая Ксению последовать его примеру, – она присела на расстоянии, – разлил коньяк. Они выпили, заели конфетами. Владимир Николаевич налил еще. Ксения и слова вымолвить не успела, как оказалась в его объятиях. Он целовал ее губы, рука его, скользнув по груди, опустилась на талию, ниже – Ксения почувствовала, что он гладит ей колено. У нее закружилась голова – от выпитого на голодный желудок, но больше – от нахлынувшего желания. «О, господи! Но не здесь же…» – она слабо вырывалась, но он не выпускал из объятий и целовал, целовал… Грехопадение свершилось.
И она сразу пожалела об этом. Было стыдно и неприятно. Господи, зачем? Ну, не нужны ей плотские отношения! Желание бывает, женское естество требует, а сам процесс отвратителен. Опять притворяться? Как с мужем?
Из дневника. Сама того не сознавая, я всю жизнь ищу душу, родственную своей душе. Понимать и быть понятой – это истинная любовь, истинная Богом данная близость душ, родство их, взаимопроникновение. Знаю, это глупо, нереально надеяться, но вопреки всему – надеюсь. Душа моя не в пример грешному телу еще девственна, еще наивна. Хочу опуститься на колени перед любимым человеком и сказать ему: – Я хочу умереть, настолько я счастлива, настолько я люблю тебя! Вслух, от всей души, со всей искренностью никогда и никому не признавалась я в любви. Выше моих сил представить, что – не будет этого никогда. Весенний ветер за дверьми. В кого б влюбиться, черт возьми?
Я ищу тебя в пасмурные дни, заглядывая прохожим в лицо. Идет косой хлесткий дождь, стекая по моим щекам. А может, это слезы обиды, отчаянья. Ну, почему так устроен мир, что единственный человек на земле недоступен тебе? Иду и брежу воспоминаниями… Скользят с деревьев невесомые листья. Осень. Уже которая осень без тебя. А есть ли ты вообще? Существуешь ли на свете? Или ты – просто плод моей неуемной тоски по необыкновенной любви?
Я так сейчас нелепо выгляжу в своих глазах: женщина за 30, жена, мать, и эта странная ищущая выхода тоска по прошлому, по настоящему… живу и говорю в стихах своих с выдуманными людьми, выдавая желаемое за действительно существующее. А ты – герой моего воображаемого романа – романтизированный облик прошлого. Стремлюсь к тебе, ищу тебя и в этот пасмурный сегодняшний день, и в прошедшие солнечные дни, чтобы найти и разочароваться. Смешно и грустно искать идеал мне… Какие же великие претензии появились у меня к людям! Все что-то не то, все не те, брожу не с теми, я по-прежнему одна. А я сама – что я такое? Норильская, а потом енисейская девчонка, ставшая взрослой женщиной, а та жизнь мне ближе сейчас, чем моя настоящая жизнь:
ВОСПОМИНАНИЯ О НОРИЛЬСКЕ
В каждом окошке виднелась герань, бывшие зеки в бараках ютились. Память, пожалуйста, душу не рань! Детство, зачем я в тебя возвратилась? Может, мой мозг от обиды устал: Столько всего накопилось! Девочка Ксеня – морщинки у рта. Зрелость с тобою случилась. Женщина Ксеня – в окошке герань, Алый цветочек из детства. Эта герань, будто прошлому дань, Будто кусочек от сердца. АвторВечером, после грехопадения, дома она была не в себе, невпопад говорила и глупо улыбалась.
– Да ты пьяная, что ли? – дошло до Рената.
– Ага, самую малость. Глоток коньяка. У одной секретарши был день рождения, меня пригласили, – выпалила Ксения, и сама удивилась, как легко ложь соскользнула с языка.
Но слова – одно, а поступки… Ночью, когда муж прижал ее к себе и стал целовать, она неожиданно для себя стала вырываться из его объятий и повторять, как заведенная:
– Не трогай меня! Не трогай меня!
– Сбесилась, что ли? – он слегка отстранился. Она резко толкнула его локтем в грудь. Он ругнулся и вскочил с постели.
– Спуталась с кем-то, шалава! Родного мужа толкаешь. Убирайся с постели, дрянь! Скажи «спасибо», что руки об тебя не хочу марать.
Ренат был ревнивым с самого начала их знакомства. Он водил ее по своим родным и знакомым, вынуждая к общению. Все они были слишком обычны и просты, плебеи, одним словом, и ей неинтересны. Чтобы не вызывать лишний раз недовольство будущего мужа, она, выпив и расслабясь, вступала в разговоры. Лицам мужского пола она нравилась, они к ней липли, несмотря на присутствие Рената. А он как будто специально провоцировал ее, чтобы после устроить сцену ревности. Водка требовала разрядки в виде агрессии.
В этот раз она со смутным ощущением вины постелила на полу и улеглась. Но и зло брало на мужа, что оскорбил таким грязным словом. «Нет, я не шалава, я люблю его», – оправдывалась она перед собой, перед своей совестью, но в глубине души было неспокойно: неприятный осадок остался от первого интимного свидания с Владимиром Николаевичем.
Скуки как не бывало, но появилась тоска – от неудовлетворенной жажды общения с любимым человеком. Она переживала, не зная, что подумает Владимир Николаевич о случившемся: «Что он подумает обо мне? Что я доступная женщина, раз так легко отдалась ему в первую встречу… Я никогда не изменяла Ренату и не изменила бы, если бы не полюбила по-настоящему…». Онато влюбилась, во всяком случае, ей казалось, что это любовь. А он? Он ни слова не сказал о чувствах. Но разве его объятья, поцелуи не говорили вместо слов – более красноречиво? Но радости почему-то не было, был стыд… Она не испытала ни вожделения, ни страсти. Она не хотела этого мужчину физически. Как, впрочем, и собственного мужа. Может, с ней было что-то не так? Какой-то изъян в женской сути? Ее вполне устраивала дружеская близость, общение в разговорах. Возможно, ее влюбленность была выдуманной от духовного одиночества. Почему-то именно в это время у нее вдруг открылись глаза на окружающих ее людей.
Ее единственная приятельница Салтанат, тоже секретарша в приемной, а также секретарь комсомольской организации, с которой они вместе обедали, иногда сидели на скамейке в сквере, обмениваясь впечатлениями о книгах, оказалась впоследствии просто блядью. Замужняя, между прочим, женщина с двумя детьми. Иногда Ксения заходила к ней перед обедом, чтобы вместе пойти в столовую. Если в ее присутствии шеф Салты выходил или входил к себе в кабинет, она вскакивала и стояла навытяжку, как вышколенная прислуга. Ксения внутренне усмехалась. Помощник был мерзкий, кривоногий и противный на физию, а еще пытался руки распускать. Ксения с презрением уворачивалась. Вообще она пользовалась успехом у совминовских бездельников мужского пола типа помощников и мелких клерков. Но она не реагировала на заигрывания. Праздное существование молодых женщин, девушек побуждало их заниматься блядством, иногда просто по натуре, иногда в расчете на привилегии.
Вот Салта, к примеру, не брезговала никем, ни старыми, ни молодыми, к последним сама навязывалась. Некоторое время ее любовником был зав.отделом здравоохранения однорукий седовласый, но импозантный Кутяжин. Они даже умудрились поехать вместе в совминовский санаторий «Алатау» в горах. В другой раз, случайно встретив какого-то мужичка из времен юности, повезла его сношаться тоже в совминовский Дом отдыха в черте города. Он оказался агрономом. Для нимфоманки, впрочем, без разницы род занятий очередного объекта для секса, лишь бы не импотент. Потом в юротделе появился новенький юрист: молодой симпатичный неженатый. Тут уж Салте пришлось покрутиться, чтобы затащить его в укромный уголок. Она стала задаривать его подарками и даже писать любовные записки. В конце концов, купила, и он стал ее любовником. Встречались во время рабочего дня у одной из секретарш отдела, кореянки Лены, у которой тоже был любовник-телефонист из подвального этажа, где располагались разные хозслужбы. Встречались, пока ни случился курьез: Салта застала своего Ерлана с Леной. После этого возненавидела «корейку», а Ерлана еще долго преследовала, пока он ни женился.
Вот такая Ксене досталась приятельница в Доме терпимости. А какая ж еще? Между прочим, когда Салта вышла из комсомольского возраста, ее приняли кандидатом в члены партии. Да уж! Кстати, о партии. Ксения не сразу, но раскумекала, какие выгоды сулит членство в партии. Она тогда работала в строительном отделе и, выйдя из комсомольского возраста, написала заявление в партию. Начальник отдела Круглик Иван Андреевич написал ей рекомендацию. Нужна была еще одна. Она, не долго думая, обратилась к В.Н. Он прочитал и сделал исправление в заявлении. Она написала: Прошу принять меня членом партии… Еще грамотной себя считала, блин! Он исправил: …в члены. Ей будто пощечину дали. Выскочив из кабинета, она мчалась, сгорая от стыда, по коридору и комкала в руке свое позорное заявление. Обойдется она как-нибудь без партии. Обошлась же в свое время без комсомола.
Тем более, у нее была мощная поддержка в лице В.Н. А судьи кто? (как вопрошал Чацкий в «Горе от ума» Грибоедова.) Ведь в подсознании Ксении была мысль, что ее новоявленный любовник обладает властью, а значит, может поспособствовать в получении квартиры. Все чаще возникали нехорошие мысли о Доме правительства. Теперь его можно было с полным правом называть Домом терпимости не только в смысле терпения, но и в смысле публичного дома. Работали в аппарате и два алкоголика, зав. Отделом кадров и зав. Отделом культуры. Они, почти не скрываясь, пили в рабочее время. Она знала не понаслышке про блядство и пьянство на стройке. В институте ей довелось столкнуться с блядством, но в их группе не было замужних, были просто свободные девицы легкого поведения. Одной она даже помогла сделать аборт у своего знакомого гинеколога.
Ее от скуки выдуманная увлеченность продолжалась. Если Ксении удавалось хоть мельком увидеть Владимира Николаевича, она чувствовала себя счастливой, и окружающие становились добрыми и милыми, даже на шефа она глядела без обычной неприязни. Если день, другой не видела его, все валилось из рук, и все вызывало раздражение: и работа, и люди. В часы досуга она погружалась в мечты или вела воображаемый диалог с ним.
С большой неохотой она возвращалась в действительность, услышав, как сквозь сон или туман, резкий звонок, призывающий в кабинет шефа, или вынужденная что-то отпечатать или отнести комуто документ. Она стремительно выходила из приемной и так же стремительно возвращалась на место: вдруг позвонит или зайдет Владимир Николаевич. Неизвестность приводила в отчаянье. По нескольку раз на дню она снимала телефонную трубку, набирала знакомый номер и, не дожидаясь, пока ей ответят, клала на место.
Она измучилась от невозможности излить свои переживания, заполненная ими до края. Когда Владимир Николаевич появился, наконец, в приемной, Ксения стояла возле окна. Она едва удержалась на ногах от волнения и вынуждена была ухватиться за подоконник. Ее бросило в краску и в дрожь. Он, как ни в чем не бывало, будто ничего такого и не произошло, быстро огляделся, нет ли поблизости помощника, подошел к ней, привлек к себе. Она почти без чувств прижалась к нему.
– Когда мы встретимся? – тихо спросил он, уже отступив от нее на три шага, чтобы их не застали.
– Когда хотите… – прошептала она, не поднимая глаз.
– Я позвоню, – и он вошел в кабинет М.Ш.
Прошло несколько дней, и Ксению неожиданно вызвал председатель месткома. Она шла и недоумевала, зачем. Квартирный вопрос совершенно вылетел из головы, да и времени со дня распределения квартир прошло достаточно. Ей предложили именно квартиру, правда, освобожденную, зато в прекрасном районе, почти в центре. Она, не раздумывая, согласилась. Конечно, она была рада, но радостью тусклой в отличие от другой – яркой радости душевных переживаний. Два месяца назад она поклялась, получив квартиру, уйти отсюда. А теперь?
Она не могла и не хотела расстаться с Владимиром Николаевичем. «Да я умру от тоски! – мучилась она – Все стерплю, все унижения, оскорбления, лишь бы остаться здесь, лишь бы видеть его хотя бы изредка…». Ну, прямо пушкинская Татьяна! «Хоть редко, хоть в неделю раз в деревне нашей видеть вас…» Самовнушение у нее было развито очень сильно. Она продолжала желание любви принимать за любовь. По отношению к мужу она давно уже не испытывала никаких чувств, кроме уважения к его «золотым» рукам. Ремонт в освобожденной квартире он сделал сам.
Они широко отпраздновали новоселье, приехал даже свояк, муж старшей сестры, из колхоза под Ташкентом, привез в подарок проигрыватель и ковер. Брат Фархад подарил две старые односпальные кровати. Шел семьдесят пятый год. Она купила две первые попавшиеся пластинки для проигрывателя. На первой пластинке-мини оказались песни Владимира Высоцкого. В тот день Ксения была дома одна, за окном шел дождь, она стояла возле окна с текущими по нему струйками, слушала «Чуть помедленнее, кони!..» и почему-то плакала. Как будто слова незнакомого ей певца проникали в самую душу, трогали ее неистовством исполнителя, а еще будто угроза какая-то или предостережение слышались ей в хриплом голосе. С ней что-то произошло, ей овладело странное смятение. «Чтото воздуху мне мало, ветер пью, огонь глотаю, чую с гибельным восторгом, пропадаю, пропадаю…» Она ощущала то же самое не только в ДТ, но и дома. Жила, скрывая мысли и чувства. Может, Высоцкий в своей песне закодировал полную несвободу, зависимость от ничтожеств, что происходило и с ней. С этого момента он поселился в ее душе, вытеснив выдуманную любовь к В.Н.
Пока она занималась оформлением документов, а потом переездом, ей дали, по указанию Владимира Николаевича, в отделе кадров отпуск без содержания на три дня. В ее отсутствие в приемной опять произошли перемены. Мурата Шохановича вернули в область, правда, в другую – на руководящую работу. Помощник пытался найти место в отделах, ему не хотелось уходить из этого здания, но он остался ни с чем. Без поддержки шефа, который прихватил его, как вещь, с собой в столицу, он выглядел жалким и растерянным и оказался непригодным, чтобы занять какую-то должность в аппарате. У него, правда, было высшее образование, но он променял его на теплое место лакея.
Рахиму, однако, повезло: из Совмина не выкидывали на помойку. Его перевели референтом в горисполком. От ненужных или неугодных, были и такие, избавлялись таким способом. Им подыскивали должность, но – вне стен этого здания. Еще когда Ксения работала в строительном отделе, там был один склочный, некомпетентный в своем деле сотрудник, неряшливо одетый мужичонка, непонятно каким образом попавший сюда. Долго он не продержался. Его перевели замминистра лесного хозяйства. После он изредка появлялся в отделе – надутый и при галстуке, но вряд ли ставший более компетентным в новом кресле.
Ксения вздохнула с облегчением: наконец-то она избавилась от неприятных ей людей. Над ней подшучивали.
– Ого, круто ты, однако, меняешь своих замов! Да и помощников тоже…
Она с удовольствием поддерживала шутку.
– Уж такой у меня характер: быстро надоедают одни и те же лица. Один надоел – отправили на повышение, другого – тоже, если это считать повышением…
Через некоторое время, когда бывший шеф в другой, более низкой должности, появлялся в приемной, прежде чем зайти в кабинет к зампреду, он здоровался с ней за руку и спрашивал о семье, приветливо при этом улыбаясь. Она в ответ тоже улыбалась – слегка натянуто, не прощая. О М.Ш. прошли слухи, что за короткий срок пребывания в кресле зампреда он успел обеспечить квартирами всех восьмерых детей, а одного из зятьев – серой «Волгой». И это – при острой нехватке жилья, при огромных очередях на покупку автомобилей. Для всех, кроме тех, кто у власти.
Через десять лет в перестройку М.Ш., явившись из области, взлетел вдруг непомерно высоко: после ставших широко известными декабрьских выступлений молодежи против указаний Москвы стал вторым секретарем ЦК Компартии Казахстана, – непонятно только, за какие заслуги. Ксения не понаслышке знала его плебейство, невоспитанность, необразованность, неграмотность, некомпетентность даже в кресле зампреда Совмина по сельскому хозяйству. Да уж!..
Она снова коротала дни в ожидании новых лиц. Был прилив вдохновения. С ранней юности ей были близки стихи Лермонтова: «И скучно, и грустно, и некому руку подать в минуту душевной невзгоды…» А Печорин был ее любимым литературным героем. Его разочарованность, душевное одиночество, презрение к окружающим вызывали в ее душе понимание и сочувствие. Она не просто читала чужие стихи, она стала писать на них свое мнение и посвящения живым или памяти ушедшим.
XXI век
ВЫСТРЕЛ В БЕССМЕРТИЕ
К 200-летию со дня рождения (род.со 2 на 3 окт.1814 г..убит 15 июля 1841 г.) Нап.30.01.2014 г. под впечатлением от фильма «ЛЕРМОНТОВ»
НУ, ДАВАЙ, МИШЕЛЬ, ИСПЫТАЙ СУДЬБУ! В ГУЩУ БОЯ – В КРАСНОЙ РУБАШКЕ. НА ВОСТОКЕ ПОЭТЫ – ВСЕГДА ТАБУ, ИЗБЕГАЮТ ИХ В РУКОПАШНОЙ. НО В РОССИИ ПОЭТ – ВСЕГДА МИШЕНЬ. ОТ ХРИСТА ЗАВЕЛИ НА НИХ ДЕЛО. САТАНА2 НЕ СПИТ И СЕЙЧАС, МИШЕЛЬ, ИЗБАВЛЯЯСЬ ОТ НАС ОГОЛТЕЛО. НЕТ В РОССИИ НА НАС ТАБУ, МЫ, КАК ПАРИИ, В ГОСУДАРСТВЕ. СКОЛЬКИХ НАС ПОВИДАЛИ В ГРОБУ — И СОВЕТСКАЯ ВЛАСТЬ И ЦАРСТВО.3 ВОЛЬНОЛЮБЦЫ ОДНИ НА РАТЬ СТАНОВЯЩИХСЯ ПОД ЗНАМЕНА. ВСЕ БЫ «МЫСЛИТЬ НАМ И СТРАДАТЬ!»4 НЕТ БЫ В БАНКЕ КОПИТЬ МИЛЛИОНЫ. НО В РОССИИ ПОЭТ НАВЕКА КЛЕЙМЕН, В ЧЕРНОЙ ОН ИЛИ КРАСНОЙ РУБАШКЕ. ИСПОКОН ВЕКОВ И ДО СИХ ВРЕМЕН ПЕРЕД СМЕРТЬЮ ОН НАРАСПАШКУ! НО В РОССИИ ПОЭТЫ – ВСЕГДА МИШЕНЬ, НИКАКАЯ ИХ ВЛАСТЬ НЕ СОГНУЛА. ПОСЛЕ ПУШКИНА ТЫ, МИШЕЛЬ, ОПРОМЕТЧИВО ВСТАЛ ПОД ДУЛО.Со школы не читала Маяковского и вдруг стала читать, как бы открывать заново. Ей по душе пришлось его стихотворение на смерть ПУШКИНА, а потом ЕСЕНИНА. «Владимир Маяковский, вы правы. Отмывают всех поэтов добела. Чистенькие с ног до головы, светятся безгрешностью тела. Но поэты – не святые души, а скорее черти всех мастей. Как слона не сделаешь из мухи, ангелов не склеишь из чертей. Женщины, веселые попойки, до утра текущий словоблуд… Смерть от пули на убогой койке, ведь талантливые долго не живут». При советской власти многие стихи Маяковского не издавались, хотя он и считался революционным поэтом. Есенин вообще был запрещен. Какую родственную душу она почувствовала, читая его волшебные стихи! Появился целый цикл посвящений. Ах, Сережа, буйная головушка, соловей рязанский, русская душа! Слишком рано ты отпел, соловушка! Слишком мало Русью подышал!
Вместо рецензии на телефильм «ЕСЕНИН»
ОТ ИМЕНИ И ПО ПОРУЧЕНИЮ ИЗ БЕССМЕРТИЯ – СЕРГЕЙ ЕСЕНИН
Я РОССИЮ ВОСПЕВАЛ, А ОНА МЕНЯ ПОЗОРИТ. Я НЕ ТОЛЬКО ВОДКУ ЖРАЛ, Я ЛЮБИЛ ДУШОЮ ЗОРИ. Я ЛЮБИЛ ЕЕ РАССВЕТЫ И РОМАШКОВОЕ ПОЛЕ… НО ВСЕГО БОЛЬНЕЙ НА СВЕТЕ Я ЛЮБИЛ КАК РУССКИЙ ВОЛЮ! Я ХОТЕЛ ЖИТЬ ВНЕ ЗАКОНА, ВНЕ КАКИХ-ТО СЕКТ И ПАРТИЙ. НО ПОЭТ – В ТО ВРЕМЯ О Н О — БЫЛ ЮРОДИВЫЙ ИЛЬ ПАРИЙ. ЗАХЛЕСТНУЛИ РАКА КЛЕШНИ МНЕ ПЕТЛЮ НА ТОНКОЙ ШЕЕ, БУДТО Я ИЗ ГРЕШНЫХ ГРЕШНЫЙ, И ПОДВЕСИЛИ НА РЕЕ. НУ И ЧТО, УТРОБА ВЛАСТИ, НЕ НАСЫТИЛАСЬ ТЫ МНОЮ? …МАЯКОВСКИЙ СТАЛ ОТЧАСТИ И МОЕЙ БОЛЬШОЙ ВИНОЮ. МЫ ПОЭТЫ – ВЫШЕ ВЛАСТИ, МЫ СЛОВА СЛАГАЕМ В ЗВУКИ. СТРАСТИ НАМ – ХРИСТОВЫ СТРАСТИ, МУКИ НАМ – ХРИСТОВЫ МУКИ. МЫ – ПОЭТЫ, ВЫШЕ ВЛАСТИ, ВСЕХ ТИРАНОВ И РЕПТИЛИЙ. МЫ – НАДМИРНЫ, МЫ ПРЕКРАСНЫ, ДАЖЕ ЕСЛИ БЕЗ «ИЗВИЛИН». НЕ ОДИН ХРИСТОС В СТРАДАЛЬЦАХ. ВСЯ ДОРОГА НА Г О Л Г О Ф У — БУДТО ВЫШИТА НА ПЯЛЬЦАХ: МЫ – ПИИТЫ, РЯДОМ С БОГОМ! МЫСЛИ СКОРБНЫЕ ИССЯКЛИ, Я – ПОЭТ СЕРГЕЙ Е С Е Н И Н. СКАНДАЛИСТ Я, ТАК ЛИ, СЯК ЛИ, НО В СТИХАХ Я – РУССКИЙ ГЕНИЙ. ИЗ ПЕТЛИ ВАМ ЗАВЕЩАЮ, ЧТО ПОЭТЫ – ВНЕ ЗАКОНА. Я Р О С С И И ПОСВЯЩАЮ ВСЕ СТИХИ…С ПОСЛЕДНИМ СТОНОМ.Конечно, она не могла не написать о своем современнике Владимире Высоцком. Мысли о его ранней кончине преследовали ее. Она поставила его вровень с гениями Х1Х века.
XXI век: Лишь в 35-летие со дня его ухода современники во всеуслышание на передаче, посвященной его памяти, стали называть его гением. Спохватились, духовные калеки. Больше-то никого из ХХ века не осталось в Поэзии с такой всенародной памятью и почитанием. Его творчество не потеряло актуальность, наоборот, потрясающе точно фиксирует нынешние реалии. Жаль, только стрелков развелось великое множество, а волков, то есть, инакомыслящих, пожалуй, пора заносить в Красную книгу. Сплошное благоденствие: наши агенты влияния, типа Евтушенко, в США, их – просочились в московские издательства и издания (журналы). В России идет целенаправленное уничтожение русской литературы. Не буду голословной: в когда-то самом продвинутом журнале «Новый мир» половина авторов – жители НьюЙорка. А у Министерства культуры, похоже, повязка на глазах, как у Богини правосудия. ФСБ расслабилось и отдыхает. Как будто и врагов России внутри страны нет. Так исторически сложилось, что у нашей страны враги испокон веков были, есть и будут.
Иногда даже возникает тихая печальная радость, что такие правдолюбцы, как Шукшин, Высоцкий, Астафьев, а недавно еще и Распутин ушли в мир иной, а их произведения обрели бессмертие в моей душе, например. На их долю тоже досталось немало скверного, давящего грузом на ум и ранимую душу творцов прекрасного, доброго, вечного. Но, по крайней мере, сегодняшняя вакханалия их уже не касается. А каково нам, людям моего поколения и старше? Слава Богу, что книгам наших классиков, на которых мы воспитаны, еще не устроили нынешние писаки, типа пелевина и иже с ним, проживающие в америках, германиях, израилях, аутодафе, как в свое время фашисты.
ПАМЯТИ ВЛАДИМИРА ВЫСОЦКОГО
НАЧАЛО XXI ВЕКА
Двадцатый век прошел. Тебя распяли в 33 несильно, А в 42 распятье завершили. Что ж в нынешнем вершится веке? Как Римская когда-то, пала Российская империя, И превратилась из великой В жалкую подстилку Для иностранных инвестиций, Для поп-бессмыслицы, Для масс-культуры, Сексуальных вариаций… И в этом веке тупости, порока Искусство лживо, недееспособно, Копейки стоит честь, А совесть – в дефиците. Прости, Володя! Тебе нет места здесь: Средь зомби пустоглазых, Среди богатых, нищих духом, Но с толстым кошельком и брюхом… Средь сирых, клянчащих подачку У сытых немцев, Что войну когда-то проиграли. Глаза сухи, и больше я не плачу.* * *
Володя! Ты был вихрем, Что врывался в души, Их очищал от скверны, приобщал К тем мыслям, Что тебя терзали, лишая сна, И призывал умы Обитель сна и зла разрушить. Сыграл ты роль не Гамлета, о, нет! Ты роль рапиры вдруг сыграл: Убил свой век. Зачем? Юбилейное, 70 лет, от имени ВВ Штабеля моих книг, штабеля! Не сожрет их ни ржа, ни всеядная тля! Удосужился даже попасть в жэзээл, Хотя не привлекался, не диссидел. На поминках моих колготится Андрей, Вроде, он из моих закадычных друзей. Он запазуху часто стихи мои клал, И пристроить в журнальчик, ей-ей, обещал. И по-дружески хлопал меня по плечу, Что не то я кричу, не туда руль кручу. «И зачем тебе этот говенный Союз, Ты на сцене козырный (ухмылочка!) туз!» Штабеля моих книг, штабеля! Я почти что Толстой, я почти что Золя! Снисходил до меня даже мэтр Евтух: «Твоя рифма хромает и так режет слух!» Я-то знаю, он фигу в кармане держал, Я его бы послал, если был бы нахал. Заграницу свалил от завидок Евтух, Там, ох, светоч ты наш, он потух и протух. И глаза их мертвы, безобразен оскал… Может, Боженька их за меня наказал? Им никчемность влачить до скончания дней. Я ж прощаю, Евтух! Я ж прощаю, Андрей! Штабеля моих книг, штабеля! Где ж вы раньше-то были, ценители, бля? Когда я рядом с вами изгоем страдал, Почему мне при жизни никто не воздал? За тот голый мой нерв, на котором кричал? Видно, черти вокруг меня правили бал… На том свете не свет, холодина и тьма. На растопку сгодятся мне в а ш и тома. У живого, меня, ни строки и ни строф Не издал тов. Петров, Также Сидоров тов. Жаль, при жизни я вас по-мужски не послал! После смерти ни строчки ведь я не писал._______________
Чтил я Фауста и Дориана Грея заодно, Но! Душа при мне, я пью бессмертия вино! Ну, а «друзья», как видно, расстарались И с потрохами дьяволу продались.Читала она и журнальные подборки современных поэтов, например, Евтушенко. Он был официально признанным первым поэтом в СССР, писал смелые стихи под присмотром КГБ. Такие ходили разговоры в богемной среде. Она не была его почитательницей. Но не выдержала его прохиндейства и сочинила стишок: Ну, вы и чешете поэмы! Про ГЭС, ПРО ГРЭС и красный флаг! Что с вами сталося, Евгений? Ведь вы, Евгений, не дурак! Ведь вы когда-то бушевали, бросали вызов всей толпе! А что ж теперь вы спасовали, поэмы пишите не те?
Из XXI века: Наконец-то ты, Евтух, показал свое истинное лицо: продажное лицо агента КГБ. Твои дешевые стихи забудут. Ну, если первый поэт России предатель родины, то что же это за поэт и что это за родина? И что за президент, награждающий за предательство миллионом?
Как-то позвонил В.Н., пригласил в гости: его супруга отбыла в командировку. Ксения без раздумий согласилась, так велико было желание поговорить с ним, побыть наедине. Потом всполошилась: а если кто-нибудь увидит? Она боялась не за себя, за него. Представить страшно, что было бы, узнай кто-нибудь об их связи. А она? Ну, что она? Выгнали бы с работы – подумаешь! Муж узнал бы – избил, конечно, а может, из дому выгнал бы. Ради любви и не такое выносили женщины! Она продолжала обольщаться на свой счет. Ей почемуто не приходило в голову, что, В.Н., будучи старше ее на 20 лет, воспользовался ее глупой молодой наивностью, и ни о каких чувствах с его стороны не могло быть и речи. Возможно, он вообще принимал ее за одну из совминовских блядей. Уж до ее душевных переживаний ему точно не было дела. Это она витала в облаках…
«Я во сне витаю в облаках, лебедино-снежнобелых. Не ходила в золоте, в шелках, но жила я, как хотела. Мало мне цветов и облаков. Может, я какая-то иная. Я иду по жизни без оков, и душа свободною растает…» – текли строки ручейком, отвлекая от пошлой реальности. Впервые в жизни она шла на тайное любовное свидание. И каково ей было? Она не знала, куда девать глаза – смотреть ли под ноги, оглядываться ли по сторонам: не следит ли кто за ней; не знала, как унять дрожь, сотрясавшую тело, дрожь от страха разоблачения. Она шла, будто голая, и все смотрели на ее обнаженное тело и знали, куда она идет. На блядки – куда же еще? Не помнила, как вошла в подъезд, дрожащей рукой нажала звонок. Дверь мгновенно открылась, она переступила порог, перевела дыхание.
Ксения со жгучим любопытством – здесь жил не чужой ей человек – прошлась по огромной квартире. Подумалось мельком: «Нехило живут слуги народа.» Хоромы были еще те: импортная с инкрустацией мебель, сотни книг в книжных шкафах, немецкие сервизы «Мадонна» за стеклом серванта, ковры, паласы… Кругом – чистота, порядок, каждой вещи определено свое место. А где же место гостьи? Оказалось, на кухне. Владимир Николаевич угощал ее французским коньяком «Наполеон» и черной икрой из доверху наполненной хрустальной вазы средних размеров. Ксения впервые видела дефицитный продукт в таком количестве. Им выдавали по праздникам по баночке красной икры, которая стоила целых четыре рубля!
– Довольна квартирой? – спросил Владимир Николаевич. – Правда, неновая, но такой порядок, ты ведь недавно работаешь. Придется немного потерпеть и получишь новую. А пока заявление напиши на расширение.
– Большое спасибо, я вам так благодарна, мы счастливы, особенно муж, – ответила она с преувеличенным восторгом.
– Пришлось обработать мнение членов месткома, – он широко улыбнулся. – Надеюсь, я заслужил твою благосклонность?
– Еще бы! – с воодушевлением ответила Ксения и лихо, как в юности, опрокинула полный фужер коньяка и заела икрой, зачерпнув ее столовой ложкой.
Возникла картинка из детства: черный хлеб, намазанный маргарином и посыпанный сахаром. Вкуснятина! Изрядно опьянев, она позволила отвести себя на диван. Были поцелуи, были ласки, но не было жарких любовных речей. Молчал он, молчала она… Едва не бегом возвращалась она на работу, ощущая вместо радости от встречи с любовником смутное беспокойство и недовольство собой. Еще было противно, выходило, она отдавалась за квартиру. Продажная – из Дома терпимости. Она начинала прозревать.
Ксения все еще сидела в приемной одна. Ей позвонили из отдела кадров и предложили зайти.
– Ночная дежурная у Председателя легла в больницу. Вы пока без работы, так что придется вам подежурить три ночи. Это не просьба, а приказ, – заявил завкадрами.
Она со скандалом объяснила ситуацию дома Ренату. – И с кем это ты там будешь дежурить? С ебарем?
Она молчала.
Впервые она поднялась вечером на четвертый этаж. С ней должен был дежурить один из помощников Председателя Совмина Б.А. (Ашимов Байкен Ашимович). Дежурство было рассчитано на экстренные ситуации. Она записывала телефонограммы, принимала сообщения по телефону. Они с Сериком Давлетовым разговаривали, пили чай. Этот помощник в отличие от других помощников зампредов оказался приятным на внешность, умным, начитанным, эрудированным. Дежурство было спокойным, и она писала стихи. Серик полюбопытствовал, и она призналась. Он прочитал три стиха и посмотрел на нее круглыми глазами: – Да ты поэтесса! Она поправила: – Поэт.
С того дежурства они стали общаться. Он звонил по телефону, они разговаривали, заходил к ней в приемную. Она чувствовала, что нравится ему. Он тоже ей нравился, необычный был человек в ДТ. Он был невысокого роста, стройный, обаятельный. У него был отдельный кабинет, она тоже изредка заходила к нему. Однажды зашла, он был под хмельком. Серик притянул ее к себе и поцеловал. Поцелуй был затягивающим, как будто он хотел заняться с ней любовью прямо здесь и сейчас. Она с трудом отстранилась и прошептала: – Извини, я не могу, у меня другой мужчина. Выбежала из его кабинета с горящими щеками.
Он явно за ней ухаживал. Как-то в обеденный перерыв повез ее в горы на лоно природы. Они страстно целовались, но она не могла ему отдаться, был же любовник, хотя Серик ей очень нравился. Она больше не хотела разочарования. Он, по-видимому, не терял надежды. Опять же в обед повез ее на квартиру к своему другу. Они изрядно попили коньяк, потом он целовал ей грудь. Видя, что она не поддается на его ласки, Серик пытался совратить ее порножурналами. Но получилось наоборот, ей стало противно до отвращения, ведь она же нормальная, не озабоченная сексуально женщина, замужем, имеющая нелюбимого любовника. Серик отступился, а потом утешился с одной незамужней мадам. Их дружба только укрепилась, Даулетов оказался для нее оазисом в пустыне бездуховного быдла.
К ней изредка заходили досужие сплетники, которые все и про всех знают, и сообщали очередную кандидатуру на место зампреда. Она делала заинтересованный вид, на самом деле ей было безразлично. Она ощущала себя как бы под стеклянным колпаком: все видела, но ничего не слышала. Слова отскакивали, как пинг-понговые шарики, не вызывая эмоций. Она была полностью погружена в себя: в мысли и чувства.
Выдуманное любовное безумие сменилось реальной растерянностью и подавленностью. «Что произошло? Ведь я хотела, хотела быть с ним и душой, и телом! Почему мне так плохо? Есть духовная близость, понимание и деликатность с его стороны. Почему нет радости? Стыд есть, а радости нет», – снова и снова анализировала она свои ощущения, пытаясь найти причину скверного душевного состояния. Душа металась. Ее цельная натура, о чем она вряд ли подозревала, протестовала против раздвоенности.
Почему-то в голове часто звучал голос Высоцкого. Зачем, на свою беду, она стала думать о нем, даже мечтать о встрече? К тому времени она уже кое-что узнала об этом человеке, и мысли о нем захватывали ее все сильнее.
Приближалось восьмое марта. Все женщины ходили разнаряженные, сияющие, возбужденные. Накануне праздника в аппарате проходило традиционное вручение подарков: недорогих, но оригинальных (дефицитных), подобранных со вкусом – этим обычно занимался отдел торговли. Подарки делались не абы как, а в соответствии с занимаемой должностью. Женщине-референту, к примеру, Лире Николаевне, дарились французские духи стоимостью около двадцати рублей, или дамская сумочка, или маникюрный набор. Шахине, рангом пониже, вручали подарок попроще: недорогую скатерть или японский платок стоимостью до десяти рублей. Инспекторам приемных тоже дарили духи, но подешевле – арабские «Сигнатюр» или болгарские «Бон шанс» и в дополнение – гэдээровские дедероновые чулки. Секретарям отделов обычно преподносили что-нибудь из посуды: недорогую чашку с блюдцем и к ним чайную ложечку, или чайник для заварки, или керамическую вазочку для цветов. Конечно, получившие такой подарок с завистью косились на сумки, скатерти, платки и даже чулки. Особенно чулки, которые были дефицитом.
Ксении была неприятна эта процедура: идти через весь зал под обстрелом разных взглядов: и завистливых – ее молодости, привлекательности, стройной фигуре, и откровенно враждебных – так смотрели те, кому она перешла где-то и когдато дорогу, сама того не заметив, например, когда ее взяли в приемную зампреда. После – получать из рук управляющего или одного из замов подарок: чулки. Неловко, стыдно и… унизительно. Одно дело, если чулки подарил муж, другое – чужой человек. Первый и последний раз – в прошлом году – она едва от стыда не сгорела, но шла прямо, высоко держа голову. За чулками… Больше на раздаче она не присутствовала. Подарок ей приносили в приемную.
Предпраздничное оживление носилось по коридорам, по кабинетам… Одна Ксения сидела безрадостно в приемной, как в глухом углу, и думала, думала – об одном и том же: почему ей так плохо? Телефонный звонок заставил ее вздрогнуть. Она подняла трубку, услышала знакомый голос, который недавно бросал ее в дрожь. Теперь причина дрожи была другая: она не ждала и не хотела звонка.
– Зайди ко мне, – сказал Владимир Николаевич.
Они перешли на «ты», но она никак не могла называть его по имени. Ксения нехотя поднялась со стула и вышла из приемной. Понуро побрела по коридору. А давно ли она как на крыльях летела к нему – к своему любимому? Он встретил ее ласково и приветливо, как всегда, притянул к себе, поцеловал по-хозяйски. Угнетенное состояние ее духа на миг как бы растворилось в тепле и ласке. Владимир Николаевич вручил букет тюльпанов.
– Держи крепче, в нем одна вещичка, чтоб не выпала. Поздравляю!
Выходя из приемной, услышала за спиной громкое хмыканье. Шла по коридору и будто не букет в руках несла, а бревно. В цветах оказался изящный серебряный браслет. Ксения не ожидала такого дорогого подарка, искренне удивилась и тут же позвонила любовнику.
– Спасибо, милый! Очень красивый браслет. Мне, право, неудобно, такой дорогой подарок…
– Ну-ну, не стоит об этом говорить. Носи на здоровье! Рад, что тебе понравилась эта безделушка.
В освобожденной квартире они прожили год, и как-то неожиданно, хотя она и подала заявление в местком на расширение жилплощади, как ей посоветовал В.Н., ей предложили двухкомнатную квартиру улучшенной планировки в совминовском доме. Нового зампреда еще не было, и ей дали отпуск без содержания на три дня. Они переехали в хоромы.
Тут наконец появился новый – уже третий – зампред. Их снова представлял друг другу Владимир Николаевич. Колтай Досович был невысок ростом, ниже Ксении, но обладал приятной, интеллигентной внешностью. Она с первого взгляда прониклась к нему симпатией и тем большей со временем, чем больше хороших качеств открывала в нем. Первое время он часто спрашивал ее совета в оформлении документов и вообще по работе: в аппарате существовала масса неписаных правил. Ксения внутренне распрямилась, почувствовала себя свободнее. Но дистанцию соблюдала, наученная горьким опытом. Кто знает, как К.Д. поведет себя в дальнейшем, когда освоится с высоким положением и расположится повольготнее в мягком, широком кресле! Не будет ли взирать свысока, несмотря на невысокий рост, на подчиненных, в том числе и на нее?
К.Д. предложили несколько кандидатур на место помощника. До Совмина он занимал не столь высокий пост и помощника у него не было. К.Д. остановил выбор на одном из них. Тимур показался Ксении слишком робким, слишком скромным для должности помощника. «Провинция», – перехватила она его восторженный взгляд по сторонам. Но она ошиблась. Тимур стал хорошим товарищем для нее, деловым, расторопным помощником для шефа. Он начал свою деятельность с того, что охотно взял на себя обязанности по обслуживанию семьи зампреда. У К.Д., к счастью, была небольшая семья: супруга, голоса которой Ксения так ни разу и не услышала, и двое детей: взрослый сын-студент и замужняя дочь. Шеф сразу категорически запретил своим близким пользоваться без разрешения его служебной машиной. Ею пользовались Ксения и Тимур – на всю катушку. Вообще, все было бы прекрасно, если бы не Владимир Николаевич. Собственно, дело было даже не в нем, а в ней самой.
Самое первое, приятное и легкое опьянение якобы любовью давно прошло, уступив очередь более сильному – когда человек начинает терять голову и совершать непредсказуемые поступки. Ксения и потеряла, когда они стали близки. Теперь, ей казалось, наступил момент похмелья, тяжкий и болезненный, с отупелой болью в голове и душевной подавленностью. Но наступит и полное отрезвление. Какие чувства тогда овладеют ею? Не будет ли это ужас от содеянного в состоянии опьянения?
Ксения находилась в стадии похмелья: мозги отказывались воспринимать ее внутренние монологи, чувства притупились. Она по инерции продолжала говорить с Владимиром Николаевичем игривым тоном, хотя сама от звонков воздерживалась. Ее уже не томила жажда духовного общения, особенно после того, как произошла необратимая замена духовного на плотское. По инерции сходила еще раз к нему домой – на интимное свидание. Опять не было радости и вообще ничего: пусто было на душе. Даже страх разоблачения покинул ее.
И в это самое время – охлаждения с ее стороны – по зданию поползли слухи о ее любовной связи с Владимиром Николаевичем. Источником была, конечно, его секретарша, одинокая бабенка, имевшая свои виды на начальника. Естественно, ее возмущало поведение замужней Ксении. Интересно, что слухи появились тогда, когда Ксения обрела спокойствие, и ее покинули душевные переживания. Глядя на нее и Владимира Николаевича, когда они задерживались в коридоре, чтобы условиться об очередном рандеву, ни за что нельзя было догадаться, что они любовники, настолько равнодушно они глядели друг на друга. Просто стоят и разговаривают двое случайно встретившихся людей. Мало ли о чем… О делах, конечно, – государственной важности.
Как-то в приемную зашла Лира. Они поболтали о том о сем, и вдруг – внезапный вопрос:
– Говорят, В.Н. – твой любовник?
Ксения от неожиданности покраснела и какойто миг решительно не знала, что ответить. Потом спросила:
– Кто говорит такие глупости?
– Да так, народ… Смотри, твой узнает, не сдобровать тебе. Татарская кровь взыграет… – с тем и ушла.
Ксении пришлось испытать на собственной шкуре, что такое общественное мнение в таком авторитетном учреждении, как Совмин. Это не жалкая кучка обывателей в глухой провинции – Енисейске, где ее любимый был хулиган и бывший зек. Некоторые женщины перестали с ней здороваться, делая вид, что в упор ее не видят; другие здоровались сквозь зубы, всем своим видом демонстрируя оскорбленность в лучших чувствах; третьи взирали с негодованием, те которые вели достойную одинокую жизнь со случайными связями, как Лира, например. Были и такие, которые хихикали за спиной, а в глаза смотрели с любопытством и откровенной завистью. Мужчины вели себя не лучше, правда, в ином направлении: стали чаще заигрывать, давать волю рукам, позволять пошлые намеки… Будто, заимев любовника, она дала повод к хамскому поведению, к вседозволенности. Будто стала доступна для всех, как публичная девка. Одним словом, ее подвергли обструкции.
«Толпы недремлющее око, как боль, входящая извне. Любовь – не счастье, а морока, когда она в плену – во мне.» Было во стократ обиднее поведение окружающих тем, что любви-то не было, хотя интим изредка случался. Ксения и так не слишком часто ходила по зданию, надобности не было, а теперь и вовсе старалась носа не высовывать. Но бывать на людях все равно поневоле приходилось: обед в столовой, продукты в буфете, визит в аптеку, в книжный киоск, на почту. До того, как влюбиться, она ходила с высоко поднятой головой: совесть была чиста. Теперь она старалась проскользнуть, как тень, – с низко опущенной головой и крепко сжатыми губами. Пресс общественного мнения начинал опускаться – двигаясь медленно, но неуклонно вниз и вниз, грозя раздавить своей массой остатки добрых чувств к окружающим людям.
Чтобы хоть как-то выбраться из состояния подавленности, Ксения опять погрузилась в домашние заботы. Они заняли денег на мебель, и она кланялась людям, могущественным по этой части, вынося двусмысленные намеки. Некоторые, пользуясь моментом, распускали руки и лезли с поцелуями, и она фальшиво хихикала, испытывая отвращение к себе. Такой ценой приобрела немецкую стенку, румынский кухонный гарнитур «Красную шапочку» – дефицит из-за относительной дешевизны. Обставив квартиру, она стала выполнять мелкие и покрупнее просьбы родственников Рената, чувствуя вину перед ним. Их аппетиты росли не по дням, а по часам. Теперь перед праздниками она так же, как все, отоваривалась на крупную сумму, так же, как все, возмущалась, если кто-то лез без очереди, опасаясь, что ей не достанется лишнего куска колбасы. Потом раздавала – кому палку сервелата, кому банку растворимого кофе, кому чужук или казы. Пользуясь именем шефа, доставала импортные оправы и труднодоступные лекарства. Крутилась, как белка в колесе, с утра до вечера, до конца рабочего дня, лишь бы не думать. Не думать о том, как низко она пала. И продолжает падать.
Отношения с Ренатом не улучшились с получением роскошной квартиры, с приобретением новой мебели, наоборот – все ухудшались. Вероятно, до него, не без помощи добрых людей, дошли слухи о ее любовной связи. Он, слава богу, не знал наверняка, но все чаще устраивал скандалы, особенно по ночам, когда она с раздражением уклонялась от супружеских обязанностей: ей опротивело отдаваться без любви. Дело кончалось тем, что он или поддавал ей слегка кулаком в бок, если был пьян, а напиваться стал часто, или насиловал – зло и грубо. Насилие вызывало ненависть к мужу.
С родителями у Ксении по-прежнему не было понимания. Да она и не искала его здесь, привыкнув с детства не делиться с ними своими душевными переживаниями, своими радостями и горестями. А теперь и подавно. У отца характер не смягчился с годами, так и оставался суровым по отношению к дочери. Лишь внука он баловал и любил, с ним был добрым и снисходительным. Непокорная дочь лишь выводила его из себя. Нет бы поластиться или поклянчить просительно!..
– Батя, подкинь четвертную единственному чаду!
– Батя, подари на день рожденья серьги с жемчугом, ты же богатенький… А я нищая… Не стыдно за родную дочь?
И куда денешься: где-то она была права. Он подкидывал, не желая, чтобы она выглядела хуже всех – в таком месте! Иногда, правда, и взрывался от ее наглости.
– Кто тебе виноват? Сама выбирала женишков, один лучше другого. Битников – вор, этот… уселся на нашей шее, а туда же – гордый! За чужой счет. Не дам денег, сказал, не дам! Пусть муженек тебя одевает!.. И кормит.
С матерью Ксения как-то поделилась:
– У меня есть любовник, зам. управляющего. Мать на секунду потеряла дар речи и запричитала:
– Как же, доченька, как же ты могла? Это же нехорошо. А вдруг Ренат узнает? А на работе? Ведь он такой ответственный пост занимает! Разве так можно? Как же ты позволила? И он… порядочный человек, наверное, и семейный… Я тебя прошу: заканчивай это дело. Не хватало еще нам позора на старости лет… от единственной дочери…
Ксения, будто себя убеждая, что ее связь – в порядке вещей, продолжила, дослушав материну речь:
– Ты отстала от жизни, мамуля. Я одна, что ли, изменяю мужу? Я-то по любви, а другие? Главное в таком деле – не попадаться. И не тащить отношения с любовником в семью, не смешивать их с семейными. И волки должны быть сыты, и овцы, стало быть, целы. Понимаешь, хочется иногда почувствовать себя свободной от семейных цепей…
– А угрызения совести?
– А кто страдает? Может, ребенка я забросила? Может, муж голодный, нестиранный, не глаженный? Если кому и плохо, то мне…
– Я тебя не понимаю… Говоришь, любовь… Он женатый, ты замужем. Какая может быть у вас любовь?
– О господи! Ну, о чем ты? Какая любовь? Было, конечно, что-то до того самого, о чем говорить не принято. Было, да сплыло. А сейчас… так… для разнообразия в жизни. Все надо попробовать – в пределах разумного, – Ксения примеряла маску циника.
Вот и поделилась: «Никто меня не понимает, и молча гибнуть я должна».
К брату Рената она отказалась ходить наотрез. Назло ей он стал приглашать их к себе. Не только их, но и остальных родственников – близких и не очень. Тем более, повод был: собственная квартира. Пусть все видят и завидуют! А завидовали ей крепко. Ксения должна была ублажать гостей выпивкой и едой. Теперь ее унижали и дома, заставляя прислуживать чужим для нее людям. Не она, они чувствовали себя, как дома – в ее квартире. Усаживались на ее место, трогали ее вещи, толклись на кухне… А куда денешься? Не бежать же к родителям! Она стала пить наравне со всеми, вызывая в себе искусственно веселость и общительность, болтать по-свойски с кем-нибудь из мужиков. Ренат ревновал и, едва дождавшись ухода гостей, лез с кулаками и оскорблениями. «Ад, кромешный ад везде – и на работе, и дома», – не раз ужасалась она, не зная, как положить конец такому положению.
Фархад скопил денег и попросил Ксению купить ему «Жигули», она записалась на очередь. После записи прошел год, когда она завела с мужем разговор об увольнении из Совмина. Он сразу встал на дыбы.
– А машина Фархаду? Купи, а потом увольняйся.
– Ничего мне не надо. Я просто не могу больше там… – она еле сдерживала слезы.
– С чего это вдруг? То восторгалась: «Ах, как хорошо! Ах, какие порядочные люди!» Может, сама скурвилась? Смотри у меня! Сиди и не рыпайся!
Как она могла убедить его? И в чем, собственно? Она себе не могла объяснить, почему ее тянуло бежать, бежать без оглядки из этой благодати, из этой райской жизни. Причина была не в любовнике, не в угрызениях совести, не в двойной жизни. Что-то страшное происходило в ней самой. Внешние обстоятельства лишь усугубляли внутреннее состояние. Разговор об увольнении она больше не заводила. Но на работу ходила теперь, как на каторгу, постоянно ощущая со стороны окружающих прежнюю зависть – к ее молодости, привлекательности, удаче и праздное любопытство: а ну, чем тут занимается распутная секретарша? К ней повадились заходить в приемную без дела все подряд, и все поглядывали, все высматривали… Будто клеймо у нее на лбу появится. Вот уж дала она пищи секретаршам и машинисткам, бросила кость голодной своре! Нет, не на каторгу она ходила, а на лобное место. Вот чем стала приемная.
«Господи, ну, какое им всем дело до меня, до моей личной жизни? Своих забот мало? Откуда столько зла в них? Будто я последний кусок изо рта у кого-то вырвала… Неужели они думают, что мне сладко живется – и муж есть, и любовник с положением и деньгами? Если бы они знали!.. Небось, не захотели бы поменяться со мной местами. Дурачье!» – Она нередко теперь плакала от жалости к себе, закрывшись в туалете. Больше негде было.
Почему-то часто думала о Высоцком, покупала пластинки, читала о нем, что попадалось в московской прессе. Он нравился ей все больше и больше, и как человек, и как творец. Похожих в ее окружении никогда не было. На фото он нравился ей как мужчина, в его песнях было что-то близкое и родственное ее бунтарской в прошлом натуре. Когда в Алма-Ату прибыл на гастроли театр на Таганке, она достала пригласительный. Они пошли с Ренатом. Он, кстати, тоже увлекся песнями Высоцкого, все же был неглуп и многое в жизни понимал больше, чем она, больше было жизненного опыта.
Высоцкий был в черной водолазке и черных брюках, с гитарой в руках. Спектакль назывался «Добрый человек из Сезуана». Она не слышала текста, не видела других актеров, только Он один был перед ее глазами, такой близкий по песням и такой недосягаемый по жизни. Они сидели рядом с проходом. Наступил момент, когда актер спрыгнул со сцены и пошел по проходу, шел, пел и играл на гитаре. Проходя мимо, он взглянул на нее ласково и подмигнул. Как будто искра от него пробежала и вспыхнула в ее душе. С этой минуты Ксения пропала, она потеряла голову. У нее появилась параллельная мысленная жизнь, которая не соприкасалась с реальной.
На работе и дома ничего не менялось. Владимир Николаевич делал по праздникам дорогие подарки. Они изредка продолжали встречаться, когда его супруги не было дома. Ксения не противилась близости – из благодарности за очередную безделушку. Сама, правда, инициативы не проявляла. Вероятно, она исправно играла роль любовницы, потому что он не замечал ее отчужденности, а может, не желал замечать: она давно не делилась с ним своими переживаниями. Чем он был лучше Рената? Как мужчина вообще никакой, возраст-то – не для любовных утех. Государственный муж о государстве должен думать, не о смазливой бабенке.
Был один хороший человек рядом – Тимур, помощник. Они незаметно стали приятелями. Если у нее было мрачное настроение, он старался подружески развлечь ее. Иногда это удавалось, и она благодарно улыбалась. Они по очереди отлучались по личным делам в рабочее время. Она была уверена, что оставляет надежный заслон на случай, если понадобится начальству или отдел кадров устроит проверку, все ли на местах отсиживают положенное время. Он всегда изобретал правдоподобную причину ее отсутствия. Если отсутствовал он, Ксении достаточно было сказать: «Ушел по заданию шефа». Но вот беда, Тимур стал злоупотреблять спиртным – сначала по выходным, но в понедельник от него разило перегаром за километр. Потом, освоившись на новом месте, и на работе. Еще и Ксении предлагал за компанию. Может, это и сошло бы ему с рук, но шеф, сам непьющий, изза болезни почек, учуял раз, другой, на третий – резко отчитал Тимура. Он поделился с Ксенией, но, беспечно махнув рукой, продолжал выпивать.
– Я к нему близко подходить не буду, – улыбаясь, пообещал он.
К.Д. еще раз уличил его и предложил уволиться по собственному желанию.
– Ну, все, факир был пьян, и фокус не удался. Сказал, чтобы написал заявление.
– За что? – хотя она уже догадывалась.
– За это самое, – Тимур выразительно щелкнул пальцем по горлу.
– Скажи, что больше не будешь.
– Бесполезно. Он совсем озверел и разговаривать не хочет.
Ксения не могла представить шефа озверевшим. Она размышляла: «Жалко Тимура. Человек он хороший и работник тоже. В конце концов, имеет он право на личную жизнь? На работе больше не выпивает. Может, мне лучше не соваться? А если посадят какого-нибудь Рахимчика? Первый раз повезло с помощником – и на тебе. Что же делать? Попросить разве за него? А кто я такая? Скажет: «Какое ваше дело? Сидите и помалкивайте, пока следом не вылетели». И вылечу. Запросто. Один раз чуть не вылетела. А мне машину еще надо купить. Э-э-э, Ксения Анатольевна, и вправду вы скурвились, как выразился ваш благоверный, неважно, что по другому поводу. Человеком быть надо. Сколько раз тебя Тимур выручал? Вот и отблагодари за добро – по-человечески. Делом, а не натурой, как некоторых…».
Она вошла к шефу без вызова и остановилась у двери.
– Что? – отрывисто спросил он.
– Колтай Досович, Тимур сказал мне насчет заявления. Очень прошу вас, не выгоняйте его! Он исправится…
– Это он вас послал просить за него? – К.Д. усмехнулся.
– Нет, – твердо сказала Ксения. – Он не знает. Я сама. Конечно, извините, что я вмешиваюсь не в свое дело, но вы без меня видите, какой Тимур исполнительный и компетентный. Поверьте мне, я не первый год работаю и повидала всяких. Он больше не будет, честное слово! Я ручаюсь за него.
– Хорошо, идите. Я подумаю.
Тимура не уволили, и все возвратилось на круги своя. Теперь по понедельникам от него разило луком или чесноком. В рабочее время больше не пил.
– Знаешь, что шеф сказал о тебе? «Благодари, – говорит, – Ксению, отстояла тебя и меня не побоялась».
– Вот и благодари, – улыбнулась Ксения, – Мне как раз отлучиться надо после обеда на пару часиков…
– О чем речь!
Была у К.Д. одна привычка – при всех достоинствах, – которая отравляла и без того нерадостное существование Ксении. Вначале, уважая шефа, она воспринимала ее нормально, потом стала раздражаться и, наконец, дело дошло до возмущения. К.Д. любил пить чай – со сливками, с сахаром да еще по два раза в день, до обеда и после. Она бы, пожалуй, терпела эту слабость, а иногда и привередливость – то сахару мало, то сахару много, то чай слабый, то слишком крепкий, то сливки жирные – но при условии: обслуживать его одного. Она считала, правда, что это не входит в ее обязанности, да и вообще: барские замашки. Тем более, что два прежних шефа пили минералку, которую приносила официантка из их, зампредовской столовой, на четвертом этаже, где они – все шесть замов – обедали. Сам председатель, управляющий и два его зама обедали в своих комнатах отдыха, куда еду им приносили официантки.
До К.Д. проблем с чаем у Ксении не было. И вот появилась. Она утешала себя мыслью, что барство все же лучше, чем хамство М.Ш. И помогало. Но когда шеф повадился поить чаем любого посетителя, если тот появлялся в момент чаепития, для которого были отведены определенные часы, тут она взбунтовалась. Но бунт угас, не вспыхнув, оставив тлеть в душе не выплеснутый гнев. Да и что она могла сделать? Сказать, что не будет поить чаем кого попало? В таком случае лучше написать заявление об увольнении. И прощай, машина! Из-за такого пустяка? Опять из прислуг рветесь в равноправие? Эк вас разбаловал К.Д. своим демократическим отношением. Не-е-е, незя народу свободу давать, не-зя! Неправ был Ленин, никогда кухарка не будет править государством! Для этого существует номенклатура.
Так что, кухарка Ксения, знай свое место, балуй чайком всех подряд! Ты же – не номенклатура, а секретарша. Ни права голоса, ни права протеста у тебя нет и быть не может, и быть не должно. Попала в клетку, так и чирикай, как птичка, а не тявкай, как собака. А то ведь недолго и загреметь из аппарата – тьфу, слово-то какое срамное, почти, как член правительства. Неси чашечку, не урони, не дай Бог!
Особенно неприятен был один из начальников отделов, который будто специально приходил к шефу в часы чаепития. «Ах, ты, козлик! На чаек прискакал? Своя-то секретарша тебя не балует, у нее работы невпроворот, а здесь тебе – благодать… Чаек свеженький, да со сливочками, да с сахарочком, да прямо в ручки поданный… Пей, голубчик, чтобы ты подавился! Как бы ненароком чашечкой этой вместе с чаем тебе по морде не заехать…» – Ксения с приветливой улыбкой гостеприимной хозяйки подавала чай. Недолго тлел в душе Ксении гнев и однажды выплеснулся. Она, как обычно, готовила чай, и в этот момент вошел тот самый начальник, которого она не терпела, – улыбающийся (они все тут улыбались с утра до вечера), но с неприятным ледком в серых глазах.
– Вы и меня, поди, чаем угостите?
«У-у-у, фашист!» – подумала она, но ответила приветливо и радушно, как хозяйка:
– Ну, разумеется. Вы, как всегда, вовремя.
По-видимому, ему не понравилась последняя фраза, он стер улыбку и, сделав неприступное лицо, вошел к шефу.
Ксения внесла чай, прошла по дорожке к столу, поставила чашку перед К.Д., протягивая другую посетителю, покачнулась вроде бы нечаянно – и выронила чашку прямо ему на колено. Он вскочил со стула, скривившись от боли, уставился на брюки: по правой брючине расплывалось мокрое пятно.
– Эк вы неаккуратно, Ксения Анатольевна… – укоризненно сказал К.Д.
Ксения на секунду застыла, глядя на дело своих рук, бледность разлилась по ее щекам – и вдруг из глаз брызнули слезы. Она закрыла лицо руками и бросилась вон из кабинета.
Она долго размышляла над дикой выходкой: «Что со мной? Откуда это затмение в мозгах? Откуда столько зла и ненависти? Ну, что он мне сделал плохого? Наоборот – всегда здоровается, улыбается… Какой он фашист? Обыкновенный человек… не хуже других… Подумаешь, несколько раз напоила его чаем. Руки отсохли, что ли? Разве можно за такую ерунду возненавидеть? Сама я фашистка, в таком случае. Но почему, почему я стала такой злой? Такой несправедливой к людям?»
Но чаще она думала о связи с Владимиром Николаевичем: «Нет, я должна ему сказать правду. Нужно положить конец нашим отношениям. Это становится невыносимым. Ложиться с мужчиной в постель, не испытывая ни малейшего желания. Какая же я дура! Любовь, люблю… Идиотка, будь ты неладна! От скуки и безделья повешалась на первого встречного. Правда, не урод и при власти… Дешевка ты, Ксенька, продалась за браслетик да отрез японский… Господи, где выход? Уйти, бежать! А куда? Где лучше? Где нет продажных? Тупиц? Взяточников? Завистников? Лицемеров? Воров? Где не тащат все, что под руку попадается? Как здесь… Книги из библиотеки, бумагу из туалета, ручки, карандаши, блокноты… Не украл, а просто взял, ведь «все вокруг народное, все вокруг мое». Мне бы левую работу печатать, деньги делать, а не заводить нелюбимых любовников… Ненавижу! Кого?»
Целый день ее никто не отвлекал: шеф уехал на совещание, помощник смылся, пользуясь моментом. Она вспомнила детство, юность и более зрелые годы – замужества и учебы в институте. Какой доброй, чуткой и отзывчивой она было девочкой… Перед мысленным взором возник чужой, заросший щетиной мужчина за колючкой – по ту сторону ее жизни, его поцелуй в ладошку, его слова: «Спасибо, человечек!» Именно тогда она впервые ощутила, что у нее есть душа. А Тега, всего-то гусь, в память о котором она до сих пор ни разу не ела птицу? Вспомнила свою первую подругу Зойку… Как она отстаивала право на дружбу! Как непримиримо восставала против родителей с их приличной Тамарой!
А Енисейск? Ее пытались сделать, как все, не имеющей собственного мнения, своего «я», своей индивидуальности! Теперь она знала, что боролась за право быть Человеком, Личностью – против обывательского мышления, закоснелого общественного мнения, против бездуховности собственных родителей вкупе с окружающими. Боролась, как могла и как умела. А Вовка? Любимый, единственный человек, разгадавший ее чистую и светлую душу, тянувшуюся к свободе проявления человеческой личности. А что получала она взамен? Непонимание, неприятие родителей, учителей, комсомольских вожаков. А в институте? Отстаивала свободу поступков и высказываний.
Будто вихрь ворвался в ее смятенную душу, подняв на поверхность самое сокровенное, и отчаянье захлестнуло разум: «Кто я? Что со мной стало? Неужели за столь короткий срок я так изменилась? Так переродилась? Ведь была, была человеком! Превратилась в дрянь, в дерьмо, в тряпку, о которую вытирают ноги… Где доброта, чистота, снисходительность к недостаткам людей, жалость, прощение? Есть зло, ненависть и – грязь, грязь, грязь… засасывает, как трясина…». Зря, выходит, Ксения стремилась стать, как все, приспособиться, приноровиться, притерпеться к поголовной лжи и лицемерию. Ненадолго ее хватило. Вон какие черные мысли в голову полезли!
Скорее, скорее избавиться от них! И она применила испытанный способ – и погрузилась, будто на дно, в бытовые проблемы: стала приобретать вещи. Достала в кредит цветной телевизор, используя знакомство с зятем К.Д., которого она снабжала импортными оправами для очков. Он работал зав.отделом в магазине «Телерадиотовары». На отцовские деньги купила недорогой магнитофон. И наконец – «Жигули» ядовито-зеленого цвета – Фархаду. Он презентовал ей аж бутылку «Шампанского»! Об увольнении уже не помышляла, пришла к выводу, что виноват не Совмин, не окружающие ее люди, что необратимые перемены произошли в ней самой, в ее душе.
Последнее время ее донимали сны. Она умела их немного толковать. Причем, с детства ей снились исключительно цветные сновидения, иногда по нескольку сюжетов за ночь. Ребенком она не придавала им значения, а повзрослев, стала запоминать содержание, и, как ни странно, сны часто сбывались. Вероятно, она обладала даром самовнушения. Некоторые легко поддаются внушению, она могла так сильно внушить себе что-то, и оно происходило, будь то ожидание удачи или предчувствие встречи. То же было и со снами. Они часто оказывались вещими.
Уже в течение месяца она видела во сне одно и то же. То она летела по воздуху, взмахивая руками, будто крыльями, – и вдруг начинала падать стремглав в черноту и пустоту. От страха и безнадежности прерывалось дыхание. Она не разбивалась, но просыпалась в холодном поту и подолгу лежала, приходя в себя и успокаиваясь. То снилась черная, пустынная дорога, и не видно ей было ни конца, ни края. Она плелась по ней, не зная, куда и что там, вдали… Снова пустота? После снов ее преследовали мрачные предчувствия, мысли о смерти лезли в голову.
Еще летом как-то в выходной она сидела на кухне, бездумно глядя за окно с четвертого этажа. Вдруг снизу послышалась траурная музыка. В соседнем подъезде кого-то хоронили. Она вышла на балкон и смотрела, как выносили крышку, гроб. На крышке, обтянутой красной тканью, четко выделялся черный православный крест. Лица покойного – из-за расстояния – разглядеть было невозможно. «Раз крест, то, наверное, старушка», – подумала Ксения. Было два часа дня. Солнце стояло высоко, живая зелень во дворе и небольшие группы людей в летнем – все это не вязалось со смертью. «Интересно, а что у меня будет на крышке? Не крест, конечно. Но и звезды не будет, я ведь беспартийная… Не хотелось бы умереть летом, в такой вот жаркий июльский денек… Небо такое чудное… Лучше зимой, когда холодно и снег. Только не чистый и сверкающий, как в Норильске, а грязно-серый, тающий… как здесь. Там, я помню, в сумерках он синел, а здесь почему-то чернеет… И людям было бы легче сохранять на лицах подобающую печаль… В такую слякоть и настроение всегда не ахти. Как неестественно выглядит эта процессия, да и смерть неуместна – при ярком солнечном свете. То ли дело – зимой. Среди серых домов, грязно-серой дороги, черных деревьев и кустов. Самое подходящее время для смерти – зима, когда даже природа спит, будто мертвая», – заключила Ксения.
Мысли о Высоцком, мечта о встрече с ним не покидали ее. Да еще весной сон приснился. Она и Он на тесной кухне и целуются так страстно, как когда-то с Вовкой, и вдруг он говорит: «Жаль, что мы с тобой никогда не встретимся.» «Почему?» – дико закричала она и проснулась. Длительная, все углубляющаяся депрессия постепенно овладела Ксенией. Ей стало все безразлично. Один Владимир жил в ее мечтах и призывал к жизни, манил мечтой о встрече. На работе она проходила, не здороваясь, с пустым лицом мимо людей, которые враждебно к ней относились и плели козни за спиной, сочиняли небылицы. Особенно одна бабенка, разведенка с сыном, из бухгалтерии. Они были соседками в доме. Возможно, она и сообщила Ренату о слухах про Ксению, гуляющих по Совмину.
При всяком удобном случае – к месту и не к месту – она взахлеб рассказывала, какой у Ксении замечательный муж, какой красивый, хозяйственный, какие у него золотые руки. Ксения хмурилась: «Вот и бери его себе». А та, наверное, только о том и мечтала, поскольку была одинока и в самом соку. Не раз зазывала Рената то гвоздик вбить, то мебель передвинуть. Он, правда, на ее заигрывания вроде не реагировал. А если бы тоже был одинок? Кто знает… Если ей звонил человек, с которым не хотелось разговаривать, она сухо отрезала: «Извини, мне некогда». Правда, продолжала что-то кому-то делать, что-то доставать, но – по инерции, не тратя душевной энергии. Попросили купить сервелата, пошла в буфет, не дали, повернулась, ушла. Позвонили, спросили, ответила, нет. И все. На нет – и суда нет.
… Прошла весна. Медленно потянулось лето. С Салтой она почти перестала общаться, презирая ее в душе, хотя и сама оказалась не лучше. Изредка все же та заходила к ней, приносила новости. Зашла в конце июля, Ксения стояла возле стола, молча положила перед ней газету «Советская культура», указала пальцем на короткий некролог и сказала тихо: – Умер Высоцкий. Ксения опустилась на стул. Наверное, она потеряла сознание. Очнулась от того, что зубы стучали о край стакана с водой. Возле нее суетились Салта и Тимур. «Ну, все, жизнь кончилась», – мелькнуло в голове.
Муж у Салты был фотографом, и она каким-то образом умудрялась выписывать ему жутко дефицитные журналы Фотография Англия и Фотография Америка. Через несколько дней после кончины Высоцкого она принесла Ксении в подарок большой и толстый журнал Америка. На всю обложку был великолепный портрет Высоцкого с гитарой. Внутри был текст о нем. Ксения была в шоке: в СССР – короткий некролог без фото, а в США – так достойно почтили память нашего советского человека. Как это понимать? Она попросила заведующего цехом размножения документов наклеить портрет на крагиус, ей сделали. Портрет хранился у нее много лет.
На автопилоте она прожила несколько месяцев. Но с ней произошла странность: после испытанного шока она начала писать стихи ушедшему Владимиру: «25 июля восьмидесятого года умер единственный в мире Володя…» «Нет безысходного горя, солнце сияет в саду…» «Скажут, с ума я сошла, мертвого друга нашла. Будет ответ мой такой: нету живых под рукой.» «С того света нет поездов, самолетов нет с того света…» Душа изливала свое горе в строки. Причем, писались только «Письма к мертвому», так она озаглавила эту рукопись. Опять любовь, но теперь она не грозила разочарованием, ведь в этом мире встречи не будет. Стихи стали ей опорой, они спасли ее на какое-то время. Она как будто общалась с душой умершего физически, но почему-то духовно-близкого и как будто живого человека. Скорее всего, она сама превратилась в душевнобольную, но никто об этом не подозревал, потому что она почти прекратила общение с людьми, все делала, как сомнамбула.
Как-то случайно она попала в высотную гостиницу на Ленина, где на широком экране демонстрировался фильм «Я ВОЗВРАЩАЮ ВАШ ПОРТРЕТ». Показали последний концерт Высоцкого, он пел «Кони привередливые». Она еле дослушала, брызнули слезы, и Ксения выбежала из зала.
На работе вокруг нее висело черное облако зависти, злобы и даже ненависти. За что ей такие блага: квартира, машина? За интимные услуги, конечно. В конце декабря ей должно было исполниться тридцать три года. Владимир Николаевич заранее преподнес ей отрез французского шифона на блузку и спросил интимно:
– Может, отметим?
«Может, и отметим, да не то, что ты думаешь, милый!» – подумала она, вслух сказала:
– Время еще есть. Шеф в командировку собирается, что-нибудь сообразим. Не обиделся?
– Ну, какие между нами обиды! Мы люди подневольные… оба…
Хоть убей, она не могла сказать ему правду. Совсем отучилась, черт бы ее побрал! Нет бы выложить честно и прямо: «Ну, неужели ты не видишь, человече? Ну, не люблю же я тебя! И не любила. Ну, оставь ты меня в покое! Сколько молоденьких секретарш кругом! А твоя собственная? Правда, постарше чуть. Но зато бегом побежит – хоть под куст! Забудь, что было. Дура, идиотка, кретинка, стерва я была! Ради мимолетного вожделения мужа предала, душу предала! Прости. Ты не виноват. Это я, я тебя соблазнила!»
Она плакала горько и безутешно, благо в приемной никого не было. Решила написать любовнику записку и отдать в конце недели, в конце дня перед самым уходом с работы. А мысли лезли и лезли в голову, и невозможно было избавиться от них, особенно в одиночестве. «Ведь с первого раза близость с ним оставила меня равнодушной. Так зачем? Но в чем его вина? Ведь он не принуждал меня. Я сама пошла на это, добровольно: было чувство, было! И что же в результате? Всего-навсего – иллюзия, одна из многих в нашей гнусной жизни. Иллюзия, которая длилась так недолго. Се ля ви! Ну, а сейчас? Кто меня заставляет спать с ним? Зачем я насилую себя, свою душу? Ради чего? Ради подарков? Ну, совсем позорно! Тогда в благодарность за помощь с квартирой? С «Жигулями»? Не слишком ли дорогая плата, де-вуш-ка?» – ее затошнило от отвращения к себе.
Нравственное падение свершилось, и она возненавидела себя и пожалела близких: «Никому от меня ни тепла, ни добра. Пустая, холодная душа. Несчастный Ренат! Разве он плохой, разве не заслуживает лучшего отношения к себе? Старается для дома, для семьи. Даже Валька-бухгалтерша вон как ценит! Чужой человек… А я? Черствая эгоистка, довела его до пьянок, до драк… Это я, оказывается, никого не люблю: ни родителей, ни сына, ни мужа, ни любовника. Неспособна любить. Даже Вовка, моя чистая, святая юность, забыт – променяла память о нем на пошлую связь. Если бы я верила в Бога, попросила бы самого жестокого наказания за все», – прозвенел звонок, возвещающий конец рабочего дня.
Из дневника. Опять семейные сцены. Ненавижу Р. страшно в такие моменты, убила бы его без жалости. А потом, а сейчас как подумаю – какой же он несчастный! Какого-то захудалого мужичонку кто-то да любит. А он? Здоровый, красивый… Почему он должен страдать из-за моей нелюбви? Чем он виноват? Я изломала ему жизнь нашим неравным браком, покалечила душу – как он может любить меня? А он любит, я-то знаю, несмотря на все его разговоры, оскорбления в пьяном виде, заслуженные, кстати. Я всем приношу несчастье. Один повесился, другой, наверное, сейчас запился, третий 7 лет отсидел в зоне, а 3 года прожил на поселении и сейчас одинок и несчастен, и четвертый – что он получает от меня, хотя и живет со мной. Ни ласки я ему не даю, ни тепла. Холодная, безразличная, жестокая. А он достоин любви. И зачем только я попалась ему на пути? И сама я несчастлива, не приносящая счастья.
Зачем я вообще живу? Нет от меня никому ни света, ни тепла, ни радости. Всю жизнь играю чью-то роль. Знать бы финал этого затянувшегося спектакля под названием «жизнь». Притворство и притворство. И Вовка из юности. Да полно, люблю ли я его? Он меня – да, на свое горе. А для меня это – лишь источник искусственных переживаний, очередной приступ вдохновения от наигранной экзальтации чувств. Где предел лжи человеческой? Бог наказывает меня за бесчувственность души. А Высоцкий? Опять выдуманная любовь… к умершему. А тут еще этот, бывший «возлюбленный». Рада, что развязалась с ним. Но как-то не по себе, на душе кошки скребут. Не по-человечески я поступила, можно было иначе как-то. Могла бы сказать: – Давай останемся друзьями. Был единственный надежный друг и того лишилась. Так мне и надо, впрочем. Одиночество – мой удел.
И пусть. Никто мне не нужен, хватит желать недостижимого, пусть жизнь проходит. К чертовой матери! Стоит только сделать усилие – и сердце окаменеет. Я и так уже никому и ничему не рада. Видеть никого не желаю, разговаривать ни с кем не хочу. Хочу быть вечно одинокой в душе, никого больше туда не пущу. Клянусь! «В иллюзиях живу, питаюсь ими, шепчу, как заклинанье чье-то имя, проходят годы снегом, листопадами, во сне едва взлечу, как тут же падаю… И часто думаю, а может быть, не зря я родилась в разгаре декабря? В меня вселился ветер ледяной, и нет на свете обогретых мной.
Шел 1980 год, минуло полгода со дня кончины Высоцкого. Она к тому сроку написала около 20 стихотворений, посвященных ему. Обратилась к начальнику цеха размножения документов, и он сам лично после работы, чтобы никто не видел и не знал, сделал ротапринт стихов, а также твердую обложку черного цвета. Книжечка получилась карманного формата.
Ксению будто тянуло в никуда, хотя о смерти она не помышляла, ведь у нее появились стихи, какой-никакой, а смысл жизни. Может, именно Поэзия своя, не чужая – ее предназначение в жизни? Если любовь не суждена, ее суженый ушел в мир иной. Все смешалось в доме Облонских, писал Лев Толстой в романе «Анна Каренина». Все смешалось в голове бедной Ксении: Вовка из юности, живой, но недосягаемый, Владимир Высоцкий, ушедший в мир иной, еще более недосягаемый.
Приближался день рождения. Она написала сама себе стихотворение:
На 33 года
Я живу, как в эмиграции, от России вдалеке. Разве важно, чьей ты нации, если маешься в тоске? О, морозная Якутия! Слезы льдились на лице. Холодна немного сутью я и живу порой в ленце. В Казахстане солнце жаркое, будто с пылу с жару блин. Я ни шаткая, ни валкая, не терзает душу сплин. Заморозило морозами сердце детское мое. Но под южным небом грезами отогрелось ли оно? Холод, жар, и страны разные. Холод был, а жар теперь. Потому ли несуразная, что не ту открыла дверь?Они с мужем зачем-то наприглашали много гостей, как всегда, совершенно неинтересных ей и ненужных. Может, от того, чтобы не быть наедине? У нее были неплохие отношения с водителем К.Д. Аликом, они оказывали друг другу мелкие услуги. Сделав заказ от имени супруги шефа на закрытую базу Кулькина, с помощью Алика она целую неделю привозила сумками дефициты. Было все – вплоть до птичьего молока, правда, в коробках, свежие огурцы и помидоры, яблоки, виноград, мандарины, апельсины. «Будет пир на весь мир!» – повторяла Ксения время от времени невесть откуда взявшуюся фразу.
Вдруг захотелось сфотографироваться, увековечить себя. Она явилась на работу в только сшитом, легком, цветастом платье, уложила волосы в прическу. Спиной чувствовала ухмылки, завистливые и злые взгляды. Ей было безразлично. Вдруг снизошло странное умиротворение. За столько лет – впервые. Она будто прощала всех и прощалась со всеми. Она давно привыкла ничему не удивляться, и это душевное состояние тоже приняла, как должное. Лишь мгновеньями мелькало в уме и вызывало легкий озноб предчувствие: что-то должно случиться. Хорошего не ожидала, а дурное – не удивило бы. Так закончилась хлопотливая неделя. Как и задумала, оставила Владимиру Николаевичу записку. Она пропустила служебный автобус, дождалась, пока он уедет на служебной автомашине, наблюдала из окна, прошла по пустому коридору, вошла в его кабинет, вспомнила, как впервые увидела его, и положила в верхний ящик стола, куда не заглядывала уборщица, свое прощальное письмо. Она надеялась, что и секретарша тоже не шарится в его столе.
Почему-то они решили отметить день рожденья в субботу, раньше на два дня. А нельзя было. Ей должно было исполниться тридцать три года. Некстати вспомнились слова Высоцкого: «А В 33 РАСПЯЛИ, НО НЕ СИЛЬНО.» Гости шли один за другим, дарили всякие ненужные ей вещи и с нетерпением поглядывали в сторону стола, который ломился от дефицита. Наконец все расселись. И начался пир – на весь мир! Гости с жадностью пили и ели, произнося между делом тосты за ее драгоценное здоровье, за здоровье родителей, которых не было, за счастливого мужа, который столько лет прожил с Ксенией и до сих пор не помер (шутка). Она должна была, естественно, улыбаться и раскланиваться. Кто бы знал, чего ей стоила просто улыбка, если Ксения ощущала не лицо, а чужую маску – о, как давно она разучилась улыбаться искренне! Ей приходилось трогать рукой растянутые в улыбке губы: не опустились ли уголки в горькой усмешке.
Где-то в середине праздника они поссорились с Ренатом на кухне, он зло упрекнул ее, что она сварила одну курицу вместо двух, дескать, пожалела. Она тоже разозлилась: «Курица-то с поросенка, не обожрутся твои родственнички?» Ренат врезал ей пощечину. У Ксении дух захватило от обиды.
Гости продолжали пить и есть, как ураганом сметая со стола угощение, забывая о тостах. Всем было хорошо и весело – еще бы! На виновницу торжества вскоре вообще перестали обращать внимание, занятые более интересными разговорами: о тряпках, о мебели, о хрустале, о блате… Ксении было не только неинтересно, но противно. «Господи, зачем мне эти люди? Какое дело им до меня и мне до них? Вспомнилось далекое, слова из песни (фильм «Последний дюйм»): какое мне дело до вас до всех, а вам до меня? Почему мы притворяемся друг перед другом? Все предельно ясно. Они пришли напиться и пожрать – на халяву, пользуясь случаем», – думала она, настойчиво и пытливо вглядываясь в лица присутствующих. Но взгляд ни на ком не задерживался. И они, разумеется, пришли не для того, чтобы присматриваться к хозяйке: хорошо ли ей, довольна ли она. Не могло такого быть никогда – среди этих людей.
Ксения пила и чувствовала, как в душе дрожит что-то, как струна. Так напряженно – на пределе – она вибрировала, что казалось – вот-вот, миг один – и лопнет, и разнесет все вдребезги – навсегда! И не оказалось рядом никого, кто смог бы уловить эту дрожь – в лихорадочно блестевшем взгляде, в сумбурной речи, в смехе, больше похожем на рыдание… Всем было не до нее. Все по-прежнему пили и ели, и требовали зрелищ. В начале застолья Ксения, как хозяйка, только пригубляла водку, но потом – глядя на изрядно захмелевших гостей, на их полуосмысленные взоры, покрасневшие лица, полусвязную речь и движения – не совсем четкие, и шаги – спотыкающиеся, она подряд выпила три рюмки водки, без закуски.
Но эта доза ее не расслабила, наоборот – вызвала враждебность к гостям: «Жрите, жрите, не подавитесь… Вас, конечно, не волнует, вам наплевать, какой ценой я заплатила за все эти дефициты. Вы завидуете мебели, телевизору, любой паршивой тряпке. Этот стол с едой, и водкой, и чешским пивом вместо элементарной благодарности к хозяйке также вызывает у вас зависть. Да я знаю вас всех, как облупленных! Вам глубоко плевать, чем я расплачиваюсь за все эти блага – за квартиру, мебель, телевизор, еду и выпивку. Собой я расплачиваюсь – не столько натурой, сколько душой. А вы знаете, что это такое – Душа?»
Эх, Ксения, дурочка Ксения, до чего ты дошла, докатилась, чистая, светлая, добрая! Натура цельная, как алмаз твоей родины Якутска. До отвращения и ненависти к себе. Ты ли виновата в том, что себя узнать не можешь? А не общество, в котором ты живешь, где царит зло насилия над человеческой душой, из которой не мытьем, так катаньем вытравливается именно чистое и светлое, заложенное в человеке с рождения, чем он и отличается от дикого зверя? Вытравливая добрые чувства, что приобретает общество взамен? Низменное и жестокое, черствое и равнодушное. Именуется все это Злом.
Слабых оно, ломая, покоряет, сильных – возносит, ввергая одновременно в пропасть. Они, если не ломаются, то закрывают глаза на подлости, творимые другими, становясь соучастниками зла. Но между слабыми и сильными есть странные люди, которых нельзя отнести ни к тем, ни к другим. Они становятся борцами против зла, обрекая себя на одиночество, становясь зачастую жертвами в борьбе с ним. Зло сильно, ох, как сильно! А главное – могущественно и при власти. Ты совершила подлость – предала близкого человека, совершила насилие над душой, отдаваясь не по любви, а из благодарности, извратив само понятие. И ты сломалась, значит – покорилась. Ура, да здравствует! – вскричало зло. – В наших рядах прибыло. Одним подонком стало больше… Извините за банальности (автор).
Ксения поднялась из-за стола, прошлась по квартире – гости разбрелись кто куда; одни смотрели передачу по цветному телевизору, другие – слушали магнитофон. Никто не заговорил с ней, не обратился с вопросом или просьбой. Все были пьяны, сыты и теперь ублажали себя духовно: кто зрелищем, кто музыкой. Она больше не могла оставаться в квартире, чтобы ни закатить истерику. Она привыкла сдерживать себя. Всетаки Ксения ощущала себя выше, чем простые люди. За дверью квартиры на лестничной площадке курили мужчины, и она решила спуститься с балкона. Закрылась в спальне, посидела в темноте и относительной тишине: лишь глухо доносился хриплый с надрывом голос Высоцкого: «Чуть помедленнее, кони! Чуть поме-е-едленне-е!..» Вдруг пришли в голову строки: «Но есть предел всему, не только лжи. Когда-нибудь износится же маска! И вспыхнет бунт измученной души. Вот это будет славненькая встряска!»
Будучи не в себе (она же душевнобольная после смерти Высоцкого) от обиды и алкоголя она сняла обручальное кольцо, положила на прикроватную тумбочку. На журнальном столике лежало выстиранное белье, будто специально для задуманного. Она связала три простыни, все же четвертый этаж, вышла на балкон, привязала верхнюю за перила, сняла туфли, ухватилась покрепче за простыню, перевесилась через перила, стала спускаться. Уже схватилась за вторую, когда узел развязался, и она полетела вниз…
Упала, как птица с перебитым крылом. «Мрак взошел, я птицею упала и о землю черную крылом…» строчка из какого-то стиха оказалась пророческой. Прощай райская жизнь. Снег лежал чистый и сверкающий, на сумеречном небе тускло просвечивался желтый шар зимнего солнца. Совсем как на Севере, в Норильске…
Ты позвал меня, и я пошла. В бездну ступила босою ногой. Так безрассудна и так смела, Как никогда не была, дорогой. Вот они близко, губы твои — Падая, я задыхаюсь и плачу. Слышатся в крике ворон соловьи… Все бы могло обернуться иначе. Но не судьба, не судьба, не судьба, Ты бы ко мне никогда не пришел. И не дождавшись, любимый, тебя, Падаю я, и мне так хорошо!Написано: 1983-1993 гг. Дополнено: январь-июль 2015 год
Конец первой книги
1
Саранки – луговые цветы в Сибири.
(обратно)2
нквд, кгб, фсб
(обратно)3
1. Пушкин, Лермонтов, 2. Есенин, Маяковский, 3. Высоцкий и я – пока живая
(обратно)



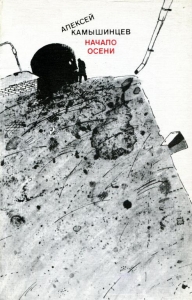





Комментарии к книге «Страна терпимости (СССР, 1951–1980 годы)», Светлана Ермолаева
Всего 0 комментариев